Исаак Башевис Зингер Мешуга
Предисловие переводчика
Роман «Мешуга», являясь самостоятельным произведением, по существу представляет собой продолжение широко известного русскоязычному читателю романа «Шоша» (единственного романа И. Башевиса Зингера, изданного на русском языке тиражом 100 000 экземпляров).
Кроме главного героя, писателя Аарона Грейдингера, оба эти романа объединяет их явно автобиографический характер, в них отчетливо видны обстоятельства и факты жизни и творчества автора. Широкая картина жизни эмигрантов и их переживаний в первые годы после Второй мировой войны не потеряла значения и сейчас, когда через пятьдесят пять лет после Холокоста и сталинских репрессий вскрываются все новые факты этих событий наряду с проявлениями живучести нацистской психологии.
Первоначальная версия романа была опубликована на языке идиш под заглавием «Потерянные души», а затем переработана автором и издана (в собственном переводе автора на английский язык) уже под названием «Мешуга». «Мешуга» (ме-шуг'-а) на языке иврит означает «сумасшедший», «помешанный», «потерявший разум».
Пользуюсь случаем, чтобы выразить глубокую признательность моей жене Алене за постоянную поддержку и — особенно — помощь в редактировании перевода, а также преподавателю Петербургского еврейского университета С. Г. Парижскому, советы которого помогли мне в составлении примечаний, и Е. Л. Гольдиной за помощь в компьютерном обеспечении моей работы.
Перевод на русский выполнен с первого издания издательства PLUME BOOK N.Y. USA 1995.
(С. С. Свердлов)
ЧАСТЬ I
Глава 1
Так бывало уже не раз: кто-либо, о ком я думал как о погибшем в гитлеровских лагерях, вдруг появлялся живым и здоровым. Я обычно старался скрыть удивление. Зачем разыгрывать драму или мелодраму, давая человеку понять, что мне пришлось смириться с его или ее смертью? Однако в тот весенний день 1952 года, когда дверь моего кабинета в редакции еврейской газеты в Нью-Йорке открылась и вошел Макс Абердам, я, по-видимому от неожиданности, испугался и побледнел, потому что услышал его хохот:
— Не пугайся, я не явился из загробного мира, чтобы задушить тебя!
Я встал, чтобы обнять его, но он протянул мне руку, и я пожал ее. Он все так же носил цветастый галстук и ворсистую шляпу с широкими полями. Макс был значительно выше меня. Он не слишком изменился с тех пор, как я последний раз видел его в Варшаве, хотя в его черной бороде появились седые пряди. Только живот вырос и стал выпирать еще больше. Да, это был тот самый Макс Абердам, варшавский покровитель художников и писателей, широко известный обжора, пьяница, бабник. Между пальцами он держал сигару, золотая цепочка от часов свешивалась из кармашка его жилета, а запонки на манжетах искрились драгоценными камнями. Макс Абердам не говорил, он орал — таков был его стиль. Он громко провозгласил:
— Пришел Мессия[1], и я воскрес из мертвых. Разве ты не читаешь новостей в своей газете, или, может быть, ты сам покойник? Тогда возвращайся в свою могилу.
— Я живой, живой.
— Ты называешь это жизнью? Торчать в прокуренном офисе, читая гранки? Это мог бы делать и труп. На улице весна, по крайней мере, по календарю. Ты заметил, что в Нью- Йорке не бывает весны — здесь либо мерзнешь, либо подыхаешь от жары? Пойдем, пообедаем со мной, а то я разорву тебя на части, как селедку.
— Наверху ожидают гранки. Это займет всего пять минут.
Я не знал, как к нему обращаться, по-приятельски на «ты» или официально на «вы». Макс был почти на тридцать лет старше меня. Его громкий голос был слышен в соседних помещениях, и мои сослуживцы-журналисты заглядывали в открытую дверь. Они улыбались, а один из них подмигнул мне, вероятно, думая, что опять пришел какой-то псих. С тех пор, как я стал вести в газете колонку советов, у меня часто бывали странные типы — обезумевшие от горя жены исчезнувших мужей, молодые люди с планами спасения мира, читатели, убежденные, что они сделали какое-то потрясающее открытие. Один посетитель сообщил по секрету, что Сталин был перевоплощением Амана[2].
Я быстро дочитал гранки своей статьи «Ученый предсказывает, что люди будут жить до двухсот лет» и отдал их лифтеру, чтобы доставить на десятый этаж.
Когда мы вошли в спускающийся лифт, он был переполнен авторами и наборщиками, направлявшимися в кафетерий. Но Макс Абердам легко перекрикивал их голоса:
— Ты не знал, что я в Америке? Где ты живешь — в загробном мире? Я неделями пытался добраться до тебя. Еврейские газеты везде одинаковы. Ты звонишь и просишь позвать кого-нибудь, они просят подождать у телефона, но ничего не происходит — про тебя забыли. Ты что, на луне живешь? Почему у тебя нет собственного телефона в твоем кабинете?
На улице я предложил пойти в кафетерий, но Макс возмутился:
— Я еще не дошел до того, чтобы ходить туда, где мне придется носить поднос, как официанту. Эй, такси!
Мы забрались в машину, которая, миновав несколько кварталов, доставила нас к ресторану на Второй авеню. Водитель сказал нам, что он приехал из Варшавы и помнит Макса Абердама и его семью. Кроме того, он читает мою колонку в газете. Макс вручил ему свою визитную карточку и дал большие чаевые. У Раппопорта (в ресторане, который он выбрал) его хорошо знали. Нам показали столик, на котором стояли корзинка со свежими булочками, салатница с отварным горохом и блюда с пикулями и кислой капустой. Официант улыбался нам, так как он тоже узнал Макса. Для себя Макс заказал апельсиновый сок и заливное из карпа, а для меня, вегетарианца, омлет с овощами. Пока мы ели, он закурил сигару. Он жевал, пыхал дымом и орал:
— Итак, ты стал в Америке колумнистом[3]! Я слышал, как ты болтал по радио в прошлое воскресенье о том, как подавлять эмоции и другую такую же чепуху. Друг мой, я, может быть, потерял все, но малость здравого смысла у меня еще осталось. Хотя я сомневаюсь насчет моей головы, но я ничего не должен Всевышнему: с тех пор, как Он посылает нам Гитлеров и Сталиных, Он —их Бог, не мой.
— Где ты был всю войну? — спросил я.
— Где я только не был. В Белостоке, в Вильно[4], Ковно[6], Шанхае, потом в Сан-Франциско. Я в полной мере испытал все еврейские несчастья. В Шанхае я сделался издателем. Я издавалШита Мекубетцет[7], Ритба[8], Раша[9]. Мне известно все относительно гранок и набора. Мне приходилось самому стоять за наборной кассой, вручную доставая из нее литеры. То, что евреи спятили, я всегда знал, но что они додумаются основать иешиву[10] в Китае, где станут разглагольствовать по поводу «яйца, которое было снесено в праздник», в то время, как их семьи запихивают в печи — этого я не мог себе представить. Я спасся благодаря тому, им мой бывший конкурент в Варшаве, соперник в бизнесе, добыл мне визу в Америку. Мои старые друзья оставили меня вариться там, где я был, а враг — спас. Ничто уже не удивляет меня.
Он стряхнул сигарный пепел в свое блюдце.
— Если бы кто-нибудь предсказал мне, что я буду наборщиком в Шанхае, что евреи создадут свое государство, и что в Нью-Йорке стану спекулировать акциями, я бы над ним посмеялся. Однако все эти безумства произошли — если я не сплю. Ешь, Аарон, не трать время попусту. Во всей Америке не получишь чашку приличного кофе. Официант! Я заказывал кофе, а не помои!
Пока мы продолжали есть, он рассказал кое-что из того, что происходило с ним между 1939 и 1952 годами. Он оставил жену и детей в Варшаве в сентябре 1939 года и вместе со своим тестем и тысячами других мужчин бежал через Пражский мост по направлению к Белостоку[11], который уже был в руках большевиков. Там некоторые из писателей, которых он когда-то поддерживал субсидиями и подарками, донесли на него, как на капиталиста, фашиста и врага народа. Макса арестовали, и он был на волосок от расстрела в тюрьме на Лубянке, когда его узнал и спас бывший бухгалтер его фирмы, ставший партийным деятелем в КГБ. Макс уехал на восток и, в конце концов, после ряда удивительных событий, добрался до Шанхая.
Жена и две дочери Макса погибли в Штутгофе. Позже в Америке Макс встретил вдову скульптора из Сан-Франциско, чью работу он когда-то купил. Через две недели они поженились.
— Это было безумие, просто безумие, — орал Макс. — Должно быть, демоны ослепили меня. Сегодня я стоял с ней под свадебным шатром[12], а уже назавтра понял, что угодил в трясину. Я устал от скитаний. В Шанхае у меня была женщина из Кореи, прелестное создание, но мне не удалось взять ее с собой в Соединенные Штаты. Моя нынешняя жена, Прива, всегда больна и, кроме того, она психопатка. Убедила себя, что она медиум, который получает сообщения от духов. Она общается со своим мертвым супругом через стол Оуджа[13]. И еще рисует духов. В Нью-Йорке я понял, что я опять дома — ведь все здесь, наши люди из Лодзи и Варшавы.
— Я даже нашел дальнего родственника, очень богатого, настоящего миллионера, мистера Уолбромера. Он набросился на меня так, будто обрел своего потерянного брата. У него много домов, а также акций, которые он скупил давным-давно, после краха Уолл-стрит[14], и теперь они поднимаются и поднимаются. Он устроил мне большой заем, и я стал играть на фондовой бирже. Оказалось, что многие беженцы, которые получили небольшие денежные компенсации от Германии, не знают, что с ними делать. Я сделался их представителем. Я покупаю акции, облигации, государственные ценные бумаги, и как раз сейчас все это идет вверх. Конечно, акции не будут расти вечно. Но, тем не менее, мои клиенты зарабатывают на своих долларах в три раза больше, чем если бы те лежали в банке. Официант, этот кофе холодный, как лед!
— Вы дали ему остыть, — сказал официант.
Макс Абердам положил свою сигару, достал маленькую металлическую коробочку, вынул две пилюли и сунул их в рот. Потом взял стакан с водой, сделал глоток и сказал:
— Я живу на таблетках и вере — не в Бога, а в мое собственное сумасшедшее везение.
Когда мы вышли из ресторана, я сказал Максу, что должен вернуться в редакцию, но он не хотел даже слушать об этом.
— Этот день принадлежит мне. Я искал тебя не одну неделю. Даже подумывал дать объявление в газеты. В воскресенье, услышав тебя по радио, я решил отложить все дела и на следующий день взял такси и отправился на Ист-Бродвей. Среди бела дня заползать под землю в метро, как мышь в нору, это не по мне. Большая часть моих клиентов — женщины, беженки из Польши, которые так и не научились считать в долларах. В гетто и концлагерях они слегка свихнулись. Я им объясняю, что беру себе процент с того, что дают банки, а они благодарят меня, словно я филантроп, подающий милостыню. Совершенно не представляю, что эти компании производят — те, с чьими акциями имею дело. Мой брокер Хэрри Трейбитчер говорит мне, какие покупать, и я покупаю, какие продавать, и я продаю. Время от времени я пытаюсь кое в чем разобраться, читаю финансовые газеты и так называемых экспертов. Наверное, я рискую. Ясно, что рано или поздно я разочарую своих сумасшедших клиенток, но обманывать женщин мне не впервой. Я все болтаю о себе. Как у тебя дела?
Мы продолжали идти по Второй авеню.
— К сожалению, я тоже обманываю женщин.
Черные глаза Макса Абердама оживились.
— То, что ты недавно говорил по радио, заставило меня подумать, что ты стал щепетильным проповедником, чем-то вроде американского святоши. Все, что Освальд Шпенглер[15] предрекал после Первой мировой войны, происходит после Второй. Перманентная революция Троцкого разворачивается на наших глазах. Является ли все это общественным движением или духовной смутой или результатом того, что Господь спятил, я не знаю. Пусть это решают профессора. Я знаю только то, что видят мои глаза.
— И что же они видят? — спросил я.
— Мир превращается в безумие, в мешугу. Это должно было произойти.
Макс Абердам вздохнул.
— Мне нельзя много есть, — сказал он. — Сердце не качает как следовало бы. Но когда я вижу на столе еврейские блюда, то обо всем забываю. В этом смысле я похож на праотца Исаака. Когда Иаков подал Исааку блинчики, и пирожки с начинкой, и каше варничкес[16], Исаак прикинулся слепым и дал Иакову благословение вместо Исава[17]. Женщины, деньгами которых я управляю, все слегка влюблены в меня. Тут уж я ничего не могу поделать. Они потеряли мужей, детей, братьев и сестер. Многие из них слишком стары, чтобы снова выйти замуж. Человек должен кого-нибудь любить, несмотря на то, что он или она истаивает, как свеча. Что же, пусть я буду их жертвой. Не смотри на меня так: слава Богу, я не жиголо. Я приехал из их городов, из их мест. Я знал их семьи, говорю на их идише. К чему отрицать? Я тоже их люблю. Я из тех мужчин, которые влюбляются в каждую женщину от двенадцати до восьмидесяти девяти лет. Таким я был в юности, такой же и сегодня. Сколько неприятностей я пережил из-за этих влюбленностей и сколько причинил горя, знает только Тот, Кто сидит на седьмом небе и мучает нас. Я разговариваю с ними и рассказываю им сказки. Каждую из них я уверяю, что в моих глазах она все еще девочка. И это правда. Давно ли все они были молодыми? Только вчера. Некоторых из них я помню по довоенным временам, а с некоторыми я спал. Они не желают получать дивиденды по почте. Мне приходится вручать чек лично. Они хихикают и смущаются, как будто я их жених. Пойдем, тебе надо кой-кого увидеть.
— Мне надо вернуться на работу.
— Никуда ты сегодня не пойдешь, даже если встанешь на голову. Твоя газета не погибнет из-за того, что тебя не будет полдня. Прежде всего я хочу представить тебя Приве. Она мое несчастье, но она — твой преданный читатель. Она читает все до последней строчки, под которой стоит твоя подпись. Мне приходится каждое утро покупать газету, иначе она вызовет демонов, чтобы превратить меня в груду костей. Когда я сказал ей утром, что увижу тебя и, возможно, приведу к нам, она была ужасно взволнована. Визит самого Аарона Грейдингера! Для нее ты только на одну ступеньку ниже Всемогущего. Она не раз говорила мне, что только ты удерживаешь ее в живых. Если бы не ты и твои писания, она бы давно покончила жизнь самоубийством, и я стал бы вдовцом. Поэтому ты должен пойти со мной. Кроме того, мне надо вручить сегодня чек одной из моих клиенток. Она тоже твоя читательница. Ты ее знаешь, она бывала в Клубе Писателей в Варшаве. Она была из тех, кого мы называли «литературным приложением».
— Как ее зовут?
— Ирка Шмелкес.
— Ирка Шмелкес жива! — воскликнул я.
— Да, она жива, если это можно назвать жизнью.
— А Юдл Шмелкес?
— Юдл Шмелкес печет бублики в раю.
— Ну, сегодня определенно день сюрпризов.
— Ирка говорила мне, что написала тебе письмо, на которое ты не ответил. Ты не отвечаешь на письма. Твоего имени нет в телефонной книге. Почему, в самом деле, ты прячешься?
Был май, и уже становилось слишком жарко. Но мне показалось, что вместе с запахами бензина и нагретого асфальта я почувствовал дуновение весны, пахнувшее от Ист-Ривер, а может быть, даже от гор Кетскилл. Каждый шаг по Второй авеню был для меня связан с воспоминаниями о сравнительно недавнем прошлом. Неподалеку находилось кафе «Ройал», где постоянными посетителями были актеры и писатели, говорившие и писавшие на идише. Через улицу был идишистский Арт-Театр, в котором много лет играл Мариус Шварц. Несмотря на то, что учинили в Варшаве нацисты, несмотря на постепенно распространяющуюся в Нью-Йорке ассимиляцию, ни в религии, ни в светской жизни еврейство не выглядело исчезающим. В Нью-Йорке на идише выходят четыре газеты и несколько еженедельных и ежемесячных журналов. Мариус Шварц, Яаков Бен-Ами, Лебедев, Берта Герстайн и другие еврейские актеры и актрисы выступают в пьесах на идише. Издаются книги на идише. По-прежнему прибывают беженцы из Советской России, из Польши, Румынии, Венгрии. Откуда они только не приезжают? Палестина теперь стала государством Израиль, вынужденным воевать и выигравшим войну. Я пережил кризисы в личных и в литературных делах. С тех пор, как я приехал сюда в тридцатые годы, я потерял близких родственников и друзей, как в Польше, так и в Соединенных Штатах. Я сам себя довел до отчаяния и изоляции от людей. Тем не менее, сейчас, казалось, во мне стали раскрываться новые источники энергии.
Макс Абердам подозвал такси. Он втолкнул меня в него, и я упал поперек сиденья. Когда в машину ввалился сам Макс, у него изо рта выпала сигара.
— Мистер, мне не нужен пожар в моем такси! — огрызнулся водитель.
— Никакой пожар не сможет сжечь нас, — ответил Макс с видом пророка.
Он дал шоферу адрес на Вест Энд авеню в районе тридцатых стрит и тяжело пыхтел, пытаясь зажечь новую сигару. Он сказал мне:
— Твое имя известно даже в Шанхае. Я собирался издать твою небольшую книжку — как же она называлась? Никакой талант не забывается. Моя память играет со мной в прятки. Иногда мне кажется, что я становлюсь стариком.
— Мне тоже.
— В твоем-то возрасте? По сравнению со мной ты еще младенец.
— Мне уже больше сорока.
— Сорок еще не шестьдесят семь.
Мы вышли из такси у огромного здания и поднялись на лифте на двенадцатый этаж. Макс позвонил, но никто не ответил. Он достал ключ и открыл дверь. Мы вошли в просторную прихожую, пол которой был устлан прекрасным персидским ковром. Высокий потолок был украшен резьбой, а стены увешаны картинами. К нам направлялась женщина с седыми волосами и моложавым лицом. На ней был цветастый халат и шлепанцы с помпонами. В мочках ушей сверкнули бриллианты. Ее тонкое лицо, длинная шея, стройная фигура — все излучало богатство и какую-то давнюю еврейскую аристократичность. Она напомнила мне когда-то виденные в музеях портреты. Заметив меня, она чуть отступила назад, но Макс заорал:
— Это же твой великий герой!
— О, да, я вижу!
— Это Прива, моя жена.
Прива подошла ближе и протянула узкую руку с длинными пальцами и покрытыми лаком ногтями.
— Это и честь, и удовольствие, — прожурчала она.
Трудно было представить, что и муж, и жена — беженцы из гитлеровской Европы. Просторная восьмикомнатная квартира была пропитана духом постоянства и достатка. Чете Абердамов она была предоставлена в пользование со всем ее содержимым богатой женщиной, которая доводилась Приве дальней родственницей. Когда эта женщина умерла, ее дочь продала им за сущие гроши все — столы, кресла, диваны, люстры, даже картины на стенах и книги в шкафах. Прива происходила из семьи раввинов и богатых коммерсантов. Ее первый муж, врач, публиковал статьи на медицинские темы на иврите в варшавской газете «Хатцефира» и позднее в «Хэйом». Во время войны Прива потеряла мужа, сына, который тоже был врачом, и дочь, студентку медицинского факультета в Варшаве. Прива была из тех богатых женщин, которые прежде обычно уезжали в жаркие летние месяцы за границу на курорты с минеральными водами. Она говорила на идише, русском, польском, немецком, французском. В молодости она изучала немецкую литературу у знаменитой Терезы Розенбаум. Она также немного знала иврит. Прива привнесла в Нью-Йорк частицу богатой еврейской Варшавы. Она рассказывала мне, что еще девочкой знала Исаака Переца[18], Гирша Номберга[19], Гилеля Цейтлина[20]. Трудно поверить, но во время перелета через Россию, когда Прива спасалась от нацистов, она ухитрилась сохранить альбом старых фотографий. Каждое слово, которое она произносила, вызывало во мне воспоминания. По моим расчетам она была старше Макса — возможно, ей было больше семидесяти. Она сказала:
— Я потеряла все на этой ужасной войне. Но пока мозг работает, воспоминания возвращаются. Что такое память? Как и все остальное — загадка. Когда-то я надеялась найти успокоение и мир в моем возрасте, но меня окружает так много тайн, что не может быть и речи об успокоении. Я иду спать, пораженная страхом, и просыпаюсь со страхом. Мои сны — это величайшая из всех загадок.
— Боюсь, что сны будут всегда оставаться такими, — сказал я.
— Я читаю все, что вы пишете, каждое слово, под всеми вашими псевдонимами. Вы сами тоже частица тайны.
— Не более, чем другие.
— Значительно больше.
— Что я тебе говорил? — проорал Макс Абердам. — Ты, Аарон, часть нашей жизни. Дня не проходит, чтобы мы не говорили о тебе. — Макс повернулся к Приве. — А где Цлова?
— Пошла в супермаркет.
— Нам повезло заполучить такую служанку, — объяснил Макс. — Найти здесь служанку, да еще еврейку, это чудо. Но в нашей жизни происходит так много чудес, что мы перестали удивляться. В Варшаве Цлова была деловой женщиной, а не служанкой. У нее был магазин товаров для женщин — женское белье, сумки, кружева, в общем, все, чего пожелаете. Здесь Цлова делает что хочет, фактически она — хозяйка дома. Для нас Цлова дочь, сестра, нянька. Она читает в твоей газете статьи по вопросам медицины, и каждое слово, написанное доктором, для нее свято.
— Она и вы, мистер Грейдингер, сохраняете мне жизнь, — вмешалась Прива. — Цлова довольно примитивное существо, но с природным чутьем. Мужчины домогаются ее, и она могла бы выйти замуж, если бы пожелала, однако она предпочитает оставаться с нами. Магазин, который упоминал Макс, был не ее, он принадлежал состоятельной пожилой паре, погибшей во время войны. Цлова — из тех, кто рожден, чтобы служить другим. Такая уж у нее судьба.
— Ее судьба — это наша счастливая фортуна. Что бы мы делали без нее? — сказал Макс. — И помимо всего прочего, она на дружеской ноге с мертвыми. Они приходят к ней из загробного мира, когда она развлекается верчением стола и игрой в прятки с мертвыми.
— Ты опять шутишь? Она прирожденный медиум, — сказала Прива.
— Да, да, да. Мертвые живут, едят, забавляются сексом, руководят бизнесом, — пошутил Макс. — Стоит лишь положить руки на стол, и мертвецы слетятся к тебе со всех концов света.
— Не будь таким циничным, Макс. Наш Аарон Грейдингер тоже верит в эти предметы. Вы печатали в вашей газете отрывки из писем на эти темы. Я приготовлю чай. Вы должны обещать мне, что останетесь на обед.
— Право, я не могу.
— Почему нет? Мы приготовим для вас старые варшавские блюда.
— К несчастью, у меня уже есть приглашение.
— Ладно, я не стану настаивать. Но вы должны вскоре прийти к нам. Цлова читает все ваши статьи. Если она захочет, то приготовит кушанья, которые не стыдно подавать императору, а в Талмуде[21] сказано, что истинные императоры это те, кто способен учить — писатели, люди духа.
— Я вижу, что вы хорошо знакомы с нашим древним учением, — сделал я ей комплимент.
— Ах, я с самого детства хотела учиться, но мой отец, пусть он покоится в мире, утверждал, что девочкам не следует изучать святые книги. Мицкевич, да; Словацкий, да; Лессинг, конечно, но для девочки заглянуть в Гемару[22] — это уже грех. Однако я сама открывала Агаду[23] и нашла там много мудрости, даже больше, чем у Лессинга или у Натана Мудрого[24], — сказала Прива.
Я услышал, как в коридоре открылась дверь; это была Цлова. Затем донеслось шуршание бумажных мешков, которые она принесла из супермаркета. Прива вышла встретить ее. Макс Абердам глянул на часы.
— Ну, вот так и живем. Я хотел жену, а получил систему.
— Она прекрасная женщина.
— Слишком прекрасная. И болезненная. С женой можно развестись, но с системой ты влип навсегда. Она клянется, что в России при двадцати градусах ниже нуля валила деревья в зимнем лесу. Здесь же изображает знатную даму. Прива постоянно посещает врачей, жертвует на любые виды воображаемых дел, отмечает бесчисленные годовщины родственников и друзей. У нее грудная жаба, и ей приходится часто ложиться в больницу. В Сан-Франциско, где я ее встретил, все, чего мне хотелось, это отдохнуть. Я мечтал войти в какой-нибудь старый дом и лежать там, пока не умру. Но внезапно во мне проснулись какие-то дикие силы. Я угодил в ловушку, из которой невозможно выбраться.
Дверь открылась, и вошла Прива, держа Цлову под руку, как будто она вела застенчивую невесту, чтобы представить ее жениху. Я ожидал увидеть пожилую женщину, но Цлова оказалась молодой, со смуглым лицом, коротко подстриженными волосами; у нее были выдающиеся скулы, курносый носик и четко очерченный подбородок. Ее глаза были узкими, как у татарки. На ней было черное платье и красные бусы. Прива сказала:
— Это наша Цлова. Мы знали ее, еще когда жили в Варшаве. Если бы не она, я давно была бы уже среди мертвых. Цлова, милочка, это Аарон Грейдингер, писатель.
В узких глазах Цловы блеснула улыбка.
— Я вас знаю. Я слушаю вас по радио каждое воскресенье. И читаю все, что вы пишете. Мистер Абердам дал мне вашу книжку.
Я сказал:
— Очень приятно с вами познакомиться.
— Вы недавно писали, что очень хотите поесть варшавского хлебного супа. Я могу приготовить его лучше, чем в Варшаве, — сказала Цлова.
— О, очень вам благодарен. Сегодня, к несчастью, я занят. Но надеюсь, что будет другая возможность.
— Мы обычно едим хлебный суп два раза в неделю, по понедельникам и средам.
— Цлова — это лучший на свете повар, — одобрительно сказала Прива. — Что бы она ни приготовила, вкус такой, как будто ты в раю.
— Там нечего готовить, — сказала Цлова. — Все, что требуется, — это ржаная мука и жареный лук, и я еще добавляю морковь, петрушку и укроп. К хлебному супу хорошо подать клопс[25].
— Замолчи, Цлова. Когда я тебя слушаю, у меня слюнки текут, — заорал Макс. — Доктор велел мне похудеть на двадцать фунтов. А как я могу думать об этом, если ты кормишь нас такими деликатесами?
— А что едят в Китае? — спросила Цлова.
— Ах, кто знает, что они едят — жареных тараканов с утиным молоком. Я недавно разговаривал с одним евреем из Галиции[26], и, когда разговор зашел о еде, он рассказал мне, что в его местечке они обычно ели кулеш и пампушки[27].
— Что это еще за чума такая? — спросила Цлова.
— Совершенно не представляю, — ответил Макс. — Может быть, ты, Аарон, знаешь, что это за еда?
— В самом деле, не знаю.
— Исчез целый мир, богатая культура, — сказал Макс. — Кто будет помнить в следующих поколениях, как жили евреи в Восточной Европе, как они разговаривали, что они ели? Пойдем, нам пора.
— Когда ты вернешься? — спросила Прива.
— Не знаю, — сказал Макс. — Мне надо еще сделать сотню вещей. Люди ждут моих чеков, то есть своих чеков.
— Не возвращайся посреди ночи. Ты меня будишь, и я не могу сомкнуть глаз до утра. Ты сразу засыпаешь, а я лежу и размышляю до рассвета.
— Может быть, ты придумаешь какое-нибудь изобретение. И станешь Эдисоншей.
— Не шути, Макс. Мои мысли по ночам мучительны.
Глава 2
Когда мы спустились на лифте и пошли вдоль Вест-Энд-авеню, Макс взял меня за руку.
— Аарон, я в отчаянно затруднительном положении с Мириам.
— Мириам — кто это? — спросил я. — И почему ты в отчаянии, Макс?
— О, для меня Мириам все еще ребенок — молодая, хорошенькая, интеллигентная. Однако, к несчастью, она замужем за американским поэтом, тоже молодым человеком, с которым теперь надеется развестись. Если бы я не был женат, Мириам была бы благословением, посланным мне небесами. Но я не могу развестись с Привой. Мириам считает себя совершенно одинокой в этом мире. Ее родители разведены. Отец живет с какой-то посредственностью, которая мнит себя художницей, с одной из тех, что размазывают на холсте несколько пятен и мазков и воображают себя Леонардо да Винчи наших дней. Мать уехала в Израиль с человеком, вообразившим, что он актер. Ее муж, я имею в виду мужа Мириам, считает себя поэтом. Наши образованные вечно ворчат, что мы, евреи, — люфтменшен[28], люди без профессии, без клиентуры. Но таких витающих в облаках, как это новое поколение в Америке, нигде не найдешь. Я пытался читать стихи ее мужа, но в них нет ни логической связи, ни музыки.
— Эти недотепы все разом — футуристы, дадаисты[29] и еще в придачу коммунисты. Они пальцем не пошевелят, чтобы работать, но пытаются спасать пролетариат. И все стараются быть оригинальными, хотя и повторяют друг друга, как попугаи. Мириам прелестная молодая женщина, но на самом деле она еще ребенок. Из-за него, ее мужа — как его зовут? Стенли, — и развала ее семьи она бросила колледж. Теперь этот Стенли укатил с женщиной издателем в Калифорнию или черт его знает куда, и Мириам стала бэбиситтером[30]. Разве это занятие для девушки двадцати семи лет — смотреть за чьими-то детьми? Мужчины гоняются за ней, но я ее люблю, и она любит меня. Что она во мне нашла, никогда не пойму. Я запросто мог бы быть ее отцом или даже дедом.
— Да, да.
— Перестань орать «иа, иа»[31], как осел. Я никому не признавался в этом, кроме тебя. Раз уж ты стал специалистом по изготовлению и раздаче советов, может быть, скажешь мне, как справиться с этим делом?
— Я не могу справиться даже со своими собственными делами.
— Я знал, что ты так ответишь. Мириам не урожденная американка. Она приехала сюда после войны, в сорок седьмом. Она прекрасно говорит на идише. Знает польский и немецкий и говорит по-английски без акцента. Что она пережила, это она сама тебе расскажет. Ее отец бесхарактерный человек, отчасти шарлатан. У него была контора на Пшеходной улице в Варшаве; бизнес по распространению акций. Или так он говорит. Он оказался достаточно сообразительным, чтобы перед войной перевести деньги в швейцарский банк. Ее мать убедила себя, что у нее есть талант артистки. Дядя был убит во время Варшавского восстания в сорок пятом. У каждой еврейской семьи в Польше есть свое эпическое сказание. Но мы сами стали сумасшедшими и ведем весь мир к безумию. Такси!
— Куда ты меня теперь потащишь? — спросил я, когда мы уселись.
— К Ирке Шмелкес. У меня для нее чек, который я таскаю уже неделю. Чеки комкаются в кармане, и иногда банк отказывается принимать их. Мы проведем с Иркой не более десяти минут. Она будет настаивать, чтобы мы остались на ужин, но я твердо откажусь. Потом мы поедем к Мириам. Обе женщины твои страстные поклонницы. Мириам даже написала статью о тебе в своем колледже.
— Если бы я знал, что мы будем наносить визиты всем этим женщинам, мне следовало бы надеть другую рубашку и костюм.
— На тебе прекрасная рубашка и костюм тоже. По сравнению с тем, что ты носил в Варшаве, ты стал настоящим денди. Единственно, твой галстук надо привести в порядок. Вот так!
— Я небрит.
— Не беспокойся, Мириам привыкла к бородатым. Ее паршивец муж, Стенли, недавно отрастил бороду. Ирку Шмелкес ты знал в Варшаве, ради нее незачем изысканно одеваться.
Такси остановилось на углу Бродвея и Сто седьмой-стрит, и мы вошли в многоквартирный дом без лифта и поднялись на два марша. Потом Макс Абердам остановился отдохнуть. Он постучал пальцем по левой стороне груди.
— Мой насос работает с перегрузкой. Подождем пару минут.
Когда мы продолжили подъем по лестнице, Макс, задыхаясь, пожаловался:
— Зачем она загнала себя на четвертый этаж? Эти люди берегут свои деньги, они слишком скаредные — боятся, что не сегодня завтра голод начнется и в Америке.
На четвертом этаже Макс постучал в дверь, и ее тотчас открыла Ирка Шмелкес, низенькая женщина с круглым лицом, курносым носом, черными глазами. Ее рот был слишком широк для маленького личика. Ей, вероятно, было намного больше пятидесяти, да еще она пережила лагеря, но выглядела Ирка моложе своих лет. Ее черные как смоль волосы, по-видимому, были недавно покрашены. На ней было черное декольтированное платье без рукавов. Похоже, она подготовилась к нашему приходу. Ирка сделала вид, что удивилась мне, и сказала:
— О, ты привел гостя. Я не ожидала.
Улыбаясь, она обнажила ряд вставных зубов, а на ее левой щеке появилась едва заметная ямочка. Мы прошли длинным коридором. Из кухни пахло жареным мясом, чесноком, жареным луком, картофелем. Она завела нас в комнату, в которой стоял топчан (как это называли в Варшаве) — днем он заменял софу, а ночью использовался в качестве постели. Было очевидно, что квартира не ее, а комната, в которой мы стояли, служила и гостиной, и столовой, и спальней. В дверь постучала молодая женщина и сказала:
— Миссис Шмелкес, вас просят к телефону.
— Меня? Минуточку.
И Ирка Шмелкес исчезла.
— Все еще неплохо выглядит, — заметил Макс. — Ее муж, слабоумный, рвался быть троцкистом, поэтому его и угробили в Испании. Все они хотят создать лучший мир и умирают как мученики. Ради кого они жертвуют собой? Кто вознаградит их в могиле?
— Быть может, Всевышний тоже троцкист, — сказал я.
— Хм? Что произошло в Испании, мы никогда не узнаем. Сталин учредил там всеобъемлющую инквизицию. Они приезжали, чтобы воевать против фашизма, а их казнили собственные товарищи. Наши евреи всегда первые на линии огня. Они, видите ли, должны освободить весь мир, не больше не меньше. В каждом еврее присутствует диббук[32] Мессии.
Когда Ирка Шмелкес возвратилась в комнату, я заметил, что на ней туфли с необыкновенно высокими каблуками. Она сказала:
— Проходят дни и ночи, и никто даже не подумает позвонить. А когда появляются два таких важных гостя, как вы, меня зовут к телефону. И ради кого? Ради какой-то старой сплетницы, которая жаждет поболтать!
— Где твой сын Эдек? — спросил Макс.
— Где? В библиотеке. Этот мальчик загонит меня в могилу. Он тащит домой книги со всего света. Едет на Четвертую авеню, где можно достать книгу за никель[33] или три за дайм[34], и возвращается с грудой старых книг. Он хочет знать все. Однажды я застала его читающим пожелтевшую книгу о поездах в Огайо или Айове, полную цифр и расстояний. Зачем Эдеку знать о поездах в Огайо, ходивших много лет назад? Он больной, больной. Слава Богу, эта горбунья выехала, и я смогла отдать ее комнату Эдеку. Она уже полна книг.
— У меня чек для тебя, — сказал Макс.
— Он определенно будет использован. Но ты, дорогой, и гость, которого ты привел, для меня важнее, чем чек. Что с вами случилось, Аарон Грейдингер? С тех пор, как вы стали газетным автором, вы больше не желаете знать нас, маленьких людей. Та молодая женщина, которая позвала меня к телефону, ваша читательница. Если бы она узнала, что вы здесь, в моей комнате, она бы перевернула весь мир вверх ногами. Подождите, я принесу закуски. Я приготовила больше, чем обычно, как будто сердце мне подсказывало, что вы оба придете. Я сейчас вернусь!
И Ирка вновь исчезла.
— Мы должны что-нибудь попробовать, нравится нам это или нет, — сказал Макс. — Люди, знавшие голод, относятся к еде, как к самому большому благу. Они доконают меня своими угощениями, и я даю обет посылать им чеки по почте. Что мне сейчас нужно, так это сигара. Где моя зажигалка? Ну вот, я оставил ее у Раппопорта.
Мы пили чай и ели бабку. Молодой Эдек вернулся из библиотеки. Низенький и толстый, он уже имел животик. Я заметил, что верхняя пуговица на его брюках не застегивалась. На круглой голове торчала копна жестких черных волос, большие глаза косили, и меня поразило, что его щеки были гладкими, как у евнуха. Он молча сидел в кресле-качалке, качаясь, пока мы разговаривали, а потом сказал мне:
— Я читал ваши статьи и рассказы. Правда, не читал ваши романы, которые печатаются в газете с продолжением. У меня недостает терпения дожидаться до следующей недели. Почему вы не издаете книгу? Американские писатели в вашем возрасте уже всемирно известны. У моего доктора есть сын, которому двадцать семь лет, и он продал свою книгу кинокомпании за восемьдесят тысяч долларов. Если бы у меня было восемьдесят тысяч долларов, я бы объехал всю землю. Я прочитал массу книг по географии и уверен, что еще существует много мест, которых нет ни на одной карте.
— Я принадлежу к группе людей, которые отрицают, что земля круглая, — продолжал он. — Нас только сорок, но мы всесторонне обсудили вопрос. Нет никаких доказательств того, что земля круглая. Это только теория. Мое мнение, что Атлантида не утонула в море, как писал Плутарх, мы просто все еще не знаем, где она находится. Существуют документы, оставленные путешественниками, которые попадали в местности, где в земле большие впадины, и они находили там древние цивилизации. Вы можете относиться к этому, как к фольклору, но к истине часто относились как к фольклору. В Африке колдуны годами использовали лекарства, которые только недавно открыты здесь. А как насчет упоминаемых в Библии мест, таких, как Офир? Где расположен Ашкеназ? Ашкеназ это не Германия. В те времена Германия была джунглями. Может быть, Ходу это Индия, может быть, нет, но Куш это определенно не Эфиопия. Анаким, который упоминается в Пятикнижии[35], не просто легенда. Великаны существовали в прошлом и существуют сейчас, но они живут, где-то скрываясь — может быть, в Гималаях или в девственных лесах Бразилии, или, может быть, где-то в глубине Африки. Находят их следы, необычайно широкие и длинные. Вы можете спросить, почему они прячутся, и я отвечу вам. С тех пор, как существует человечество, многие расы были уничтожены. Белая раса не способна терпеть соперников. Гитлеризм так же стар, как человечество. За последние несколько сот лет были почти «выкошены» индейцы. Если бы Гитлер выиграл войну, он уничтожил бы всех негров. Он рассматривал нас, евреев, как расу и поэтому пытался уничтожить все наши следы. Гиганты знают все это и поэтому избегают встречи с другими расами. Шпионы, упоминаемые в Библии, докладывают другим гигантам о тех, кого они воспринимают как саранчу. Наши белые расисты и шовинисты не хотят признавать себя саранчой. Почему гиганты не размножатся и не прикончат нас — это другой вопрос. Быть может, природе требуется много времени, чтобы создать каждого гиганта. Возможно, их женщины носят плод годы вместо девяти месяцев — или даже сотни лет. Недавно открыты районы России, обитатели которых живут по сто, двести лет, может быть, и больше. У них нет никаких документов или записей, и у их детей нет даже свидетельств о рождении.
— Эдек, пей свой чай. Он остывает, — сказала Ирка.
— Он не остывает. Мы боремся с предрассудками, а сами по горло погружены в предрассудки, — заявил Эдек. — Во времена Людовика Четырнадцатого два профессора открыли метеоры, но король заявил: «Проще поверить в то, что профессора лгут, чем в то, что камни могут падать с неба». Почему я говорю об этом? Из-за реки Самбатион. В «Еврейской энциклопедии» говорится, что река Самбатион и десять потерянных колен Израилевых — это легенда. Но я совсем не уверен, что это так. Оттуда приезжали люди, которые видели реку, швыряющую в небо скалы, и они привезли письмо от короля Ахитов бен Азария[36]. Об этом ясно сказано в Библии, я точно не помню где: «Потомки Ефраима смешаются с другими народами».
— Одно с другим не имеет ничего общего. Некоторые утверждают, что англичане это в действительности одно из потерянных колен. Вот почему они так любят Библию. Как-то я купил на Четвертой авеню книгу за никель, и это оказалась самая лучшая книга, какую я когда-либо читал. Она называлась «Свадьбы с духами». Я забыл, кто ее автор. Кто-то украл у меня эту книгу.
— Кто станет красть такие старые книги? — спросил Макс Абердам.
— Люди крадут все. Фрейд украл всю свою теорию из Гемары, глава Ха-Рокх, Беракхот. Спиноза украл из текста Шир Ха-Икхуд, который читают в ночь на Йом Кипур[37]. У меня есть теория, что существуют духи, чья задача — красть. Вечером я кладу книгу на стол, а утром ее нет. Я дошел до того, что когда я нахожу по-настоящему хорошую книгу, то запираю ее в шкафчик. Но она исчезает даже оттуда. У меня также есть теория, что Гитлер был не человеком, а дьявольским духом. Куда исчезло его тело? Никто не знает. После войны он улетел туда, где пребывают демоны. Я даже написал об этом статью в вашу газету, но ее не напечатали.
— Хватит, мой мальчик! — сказала Ирка.
— Мама, когда-нибудь ты узнаешь правду, но будет слишком поздно. Как могло случиться, что шесть миллионов евреев шли, будто овцы, на бойню? Как могло случиться, что те же самые нации, которые во время Холокоста[38] ни единым словом не выразили протест, потом голосовали за создание государства Израиль? Я спрашивал об этом у моего учителя, но у него не нашлось ответа. Мама, можно я расскажу мистеру Грейдингеру про мои наручные часы?
— Нет, Эдек.
— Мистер Грейдингер пишет о демонах. Его может заинтересовать такая история.
— Эдек, это неважно.
— Что за наручные часы? — спросил я.
— У Эдека были часы, которые ему дал его друг, — ответила Ирка. — В тот день, когда этот друг умер — у него был туберкулез, — часы упали с запястья Эдека и разбились. Я за свою жизнь потеряла не одни часы, но не считаю виновными в этом духов.
— Мама, часы были на металлическом браслете, и он плотно обжимал мое запястье. Они отскочили и упали, когда браслет был еще цел. И ты забыла сказать, что это случилось в тот самый момент, когда Илиш испустил свой последний вздох. В тот самый момент. Это факт.
— И то, что мне надо пойти на кухню и приготовить покушать для наших дорогих гостей, тоже факт.
— Миссис Шмелкес, простите, мне надо идти, — сказал я.
— Мне тоже, — сказал Макс.
— Как — вы оба хотите уйти? — спросила Ирка. — Ладно, я не могу упрекнуть гостя, приведя которого ты оказал мне честь. Я знала его еще по Клубу Писателей в Варшаве, по его произведениям здесь, хотя он меня не знает. И так…
— Но я вас знаю. Нас однажды знакомили в Варшаве, — сказал я.
— У меня даже мысли не возникло, что вы меня так хорошо запомнили. Да, нас действительно знакомили. Вы были тогда очень молодым человеком, начинающим. Я как-то написала вам письмо здесь, в Америке, хотя и не ожидала ответа. Наши еврейские писатели не отвечают на письма. Некоторые из них, возможно, не могут позволить себе заниматься перепиской. Но ты, Макс, ты не можешь оскорбить меня уходом!
— Мама, я пойду к себе в комнату, — сказал Эдек.
— Да, мой мальчик. Я позову тебя позже, когда будет готова еда.
— Мама, не отпускай их! — сказал Эдек уже около двери.
— Что я могу сделать? В моем распоряжении нет казаков, как имел привычку говорить мой отец — пусть он покоится в мире. Все, что я могу сделать, это умолять их.
— Не уходите, Макс. Мама так часто говорит о вас. Она стоит у окна и высматривает, как они привыкли в Польше, в маленьких местечках. Потом она говорит: «Удивляюсь, где этот Макс? Куда он запропастился?» В Яблоне, если ты стоял у окна полчаса, все местечко проходило мимо. Но здесь в Нью- Йорке пытаться увидеть кого-нибудь в окно — как бы это сказать? — анахронизм. Шансы, что кто-нибудь, кого ты знаешь, пройдет мимо, даже человек, живущий по соседству, один на миллион, а то и на миллиард. Я не математик, но я интересовался статистикой и вопросами вероятностей. Каковы были шансы, что будет существовать этот мир? До свидания.
Эдек закрыл дверь. Ирка Шмелкес покачала головой.
— Мальчик болен, болен. Через что он прошел, через что я с ним прошла, никто никогда не узнает. Даже Бог, если Он существует.
— Ирка, мне пора! — воскликнул Макс.
— Не ори. Я не глухая. Когда я тебя снова увижу? Если ты будешь ждать до следующего чека, может оказаться слишком поздно.
— В чем дело? Ты не заболела, Боже сохрани?
— Я всегда больная и усталая.
— Я буду здесь завтра. Приду обедать.
— Ты в самом деле собираешься прийти или просто разыгрываешь меня?
— Я никого не разыгрываю. Ты знаешь, что я люблю тебя.
— В котором часу ты придешь?
— В два часа.
— Хорошо, надеюсь, что ты не строишь из меня дурочку. Мистер Грейдингер, это был сюрприз и большая честь. Когда моя соседка услышит, что вы были здесь, и что я не задержала вас и не представила ее вам, она никогда мне не простит.
— С Божьей помощью мы еще увидимся, — сказал я.
— Недавно каждый из нас взывал к Господу. Я начинаю верить, что пришла Мессианская эра.
Ирка улыбнулась нам. На минутку она снова показалась молодой. Такой, какой я запомнил ее в Клубе Писателей в Варшаве.
Глава 3
На этот раз Макс не подзывал такси. Мириам жила на Сотой-стрит у Централ-Парк-Вест. Макс зашел в аптеку позвонить по телефону, а я подождал снаружи. По соседству расселились беженцы — из Польши, из Германии, из половины мира. На Вест-Энд- авеню был отель «Париж», который беженцы из Германии окрестили «Четвертым Рейхом». Макс надолго задержался в аптеке, и я стоял на тротуаре и глазел на проезжающие мимо грузовики. На полосе бульвара посредине Бродвея старушка разбрасывала крошки хлеба, которые она принесла в коричневой бумажной сумке. Голуби слетались с крыш, клевали крошки, толпясь вокруг нее. Зловоние бензина и собачьего дерьма смешивалось с ароматом начинающегося лета. Перед цветочной лавкой на той стороне улицы были выставлены на тротуар горшки со свежими лилиями. На скамейках, протянувшихся над решетками сабвея, сидели люди, которым, в центре нью-йоркской суеты и грохота, очевидно, нечего было делать. Пожилой человек всматривался в газету на идише. Седая женщина в черной шляпе сидела, неуклюже держа немецкую газету «Ауфбау»[39], пытаясь читать через увеличительное стекло. Негр спал, запрокинув назад голову. Бремя от времени под землей грохотал поезд сабвея. Откуда-то появилась машина, поливавшая пыльный тротуар.
Я жил в Нью-Йорке многие годы, но так и не смог привыкнуть к этому городу, в котором человек мог прожить всю жизнь и все же остаться таким же чужаком, как в день, когда он впервые ступил на эти берега. Совершенно без всякой причины я начал читать надписи на проезжающих грузовиках — цемент, масло, трубы, стекло, молоко, мясо, линолеум, поролон, пылесосы, кровельные материалы. А потом появился катафалк. Он медленно двигался мимо, его окна были занавешены, венок под колпаком — похороны без единого сопровождающего. Макс вышел из аптеки и помахал мне, чтобы я обождал. Он зашел в цветочную лавку и вышел оттуда с букетом. Мы двинулись по направлению к Централ-Парк-Вест. Макс улыбнулся.
— Да, это Нью-Йорк — вселенский бедлам. Что мы можем сделать? Америка это наше последнее прибежище.
Мы молча продолжали идти вдоль трех кварталов, которые отделяют Бродвей от Централ-Парк-Вест, пока не подошли к большому многоквартирному дому в шестнадцать или семнадцать этажей. Над парадной был тент, и у входа стоял швейцар в форме. Швейцар, очевидно, был знаком с Максом. Он поприветствовал нас и открыл дверь, приглашая войти. Макс проворно сунул ему в руку чаевые. Швейцар поблагодарил его и, заметив, какая хорошая стоит погода, быстро добавил, что на завтра по радио обещали дождь. Той же самой информацией снабдил нас и лифтер. Макс огрызнулся:
— Кого заботит, что будет завтра! Время существует сегодня. Когда вы доживете до моего возраста, то будете благодарны за каждый прожитый день.
— Правильно, сэр. Жизнь коротка.
Мы вышли из лифта на четырнадцатом этаже, и тут я увидел кое-что оказавшееся для меня неожиданным. Б длинном холле между дверьми, которые вели в квартиры, стояли кресла и стол с вазой; на стене висели зеркало и картины в позолоченных рамах. Макс сказал:
— Америка, а? В Варшаве все это украли бы в самый первый день. Американские воры не кидаются на такой хлам, им нужна касса. Благословен Колумб!
Макс позвонил в дверь; прошла минута, прежде чем дверь открылась. Свободной левой рукой Макс собрал и разгладил бороду. Я тоже быстро поправил узел на галстуке. Когда дверь открылась, перед нами стояла Мириам. Она была небольшого роста, несколько полноватая, с высокой грудью и лицом девушки, которой, казалось, было не более семнадцати. Весь ее облик искрился яркостью и привлекательностью молодости, на лице не было заметно никаких следов косметики, а каштановые с медным оттенком волосы слегка растрепались. Темно-голубые глаза светились радостью ребенка, развлекающегося визитом взрослых. Она бросила на меня взгляд, казалось, спрашивающий: «А вы кто?» и в то же время уверяющий, что, кем бы я ни оказался, я буду желанным гостем. Пальцы Мириам были испачканы чернилами, как это бывало у школьников на прежней родине, а ногти обстрижены (а возможно, обкусаны) очень коротко. Ее платье тоже наводило на мысль о варшавской школьнице: свободное, лишенное малейшего намека на элегантность, с каймой, украшенной фестонами. Увидев нас, она воскликнула на варшавском идише:
— Опять цветы? О, я убью тебя!
Только позже я заметил обручальное кольцо на ее указательном пальце.
— Давай, убивай! — заорал Макс. — В Нью-Йорке так много убивают, будет одним трупом больше. Пожалуйста, возьми букет. Я тебе не слуга, чтобы таскать твои букеты. И открой шире дверь, дурочка!
— О, вы меня так испугали, что я…
Мириам выхватила букет у Макса и широко открыла дверь. Мы вошли в квартиру, прихожая которой была столь мала, что в ней хватило места только для стола, заваленного блокнотами и книгами. За открытой дверью я увидел спальню с большущей, еще не застеленной кроватью, на которой были разбросаны платья, пижама, газеты, журналы, чулки. На подушке примостились два очищенных яблока. Окно выходило на Центральный парк, и комната была залита солнцем. За другой дверью была крохотная кухонька, стол и софа. На полу перед кухонькой[40] стояла кастрюля. В квартире не было ковриков, и паркет казался новым, свеженатертым, как в доме, в который только что въехали. Я заметил, что Мириам была в одних носках, без туфель. Она металась с букетом в поисках вазы, но потом бросила его на кровать. Она почти кричала:
— Это потому, что я не спала всю ночь. У нас тут был пожар. Старая леди, президент сиротского дома, забыла выключить свою печку, и вдруг появился дым, и приехали пожарные, и нам пришлось среди ночи спускаться в вестибюль.
Она повернулась ко мне:
— Меня зовут Мириам.
Мириам сделала что-то вроде реверанса и протянула мне руку. Однако, очевидно, она забыла, что кое-что в ней держала — на пол упала ручка. Мириам добродушно распекала Макса.
— Ты даже не познакомил нас! Ты еще больше смущен, чем я. Но я знаю, кто он. А я Мириам, и этого достаточно. — Она говорила и для меня, и сама с собой. — Мне хочется, чтобы вы знали, что я ваш самый большой почитатель во всем мире. Я читаю каждое слово, написанное вами. В Варшаве я училась в идишистской школе. Мы читали каждого из писателей, писавших на идише, даже самого бездарного. Меня учили говорить на литовском идише, но я так и не научилась. Читать могу, но говорить — нет. Как бы поздно я ни возвращалась домой, стоит мне обнаружить, что я забыла купить вашу газету на идише, бегу обратно на Бродвей искать. Однажды я бродила целых полчаса, но все газеты уже были проданы. Потом вдруг смотрю — лежит в урне. Ах, я, наверное, смешная!
— Что тут смешного? — взревел Макс. — Если человек прочел газету, он ее выбрасывает. Нью-Йорк это не Блендев или Ежижки, где люди хранят газеты вечно!
— Верно, но вообразите: я хожу и ищу — будто со свечой — продолжение его романа, а тут оно лежит в мусорной урне, как будто ждет меня. Я сразу стала читать, прямо на улице под фонарем. Вообще-то я заметила, что вы не тратите время на поиск слов. Вы пишете так, как люди говорят.
— Именно это и следует делать писателю. Писатель не должен быть святошей, — сказал я. — В каком бы то ни было смысле.
— Да, верно.Я недавно читала, что ошибки одного поколения становятся признанным стилем и грамматикой для следующих, — сказала Мириам.
— Как это вам понравится? — сказал Макс. — Только вчера родилась, а уже разговаривает, как взрослая.
— Мне двадцать семь, а для него это вчера. Иногда я чувствую себя так, как будто мне уже сто лет, — сказала Мириам. — Если бы я рассказала вам, через что прошла во время войны и здесь, в Америке, вы бы поняли. Целый мир рушился у меня на глазах. Но вы, мой любимый писатель, вновь возвращаете его к жизни.
— Ты слышишь? — заорал Макс. — Это величайший комплимент, который может сделать читатель писателю.
— Я тысячу раз благодарю вас, — сказал я. — Но ни один писатель не может воскресить то, что разрушено злыми силами.
— Когда я покупаю газету и читаю ваши рассказы, я узнаю каждую улицу, каждый двор. Иногда у меня такое чувство, как будто я даже узнаю людей.
— Любовь с первого взгляда, — пробормотал Макс как бы про себя.
— Макс, я никогда этого от тебя не скрывала, — сказала Мириам. — Я люблю тебя за то, что ты есть, и люблю его за то, что он пишет. Что общего имеет одно с другим?
— Имеет, имеет, — сказал Макс. — Но я не ревнив. Мне самому нравится Аарон. Он знает о Польше и Варшаве меньше, чем одну сотую того, что знаю я. Откуда ему знать? Родился в каком-то маленьком бедном штетл[41], в нищей деревне. Он настоящий провинциал. Сидит за своим столом и выдумывает. Но его выдумки стоят больше, чем мои факты. В Гемаре говорится, что после того, как Храм[42] был разрушен, пророчества были отобраны у пророков и отданы безумцам. А поскольку писатели — известные безумцы, то дар пророчества достался им тоже. Откуда молодой выскочка вроде него может знать, как говорил мой отец, или мой дед, или моя тетка Гененделе? Можете быть уверены, он еще нас опишет, придумав то, чего никогда не было, делая из нас идиотов.
— Пускай. Ему не надо придумывать — я сама расскажу ему все, — сказала Мириам.
— Все? — взревел Макс.
— Да, все.
— Прекрасно, значит, я уже приговорен. Что бы в этой Америке ни говорили, я уже вырыл себе яму. Пусть он рассказывает обо мне все, что захочет. После моей смерти вы оба можете разрезать меня на куски и скормить собакам. Но пока я еще жив, я привел гостя к моей девушке и хочу, чтобы она встречала его должным образом. Надень какие-нибудь туфли и убери кастрюлю, стоящую на полу. Зачем ты ее там оставила — для мышей?
— Я шла за водой для каучукового дерева.
— Куда ты шла, а? Давай, я помогу тебе навести порядок. Это квартира, а не свинарник, ты просто дикарка.
— А ты кто, граф Потоцкий[43]? — спросила Мириам. — Ты даже еще не поцеловал меня.
— Ты не заслужила поцелуя. Иди!
Макс раскинул руки, и Мириам кинулась к нему в объятия.
— Вот так!
Я не мог поверить своим глазам. За десять минут Макс и Мириам убрали обе комнаты, поставили все на место, и вскоре квартира стала чистой и опрятной. Мириам расчесала волосы и надела туфли на высоких каблуках, сделавшись выше и стройнее. Когда она целовала Макса, ей пришлось встать на цыпочки, а ему — наклонить голову. Стоя в его объятиях и обнимая его, она бросила мне веселый, флиртующий взгляд. Мне показалось, что в ее взгляде было что-то насмешливое и обещающее. Боже правый, подумал во мне писатель, этот день оказался необычайно длинным и богатым событиями. Вот такой и должна быть литература, наполненной действием, без пустых мест, остающихся для штампов и сентиментальных размышлений. Я слышал много хорошего о Джойсе, Кафке и Прусте, но я решил, что не буду следовать путем так называемой психологической школы или потока сознания. Литературе стоит вернуться к стилю Библии или Гомера: действие, беспокойство, образность — и только чуть-чуть игры воображения. Но могло ли такое решение привести к положительному результату? Не была ли моя действительность и действительность других, таких же как я, слишком парадоксальной?
Я чувствовал, что меня все больше опьяняют сигары Макса, кофе, который нам приготовила Мириам, наш разговор. Я спрашивал Мириам о ее жизни, и она отвечала охотно, коротко, с детской простотой. Родилась? — В Варшаве. Училась? — В идишистской школе, в частной гимназии, в Хаватцелет — польско-ивритской высшей школе. Ее отец принадлежал к партии Фолвист[44]. Он был идишистом, а не сионистом. Но, тем не менее, каждый год вносил деньги в Еврейский Национальный фонд. Ее дед (отец ее отца) был землевладельцем; у него были дома на улицах Лешно, Гржибовска и Злота. Отец ее матери был хасидом рабби[45] Гура и владельцем винной лавки. Сколько детей было в семье? Только двое — старший брат Моня, который погиб в Варшавском восстании, и Мириам. Подружки звали ее Марилка, иногда Марианна. Когда разговор коснулся варшавского Клуба Писателей, Мириам сказала:
— Я была там только один раз. Моя мать пошла покупать билеты на лекцию и взяла меня с собой. Мой учитель был членом Клуба, и он обедал в комнате, через которую мы проходили. Когда он нас увидел, то все бросил и показал нам дом, словно это был музей. Мне было тогда девять лет, и я уже читала книги на идише. Не только учебники, но и книги для взрослых. Мать выругала меня. Она сказала: «Если ты будешь читать эти книги, то раньше времени состаришься. Кроме того, забудешь польский». Я обещала не читать их, но как только она вышла из моей комнаты, снова взялась за них. Что я читала? Шолом Алейхема, Абрахама Рейзена, Шолома Аша, Гирша Номберга, Сегаловича. Мы выписывали «Литерарише Блеттер»[46], и, став старше, я читала ее тоже. Ежедневные газеты мы читали и выбрасывали, но литературные журналы отец всегда сохранял. Роман, который вы перевели, был включен в приложения к «Литерарише Блеттер», и в нашем доме были все номера. Мой учитель — Шидловски его фамилия — познакомил меня со всеми в Клубе Писателей. Я была такая наивная, что думала, что все они давно умерли. Но в тот день мне довелось увидеть многих из моих любимцев живыми и даже еще не старыми. Они сидели и ели куриную лапшу. С вашими сочинениями я начала знакомиться позже, уже здесь, в Америке. Как только я прочла первую главу, то сказала…
— Не захваливай его! — прервал ее Макс. — Он будет наслаждаться твоими комплиментами до тех пор, пока не раздуется и не лопнет. Писатель как лошадь: дашь ей торбу овса, она сожрет торбу; если дашь две, она проглотит и две. В хозяйстве моего отца не раз бывало, что лошадь объедалась свежей травой и вскоре подыхала.
— О, какие гадости ты говоришь! — укоризненно сказала Мириам.
— Это правда! Аарон может подумать, что я завидую его славе, но я желаю ему в тысячу раз большего успеха. Много кем я хотел бы быть, но только не писателем — становиться писакой — это меня никогда не привлекало.
— Кем вы хотели быть? — спросил я.
— Послушай, если ты будешь обращаться ко мне с этим церемонным «вы», я схвачу тебя за шиворот и спущу с лестницы. Какая вежливость! Говори ясно и нормально «ты» или отправляйся к дьяволу! Если уж наша маленькая школьница не церемонится со мной, то тебе и подавно не следует. Я говорю совершенно открыто, ты и она так близки мне, как если бы ты был моим братом, а она… Ладно, я лучше не буду говорить ерунды. Кажется, ты задал мне вопрос, но я уже не помню, какой.
— Я спросил, кем именно ты хотел быть?
— Кем я хотел быть? Рокфеллером, Казановой, Эйнштейном, даже просто пашой с гаремом, полным красавиц. Но сидеть с карандашом и царапать бумагу — это не по мне. Читать — да. Хорошая книга для меня так же важна, как хорошая сигара.
— Я не знала, что ты мечтал иметь гарем, — сказала Мириам.
— Я мечтал об этом тридцать лет назад, раньше, чем ты, Мириам, выбралась из чрева своей матери. Но теперь, когда у меня есть ты, я больше никого не хочу. Такова горькая правда.
— Почему горькая? — спросила Мириам.
— Потому что это означает, что я стал на тридцать лет старше, а не моложе.
— Бедный Макс. Мы все становимся с каждым днем моложе, лишь он один становится старше. Ты хочешь постоянно молодеть до тех пор, пока в конце концов не станешь младенцем? — спросила Мириам.
— Нет, я хотел бы остановиться на тридцати.
— Ах, пустой мечтатель, — сказала Мириам по-польски.
Темнело. Сумерки заполняли комнату, но никто не поднялся, чтобы зажечь свет. Время от времени Макс затягивался сигарой, и красноватый свет освещал его лицо. Свет блеснул в его глазах, и внезапно я услышал, как он сказал:
— Когда я с вами обоими, я снова молод.
Я и раньше бесчисленное количество раз слышал эти истории, но в передаче Мириам они казались несколько иными. Факты оставались более или менее теми же — в Варшаве были вырыты окопы, даже воздвигнуты баррикады. В то же время для многих оказалось неожиданностью внезапное начало войны в сентябре 1939 года. Много домов уже было разрушено немецкими бомбами. В стране начался голод. Мириам было тринадцать, и они с матерью остались дома одни. Отец Мириам ушел с тысячами других мужчин в сторону Белостока. Эти рассказы были столь знакомы мне, что иногда я даже поправлял Мириам, когда она ошибалась в дате или номере дома. Все это я знал наизусть — голод, болезни, то, как евреев сгоняли в лагеря принудительного труда, пожары, выстрелы, жестокость немцев, безразличие поляков. Актеры пытались ставить пьесы на идише посреди лежавшего в развалинах гетто. Кто-то приспособил подвал под кабаре, в котором состоятельные женщины проводили время, тогда как за стенами убивали людей. Позже, когда квартира Мириам была захвачена, а ее мать отправили в концентрационный лагерь, Мириам была переправлена из гетто в «арийскую» часть города. Бывшая учительница спрятала ее в темном алькове, где хранилась старая мебель, заваленная тряпьем и пачками газет.
Сын консьержки, пустой и хвастливый юноша, шпаненок, узнал, где она прячется. Он заставил ее заплатить ему в качестве взятки деньги, полученные за драгоценности ее матери, которые удалось продать учительнице. Он также заставил ее покориться ему, и когда он пришел к ней, то держал нож у ее горла. У учительницы, старой девы, от испуга и горя случился нервный приступ. Мириам сказала:
— Не знаю, почему я не покончила самоубийством. Впрочем, знаю. Я просто не захотела обременять мою учительницу мертвым телом. Сколько она могла бы прятать труп? Нацисты расстреляли бы и ее, и всех соседей.
— Да, да. Так ведет себя человеческая раса, — сказал я. — Таково ее поведение во все века.
— Но моя учительница тоже принадлежала к человеческой расе, — сказала Мириам.
— Да, правда.
— Как-то я читала ваше высказывание о религии протеста. Что вы имели в виду? — спросила Мириам. — Не смейтесь, но кто-то оторвал часть страницы, и я не смогла дочитать ее.
Я на минуту замешкался, и Макс вмешался:
— Он, похоже, забыл, что имел в виду. У него дюжина псевдонимов, и ему приходится постоянно выбрасывать копии.
— Успокойся, Макселе. Дай ему ответить.
— Нет, конечно, я не забыл. Я имел в виду, что можно верить в мудрость Бога и все же отрицать, что Он творит только добро. Господь и милосердие это не абсолютные синонимы.
— Но зачем так волноваться о Боге? Почему просто не игнорировать Его?
— Мы не можем игнорировать Бога, так же, как не можем игнорировать время, или пространство, или причинность, — сказал я больше для Макса, чем для Мириам.
— А причем здесь протест? — спросил Макс.
— Мы не хотим больше оставаться льстецами и мазохистами; мы не хотим больше кротко терпеть наказание, которое унижает нас.
— Не знаю, как ты, но я совершенно тверд в решимости обходиться без Бога, Его мудрости, Его милосердия, всех религиозных догм, которые связаны с Ним, — сказал Макс.
— И на чем же ты основываешь этику?
— Нет ни основания, ни этики.
— Другими словами, сила есть право?
— Похоже на то.
— Если сила есть право, то Гитлер был прав, — сказал я.
— Поскольку он был побежден, значит, он был не прав. Если бы он выиграл войну, все народы мира объединились бы с ним, весь мир.
— Макс, ты ошибаешься, — сказала Мириам. — Мы, евреи, никогда не должны поддерживать мнение, что нет никакого морального основания во вселенском понимании и что человек может делать все, что ему хочется.
— А из чего состоит еврейство? — спросил Макс. — Когда у нас, евреев, была сила, четыре тысячи лет тому назад, мы напали на ханаанцев, на гиргашим, на призим[47], и мы уничтожили их всех, мужчин, женщин и детей. Всего несколько лет назад наши мальчики были вынуждены вновь воевать в той же самой войне. В чем, Аарон Грейдингер, твое определение Бога?
— План, определяющий эволюцию, силы, движущие звездами, галактиками, планетами, кометами, туманностями и всем остальным.
— Эти силы слепы, и нет никакого плана, — сказал Макс.
— Откуда мы это знаем? — спросил я.
— Если ты спрашиваешь меня, то нет ничего, кроме хаоса. Даже если план есть, он так же мало интересует меня, как прошлогодний снег.
— Тем не менее, ты постоянно говоришь о Боге, Макс, — сказала Мириам. — Ты даже постился на Йом Кипур.
— Не из-за набожности. Я делал это в память о моих родителях и моем наследии. Можно быть евреем без веры в Бога. И что это такое — религия протеста? Если Бога не существует, то против кого протестовать? А если Он существует, то вполне может огорчить нас новым Гитлером. Те, кто кротко терпит наказание, делают это от страха. Бог сам выразил это кратко и ясно — ты обязан любить меня всем сердцем, всей душой, всей своей мощью. Если не будешь, все бедствия Книги Проклятий[48] падут на твою голову.
— Никого нельзя заставить любить силой, — заметила Мириам.
— По-видимому, можно. Не сразу, но постепенно… — сказал Макс.
Макс зажег свет и предложил поужинать в ближайшем ресторане, но Мириам настояла, что сама приготовит ужин. Макс пошел в спальню к телефону, он говорил громко, и было слышно, что упоминаются акции. Мириам открыла дверь в кухоньку и что-то доставала из холодильника.
Она сказала мне:
— Я едва могу поверить, что вы здесь, в моей квартире. Находясь здесь с вами и Максом, мне кажется, будто я все еще в Варшаве, и то, что пришло позже, было ночным кошмаром. Если бы Бог пообещал мне исполнить одно желание перед смертью, я бы попросила, чтобы вы и Макс ушли вместе со мной, чтобы мы трое могли быть вместе.
Это было сказано так просто и с такой детской непосредственностью, что прошло несколько минут, прежде чем я смог ответить. Я выпалил:
— Бы слишком молоды, чтобы говорить о смерти.
— Слишком молода? Я годами смотрела в лицо смерти. Я начала думать о ней задолго до войны. Почему-то я знала, что мой брат умрет насильственной смертью. Он всегда мечтал попасть в польскую армию. Отец не раз говорил, что, если нацисты захватят Польшу, брат заставит нас всех выпить яд. Ах, не было никаких причин, чтобы мы оставались в Варшаве. Отец мог получить для нас визы, но он был слишком погружен в бизнес. В тот день, прежде чем уйти через Пражский мост, он притащил полную сумку банкнот и акций. Все это пропало, но, когда он в сорок пятом году вернулся из России и мы уехали в Германию, он снова начал грести деньги лопатой. Он стал контрабандистом. Я до сих пор не знаю, что он переправлял и продавал. Мать рассказывала, что однажды, когда в наш дом явилась немецкая полиция с обыском — они лезли в каждую дыру, — у него было спрятано больше семидесяти тысяч марок. Мы довольно своеобразное семейство. Мой отец — маньяк. Моя мать — полоумная, да и мой брат Моня был не совсем в своем уме. Я самая сумасшедшая из всех. Наш общий недостаток в том, что каждый из нас со странностями. Я люблю Макса потому, что он совершенно ненормальный. И я люблю вас потому, что вы пишете о сумасшедших. Вы действительно встречаете людей, о которых пишете, или просто их выдумываете?
— Для меня весь мир — это сумасшедший дом.
— За эти слова я должна поцеловать вас!
Она подбежала ко мне, и мы поцеловались. Я боялся, что Макс может войти, но тут услышал его громкий голос:
— Тексако? Сколько? Подожди, Хершеле, я это запишу.
— Кто этот Хершеле? — спросил я, движимый не столько любопытством, сколько желанием смягчить то, что только что произошло.
— Его зовут Хэрри Трейбитчер, а не Хершеле; он урожденный американец. Макс настаивает на том, чтобы называть его Хершеле. Он спекулянт, авантюрист, играет на скачках. Макс дал ему доверенность — и это абсолютное безумие, так как Макс управляет деньгами других людей, жертв Гитлера. Хэрри блестящий делец, но если на бирже опять произойдет крах, это станет катастрофой для сотен беженцев, которых представляет Макс. Как бы вы назвали доверенность для работы с ценными бумагами и средствами на бирже на идише? — спросила Мириам.
— Право, не знаю. На древнееврейском есть выражение, соответствующее полномочиям на разрешение, но это не одно и то же. В Израиле сейчас есть юристы и суды, и я уверен, что они подобрали нужные термины на иврите. Это выражение использовалось в суде моего отца, в его Бет Дин[49], когда перед Пасхой он должен был составлять документ о продаже, передающий дворнику весь хамец[50], оставшийся на нашей улице. Но вы, вероятно, ничего не поняли из того, что я говорил.
— Я все прекрасно поняла. Я изучаю иврит, — сказала Мириам. — Мой дедушка обычно продавал оставшееся у нас тесто перед Пасхой. В нашей семье были раввины, хасиды. Мой отец считал себя атеистом, но наша кухня была кошерной[51]. Мать, бывало, зажигала субботние свечи, а потом сидела перед ними и курила сигареты[52]. Думаю, что это был ее способ выразить досаду или, может быть, ее представление о протесте. Я читала все, что могла найти о евреях и еврействе. Особенно я люблю идиш. Это единственный язык, на котором я могу выразить точно все, что мне хочется сказать.Я читала «Героя нашего времени» Лермонтова и пришла в абсолютный восторг. Когда я встретила в Америке Макса, то подумала, что он еврейский Печорин. Может быть, вы тоже. Нет, вы смесь из Печорина и Обломова и, возможно, еще Раскольникова. Вы всегда прячетесь. В моей незаконченной диссертации я называю вас «скрытный». Я писала, естественно, по-английски. Ах, я поставила целью моей жизни сделать вас знаменитым. Не смейтесь, кто-то же должен сделать это. У меня есть еще одно желание — даже два.
— Какие же?
— Рассказать вам все, что я пережила, — все, ничего не скрывая, даже самые большие глупости.
— А второе?
— Об этом сегодня лучше не упоминать.
— А когда?
— Когда-нибудь в будущем. Вы помните рассказ, который однажды написали, о человеке, имевшем несколько жен, о многоженце? Это выдумка или прообразом был кто-то, кого вы знали?
— Это правдивая история, — сказал я.
— Макс говорил, что вы сами придумали.
— Нет, это действительно случилось.
— Почему женщина готова оставаться с таким маньяком?
— Женщины еще более безумны, чем мужчины, — сказал я.
— Вы покинули Польшу в тридцатые, а я прошла через все семь кругов ада, как обычно говорила моя бабушка. Если бы я рассказала то, что пережила, не за чем было бы что-то придумывать.
— Пожалуйста, расскажите.
— Я не смогу рассказать вам даже тысячной доли. Я не могу рассказывать даже Максу. Я люблю его больше жизни, но ему нравится говорить, а не слушать других. То, что происходит между нами, могло бы заполнить книгу в тысячу страниц. У него есть жена, и она совершенно спятила — «безумен, как шапочник»[53], так говорят по-английски. А почему шапочник безумен? Языки сами по себе содержат элементы безумия. Я цитирую ваши слова.
— Что? Я никогда ничего подобного не говорил.
— Вы написали это в статье о языке эсперанто, и там говорится, что интернациональный язык утратил бы все особенности обычных языков, создавшиеся естественным путем.
— У вас в самом деле удивительная память.
— Там еще упоминается, что вы когда-то жили на улице Чжика, часть которой была позже переименована в улицу имени доктора Заменхофа в честь человека, который создал эсперанто. Теперь припоминаете?
— Да, да, у вас замечательная память.
— Надеюсь, что нет. Она угнетает меня, особенно когда я одна. Макс часто заходит ко мне, но он всегда ужасно занят. У него есть жена, Прива, которая считает его своей собственностью, и куча других женщин. Когда я читала вашу историю о многоженце, мне казалось, что вы описываете Макса. Он убеждает каждую из них, что только она его единственная любовь. Макс спекулирует их деньгами и может потерять все. Он чувствует симпатию к этим женщинам, но он окажется их ангелом смерти, — сказала Мириам. — В английском есть даже такое выражение mercy killing.[53]
В комнату вернулся Макс.
— Рынок поднимается. Мы гребем золото лопатами в земле Колумба. А что вы тут делаете? Она, вероятно, рассказывает обо мне черт знает что. Не верь ни единому слову. Она, вроде тебя, выдумщица. Я только что узнал, что мне придется поехать в Польшу. Мой отец оставил мне дом в Лодзи, и поляки наконец разрешают продать его — естественно, за одну десятую настоящей цены.
— Ты говорил с Хэрри? — спросила Мириам.
— Да, бумаги готовы. Он весь день пытался добраться до меня, но я был занят тут с нашим молодым писателем.
— Когда ты едешь?
— Скоро. Если все это ловушка, и коммунисты задумали ликвидировать меня, вы оба будете знать, что делать.
— Ты, должно быть, пьян, — сказала Мириам.
— Я родился пьяным. Пиф-паф! Мир полон чудес! А что насчет нашего ужина?
Глава 4
Было уже за полночь, когда я распрощался с Максом и Мириам. Мириам расцеловала меня в обе щеки, потом крепко поцеловала в губы. Я дал ей свой адрес и номер телефона в меблированных комнатах, где я жил. В присутствии Макса она пообещала позвонить мне на следующий день. Она употребила выражение, которое можно было часто услышать от варшавской шпаны: «Я занесла вас в свой список!» Когда Макс объявил о своем намерении остаться еще ненадолго, мне стало ясно, что он собирается провести здесь ночь. Я спустился на лифте в вестибюль и вышел на улицу. Ни души не было видно на Централ-Парк-Вест, только вдали мелькали огни проезжавших машин. Я обещал Мириам, что возьму такси, но тело у меня закостенело от многочасового сидения, и мне захотелось пройтись.
Я медленно брел вдоль парка и, хотя уличные фонари горели, местами проходил в такой темноте, куда не падал ни один луч света. Мне приходилось получать внезапные удары не только в моей литературной, но и в обычной жизни — попадать в ловушки, из которых не было выхода. Казалось, ко мне тянулись потерянные души — меланхолики, потенциальные самоубийцы, маньяки, люди, одержимые навязчивыми идеями о своем предназначении, пророческими снами. Те, кто приходил ко мне в редакцию за консультацией, часто возвращались потом с новыми вопросами и жаловались, что мои советы им не помогли. Читатели присылали мне длиннющие и запутанные письма, которые я едва просматривал. Я даже получал корреспонденцию от обитателей сумасшедших домов. Один такой «писатель» утверждал, что вся современная медицина упоминается в Пятикнижии, а другой придумал машину, которая работает вечно, — вечный двигатель. Беженцы писали о своих тяжелых испытаниях в концентрационных лагерях в нацистской Германии, в Советской России, в послевоенной Польше и даже в Америке. Чтобы ответить на всю мою почту, потребовался бы целый штат секретарей.
Через некоторое время я добрался до угла Семьдесят второй-стрит и Бродвея. Точно так же, как когда-то в Варшаве, я снимал не одну, а две меблированные комнаты — основную на Семидесятой-стрит и другую (которой я пользовался нечасто) в Восточном Бронксе — угол за занавеской в квартире моего земляка Миши Будника, который теперь работал водителем такси.
Я был уверен, что в чрезвычайных обстоятельствах всегда мог бы переночевать у своих друзей, в особенности у Стефы Крейтл, которая была одной из моих любовниц в Варшаве. Она и ее муж, Леон, провели годы войны в Лондоне и теперь жили в Нью-Йорке. Леон, которому уже стукнуло восемьдесят, потерял в Катастрофе двух дочерей и страдал от сердечных приступов. Тем не менее, он все еще занимался бизнесом и, кроме того, спекулировал акциями и облигациями. Дочь Стефы от предыдущего брака, Франка, была замужем за неевреем и жила в Техасе с ним и маленькой дочерью.
Боже правый, в свои почти пятьдесят я оставался таким же, каким был в двадцать, — ленивым, неорганизованным, погруженным в меланхолию. Каким бы малым ни был успех (если он был), он выводил меня из депрессии. Я жил сегодняшним днем, этим часом, этой минутой. Я долго стоял на углу Семьдесят второй и Бродвея, созерцая уходящую ночь. Мне страстно хотелось похвастаться какому-нибудь знакомому моей новой победой (которая, как я чувствовал, должна состояться), возможно, чтобы вызвать в нем зависть. Только бы мне удалось уверить Мириам, что, каким бы ни оказалось наше будущее, я буду предан ей — на свой лад. Однако время было слишком позднее для таких глупостей, и я направился к себе на Семидесятую-стрит.
Я поднялся на третий этаж и вошел в комнату. В узкой перегороженной спальне помещались небольшой стол и два стула. Открывая окно, я мельком заметил небольшой участок Гудзона и неоновые огни в Нью-Джерси, которые отбрасывали красный отблеск на воду. Это навело меня на мысль, что река несла свои воды этим путем миллионы лет и пробивала свой путь сквозь скалы Палисад, которые были такими же древними, как сама земля. Если поднять глаза, можно было увидеть одинокую звезду высоко в небесах над Гудзоном.
Я просмотрел газеты и остановился, как обычно, на странице некрологов с фотографиями мужчин и женщин, которые еще вчера жили, боролись, надеялись. «О, какой ужасный мир! — пробормотал я про себя. — Как равнодушен ко всему Господь, который все это создал. И нет никакого средства, чтобы исправить это». Я отдавал себе отчет в том, что в тот самый момент, когда я просматривал газеты, тысячи людей томились в больницах и тюрьмах. На бойнях животным отрубали головы, обдирали туши, вспарывали животы. Во имя науки бесчисленное количество невинных созданий становились жертвами жестоких экспериментов, заражались страшными болезнями.
Не раздеваясь, я рухнул на неразобранную постель. Сколько еще, Господи, Ты будешь смотреть на этот Твой ад и хранить молчание? Какая Тебе нужда в таком океане крови и мяса, чье зловоние расплывается по Твоей вселенной? Или вселенная не более, чем куча навоза? И на других планетах так же мучаются триллионы и квадриллионы живых существ? Ты создал эту беспредельную бойню только для того, чтобы показать нам Твою силу и мудрость? И за это нам велено любить Тебя всем сердцем, всей силой души?
Каждую ночь во мне вновь и вновь бушевала ярость. Надо найти способ притупить боль моего бунтарства. Как хорошо я понимал наркоманов, которые сваливались в сон с помощью алкоголя или лекарств! По счастливой случайности мой организм не мог освобождаться от напряжения такими средствами. Я заснул, и мои сны были полны воплей и криков. Я был не в Нью-Йорке, а в Польше, где меня преследовали нацисты. Я карабкался по могилам, которые вырыли для себя евреи. Кучи земли шевелились, и снизу прорывались приглушенные звуки. Я вздрогнул и проснулся. В матрасе скрипели ржавые пружины, а рубашка взмокла от пота.
Некоторое время я не мог вспомнить, что происходило накануне, но постепенно память вернулась ко мне. Макс Абердам восстал из мертвых и потащил меня в ресторан Раппопорта, потом к Приве, к Ирке Шмелкес и ее сыну, а затем к этой молодой девушке — как ее звали? Мне представилась она, стоящая передо мной, но я не мог вспомнить ее имя — ах, да, Мириам.
Было уже поздно, когда я поднялся. За окном сияло солнце, и участок Гудзона, который можно было увидеть в окно, сверкал, как пылающее зеркало. Воздух пах деревьями, травой, цветами. Ванная в холле не была занята, и я принял душ и побрился, потом надел свежую рубашку. Теперь можно было пойти в кафетерий, чтобы позавтракать. Телефон зазвонил как раз в тот момент, когда я спустился на первый этаж. Я поднял трубку, и на другом конце молодой голос спросил по-английски:
— Можно поговорить с мистером Грейдингером?
— Говорите, — сказал я.
После некоторой паузы голос сказал:
— Надеюсь, я не разбудила вас. Это Мириам, помните меня?
— Вы меня не разбудили. Да, Мириам. Хорошо, что вы позвонили.
Как правило, я говорю по телефону тихо, но на этот раз я почти кричал. Потом она сказала:
— Наверное, Макс объяснил Вам, что я бэбиситтер. Кстати, как бы вы сказали бэбиситтпер на идише? Мать ребенка, за которым я присматриваю, живет на Парк-авеню. Она американка, а не одна из наших беженок. Я рассказывала вам вчера вечером о диссертации, которую я пишу о вас. Мне пришло в голову, что, может быть, вы могли бы встретиться со мной, так как у меня очень много вопросов к вам. Я понимаю, что это с моей стороны самонадеянно, и, если у вас не окажется времени или терпения для меня сегодня, я не обижусь.
— У меня есть и то и другое — время и терпение.
— Вы уже завтракали?
— Нет. Я как раз направлялся в кафетерий.
— Могу я встретиться с вами в кафетерии? Я не знаю, говорил ли вам Макс, что я вожу машину.
— Автомобиль?
— Да. Я стала настоящей американкой. Это старая машина, но она на ходу. Что это за кафетерий? Где он?
— Бродвейский кафетерий.
И я дал Мириам адрес.
— Я доберусь туда за пять минут. Автомобиль у меня припаркован на улице, не в гараже. Когда вы дойдете до кафетерия, я уже буду там.
— А где Макс?
— Макс будет занят весь день. У него сегодня ленч с Иркой Шмелкес. Мы с ним долго говорили о вас прошлой ночью. То, что я люблю вас, неудивительно, но Макс признался вчера, что вы ему как сын. Я сказала ему, что позвоню вам сегодня утром. Ах, у меня накопилось так много, чтобы рассказать вам, и я даже не знаю, как начать. До свидания!
Мириам повесила трубку,Я некоторое время стоял у телефона, будто ожидая, что он снова зазвонит. Потом быстро взбежал на три марша лестницы к своей комнате. Там я переоделся в новый легкий летний костюм, который купил недавно. В течение своей жизни я несколько раз действительно любил, и бывали у меня другие отношения, которые можно было бы назвать любовью только наполовину. Однако сегодня утром меня охватило такое возбуждение, какого я не чувствовал уже много лет. «Может быть, это настоящая любовь? — спрашивал я себя. — Или это просто жажда нового приключения?»
«Бродвейский кафетерий» находился примерно в девяти кварталах, ближе к Восьмидесятой, чем к Семидесятой-стрит.Я предпочитал это место потому, что столы там были деревянными и кресла более комфортабельными, более хаймишь[55], чем где-либо. Там был европейский дух, и часто говорили на идише, а иногда и по-польски. Мне не хотелось входить в кафетерий задыхающимся и взмокшим. Моралист и прагматик, живущие во мне, предупреждали, что я могу погрузиться в трясину таких сложностей, из которых никогда не выбраться. В ушах у меня звучал голос матери, говорившей: «Эта твоя Мириам не лучше, чем обыкновенная шлюха, а Макс Абердам беспорядочный распутник, сумасшедший развратник». Я слышал отца (сколько раз я это слышал?): «Когда-нибудь ты откажешься от того, что ты делаешь, и будешь питать к этому глубокое отвращение!»
Было время, когда я мысленно отвечал родителям, спорил с ними — но не сейчас. Я подошел к кафетерию в тот самый момент, когда подъехала машина и из нее выпрыгнула Мириам, гибкая, с личиком как у школьницы. В белом платье она была восхитительна. Она улыбнулась мне и помахала рукой. Как она ухитрилась за такой короткий срок обрезать волосы, сделав мальчишескую прическу? Она показалась мне выше, стройнее и более элегантной, чем накануне вечером. У нее была белая сумочка и белые перчатки. Мириам одарила меня шаловливой улыбкой бывалой женщины, взяла за руку, и мы вошли в кафетерий так торопливо, что на какой-то момент прильнули друг к другу во вращающейся двери. Наши колени соприкоснулись. Нас обоих развеселило наше нетерпение. Я вытянул два чека из автомата около двери, и автомат дважды звякнул. Я заметил свободный столик у окна, выходящего на улицу, и сразу же занял его.
Мириам уверяла меня, что она не голодна и не хочет ничего, кроме чашки кофе. Однако, идя к прилавку, я решил принести завтрак на двоих. Хотя на улице я часто испытывал растерянность, в кафетерии мне все было известно — где лежат подносы, ложки, вилки, бумажные салфетки и так далее. Я знал, где раздача блюд, а где кофе. Когда я вернулся к нашему столику с яичницей, булочками, маслом, овсянкой, мармеладом и кофе, Мириам опять сказала, что уже ела, но тем не менее отведала яичницу, съела несколько ложек каши и отщипнула булочку.
Мы сидели за столиком, как двое беженцев, но жертвой Гитлера была только Мириам. Она смотрела в лицо бесчисленным опасностям, пока не очутилась под небом этой благословенной страны, где еврейская девушка может водить машину, снимать квартиру, учиться в колледже и даже писать диссертацию о малоизвестном еврейском писателе. Я наслаждался первой стадией любовного приключения, началом, когда будущие любовники еще не овладели друг другом, когда все, чем они пока обменивались, было просто благожелательностью, неиспорченной требованиями, обвинениями, ревностью.
Вскоре Мириам Залкинд (она сказала, что такова была ее девичья фамилия) призналась мне в своих секретах. Ее мать в тридцатые годы была в Варшаве коммунисткой — из тех, кого прозвали «салонными коммунистами» — и жертвовала деньги на помощь политзаключенным. У нее была любовная связь с коммунистическим «функционером», как их называли. Отец Мириам был членом Народной партии, но, когда эта партия потерпела поражение, он примкнул к сионистской партии «Поалай Цион»[56] (одновременно к правым и к левым) и поддерживал создание школ с преподаванием на идише. Брат Мириам, Моня, стал ревизионистом[57]; он принадлежал к фракции Жаботинского и агитировал за прекращение британского мандата Лиги Наций на управление Палестиной, даже если для этого потребовался бы террор. Московские процессы, антисемитизм Сталина и его пакт с Гитлером отвратили мать Мириам от коммунизма. Когда Фаня, мать Мириам, удрала в Палестину с каким-то актером, отец Мириам, Моррис, привел поэтессу, которую звали Линда Мак Брайд. Мириам сказала:
— Она такая же Мак Брайд, как я турчанка. Ее настоящее имя Бейла Кнепл, она еврейка из Галиции. Ее первый муж был нееврей, и она взяла его фамилию. Я попыталась однажды читать ее стихи, но они вызывают смех. Она хочет быть современной и футуристкой. Кроме того, она пишет картины, и ее картины похожи на ее поэзию — мазня. Как мой отец смог воспылать любовью к такой йенте[58], я никогда не пойму.
— Как вы понимаете, я не моралистка. У меня были мужчины в Польше, и здесь тоже, и я всегда питала иллюзии, что люблю каждого из них или, по крайней мере, что он любит меня. То, что произошло с нашей семьей, это своего рода самоубийство. Вместо того чтобы покончить с собой в России или в концлагерях, многие беженцы принялись убивать себя здесь, в Америке, когда стали богатыми, сытыми, оказались в безопасности. Дня не проходит, чтобы не услышать о смерти кого-нибудь из друзей. Вы верите, что это случайное стечение обстоятельств?
— Я не знаю, чему верить. Существует такая вещь, как желание смерти.
— У меня это тоже есть, — сказала Мириам. — Я учусь, читаю, вдохновляюсь вами и другими, мечтаю о счастье, путешествиях, о том, чтобы иметь ребенка, — а потом начинаю уставать от этой отвратительной игры и хочу покончить со всем. У Макса это желание даже сильнее, чем у меня. Он вечно говорит о смерти. Он хочет обеспечить всех беженцев, особенно меня. Каждые несколько недель он меняет завещание. Он достаточно оптимистичен, чтобы считать, что фортуна от него не отвернется, но я уверена, что рано или поздно он все потеряет. Он, вероятно, говорил вам, что у меня есть муж, Стенли Барделес. Это маньяк, графоман, упертый писака безо всякого таланта. Он отказывается дать мне развод и создает всякого рода трудности. Макс убедил себя, что я беспомощная маленькая девочка, ребенок, но на самом деле у меня часто бывает чувство, что я старая, очень старая.
— Сколько у вас было мужчин? — спросил я, тут же пожалев о своей бестактности.
В глазах Мириам заиграла усмешка.
— Почему вы спрашиваете?
— Я не знаю. Глупое любопытство.
— Много было.
— Двадцать?
— По меньшей мере.
— Почему вы это делаете?
— Возможно, из-за желания смерти. У моей учительницы был брат, который стал моим любовником в Варшаве. Он погиб в Варшавском восстании в сорок четвертом. Когда ты лежишь в дыре много месяцев и едва можешь размять ноги — и твоя жизнь в опасности, — каждая встреча с кем-то из мира живущих становится захватывающим событием. Это было частью цены, которую я платила за мое желание жить. Когда я наконец вышла на свободу и увидела город в развалинах и могилах, я почувствовала, будто произошло какое-то чудо, будто я встала из могилы. У вас есть похожий рассказ — как он называется?
— «В мире Хаоса».
— Да, я читала его. У всех беженцев есть, что рассказать, и некоторые из них прожили жизнь, которая хуже смерти. Мы пробирались в Германию. Дороги кишели самыми разными убийцами — грабителями, фашистами, фанатиками всех видов. Мы проводили ночи в хлевах, конюшнях, в хранилищах картофеля. Иногда мне приходилось спать рядом с мужчинами, которые могли полезть на меня, не говоря ни единого слова. Не было никакого смысла устраивать скандал. Я уверена, что вы находите меня отталкивающей из-за того, что я теперь рассказываю. Однако раз уж вы спросили, я решила ответить.
— Я не имел права спрашивать. И отталкивающими я нахожу убийц, а не их жертвы.
— Агенты из Израиля, члены организации Бриха[59], приходили, чтобы помочь нам. Они тоже были мужчинами, а не ангелами. Что есть у женщины в таких обстоятельствах? Ничего, кроме ее тела. Когда мы добрались до Германии, нас опять упрятали в лагерь в ожидании виз в Америку или в Палестину. Мой отец стал контрабандистом и добился некоторого успеха, но мы все еще были заключенными. Я стала совершенно циничной и начала сомневаться, что где-либо существуют любовь и верность. В Америке я встретила Стенли Барделеса, который показался мне приятным. Я убеждала себя, что нашла настоящую любовь, и слишком поздно поняла, что он дурак. Боже мой, уже без четверти одиннадцать! Вы все еще готовы поехать со мной на Парк-авеню?
— Да, если вам это будет приятно.
— Если мне будет приятно? Каждая минута с вами для меня радость.
— Почему вы так говорите?
— Потому, что вы и Макс — братья, и я хочу быть женой для вас обоих. О, вы покраснели! Вы и вправду еще дитя.
Я сел рядом с Мириам и любовался, как она управляет машиной, куря сигарету. Она сказала:
— Я хочу, чтобы вы знали, что в моем первом гилгул[60] я жила в Тибете, где женщина может быть замужем одновременно за двумя или тремя братьями. А почему бы не здесь? Прежде всего, я люблю и вас, и Макса. Во- вторых, Макс хочет найти мне мужа. Я часто задаюсь вопросом: «Почему мужчинам разрешается все, а нам, женщинам, — ничего?» На днях Макс спросил меня, кого я предпочла бы в качестве моего будущего мужа или любовника — и я ответила немедленно, Аарона Грейдингера. Надеюсь, вы не считаете оскорбительным быть вторым номером. Но Макс старше вас. Он мой первый, и так будет всегда.
— Мириам, мне доставило бы наслаждение быть вторым номером.
— Вы это серьезно?
— Совершенно.
Мириам протянула мне правую руку, и я взял ее. Наши руки были влажными и дрожали, и я ухитрился нащупать ее пульс, который оказался ускоренным и сильным. Она ехала теперь по Медисон-авеню, и я спросил ее почему, ведь нашей целью была Парк-авеню. Мириам ответила:
— Я не могу пригласить вас наверх, пока мать ребенка дома. Как видите, я все распланировала. Вот здесь я записала номер телефона. Подождите десять минут и потом позвоните. Мать ребенка всегда уходит сразу, как только я появляюсь. Она тоже влюблена, по-своему.
Мириам остановила машину, и я вышел. Она дала мне клочок бумаги и сказала:
— Посмотрите на часы и позвоните мне через десять минут. — И прежде, чем я смог произнести хоть слово, отъехала.
«Где этот клочок бумаги, который мне только что дала Мириам?» Так происходило всегда — как только фортуна мне улыбалась, сразу же начинали свои шутки демоны и бесенята. Внезапно я осознал, что сжимаю клочок бумаги в левой руке. «Чего я так волнуюсь?» — спросил я себя. И опять услышал голос отца: «Развратник!»
Десять минут прошли, я нашел телефон и набрал номер. Мириам ответила сразу же.
— Она ушла, — сказала Мириам. — Поднимайтесь наверх!
Я был уверен, что Парк-авеню справа от меня, но вместо нее оказался на Пятой авеню. Я повернул обратно. Почему так получается, что я всегда выбираю неправильный путь? Тем не менее, я добрался до нужного дома — огромного здания, очевидно, для богатых. Привратник был разодет, как генерал, включая золотые пуговицы и эполеты. Он взглянул на меня с сомнением и подозрением. В лифте были диванчик и зеркало, и лифтер дождался, пока Мириам откроет дверь. Я вошел в квартиру, которая выглядела, как дворец. Мириам взяла меня за руку и повела словно по музею с восточными диванами, стенами, обитыми богатыми гобеленами, комнатами с большими висячими лампами и резными потолками. Она спокойно открыла дверь, ведущую в детскую комнату, в беспорядке заваленную дорогими игрушками. В кроватке спал бледный мальчик с рыжими волосами. Рядом я заметил бутылочку и термометр. В моей голове пронеслось: «Он мог бы быть моим сыном».
Как будто прочитав мои мысли, Мириам сказала:
— Диди похож на вас.
— Что навело вас на эту мысль? — спросил я, пораженный ее телепатией.
— На вашей голове еще осталось несколько рыжих волос. Волосы его матери — ярко-рыжие. Она лесбиянка, живет здесь со своей любовницей отдельно от мужа. Обе из достаточно богатых, известных в Бруклине еврейских семей. Такую страсть мне никогда не понять. Я однажды видела ее мужа. Высокий, красивый как картинка, имеет докторскую степень Гарвардского университета. Зачем она вышла замуж и завела ребенка, если предпочитает кого-то своего пола? По некоторым причинам она мне доверяет и полагается на меня. Ах, все это так трагично и, одновременно, так смешно. Я знаю и другую — страшна как смертный грех и говорит басом.
Гостиная представляла из себя смесь старины и современности: рояль, отделанный золотом, и картины современных художников, которых я не знал. Мириам объяснила:
— А это не книжные полки, а бар. — То, что казалось томами (в шикарных переплетах с золотым обрезом) Шекспира, Милтона, Диккенса и Мопассана, на самом деле было дверцей шкафа, содержавшего бутылки вина, виски, шампанского и более дюжины разных ликеров. Мириам сказала:
— Если хотите выпить и забыть ваши заботы, можете это сделать.
— Нет, спасибо, не сейчас.
— Макс был здесь несколько раз. Он пьет как лошадь. Может разом опрокинуть бутылку коньяка и не пьянеет, только становится веселым. Хозяйка дала мне полную свободу в этой квартире: я могу здесь есть, пить, принимать гостей. Она изливает мне душу. Что это за безумие, которое охватило ее? Когда я вспоминаю время, проведенное в темной дыре в доме моей учительницы, оно кажется мне похожим на фантазию. А сейчас у меня есть — по крайней мере, временно — все, чего я хочу. Но почему-то я не счастлива.
— Почему? — спросил я.
— Скажите мне вы. Возможно, я прошу слишком многого. Существует такая вещь, как счастье?
— А чего именно вам не хватает?
— Если бы я знала. Сейчас поездка Макса в Польшу окончательно определилась, он просит меня поехать с ним, но мысль о том, чтобы вновь оказаться там, ходить среди могил, вызывает во мне дрожь. Однако он для меня отец, любовник, муж — все, что у меня есть на земле. С тех пор, как моя мать ушла с этим обманщиком, я утратила все чувства к ней. Я знаю теперь, какова она: скверная женщина, которая не может любить никого, кроме самой себя. Отец сделан из того же теста. Вы, конечно, думаете, что яблочко недалеко катится от яблони. И вы правы. Как я могу быть другой, если я их дочь? Я прекрасно понимаю, что вы обо мне думаете.
— Нет, не понимаете.
— Я все понимаю. Я люблю Макса, но если у него есть другие женщины и если он поддается всем своим безумствам, то почему бы и мне не делать того же самого? Он убеждает меня найти другого мужа и даже как-то сам предлагал его найти. Или он чувствует себя виноватым, или хочет отделаться от меня? Может быть, вы поймете все лучше, чем я.
— Как я могу понять? Я знаю вас меньше суток. Вчера в это время я не подозревал о вашем существовании. Я даже думал, что Макс мертв.
— Вы правы. Вы, может, знаете меня меньше суток, но я знала вас пять лет. Был ли когда-нибудь написан роман о женщине, которая знает мужчину пять лет, тогда как он знает ее только один день? Герой мог бы быть писателем, похожим на вас, а героиня кем-то вроде меня.
— Он мог бы быть и актером, — сказал я.
— Верно, но я никогда не могла бы полюбить актера, который повторяет, как попугай, чужие слова. Я могу любить только человека, который говорит собственные слова, пусть они даже будут лживыми или безумными. Правда состоит в том, что мы с вами одного поля ягоды.
— И вы даже не хотите иметь детей.
— Я хочу тебя, — сказала Мириам.
Мы обнялись и смотрели друг на друга, крепко прижавшись. Наши глаза, казалось, спрашивали: «Ты готов?» Однако вопрос остался без ответа, потому что начал громко звонить телефон. Он разбудил Диди, и мы услышали его плач.
— Погоди! — воскликнула Мириам и оторвалась от меня.
Это была ее хозяйка, объяснившая, что она неожиданно возвращается. Я, конечно, понял, что мне следует уйти. Мириам пошла в комнату Диди, успокоила его и вышла, чтобы поцеловать меня на прощание. Ожидая лифта в холле, я обернулся; Мириам с опечаленным видом стояла в дверях. Мы, не отрываясь, смотрели друг на друга, пораженные страстным желанием.
Глава 5
На следующее утро в редакции газеты меня позвали к телефону, и когда я взял трубку, голос, говоривший на польском идише, сказал:
— Вы писатель Аарон Грейдингер?
— Да; можно спросить, кто говорит?
— Хаим Джоел Трейбитчер.
Я знал, что это друг Макса и также дядя Хэрри Трейбитчера, его доверенного брокера на бирже.
— Недавно мне прислали ваш роман, — продолжал он, — и я прочитал его от корки до корки. Как писатель помнит такие вещи? В вашей книге есть такие слова и выражения, каких я не слышал с тех пор, как умерла моя бабушка Тиртза-Мейта, мир праху ее.
Мне хотелось сказать ему, какая неожиданная честь для меня слышать его, но я был не в состоянии прервать поток его слов. Он говорил так громко, что я держал трубку на некотором расстоянии от уха. Его речь содержала певучие интонации Бет Мидраш[61], хасидского штибл, и маклеров черного рынка, торгующих акциями, но с оттенком германизированного идиша, на котором разговаривали в залах сионистских конгрессов.
— Как вы все это помните? — продолжал он. — Вы убедили Ангела Забвения Пуру не оказывать на вас влияния? Вы в самом деле напеваете «армимас, рмимас, мимас, имас, мае» при окончании Субботы после Хавдала[62]? И вы никогда мальчиком не выпивали воду, которую ваша мать — да покоится она в мире — оставляла после замешивания теста? И никогда не съедали сухожилия, не позаботившись прежде связать рукава рубашки с арба канфес[63]?
— У вас самого совершенная память, — удалось мне вклиниться.
— Что такое человек без памяти? Ничем не лучше коровы. Гемара говорит нам: «Ты должен наблюдать и ты должен запомнить то, что приходит с небес». Сейчас дело в следующем: мой добрый друг, известный в этих местах как Макс Абердам, и моя жена, Матильда, решили вместе лететь в Польшу.
Позвольте мне быть кратким. Мы устраиваем в честь них что-то вроде «парти», междусобойчик или прощальную вечеринку, как вам больше нравится. И так как мне известно, что вы и Макс были друзьями в Варшаве и только недавно возобновили вашу дружбу, мы приглашаем вас к нам на ужин. Не бойтесь, мясо в моем доме glatt[64] кошерное — лемехадрин мин хамехадрин[65] — пригодное даже для самых ортодоксальных. Вы не обязаны писать об этом в вашей газете, хотя немного рекламы никогда не повредит. Америка, кроме всего прочего, живет на паблисити. Я живу на Вест-Энд-авеню, недалеко от вас.
— Как вы узнали о моей дружбе с Максом Абердамом? — спросил я.
— Я уже говорил с Максом, и он обещал привести свою прелестную жену, Приву, и, возможно, еще его секретаршу, Мириам. Нас будет немного, всего один стол. Будьте так добры, запишите дату и мой адрес…
Я поблагодарил Хаима Джоела Трейбитчера и сказал ему, что знаю, как много он сделал для еврейского искусства, в том числе на идише и иврите. И он ответил в присущей ему манере:
— Эйше бешейше полевине. Это не стоит щепотки пороха…
То, что такой выдающийся человек решил пригласить меня в свой дом, было знаком того, что мои акции повышаются. Однако я всегда избегал обедов, банкетов и приемов, поскольку у меня не было соответствующего костюма. В течение всех лет моей жизни в Америке я старался не бывать в многолюдных компаниях. «Не имей никаких дел с людьми», — ворчал во мне мизантроп. Даже единственная встреча с Максом Абердамом втравила меня в бесчисленные сложности. Моя прежняя застенчивость возвратилась ко мне, застенчивость, которая никогда полностью не покидала меня. Матильда была снобом, и для ее приема, вероятно, требовался смокинг с накрахмаленной рубашкой и черным галстуком. Я позвонил Максу домой, но никто не отвечал. Я позвонил Мириам, которая также была приглашена. Она сказала:
— Какой в этом смысл? У меня нет ни подходящего платья, ни туфель, ни терпения. Ты, конечно, знаешь, что Матильда больше тридцати лет была любовницей Макса?
— Такие слухи ходили в Варшаве.
— Все это знают. Это секрет Полишинеля. Пожалуй, я не пойду на их прием. Матильде нравится разыгрывать из себя знатную даму. Я буду чувствовать себя, как рыба, вынутая из воды. — Потом Мириам спросила: — Что ты сейчас делаешь?
— Совсем ничего.
— Приезжай!
— Когда?
— Сейчас, сию минуту.
Да, мы уже обращались друг к другу на «ты», но не пошли дальше поцелуев. Я был предупрежден писаниями Отто Вейнингера[66] об опасности попадания в сети женщины. Женщина — существо без этики, без памяти или логики, побудитель сексуального, утверждение материального, отрицание духовного. Тем не менее я сказал:
— Я еду.
— Когда? Возьми такси. Не заставляй меня ждать. Ты нужен мне сейчас больше, чем когда-либо, — сказала Мириам.
— Ты мне тоже.
Меня удивляло, почему Макс позволял развиваться нашим отношениям. Отто Вейнингер называет женщину совратительницей, но в нашем случае истинным совратителем был Макс. У ревности есть противоположность — «спаривание», как называет это Отто Вейнингер. Желание поделиться партнером, стремление к сексуальной общности. Я замечал это и в мужчинах, и в женщинах, и, в особенности, среди членов варшавского Клуба Писателей. На самом деле, я впервые открыл этот феномен в Пятикнижии, еще когда учился в хедере[67]: Рахиль отдала свою служанку Бильху в наложницы своему мужу Иакову, а другая его жена Лия отдала ему же свою рабыню Зильпу. Все странности современного человека пустили корни еще на заре цивилизации. В трубке я слышал Мириам, приказывающую мне: «Возьми такси!» Она почти выкрикнула эти слова. В них была нетерпеливая настойчивость, которой невозможно было противиться.
Обычно мне не удавалось остановить такси, но одно я нашел. «Попадал ли кто-нибудь в столь затруднительное положение? — спрашивал я себя в такси. — Написан кем-нибудь роман о человеке, подобном мне, об увлечениях и запутанных положениях, подобных моим?» По сравнению с моим положением художественные произведения, которые я читал, казались упрощенными и лишенными сложностей. Насколько я мог судить, никто в этих книгах не был столь нищим, как я, разве что герой книги Кнута Гамсуна «Голод». Но он не был непосредственно вовлечен в любовные дела, он только фантазировал. Такси остановилось, и я расплатился. Когда машина отъехала, я понял, что дал водителю пятерку вместо доллара. При всей моей бедности я был осужден вечно терять деньги.
Я поднялся на лифте на четырнадцатый этаж. Едва я протянул руку, чтобы позвонить, дверь открылась. Мириам, по-видимому, стояла там, ожидая меня. Мы обнялись без слов. Мои костлявые колени уперлись в ее ноги, заталкивая ее в квартиру. Позади нас, очевидно порывом ветра, захлопнулась дверь. Мы не теряли времени на опасения и сомнения. Мы упали на кровать. На Мириам был только халат на голое тело. Мы отдавались друг другу молча, кусая губы партнера со всей силой страсти. Наступили сумерки, а мы все еще боролись, стараясь вырвать из наших тел последние судороги наслаждения. Мысленно я умолял телефон не звонить, и он молчал. Достаточно странно, но в тот момент, когда мы сели, телефон бешено зазвонил, как будто не в силах больше сдерживаться.
Я услышал Мириам, сказавшую: «Хелло, Макс» и удалился в ванную. Мне не хотелось подслушивать их разговор. Я не зажег свет и в зеркале, отражавшем свет сияющего нью-йоркского неба, увидел призрачный силуэт, небритый, нечесаный. Я был таким же возбужденным, каким, вероятно, был Исав, когда он возвратился с охоты, утомленный, готовый умереть, согласный продать свое право первородства за чечевичную похлебку[68]. Я предал всех своих прежних возлюбленных, изменил себе, изменил тем силам, которые предупреждали меня, что я могу запутаться в сетях, из которых никогда не выберусь.
Дверь ванной открылась, и в ванную проскользнула Мириам, полуодетая, в чулках без туфель. Я вновь обнял ее, и мы молча стояли в темноте. В блеске ее глаз я распознал то чувство удовлетворения, которое овладевает влюбленными, когда они осознают fait accompli.[68]
Наконец я заговорил:
— Ты сказала Максу, что я здесь?
— Нет.
— Слава Богу, — пробормотал я про себя.
Не зажигая света, мы вернулись в спальню.
Мне вспомнилась часто повторяемая поговорка «Ночь создана для любви», которая выражает мудрую правду. Мужчины и женщины все еще не утратили стыда, упоминающегося в Книге Бытия, и их соприкосновения служат им лучше, чем глаза. Мы лежали в постели на небольшом расстоянии друг от друга, как бы оставляя пространство для мыслей каждого. Я осознал, что не могу сейчас вспомнить точно, как выглядит Мириам. По правде говоря, мы все еще оставались незнакомцами, как наши набожные деды и бабки, когда они соединялись в затемненной йихуд-штибл[70], куда их посылали после мицва-данс[71]. Я спросил:
— Макс знает, что мы с тобой завтракали и обсуждали твою диссертацию?
— Да, я рассказала ему.
— Где он?
— У Трейбитчеров. Он ужинает с ними.
— О чем вы с Максом так долго говорили? — спросил я, не зная, имею ли право спрашивать.
Мириам не отвечала. Я начал сомневаться, услышала ли она мой вопрос, но потом она тихо сказала:
— Макс и Матильда намерены остаться в Польше дольше, чем первоначально планировали. Потом они собираются попутешествовать по Европе. Им хотелось бы, чтобы мы присоединились к ним в Швейцарии.
— Какой в этом смысл? — спросил я.
— Нет смысла, никакого смысла.
Последние слова Мириам пробормотала наполовину во сне. Я хотел задать еще вопрос, но она уже крепко спала. Я забыл, как быстро засыпают молодые. Некоторое время я лежал тихо. Счастлив я, спрашивал я себя, или несчастлив? Вопрос оставался без ответа. В полудреме я размышлял: нам не надо скрывать от Макса то, что произошло сегодня. Мы не обманывали его, потому что он сам свел нас. Мириам любит его. Даже в разгаре страстных объятий она говорила о своей любви к нему. Когда я заверял ее, что никогда не буду ревновать к этой любви, я знал, что мои слова не были пустыми. Мы молча заключили между собой соглашение.
Я погрузился в глубокий сон, сон без сновидений. Когда я открыл глаза и в изумлении стал вглядываться в темноту, то поначалу не мог вспомнить: где я, кто я, что я делаю. На минуту мне показалось, что я опять в Польше. Я протянул руку и потрогал волосы, горло, груди. Это Лена? Сабина? Джина? Но Джина мертва. Вдруг все вернулось ко мне, и в этот момент Мириам проснулась и спросила:
— Макс?
— Нет, это я.
— Иди сюда!
И мы прильнули друг к другу в новом порыве страсти.
Мы с Мириам сказали Максу, что решили не ходить на вечер к Хаиму Джоелу Трейбитчеру, но он упорно настаивал, что нам следует пойти.
— Какой смысл прятаться, как червячок в хрене? — умолял он меня. — Даже тот, кто «ищет убежища между сосудами», должен рано или поздно высунуть свой нос. Если ты хочешь быть писателем, тебе надо общаться с людьми. Ты не юноша и не начинающий. Пушкин и Лермонтов в твоем возрасте были уже всемирно известны. Сколько еще ты будешь продолжать сидеть, опустив голову, как козел в капустном поле?
А Мириам он сказал:
— Если ты, Мириам, не возьмешь его за руку и не сделаешь из него мужчину, он навсегда останется нищим голодранцем, и вы оба можете положить зубы на полку и приготовиться сдохнуть от голода.
Он разговаривал с ней так, словно был отцом невесты, а не ее любовником. Один его глаз смотрел пристально и сурово, а другой подмигивал.
— Я не буду вечно твоей нянькой, — сказал он. — Поскольку у меня отобрали моих детей, теперь мои дети вы. Если ты, Аарон, раздаешь советы направо и налево, ты не можешь оставаться шлимазлом[72]. Если со мной что-нибудь случится, вы оба останетесь без поддержки.
— Макс, что с тобой? — спросила Мириам.
— Я не спятил. Я знаю, что говорю.
— Ты будешь жить до ста двадцати.
— Может быть, да, может быть, нет. Я не могу дать вам гарантии.
— Макс, не езди в Польшу.
— Успокойся, Коза!
«Коза» было одним из Максовых прозвищ Мириам. Он дал ей семь прозвищ — или, как он их называл, «имен Иофора»[73] — Крошечная, Крошка, Ведьма, Панна Марианна, Маленькая телиша[74], Етл-Бетл и Коза. Он слышал, что в Варшаве у меня было прозвище Цуцик[75], и поэтому сразу применил его здесь. А еще добавил Осел, Писака и Катва раба[76]. Мириам звала меня Ареле, Иешива-книжник и Баттерфляй[77]. Я, со своей стороны, стал называть Мириам так, как меня называла моя мать, Ойтцерл, то есть «Маленькое сокровище» или «Золотце». В тот вечер Макс пригласил нас в ресторан на Семьдесят пятой- стрит. Я с тревогой наблюдал, как он курит одну сигару за другой. Он заказал бифштекс и два вида водки. Мириам уже не в первый раз напомнила, что доктор запретил ему курить больше двух сигар в день. Ему также было предписано соблюдать диету и не пить больше одного коктейля. Но Макс воскликнул:
— Не сегодня, дорогая, не сегодня! — и достав из нагрудного кармана маленькую коробочку, сунул в рот белую пилюлю.
Пока мы сидели за столом, Макс поведал нам некоторые детали жизни Хаима Джоела Трейбитчера. Он был богатым человеком. Его деловая империя в Америке продолжила ту, что была в Европе. Он спал ровно четыре часа ночью и три четверти часа в течение дня — ни минуты больше или меньше. Едва ли хоть одна ночь проходила без того, чтобы его не осенила какая-нибудь новая схема увеличения богатства. В тридцатые годы в Америке Трейбитчер скупал дома и фабрики, акции и ценные бумаги, и с тех пор все это росло в цене. В Майами-Бич он приобрел участки земли, которые теперь стоили целое состояние. Задолго до того, как Израиль стал еврейским государством, он покупал участки и дома в Иерусалиме, Хайфе, Тель-Авиве. Все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Его жена, Матильда, тоже имела немалое состояние. Его племянник Хэрри, который был брокером Макса на фондовой бирже, родился в Нью-Йорке.
Недавно Хаим Джоел Трейбитчер запустил новый проект — серию переводов на ряд европейских языков лучших произведений, написанных на идише и иврите. Он также планирует издавать журнал и академический идиш-ивритский словарь. Макс так расхваливал Матильде Мириам, что та несколько раз просила его привести девушку в ее дом. Трейбитчеры стремились помогать одаренным беженцам развивать их таланты. Они были бы рады субсидировать обучение Мириам, чтобы она смогла закончить диссертацию о моей работе. Макс настаивал, чтобы мы оба пообещали прийти на прием — естественно, не вместе. Он, Макс, придет со своей женой, Привой. Однако мы оба ничего не сказали.
После ужина Мириам попросила Макса вернуться в ее квартиру. Но Макс ответил:
— Не сегодня, милочка, не сегодня.
А мне он сказал:
— Пойди с ней. Мужчине в моем возрасте следует иметь заместителя. К тому же я обещал Приве рано вернуться. Аарон, как тебе удается остаться неженатым?
— Никто не хочет меня, — ответил я.
— Она тебя хочет, — и Макс показал на Мириам.
— Я хочу вас обоих. Вот в чем правда, — сказала Мириам.
— Ты бесстыжая девчонка!
— Что хорошо для гусака, то хорошо и для гусыни.
— Ты мужняя жена.
— Прежде всего Стенли не мужчина, а голем[78]. Во-вторых, мы регистрировались в ратуше, а не у раввина.
— Итак, мы еще имеем школяра в придачу, а? Если бы наши предки могли тебя услышать, они бы разорвали на себе похоронные одежды и сидели бы в шиве[79] не семь дней, а семь лет.
— И чего бы они этим добились? — спросила Мириам.
— Поскольку Всемогущий хранит молчание целую вечность и еще в среду, как можем мы что-нибудь знать? — спросил Макс. — Он хочет, чтобы мы искали правду, а мы подобны слепым лошадям, которые заблудились среди темных канав. Иногда, Мириам, я называю тебя коровой. Но настоящая уродина моя жена, Прива. Она сидит за столом для спиритических сеансов, зажигает красный свет и вызывает всяких духов, будто Эндорская колдунья[80] — Спинозу, Карла Маркса, Иисуса, Будду, Бал Шем Това[81]. Она приказывает им прийти, и они приходят и приносят послания с того света.
Когда мы вышли из ресторана, Макс пробормотал:
— Мне нужна эта поездка в Польшу, как дырка в голове. Дайте мне слово, вы оба, что придете на прием. — Макс взял наши руки в свои; его рука была необычно теплой. Он сказал: — Ареле, не будь дурнем. Ты можешь выйти в победители, как они здесь говорят. Такси! — Такси остановилось, и Макс обернулся к нам: — Увидимся на «парти»!
Мы с Мириам решили ничего не говорить Максу о нашей связи. Возможно, он уже понял и не нуждался ни в каких признаниях. Если он не знал или не был уверен, зачем расстраивать его перед путешествием? Мы разговаривали о нем, как обычно дети говорят о своих родителях. Я сказал Мириам, что у нее комплекс отца (я не имел в виду Эдипов комплекс[82]), и она не отрицала этого. Просто огрызнулась:
— А у какой дочери этого нет? — и согласилась, что часто называла Макса «Тателе»[83].
До сих пор я был уверен, что не смогу любить женщину, зная, что она любит другого. Теперь я осознал, что на самом деле это часто случалось и раньше. Я любил женщин, у которых были мужья. Я любил их ради них самих и никогда не завидовал их мужьям. Более того, я использовал любую возможность, чтобы напомнить женщине, что ее муж всегда должен быть для нее важнее меня. Интересно, было ли мое отношение к мужу чисто прагматическим или за ним скрывалась своеобразная этика. В те годы я верил, что сексуальное пробуждение последнего времени приведет к неофициальным, но допускаемым (обществом) многоженству и многомужеству. Редко бывало, чтобы современный мужчина посвящал все годы своей жизни единственной женщине, так же как редкая женщина уступала только одному мужчине. Обществу приходится создавать нечто вроде сексуальной кооперации, вместо предшествовавших обманов и адьюльтеров. Мне часто казалось, что суть измены не в том факте, что двое мужчин делят одну женщину или две женщины — мужчину, а в той лжи, которую обе стороны вынуждены говорить, в коварных обманах, которые закон подсовывает тем, кто просто честен по отношению к своей природе, физическим и духовным потребностям. Впервые я любил женщину, которую я не хотел обманывать, так же как и она меня.
Как хорошо иметь дело с молодой женщиной, не чувствуя обязанности убеждать ее, что она есть и будет моей единственной любовью! Какое удовольствие знать, что у меня нет необходимости требовать от любимой того, чего я не был готов спросить с самого себя. В те дни, которые мы проводили вместе, обычно в квартире на Парк-авеню, где Мириам нянчила Диди, мы говорили об эскимосах, тибетцах и других народах, которые не видели смысла в сексуальном собственничестве. Я рассказывал Мириам о группах анархистов, о последователях Прудона[84], Штюрнера[85], мадам Коллонтай и Эммы Голдман[86], которые рассматривали свободную любовь как основу социальной справедливости и будущего человечества. Оставался единственный вопрос: что будет с детьми? Сам я не имел ни малейшего желания стать отцом. Но Мириам постоянно говорила о пробудившемся в ней желании иметь ребенка.
Я провел день перед приемом у Трейбитчеров в обществе Мириам и в первый раз собирался остаться на ночь в ее квартире. С того дня, как Макс познакомил нас, прошло две недели, но мне они показались необычайно длинными. В этот вечер, когда мы с Мириам вышли из кафетерия и шли по Бродвею, я почувствовал спокойствие, которое могла принести лишь настоящая любовь. У меня не было других желаний, кроме как быть с Мириам. Стояло лето, и мы с Мириам шли, держась за руки. На юном личике Мириам была какая-то задумчивость, которая пленяла меня самой сущностью жизни. Мы свернули с Бродвея к Централ-Парк-Вест по Сотой-стрит, которую прошли, будто во сне. Мы вошли в подъезд дома Мириам, и лифтер молча поднял нас наверх. Очутившись в полутемной квартире, окна которой смотрели на парк, мы легли, не раздеваясь, на широкую кровать, как будто прислушиваясь к тому, что переполняло наши сердца. Мириам прикоснулась губами к моему уху и прошептала:
— Это твой дом.
Я часто размышлял о животных и путях их любви. Мощные, как большинство созданий Господа, они не обнаруживали особой удали в половых отношениях. Я был свидетелем спаривания лошадей и коров, а также львов в зоопарке. Они делали то, что делали, и затем возвращались к своим обычным занятиям. Причина этого, говорил я себе, заключается в том, что животные лишены речи, в отличие от мужчин и женщин, для которых язык неотделим от желания. С помощью слов мужчины и женщины выражают свои страстные стремления, свои нужды, все, что уже происходит, и все, что еще может произойти.В ту ночь темой наших разговоров до объятий, после них и даже во время самих объятий был Макс. Мы обещали никогда не предавать его и поддерживать его детскую душу. У меня и раньше бывали бурные ночи, но, по-моему, в тот раз мы с Мириам превзошли себя. Мы легли рано, а когда позже, засыпая, я взглянул на светящийся циферблат своих часов, была половина третьего.
Я снова закрыл глаза, и мне показалось, будто Мириам прошептала мне несколько слов, но я не разобрал их смысла. Вдруг она испустила приглушенный вопль, Я тотчас проснулся, пронзенный смертельным ужасом. Кто-то копошился у наружной двери, пытаясь взломать ее. Мириам перекатилась, едва не упав с кровати. Вор или грабитель, или кто-то еще, ухитрился войти в квартиру. Внезапно в прихожей загорелся верхний свет, и я увидел молодого человека, невысокого и коренастого, с длинными волосами и черной бородой. На нем были розовая рубашка и грязные брюки. В правой руке он держал револьвер, а в левой небольшую сумку. Это напомнило мне сцену из второсортного фильма, хотя я понимал, что мой конец может быть близок. Я чуть успокоился, но потом снова насторожился, Мириам, совершенно голая, сделала движение, как будто собираясь ударить мужчину, но остановилась.
— Стенли! — воскликнула она.
— Да, это я, — сказал молодой человек. — Пожалуйста, постарайся не вопить и не делать глупостей.
Я сел в кровати, тоже голый, наблюдая эту сцену без страха, который должен бы был охватить меня, и даже с любопытством. Я знал, что Стенли был законным мужем Мириам. Она уже рассказывала о нем — о его сексуальных затруднениях, его слезливой сентиментальности.
— Кто это, твой новейший любовник? — и он показал револьвером на меня.
Мириам оглянулась вокруг, ища чего-нибудь, чтобы прикрыться. Но ночная рубашка лежала далеко от нее, а я не осмеливался подать ее ей. Она спросила:
— Чего ты хочешь?
— Тебя.
— Ты видишь, что у меня уже кое-кто есть.
— Покончила с Максом? — спросил Стенли.
— Нет, — ответила Мириам.
— Эй, ты, — Стенли повернулся ко мне. — Если хочешь прожить еще несколько лет, лучше проваливай отсюда. Иначе тебя вынесут.
Только теперь я заметил, что Стенли говорил с акцентом. Так, как будто переводил слова с другого языка. Был это идиш? Польский? Немецкий? Я спросил:
— Могу я одеться?
— Да. Бери свои тряпки и иди в ванную. Не вздумай звать помощь, иначе я…
— Минуту.
— Хватай свои вещи и убирайся. Быстро!
Я опустил ноги на пол, и они чуть не подогнулись подо мной. Колени ударились о радиатор. Пиджак, брюки и рубашка висели на стуле, который стоял между кроватью и ванной. Глаза как будто ослепли. Где я оставил туфли, носки, шляпу? Когда я схватил пиджак, мои очки для чтения, ключи и пачка лежавших в кармане банкнот упали на пол. Я двинулся к ванной, и тут Мириам спросила на идише:
— Ты что-то уронил? Я слышала, ключи стукнули об пол.
В ее голосе не было ни малейшей нотки страха.
Я ответил:
— Ничего сколько-нибудь важного.
— Вы говорите на идише? — спросил Стенли.
— Да, я из Польши.
— Из Польши, а? Подождите. Думаю, что я знаю, кто вы, — сказал Стенли. — Вы писатель, пишущий на идише. Я видел вашу фотографию. Как вас зовут?
Я сказал ему свое имя.
— Я вас знаю, знаю. Я читал вашу книгу. На английском, не на идише. — Он обернулся к Мириам. — Не двигайся! Стой на месте!
— Я стою, стою, ты, идиот!
— Мистер Стенли, — сказал я. — Мне известно ваше положение, и я могу понять ваши чувства. Но не надо направлять на нас оружие. Мы не пытаемся оказать никакого сопротивления. Я немолодой человек, мне скоро пятьдесят. Кроме того, мы все евреи, — я говорил, стыдясь собственных слов.
— Да? Вы, может быть, еврей, но она хуже, чем любая нацистка, — ответил Стенли. — Что вы за еврей, если водитесь с опустившейся потаскухой? — повысил голос Стенли.
— Стенли, не валяй дурака. Положи револьвер, — сказала Мириам.
— Я буду делать то, что мне нравится, а не то, что ты говоришь. Стой там, где стоишь, или сдохнешь. Что случилось с Максом? Ты с ним покончила?
— Нет, не покончила, — сказала Мириам.
— Я пришел, чтобы положить конец либо твоей вонючей жизни, либо своей, — сказал Стенли. — Я не стану убивать этого человека, — показывая на меня, — но ты, ты грязная б…дь, скоро ты будешь мертва. Мистер — как ваша фамилия? — Грейдингер, я думаю, вам следует знать, что вы связались с б…дью. Она была шлюхой еще в пятнадцать, она сама мне это рассказывала. В тридцать девятом году, когда ее родители уехали в Россию, она отказалась поехать с ними потому, что была любовницей сутенера. Позже он переправил ее на «арийскую» сторону и отдал в публичный дом, в бордель. Правда это или нет?
Мириам не ответила.
— Могу я воспользоваться ванной комнатой? — спросил я.
— Подождите. Пусть ответит на мой вопрос. Правда это или нет? Она сама мне это рассказывала. Отвечай, или тебе конец!
— Это неправда, — ответила Мириам.
— Ты сама мне это рассказывала, своим грязным ртом. Ее клиентами были нацисты, убийцы евреев. Они приносили ей подарки, которые снимали с убитых еврейских девушек. Я вру? Отвечай, или это будет твоей последней минутой!
— Я не хотела умереть в шестнадцать лет.
— Ты могла перейти мост со своими родителями вместо того, чтобы оставаться с сутенером. В Германии, в лагере, ты была любовницей немца. И здесь, в колледже, ты делала то же самое со своими профессорами. Я говорю правду?
— В шестнадцать я хотела жить. Теперь больше не хочу. Можешь стрелять в меня сейчас же, психопат!
— Отправляйтесь в ванную, — приказал мне Стенли. — И побыстрей!
Я попытался открыть дверь в ванную, но, похоже, ее заело. Я тянул за ручку, но в моей руке не было силы. Я повернул голову и посмотрел на Мириам, которая все еще оставалась голой, и на Стенли. Сцена показалась мне нереальной, какой-то карикатурной. Я услышал себя, говорящего: «Простите меня». Слова прозвучали глупо, трусливо. В этой затруднительной ситуации меня охватило нечто похожее на стыд — за себя, за Мириам, даже за Стенли — маленького, с обрубками ног, с выпирающим животом, с лицом, наполовину спрятанным за длинными волосами и черной бородой. Револьвер трясся в его руке, угрожая падением. Что-то хлынуло мне в горло и начало душить меня — смесь кашля и смеха.
Войдя в ванную комнату, я сразу почувствовал дурноту. Волосы давили на голову, перед глазами плясали круги, горькая жидкость заполнила рот. Оступаясь, я попытался сесть на стульчак. Стены, раковина, краны, «морозное» стекло в окне, потолок кружились вокруг меня, будто на карусели. Меня тошнило, но я боялся испачкать пол. Поток горькой жидкости хлынул изо рта в раковину. Одной рукой я держался за радиатор, а другой опирался на стену. Мне не хотелось, чтобы те двое заметили, что со мной произошло, поэтому я открыл краны и вымыл раковину. С большим трудом мне удалось открыть окно,и холодный ночной воздух оживил меня. Но я был перепачкан пятнами чертовски вонючей жидкости из моего собственного желудка. Позволить ему выстрелить было бы для меня, пожалуй, тем же самым, подумал я про себя.
Дверь ванной быстро открылась, и я увидел Мириам, уже не голую, а в махровом халате. Рядом с ней стоял Стенли без своего револьвера. И Мириам и Стенли что-то говорили мне, но я ничего не слышал, как будто уши были полны водой. Из-за своей наготы и зловония, поднимавшегося от моего тела, меня охватил еще больший стыд.
— Закройте дверь, — выпалил я. — Я скоро выйду.
— Вытрись, — сказала Мириам и показала на полотенце.
— С ним все будет в порядке, — услышал я голос Стенли. — Закрой дверь.
Я попытался обмыться под душем, но он, очевидно, не работал. За окном рассвело, и красноватый отсвет поднимающегося солнца упал на кафельные стены ванной комнаты. В зеркале я мельком увидел свое лицо — бледное, вытянутое, небритое. Я принялся умываться холодной водой, потом открыл аптечку Мириам и поискал бритву. Мой страх перед Стенли прошел, и мне страстно захотелось выглядеть в его глазах менее старым и неопрятным, чем мое отражение в зеркале. Пиджак и брюки были со мной в ванной, но ни рубашки, ни туфель не было.
Итак, я впутался в любовное приключение с потаскухой. Ее муж внезапно ворвался среди ночи с оружием. Мы оказались на волосок от гибели. Каждый мой шаг сопровождал голос моей матери, который я слышал столь отчетливо, словно ее душа постоянно была со мной. «Мама, где ты? Прости меня», — взмолилось что-то во мне. И она ответила, как будто была жива:
— Ты не можешь упасть ниже, чем в этот раз. Обещай мне, что ты убежишь от этой проститутки прежде, чем будет слишком поздно.
— Да, мама, обещаю.
— Потому, что ее дом склоняет к смерти, и ее пути ведут к мертвым. — Мой отец монотонно напевал стихи из Книги Притчей Соломоновых собственным голосом с присущими ему нусекх[87]. — Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на пути жизни.[88]
Кое-как мне удалось вымыться, но пиджак пришлось надеть на голое тело. Я с треском открыл дверь и осторожно выглянул. В спальне никого не было, но из другой комнаты были слышны звуки приглушенного смеха. Я поискал свою рубашку и туфли, однако они исчезли. Один носок лежал на кровати. Я позвал:
— Мириам!
Она тотчас появилась в крошечном коридоре, бледная, всклокоченная, в застегнутом халате. Стенли следовал за ней.
— Где твои туфли? — спросила Мириам, разглядывая пол.
В спальне было еще темно, жалюзи не давали проникать туда свету восходящего солнца. Мы обшаривали глазами пол, когда я вдруг понял, что Стенли все еще держит револьвер у спины Мириам. В тот же момент я увидел свои туфли на радиаторе.
— Вот они! — воскликнул я.
Стенли тоже заметил их, и его лицо стало суровым и озлобленным. Он обратился ко мне поверх плеча Мириам:
— Одевайся и катись. Мириам еще моя жена, а не твоя.
— Да, спасибо, — покорно ответил я.
— Куда он пойдет так рано? — спросила Мириам. — Я не хочу, чтобы лифтер видел его, выходящим из моей квартиры в такой час.
— Выпусти его по лестнице.
— Дверь на площадку заперта, — сказала Мириам.
— Нет, она должна оставаться открытой на случай пожара, — ответил Стенли.
Я торопливо натянул один носок. Другой потерялся, и я надел туфлю на босую ногу. Попытку зашнуровать туфли пришлось оставить, так как в тусклом свете было не видно дырок. Я услышал голос Стенли:
— Одевайся быстро и уходи. Но запомни: если ты скажешь хоть слово полиции или даже старому идиоту, Максу, то заплатишь за это жизнью. Я знаю, где твоя редакция.
— Я никому не скажу.
— Не скажешь ради собственного спасения. Моя жизнь для меня ничего не стоит.
Мне хотелось спросить его, что будет с Мириам, но я не сделал этого. Потом я услышал себя, говорящего Стенли:
— Я уверен, что вы с ней помиритесь, — и меня снова охватил стыд. Горло у меня пересохло так, что я с трудом выговаривал слова.
— Помиримся, да? Я относился к ней честно. Я не заставлял ее выходить за меня замуж. Она гонялась за мной, а не я. Разве это не правда, Мириам?
— Слишком поздно обсуждать это.
— Это никогда не поздно. Раз ты затащила его в свою постель и рассказала ему, я полагаю, какая ты хорошая и какой я дьявол, и как сильно ты его любишь, и какой преданной женой ты будешь. Он имеет право знать правду.
— Никто ни за кем не гонялся.
— Ты за мной гонялась. Я совсем не торопился жениться. Я уже понял, что ты не была непорочной девственницей, ха-ха. Но ты потребовала, чтобы мы отправились в Сити Холл[89] и официально зарегистрировались. Правда это или нет?
— Пусть будет правда. Меня больше ничего не задевает, — сказала Мириам, запинаясь.
— Все правда. Этот человек писатель, еврейский писатель. На суперобложке книги говорилось, что он сын раввина. Ему следует знать, что ты собой представляешь и с кем он связался.
— Он уже все знает.
— Нет, не все. Даже я не знаю всего. Стоит мне встретить кого-нибудь, кто знал тебя, я узнаю о новых любовниках, новых приключениях, новой лжи.
— Я тебе с самого начала рассказала всю правду.
— Наденьте галстук, — сказал мне Стенли. — Прежде чем вы уйдете, я хочу задать вам вопрос. Это правда, что вы верите в Бога?
— Я верю в Его мудрость, но не в Его милосердие.
— Что вы под этим понимаете?
— Каждый может увидеть Его мудрость — называть ли это Господом или Природой. Но как можно поверить в Его милосердие после Гитлера?
— Бог это дьявол?
— По крайней мере, по отношению к животным и людям.
— Как вы можете жить с такой верой?
— Действительно, не могу.
— Мне бы хотелось поговорить с вами как-нибудь, но не сейчас.
— Стенли, могу я кое-что сказать? — спросила Мириам.
— Молчи! Я тебя снова предупреждаю: если скажешь еще слово, будешь иметь неприятности.
— Даю тебе священный зарок больше не разговаривать.
— Ладно, идите, — сказал мне Стенли. — Если прочтете в газетах, что мы оба мертвы, то будете знать почему.
— Не делайте этого. Если она такая, как вы говорите, она не стоит того, чтобы умереть.
— А кто стоит того, чтобы умереть? Прощайте.
Я открыл дверь в коридор, и Мириам что-то сказала мне вслед, но я не расслышал, что именно. В тусклом свете ночной лампы было видно, что дверь на лестницу не заперта. Коридор был пропитан теплотой середины ночи, остатками ночного покоя, застоявшимися запахами мусора, нерассеявшейся газовой копоти, спящих тел. Я начал спускаться вниз с опаской, как полуслепой. Я спас свою жизнь, но оставил Мириам в руках убийцы. И снова я услышал хриплое предупреждение отца: «Ты окончательно возненавидишь это и совершенно отвергнешь это…».
И что-то в моей голове добавило: «Этот мир и тот свет это один и тот же мир».
Я уже спустился на половину марша, когда что-то остановило меня. Что сказала Мириам мне вслед? Попрощалась? Может быть, о чем-то попросила? Она почти выкрикивала слова, но в волнении я не смог восстановить их. Впрочем, что это может изменить? Между нами все кончено. Я чувствовал горечь во рту — в деснах, в горле — в кишечнике, в глазах. Голая лампочка отбрасывала тени на потемневший потолок. Я услышал шаги, и вскоре появился рабочий, тащивший наверх огромный жестяной бачок для мусора и метлу. На какое-то мгновение он уставился на меня, вероятно, раздумывая, надо ли спросить, что я тут делаю. Потом продолжил подъем под аккомпанемент стука бачка и крышки. Если Стенли убьет Мириам и сбежит, этот человек засвидетельствует в полиции, что видел меня на лестнице. Я окажусь под подозрением в причастности к убийству. Что-то во мне расхохоталось. Я стал кучкой мусора, выброшенной ночью и выметенной днем. Я прислонился к стене, чтобы не упасть.
По моим расчетам я уже спустился на первый этаж и сделал попытку открыть дверь в вестибюль, но она была заперта. В ногах не было сил, и мне пришлось сесть. Что я скажу полиции, если меня арестуют? Я дал слово Стенли ничего не рассказывать. Воздух попахивал углем, гнилью, другими резкими подземными запахами. Только теперь я заметил, что стены были из красного кирпича и запачканы сажей. Я спустился слишком глубоко. Надо собраться с силами и подняться. В ушах опять начали вертеться слова Стенли — любовница нееврея, сводника… он отдал ее в бордель… ее клиентами были нацисты, убийцы евреев… Они приносили ей подарки, которые срывали с убитых еврейских девушек…
Я поднялся на один марш, увидел дверь и, толкнув ее, открыл. И оказался в вестибюле. Указатель над лифтом оставался на четырнадцатом этаже, там, где была квартира Мириам. Швейцара нигде не было видно. Я стоял на улице и глубоко дышал, вдыхая холодный утренний воздух, влажный от деревьев и травы в парке. Раннее утреннее солнце, освежившееся купанием в океане, висело в чистом голубом небе. Над парком, пронзительно крича, пролетали стаи птиц. Голуби опустились на окружную дорогу и скамьи парка, прыгали на маленьких красных ножках, клевали невидимые кусочки пищи, ворковали, хлопали крыльями. Только теперь я осознал, что моя слабость связана с голодом. Я вытошнил всю пищу, съеденную за день, в желудке было пусто. На Централ-Парк-Вест не было ресторанов, по улице не ехали ни такси, ни автобусы. Я полез в задний карман брюк и обнаружил, что он пуст. Мне вспомнилось, что деньги и ключи выпали, когда я нес одежду в ванную Мириам. Чековая книжка, лежавшая во внутреннем кармане пиджака, тоже пропала.
Я продолжал идти медленно, потому что не было никаких сил, чтобы торопиться, да и некуда было торопиться. В моей комнате на Семидесятой-стрит я не держал ни еды, ни денег. Аккредитивы были в моем индивидуальном боксе в банке, но ключ от него висел на кольце вместе с другими, потерянными у Мириам. Вечером я должен был идти вместе с Мириам на прием к Хаиму Джоелу Трейбитчеру, чтобы попрощаться с Максом. Однако все это было в далеком прошлом.
Глава 6
Запутавшийся, я бесцельно брел, не представляя, куда несут меня ноги. В конце концов, побежденный усталостью, я упал на мокрую от росы скамью. У меня не было ни денег, ни чековой книжки, ни ключей. Расстроенный рассказом Стенли о Мириам, я поклялся Богом и душами моих родителей, всем, что было мне свято и дорого, что никогда больше не взгляну на ее гадкое безнравственное личико. Я также поклялся больше не видеть Макса Абердама.
Я был слишком усталым, чтобы тащиться на Семидесятую-стрит, разыскивать жену управляющего и просить у нее ключ от моей комнаты. У меня совсем не было денег, даже нескольких монет, чтобы сесть на автобус или позвонить по телефону. Записная книжка также осталась у Мириам, и я не мог вспомнить ни одного номера телефона. Не было даже носового платка, чтобы отереть пот со лба. В желудке посасывало, а во рту стойко держался вкус рвоты. Хотя я потерпел поражение, я не мог не восхититься мудростью Провидения — или как еще называлась сила, которая управляла судьбами людей — в организации моего падения. Как в давние времена с Иовом, все произошло с необыкновенной скоростью, один удар за другим.
Надо было найти место, чтобы отдохнуть, вымыться, побриться. К счастью, мне вспомнилось, что неподалеку живет Стефа Крейтл, ее квартира была не более чем в десяти кварталах отсюда. Во время войны мы потеряли друг друга, и я был уверен, что она погибла. Внезапно в 1947 году она появилась в Нью-Йорке с мужем, Леоном Крейтлом и взрослой дочерью, Франкой, и это тоже было воскрешением из мертвых. Мне было тогда сорок три, ей около пятидесяти, а Леону семьдесят пять, он был совсем старый. Им удалось улететь в Англию всего за несколько дней до того, как Гитлер вторгся в Польшу. Две дочери Леона погибли в лагерях. Конечно, он потерял все свое состояние. Стефа работала в Лондоне горничной в гостинице, а позже медсестрой. Мы перестали переписываться еще перед войной. За эти годы я в Нью-Йорке пережил кризис и впал в меланхолию. Я перестал ходить в редакцию и практически порвал все связи с языком идиш, идишистской литературой, идишистским движением.
Между сорок седьмым годом и началом пятидесятых произошли важные изменения как в моей жизни, так и в жизни Стефы. Леон нашел в Америке друзей и партнера, с помощью которого стал строить на Лонг Айленде дешевые дома, и внезапно снова разбогател. Дочь Стефы, Франка, вышла замуж за нееврея. Еще в детстве, в Данциге, Франка была заражена нацистской ненавистью к евреям, и в Америке она приняла католическую веру своего мужа, инженера. Она порвала все связи с матерью и отчимом.
Моя жизнь тоже переменилась. Я вновь начал писать. Опубликовал роман и сборник рассказов на идише, нашел переводчика и издателя на английском.Я стал постоянным сотрудником газеты на идише, писал очерки, обзоры и различные статьи. Кроме того, я давал советы на идишистском радио. Контакты со Стефой восстановились, но всякий раз, когда я видел ее, у меня возникало таинственное чувство, будто я встречаюсь с привидением, одним из тех, о ком писал рассказы. За годы разлуки между нами выросла стена. Стефа говорила по-английски с лондонским акцентом, а то немногое из идиша, чему она научилась в Варшаве, было забыто. Очевидно, у нее были в Лондоне любовные связи, но она никогда не говорила об этом. Это уже не была та Стефа, которая ссорилась со мной, называла меня «литератник» и поправляла мой польский. Эта Стефа была хорошо воспитанной леди, бабушкой маленького ребенка. Ее коленки больше не торчали, они были округлыми, грудь стала выше, а бедра полнее. Только ее отношение к Леону осталось тем же, и она ворчала, что никогда не понимала, что он из себя представляет. Иногда она добавляла: «Весь мужской пол для меня загадка».
Впрочем, Леон едва ли изменился. Он был совершенно лысым, лицо его было таким костистым, а кожа так туго натянута, что у него не было морщин, и весил он не более сотни фунтов. В восемьдесят лет Леон все еще занимался бизнесом, строил дома, покупал участки земли, спекулировал акциями и ценными бумагами. У них была квартира в небоскребе на углу Централ-Парк-Вест и Семьдесят второй-стрит. Леон уже не раз попрекал меня за то, что я у них редко бываю. В Америке он начал читать газету на идише, возможно, потому, что так и не смог полностью освоить английский. И воспылал на удивление сильным интересом к моим произведениям. Он не переставал задавать вопросы: неужели все, о чем я пишу, происходило в жизни? Не придумываю ли я все это сам? Как это возможно придумать обстоятельства, которые кажутся такими реальными? И когда я придумываю — по ночам, днем, во сне, просыпаясь? Леон уверял меня, что в Варшаве встречал характеры и типы в точности такие, какие описаны у меня — я только изменил имена, говорил он, подмигивая и улыбаясь. В другой раз он посетовал:
— Где вы нашли эти слова и выражения? Я не слышал их с тех пор, как умерла моя бабушка Хая-Келя. И почему вы помните так хорошо улицы Варшавы, хотя даже я уже почти забыл их. Что это за создание, писатель? Скажите, мне хочется знать.
— Чаще всего лжец, — сказала Стефа.
— Лжец? Да, должно быть, так. Но тем не менее, когда я просыпаюсь утром, то отправляюсь прямо на Бродвей, чтобы купить вашу газету. Мне хочется узнать, что произошло дальше. Но опять-таки, в вашем романе, как мог такой человек, как Калман — процветающий, осведомленный, умный коммерсант, — позволить Кларе обмануть себя? Разве он не видел, что ей нужны его деньги, а не он сам? Вы в самом деле знали такого человека? Ну, конечно, Клара — это «штучка».
Она — как это говорится? — стоит того, чтобы пару раз согрешить, хи-хи-хи. Кроме всего прочего, нужна удача. Я сам знал женщину вроде нее, у которой были все достоинства: хорошенькая, умная, отличный образчик. Но если дела не идут, как это случилось с ней, все пойдет шиворот-навыворот.
Накануне того дня, когда Макс Абердам зашел в мой кабинет, я обещал пообедать со Стефой и Леоном и остаться у них ночевать. Потом прошло несколько недель, а я забыл позвонить им. Леон зашел в редакцию и, не застав меня, оставил записку, состоявшую из единственного слова, написанного (с ошибками) на иврите, которое означало: «Может ли это быть?» Он подписал ее: «Ваш искренний друг и восторженный почитатель Леон Крейтл».
На этот раз мне повезло. Дежурный швейцар узнал меня и впустил. Он даже вызвал ночного лифтера, чтобы поднять меня на восьмой этаж. Я позвонил, и Леон, глянув в глазок, открыл дверь. Он был в богато расшитом халате и плюшевых шлепанцах. Леон насмешливо посмотрел на меня с любопытством и сказал в своей обычной иронической манере:
— Вообразите! Такой ранний гость! Пришел Мессия? Или вы сбежали из Синг-Синга?[90]
— И то, и другое.
— Входите, входите. Стефа еще спит, но я, как обычно, проснулся в пять. Почему Вы не позвонили? Я приготовил завтрак, и от всей души приглашаю разделить его со мной. Простите меня за еврейский комплимент, но вы нехорошо выглядите. Что-нибудь случилось?
— Нет, но…
— Пойдемте на кухню, там варится кофе. Нет лучшего лекарства от любого горя и несчастья, чем чашка хорошего крепкого кофе. Вы выглядите сонным, как будто всю ночь читали сликхес.[91] Я понимаю, я понимаю.
Леон взял меня за руку и провел в столовую, отделенную от кухни полуперегородкой. Ломти хлеба и ваза с фруктами уже стояли на столе. Леон показал на металлическую табуретку и сказал:
— Как видите, я придерживаюсь всех своих старых привычек. Только вино, которым я привык промывать любую пищу, исчезло. Однако это не помогло — у меня уже было два инфаркта. Бога не перехитришь. Но кто знает? Может быть, если бы не придерживался диеты, было бы три инфаркта, или умер бы. В восемьдесят один не следует жаловаться на Бога, в особенности если Его не существует. Вы, возможно, принимаете меня за невежду, но в юности я учился. Мой отец был набожным евреем, ученым евреем. Чего бы вам хотелось? Я могу приготовить вам яйца, даже омлет.
— Что бы вы мне ни дали, будет прекрасно. Благодарю вас.
— Ах, я забыл апельсиновый сок. Минуточку!
Я сел, снова чувствуя слабость в ногах. Леон подал мне стакан апельсинового сока.
— Пейте. Ле хаим.[92] Вам надо бывать у нас почаще. Последнее время по разным причинам мы редко вас видим. О, вот и Стефа!
Стефа, вошедшая в кухню, казалась сонной, ее седые волосы были слегка растрепаны. На ней была отделанная кружевами ночная рубашка и домашние туфли с помпонами. Она хорошо выглядела для своего возраста и могла бы казаться еще моложе, если бы подкрасила волосы, но для Стефы это означало бы американизацию и вульгарность. Она удивленно посмотрела на меня, улыбаясь с шутливым укором, как бывает при неожиданном появлении близкого друга или родственника.
— Я сплю, или это в самом деле ты? — спросила она.
— Нет, Стефеле, ты не спишь, — сказал я.
— Стефеле, хм? Ты не называл меня так десятки лет. Что случилось? Кто-то выставил тебя среди ночи? Ее муж внезапно появился с револьвером?
С трудом веря своим ушам, я сказал:
— Да, в точности так.
— Ну, я не удивлена. Как обычно, я полночи лежу без сна. На рассвете наконец засыпаю. И тут же слышу голоса на кухне. Я спросила себя: «Это Леон уже дошел до того, что разговаривает сам с собой или у меня старческий маразм?»
— Дай ему поесть, пусть он выпьет кофе. Насколько я могу припомнить, я впервые кормлю завтраком твоего любовника. Если ждать достаточно долго, тебе воздастся. Садись, Стефеле, я обслужу тебя тоже. Пусть все идет, как идет. «Справедливость есть в Небесах».
— Ну, хорошо. Все, чего я хочу, это чашку кофе. Только сделай крепкий.
Стефа разговаривала с мужем одновременно и по-польски, и по-английски. Иногда она вставляла слова на идише. Она села за стол и сказала:
— Странно, но мы говорили о тебе прошлой ночью. Леон читает твой роман, печатающийся в газете. Мы всегда просыпаемся без пяти два. Леон просыпается от того, что начинает храпеть, а я сплю чутко. Чем кончит у тебя твоя Клара? Всякий раз, когда я пытаюсь догадаться, что будет в романе дальше, ты переворачиваешь сюжет вверх ногами. Это твоя система?
— Это система жизни.
— Именно так я ей и говорил, — вступил в разговор Леон. — Жизнь выводит такие трели, каких не может быть ни в каких романах. Если бы кто-нибудь сказал мне тридцать лет назад, что в старости я буду американцем и совладельцем отеля на Майами-Бич, я бы подумал, что он спятил. Твой любовник однажды написал статью, в которой говорилось, что Бог был романистом, а мир его романом. Это точно. И если не Бог, то другая сила, направляющая движение нашего небольшого мира.
— Может быть, ты перестанешь называть Аарона «твой любовник», — сердито сказала Стефа.
— А кто он? Твой отец, Лейбуш-Меир? — спросил Леон.
— Кто угодно, но не мой любовник. Любовник любит, а он не знает, что такое любовь. Посмотри на него. Как говорила моя мама: «По крайней мере, он выглядит лучше, чем будет выглядеть в могиле».
— Подождите, мне нужно позвонить по телефону. Я сейчас вернусь!
Леон вскочил со стула и мелкими шажками поспешил из кухни.
Стефа сказала:
— Он жалуется, какой он старый и больной, но в делах у него энергии, как у молодого. В самом деле, что с тобой случилось? — Голос Стефы изменился. — Насколько я могу припомнить, мы с тобой до сих пор никогда вместе не завтракали.
— Нет это было. Однажды.
— Когда? Во времена короля Собесского?[93]
— Когда я жил с Леной в Отвоцке. Я позвонил тебе с Данцигского вокзала, и ты сказала, что у тебя куча адресованных мне писем. Я уже кое-что ел в то утро, но ты заставила меня поесть еще раз с тобой.
— Боже мой, у этого человека сверхъестественная память! Да, ты прав. Когда это было? Две вечности тому назад!
— Я помню, как будто это было вчера.
— Да, да. Ты затащил меня в квартиру того идиотского учителя иврита, и он бесцеремонно выставил нас вон. Тот завтрак почему-то ускользнул из моей памяти.
— Тот завтрак спас мне жизнь.
— В тебе и тогда не было ничего хорошего, а с годами ты стал еще хуже. Ты даже пишешь обо мне в своих рассказах, используя разные странные и фальшивые имена, но я узнаю себя. Даже Леон узнает меня (и себя тоже). Читая, он вдруг говорит: «Твоя наружность, твои слова». Ареле, твой вид сегодня обеспокоил меня. Ты болен, или что- нибудь другое?
— Я не болен.
— Тогда что? Сошел с ума?
— Похоже.
— Ладно, ты сам постелил свою постель.[94] Поверь мне, я не ревную тебя к твоим женщинам. Когда я возвратилась из Англии, и ты рассказал мне о своей здешней жизни, я сказала тебе: «Давай, будем друзьями, не более того». Мы не можем быть совсем чужими, потому что того, что происходило между нами, сам Господь не сможет изгладить из памяти. Я достаточно вынесла в Англии, и у меня нет желания впутываться в новые осложнения. Интересоваться твоими отношениями с женщинами — все равно что приковать здоровое тело к больничной койке. И тем не менее, во имя нашей дружбы я спрашиваю тебя, почему ты убиваешь себя и губишь свой талант? Какой в этом смысл?
— Совершенно никакого.
— Что с тобой случилось?
— Я не могу оставаться дома, я имею в виду мою комнату, и не могу пойти в редакцию. Мне нужно несколько дней отдохнуть.
— Ты знаешь, что можешь оставаться здесь столько, сколько тебе потребуется. Комната Франки свободна, и она теперь твоя. Можешь здесь питаться и спать. Не бойся, я тебя не изнасилую.
— Я и не боюсь.
— За тобой кто-то следит, тебя преследуют?
— Нет, но мне надо спрятаться на несколько дней.
— Мой дом — твой дом. Леон предан тебе даже больше, чем я. Почему, я никогда не узнаю. Это может звучать странно и дико, но я могу отречься от тебя, а он нет. Сегодня он называл тебя моим любовником. Иногда он говорит «твой второй муж». Он убедил себя, что когда-нибудь, когда он покинет нас, мы с тобой бросимся под свадебный балдахин.
— Он несомненно переживет меня.
— Я тоже так думаю. Что я могу сделать для тебя сейчас?
— Ничего. Мне нужен только отдых.
— Иди в комнату Франки и отдыхай. Я не стану больше задавать тебе вопросов.
— Стефа, ты самый лучший человек, кого я знаю.
— Лжец, негодяй!
— Я должен поцеловать тебя!
— Если должен, так должен.
Я удалился в комнату Франки, где было окно, выходящее в парк, и полно солнца. В комнате были кровать, письменный стол, книжные полки. Франка развесила по стенам фотографии кинозвезд, а также портреты своих дедушек, бабушек и тети, которая умерла молодой от того, что слишком много танцевала. На одной из стен я заметил фото молодого польского офицера на лошади — это был Марк, отец Франки.
В тот день было почти решено, что я перееду жить к Стефе и Леону. Несмотря на мои протесты, Стефа объявила, что она хочет добавить в комнату Франки софу и еще комод для моих книг, рукописей и выпусков моих романов, вырезанных из газеты. Леон собирался сделать мне подарок — новую пишущую машинку с еврейским шрифтом. При каждом удобном случае он повторял одно и то же: поскольку предопределено, что после его смерти я стану новым мужем Стефы, почему бы не начать сейчас?
— Вы будете избавлены от того, чтобы молить о моей смерти, — сказал Леон, и Стефа отпарировала:
— Если эти глупые фантазии доставляют тебе удовольствие, продолжай мечтать.
Свои еженедельные выступления на радио я заранее записывал на магнитофон, но в понедельник оказалось, что мне надо зайти в редакцию газеты. Я позвонил молодому человеку, который принимал почту и отвечал на телефонные звонки, и он сказал, что в мое отсутствие ко мне приходило множество людей, жаждавших советов. Он определил их количество сравнением с забитой покупателями булочной. Кроме того, в понедельник после завтрака я собирался зайти к себе на Семидесятую-стрит и забрать оставленные там рукописи. Я обещал Стефе отказаться от этой комнаты и вернуться к ним. Я сказал, что собираюсь платить за питание, но муж и жена ответили, что я их оскорбляю. Именно теперь, когда я стал зарабатывать приличные деньги и даже ухитрялся откладывать кое-какие суммы в банк, я почувствовал, что превращаюсь в нахлебника. Леон начал намекать, что он перепишет свое завещание, сделав меня и Стефу своими душеприказчиками. Я запротестовал, но он жестко ответил:
— Это мое завещание, а не Ваше.
Стефа проворчала:
— В восемьдесят лет он начинает вести себя, как ребенок.
День обещал быть жарким. У меня по-прежнему не было ни ключей, ни чековой книжки. Но я знал, что Мириам жива. В воскресенье я набрал ее номер и повесил трубку, услышав ее голос. Может быть, Стенли был с ней, сделав ее пленницей в квартире. Возможно, он заставил ее помириться с ним. Вновь я поклялся не иметь больше дела с Мириам — ни с ней, ни с Максом Абердамом, который, вероятно, был уже в Польше. Получить еще одну чековую книжку и новый ключ от индивидуального бокса в банке можно было бы с легкостью. Фортуна мне улыбалась — не успевал я потерять одну опору, поддерживающую мое существование, как появлялась другая. По правде говоря, это происходило исключительно потому, что я никогда не мог положить конец каким-либо отношениям. Что бы я ни начинал, кажется, это оставалось со мной навсегда, как в моем творчестве, так и в жизни.
Когда я подошел к меблированным комнатам на Семидесятой-стрит, наружные двери оказались открыты, по-видимому, для проветривания. Я уже начал подниматься по лестнице, когда услышал телефонный звонок в вестибюле. Я быстро сбежал вниз, схватил трубку и крикнул: «Алло!» На другом конце линии послышались невнятное бормотание и шорохи, как будто кто-то не мог решить, отвечать или нет. Наконец послышался слабый дрожащий голос Мириам: «Это я, б…дь».
Я сделал движение, чтобы повесить трубку, но она как будто прилипла к руке. Я не мог (и не хотел) говорить, и Мириам продолжила:
— Вы оставили в моей квартире ключи, а также чековую книжку и деньги. Подобно блуднице, которую посетил Иуда, я хочу вернуть «твою печать, твой браслет и твой посох».[95]
Мириам произнесла эти слова по-английски, но я понял, что они взяты из Пятикнижия. Прошло около сорока лет с тех пор, как я заучивал эти фразы в хедере меламеда[96] Йехиеля на Крохмальной[97] улице. Мириам, очевидно, нашла эту историю в Библии на английском языке. Я сказал:
— Тамара[98] притворялась проституткой, а ты такая и есть.
— А как же получилось, что такой святой человек, как Иуда, пошел к ней? — спросила Мириам.
— Мириам, сейчас не время обсуждать сказки из Пятикнижия.
— А когда время? Я хочу вернуть тебе твои вещи. Я, может быть, б…дь, но не воровка.
Снова мне захотелось повесить трубку, и опять какая-то сила воспрепятствовала этому. Я услышал собственные слова:
— Где ты?
— Около Бродвейского кафетерия, где мы были с тобой, — сказала Мириам. — Твои вещи со мной. Если ты стыдишься, что тебя увидят с потаскухой, могу принести их к тебе домой.
— Мириам, между нами все кончено.
— Понимаю, но я хочу возвратить твою собственность.
В ее голосе была мольба. В конце концов, я сказал:
— Жди меня в кафетерии.
— Хорошо. Я буду там через пять минут.
Повесив трубку, я сразу начал бормотать обет никогда, никогда, никогда больше не иметь никаких дел с этой проституткой.
Я вышел на улицу и в течение некоторого времени шел по направлению к Гудзонову проливу, в обратную сторону от кафетерия. Потом остановился и пошел назад. Самый факт, что Мириам позвонила в тот момент, когда я вошел в дом, означал, что она неоднократно звонила раньше. Еще мне пришло в голову, что Стенли может последовать за ней и убить нас обоих. И все же я обрадовался, что смогу вернуть ключи и чековую книжку без лишней волокиты. Я понимал, что пренебрегаю своей работой. Писатель, романы которого печатаются с продолжением, никогда не бывает свободен. Если он относится к своей работе серьезно, вся его жизнь связана с нею. Ему приходится постоянно выискивать повороты сюжета, неожиданные события, соответствующие тому, что Спиноза называл порядком вещей или порядком идей. Я уговаривал себя не торопиться. Пусть Мириам подождет. Однако мои ноги торопливо отмеряли шаги, как бы повинуясь собственной воле. Возможно, им не терпелось узнать, чем закончился утренний визит Стенли. Когда мне навстречу шел прохожий, я пытался уклониться, свернуть вправо, но ноги все же поворачивали налево, и мы почти сталкивались. Это повторялось несколько раз. Мы или исполняли что-то похожее на танец или загораживали друг другу дорогу. Добравшись до Восьмидесятой-стрит, на противоположном углу я увидел Мириам, ожидавшую, пока светофор переключится на зеленый.
Да, это была Мириам, но выглядела она по-другому. На ней было короткое красное платье и красные ботинки. Чулки тоже были красного цвета. Ее щеки были густо нарумянены, а глаза подведены синим и черным. В алых губах на конце длинного мундштука покачивалась сигарета. Я тотчас понял, что она сделала. Она вырядилась под варшавскую проститутку. Даже сигарета в длинном мундштуке была типичной для Варшавы. Все было заранее спланировано — и цитата из Пятикнижия, и этот маскарад. Я заметил прохожих, которые провожали ее глазами, пожимая плечами и улыбаясь. В голове у меня промелькнуло, что меня арестуют, если я пойду с ней. Светофор переключился, и я был готов перейти улицу. В этот момент с Семьдесят девятой-стрит выехал гигантский грузовик и загородил Мириам. Я был вынужден обогнуть это огромное, как дом, чудовище. Грузовик вдруг засигналил и рванулся в ближайшую боковую улицу, едва не сбив меня. Я почувствовал жар двигателя и запах бензина, когда он промчался мимо. Я шел навстречу своей гибели, потому что горел желанием встретиться с девкой, которая не говорит ни слова правды, дурачит меня, Макса, Стенли и черт знает кого еще. «Грязь! Разврат! Она совершенно запуталась в распутстве и обмане», — сказал я себе. И вновь поклялся, что сегодня я в последний раз увижу ее подлую рожу.
Мы сидели в кафетерии, но на этот раз наш столик был не у окна, а задвинут в угол. Несколько завсегдатаев с удивлением поглядывали на нас, но ни один не подошел к нам и не заговорил. Через некоторое время Мириам стерла с лица румяна и макияж. Мы пили кофе, и она говорила:
— Да, вот такая я была и такой буду всегда. Я не чувствую себя виноватой, нисколько. Глупостью было влюбиться в шестнадцать лет в такого негодяя, как Янек, и терпеть все, что я терпела. Но какой смысл чувствовать раскаяние, которого требует религия. Какое может быть раскаяние, если не веришь ни в Бога, ни в сексуальную мораль? Я вынесла всю грязную игру, но надо сказать, что у меня были и хорошие моменты. В те дни я почти всегда была пьяна. Лучше было находиться там, где я была, чем скитаться среди руин гетто. Я была готова к смерти, но тот факт, что я осталась в живых и выбралась оттуда, по крайней мере физически здоровой, невозможно объяснить. Если я о чем-то и сожалею, то о том, что скрыла правду от вас и Макса. Но правда в любом случае выходит на поверхность: как говорится — всплывает, как масло на воде.
— Такому человеку, как ты, не следовало бы даже произносить слово «правда».
— Вы однажды писали, что за каждой ложью спрятана правда. Не во фрейдистском понимании, а просто и объективно.
— Правда состоит в том, что ты самая подлая женщина, которую я когда-либо имел несчастье встретить.
— Возможно и так. Но все же остается факт, что я жила, страдала, надеялась. Вы как-то цитировали Спинозу[99], говорившего, что не существует никакой лжи, только искаженная правда. Даже у червя есть своя маленькая правда. Он родился, он немного жил, потом его раздавила чья-то нога. Это ваши слова, не мои.
В глазах Мириам мелькнуло выражение, близкое к победному.
Помимо своей воли я спросил:
— Что произошло в то утро, после моего ухода?
И тут же пожалел о своих словах.
— Ты в самом деле хочешь знать?
— Можешь не отвечать.
Какое-то время Мириам молчала.
— Кое-что происходило. Стенли оставался со мной целый день и следующую ночь. Я не надеялась пережить ночь, была готова умереть. Можешь не верить мне, но я прожила не один год рядом со смертью. Я знаю ее так же хорошо, как собственное тело. Стенли был не первым, кто угрожал мне револьвером. Тот самый Янек, которому я принесла в жертву свою жизнь, забавлялся, стреляя в стеклянный бокал, который ставил мне на голову. Как-то раз привел своих коллег — поляков, не немцев, — и они тоже развлекались таким образом. Это только одна из сотен правдивых историй, веришь ты им или нет. Не думай, что я пришла к тебе плакаться или извиняться. Я тебе ничем не обязана — ни тебе, ни даже Максу.
— Где Макс? — спросил я.
— Макс в Польше.
— Ты видела его до отъезда?
— Нет. Как бы я смогла? Телефон звонил, но Стенли запретил мне снимать трубку. Позже я узнала, что наутро после «парти» у Трейбитчеров Макс уехал в Польшу вместе с Матильдой Трейбитчер.
— Как ты отделалась от своего мужа?
В глазах Мириам появилась улыбка.
— От моего мужа? Раз он меня не убил, то в конце концов ему пришлось отступиться. Перед тем как уйти, он сказал, что готов развестись со мной. Это было забавно, в самом деле, даже смешно.
— Почему смешно?
— Он не мог решить, убивать меня или нет. Продолжал болтать об этом, и в конце концов спросил моего совета. Ты когда-нибудь слышал о таком? Убийца просит совета у своей жертвы! Тут я просто не могла не расхохотаться.
— Каков был твой совет?
— Мой совет был: делай что хочешь.
— Это одна из твоих выдумок?
— Нет, это правда.
— Что произошло потом?
— Он попрощался и ушел. Только что говорил об убийстве, а в следующую минуту уже болтал о примирении. Даже предложил завести от него ребенка. Я бы не поверила, что такое может быть, если бы, после всего, что видела в жизни, не разучилась удивляться. Меня больше ничего не поражает. Если бы прямо сейчас разверзлись небеса, и в кафетерий вошел сам Господь, я бы и глазом не моргнула. Ты, может быть, писатель, ты и в самом деле писатель, но на что способны люди, мне известно лучше, чем тебе.
— А про твою учительницу и альков, в котором ты якобы провела военные годы, — это тоже была ложь?
— Это не было ложью. Я не отчаянно боролась за то, чтобы остаться в живых — для чего? Но у меня появилось что-то вроде цели — преодолеть все и пройти через эти свинские времена живой и сильной. Надо сказать, что это стало для меня чем-то вроде азартной игры или спорта: сумею или нет? Ты часто писал, что жизнь это игра, пари или что-то похожее. Я решила ускользнуть из рук ангела смерти какой угодно ценой. Когда мне стало ясно, что в любой день меня могут схватить и выслать с одним из транспортов,[100] я сбежала, а моя бывшая учительница спрятала меня.
— Когда это было?
— В конце сорок второго. Нет, это уже был сорок третий.
— Твоя учительница знала о твоем поведении?
— Да; нет… Может быть.
— Это в ее доме ты читала книги, о которых рассказывала?
— Да, в ее.
— А что произошло потом?
— В сорок пятом я выползла, как мышь из норки, и началась другая глава — странствия, тайные переходы через границы, ночевки в конюшнях, амбарах, в канавах, и все остальное.
— Что случилось с твоим сутенером?
— Янек мертв.
— Убит во время восстания?
— Кто-то подарил ему смерть.
— Именно это делают все мужчины; они убивают друг друга, чтобы показать, что Мальтус был прав, — сказал я.
На губах Мириам заиграла улыбка.
— Такова твоя теория?
— Не хуже любой другой.
Мы долго сидели молча. Мириам подняла чашку, сделала глоток и сказала:
— Кофе холодный.
Мы вышли и двинулись по направлению к Централ-Парк-Вест. Мимо проходили люди, разглядывая нас. Видя странный наряд Мириам, мужчины улыбались, женщины с осуждением качали головами. Мириам сказала:
— Слушай, я забыла отдать тебе твои вещи. Они у меня в сумке — твои деньги, ключи, чековая книжка.
Она сделала движение, чтобы открыть сумку, но я сказал:
— Не здесь, не на улице.
— А где Тамара возвратила принадлежавшее Иуде? — спросила Мириам.
— Отправила с посланцем. Ранее Иуда хотел подарить ей обещанного козленка, но посланный не смог ее найти. Когда ее повели на костер, чтобы сжечь, как блудницу, она отослала ему обратно его машконе.[101]
— Ах, ты помнишь все! Я читала эту историю лишь несколько дней назад и уже забыла об этом.
— Ты просто читала, а я изучал в хедере.
— Детей в хедере учили таким вещам?
— Рано или поздно дети узнают все.
— Коза за один визит к проститутке — это неплохая сделка, — захохотала Мириам.
— Очевидно, Тамара была красивой женщиной.
— Как могло случиться, что такой важной персоне, человеку, именем которого позже были названы все евреи,[102] пришлось пойти к проститутке? И зачем Библия рассказывает нам об этом? И почему Иуда послал ей козленка? Ты бы попросил кого-нибудь из твоей редакции передать козу проститутке?
Подобное предположение выглядело столь эксцентричным, что я засмеялся. Мириам тоже расхохоталась. Потом я сказал:
— То были времена поклонения идолам. Проститутка ассоциировалась с храмом. Она была представительницей общественной системы, похожей на институт гейш в Японии.
— Почему же сегодня не может существовать такая система? Представь, что ты Иуда, а я Тамара. Ты оставил мне в залог чековую книжку, деньги, ключи. Если тебе не с кем послать мне козу, расплатись сам.
— И какова твоя цена?
— Та же коза.
Вдруг Мириам запела:
Тейгелах, мигеле, козинаки,[103] Красные гранаты, Когда папа лупит маму, Пляшут все ребята.Мы подошли к скамье на краю Центрального парка и сели. Мириам снова стала серьезной. Она сказала:
— Что, в сущности, изменилось с древних времен? Идолопоклонники все еще среди нас, да и сами идолы тоже. Кем был Гитлер, если не идолом? А Сталин? А актеры и актрисы из Голливуда, которые получают мешки писем и чьи фотографии циркулируют по всему миру? Та же Ентл, только новый мантель.[104] Такие же потаскухи, даже если кончают колледжи или пишут диссертации о тебе. Что могло удержать такую, как я, в границах? Пока мы были в Варшаве, моя мать порхала среди самых разных подонков. Она была мнимой коммунисткой и бездарной актрисой. Она такая же артистка, как я ребецин.[105] Это было для нее только предлогом, чтобы завязывать новые любовные связи. Мой отец был не лучше. Только небесам известно, сколько у него было любовниц. Он послал меня в гимназию, чтобы я изучала иврит и Библию, но сам ни к чему серьезно не относился. Он настаивал на том, что еврейская девушка (такая, как я) должна соблюдать Субботу, а сам нарушал законы Субботы. Все светские евреи такие. В Германии отец стал контрабандистом. Мать флиртовала и крутила любовь с журналистом, который был наполовину евреем. А кем, по-твоему, были те, что поехали в еврейское государство? За исключением религиозных евреев, которые входили в Меа Шеарим,[106] все они далеки от святости. А ты сам? А Макс? А этот идиот Стенли? Никто из вас не имеет права показывать на меня пальцем. Чем я хуже девушек из моего колледжа? Бог знает, сколько мужчин имели мои одноклассницы. А как насчет женщин, мужья которых покупают им меха, и драгоценности, и кадиллаки, а они проводят время со всякой дрянью? Я, по крайней мере, попыталась избавиться от своей вонючей жизни. Большинство еврейских девушек, которые попали в руки нацистов, делали бы то же самое, если бы у них был шанс.
— Я не проповедую никакой морали, и незачем оправдываться передо мной, — сказал я.
— Ты именно проповедуешь, ты назвал меня потаскухой. Разве я большая б…дь, чем ты развратник? Чем все вы — писатели, художники? Если нет Бога, и человек произошел от обезьяны, почему я не могу делать то, что мне нравится?
— Если бы все женщины вели себя так, как ты, ни один мужчина не знал бы, является ли он отцом своих детей. Ты сама знаешь, что произошло в России после революции, когда проституция стала пролетарской добродетелью. Сотни тысяч воров, уголовников, убийц появились на улицах. Они почти разрушили Россию. Что было бы с остатками нашего народа, если бы все еврейские девушки вели себя так же безнравственно, как ты?
— Они и ведут себя безнравственно. Все еврейские девушки в моем колледже имели связи с неевреями. Даже те, что замужем или ходят в синагогу, ничем не лучше. Еврейство в Америке заключается в отправке чеков в Израиль или в принадлежности к Хадассе.[107] И мне известно, что в государстве Израиль дела обстоят точно так же.
Мы долго молчали, глядя прямо перед собой. По-видимому, мы добрели почти до Верхнего Манхеттена, потому что скамейка, на которой мы сидели, была неподалеку от дома, в котором находилась квартира Трейбитчеров. Вдруг Мириам зашевелилась.
— Вот твои машконе. — Она открыла сумочку и отдала мне ключи, чековую книжку и мои деньги, положенные в конверт. — Можешь рассказать Максу все, что произошло. Запомни, я могу обходиться и без мужчин. Если хочешь, это будет нашей последней встречей.
Мы поднялись и вошли в парк, молча шагая, пока не оказались возле пруда. Утро было солнечным, но сейчас небо затянули облака. В воздухе пахло возможным дождем и приближающейся осенью. Стаи птиц, пронзительно крича, проносились над водой. Я не мог продолжать встречаться с Мириам, но и не мог заставить себя расстаться с ней.
Каков будет следующий шаг? У меня часто появлялось такое чувство, что (несмотря на все, что говорится или делается) будущее будет просто повторением прошлого. Стефа предложила мне дом, и я согласился. Она все больше полнела, старела и часто ожесточалась. Она затаила злобу против своей замужней дочери и сама же тяготилась этим. «Франка ненавидит евреев, — часто говорила Стефа. — Она обижена на меня. Что я ей плохого сделала?» Нет, я не смогу жить со Стефой и Леоном. Я не смогу выносить странных рассуждений Леона, его намеков относительно завещания, бесконечной болтовни о моих произведениях. Он ухитряется и похвалить меня и, на свой примитивный лад, уколоть. Каким-то образом он понимает мои переживания и иллюзии и тут же высмеивает их, это насмешки старого человека, который видит суетность жизни.
Наступили сумерки, а мы с Мириам все еще прогуливались. Парк постепенно пустел, и вскоре мы остались одни. День был долгим. Красное солнце висело в небе, как огромный огненный мяч. Оно не сияло, а тлело. Мне показалось, будто из-за какого-то сбоя в небесной механике солнце забыло сесть и повисло на небе, потерянное и смущенное. Я частенько фантазировал по поводу космических изменений, происходящих у меня на глазах. Земля оторвалась от Солнца — и что потом? Смог ли бы Бог восстановить такой же мир? Но почему бы мир оказался другим, если люди оставались бы людьми, как и раньше?
Мириам взяла меня за руку, но прикосновение ее пальцев раздражало меня, и я отодвинул их один за другим. Она говорила о разрушении Варшавы, о польском восстании, о зверствах нацистов, а мне больше не хотелось слушать. Почему она прицепилась ко мне? Может ли такая женщина испытывать любовь? Я заметил, что она все время меняет предмет разговора, быть может, из страха надоесть мне. Я эгоистично радовался тому, что взял верх над Мириам, той биологической властью, которая существует у всех видов, во всех поколениях среди мужчин, женщин, животных, птиц — чем-то вроде универсального приказа. Мне теперь не было нужды нравиться ей, я мог разглагольствовать о любой чепухе и нелепости. Вдруг она спросила:
— Что, ты думаешь, будет происходить с идишем?
Она только что придумала этот вопрос, или он связан с чем-то, о чем она говорила и чего я не услышал? Я решил ответить серьезно.
— Язык будет становиться прогрессивно богаче, в то время как людей, которые на нем говорят, будет все меньше. Идишисты станут бандой нищих и будут писать стихи, которые никто не станет читать. Писатели станут таскать такие тяжелые портфели рукописей, что сами будут шататься под их тяжестью. Они начнут плести заговор, чтобы устроить революцию — не на земле, а на…
Тут Мириам прервала меня:
— Посмотри на это!
Мы достигли южной границы Центрального парка. Окна всех небоскребов отражали сверхъестественный свет, как будто огромная стеклянная стена горела и сияла сама по себе. Это было красиво, если не считать того, что свет словно делал здания пустыми и покинутыми. Мне припомнилась история, рассказанная рабби Нахманом из Вроцлава,[108] о дворце, в котором стоял длинный стол, накрытый для королевского пира, несмотря на то, что дворец был покинут на много лет.
Мириам сказала:
— Не смейся, но я хочу есть.
— Это не повод для смеха.
— Баттерфляй! Я еще могу называть тебя Баттерфляй?
— Можешь называть меня даже Нехби бен Вафси.
— Что это за имя?
— Оно из Пятикнижия. Кроме того, был писатель, который использовал это имя как псевдоним — не помню, писал он на идише или на иврите.
— Баттерфляй, я не могу больше жить без тебя. Это горькая правда.
— Уже не можешь? Так скоро? — спросил я.
Я вовсе не собирался говорить этого. Это сорвалось с моих губ само собой.
— Со мной все происходит быстро. Или быстро, или совсем ничего не происходит, — ответила Мириам.
— А как насчет Макса?
— Я скучаю и по нему тоже.
— И по Стенли?
Мириам передернулась.
— Не упоминай его имени, будь он проклят!
— Где бы ты хотела поесть?
Мириам не ответила. Она взяла мою руку, сжала ее до боли и сказала:
— Баттерфляй, у меня есть идея. Но обещай мне не смеяться над ней.
— Я не буду смеяться.
— Раз ты уже знаешь обо мне правду, пусть все останется как есть.
— Что останется как есть?
— Я буду проституткой, а ты — моим клиентом. Моя квартира будет нашим борделем. Ты будешь платить мне, но дешево. Доллар в неделю или десять центов за ночь. Такие дешевые проститутки были в Варшаве, прямо на твоей улице, на Крохмальной. Разве я менее желанна, чем они? Ты получишь реальную выгоду. Я буду даже готовить для тебя. Люди хватаются за выгоду во всем. Я буду твоим барышом. Ты можешь называть меня шлюхой; с этого дня это станет моим именем.
— А как насчет Макса?
— Он тоже будет называть меня так. Я больше не хочу никого обманывать. Я хочу быть честной проституткой.
Я готов был расхохотаться, но в то же время чувствовал, как жжет мои глаза.
— А как насчет других?
— Каких других? Никаких других не будет.
— Проститутка с двумя клиентами?
— Да, ты и Макс. Если Макс не захочет меня, я буду только твоя. Мне вспоминается история из Библии о пророке, который женился на блуднице. Но я не хочу замуж, я просто хочу быть шлюхой.
— Что мы сейчас будем делать? — спросил я.
— Дай мне десять центов.
— Авансом?
— В Варшаве всегда платили вперед.
— Подожди.
Я рылся в кармане брюк, пока не нашел дайм. Мириам протянула руку.
— На! — Я положил дайм на ее ладонь.
Мириам некоторое время смотрела на монету. Потом взяла ее другой рукой и прижала к своим губам.
— Это самая счастливая ночь в моей жизни, — сказала она.
ЧАСТЬ II
Глава 7
Прошло две недели, а от Макса ничего не было слышно. Может быть, его арестовали в коммунистической Польше? Я звонил Хаиму Джоелу Трейбитчеру, но там никого не было дома. Я проводил ночи с Мириам, но не в ее квартире, а на Парк авеню в квартире лесбиянки, за ребенком которой присматривала Мириам. Мириам представила меня своей хозяйке — Линн Сталлнер — высокой женщине с зелеными глазами и огненно-рыжими волосами, подстриженными под мальчика, и лицом и руками, усыпанными веснушками. Она была курносая, с полными губами. Ее подруга, Сильвия, оказалась маленькой брюнеткой. Обе они были разведены. Парочка отправилась на летние каникулы в Виноградник Марты, а Мириам осталась заботиться о ребенке. В роскошной квартире на Парк авеню Мириам готовила еду для нас обоих. Мы пили вино из «винного погреба» Линн Сталлнер, декорированного под книжную полку. Днем, пока Мириам с маленьким Диди уходила в парк или на детскую площадку, я сидел в библиотеке Линн Сталлнер и читал ее книги, а еще делал заметки по новым темам и задумкам. Иногда я просматривал газету на идише, которую по утрам приносила Мириам.
В каждой комнате квартиры был телефон, и я часто звонил Стефе. Наши разговоры были почти всегда одинаковыми. Где я прячусь в эти жаркие летние дни? Она хотела бы знать, почему я не захожу к ним. Они с Леоном собираются провести месяц в отеле в Атлантик-Сити. Они были бы рады взять меня с собой. Стефа была недовольна мной:
— Я разочарована в тебе, Ареле. Вместо того чтобы сосредоточиться на своей работе, ты валяешь дурака с разными никчемными людьми.Я верю в тебя и в твой талант, но ты делаешь все, чтобы погубить себя. Леон восхищен твоими произведениями на идише, но кто в Америке читает на идише? Ты завяз в трясине и никогда оттуда не выберешься. Писатели на двадцать лет моложе тебя становятся богатыми и знаменитыми, а ты прилип к чему-то больному, гниющему, скорее мертвому, чем живому. Леон предложил заплатить кому-нибудь, чтобы перевести твои произведения на английский. Другие бы кинулись использовать шанс, который он тебе дал, а ты ничего не делаешь, чтобы выбраться из затруднительного положения, в котором оказался.
— Стефеле, литература не так важна для меня, чтобы ради нее становиться попрошайкой.
— А что для тебя важно? Я еще могла бы понять, если бы ты был набожным человеком, как твой отец, или сионистом, который хочет заново отстроить еврейское государство. То, что ты делаешь, все твое поведение, это чистое самоубийство. Откуда ты говоришь?
— Из своего кабинета.
— Врешь, ты не в своем кабинете.
— Откуда ты знаешь?
— Я звонила в редакцию, и они сказали, что тебя там нет.
— Зачем ты звонила?
— Потому что Леон закончил свои дела раньше, чем ожидал, и мы завтра уезжаем в Атлантик-Сити. Я звонила, чтобы попрощаться.
— До свидания, Стефеле. Хорошей тебе погоды.
— Где ты?
Я помолчал, потом сказал:
— Я стал бэбиситтером у матери-лесбиянки.
— Ты надо мной подшучиваешь, что ли?
— Я не подшучиваю.
— Подожди секундочку, кто-то звонит в дверь. Я сейчас вернусь.
Стефа пошла к двери, а я остался сидеть, держа телефонную трубку у уха. На коленях у меня лежала утренняя газета, и теперь я смог просмотреть ее. Неожиданно я увидел заголовок, протянувшийся на несколько колонок: «ХЭРРИ ТРЕЙБИТЧЕР ПОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ». Что-то содрогнулось во мне. Хэрри Трейбитчер, или Хершеле, тот биржевой агент, которому Макс доверил деньги своих клиентов-беженцев. В газете сообщалось, что Трейбитчер повесился, когда был заключен под стражу за незаконное присвоение средств и акций. Утверждалось, что он племянник Хаима Джоела Трейбитчера, известного филантропа, давно принимающего активное участие в делах общины. Я услышал голос Стефы:
— Ареле.
— Да, Стефеле.
— Это был почтальон с заказным письмом для Леона. Что ты там лепетал о бэбиситтере и лесбиянке? Ты что, пьян?
— Я не пьян, но я только что прочел в сегодняшней газете, что человек, который спекулировал на бирже на деньги польских беженцев, людей, которых я знаю, покончил с собой. Это просто катастрофа.
— Ты доверил ему деньги?
— Я нет, но мой близкий друг доверил. Может быть, ты слышала о Максе Абердаме?
— Нет, кто это? Откуда ты говоришь? Кто эта лесбиянка?
— Макс Абердам — мой друг из Варшавы. У него здесь, в Нью-Йорке, любовница, студентка. Она и есть бзбиситтер у лесбиянки.
— Какое это имеет отношение к тебе?
— Студентка пишет диссертацию о моей работе. Она пригласила меня посмотреть то, что уже написала. Она наделала множество ошибок, и я пытаюсь привести это в порядок.
— В самом деле, я начинаю верить, что ты лишился рассудка, — сказала Стефа. — Ни один университет не примет диссертацию о произведениях неизвестного автора, пишущего на идише. Ты всегда связываешься с людьми, которые ничего не делают, только отнимают у тебя время. Я не переношу нью-йоркское лето, и мы завтра уезжаем в Атлантик-Сити. Однако, как ты понимаешь, проводить с Леоном изо дня в день целый месяц совершенно невыносимо. Здесь, в Нью-Йорке, у него деловые встречи, и он оставляет меня одну. Но, когда мы за городом, у него есть только я, и от него трудно избавиться. Если бы ты поехал с нами, мы бы все могли получить удовольствие. Я хочу, чтобы у тебя был наш адрес и, если тебе начнут надоедать твои лунатики и прихлебатели, которые истощают твои силы, ты можешь позвонить и присоединиться к нам. Возьми карандаш и запиши…
Стефа продиктовала название отеля, адрес, номер телефона, а затем спросила:
— Как зовут твоего друга, которого ты упоминал?
— Макс Абердам.
— Это он покончил самоубийством?
— Нет, его брокер, биржевой агент.
— Я о нем никогда не слышала, но Леон узнает, кто это. Какое это все имеет отношение к тебе и лесбиянке?
— Все завязано одно на другое.
— Ладно, пусть будет так, до свидания. Тебе может помочь только Господь!
Как только я повесил трубку, телефон зазвонил снова. Это была Мириам. Она спросила возбужденным голосом:
— С кем это ты так долго разговаривал?
— С сотрудником моей редакции.
— Ареле, Макс болен! — закричала она.
— Заболел в Польше? Как ты узнала?
— Я завезла Диди во время прогулки в мою квартиру, и управляющий отдал мне телеграмму из Варшавы. Сердце подсказывало мне, что что-то неладно. Макс в больнице. Он перенес операцию!
— Господи, что случилось?
— Там только сказано, что была операция. Я знала, что у него проблемы с почками. Я боялась этого путешествия. Как только я услышала, что он едет в Польшу, я поняла, что он направляется навстречу беде. Здесь, в Нью-Йорке, у него есть доктор, который знает все его болезни, который следит за его состоянием. Но врачи в Варшаве, особенно после войны, вероятно, молодые, студенты, стажеры.
— Что точно сказано в телеграмме?
— Что у него была операция и что он будет телеграфировать мне из Швейцарии. И горячий привет тебе.
— Откуда из Швейцарии?
— Он не дал адреса. Вероятно, он едет туда на отдых. Я слышала, что у Матильды Трейбитчер есть вилла где-то в Швейцарии. Ты, конечно, знаешь, что она с ним.
Какое-то время мы оба молчали. Потом я сказал:
— Мириам, похоже, что у нас одна беда наступает другой на пятки. Хэрри Трейбитчер, или Хершеле, как ты его назвала, покончил с собой.
— Что? Я не могу в это поверить!
Я прочел ей заметку.
Мириам запричитала нараспев, как варшавская плакальщица:
— Это убьет Макса! Это конец Максу — и моей жизни тоже. Без него я не хочу жить. Ареле, наконец наступило возмездие. Макс доверил Хэрри все деньги — не только собственные, но и всех его клиентов тоже. В отношении денег Макс исключительно честен. Когда он услышит об этом, у него будет разрыв сердца. Ах, я не знаю, как дальше жить. Баттерфляй, ты всадил нож мне в сердце.
— Мириам, дорогая, я не мог скрывать от тебя эту новость.
— Нет, нет, как бы ты мог? Это бедствие, катастрофа. У Привы не останется ничего, ничего. Я предупреждала Макса, я ему говорила. Когда я встретила тебя в самый первый раз, я рассказывала тебе, что Хэрри мошенник и игрок. Он играл на скачках и разъезжал на «роллс-ройсе». Он бегал за проститутками, не дешевками вроде меня, а такими, которые требуют за свои услуги высокую цену, — актрисами, моделями, оперными певичками, черт знает кем. Макс знал о проделках Хэрри, но он считал его финансовым гением, таким, как его дядя Хаим Джоел. При всех недостатках дяди это еврей старого воспитания, а Хэрри был шарлатаном, распутником, вором. Мне кто-то рассказывал, что у него был частный самолет. Кому это нужен самолет? Что за жулик! Это были не просто деньги, — Мириам повысила голос, — это были деньги отважных людей, кровавые деньги, репарации, которые матери получали за своих детей. Ах, подожди минуту…
В трубке был слышен кашель, тяжелое дыхание. Я услышал рыдания Диди.
— Мириам, что случилось?
— Ничего, ничего. Подожди. Ша, Дидиле! Ша, золотце, успокойся, сладенький, счастье мое! На, попей. Ареле, как только я успокою ребенка, я привезу его. Мне хочется сказать тебе еще одну вещь.
— Что?
— Баттерфляй, улетай, убегай! Если ты не окончательно ослеп, ты должен видеть, в какую мерзость я тебя затащила: воровство, грабеж, проституция, море разврата. Ты был на волосок от пули Стенли. Зачем тебе это? Ты творческий человек, тебе нужен отдых, покой. Зачем тебе гореть в моем аду?
— Все это ты мне скажешь потом, Мириам, не по телефону.
— Я скоро приеду.
И Мириам повесила трубку.
Я был слишком обеспокоен, чтобы оставаться в своем кресле. Я встал и двинулся через комнату к софе. В самом деле, какое мне дело до здоровья Макса Абердама? Почему я должен мучиться из-за этого обманщика — племянника Хаима Джоела Трейбитчера? Или Привы, или Цловы, или Ирки Шмелкес и ее помешанного сына Эдека? Мне надо порвать с этим спутанным клубком судеб и вернуться к своей работе. Но как освободиться, что сделать? В моей комнате на Семидесятой-стрит невозможно работать. Солнце шпарит весь день так, что совершенно невыносимо переносить жару. Может, поехать к Крейтлам в Атлантик-Сити? Конечно, я не мог позволить себе потратиться на первоклассный отель, несколько недель в таком заведении поглотили бы мои сбережения. Я даже не был уверен, что смогу там спокойно работать. Дело в том, что мне нравятся горы, а не море. Моя бледная кожа плохо переносит солнце. Я никогда не учился плавать. Кроме того, застенчивость, сохранившаяся с детства, не позволяла мне валяться полуголым на песке или плескаться в океане рядом с женщинами и девушками.
Я задремал, а когда открыл глаза, увидел Мириам. Она возвратилась и уже хлопотала, укладывая спать Диди. С ней произошла поразительная перемена. Теперь она казалась зрелой женщиной, ее волосы были растрепаны, глаза покраснели. Во взгляде и сжатых губах была безнадежность человека, страдающего от постоянной грусти.
Мириам пыталась дозвониться к Хаиму Джоелу Трейбитчеру, надеясь услышать последние подробности о состоянии Макса, но узнала, что старик тоже уехал в Европу. Мне Мириам сказала:
— Я бы поехала в Польшу, но у меня нет ни адреса Макса, ни денег.
— Я дам тебе то, что у меня есть, — сказал я.
— Почему ты должен это делать? Я могла бы как-нибудь наскрести денег — мой отец дал бы мне. Но я не хочу вновь видеть страну, которая избавилась от евреев.[109] Я предчувствовала, что поездка Макса закончится неудачей. Как я могу поехать к нему? Он, может быть, уже на пути в Швейцарию, к вилле Матильды. Я уверена, что Хаим Джоел Трейбитчер тоже отправился в Швейцарию. Я была бы пятым колесом. Они могут просто не пустить меня к Максу. Все, о чем я молюсь, чтобы он остался жив, но эта история с Хершеле убьет его. Баттерфляй, что я должна сделать?
— Ничего не делай.
— Звонила Ирка Шмелкес. Они все знают о моей связи с Максом. Когда Ирка разговаривала со мной, ее тон подразумевал, что это я забрала ее деньги. Она была просто в истерике и говорила так, как будто Макс промотал ее деньги на меня. Кто знает, на что способны эти старые ведьмы? Когда речь идет о деньгах, люди теряют разум.
— Это можно понять, ведь только деньги защищают их от бедствий.
— Они все придут стучаться в мою дверь. Ирка сказала, что Макс оставил свою жену, Приву, без копейки. Это неправда. У нее есть собственные деньги. Но она ненавидит меня и подстрекает других. Цлова тоже подлая баба. Все они одна шайка и вместе изливают на меня злость. Баттерфляй, у меня единственный выход — смерть. Я хочу попросить тебя об одолжении, но не смейся, я совершенно серьезно.
— Каком?
— Несколько раз в темные периоды моей жизни я хотела покончить со всем. Но я трусиха, у меня не хватает мужества. Однажды я попыталась принять несколько таблеток, но выплюнула их. Ты должен помочь мне умереть.
— Мириам, хватит!
— Не кричи на меня. Мне незачем жить. Я потерпела поражение во всем, что пыталась делать. Я опозорила своих родителей и даже ухитрилась унизить тебя. Ты выглядишь бледным и больным. Все эти неприятности пагубны для твоего здоровья и, в особенности, для твоего творчества.
— Что именно должен я сделать? Отрезать тебе голову? — спросил я.
Глаза Мириам оживились. Мгновенно она снова стала молодой.
— Да, милый, сделай это. Я не могу решиться на это сама. Но если ты это сделаешь для меня, я стану целовать тебе руки. Я как голубка вытяну шею.
— Как голубка?
— Моя бабушка обычно говорила, что когда кто-нибудь готовится зарезать голубку, та вытягивает шею к ножу.
— Ты сама понимаешь, что ломаешь комедию.
— Нет, дорогой, это очень серьезно. У меня дома есть секач для рубки мяса, я дам тебе его. И оставлю записку, что сделала это сама.
— Мириам, даже Аль Капоне не смог бы отрубить собственную голову.
— Тогда задуши меня. У тебя сильные руки. В твоих руках я умру счастливая.
— Поцелуй смерти, да?
— Что это?
— Согласно легенде, Моисей умер, когда его поцеловал Господь.
— Так будь моим Господом.
— Ты хочешь сказать, твоим Ангелом Смерти?
— Это одно и то же.
Мириам обвила руками мою шею. Она принялась целовать меня, кусать мои губы. Я давно знал, что разговоры о насилии, убийстве и смерти возбуждают похоть. В моменты страсти мне приходилось слышать пронзительные крики: «Убей меня! Разорви меня! Вонзи в меня кинжал!» Из глоток вырывались атавистические желания — крики из древнего леса, из пещеры. Мы упали на софу и боролись, катались, обнимались, кусались. Мириам начала стонать, завывая, как животное:
— Я хочу иметь от тебя ребенка! Хочу носить твоего ребенка!
Это все было частью любовной игры. Наступила ночь. Диди проснулся и захныкал в своей кроватке. Мириам оторвалась от меня и побежала в детскую сменить пеленки и дать ему его бутылочку. Его мать где-то в Новой Англии лежала в постели со своей партнершей-лесбиянкой. Когда Мириам возвратилась, она зажгла свет. На руках она держала Диди — рыжеволосого малыша в ночной рубашечке с голубыми глазами и маленьким бледным личиком. Его ручка лежала на груди Мириам, и она сказала, показывая на меня:
— Диди, это твой папочка.
Ребенок смотрел на меня, его лицо было серьезно и спокойно, тихая мудрость отражалась в его глазах. Где-то, сказал я себе, во всем, что существует, есть сила, которая знает и понимает все взаимосвязи между телом и духом. Я никогда не имел ребенка, никогда не хотел привести новую душу в этот проклятый мир, но в тот вечер я почувствовал отцовскую любовь к этому маленькому созданию, которое было совершенно беспомощно, целиком зависело от человеческой ответственности и доброты. Животное в его возрасте имеет зубы, когти, иногда даже рога, и уже может добывать себе пищу. Но Homo sapiens {Человек разумный {лат.)} рождается беспомощным и бессильным и вынужден оставаться таким много лет, пока не выучится и не накопит достаточный опыт. Похоже, что период детства длится все дольше с каждым новым поколением. Мириам наклонила ко мне ребенка.
— Дай ручку папочке.
Я взял маленькие ручки Диди и поцеловал их. Потом немного поиграл с его игрушками. Мириам спросила почти со слезой в голосе:
— Он славный, правда?
— Пока — да.
— Что ты имеешь в виду?
— Из него может вырасти вор, плут, убийца.
— Гораздо больше шансов, что он будет честным человеком, художником, студентом, — возразила Мириам. Она взглянула на меня с дружеским упреком и сказала: — Мы могли бы заиметь такого малыша, как Диди, если бы дела не пошли так плохо.
Когда Линн Сталлнер позвонила Мириам и сказала, что она возвратится в Нью-Йорк на следующий день, Мириам предложила, чтобы я переехал в ее квартиру. Однако квартира Мириам приводила меня в ужас. У Стенли все еще был ключ от двери, и он мог ворваться в любое время. Мы разъехались, и я вернулся в свою комнату на Семидесятой-стрит. Уходя, я забыл опустить штору, и солнце грело комнату целый день. Было жарко, как в печке. Книги, журналы, газеты лежали, разбросанные на полу, на кровати. Удивительно, что они не загорелись от жары. Я был слишком усталым, чтобы раздеваться, и бросился на кровать в пиджаке, брюках и туфлях. Я купил утреннюю газету, но не было сил читать ее. Несмотря на поздний час, грохот машин, дребезжание, хлопание сабвея доносились с Бродвея. В летние месяцы Нью-Йорк был адом. Я проспал, не раздеваясь, всю ночь.
Утром я принял душ в ванной комнате в холле, а затем на сабвее отправился в свой офис. Я долго пренебрегал работой. На моем столе лежал список людей, которые приходили, чтобы излить мне душу и услышать мой совет. Некоторые из фамилий я уже видел ранее: коммунист, который разочаровался в России и искал новой интерпретации марксизма; женщина, трижды пытавшаяся покончить жизнь самоубийством; обманутый мужчина, искавший утешения в алкоголе и наркотиках; молодой человек, сведенный с ума лучами, которые направляли на него враги; девушка, которая искала путь к Господу и к обновлению еврейства. Я уверял их всех, что не могу помочь им. Я сам потерял душу. Но они решили, что только я могу спасти их, и цеплялись за меня и за слова утешения. Они вырезали отрывки из моих статей и подчеркивали слова. Иногда они осыпали меня незаслуженными похвалами; в других случаях обрушивали на мою голову самую горькую критику. И все они строчили мне длинные письма.
Я написал серию статей о телепатии, ясновидении, предсказаниях, фантазиях и других оккультных явлениях, и тут же пришло множество писем с фактами, которые изумляли меня. Изредка я получал от читательниц любовные послания с вложенными в конверт фотографиями.
Я был бы не прочь оставить этот пост, но мои начальники, как на радио, так и в газете, не позволяли мне отказаться от роли советчика. Годами я был неизвестен, и вдруг читатели узнали меня и даже раскрыли все мои псевдонимы. Появились и клеветники. Не было конца жалобам: я слишком пессимистичен, слишком суеверен, слишком скептически отношусь к прогрессу человечества, недостаточно предан идеям социализма, сионизма, американизма, борьбы против антисемитизма, деятельности идишистов, проблемам прав женщин. Некоторые критики выражали недовольство тем, что я увлекаюсь тонкостями фольклора в то время, как на моих глазах возникло еврейское государство. Они обвиняли меня в том, что я тащу читателя назад в темное средневековье. Ну, а почему такой интерес к сексу? Секс не в традициях идишистской литературы.
Кто-то постучал в мою дверь, потом надавил на нее и приоткрыл — медленно, осторожно, с хитрой улыбкой близкого друга, подозревающего, что его не узнают. Это был человек хрупкого сложения, тощий, с острым носом и торчащим подбородком. На нем был костюм из шотландки и то, что в Варшаве называлось «велосипедной шапочкой». Он оглядел меня с головы до ног и сказал:
— Да, это вы. Вам что-нибудь говорит имя Морриса Залкинда?
— Залкинд? Да, конечно.
— Я отец Мириам.
Я вскочил со стула.
— Шолом Алейхем![110]
Он протянул мне не руку, а два пальца. На нем был желтый галстук с черными точками и жемчужиной в узле. Ногти были наманикюрены. Он напоминал мне щеголя из варшавского Клуба Писателей. Я выпалил:
— Отец Мириам? Вы выглядите очень молодо!
— Мне уже больше пятидесяти. Это если считать по числу прожитых лет. А если считать по тому, что я пережил, то мне все сто пятьдесят. Может быть, Мириам рассказывала вам обо мне. Надеюсь, она не отрицает, что у нее есть отец?
Он подмигнул, улыбаясь и демонстрируя полный рот вставных зубов. Я заметил на одном из его пальцев кольцо с печаткой и драгоценным камнем. Из верхнего кармана пиджака высовывались платочек и золотая авторучка.
— Садитесь, садитесь. Очень приятно. Ваша дочь очень часто говорит о вас.
— Вы не против, если я закурю?
— Нисколько. Чувствуйте себя как дома.
Моррис Залкинд достал серебряный портсигар и зажигалку и закурил. Движения были быстрыми и точными. Выпустив дым из ноздрей, он сказал:
— Я живу на Лонг-Айленде,[111] но офис у меня в Астор-билдинг.[112] Я начал читать написанное вами еще в Варшаве. Я также читал все газеты — «Любимый уголок», «Момент», «Экспресс», даже «Народную газету». Я бывал на собраниях в Клубе Писателей, и мне показали вас. «Видите этого рыжего молодого человека? — сказал кто-то. — Это подающий надежды талант». В России простое упоминание вашего имени было запрещено. Их еврейские критики — голодранцы — относились к вам, как к империалисту. Я знаю, знаю. Моя жена, Фаня — она сейчас в Святой Земле[113] со своим любовником — была одной из них. В Варшаве она давала им деньги — для поддержки их политической деятельности и черт знает для чего еще. Они просто прикарманивали их. Об этих годах будут написаны книги, но, увы, не более чем об одной тысячной того, что в действительности имело место. Сталин уже приговорил их всех к смерти. Надо быть слепым, чтобы не понимать этого. Пойдемте на улицу. У меня есть дело, которое мне надо обсудить с вами, но только не мимоходом. Выпьем по чашке кофе. Я не отниму у вас много времени. Самое большее пятнадцать минут.
Пятнадцать минут растянулись на час и более, а Моррис Залкинд все еще говорил. Мы ели ленч в кафетерии. Моррис Залкинд несколько раз повторил, что хочет расплатиться за наш завтрак, но я засунул свой чек в задний карман и твердо решил не отдавать его. Он подробно, в деталях, рассказывал историю всей своей семьи:
— Вы знаете, я полагаю, что мой сын Моня был убит во время восстания сорок четвертого года. В каждом еврее сидит своя собственная бацилла, которая, к сожалению, живет вечно. Теперь перейдем к истории Мириам. Подождите, я принесу еще кофе и пирожные. Дайте мне ваш чек.
— Нет, спасибо.
— Упрямитесь, да? Я сейчас вернусь.
Моррис Залкинд вернулся с двумя чашками кофе и с двумя яичными пирожными. Он начал рассказывать сразу, как только сел за стол:
— Да, Мириам. Именно из-за нее я и пришел к вам.Я знаю все и допускаю, что вам тоже все известно. Она пишет диссертацию о вашем творчестве. Она о вас очень высокого мнения. Макс Абердам, ваш друг, большой хвастун. Ей двадцать семь, а ему шестьдесят семь или, может быть, даже семьдесят. У него слабое сердце и вдобавок еще — жена. Кроме того, он еще держит в доме бывшую любовницу. Как ее зовут? Да, Цлова. Для девушки в возрасте Мириам, с ее способностями, связаться с подобным ничтожеством — просто самоубийство. У меня для нее только одно оправдание: ее мать точно такая же, совершенно ненормальная. Вот какая история.Я не могу больше с ней разговаривать, я имею в виду Мириам. Почему она сердится? Ей можно все, а мне нет? Если моя жена открыто, на глазах у всего света живет с другим мужчиной в государстве Израиль, почему я не имею права? Мириам почти совсем поставила на мне крест как на отце.
Прежде всего, мне бы хотелось, чтобы вы поговорили с ней. Вы, вероятно, знаете, что Хэрри Трейбитчер обанкротился и покончил с собой после того, как украл деньги со счетов жертв Гитлера. Макс Абердам был посредником; эти люди доверяли ему, а не Хэрри. Макс Абердам поехал в Польшу со своей давней возлюбленной Матильдой Трейбитчер и серьезно заболел. Я слышал, что Матильда тоже больна, и что Хаим Джоел, идиот, бросился к ее постели. Для моего ребенка, моей единственной дочери, оказаться замешанной в таком скандале — стыд и позор. Моя дочь принимала участие в этой авантюре, и эта грязь пала и на мою голову тоже. Кто-то рассказывал мне, что Мириам собирается поехать за границу, чтобы встретиться с Максом. Конечно, вы заняты своим творчеством, но так как, похоже, заодно даете советы всем — я должен сказать, разумные советы — почему бы не дать совет и моей дочери, которая является вашей пылкой поклонницей, которая буквально обожает вас? Вам, возможно, уже известно, что моя дочь совершила возмутительную глупость и вышла замуж за какого-то неотесанного слабоумного слюнтяя из простонародья. Мириам худший враг себе же самой. Она делает такие вещи, для которых есть только одно название — мазохизм. Дошло до того, что мы решили послать ее к психиатру, к доктору Бичовски, который в Польше был одним из самых крупных специалистов в этой области. Но Мириам не хотела об этом и слышать. В ее перевернутом сознании это воспринималось так, будто мы задумали упрятать ее в психушку. Ну, уж больше нечего сказать.
Моррис Залкинд оставил свою машину на Ист-Бродвее и настоял на том, чтобы я пошел с ним полюбоваться его новым автомобилем. Он хотел пригласить меня в кафе «Ройял», к Линди или в ресторан морских блюд на Шипсхед-Бэй.
— Зачем вам сидеть в изнемогающем от зноя Нью-Йорке? Там, где я сейчас живу, на Лонг-Айленде, прохладно. С моря дует свежий бриз. Если вы не верите в грядущий мир, почему не получить чуть больше удовольствия в этом? Поедем, проведем вместе несколько часов. Где вы живете?
— У меня меблированная комната на Вест- Семидесятой-стрит.
— По крайней мере, с ванной?
— В холле.
— Какой в этом смысл? Вы намерены отдать все силы бессмертию литературы?
— Право, нет.
— Я спрашивал Мириам, что даст ей диссертация об Аароне Грейдингере, если предмет ее исследования сам нищий. Она возразила, что моя душа заботится только о деньгах, а не об идеалах. Что хорошего, спрашиваю я вас, приносит идеализм? Но моя дочь упрямая, настоящий мул. Я немало истратил на нее, трачу и сейчас, хотя она об этом не знает. Девушке ее возраста следует выйти замуж вместо того, чтобы ухаживать за человеком, который тяжело болен, женат и к тому же окончательно обанкротился. Какой во всем этом смысл, а?
— Любовь не спрашивает о смысле, — сказал я.
— Но что она в нем находит? По мне он отвратителен.
— Она смотрит на него своими глазами, а не вашими.
— Вам легко говорить. У вас нет ни жены, ни дочери.
Я с трудом понял, что мы переехали Бруклинский мост, и автомобиль Морриса Залкинда двигается по направлению к Кони-Айленду. Я не видел Кони-Айленд несколько лет. Мы проехали Шипсхед-Бэй, Брайтон и выехали на Сарф-авеню. Это был все тот же Кони-Айленд, и все же были заметны некоторые изменения — появилось много новых домов. Только шум и суета, и солнечные пляжи, заполненные купающимися, были прежними. Я прикинул, что мальчики и девочки, которые резвились в океане, когда я жил в этих местах, стали теперь взрослыми, и что полуголые загорелые юноши, игравшие там теперь, были, вероятно, их детьми. Однако их лица были точно такими же — сверкающие глаза, выражающие безумную жажду удовольствий и готовность заполучить их любой ценой. Один парень нес на плечах девушку. Она держалась за его кудри, лизала вафельную трубочку мороженого и смеялась торжествующим смехом юности. Низко над водой пролетали самолеты, рекламировавшие продукты, но слово «кошер» можно было заметить редко. На скамьях вдоль бордвока[114] сидели, опираясь на трости, разговаривая и споря, старики.
— Я хочу задать вопрос, — сказал Моррис Залкинд, — но не обижайтесь. Вы не обязаны отвечать. С моей стороны это просто любопытство.
— Что вы хотите спросить?
— Какого рода отношения у вас с моей дочерью? Я понимаю, что она очарована вашими произведениями. Но вы лет на двадцать старше Мириам. И во-вторых, если у нее уже есть этот старый идиот Макс, какова ваша роль в этом романе?
— Ваша дочь обаятельна, умна, эрудирована и обладает редкостным пониманием литературы; она изумительная девушка.
— Отцу приятно слышать такую высокую оценку своей дочери. Но я уже говорил вам, что эмигрантский Нью-Йорк — это маленькое еврейское местечко, и сплетни его главное занятие. Согласно им, у Мириам два любовника, Макс Абердам и вы. Я не могу этому поверить. Зачем ей два старика? Простите, что я так говорю. Мне самому уже больше пятидесяти. Но для девушки в возрасте Мириам вы отнюдь не юноша. Если то, что я сказал вам сейчас, правда, то это абсолютное безумие.
— Это неправда.
— И вдобавок, у нее есть муж. Конечно, она не живет с ним, но пока он не хочет с ней разводиться. Очевидно, он как сумасшедший влюблен в нее, но он шляется повсюду с револьвером и признался кому-то по секрету, что готов убить нас всех — ее, меня, Макса и, кто знает, кого еще? Я проинформировал полицию о его угрозах. Зачем человеку с вашим интеллектом быть замешанным в этих интригах и скандалах?
— Мы познакомились с Мириам, когда она прочла мне часть своей диссертации обо мне, — сказал я, с трудом произнося слова, так у меня пересохло во рту.
— Это я, конечно, могу понять, но провести с ней ночь — кое-что иное. Мне определенно известно, что вы провели ночь в ее квартире. Один из жильцов ее дома, мой клиент, видел, как вы выходили из дома в пять часов утра. Когда он рассказал мне то, что он видел, это было как пощечина. Я хочу быть с вами совершенно откровенным. Если ваши с Мириам отношения серьезны, и вы оба пришли к определенному взаимопониманию, то никто не был бы более счастлив, чем я. Правда, евреи не делают своих писателей богатыми, но я вижу, что вы уже появляетесь на английском. Вы происходите из хорошей семьи, и это было бы честью для всех нас. Моя собственная жизнь не дает мне права поучать вас, но отец есть отец. Зайдем, выпьем по чашечке кофе. Каков бы ни был ваш ответ, мы останемся друзьями. Вот и ресторан!
Мы сели за столик, и официант принес нам лимонад и булочки. Любопытно, но, когда я непроизвольно назвал его Максом, Моррис Залкинд улыбнулся.
— Я Моррис, а не Макс. Понятно, что он способен обманывать женщин, даже мою дочь. Но чтобы он сумел окрутить вас — мне трудно поверить.
— У него есть обаяние.
— В чем его обаяние — в лести, угодливости?
— Можете назвать это и так. У него талант говорить нечто приятное любому человеку.
— И потом выманивать у него деньги?
— Он никогда не надувал меня, равно как и вашу дочь.
— Вот тут вы ошибаетесь. Я дал моей дочери пять тысяч долларов, а он купил для нее акции на имя своего нечестного агента, который теперь мертв. Мириам никогда не увидит из них ни цента.
— Я не знал об этом.
— Вы еще многого не знаете.
Мы долго разговаривали. Моррис Залкинд сказал:
— Теперь не принято давать приданое, особенно в Америке. Но поскольку Мириам — моя единственная дочь, я готов дать хорошее приданое, не меньше двадцати тысяч долларов. В самом деле, все, что мне принадлежит, ее. Я даже готов подарить вам дом, чтобы вы могли спокойно заниматься литературным трудом. Дайте мне ответ, ясный и честный.
Я почувствовал, как мою шею и голову обдало жаром, а губы произнесли словно сами по себе:
— Это зависит от нее. Если она согласна, так и будет.
— Это серьезно? — спросил Моррис Залкинд.
— Да, серьезно.
— Что же, это для меня исторический день. Она согласится, согласится. Мириам вас обожает. Мы вырвем развод из Стенли — не мытьем, так катаньем.
— Я слышал, вы сейчас живете с художницей, — сказал я.
— Да, да, да. Линда. Она подписывается Линда Мак Брайд — фамилия ее мужа была Мак Брайд, — но она еврейка из Галиции. Одному быть плохо. У нашего народа есть поговорка: «Одинокий — это никто». Я вам правду скажу. Я не понимаю ее стихов. Она также пишет картины, и я не понимаю ее картин. Да, мы живем вместе, Линда и я. Но разводиться с моей женой и жениться на Линде — этого делать я не собираюсь. Ешьте, не оставляйте на тарелке.
— Спасибо. Я не могу есть так много.
— Может быть, вы хотите посмотреть Си Гейт? Ведь вы как-то жили там.
— Откуда вы узнали?
— От вас. Вы пишете об этом, а потом забываете. Но мы, читатели, помним. Официант!
Моррис Залкинд рассчитался с официантом. Я хотел заплатить за себя, но Залкинд не пожелал об этом даже слышать. Мы снова сели в машину. Я сказал ему, что хотел бы разыскать дом, в котором я когда-то жил. Дом, в котором снимали комнаты еврейские журналисты и писатели, которых я знал, был снесен. На его месте стоял отель. Но мне хотелось посмотреть, существует ли еще здание с двумя деревянными колоннами у входа, в котором жил мой брат. Однако оказалось, что оно тоже было снесено.
Мы пешком направились к морю, и Моррис Залкинд внезапно взял меня за руку. Отеческое тепло струилось из его руки, и чувство, похожее на любовь, пробуждалось во мне по отношению к человеку, который хотел отдать мне в жены свою дочь. На меня это произвело впечатление еще потому, что сам он был похож на Макса (не физически, конечно, а духовно). Мы стояли у парапета, и Моррис Залкинд сказал:
— Посмотрите на этот песок и эти раковины — им миллионы лет. Я читал, что в тех местах, которые нам известны, как Африка, когда-то был Северный полюс — во всяком случае, холодные края. А там, где сейчас постоянные холода, находят следы пальм и тропических лесов. Когда-нибудь мир перевернется вверх ногами, и, возможно, все повторится — кто знает? До тех пор пока ты дышишь, ты должен думать о такхлес[115] для себя и для своих детей. Чего хочет Бог? Должно быть, того, чего Он пожелает.
Глава 8
Как ни мал был мой мир, он был полон волнений. Неожиданно я услышал, что Матильда Трейбитчер умерла. Это случилось в самолете, летевшем в Швейцарию. Заболев в Варшаве, она отказалась лечь в больницу. Хаим Джоел Трейбитчер, который прилетел в Польшу, чтобы быть у постели больной жены, летел в Швейцарию вместе с ней и Максом, когда она умерла.
Макс послал из Швейцарии телеграмму Мириам. Мириам ответила длиннющей телеграммой, которая наверняка обошлась ей в сотню долларов. Она заверяла Макса, что мы с ней преданы ему, что мы скучаем по нему и что все остается по-прежнему. Мы оба собирались лететь, как только получим от него какую-нибудь весточку. Я предупредил своего редактора, что беру отпуск. Газета должна была мне не один отпуск, а несколько. В сущности, я работал круглый год, посылал статьи, не выставляя счета, никогда не отказывался представить материал, даже когда болел гриппом. Я публиковал в газете роман и не мог, да и не хотел, уходить из нее, пока роман не будет закончен.
Часть дня и все ночи я проводил с Мириам. Впервые за свою литературную карьеру я диктовал некоторые журналистские статьи и даже художественные сочинения. Мириам создала для себя что-то вроде идишистской стенографии. Она печатала на машинке на идише с необыкновенной быстротой. Я обсуждал с ней темы различных статей, и мы вместе составляли планы оставшихся глав моего романа — его последней трети. Убедительность ее советов была поразительна.
Вскоре Мириам узнала, что у Стенли появилась новая возлюбленная, по-видимому актриса, с которой он уехал в Британскую Колумбию. Отец Мириам путешествовал по Европе с Линдой Мак Брайд. Я рассказал Мириам о нашей встрече с ним, и она заявила:
— В мире нет такой силы, которая могла бы оторвать меня от Макса — ни за двадцать тысяч долларов, ни даже за двадцать миллионов — особенно сейчас.
Я заверил Мириам, что буду предан и ей, и Максу всю свою жизнь. Мы обсуждали идею романа, который я мог бы написать и который следовало бы озаглавить «Трое», — историю двух мужчин и женщины. Темой его было бы то, что чувства не подвластны ни законам, ни религиозным, общественным или политическим системам. Мы оба были согласны, что призвание литературы честно выражать эмоции — беспощадные, антиобщественные и противоречивые — какими только и могут быть искренние эмоции.
По вечерам я обычно приглашал Мириам в ресторан на ужин. Мы никогда не уставали ни от любви, ни от разговоров. Не существовало такой темы, которую я не мог бы обсуждать с ней — в философии, психологии, литературе, религии, оккультизме. Все наши дискуссии рано или поздно приводили к Максу и нашему с ним странному партнерству. Но от Макса не было ни слова. Может быть, он все еще лежал в больнице в Швейцарии?
Мы слышали, что несколько беженцев, потерявших свои деньги, ворвались в квартиру Привы, переломали мебель, повытаскивали одежду и белье из шкафов и драгоценности из ящиков туалета. Одна женщина ударила Цлову, которая хотела вызвать полицию, но Прива не разрешила сделать этого. По-видимому, Ирка Шмелкес пыталась покончить жизнь самоубийством, проглотив горсть снотворных таблеток, но Эдек позвонил в «скорую помощь» и отправил ее в больницу, где ей вовремя промыли желудок.
Мириам из-за молчания Макса погрузилась в меланхолию. И все чаще стала заговаривать о самоубийстве.
— Если Макс мертв, то и мне незачем жить, — сказала она.
В ту ночь у меня было такое чувство, как будто между нами лежал призрак, препятствовавший нашему сближению. Несколько раз она называла меня Максом, потом извинялась и поправляла себя. Я уснул и был разбужен телефоном, звонившим в гостиной. Светящийся циферблат моих часов показывал четверть второго. Мириам приняла снотворное и крепко спала. Кто бы мог звонить среди ночи? Опять Стенли? В темноте — я никак не мог вспомнить, где выключатель, — я схватил трубку и прижал ее к уху. Никто не отзывался, и я уже был готов повесить трубку, как услышал шорох и покашливание. Мужской голос спросил:
— Аарон, это ты?
Словно что-то прорвалось во мне:
— Макс?
— Да, это я. Я вылез из могилы, чтобы задушить тебя.
— Где ты? Откуда ты звонишь?
— Я в Нью-Йорке. Только что прилетел из Европы. Самолет опоздал, и мы целый час не могли приземлиться. Ареле, я здесь инкогнито. Даже Прива не знает, что я вернулся. Если мои беженцы пронюхают, что я здесь, они разорвут меня на мелкие кусочки, и они вправе сделать это.
— Почему ты не написал нам? Мы тебе телеграфировали.
— Я до последнего момента не знал, смогу ли прилететь. Матильда умерла, и я сам полумертв. Все библейские проклятия пали на мою голову в этой поездке.
— Где ты сейчас?
— В отеле «Эмпайр» на Бродвее. Как Мириам?
— Она приняла снотворное и сейчас крепко спит.
— Не буди ее. Я серьезно заболел в Польше и какое-то время мне казалось, я вот-вот помру. У Матильды случился инфаркт, и она умерла в самолете. С большими трудностями Хаим Джоел отправил ее тело в Эрец-Исраэль.[116] Она будет лежать там с другими праведными мужчинами и женщинами. Мне же, похоже, придется иметь дело с могилой в Нью-Йорке. Те знахари, что оперировали меня в Варшаве, изрядно напортачили. У меня кровь в моче.
— Почему ты не лег в больницу в Швейцарии?
— Мне сказали, что лучшие врачи по этой части в Америке.
— Что ты собираешься делать?
— В Швейцарии мне дали фамилию врача, мирового авторитета в этой области. Я телеграфировал ему, но не получил ответа. Мне не хочется умирать среди чужих.
— Я разбужу Мириам?
— Нет. Приезжайте завтра. Никто не должен знать, что я здесь. Я записался под другим именем — Зигмунд Клейн. Живу на восьмом этаже. Отрастил седую бороду и выгляжу, как Реб Тцоц.
Внезапно гостиная осветилась, и Мириам, в ночной рубашке, босая, выхватила у меня трубку. Она вопила, то смеясь, то плача. Я никогда прежде не видел ее в такой истерике. Я вернулся в спальню; прошло более получаса. Она никогда не делала из этого секрета — Макс был для нее на первом месте. Вдруг дверь распахнулась, и Мириам зажгла свет.
— Баттерфляй, я еду к нему в отель.
Я решил не ехать с ней, и она спросила:
— Ты что, сердишься?
— Я не сержусь. Я на двадцать лет старше тебя, и у меня нет сил на такие приключения.
— У тебя масса сил. Я скорее умру, чем оставлю его в одиночестве, больного!
Я лег на спину и смотрел, как Мириам одевается. Закончив одеваться, она сразу ушла.
Я попросил позвонить мне, как только она приедет в отель «Эмпайр», но совсем не был уверен, что Мириам это сделает.
Я задремал, и мне приснился Песах в Варшаве. Отец проводит седер,[117] и мой младший брат, Моше, задает четыре вопроса.[118] Я все видел ясно: праздничную кушетку «хейсев»[119], отца в киттл,[120] маму в субботнем платье, которое она впервые надела в день своей свадьбы. На столе, покрытом скатерью, стояли серебряные подсвечники, вино, бокалы, блюдо для седера, в котором в должном порядке располагались харосет,[121] горькие травы, яйца, куриная ножка на косточке. Маца[122] лежала, завернутая в шелковое покрывало, которое моя мать вышила золотом для своего жениха, став невестой. Я слышал, как отец возвысил голос, напевая: «Сказал Рабби Элиазер, сын Азарии: Видишь, мне почти семьдесят лет, а я так и не удостоился чести узнать все об Исходе из Египта, о котором рассказывают по ночам, пока Бен Зома не растолковал этого…»
«Отец жив! — сказал я себе. — Не было никакого Гитлера, никакой Катастрофы, никакой войны. Это все было дурным сном». Я дернулся и проснулся. Звонил телефон? Нет, мне только показалось. Вдруг что-то заставило меня осознать, что я допустил пагубную ошибку в очередной главе романа, которая в пятницу должна появиться в газете. Я написал, что героиня пошла в синагогу на второй день Рош Хашана, чтобы прочесть поминальную молитву по умершему. Только сейчас я вспомнил, что Йизкор[123] не читается на Рош Хашана. Меня удивили и моя грубая ошибка, и тот факт, что сон о празднике Песах и седере, который вел мой отец, напомнил мне ошибку, связанную с Рош Хашана. Осознавал ли мой мозг все, связанное с этой ошибкой? Этот ляпсус был не просто опиской, типографской ошибкой, допущенной молодым наборщиком. Он занимал длинный кусок текста с многословными описаниями. Я стал бы посмешищем для читателей. Есть ли еще время, чтобы исправить это? Металлическая рама, содержащая этот текст, находится на столе в наборном цехе и пойдет в печать не раньше чем утром. Есть только один способ спасти мое литературное имя от позора — одеться, поехать в типографию и перенабрать весь кусок собственноручно (что по правилам профсоюза печатников автору делать не разрешалось).
Я устал и чувствовал слабость, глаза у меня слипались. Как найти такси, чтобы добраться до Ист-Бродвея? Открыто ли здание издательства и работает ли лифт? Мне вспомнились слова Рабби Нахмана из Вроцлава: «Пока горит пламя жизни, все можно исправить». Я вскочил и начал одеваться. Кое-как мне удалось надеть костюм и туфли, но галстук куда-то исчез. Я искал его, но безуспешно. В тот момент, когда я направился к двери, зазвонил телефон. В спешке я схватил трубку вверх ногами и отозвался:
— Мириам!
— Баттерфляй, я сняла для тебя номер! — кричала Мириам. — Здесь, в отеле. Через две двери от Макса. Макс болен, смертельно болен, и он хочет поговорить с тобой.
Мириам расплакалась и не могла говорить. Я спросил:
— Что его беспокоит?
И почувствовал комок в горле.
— Все, все! — Мириам рыдала. — Приезжай сейчас же. Врачи в Варшаве убили его! Ареле, его надо немедленно отправить в больницу, но я не знаю, куда обратиться. Я пыталась вызвать «скорую помощь», но ничего не добилась.
Мириам пыталась объяснить, почему «скорая помощь» не приехала, но ее слова утонули в новом потоке слез. Я услышал, как она задыхается, пытаясь что-то сказать, и пробормотал:
— Еду.
Я вышел к лифту. «Ладно, пусть печатают этот ляпсус и делают из меня посмешище!» — сказал я себе. Второй раз в это лето я уходил из квартиры Мириам среди ночи. Из парка поддувал прохладный бриз, но от мостовой поднимались испарения от вчерашнего зноя. Небо над головой краснело от городских огней, ночь была безлунная, беззвездная, как дыра в космос. Фонари отбрасывали свет на деревья парка.
Я ждал на углу минут десять, но ни одного такси не было. Потом проехали две машины, которые не остановились, хотя я махал им. Я пошел вниз по направлению к отелю «Эмпайр». Теперь такси вдруг начали появляться, но мне уже не хотелось их останавливать. Потом подъехала машина и затормозила возле меня. Может быть, водитель хочет ограбить меня? Я услышал, как он обращается ко мне на идише и называет меня по имени.
Это был человек, которого я знал с детства, Миша Будник, мой земляк, который жил в Билгорае в то время, когда местечко было оккупировано австрийцами. Я в те дни еще посещал Бет Мидраш и уже начал писать. Миша был на каких-нибудь пять лет старше меня — вольнодумец, который брил бороду, носил высокие сапоги и кавалерийские галифе. Австрийцы конфисковали бычков у местных крестьян, и Миша перегонял их в Рава-Русска, где их грузили в товарные поезда, идущие на итальянский фронт. На обратном пути из Рава-Русска Миша занимался контрабандой табака из Галиции. Он и его жена, Фрейдл, тоже контрабандистка, приехали в Нью-Йорк, разыскали меня, и мы заново подружились. Они были моими постоянными читателями. У них были две дочери, обе замужем. Я нечасто вспоминал об этих друзьях, от которых получил приглашение занимать комнату в их доме, когда бы мне этого ни захотелось. Фрейдл готовила для меня старые билгорайские кушанья, по-приятельски называла меня на «ты» и часто целовала. И муж и жена в Америке стали анархистами.
— Миша! — воскликнул я.
— Ареле!
Миша выскочил из машины, обнял меня, и я почувствовал на щеке его жесткую щетину. Он был шести футов ростом и славился своей силой. Я непроизвольно воскликнул:
— Это чудо! Дар небес!
— Чудо, да? Откуда ты среди ночи?
Я принялся объяснять Мише мои проблемы — смертельно больной друг в отеле «Эмпайр» и газета, которая должна опубликовать мою чудовищную ошибку. Он стоял и смотрел на меня, качая головой. Потом оборвал меня:
— Ты в трех кварталах от «Эмпайр». Залезай!
Менее чем через минуту мы оказались перед отелем.
— Что с твоим другом? Инфаркт?
— У него были проблемы с простатой, но, очевидно, ему внезапно стало плохо.
— Идем, мы отвезем его в больницу. Он писатель?
— Нет.
— Как его зовут?
— Макс Абердам.
Миша сердито выпучил черные глаза.
— Макс Абердам в Нью-Йорке? Здесь, в гостинице?
— Ты его знаешь?
— Он взял у Фрейдл пять тысяч долларов и удрал к большевикам в Польшу.
— Я не подозревал, что ты его знаешь, — заикнулся я.
— Хотел бы не знать. Он стащил у Фрейдл деньги, отложенные на черный день.
— Миша, человек смертельно болен!
Мы вошли в вестибюль отеля. Клерк, дремавший за стойкой, открыл заспанные глаза:
— Да?
— В каком номере Макс Абердам? — спросил Миша Будник.
— В каком бы ни был, среди ночи вас к нему не пустят.
Клерк цедил слова сквозь зубы.
— Макс Абердам болен. У него сердечный приступ! — повысил голос Миша.
— Насколько мне известно, здесь ни у кого не было никакого приступа. — Клерк открыл огромную книгу, поискал в ней и сказал: — Здесь нет никого с таким именем.
В этот момент я вспомнил, что Макс Абердам зарегистрировался в гостинице под другим именем. Он сказал мне под каким, но я забыл его.
Миша Будник уставился на меня.
— Послушай, я ничего не понимаю, — сказал он. — Ты что, шутишь?
— Возможно, это и похоже на шутку, но, к несчастью, это правда.
— Макс Абердам здесь?
— Да. Он заболел за границей и прилетел сюда к врачу.
— Для него опасно появляться здесь. Его жертвы разорвут его на куски. Они проклинают его тысячу раз на день. С тех пор как я знаю Фрейдл, она впервые заплакала. Пять тысяч долларов для нас немалое дело.
— Вор — не Макс.
— Смотри, целый ад вырвется наружу. Надо быть бессердечным человеком, чтобы лишить жертв нацизма их денег.
Клерк подал голос. По сердитому выражению его лица и по тому, что он показал на дверь, было понятно, что он хочет, чтобы мы ушли. Я дал Мише знак, чтобы он не уходил, и вновь обратился к клерку.
— Извините, — сказал я, — но молодая леди сняла для меня номер этой ночью. Человек, который болен, наш друг, и мы хотим быть с ним.
Клерк пожал плечами.
— Как зовут юную леди? А вас?
— Молодая леди, небольшого роста. Ее имя Мириам Залкинд.
— Залкинд? Здесь никого нет под таким именем, — сказал клерк.
Миша Будник подошел к стойке.
— Мистер, — сказал он, — этот человек писатель. Он пришел сюда не для того, чтобы врать.
— Вам, вероятно, нужен другой отель. Вам следует уйти, иначе я буду вынужден вызвать полицию.
Мы вышли, и я снова и снова пытался вспомнить фамилию, которую мне назвал Макс, но в мыслях не появлялось даже намека на нее. Миша сказал:
— Ладно, завтра все выяснится. Юная леди позвонит тебе домой или на работу. А что насчет ляпсуса в тексте твоего романа? Я не все понял.
Я снова как смог объяснил проблему с набором, и Миша сказал:
— Если хочешь, я подброшу тебя в газету.
— Только если ты позволишь мне заплатить, как обычному пассажиру.
— Ты спятил? Садись!
Такси помчалось на Ист-Бродвей. Мы вылезли, вход в «Форвард» оказался открытым. Лифтер помнил меня еще с тридцатых годов, когда у меня было обыкновение сдавать статьи поздно ночью, чтобы избегать встреч с постоянными сотрудниками газеты, которые получали полное жалованье и были членами профсоюза. Мы с Мишей поднялись на десятый этаж. Наборный цех был открыт и освещался единственной лампочкой. Рама с набором готовой к публикации части моего романа была на столе, а на ней лежала выброшенная за ненадобностью корректура. Я убрал раздел, в котором была ошибка, — к счастью, он оказался в конце — и бросил его в мусорный ящик. Я перечеркнул его в корректуре, отметив на полях, что его следует убрать и попросить печатника заполнить пропуск. Слава Богу, в последний момент невозможное стало свершившимся фактом.
На обратном пути я попросил Мишу во имя нашей долгой дружбы держать присутствие Макса в Нью-Йорке в тайне. В конце концов, после долгого спора и ругани, Миша согласился. Миша Будник, в самом деле, был моим самым старым другом. Он знал меня с тех пор, когда у меня были рыжие пейсы и я носил вельветовую шляпу, кхалет. Его жена, Фрейдл (это она превратила Мишу в анархиста), была моей тайной любовницей. Фрейдл и Миша верили в свободную любовь и считали институт брака устаревшим и лицемерным. Фрейдл отказалась регистрироваться у раввина. Они получили гражданское свидетельство о браке в Кракове, и то только потому, что без него они не смогли бы въехать в Америку. Свои письма ко мне Фрейдл подписывала девичьей фамилией Фрейдл Зильберштейн. В этом смысле она перещеголяла даже известную феминистку Эмму Голдман.
И тут я вспомнил фамилию, под которой Макс зарегистрировался в гостинице, — Зигмунд Клейн.
В девять утра я позвонил Зигмунду Клейну, и ответила Мириам. Услышав мой голос, она вскрикнула:
— Это ты? Ты жив? Я собиралась сообщить в полицию, что ты пропал среди ночи. Что с тобой случилось?
Посреди разговора она разрыдалась. Я попытался объяснить, что произошло, но она была слишком расстроена, чтобы воспринимать какие-либо подробности. «Я сейчас приеду!» — закричал я, и Мириам повесила трубку. Не умываясь, небритый я приехал в «Эмпайр» и поднялся на лифте на восьмой этаж. Мириам в халате и шлепанцах была бледна и растрепана. В глазах у нее была тревога. Я с трудом узнал Макса. Он лежал на кровати с двумя подушками под головой. Его борода стала совсем белой. Когда он протянул мне тонкую пожелтевшую руку, я заметил, что на указательном пальце больше нет кольца с печаткой. Я наклонился и поцеловал его. Он взял меня за плечи и тоже поцеловал. Потом сказал:
— Мне следует сказать «Будь благословен Тот, кто возвращает мертвых к жизни». Это о тебе. Мы оба были уверены, что ты попал в аварию. Что с тобой случилось? Садись.
Я рассказал Максу о моем ляпсусе с Йизкор на Рош Хашана и о неожиданной встрече с Мишей Будником. Глаза Макса заискрились смехом.
— Ну, у тебя будет о чем писать. Я, друг мой, сильно сдал. Однако благодаря Господу еще не готов уступить привидениям. Все пошло плохо с самого начала. Как будто какой-то цадик[124] или колдун проклял меня. Теперь я знаю, почему ты и Мириам не пришли на «парти» Хаима Джоела Трейбитчера, но тогда я не мог представить себе, что с тобой произошло. Матильда утверждала, что ты просто сбежал, заставив меня беспокоиться. Мы оба приехали в Варшаву буквально больными. То, что я пережил их операцию, это — одно из чудес Бога, а они вдруг заявили, что нужна еще одна. Вскоре умерла Матильда, и я не захотел больше оставаться за границей. Здесь, по крайней мере, у меня есть Мириам и ты. И тут пришло известие о самоубийстве Хершеле. Когда я услышал об этом, то понял, что мой собственный конец близок.
— Макс, ты здесь вылечишься, ты будешь здоров как бык, — сказал я.
— Баттерфляй, не позволяй ему отказываться от борьбы, — воскликнула Мириам. — Миллионы людей, больных теми же болезнями, что и он, проходят через это и вновь становятся здоровыми и сильными!
— Может быть, стану, а может быть, нет. Ничто не сохраняется навсегда. Ареле, я не могу больше оставаться здесь. Я лежу и думаю о тех людях, у которых забрал последние деньги, и мне хочется сдохнуть. Надеюсь, ты никому не рассказал, где я. Если они узнают, то слетятся, как саранча, и похоронят меня заживо. Я знаю, что Прива переворачивает землю и небо, чтобы найти меня. Как долго все это будет продолжаться?
— Макс, все кончится хорошо, увидишь, — сказал я. — Думаю, ты остался без денег. У меня есть кое-что, немного, но это лучше, чем совсем ничего.
— И как же это ты заимел деньги? — спросил Макс. — Ограбил банк?
— У меня есть четыре тысячи долларов.
— Я должен четверть миллиона, а не четыре тысячи, — сказал Макс.
— Я предлагаю тебе деньги не для раздачи долгов, а на врача и больницу.
— Что ты на это скажешь, Мириам? — спросил Макс. — Этой ночью он стал филантропом, готовым отдать свои последние копейки.
— Мириам в ванной комнате, — сказал я.
— Зачем тебе отдавать мне то немногое, что удалось скопить? — спросил Макс. — Ты ожидаешь, что я пошлю тебе чек с того света?
— Я ничего не ожидаю. Ты выздоровеешь, и все дела.
— Ну, это по-настоящему ценно — вернуться и услышать такие слова, — сказал Макс. — Как это говорится? «Для друга последнюю рубаху с себя снимет». Нет, я не возьму твои деньги. Что мне сейчас надо, это найти доктора и больницу — не здесь, в Нью- Йорке, а где-нибудь подальше отсюда, в Калифорнии например. В моем нынешнем состоянии я могу выносить только вас двоих, Мириам и тебя.
Мириам вышла из ванной.
— Я хочу расчесать волосы, но не могу найти гребень.
— Твой гребень в моей постели. Что-то укололо меня в бок, и это оказался твой гребень.
Макс вытащил его из-под подушки. Мириам выхватила гребень из его руки и проворно вернулась в ванную комнату. Макс проводил ее глазами.
— Она тоже жертва, — сказал он. — Все эти годы я делал только одно — подыскивал жертвы, чтобы осыпать их головы несчастьями. Но ты, Баттерфляй, пока еще есть время — улетай! Занимайся своим делом, вместо того чтобы возиться со стариком, который готовится испустить последний вздох.Я говорю тебе это как друг.
— Тебе больше не нужна моя дружба?
— Нужна, нужна, ты дорог моему сердцу. Именно поэтому я умоляю тебя ради всего святого бежать от меня, как от чумы.
Глава 9
Так случилось, что врач, который лечил Макса в его молодые годы в Варшаве, Яков Динкин, вместе с урологом Ирвингом Сафиром (оба практиковавшие теперь в Нью-Йорке) решили, что Макс должен восстановить силы прежде, чем подвергнуться второй операции. У него была не только болезнь простаты, но еще и плохо функционировали почки и начали появляться симптомы уремии. Чтобы предотвратить уремию, они прописали антибиотики и экстракт печени. Миша Будник обещал хранить нашу тайну, и я не думаю, чтобы он нарушил слово. Вероятно, тайну возвращения Макса открыл сосед Мириам на Централ-Парк-Вест, тот самый человек, который рассказал Моррису Залкинду, что я провел у нее ночь.
Скандала, которого боялся Макс, не было. Когда беженцы узнали, что Макс Абердам серьезно болен, и что ему снова предстоит операция, они перестали стучаться в двери Привы, звонить по телефону и беспокоить ее.
Буквально за день до того, как стало известно, что Макс в Нью-Йорке, Прива отплыла на небольшом еврейском судне, которому требовался почти месяц, чтобы достичь Израиля — с остановками в Марселе и Неаполе. Макс рассказал мне, что у Привы была отложена на черный день солидная сумма, образовавшаяся из денег, которые он давал ей, и компенсации, полученной от немцев.
Прива задолжала за три месяца за квартиру на Риверсайд Драйв, и владельцы подали в суд, чтобы получить ордер на выселение. Доктора Динкин и Сафир считали, что Максу было бы полезно провести несколько недель за городом, подальше от раскаленного от жары Нью-Йорка. Мириам телеграфировала отцу в Рим просьбу одолжить денег, но Моррис Залкинд ответил, что пока она путается с этим шарлатаном, Максом Абердамом, он не даст ей ни цента. Макс, который остался совсем без гроша, был тверд в своем нежелании брать у меня деньги, но я убедил его взять у меня взаймы три тысячи долларов. Этого было недостаточно даже для того, чтобы покрыть стоимость операции или пребывания в загородном отеле, но тут случилось, как сказала Мириам, ничто иное, как чудо. Линн Сталлнер собралась лететь в Мексику со своей подругой Сильвией. Она попросила Мириам принять на себя заботы о Диди на время ее отсутствия. У Линн был на берегу озера Джордж дом с острой высокой крышей и балконом, какие часто встречаются в Швейцарии и который она назвала «Шале». Она предложила Мириам пожить с Диди в этом доме. Линн и Мириам всегда доверяли друг другу, и когда Мириам спросила, может ли она взять с собой Макса и меня, Линн ответила:
— Бери кого хочешь.
Все произошло быстро. Линн Сталлнер встречала Макса и читала мой роман, который появился на английском. В доме Линн были все мыслимые удобства, даже небольшая моторная лодка, пришвартованная на озере. За ней и за участком присматривал сторож. Двумя днями позже Линн вручила Мириам чек на покрытие расходов ее и Диди и еще один — ее жалованье. Линн набила свой вместительный «седан» всем, что только могло понадобиться Диди в предстоящие недели, включая коляску и игрушки. Мириам нянчила Диди с тех пор, когда ему было всего четыре недели, и во многих отношениях лучше, чем мать, разбиралась в том, что ему было нужно. Сейчас Диди было четырнадцать месяцев, он уже начал говорить. Он ползал и даже научился стоять на ножках. Свою мать он называл «мама», а Мириам почему-то — «нана». Диди начал узнавать меня и любил кататься у меня на плечах. Линн пользовалась услугами двух врачей-педиатров, одного в Бруклине, другого в Лейк Джордж. Она собиралась звонить по телефону из Мехико каждые два дня. В доме у озера был гараж и машина, которой Мириам разрешалось пользоваться.
В то утро Макс, Мириам и я встретились с Линн и Диди в вестибюле отеля «Эмпайр». Я сел с Мириам и Диди на заднее, сиденье, а Макс — на переднее рядом с Линн, которая вела машину. Макс, Мириам и я, пожалуй, ни разу не говорили между собой по-английски. Теперь я услышал, как Макс говорит по-английски с Линн, хотя и с сильным польско-еврейским акцентом, но свободно и с большим запасом слов. Несмотря на болезнь, он весело шутил, флиртовал с ней, отпускал комплименты, и Линн отвечала ему взаимностью.
В течение шестичасовой поездки до Лейк Джордж я с удивлением увидел, сколь многосторонни интересы Линн и как точен ее язык. Среди польских евреев бытовало мнение, что урожденные американцы не получают хорошего образования и выходят из школы и колледжа полуграмотными. Эта молодая женщина с гривой рыжих кудрявых волос и лицом, усыпанным веснушками, прекрасно разбиралась в акциях, вкладах, банках, страховых обществах, торговле недвижимостью, политике. Она называла имена губернаторов, сенаторов, конгрессменов, которых знала лично. Она проявила понимание еврейских проблем и все знала о вновь созданном еврейском государстве, его конфликтах с арабскими нациями, его политических партиях и их программах. Поглядывая через плечо, Линн разговаривала со мной о литературе, упоминая писателей и критиков, имена которых я никогда не слышал. Мнение, которое она высказала о моей книге, удивило меня. «Откуда и когда она все это узнала?» — спрашивал я себя. Время от времени Макс оборачивался и бросал на меня взгляды, казалось, вопрошавшие:
— Как тебе это нравится? — Он сказал: — Миссис Сталлнер, вам следовало бы быть профессором.
— Так я и была профессором, — ответила она. — Не полным профессором, а ассистентом, лектором или, как называют в Европе, доцентом.
— А что вы преподавали?
— Политэкономию.
— В самом деле?
— Да, именно так. Это Америка. Здесь женщина не обязана проводить всю жизнь за чисткой картофеля и мытьем посуды. Хотя я часто чищу картошку и мою тарелки, я знаю, что собранный, хорошо организованный человек для всего найдет время.
Линн Сталлнер вела машину на очень большой скорости с сигаретой в зубах, зачастую держа руль одной рукой. Если сигарета тухла, она знаком просила Макса поднести зажигалку. Дым выходил у нее изо рта и ноздрей. Я вырос на старых воззрениях Шопенгауэра, Ницше и Отто Вейнингера, утверждавших, что у женщин нет чувства времени и логики, и что они руководствуются лишь эмоциями. Но Линн Сталлнер выдавала решения в долю секунды, и во всем, что она говорила и делала, чувствовались твердость и решительность.
Мы приехали в Лейк Джордж точно в указанное Линн Сталлнер время. Хотя она называла свой дом «Шале», на мой взгляд, он был больше похож на дворец. Там было пять или шесть комнат на первом этаже и множество спален наверху. В кухне стояло новейшее оборудование, все приготовление пищи было электрифицировано. Линн знала хозяйство дома во всех деталях и показала Мириам, что надо будет делать.
Макс зажег сигару, но Линн строго предупредила его, чтобы он никогда не курил сигары в доме. Для этого есть сад с гамаком и шезлонгами. Выяснилось также, что Линн говорит на идише. Она разговаривала на идише с бабушкой еще до того, как выучилась английскому. Макс сказал ей:
— Вы настоящая «Эйше Чайил». Вы знаете, что это значит?
Линн ответила:
— Да, достойная женщина.
— Все, что вам надо, это муж, который сидел бы у ворот и расхваливал вас старейшинам города.
— Я уже это имела с отцом Диди, — ответила Линн. — И в этом не было ничего хорошего — абсолютно!
Закончив с домашними делами, Линн стала прощаться с нами. Она обняла и поцеловала Мириам, потом Макса. Потом повернулась, чтобы проделать это же со мной, но я почему-то отпрянул назад.
— Все еще мальчик из иешивы! — сказала она. И протянула мне маленькую крепкую руку. Линн села за руль, и в одно мгновение ее автомобиль исчез. Макс вынул изо рта сигару.
— Только в Америке, — сказал он.
В тот вечер Макс решил поговорить с нами начистоту. Он временно — по крайней мере, пока следующая операция не восстановит их — потерял свои мужские функции. Доктора в Польше, коновалы, чуть не кастрировали его. Но он не намерен играть роль ревнивого евнуха. Напротив, он хочет, чтобы мы наслаждались друг другом. Он счастлив иметь таких близких друзей. Снова и снова он повторял, какой он старый — настолько, что мог бы быть моим отцом и дедом Мириам.
— Макселе, ты мне не дед, ты мой муж. Я буду любить тебя и останусь с тобой, пока я жива, — возразила Мириам.
— Ты имеешь в виду, пока я жив, — поправил ее Макс.
— Нет, пока я жива.
— Макс, мы приехали сюда, чтобы ухаживать за тобой, а не устраивать оргии, — сказал я, удивляясь самому себе. — Нет ничего более важного, чем твое здоровье.
— Что общего у шемитта с горой Синай?[125] — сказал Макс, цитируя Гемару. — Какое одно к другому имеет отношение? Мы приехали сюда, чтобы наслаждаться обществом друг друга, а не для того, чтобы читать псалмы. Если вы оба, ты и Мириам, счастливы, я тоже счастлив.Яне идол, на которого надо молиться. По правде говоря, я предвидел все это, и поэтому свел вас. Я лежал там в больнице в Варшаве, в агонии среди пьяниц, дегенератов, лунатиков, и только одна мысль согревала меня: вы оба в Америке и любите друг друга. С тех пор, как погибли мои дочери, вы — мои дети.
— Макселе, я твоя жена, а не твоя дочь. Сейчас, когда Прива уехала в Израиль, а ты болен, мое место с тобой.Я ясно выражаюсь?
— Ну, ну, она вдруг решила стать святой, вторая Сара Бас-Товим, — сказал Макс. — Ты, вероятно, прочитала об этом в польском романе и теперь хочешь подражать его героине. Чепуха. Я приближаюсь к концу жизни, тогда как вы только начинаете жить. Мой совет тебе: разводись со Стенли и выходи замуж за Аарона. Вы подходящая пара, ненадежная и незадачливая.
Макс порадовался собственной шутке. Я почувствовал, что краснею. Мириам бросила на меня быстрый взгляд.
— Макс, ты теперь стал сватом?
Мириам приблизилась ко мне.
— Макс и я будем спать в спальне Линн, где я поставила кроватку Диди.
— Да, Мириам, спасибо.
Я обнял ее. Она поцеловала меня в губы и промедлила некоторое время. Ее лицо было бледно.
— Я люблю вас обоих, но здоровье Макса сейчас самое главное.
— Да, ты права.
В машине я так устал, что глаза у меня слипались. Но теперь мне никак не удавалось заснуть. «Ну, мы актеры, — сказал я себе, — труппа Пуримских клоунов.[126] Кто знает, — промелькнуло у меня в голове, — сам Господь — если он существует — может быть, тоже актер». Мне вспомнился стих из псалмов: «Он, который улыбается с Небес», и я представил себе, как Бог сидит на небесах и смеется над собственной комедией.
Я проспал всего несколько часов, потом проснулся. Светящийся циферблат часов показывал без двадцати два. Как часто бывает, мне сразу было не вспомнить, где я нахожусь. Я сел на кровати, потом снова уронил голову на подушку. Макс сначала отказался взять взаймы мои деньги. Но я почему-то настоял на своем, и, в конце концов, он принял их. Эти четыре тысячи долларов всегда были для меня источником уверенности. Я знал, что, если что-нибудь случится в моих отношениях с еврейской газетой, по крайней мере, на год я обеспечен. У меня бывали конфликты с редактором. В своих статьях я часто высмеивал его призывы к объединению пролетариата в борьбе за лучший мир. Один из соредакторов каждое утро приветствовал меня новостью, что накануне вечером он защищал меня — намекал на то, что другие на меня нападали. Было приятно сознавать, что, как минимум в течение года, все мои расходы будут покрыты. В чем вообще я нуждаюсь? Книги, слава Богу, в библиотеке дают бесплатно. Мои женщины не требовали от меня роскоши. Они не требовали ни театров, ни кино. И еще я знал, что Стефа и Леон хотят, чтобы я жил в их доме, где они сохраняли для меня комнату.
И вдруг я небрежно отдаю три четверти всего, что у меня есть в этом мире, моту, беспутному человеку, который к тому же обанкротился. Я спутался с женщиной, которая к двадцати семи годам испытала все возможные приключения. Я хорошо осознавал, что, при всей ее преданности Максу, она строит планы относительно меня, а не его. Она мечтает иметь от меня ребенка, а ее отец даже хотел бы, чтобы я стал его зятем. Глубоко в душе я сомневался, дам ли я когда-либо Мириам свою фамилию. Застарелая мужская спесь все еще жила во мне, в том смысле, который отделяет любовницу от жены, любовную связь от супружества.
Лежа в ту ночь в доме Линн Сталлнер, я старался осознать свое положение и в то же время оценивал его как литературный сюжет. Как, к примеру, можно было бы поведать мою нынешнюю историю читателю? Что бы я сказал, если бы ко мне пришел за советом читатель — человек моего возраста, оказавшийся в более или менее сходных обстоятельствах? Как правило, я изрекал свои суждения подобно оракулу раньше, чем дослушивал до конца их заикания. Я даже убедил себя, что могу предсказать, на что человек будет жаловаться, только взглянув на него, услышав его голос или то, как он произносит слова. Я перечитывал любимый рассказ Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» и спрашивал себя: «А что, если бы живой Иван Ильич пришел ко мне, хватило бы у меня терпения выслушать его?» Нет. Мы наслаждаемся литературными произведениями именно потому, что они не требуют от нас никакой ответственности. Мы можем открыть и закрыть книгу, когда нам заблагорассудится. Нас не призывают утешить страдающего или протянуть ему руку. Сколько жертв Гитлера, чьи истории мы не пожелали выслушать, приходило к нам в редакцию? В последние годы редактор почти перестал печатать воспоминания узников Треблинки, Майданека, Штутгофа, других концлагерей. Я слышал, как он объяснял автору воспоминаний:
— Мы больше не публикуем такие вещи. Наши читатели не хотят их читать…
Читатель предпочитает анонимные страдания, скроенные таким образом, чтобы обеспечить ему некоторое развлечение.
Я задремал, потом снова проснулся. Я не мог больше спать, и постепенно мои мысли вернулись к реальности. Что сейчас делает Мириам? Действительно спит? А Макс — он в самом деле импотент? Может ли хирургия разрушить вечные отношения между мужчиной и женщиной? Нет, это влечение существует даже среди тех, кто не в состоянии осознать его. Я верил, что Господь был романистом, который пишет то, что ему нравится, а весь мир вынужден читать Его, пытаясь разгадать, что Он имел в виду.
Следующий день был солнечным, но не жарким. Макс, Мириам и я завтракали, пока Диди быстро овладевал искусством хождения. Он спотыкался от одного стула к другому, порой бросая на нас взгляд и как будто спрашивая: «Видишь, что я делаю? Видишь, какой я молодец!» Когда он начинал плакать, Мириам подхватывала его, целовала и утешала:
— Ша, Диди, драгоценный мой. Со временем ты всему научишься. Ты станешь большим мальчиком, будешь играть в футбол, пробегать милю за одну минуту.
Макс посадил Диди на колено и подкидывал его вверх и вниз. Он разговаривал с ним на идише, по-английски, по-польски. Он говорил:
— Радуйся, Диди, что ты родился на земле Дяди Сэма, а не в России. Они обзывали бы тебя космополитом, саботажником, шовинистом и написали бы в твоем паспорте слово «еврей».
Диди хватал Макса за бороду и даже пытался засунуть ее в рот, чтобы попробовать на вкус.
Мириам услышала слова Макса и засмеялась.
— Пора идти на прогулку! — объявила она.
Мириам посадила Диди в коляску, и мы отправились в путь. Мы совершили длинную прогулку вокруг озера. Прохожие, большей частью пожилые пары, беженцы из Германии, провожали нас глазами. Мужчины неодобрительно посматривали на нас. Мы разговаривали на идише, но «восточно- еврейский» язык не годился для этих мест в Адирондаке. Это был язык отелей в Кэтскилле.[127] В коляске Диди лежала газета «Форвард», на нее смотрели с отвращением. Эти германские беженцы верили в ассимиляцию — их еврейское меньшинство должно было смешаться с большинством, а не обременять себя восточноевропейским Голус.[128] Из карманов пиджаков у этих мужчин торчали номера газеты «Ауфбау». Макс пробормотал:
— Чего они уставились, эти йеким?[129] Помогла им в Германии их ассимиляция, а?
Они оставались теми же, кем были и раньше, — «йегудим»[130], чье еврейство заключалось в посещении синагоги на Рош Хашана и Йом Кипур, чтобы послушать проповедь раввина.
А в чем, в конечном счете, заключается суть еврейства Макса — или Мириам, или моего? Мы все оторвались от наших корней. Мы — те, кого Каббала называет «незащищенные души», Пережитки духовной катастрофы. И современные бывшие христиане не многим отличаются от современных бывших евреев.
После прогулки Мириам готовила ленч, Макс и я помогали ей на кухне. В часы между ленчем и обедом Макс спал, Мириам продолжала работу над своей диссертацией, а я писал для газеты «Форвард» и корректировал главы романа. Как-то я услышал, как Мириам сказала:
— Если бы это зависело от меня, лето бы никогда не кончалось, и мы бы оставались тут целую вечность.
По вечерам через день, от восьми до девяти, из Мексики звонила Линн. Разговор был всегда одинаковым: Мириам сообщала, что с Диди все прекрасно, погода хорошая. Линн хвалила Мексику, красивое море, горы, древности ацтеков, примитивные нравы мексиканцев. Линн купила вышитый платок для Мириам, ящичек для сигар Максу. Она попросила рассказать мне о том, что встретила женщину, профессора, которая разыскивала в Центральной Америке следы марранов,[131] тайных евреев, давным-давно спасавшихся там от испанской инквизиции. Эта женщина приехала в Мехико-Сити к евреям из Польши, где закрыли еврейский журнал на идише.
Каждый день Макс уверял нас, что чувствует себя лучше, с удовольствием прогуливается. Но Мириам рассказала мне, что он плохо спит по ночам и что у него кровь в моче.
В тот вечер звонка от Линн не было, и мы удивлялись, что могло с ней случиться. Около одиннадцати часов, когда я пожелал Мириам и Максу спокойной ночи, зазвонил телефон. Мириам схватила трубку, я услышал ее голос:
— Кто это? Вы просите Макса Абердама? Кто его спрашивает?
Кто бы ни был звонивший, у меня не было желания вмешиваться, и я медленно пошел наверх в свою спальню. Было слышно, как Макс разговаривает по телефону. Секрет раскрыт? И кто звонил Максу? Вскоре послышались тяжелые шаги по лестнице. Дверь открылась, на пороге стоял Макс. Он с трудом дышал, глядя на меня большими черными глазами.
— Аарон, случилось чудо, абсолютное чудо!
— Что случилось? — спросил я. Мое горло так пересохло, что я с трудом мог говорить.
— Я лечу в Израиль. Хаим Джоел Трейбитчер нашел для меня доктора.
Макс покачнулся, и я, вскочив с кровати, помог ему сесть на стул. Он опирался на меня так тяжело, что я едва удержался на ногах.
— Кто тебе звонил? Как они узнали, что ты здесь?
— Это Цлова, служанка Привы. Я тебя с ней знакомил, когда ты заходил к нам. Помнишь?
— Помню.
— В мою квартиру принесли длинную телеграмму из Тель-Авива от Хаима Джоела Трейбитчера. Он встретил доктора, с которым я был знаком в Варшаве и который теперь широко известный уролог в Израиле. Хаим Джоел Трейбитчер предлагает оплатить мне перелет в Израиль. Я смогу вернуть тебе твои деньги. Я начинаю верить, что где-то есть Бог, который не хочет, чтобы я сейчас покинул Его мир. Прива, как тебе известно, плывет в Святую Землю на корабле. Похоже, что я буду там раньше, чем причалит ее судно.
— Откуда Цлова узнала, что ты здесь? — спросил я, и мой голос звучал как-то странно.
— Это долгая история. Когда Цлова получила телеграмму, она поняла, что я в Америке, а не в Швейцарии. Мириам оставила номер здешнего телефона управляющему своего дома, и, когда Цлова в поисках меня пришла к Мириам, он дал ей номер.
Макс дрожал от волнения. Потом он выпалил:
— Может быть, мне предопределено быть похороненным в Святой Земле.
— Макс, никто тебя еще не хоронит. Ты будешь жив и здоров, — сказал я.
— Мириам теперь вся в волнениях. Она хочет лететь со мной в Израиль, но разве это возможно? Она останется здесь с ребенком. Я хочу лететь как можно скорее. Мне здесь стало хуже, а не лучше. Если бы ты решил составить мне компанию, я бы взял тебя с собой за счет нашего богатого благодетеля.
— У меня нет заграничного паспорта. И виза тоже потребуется, — сказал я.
— Я не подумал об этом. Все, что у меня есть в данный момент, это мое разрешение на въезд.
— Ты можешь выехать из страны и вернуться обратно со своим видом на жительство. Но тебе придется получить разрешение в Иммиграционном Управлении. Что с твоим польским паспортом?
— Польский паспорт у меня продлен.
Дверь распахнулась, и Мириам закричала:
— Баттерфляй, это чудо, чудо! Я колебалась, оставлять ли наш номер телефона управляющему. В последний момент решила, что надо. Как это случилось, что Цлова пошла искать Макса у меня, и почему Джон дал ей номер, я, наверное, никогда не пойму. Я хочу лететь с Максом, я не могу оставить его одного в таком состоянии. Но что мне делать с Диди? Как назло, Линн сегодня не позвонила. И еще мне кажется, что Диди заболел. Я потрогала его лоб, мне кажется, он горячий. Линн оставляла нам термометр, но я куда-то его засунула и теперь не могу найти. Ах, я с ума схожу!
Мириам разрыдалась. Я встал с кровати, на которой сидел, и Мириам упала в мои объятия. Ее лицо было горячим и мокрым от слез.
— Мириам, не впадай в истерику, — воззвал к ней Макс. — Все само образуется. И даже если нет, небо на землю не свалится. Линн оставила тебе свой телефон в Мексике?
Мириам вырвалась из моих рук.
— Ты рехнулся, что ли? Я устала. Я больше не выдержу. Отправляйся в Палестину, лети один. Такие женщины, как я, существуют даже в Иерусалиме. Мне больше не нужны мужчины, я устала от них. Они у меня вызывают отвращение. Я где-нибудь лягу и буду ждать, пока ко мне не придет Ангел Смерти. У меня остался только один друг — смерть.
Мириам выбежала, хлопнув дверью. И в ту же минуту зазвонил телефон. Макс сказал:
— Пожалуйста, ответь, Аарон. Я не могу встать.
Я схватил трубку.
— Миссис Сталлнер?
Молодой голос говорил с испанским акцентом.
— Из Мехико-Сити вызывает мисс Сильвия. Вы оплатите разговор?
— Да, да, конечно!
Я услышал незнакомый женский голос, хриплый и резкий:
— Это мистер Грейдингер? Говорит Сильвия, подруга Линн. Простите, что я звоню так поздно. У меня для вас, к несчастью, плохие новости. Линн попала в аварию. Она в госпитале.
— Авария? Что случилось?
— Она вела машину в нетрезвом состоянии. Меня с ней не было, она ехала к своему парикмахеру. У нее сломана рука и еще несколько царапин. Можно мне поговорить с мисс Мириам Залкинд?
— Минуточку.
Я положил трубку на ночной столик. Дверь рывком отворилась, и в комнату ворвалась Мириам.
— Кто это — Линн?
— Мириам, не пугайся. Линн попала в автомобильную аварию.
Мириам остановилась посреди комнаты. Очень тихо она сказала:
— Я знала это. Я это знала все время.
Я зашел в туалет и присел на крышку стульчака. Как странно, подумал я, что хорошие новости о враче для Макса и его поездке в Израиль вызвали у Мириам такую бурную реакцию, в то время как дурные новости о несчастном случае с Линн были восприняты спокойно. Одно было ясно: Мириам не может лететь в Израиль с Максом.
Я встал и, намереваясь выковырять что-то, застрявшее в зубах, открыл аптечку. На средней полке лежал термометр. Мириам уже закончила говорить по телефону. Она сидела на краю моей кровати, разговаривая с Максом. Я услышал, как она сказала:
— Возьми только летний костюм и плащ.
Я сказал:
— Мириам, я нашел термометр в аптечке.
Мириам кивнула.
— Я поставлю его позже. Пусть Диди сейчас поспит, славный малыш.
Глава 10
Все было готово — чемодан Макса упакован, заказаны билеты на автобус из Лейк Джордж в Нью-Йорк, сделано все необходимое, чтобы быстро получить разрешение на выезд и последующее возвращение в Штаты. Мириам осталась с Диди, а мы с Максом приехали в Нью-Йорк и остановились в его квартире. Те же беженцы, что вломились к Приве и разворовали ее драгоценности, теперь звонили Максу, чтобы пожелать ему счастливого пути и скорого возвращения. Хаим Джоел Трейбитчер в телеграмме Максу объявил о своем намерении компенсировать потери жертв, пострадавших от надувательства Хэрри, и эта новость быстро распространилась среди них. Честность и благородство этого справедливого человека произвели должное впечатление.
За дни, проведенные в Нью-Йорке до отъезда Макса, мы с Цловой так подружились, что стали обращаться друг к другу на «ты». В Варшаве она управляла бельевой мастерской, принадлежавшей пожилой болезненной бездетной паре. Они доверили Цлове свое дело, и после их смерти она должна была его унаследовать. А еще Цлова рассказала мне свою историю. Она родилась в маленьком городке в Люблинском воеводстве и рано осиротела. Выучилась шить и вышивать. Потом работала у корсетного мастера и стала специалисткой по изготовлению нижнего белья для женщин, у которых была слишком большая или слишком маленькая грудь, и тех, что перенесли операции на груди. «Старики», как окрестила Цлова своих хозяев, нередко болели и ездили на заграничные курорты или на виллу, которая находилась в Отвоцке.[132] Цлова присматривала за их большой квартирой и вела дела в мастерской. Заказчицы приезжали к ней со всей Польши, и она удовлетворяла любые их требования. Во время войны Цлова попала в концлагерь, позже в лагере для перемещенных лиц в Германии она получила визу в Америку. Она подружилась с Привой еще в Варшаве. Прива увлеклась оккультизмом и посетила несколько сеансов с известным польским медиумом Клуски. Когда Прива выключила свет, и Цлова положила руки на столик, тот приподнялся над полом и дал правильные ответы на все вопросы. Цлова стала большим знатоком в использовании стола Оуджа. Она уверяла меня, что задолго до того, как пришла телеграмма от Хаима Джоела Трейбитчера, извещавшая, что он нашел для Макса нужного врача, она видела это во сне. Цлова утверждала также, будто видела во сне, что Макс будет жить с Мириам в доме у озера. Когда Цлова попросила меня показать ей ладонь правой руки, чтобы прочесть мое будущее, она сказала:
— В тебе горит большой огонь.
— От Бога или от дьявола? — спросил Макс.
— И то, и другое, — ответила Цлова.
Макс часто высмеивал Цлову, подшучивал над ее видениями и снами и говорил, что она приподнимает столик ногами и обманывает себя и других. Он сказал:
— Как же это все твои духи не смогли защитить тебя от нацистов?
Тем не менее было ясно, как они близки друг другу. Цлова всегда предупреждала Макса, что ему можно или нельзя есть. Когда он зажигал сигару, она буквально вытаскивала ее у него изо рта. Она упаковывала его белье, подштанники, лекарства, как опытная жена. Сама она выкуривала по три пачки сигарет в день, и я однажды случайно услышал, как Макс предупреждал ее:
— Тогда я приготовлю вам встречу.
— Какую встречу? — спросил Макс не без удивления.
А Цлова сказала:
— Я посажу вас в золотое кресло, а под ноги дам эту шлюху, Мириам Залкинд.
За день до отъезда Макса, когда Цлова пошла купить вещи, которые могли понадобиться ему в путешествии — пижаму, носки, резиновую клизмочку, маникюрные ножницы, пилюли от запора и другие полезные вещи, — Макс открыл мне свой секрет (о котором было несложно догадаться): он однажды переспал с Цловой. Он знал, что эта молодая женщина с белозубой цыганской улыбкой и прищуренными татарскими глазами обманывала своих работодателей в Варшаве и свою хозяйку в Нью-Йорке. Макс сказал:
— Я не мог удержаться. Я родился жадиной. Ты унаследовал от меня Мириам и можешь поиметь и Цлову. Ты принадлежишь к людям того же сорта. Я, друг мой, теперь привязан к куче объедков.
— Ты поправишься и наделаешь еще массу свинств, — сказал я.
— Твои бы слова Бог услышал.
Макс сказал буквально те же слова, которые я часто говорил своим женщинам:
— Разве это моя вина, что я могу одновременно любить больше, чем одну?
— Вся идея единобрачия это большая ложь, — сказал Макс. — Ее изобрели женщины и пуританские христиане. Этого никогда не существовало у евреев. Даже наш великий учитель Моисей возжелал негритянку, а когда его сестра Мириам упрекнула его, ее наказали чесоткой. Где это написано, что я должен быть более святым, чем Моисей или патриарх Иаков? Пока я в силах, я себя услаждаю. А поскольку я готовлюсь завершить свое существование, теперь настает твое время.
— Моя первая жена, — продолжал он, — (может быть, она в раю) была праведной еврейской дочерью — однако без проблеска воображения. Я пытался разбудить ее всеми средствами, какие у меня были. Я давал ей читать Мопассана, Поля де Кока, даже нашу польку Габриелу Запольскую. Но все ее мысли были только о платьях, безделушках и дорогих мехах. В ее жилах текло молочное пахтанье, а не кровь. Я даже пытался сводить ее в кабаре. Но все, хоть немного похожее на извивания, она называла одним словом — непристойности. Если мужчина импотент, то его тащат к раввину и заставляют дать жене развод. Но если женщина фригидна, холодна как лед, она вознаграждается за целомудренность. У моей жены была одна безусловная добродетель — она была мне абсолютно верна. Для Матильды, да покоится она в мире, все было делом престижа. Если светские дамы в Париже имеют любовников, у нее тоже должен быть любовник. Хаим Джоел, пусть он простит мне, что я так говорю, был слабаком не только физически, но и духовно. Его страстью всегда были и остаются деньги — и, слава Богу, он сделал более чем достаточно, чтобы все возместить беженцам. Если женщина рождена с горячей кровью, весь мир поднимается, чтобы осудить ее. Она не что иное, как потаскуха. Не только для женщин, но и для мужчин тоже — обабившихся. Ты прекрасно понимаешь, кого я имею в виду.
Я почувствовал, что бледнею.
— Мириам тебе рассказала все?
— Все.
— Тебе известно ее прошлое?
— Да.
— Как бы ты ее тогда назвал?
— Я принимал бы ее такой, какая она есть.
— Мог бы ты на ней жениться?
— Если бы я был в твоем возрасте, да.
— Она хочет детей. Откуда ты бы знал, что они твои?
— Я бы ничего не имел против, если бы они оказались твоими.
— Они могли бы оказаться детьми почтальона.
— Нет. — Макс засмеялся. — Какая польза от разговоров? Но есть одна вещь, которую я хочу, чтобы ты сделал, — не обманывай ее.
— Я ее не обманываю.
— Обманываешь. Она связывает с тобой свои надежды. Как бы невероятно это ни звучало, когда дело идет о настоящей любви, Мириам целомудренно чиста.
На следующий день рано утром мы с Цловой проводили Макса в аэропорт. На обратном пути в такси, когда Цлова прижала свое колено к моему, я сказал:
— Я о тебе все знаю.
— Я знаю, что ты знаешь, — ответила Цлова. — И я знаю все о тебе.
— Что ты имеешь в виду? — спросил я.
— Прежде всего, я знаю, что Макс не умеет держать слово. Он как пьяный: что на уме, то и на языке. Во-вторых, я вижу некоторые вещи во сне, а некоторые наяву. Когда Макс впервые привел тебя к Приве, я видела сияние вокруг твоей головы.
— Что за сияние? Что это значит?
— То, что ты будешь моим.
— Нет, Цлова. На этот раз твое видение неправильное, — сказал я дрогнувшим голосом.
Цлова положила руку на мое колено.
— Не сегодня. Сегодня у меня менструация. Когда ты вернешься.
Я сказал Мириам, что не хочу иметь детей ни от нее, ни от кого-либо еще. Газеты и журналы были полны сообщений о демографическом взрыве. Мальтус[133] был не столь уж не прав, как это утверждали либералы, — было недостаточно пищи для миллионов людей. Катастрофы, вызванные Гитлером и Сталиным, продемонстрировали, что мечты людей о вечном непрерывном мире и объединенном человечестве были нереальными. Возникли десятки новых наций, и везде были раздоры и войны. Даже после гитлеровского Холокоста всемирная ненависть к евреям не ослабла, и Израиль был окружен врагами. Какой смысл приносить ребенка в этот мир? Зачем увеличивать сумму человеческих страданий? Мириам, отчасти соглашаясь со мной, тем не менее возражала:
— Если умножается только зло, то какая надежда остается у человечества?
— Никакой надежды, совершенно никакой.
— Тогда каким образом обезьяна поднялась до человека? Как появился Спиноза или Толстой, Достоевский, Ганди, Эйнштейн?
— Я не желаю играть в эту лотерею.
Мы целовались и продолжали спорить. Все, что нам оставалось, это урвать несколько моментов удовольствия до того, как мы столкнемся друг с другом и лопнем, как мыльные пузыри (каковыми мы и были). Мы с Мириам не были ни вместе, ни врозь. Мы не отрицали Бога и не могли служить Ему. Служить кому (или чему)? — тому, кто осуществлял техническое обслуживание всемирного тяготения и магнетизма, взрывов вселенной и космических лучей, тому, кто никогда не принимал наших молитв и не отрицал их? По ночам мы лежали в постели и исповедовались в наших грехах, действительных и мнимых, комичных и трагических. И нам надо было сказать друг другу так много, что зачастую ночь оказывалась слишком коротка.
Мириам заявила мне: она не может оставаться в Америке, когда Макс находится в Израиле. Он еще только выздоравливает; ему требуется ее помощь и ее любовь. Она предложила мне сопровождать ее за границу. Впрочем, у нее не было денег даже на ее собственные расходы.Я предложил ей тысячу долларов, оставшуюся от моих сбережений. Что бы я делал в Израиле? Там господствовал не идиш, а иврит, гордый язык патриархов, а не жаргон беженцев. Те, кто продолжал вести древнюю битву с филистимлянами, стремились стереть из своей памяти две тысячи лет изгнания и гетто, инквизиции и погромов. Они хотели быть нацией среди наций, такой же, как все другие. Я собирался посетить когда-нибудь эту страну, но еще не сейчас.
Что-то произошло с моим романом — я зашел в тупик. Мне пришлось переписать десятки страниц, вернуть части рукописи, уже отправленные в типографию. На самом деле я жил в состоянии постоянного кризиса, опасаясь забыть сюжет, ослабить характеры, снизить напряжение ожидаемого. Меня атаковали демоны, которые водружают препятствия на пути автора, парализуют его память, заражая его чопорным самодовольством. У меня были свои способы изгнания дьявольских духов, я знал их проказы и понимал их вред. Однако этого было недостаточно. Как и смертоносные бактерии, которые становятся нечувствительными к лекарствам и находят все новые способы поражать организм, литературные бесенята никогда не прекращали борьбу. Они постоянно искали слабые места, нравственную неустойчивость. Чем больше работы было выполнено, чем более утомленным становился ее создатель, тем более бесстыжими становились разрушители. Приходилось постоянно быть настороже. Даже у великих писателей, классиков, мастеров бывали свои неудачи. Возможно, мозг изначально сконструирован так, что человек весьма искусен в отыскании чужих ошибок и по-детски наивен и слеп по отношению к своим собственным.
Путешествие в Израиль отняло бы у меня время и силы.Я должен был находиться в тесном контакте с редакцией, читать гранки, быть готовым корректировать свой текст. Я часто вспоминал слова каббалистов, что человек послан в этот мир ради Тиккун.[134] Нам постоянно требуется исправлять наши ошибки. Даже в сфере Атцилют, в мире света, сосуды разбивались, и божественные искры разбрасывались вниз, в бездну мира Келипа. Искусству следует многому научиться у этой древней мистики и ее символов.
Прошло три недели, и возвратилась Линн Сталлнер, одна ее рука была в гипсе, другая забинтована. С ней приехали Сильвия и прислуга-мексиканка. Мириам заплакала, расставаясь с Диди, и я почувствовал, как увлажнились мои глаза. Малыш поцеловал меня и назвал папой.
Вскоре от Макса авиапочтой пришло письмо, в котором говорилось, что он чувствует себя лучше, но сильно ослаб после такого количества операций. Он скучает по Мириам и по мне. Он прислал мне чек на три тысячи долларов, которые я ему ссудил, и другой — Мириам на ее расходы. Оба чека были подписаны Хаимом Джоелом Трейбитчером. Хаим Джоел тоже прислал мне письмо на иврите, пересыпанное цветистыми библейскими выражениями и цитатами из Гемары. Он добавил несколько дружеских строк на идише для Мириам. Он начал выплачивать наворованное его племянником Хершеле (или Хэрри) у беспомощных клиентов. Он собирался также вернуть Мириам пять тысяч долларов, которые дал ей Моррис Залкинд и на которые Макс и Хэрри спекулировали акциями.
Когда Мириам прочла письмо, она принялась танцевать и хлопать в ладоши и кинулась ко мне с поцелуями и радостными восклицаниями. Однако мне пришлось сказать ей, что я не готов лететь в Израиль. Кризис, опутавший мой печатавшийся в газете роман, разрастался. Впервые редактор попытался изъять целые главы, не посоветовавшись со мной. Я позвонил ему и сказал, что, если он не восстановит утраченное, я откажусь от романа. Наш спор должен был обсуждаться на заседании редколлегии, которое не могло состояться раньше, чем через несколько недель, потому что до Дня Труда[135] издатель и несколько членов редколлегии были или в отпуске, или за границей. Не только роман, но и мое положение журналиста и консультанта было поставлено на карту. Я скрывал это от Мириам, чтобы уберечь ее от лишних тревог, но теперь вынужден был объяснить ей всю ситуацию.
Вышло так, что Мириам пришлось вылететь сначала в Париж, а потом в Тель-Авив за три дня до Рош Хашана. Мне хотелось купить ей подарок, и, когда я спросил, чего бы она хотела, она ответила:
— Библию.
— Израиль переполнен любыми мыслимыми изданиями Библии, — сказал я и предложил вместо этого подарить ей авторучку.
Но она сказала:
— Библия это то, чего я хочу, и ты должен подарить мне ее. Если нет, мне придется купить ее самой.
Она никогда раньше не говорила со мной так. Я спросил:
— Что случилось? Ты вдруг стала религиозной?
И она ответила:
— Да, стала религиозной.
В окне магазина на Бродвее я видел небольшую Библию в деревянном переплете с выгравированной на обложке Стеной Плача[136] и купил ее для Мириам. Владелец лавки дал в придачу маленькую мезузу[137] в бронзовом футляре и ханукальный дрейдл[138]. Я принес все это Мириам. К моему изумлению, она достала откуда-то пару серебряных подсвечников, которые, по ее словам, мать подарила ей, когда она вышла замуж за Стенли.
— Что ты собираешься делать? — удивленно спросил я.
И Мириам ответила:
— Будь так добр, открой в Библии главу, которую ты называешь Тойкхекхе.[139]
— Откуда ты знаешь о Тойкхекхе? Что ты собираешься делать?
— Я знаю об этом из твоего рассказа.
— Что ты задумала? Я не помню такого рассказа.
— Открывай. Я помню.
Я открыл Библию на нужной главе, а Мириам зажгла свечи.
— Что это за выходка?
— Успокойся и подожди.
Мириам накрыла волосы белым платком. Она достала из-под блузки кусок бумаги и начала читать:
— Клянусь Богом и душами тех, кто дорог мне; мертвых, погибших от руки Гитлера (пусть его имя изгладится из памяти), что в моей жизни не будет других мужчин, кроме Макса и тебя. Если я нарушу эту священную клятву, пусть все проклятия Тойкхекхе падут на мою голову. Аминь.
Мириам произносила слова с монотонным молитвенным распевом, напомнившим мне каддиш,[140] или Эль Мале Рахамим,[141] или напевы религиозных женщин, оплакивающих мертвых. Она подняла вверх руки и возвела глаза к небесам. Я хотел прервать все это, но что-то во взгляде Мириам остановило меня. Закончив, она закрыла Библию и поцеловала ее.
Я сказал:
— Дурацкая мелодрама. В самом деле, Мириам, это чересчур. Какая-то безвкусица. Как ты можешь дать такой обет? Я на двадцать лет старше тебя, а Макс на сорок.
— Я это знаю. Но что бы между нами ни происходило, я не хочу, чтобы ты лежал бессонной ночью, думая, что я обманываю тебя с другими.
— Какую цену может иметь клятва, данная тем, кто не верит в Бога?
— Я верю в Бога.
— Можно я уберу свечи?
— Пусть горят.
— Я тоже должен дать такой обет? — спросил я, удивляясь собственным словам.
— Нет, нет, нет. Ты мне ничего не должен. Это я уезжаю от тебя, а не ты от меня. Я буду с Максом, и ты можешь иметь любую, кто тебе понравится.
Было что-то древнее и внушающее благоговейный страх в голосе и поведении Мириам. В моем горле застрял комок. В этот момент мне вспомнились родители, дядья, тетки, моя двоюродная сестра Эстер — все, погибшие от рук нацистов. Эти свечи, горящие среди белого дня, напомнили мне свечи, которые ставят в изголовье умершего. Я старался объяснить себе, что церемония была театральной, всего лишь проявлением женской истерии. Но вместо этого я стоял и не отрываясь смотрел на Мириам и на язычки пламени, играющие в ее зрачках. На голове у нее все еще был белый платок. Мне казалось, что за эти мгновения она стала на несколько лет старше.
Я вновь услышал слова Макса: «Когда дело идет о настоящей любви, Мириам целомудренно чиста».
— Сколько еще будут гореть эти свечи? — спросил я.
— Пока сами не потухнут.
В этот вечер Мириам не позволила мне зажечь электричество. Она делала все домашние дела при тусклом свете двух свечей: готовила для нас ужин на своей кухоньке, потом укладывала вещи в три большие дорожные сумки, которые собиралась взять с собой в Израиль. С белым платком на голове она напоминала мою маму в те времена, когда я был маленьким мальчиком, который ходил к Фишлу, местечковому меламеду в Радзимине, или в хедер Моше Ицхака в доме пять по Гржибовской улице в Варшаве. На ломберном столике Мириам поставила тарелки и разложила серебряные приборы, все в молчании, как будто я был ее юным подопечным, а она только что вышедшей замуж хасидской женой. Я не мог оторвать глаз от двух маленьких язычков пламени, как будто раскрывавших лживость окружающей буйной цивилизации — культуры неверующих, бесчисленных машин и изобретений, терзающих мир последние два столетия. «Как могут две грошовые свечи так изменить настроение мужчины и женщины?» — спрашивал я себя. Мы ужинали иначе, чем раньше, меньше разговаривали, понижали голос. Это было странно, но мне казалось, что руки Мириам стали более деликатными, а пальцы длиннее и красивее. Ее прятавшиеся в тени глаза излучали какое-то благородство, о существовании которого я успел забыть. Прошли годы с тех пор, как я заглядывал в святую книгу или заходил в освященное место. Но мерцание пламени свечей вернуло меня в Дома Учения и хасидские избушки, где я начинал изучать страницы Гемары. Первые комментарии Мишны в трактате Берахот всплыли в моей памяти, и я начал бормотать нараспев:
— Когда Шема читается по вечерам? С того времени, как жрецы входили, чтобы съесть их приношения, говорил Рабби Элиезер. И мудрецы беседовали до полуночи. Рабби Гамлиель говорит, что до рассвета…
— Ты что-то сказал? — спросила Мириам.
— Кое-что из Гемары.
Она пошла в ванную чистить зубы.Я лег на кровать, и она пришла ко мне в ночной рубашке с кружевной отделкой, которую я раньше не видел. Она сказала:
— Slub по-польски означает бракосочетание, а также — обет.
— Да.
— Сегодня я сочеталась с тобой браком, — провозгласила она.
Мы обнялись и лежали молча. Мириам извивалась в моих руках; ее тело было горячим, она дышала часто, как в лихорадке. Она сказала:
— Не беспокойся. Я ни к чему не принуждаю тебя. Я сочеталась с тобой браком, не ты со мной. Я знаю, что я тяжко грешна перед Богом, перед тобой, перед Максом. В старину я была бы изгнана из общества или даже побита камнями. Но какое дело Богу до того, что делают маленькие людишки на этой планете? У него во Вселенной мириады миров и других созданий, и других душ. Даже здесь, на Земле, не все живые существа следуют одним и тем же законам: у нас был пес, который спаривался с собственной матерью. Подожди, я схожу, взгляну, горят ли еще свечи.
Мириам встала с кровати и пошла в гостиную. Она вернулась, говоря:
— Одна свеча выгорела, другая еще мерцает.
Мы заснули и проснулись ровно через три часа. Пробуждение оказалось для меня облегчением, потому что мне снилось, будто я приглашен знакомым писателем в квартиру на верхнем этаже высокого здания. Я привел с собой какую-то женщину, которая одновременно и была, и не была Мириам. Я позабыл принести хозяевам бутылку вина и вышел, сказав, что скоро вернусь. Я начал спускаться по бесчисленным маршам лестницы — там не было лифта, — и когда наконец добрался до улицы, то с удивлением обнаружил, что я не в Нью-Йорке, а в местечке, среди небольших деревянных домов и немощеных тротуаров с лужами и ручейками, как после дождя. Вокруг бродили козы, и цыплята поклевывали зернышки. «Разве это возможно?» — спрашивал я себя. В одном из домов была открыта дверь, и я вошел, чтобы спросить, где найти лавку, торгующую вином. Там оказалось целое сборище молодых людей и девушек, которых я знал в Варшаве. Все они здоровались со мной, а одна девушка в разорванном платье и поношенных туфлях выругала меня за то, что я ее бросил. Она стояла и читала стихотворение, которое показалось мне знакомым. «Где я? — спросил я. — Это Нью-Йорк? Я был приглашен в дом писателя и спустился за бутылкой». — «Какой город? — спрашивали все. — Как зовут писателя?» И тут я понял, что забыл и то и другое. «Это где-то на Бродвее, — сказал я, — но не на Манхеттене, а в Квинсе». Они смотрели на меня, но не понимали ни слова. Я оказался в Польше, но как? Кроме того, в Польше теперь совсем нет евреев. И что скажет мой хозяин? В этот момент я услышал голос Мириам:
— Баттерфляй, ты спишь?
— Нет.
— Который час?
— Двадцать минут третьего.
— Ах, Баттерфляй, я не могу покинуть тебя. Я уже тебя теряю. Я хочу остаться с тобой, но Макс ждет меня. Он мой отец. Он очень болен. Я так боюсь!
— Чего ты боишься?
Мириам не ответила. Она прикоснулась своими губами к моим.
Я на время переехал в квартиру Мириам, но не сдал свою комнату на Семидесятой-стрит. Теперь, когда Макс возвратил мне взятые в долг три тысячи долларов, я чувствовал себя богачом. Я получил три приглашения на праздники. Фрейдл Будник напомнила мне, что первый вечер Рош Хашана принадлежит ей. Она хотела, чтобы я остался и на второй вечер, но я уже пообещал провести его со Стефой и Леоном Крейтл. Цлова также звонила мне. Сейчас, когда Прива плыла в Израиль, Цлова почувствовала себя совсем одинокой. У нее не завязалось в Америке никаких знакомств. Она не научилась достаточно хорошо говорить по-английски. Она сказала:
— После того как вы с Максом были здесь последний раз, я не разговаривала с живыми людьми.
Мы договорились встретиться в два часа дня накануне Рош Хашана. Несмотря на то, что дома на Семидесятых, Восьмидесятых и Девяностых улицах между Бродвеем и Централ-Парк-Вест были полны евреями, не было видно никаких признаков Осенних Праздников.[142] Бродвей выглядел в точности так же, как в другие дни года. В Нью-Йорке виноград, ананасы и гранаты не были чем-то таким, что продавцы специально оставляют для Рош Хашана. Звуки шофара[143] не были слышны в синагогах в месяце Элул.[144] Никто не пытался победить сатану, остановить его поношение народа Израиля. Постоянные гудки автомобилей и грохот могли бы заглушить даже звуки шофара, возвещающие приход Мессии. Я купил для Цловы коробку шоколада с надписью «Ле шана тов тиктейве»[145] и шел к Риверсайд-Драйв, где находилась квартира Привы и Макса. По дороге я остановился и купил номер газеты «Форвард». Среди торжественных статей, посвященных наступающим праздникам, и новогодних приветствий от различных еврейских организаций, а также от президентов США и Израиля последний выпуск моего романа вносил в газету штрих будничности — сцена происходила в варшавской тюрьме.
Я позвонил в дверь, и почти сразу же появилась Цлова, в переднике и домашних туфлях. Я попросил ее приготовить ленч не слишком сытным, так как вечером должен был обедать с Фрейдл и Мишей Будниками. Хотя Фрейдл считала себя анархисткой и атеисткой и верила, что религия это опиум для народа, на праздники она готовила в соответствии со старыми традициями — на Песах у нее была маца, четыре бокала вина, горькие травы, харосет; на Рош Хашана она ставила на стол редиску, яблоки с медом, морковь и голову карпа. У нее всегда был графин со сладким еврейским вином. Приготовленные Фрейдл блинчики, клецки, оладьи на Хануку, бабка на Шавуот и хоменташи[146] на Пурим были первоклассными. Для Хошана Раба[147] она пекла халу и резала морковь «кружочками». Халу для Пурима она заплетала с обеих сторон и посыпала шафраном. Предками Фрейдл были многие поколения набожных евреев и хасидов.
Едва Цлова открыла дверь, из кухни донеслись ароматы нашего ленча. Она обняла и поцеловала меня. Когда я вручил ей коробку шоколада, она воскликнула:
— Транжир!
Стол в столовой уже был накрыт. Цлова уверяла меня, что беженцы перебили китайский фарфор и прекрасный хрусталь Привы, но сервировка вполне годилась для банкета. Через некоторое время Цлова пригласила меня к столу. Мне и раньше было известно, что одинокие люди, как мужчины, так и женщины испытывают необычайную нужду в разговоре. Как только мы сели за стол, на котором стояли рубленая печенка, томатный суп, каше варничкес с грибами и компот, а также чай с лимоном и разные варенья, Цлова принялась пересказывать историю своей жизни, насыщая ее новыми деталями и происшествиями. Она ела, курила и болтала.
Я слушал Цлову, мысленно заклиная себя не заводить с ней романа. Обет Мириам перед отъездом и ее замечания по дороге в аэропорт были еще свежи в моей памяти.Я начал расспрашивать Цлову о ее оккультных способностях, и она с готовностью подхватила эту тему. Она рассказывала:
— У меня эти способности с детства. Мне снилось, что кто-нибудь умер, а через несколько дней его несли мимо нашего окна. Несколько раз я рассказывала родителям о том, что мне снится, и мама бранила меня. Она говорила: «Твои сны беспокоят меня. Все эти сны могут приходить от наших врагов, врагов тела и души». Мой отец преподавал Гемару, и он сказал, что, если я еще раз приду к нему со своими снами, то он меня высечет. У него была шестихвостая плетка, прибитая к заячьей лапке. Он сек ею мальчишек, которые допускали ошибки и не желали прилежно делать свои задания. Отец схватил меня за волосы и потащил в каморку, где хранились инструменты — лопаты, метлы, корыта. Он сказал мне: «Твои сны приходят из дьявольского источника; это не что иное, как колдовство». Я не понимала, что означают слова «источник» и «колдовство», но эти два слова нагнали на меня такой страх, что даже сейчас я вздрагиваю, когда слышу их.
Я поклялась родителям держать язык за зубами, но меня все равно продолжали посещать «видения», иногда наяву, а иногда во сне. У меня был младший брат, которого звали Барух Давид Алтер Хаим Бен-Цион. У кого еще было пять имен? Его назвали Барух Давид, но за несколько лет до его рождения мои родители потеряли двойняшек, мальчика и девочку, умерших от скарлатины. Когда родился Барух Давид, отец поехал к своему рабби в Кузмир, и тот посоветовал ему добавить остальные имена — Хаим (чтобы он мог жить), Алтер (чтобы мог достичь старости) и Бен-Цион (чтобы он мог защититься от дьявола). Рабби велел одевать мальчика в белый кафтанчик, белые панталоны и белую шапочку, чтобы заставить Ангела Смерти поверить, что мой брат уже мертв и носит саван. Дома мы называли его только одним именем, Алтерл. Мать и отец тряслись над ним, как над сокровищем. Другие дети боялись играть с ним. У него была хорошая голова на плечах, и его меламед предсказывал, что он вырос бы вундеркиндом. Преподаванием отец не зарабатывал достаточно на жизнь, поэтому мама выручала семью продажей молока. Еще она пекла гречишные плетцели,[148] и мальчики из иешивы обычно забегали к нам и покупали их. Когда мне было девять лет, мама заплетала мне волосы в две косички. Не знаю почему, но эти мальчики всегда смотрели на меня, пожирали глазами. Тогда я боялась мужчин. Мне было одиннадцать, когда мне однажды приснилось, что Алтерл лежит на своей лавке, а над его головой кружится черный огонь. Как может огонь быть черным? Но так мне казалось. Я проснулась, зная, что Алтерл умрет. Он спал на соседней лавке, и я пошла посмотреть на него. Он крепко спал, но все его личико было освещено, как будто на него бросали свет луна или фонарь. А над его головой я увидела черный огонь, как будто раздуваемый мехами, которые были в кузнице нашего кузнеца Итче-Лейба. Я быстро оделась и выбежала из дома. Я бродила и бродила, пока не рассвело. Это было после Суккота, и дорога была сплошным месивом грязи. Грязь в Изевице была знаменита на всю Польшу. Короче, в тот день братик умер.
Вскоре после этого у моего отца случился удар. Он потерял сознание, и его не смогли привести в чувство. Мать зачахла годом позже. Там, в Изевице, я стала швеей. Про Варшаву ты уже знаешь. Почему я рассказываю тебе эти вещи? По одной причине: у меня были видения. Сегодня.
— Что ты видишь во мне? — спросил я.
Цлова какое-то время изучала меня, а потом сказала:
— Ты изменился.
— Что ты имеешь в виду?
— Не сердись, — ответила Цлова. — Я не имею в виду ничего плохого.
— Скажи, что ты имеешь в виду!
Как бы пытаясь проверить меня, Цлова сказала:
— Ты сделал то, о чем теперь сожалеешь.
— Что я сделал?
— Возможно, женился?
— Я не женился.
— Что-то ты сделал. Эта Мириам — ведьма. Подожди, я принесу еще чая.
Наступил вечер, а мы все еще сидели и разговаривали. Я целовал Цлову, целовал ее лицо, губы, даже груди, но дальше не шел. Я поклялся не изменять Мириам. Часы показывали шесть, и я сказал Цлове, что мне пора идти, Будники ждут меня.
Она ответила:
— Я провожу тебя до их дома.
— О чем ты говоришь? Это долгий путь в метро, час или больше.
— У меня масса времени. Я никогда не оставалась одна в Рош Хашана. Даже в концлагерях.
— Я бы взял тебя с собой, но ты же знаешь, каковы женщины.
— Знаю, знаю. Они ненавидят меня, все, потому что я моложе и потому что Макс однажды был моим. Они сорвали всю свою злость на мне и Приве. Они ругали и проклинали ее и плевали на меня. Почему ее или меня можно было считать виноватыми? Она ничего не знала о делах Макса и его намерениях. И зачем она сбежала в Израиль? Пойдем, разреши мне пойти с тобой.
— Цлова, это бессмысленно.
— В этом самый смысл. Когда я остаюсь одна, то начинаю слишком много думать.
— Ты скучаешь по Максу?
— Да, а теперь я буду скучать и по тебе.
Мы вышли из квартиры; Цлова заперла дверь на два замка. В лифте мы столкнулись с разодетыми по-праздничному мужчинами и женщинами, шедшими в синагогу с молитвенниками в руках. В метро было почти пусто — начало Рош Хашана давало о себе знать. Нееврейские пассажиры, разойдясь по почти пустому поезду, читали вечерние газеты на английском, в которых выделялась фотография белобородого еврея в талесе,[149] трубящего в шофар. Цлова и я уселись в углу последнего вагона и смотрели на убегающие назад рельсы. Цлова взяла меня за руку.
— Он не ценит то, что я по нему скучаю. Макс заводил любовные связи со всеми подряд. Он похож на турка. Ему надо было иметь — как это называется? — гарем. Но он болен, болен. То он силен, как бык, а на следующий день слаб, как муха. И еще он никогда не переставал спрашивать меня, с кем я спала, со сколькими я спала.
— А со сколькими ты спала? — спросил я.
— Теперь ты хочешь знать? Я не считала.
— Двадцать?
Цлова долго молчала.
— Даже десяти не было.
— Где? В Варшаве?
— Все в Варшаве. Здесь не было никого, кроме Макса.
— А что было в концлагерях?
— Им не разрешалось трогать еврейских девушек. Rassenschande {Осквернение расовой чистоты(нем.)} они это называли. Мы все кишели вшами. Ах, если бы только поезд шел, шел и никогда бы не добрался до места назначения.
— Куда бы ты хотела поехать?
— В Израиль, в Китай — лишь бы не расставаться с тобой. Что я буду делать дома одна?
Мы сидели молча, и Цлова склонила голову мне на плечо. Она, должно быть, заснула, потому что вдруг всхрапнула и выпрямилась.
— Где мы?
— На Симон авеню.
— Где это?
— Восточный Бронкс.
— Я не знаю, как добраться обратно.
— Цлова, я не могу взять тебя к этим людям. Они пригласили меня, а не тебя.
— Нет, нет, нет. Я бы не пошла, даже если бы меня пригласили.
— Оставайся в этом поезде до конечной станции и подожди, пока он не пойдет назад. Потом выйдешь на Семьдесят второй-стрит.
— Поезд может стоять на конечной станции всю ночь.
— Там будет другой.
— Я боюсь пересаживаться.
— Что же ты собираешься делать?
— Ждать тебя.
— Ты с ума сошла? Я проведу у них всю ночь.
— Ты мне этого не говорил. Ты проведешь ночь в постели со своей любовницей?
— У них есть для меня отдельная комната.
— Как зовут эту женщину?
— Фрейдл.
— Она в тебя влюблена?
— Не говори ерунды.
Мы вышли из метро, и я показал Цлове, где сесть в поезд, чтобы доехать обратно в Манхеттен. Цлова сказала:
— Подожди здесь. Не уходи, пока я не поднимусь на противоположную платформу и не увижу тебя. Я хочу быть уверена, что не потерялась.
— Хорошо.
Я стоял и ждал, но не видел Цлову. К противоположной платформе подошли и ушли уже два поезда. «Что могло с ней случиться?» — спрашивал я себя. Вдруг меня потряс истерический хохот. Мы едва познакомились, а она уже цепляется ко мне, как жена. Куда она делась? Наконец я ее увидел и закричал:
— Почему так долго?
— Я не могла разменять деньги, а у кассира не было сдачи с десяти долларов.[150] Что ты делаешь завтра вечером?
— На завтрашний вечер у меня уже есть приглашение.
— Когда я тебя снова увижу?
Прежде чем я смог ответить, подошел поезд, и Цлова села в него. Она что-то кричала и жестикулировала. Я быстро спустился на улицу и пошел к квартире Будников. Здесь, в Восточном Бронксе, Рош Хашана был еще более очевиден. Все магазины были закрыты, а улицы слабо освещены. Стемнело. Я вспомнил фразу из Гемары: «В какой из праздников прячется молодая луна? В Рош Хашана». Да, а куда девались умершие? Что стало с сотнями и тысячами поколений, когда-то живших на Земле? Куда делись их любовь, их боль, их надежды, их иллюзии? Уходят ли они навсегда? Или где-то во Вселенной есть архив, где все это запоминается и воспроизводится?
Неожиданно я понял, что не могу идти к Будникам с пустыми руками. Я принялся высматривать лавку, которая была еще открыта, и стал плутать по улицам Восточного Бронкса. Пошел мелкий пронизывающий моросящий дождь. Я останавливал прохожих и спрашивал, где можно найти винный магазин. Некоторые не отвечали; другие говорили, что все магазины уже закрыты. Вдруг я оказался на хорошо освещенной улице, где и нашел винный магазин. Я купил бутылку импортного шампанского, остановил такси и влез в него. Несколькими минутами позже я стучал в дверь к Будникам.
Фрейдл празднично разоделась и зажгла несколько свечей. Она была невысокого роста, ее подкрашенные волосы были такими же черными, как глаза, а маленькое личико лучилось польско-еврейским весельем. Она смогла сделать Мишу анархистом, но в последние годы начала признавать, что жизнь не совсем такова, как ее определяли Бакунин, Штирнер или Кропоткин,[151] — это касалось, например, положения евреев.
Я ел халу с медом и цитировал:
— «Пусть приходящий год будет добрым и сладким».
Я ел морковь и цитировал:
— «Пусть наши достоинства и добродетели растут и умножаются».
Это пожелание есть только на идише. Уверен, что сефарды[152] его не произносят. Я не притронулся к голове карпа, потому что был вегетарианцем, но когда Фрейдл принялась ее есть, процитировал для нее:
— «Пусть мы впредь будем в голове, а не в хвосте».
Эти обычаи возникли, когда евреи уже начали говорить на идише, в Германии, а может быть, позднее, в Польше.
Миша презрительно отворачивался от молитв и благословений, но не от еды. Он с удовольствием пожирал блюдо за блюдом, одновременно осыпая оскорблениями и ругательствами еврейских реакционеров всех сортов: сионистов, членов партии «Полай Цион», ортодоксальных и реформированных евреев, консервативных евреев,[153] а заодно и еврейских социалистов и коммунистов. Он считал, что у всех у них единственное желание — получать выгоду для себя и эксплуатировать остальных. Они маскируют свою жадность цветистыми фразами и лицемерными лозунгами. За последние двадцать лет анархисты официально отказались от террора как метода борьбы. Однако Миша сомневался, могут ли цели анархистов быть достигнуты без этого.
— Как иначе произошла бы революция? — спрашивал он. — Милитаристы, фашисты, сталинисты вдруг решат даровать массам свободу? Чепуха, самообольщение!
Фрейдл, улыбаясь, покачала головой и напомнила Мише его обещание не портить встречу разговорами о политике. Но Миша страстно желал втянуть меня в спор. Он сказал:
— Я читал то, что ты пишешь в газете. Написано неплохо, но было бы лучше, если бы ты вообще не писал — чему могут научить массы твои статьи? Любовь, любовь и еще любовь.
— А о чем мне следует писать — о ненависти?
— Отправляйся на фабрики и погляди, как эксплуатируют рабочих. Иди в угольные шахты и посмотри, что там делается.
— Никто не захочет читать о фабриках и угольных шахтах, даже сами рабочие.
— Миша, ты дашь ему поесть? — сказала Фрейдл. — Он не может изменить мир. Давно ли у него не было даже никеля на метро? Помнишь, он был бледным, как мел. Целыми днями ничего не ел.
— Я-то помню. Но он забыл.
— Ты, Миша, тоже кое-что забыл, — сказал я. — Вспомни истории, которые ты рассказывал нам в Бет Мидраше по вечерам. Например, про маленькую женщину, карлицу, которая бросала в тебя сосновые шишки и обвиняла в слабости.
— Это были просто сказки, дурацкие выдумки.
— Миша, ты рассказывал мне ту же самую историю. Это было еще до того, как мы решили жить вместе, — вмешалась Фрейдл. — И вспомни про цыганку, которую ты встретил в Рава-Русска, ту, что смогла назвать всех членов твоей семьи? Она предсказала, когда и где ты встретишь меня, и еще многое другое.
— Фрейдл, что с тобой? Ты пресмыкаешься перед паразитами? Ты сама учила меня, что собственность это кража. Теперь ты уходишь от этого и меняешь свои убеждения.
— Миша, во вселенной больше тайн, чем волос на твоей голове, больше, чем песчинок в море, — сказал я.
— Каких тайн? Не существует никакого Бога, никаких ангелов, никаких демонов. Это все волшебные сказки, много шума из ничего. Фрейдл, я пошел.
У нее глаза полезли на лоб.
— Куда ты пошел?
— Куда хожу каждую ночь, к моему такси. Рош Хашана ничего не значит для меня. Бог не усаживается на огненный трон, чтобы записать в свою книгу, кто будет жить, а кто умрет. Эта ночь для меня ничем не отличается от других.
— Как тебе не стыдно, Миша. У нас такой гость, а ты уходишь? Мы обойдемся без этих нескольких долларов, которые ты заработаешь, таскаясь вокруг всю ночь. К тому же идет дождь.
— А, не в деньгах дело. Что такое деньги? В свободном обществе денег не будет. Люди будут обмениваться тем, что они производят. Я спал днем и теперь не буду спать ни минуты всю ночь. Мне нравится водить такси ночью. Тихо. Меня интересуют типы, которые шляются по ночам. Однажды ночью меня остановила состоятельная пара, джентльмен и леди. Как только они сели, он ее начал бить. Он давал ей пощечины, бил кулаками, выкрикивал оскорбления. Я остановил такси и сказал: «Сэр, мое такси для того, чтобы ездить, а не драться». Она начала вопить: «Водитель, занимайтесь собственными делами. Поезжайте, куда вам сказали». Они жили на Пятой авеню. Возможно, это были муж и жена. Он дал мне десять долларов и сказал, что сдачи не надо. Я заметил, что она оставила в моем такси сумочку. Я побежал и вернул ее. Она сказала: «Вы честная задница». Такова была ее благодарность.
— Миша, ты меня с ума сведешь своими историями! — воскликнула Фрейдл.
Он поцеловал ее и вышел.
Фрейдл сказала:
— Он сумасшедший. Я никогда не узнаю, что он из себя представляет и чего он хочет. Я прожила с ним почти тридцать лет, а иногда мне кажется, что он наивный, как дитя.
— Он не так уж наивен. Много лет он был контрабандистом. И когда он женился на тебе, он понимал, что ты не святая.
— Что я еще могла делать во время войны? Мы голодали, я и моя семья, и я стала их кормилицей. Как говорится, вопрос жизни или смерти. Моя мать предпочитала ничего не знать. Отец просиживал все дни в хасидской штибл. Тогда свирепствовала холера — ее принесли с собой австрийцы, — и в каждом доме была смерть. Сегодня ты чувствовал судороги, а на следующий день или через день все было кончено. Кому тогда могла прийти мысль о том, что можно или нельзя делать? Мне попалась книжка Кропоткина — в еврейской библиотеке, — и я буквально проглотила ее. Когда Миша встретил меня и влюбился, он ничего не понимал. Он мог прочесть молитвы в молитвеннике, но был не способен прочесть газету. Приходилось учить его всему. Наши дочери ходят в колледж, но иногда они рассуждают, как дети. Они пошли в него. Ладно, тут больше нечего сказать. Я слышала, что Макс в Израиле.
— Да.
— А эта девушка — как ее — Мириам?
— Она последовала за ним в Тель-Авив.
— Ну, ну. Должно быть, влюблена в него по уши.
— Да.
— Потаскуха.
— Согласно Шулхан Арух[154] Эммы Голдман, это не грех, — сказал я.
Мы стояли молча, и наконец Фрейдл сказала:
— Иногда мне кажется, что весь мир это один громадный сумасшедший дом.
Глава 11
Ввиду того, что весь мир безумен, я придумал безумный план — съездить в Израиль со своими самыми близкими друзьями, Стефой и Леоном, Фрейдл и Мишей, и еще Цловой. Я рассказал им, что собираюсь сделать, и все они благосклонно отнеслись к моему плану. Мне было известно, что туристические агентства и даже раввины отправляют группы людей в новое еврейское государство. В Америке многие евреи стремились посетить Израиль, но им не хотелось делать этого в одиночку, поскольку мало кто из них говорил на современном иврите с сефардским произношением (или без него). Для начала я представил свой план Фрейдл в канун Рош Хашана, и она сказала:
— Я понимаю, кого ты там хочешь повидать, но все равно поеду с тобой. Макс Абердам растратил пять тысяч долларов из наших сбережений, но мы еще в состоянии позволить себе путешествие.
Мы вместе с Фрейдл убедили Мишу, что анархисты есть даже в Израиле. Кроме того, я объяснил им, что Хаим Джоел Трейбитчер готовится возместить долги своего племянника. Ирка Шмелкес уже получила от него деньги: Хаим Джоел не намеревался сидеть, сложа руки, и смотреть, как позорят имя Трейбитчеров.
Когда я рассказал об этом Мише, он заговорил, как настоящий анархист:
— Где он раздобыл столько денег? Это, должно быть, мошенничество и воровство.
— Если даже и так, — сказал я, — ты все равно будешь счастлив получить их. Хаим Джоел справедливый человек, и ни один вор добровольно никогда не возвращает украденных денег. Почему бы тебе не убедить его пожертвовать миллион долларов на «Голос свободного рабочего»?
Фрейдл посмеивалась и подмигивала мне.
Я ушел от Будников после завтрака и стал искать аптеку, не принадлежавшую евреям. Найдя такую с несколькими телефонными кабинами, я позвонил Цлове. Было ясно, что не смогу провести этот день в одиночестве.
— Цлова, я тебя не разбудил? Прости меня.
— Это ты? Я не спала всю ночь, думала о тебе. Я боюсь, что прежде чем Прива вернется — если она решит вернуться, — меня упекут в сумасшедший дом!
— Цлова, мы едем в Израиль! — закричал я.
— Когда? Что ты говоришь?
Я повторил Цлове свой план и рассказал ей о четверых друзьях, которых собирался взять с собой.
— Ареле — можно мне называть тебя Ареле? Я поеду с тобой, куда угодно, с кем бы ты ни поехал. С этого дня я твоя рабыня. Правда!
— Не болтай ерунды, Цлова.
— Ты спас мне жизнь. Я уже искала на потолке балку, чтобы вбить крюк, на котором могла бы повеситься. Бог мне свидетель. Где ты?
— На Тремонт-авеню, неподалеку от моего землячества.
— Приезжай сейчас же!
Я провел с Цловой весь день. Мы прогулялись вдоль Риверсайд-Драйв и пообедали в китайском ресторане. Когда мы проходили мимо синагоги, было слышно, как поет кантор. Цлова пыталась продемонстрировать свое искусство телекинеза, но маленький столик отказался подняться. Она сказала:
— Это потому, что ты не веришь в такие вещи.
— Я верю, верю.
— Что нам делать с нашими квартирами, тебе с квартирой Мириам, а мне с Привиной?
— Мы их запрем на то время, пока будем за границей.
Цлова показала мне свою сберегательную книжку. Кроме тех денег, которые ей дал Макс, чтобы она положила их в банк на свое имя, на ее счету имелось еще около трех тысяч долларов. У нее было также несколько военных облигаций и множество ювелирных украшений. Цлова собиралась вступить в кибуц и начать новую жизнь. Она притащила все свои игрушки и безделушки, показывая их мне, как когда-то в детстве делала моя подружка Шоша.
Мы обнимались и целовались. С моей стороны не было ни любви, ни даже вожделения, но что еще делать с такой милой женщиной? Мы улеглись в постель Привы, и Цлова сказала:
— Она об этом узнает, она узнает обо всем. Между нами нет секретов. Она меня не ревнует.
— Прива знает о твоих отношениях с Максом?
— Она все знает.
— Макс рассказывал тебе о Мириам?
— Во всех подробностях.
— До каких глубин могут падать люди? — поинтересовался я, и Цлова ответила:
— До любых.
Вскоре Цлова поднялась, и я услышал, как она чем-то звякает в огромной квартире — возможно, в кухне. Цлова возвратилась в богато украшенной ночной рубашке и домашних туфлях, неся поднос с пирожными, двумя бокалами и графином красного вина. Она сказала:
Я заснул, и мне приснилась Мириам. Во сне тоже был Рош Хашана. Мои родители были живы, и мы все вместе шли к Ташликх.[155] Было ли это в Билгорае? Для Билгорая слишком широкая река. Нет, это была Вистула. Впереди шли мужчины, одетые в сатиновые капоты[156] и штраймлы.[157] Сам я не шел, а выглядывал из окна Триск штибл, которая стояла на холме. Отец наклонился к моему брату Моше, что-то говоря ему. Через некоторое время появились девушки и женщины, все в праздничных одеждах. На старой Гененделе была древняя одежда, которая называлась «ротанда». «Гененделе жива? — удивился я. — Ей должно быть теперь больше ста». А потом я увидел мою мать. Она была в золотистом платье, которое впервые надела на своей свадьбе и всегда носила в новогодние праздники. Поверх парика[158] на ней был белый шелковый платок. В руке она несла молитвенник с бронзовой застежкой. «Мамочка, ты жива?» — воскликнул я во сне. Ее бледное узкое лицо излучало нежное благородство. Пришел Мессия? Началось воскрешение мертвых? Мать умерла в Казахстане, в Джамбуле. Неожиданно я увидел стоящую рядом с ней Мириам. Она держала мою мать за руку. «Это сон, сон!» — закричал я.Я открыл глаза, в спальне было темно. Наступили сумерки. Цлова наклонилась надо мной.
— Ареле, без четверти шесть. Ты куда-то должен был идти.
Я спрыгнул с кровати. В половине седьмого меня ждали у Крейтлов. С помощью Цловы я быстро оделся. Она подобрала мои ботинки, рубашку, галстук, которые я по привычке разбросал по всей комнате.
Я нашел винную лавку и вновь купил для хозяев бутылку шампанского. На этот раз мне не надо было брать такси. И магазин, и Крейтлы были близко. Крейтлы жили на углу Централ-Парк-Вест и Семьдесят второй-стрит в небоскребе с двумя остроконечными башенками. Я был готов представить свой план путешествия в Израиль Стефе и Леону. Пока я ждал лифта, стоя в просторном вестибюле, мне стало ясно, что я вновь навлекаю на себя очередные затруднения, впутываясь в целую сеть всевозможных недоразумений. Но почему я так поступаю? Что это — некая форма мазохизма?
Я позвонил, и Стефа открыла дверь. На ней было изысканное шелковое платье, волосы были подкрашены и уложены. Но выглядела она неважно, прибавила в весе и в количестве морщин. Она осмотрела меня с ног до головы, и по выражению ее лица я понял, что моя наружность ее тоже не устраивает. Однако вскоре ее лицо осветила улыбка, она обняла меня, и мы поцеловались. Стефа воскликнула:
— Надо же, шампанское!
Появился Леон, и мы обнялись. Чтобы преодолеть замешательство и неопределенность, которые я чувствовал в отношении своих планов, я воскликнул:
— Мазелтов! Мы едем в Израиль!
— Кто это «мы»? — спросила Стефа.
— Ты, Леон, я и еще несколько человек из моей старой гвардии.
— Что за старая гвардия?
— Мои земляки, простые, но хорошие люди.
Стефа пожала плечами.
— У моей мамы была привычка говорить: «Он строит планы, не посоветовавшись с хозяином».
— Зачем сидеть здесь, в Нью-Йорке, когда там строится новое еврейское государство?
— Когда ты собираешься ехать?
— Как можно скорее.
По лицу Стефы было видно, что идея ей нравится, и я сказал:
— На Суккот мы будем там.
— Леон, ты слышишь?
— Да, слышу. Надо было это давным-давно сделать.
— А как с вашим бизнесом? — спросил я.
— Мой бизнес сам о себе позаботится, — ответил Леон. — В газетах пишут о скрытой инфляции, и это правда, вещи дорожают, а не дешевеют. Но в моем бизнесе, чем меньше вмешиваешься, тем лучше.
— Леон, сегодня праздник! — прервала его Стефа.
— Ангелу Смерти нет дела до праздников. В городке, где жил мой отец, была женщина, у которой были собственные саваны. Она ссужала ими любого, кто умирал в праздник. На второй день праздника разрешается хоронить, но никто не имеет права сшить для этого саван.
— А что, если умерший был мужчиной? — спросил я.
— Разрешается хоронить мужчину в женском саване. Все мертвые одного пола, — сказал Леон.
— К чему эти разговоры о смерти? — спросила Стефа. — Пока что мы живы. Хорошо, мы поедем с тобой в Израиль. Зачем тебе нужны эти твои земляки?
— Вшестером нам будет веселее.
— Ладно, дай мне немного времени. Сколько еще до Суккота?
— Ровно две недели.
Мы ужинали, пили шампанское, и глаза Стефы сияли юношеским огнем. Итак, невозможное возможно — хотелось бы, чтобы это стало моим девизом на будущее. Мы сидели и болтали до поздней ночи, потом Леон и Стефа настояли, чтобы я остался у них до утра. Комната Франки все еще ожидала меня, и на этот раз я позволил уговорить себя. Леон в деталях знал все, касающееся Макса Абердама, Хэрри Трейбитчера и его дяди Хаима Джоела. Леон рассказал, что много лет назад Хаим Джоел Трейбитчер купил участки в Майами-Бич, которые теперь стоят миллионы. Этот бывший хасид так богат, что не может определить и не знает точных размеров своего состояния. Он, Леон, также владеет недвижимостью в Майами Бич, но, как он выразился:
— По сравнению с ним я как муха по сравнению со львом.
После того как Леон пошел спать, Стефа сказала:
— С чего это вдруг у тебя возник план путешествия в Израиль? У тебя там любовница?
— Возможно.
— Новенькая? Или старая? Ты можешь рассказать мне правду. Я не ревную. Кто эти земляки, которых ты собираешься взять с собой?
— Пожилая пара и подруга Привы.
— С прежней родины, да? И кто оплачивает их расходы?
— Они сами.
— Ладно, меня это не касается. Пойдем, я постелю тебе, — сказала она.
Мы прошли в комнату Франки. Комната была окутана тьмой. Я обнял Стефу, и мы стояли, слившись в долгом поцелуе. Стефа сказала:
— Не беспокойся, Леон уснул. Он засыпает мгновенно, потом через два часа просыпается, не в силах заснуть снова. Он будит меня, и мы лежим вместе, погруженные в наши заботы. Когда всю ночь лежишь без сна, — добавила Стефа, — мозг становится вместилищем безумия. Спокойной ночи!
В эти дни — десять Дней Покаяния между Рош Хашана и Днем Искупления — я чувствовал себя до крайности напряженно, казалось, вот-вот взорвусь от нетерпения. Тем не менее, я занимался приготовлениями в соответствии с намеченным планом.Я заказал билеты, с которыми на следующий день после Йом Кипура мы должны будем взойти на корабль, направляющийся в Шербур. Мы должны были провести несколько дней в Париже, потом оттуда лететь в Израиль. Мы будем в Израиле на следующий день после праздника Симхат Тора.[159]
На судне Крейтлы поплывут первым классом, тогда как у меня, Будников и Цловы были билеты в туристский класс. Стефа просила меня присоединиться за их счет к ней и Леону, но я не мог принять ее предложение.
Я никогда ни от кого ничего не брал, кроме пищи, несмотря на то, что всегда помнил о подарке для хозяев дома. Я оставил редактору деньги на перепечатку глав моего романа, которые должны были появиться в газете в ближайшие две недели. Эти главы я обязался прислать из Израиля авиапочтой. На радио были записаны несколько еженедельных передач. Я давал один и тот же совет всем — человеку, собиравшемуся покончить с собой, разочаровавшемуся сталинисту, женщине, больной раком, непризнанному автору, изобретателю, у которого украли патент: «Этот мир — не наш мир, не мы его создали, мы не в силах изменить его. Высшие Силы дали нам единственный дар: выбор, свободу выбора между одним несчастьем или другим, между одной иллюзией или другой». Мой совет был: «Не делай ничего». Я даже придумал собственный девиз: «Ничто не бывает так хорошо, как ничего». В конце концов, большая часть из десяти заповедей начинается со слов: «Ты не должен будешь…». Я советовал моим слушателям до поры до времени менять одну страсть на другую, один вид усилий на другой. Если вам не везет в любви, говорил я, попытайтесь направить вашу энергию на занятие бизнесом или на какое-нибудь хобби, пусть даже на развлечения. Зачем решаться на самоубийство, если все равно любой из нас умрет? Смерть не может остановить человеческий дух. Душа, материальное тело и энергия созданы из одного и того же вещества. Смерть это только переход из одного состояния в другое. Если Вселенная несет жизнь, то в ее пространстве не может быть никакой смерти. Как может существовать конец у того, что неопределенно? Самое главное, что наполняет живущих ужасом — смерть, — вполне может оказаться погружением в безграничное блаженство.
Столь бойко рассуждая по радио, я тем не менее сознавал, что зачастую противоречу самому себе. Но кому это могло причинить вред? Несомненно, где-то существует сила, которая, перемешивая все противоположности, извлекает из них истину. Я цитировал Спинозу, говорившего, что в созданном Богом нет ничего, что можно было бы назвать ложью. Наши заблуждения являются частицами истины, остатками разбившихся вдребезги скрижалей закона, где «Ты не должен будешь…» осталось выбитым только на одном из фрагментов каменной плиты. Все, что нам следует делать, это не причинять по возможности боль себе и другим. Я советовал моим слушателям отправиться в путешествие, прочесть хорошую книгу, заиметь хобби — и не пытаться изменить ту или иную систему, то или иное правительство. Мировые проблемы превыше наших сил. Мы можем проявлять свой свободный выбор только по пустякам, только в делах, которые касаются лично нас. Я украшал свои «проповеди» цитатами из Гете, Эмерсона, из Библии со ссылками на Гемару и Мидраш.[160] Я почувствовал большое удовлетворение, когда закончил запись ответов.
Еврейские журналисты часто пишут пренебрежительно о тех, кто играет в карты, но я не согласен с ними. Если карты могут умерить напряжение и приносят кому-то удовлетворение, их следует приветствовать, а не порицать. То же самое можно сказать о театре, кино, музыке, книгах, журналах. Хорошо все, что убивает время. Время это вакуум, который так или иначе должен быть заполнен.
Я не обещал ни вечного покоя, ни исцеления от неврозов и комплексов. Напротив, я предупреждал своих слушателей, что как только кто-нибудь из них освободится от одного из неврозов, на его месте тут же возникнет другой. Неврозы ждут своей очереди. Жизнь это вечно продолжающийся кризис, бесконечно тянущаяся битва. Когда все кризисы разрешены, возникает скука — худшая душевная боль из всех возможных. Я цитировал Шопенгауэра, моего любимого философа, хотя я и не был согласен с его утверждением, что Мировая Воля слепа. Я был уверен, что Мировая Воля, подобно Ангелу Смерти, имеет тысячу глаз.
Наше морское путешествие было неторопливым. К тому времени, когда мы прибыли в Париж и добрались до гостиницы, где наш турагент забронировал для нас места, была уже ночь. Я не узнал города. Париж середины тридцатых, который я запомнил, отправляясь в Америку, был элегантным, веселым, шумным — настоящий карнавал. Париж после Второй мировой войны оказался бесцветным, потрепанным, безлюдным, погруженным в ночной мрак. Шел дождь, и задувал холодный ветер. Даже Пляс де ля Конкорд потеряла свою красоту; она была вся забита старыми автомобилями и как будто превратилась в огромную площадку для парковки.
Приехав в наш отель на Пляс де ля Републик, мы услышали, что ресторан не работает. Бастуют официанты. Похоже было, что все во Франции готово забастовать. Профсоюзы сообщали, что скоро перестанут ходить поезда, летать самолеты, а с улиц исчезнут такси. Несмотря на обеспокоенность, я не смог удержаться от случая поиздеваться над Мишей.
— Ты должен быть счастлив, — сказал я. — В конце концов, это то, чего жаждет революция.
Только Фрейдл сохраняла спокойствие. Она спустилась в холл и, хотя не знала ни слова по-французски, умудрилась найти бородатого американского офицера, который оказался ортодоксальным раввином и служил каппеланом. Этот отель «Интеллект» кишел американскими евреями. Когда Фрейдл объяснила, что она направляется в Израиль вместе с нездоровым восьмидесятилетним человеком и еврейским писателем Аароном Грейдингером, все стали предлагать свою помощь. Рабби сказал, что он мой постоянный читатель. Хотя он никогда не мог согласиться с моими взглядами на еврейство, он уважает познания, полученные мною на прежней родине. Молодой человек вмешался в разговор и вызвался проводить нас в ближайший ресторан. Закоулки черного рынка еще работали. Цены были выше, чем днем, но можно было заказать что угодно, даже чолент[161] и кугел,[162] и заведения оставались открытыми до поздней ночи. Молодой человек — маленький и коренастый, с вьющимися, как у овцы, волосами — показал нам путь к ресторану. Пройдя по тускло освещенной аллее, мы поднялись по темной лестнице на второй этаж. Я почувствовал запахи куриного супа и рубленой печенки. «Этот мальчик не кто иной, как пророк Илья», — сострила Фрейдл. Над остальным Парижем господствовала египетская тьма, но здесь евреи сидели за поздней трапезой и разговаривали на идише. Из кухни вышла женщина, одетая в платье с передником, что напомнило мне Польшу. Мне даже показалось, что у нее на голове шейтл.[163] Она сказала мне, что она моя читательница и что парижская еврейская газета перепечатывает мои статьи и романы. Она протянула мне влажную руку и воскликнула:
— Если бы я не была такой стеснительной, я бы вас расцеловала!
После войны муниципальные власти передали некоторые здания в Париже беженцам-интеллектуалам — писателям, художникам, музыкантам, актерам, режиссерам. Большая часть беженцев уехала в Америку, Израиль или куда-то еще, но некоторые остались. Во время нашего пребывания в Париже Союз Еврейских Писателей пригласил меня на прием в такое здание. Левые — коммунисты, почти коммунисты и их попутчики пришли, заготовив против меня обвинения. Несколько сионистов были недовольны тем, что в своих произведениях я игнорирую политические партии, борьбу против фашизма, возрождение Израиля, храбрость партизан, борьбу женщин за достижение равенства с мужчинами. Все они перечисляли политические грехи, которые я совершал, а некий троцкист упрекал меня за то, что я не стоял на стороне Троцкого. Я привык к таким литературным сборищам, еще когда жил в Варшаве. Они повторяли обычное клише: писатели не могут прятаться в башне из слоновой кости в то время, как массы воюют на баррикадах. Миша Будник, который пришел со мной на собрание, попросил слова и произнес длинную речь. Знают ли писатели, что в Испании Сталин уничтожил сотни анархистов, борцов за свободу? Обеспокоены ли они тем, что в Советском Союзе тысячи анархистов томятся в лагерях рабского труда и в тюрьмах? Читали ли они, как обошлись с Эммой Голдман и с другими, когда те отправились туда рассказать правду? Он упомянул Сакко и Ванцетти и четверых, которые были повешены в Чикаго. Кто-то из присутствовавших прервал Мишу:
— Знает ли выдающийся оратор, что Махно проводил еврейские погромы?
Миша заорал в ответ:
— Махно был героем!
Шум и крики перекинулись в зал, и председательствующий начал стучать пальцем по столу. Он запретил Мише продолжать речь, и Миша сошел со сцены.
Когда подошла моя очередь, я выступил коротко, сказав, что теория вечных повторений Ницше справедлива. Если я — миллионы лет спустя — вновь стану еврейским писателем, то буду вести литературные битвы и за сионистов, и за территориалистов, за национализм и за ассимиляцию, за марксизм и за анархизм, за Вейцмана[164] и за Жаботинского, за «Наторей Карта»[165] и за «Ханаанитов», точно так же, как за Бунд,[166] за Всеобщих Сионистов, за правое крыло партии Полай Цион, за левое крыло партии Полай Цион, за «Хашомер Хатцайр»,[167] за фолкистов, а также за Любавических хасидов, Бобовских хасидов, за ортодоксальных, консервативных и реформированных евреев. Я буду писать обо всех этих людях романы и стихи в стиле натурализма, реализма и символизма, и буду последователем футуристов, дадаистов и всех прочих «истов» и «измов». Кое-кто в зале засмеялся и зааплодировал. Другие ворчали и протестовали. Подали охлажденный лимонад и соленые бисквиты. Грудастая немолодая певица исполняла народные песни и не хотела отдавать микрофон. Когда вечер закончился, я побеседовал с несколькими женщинами, пережившими войну; некоторые из них были в гетто и в концлагерях, другие в России. Я услышал новые рассказы о жестокости нацистов и большевистских «порядках» — обычные истории об арестах среди ночи, голоде, угрозах, переполненных тюремных камерах, запертых вагонах поездов, целыми днями стоявших в тупиках, торговле на черном рынке, о пьянстве, воровстве, грабежах, хулиганстве и проституции. Все это было так трагически знакомо. Мне рассказали об одном известном поэте, которого ликвидировал Сталин: до самого последнего дня, когда его должны были поставить к стенке и расстрелять, он продолжал писать оды о Великом Товарище Сталине. Один писатель рассказал мне, как после выпивки и искреннего разговора с другом он сболтнул недоброе слово о Сталине, и тот сделал то же самое. Когда он протрезвел, его охватил такой страх, что он отправился прямо в органы безопасности, чтобы донести на друга. Очевидно, его друг тоже был изрядно перепуган, потому что они столкнулись у двери в кабинет следователя.
Во время пребывания в Париже наша группа как-то расползлась. Стефа и Леон посещали музеи, дорогие рестораны, кафе. Они даже съездили на автобусе в Дювиль. Миша и Фрейдл разыскивали анархистов, любимым местом сбора которых был квартал Беллевиль неподалеку от нашего отеля и от центра еврейских радикалов.
Мы пробыли в Париже всего несколько дней, но они показались похожими на недели. Старый еврейский поэт — классик идишистской культуры Давид Корн пригласил меня к себе домой. Я попросил Цлову, у которой в Париже никого, кроме меня, не было, пойти со мной. Она льнула ко мне, как жена. Поэт, зарабатывавший на жизнь тем, что писал статьи для еврейской газеты на идише, издающейся в Нью-Йорке, с горечью говорил обо всех еврейских лидерах — левых, правых, сионистах, антисионистах и так далее.
Он вел собственную войну против всех модернистов — они убивают литературу, делают ее отвратительной, надоедливой, превращают поэзию в пародию. Подобно меламеду Челму, который просил свою жену испечь пирожное без масла, сахара, изюма или яиц, модернисты пытаются создавать поэзию без рифмы или ритма, без музыки и любви. Давид Корн извинялся передо мной за то, что не обращает внимания на мои возражения:
— Я не выношу их гнусные рожи, их лживые глаза. Безжалостное стадо. Их фразы о справедливости слишком омерзительны, чтобы их упоминать. Пока был Сталин, они льстили и поклонялись ему, как идолу. Сейчас, когда этот хам Джугашвили мертв, они не оставят ни одного камня неперевернутым, пока не найдут нового Сталина. Рабам нужен хозяин.
Его жена, моложе, чем он, подошла к столу с таблеткой и стаканом воды. Ее старомодное платье и манера закалывать волосы напомнили мне тех молодых женщин, которые изготовляли бомбы для революции.
— Давидл, выпей твою витаминную пилюлю.
Давид Корн уставился на нее сердитыми глазами. Его усы дергались, как у кота.
— Мне не нужны никакие витамины. Оставь меня в покое.
— Давидл, доктор прописал тебе их. Ты должен принять ее!
— Должен? Все эти доктора жулики, грабители, плуты. Их лекарства не более чем отрава.
— Мистер Грейдингер, окажите мне любезность, попросите его принять пилюлю. Он болен, болен. Он едва живой. Ему не следует убивать себя.
— Дружище Корн, сделайте одолжение, примите витамины, — сказал я. — Как это говорится? «Это, может быть, не поможет, но во всяком случае не повредит».
— Вздор. Это придумали вороватые аптекари.
Давид Корн взял пилюлю, бросил ее в рот, скорчил кислую гримасу и выпил полстакана воды.
— У нее вкус поэзии Маяковского, — проворчал он.
Утром мы сели в самолет и в тот же день приземлились в Лоде. По сравнению с аэропортами Парижа и Нью-Йорка израильский аэропорт казался провинциальным. В нем царил субботний покой. В самолете, на котором мы прилетели, было полно хасидов, студентов иешивы и женщин в париках и головных платках. Один пассажир молился, другой листал том Мишны; рыжебородый раввин экзаменовал молодого человека, готовившегося получить хетер хораа.[168] Группа раввинов и студентов иешивы встречала выходящих из самолета религиозных пассажиров. Я много лет не видел таких пейсов, завивающихся буквально до плеч. Вид у студентов был вполне бодрый. Под длинными капотами у них были короткие брюки, белые носки и матерчатые тапочки, а их вельветовые шляпы выглядели новыми. Они были слишком молодыми для прошедших через Холокост в зрелом возрасте и слишком взрослыми для родившихся в лагерях перемещенных лиц.
Проверка паспортов и багажа проходила медленно. Временами таможенник открывал чей-нибудь чемодан и начинал копаться в рубашках, брюках, свитерах и другой одежде. Владелец чемодана с опаской наблюдал за перекапыванием принадлежащих ему вещей. Наконец мы прошли через таможню. Миша нес не только свои сумки, но и вещи Стефы, Леона, Цловы и мои. Я попытался помочь ему, но он только огрызнулся. В этот момент я увидал Мириам. Это была она, но что-то в ее наружности изменилось; я не мог точно определить, что именно. На ней была белая блузка и черные брюки. Она бежала ко мне, раскинув руки. Я послал ей из Парижа телеграмму о моем прибытии вместе с остальными, но чувствовал себя смущенным, появившись с такой большой компанией. Мириам обняла и поцеловала меня.
— Наконец-то ты здесь, — сказала она. — Баттерфляй, я на машине.
— Где ты взяла машину?
— Мистер Трейбитчер дал мне свою. Он хотел поехать сам, но я его отговорила.
— Как Макс?
— Лучше, но не совсем хорошо. Ты скоро увидишь его в Тель-Авиве.
Я представил Мириам Крейтлам и Будникам. Я сказал:
— Миша Будник мой друг с детских лет в Билгорае. А это Фрейдл Будник, его жена, прелестная женщина.
— Я помню Аарона, когда он носил рыжие пейсы, — сказал Миша. — И когда он раскачивался над Гемарой в Бет Мидраш. А сам тайком читал роман, напечатанный в издательстве «Момент».
— Миша, хватит, — проворчала Фрейдл.
Мириам поздоровалась со Стефой, с Леоном, с Фрейдл. Цлове она почему-то не протянула руку, просто кивнув ей. Она спросила Мишу:
— Вы тоже были студентом иешивы?
— Я в те годы был контрабандистом. Но я обычно заходил по вечерам в Бет Мидраш поболтать.Я любил слушать фантазии Аарона.
Мириам ушла и возвратилась в большом автомобиле, но даже он не мог вместить шесть человек, багаж и водителя. Стефа предложила взять для себя и Леона такси, и, едва она вымолвила это слово, как «нехаг» — так назывались в новой земле Израиля водители — предложил свои услуги. Стефа спросила у Мириам название отеля, где жил Макс, и Мириам ответила:
— Макс остановился в маленькой гостинице. Но я не уверена, что вам, миссис Крейтл, она понравится. Там поблизости есть другой отель, побольше и лучше, более современный, всего в пол-квартале от того, где Макс.
— Хорошо. Мой муж не совсем здоров. Ему нужен личный туалет с ванной и все прочее. В отеле есть ресторан?
— Прекрасный ресторан.
— Ему также нужен врач.
— В Тель-Авиве врачей больше, чем пациентов.
Можно было заметить, что Мириам и Стефа были людьми одного круга. Они сразу же принялись болтать по-польски. Цлову Мириам совершенно игнорировала. Фрейдл спросила:
— А где мы остановимся?
Мириам ответила:
— На улице Хайаркон. На Осенние Праздники здесь собралось много приезжих, но большинство из них уже разъехалось. Там найдутся комнаты для всех.
— Госпожа, мы едем или будем стоять здесь? — спросил водитель такси.
— Мы едем. На Хайаркон, — ответила Мириам.
Мириам уже стала израильтянкой. Даже ее иврит был с сефардским произношением. Новичками были мы. Водитель такси отъехал первым, после того как помог разместить Крейтлов и их багаж в своей машине. Будники и Цлова забрались в автомобиль Хаима Джоела Трейбитчера; я сел на переднее сиденье рядом с Мириам. Багаж поместился в багажнике машины, несколько небольших сумок мы взяли на колени. Я спросил:
— Почему Трейбитчер прислал свою машину?
Мириам ответила:
— Хаим Джоел чувствует себя в неоплатном долгу перед Максом. Кроме того, он твой горячий поклонник. Если бы не он, Макс бы уже умер. Трейбитчер пригласил лучших докторов и нанял для Макса сиделок. Здесь половина Варшавы. Максу не нравится Иерусалим,
— Почему?
— Для него в этом городе слишком много святости. Он такой же мешуга, как всегда, но все-таки милый.
Автомобиль мчался вперед, я смотрел на дома, пальмы, кипарисы и гаражи. Вдоль дороги стояли еврейские солдаты — парни и девушки, — сигналя в надежде, что их подвезут. Стоял жаркий летний день, небо было очень синим, без единого облачка. Все мерцало на солнце, как будто свет был в семь раз ярче, чем во время Диаспоры.[169] Я прибыл на землю Израиля, землю, о которой мои предки рассказывали истории две тысячи лет.
Стефа и Леон въехали в две комнаты в отеле «Дан». Будники остановились в отеле на улице Бен Иегуда, в одном квартале от Хайаркон. Цлова и я сняли номера в маленькой гостинице, где жили Макс и Мириам. Макс чрезвычайно изменился — он потерял почти сорок фунтов, его борода совсем поседела, а лицо стало болезненно желтым. Мириам каждую ночь спала около него. Он рассказал мне, что Прива живет в Иерусалиме. Прива предъявила Максу ультиматум: или она, или Мириам, и Макс выбрал Мириам. Он сказал мне:
— Но я боюсь, что ненадолго. Я больше там, чем здесь.
И он указал на небо.
Я совершил колоссальную ошибку, решив взять с собой пятерых спутников. Цлова хотела быть с Привой, а не с Максом, и, спустя несколько дней после нашего приезда, отправилась в Иерусалим. Она сообщила мне, что Прива нашла в Иерусалиме богатую вдову, которая устраивает сеансы спиритизма. Они планируют выпускать журнал, наполовину на иврите, наполовину на английском. Прива позвонила мне по телефону, чтобы рассказать, что ее оккультные способности возвратились к ней в Иерусалиме с большей, чем раньше, силой. Она и ее покровительница, госпожа Глитценстейн, вызвали духи доктора Герцля,[170] еврейского писателя и мученика Бреннера,[171] Макса Нордау[172] и Ахада ха-Ама.[173] Наиболее интересным оказался Макс Нордау. Он, известный материалист, который издевался над любой религией и даже к признанным мастерам литературы относился как к психам и дегенератам, теперь признал, что заблуждался, и что все его труды, в особенности два тома — «Вырождение» и «Парадоксы», следует сжечь. В высших сферах он встретил итальянского еврея-материалиста Ламброзо, который писал, что гениальность идет рука об руку с безумием. Они вместе просили прощения у душ, на которые они раньше нападали, в том числе у польского медиума Клуски и итальянца Паладина. А еще Прива сообщила мне, что она вступала в контакт с умершей женой Макса и двумя его дочерьми, которые погибли от рук нацистов.
Фрейдл Будник была восхищена Эрец-Исраэлем, но Миша делал все, чтобы испортить ей удовольствие. С самого приезда он ворчал и всячески выражал недовольство еврейским государством. Ему здесь все не нравилось. Он испытал потрясение в ресторане, когда официант отказался подать ему кофе со сливками в конце обеда, включавшего мясное.[174] Когда владелец ресторана объяснил ему, что таков закон этой страны, Миша заорал, что этот закон — фашистский. В Тель-Авиве Фрейдл нашла своих земляков из Изевице, Горшкова, Краснистова. Некоторые из них уже позабыли идиш и разговаривали между собой на иврите, за что Миша тоже нападал на них. Я пригласил Фрейдл и Мишу на обед в новый отель «Дан», где остановились Стефа и Леон. Во время обеда Миша ругал меня за то, что я привез его в страну, которой управляют теократы. Он хотел бы знать, почему в Америке евреи требуют отделения церкви от государства, тогда как в Израиле человека заставляют есть кошерную пищу, а невеста обязана пройти перед свадьбой ритуальное омовение в микве.[175] Миша вызвал машгиаха[176] и потребовал, чтобы ему подали ветчину. Через восемь дней Будники возвратились в Америку. Фрейдл плакала, прощаясь с нами. А по поводу Миши сказала:
— Похоже, что в него вселился диббук.
Достаточно странно, но я и сам временами чувствовал себя не таким, как прежде. Какова была природа этих изменений и было ли это связано с климатом? Возможно, на меня так действовали тысячелетия еврейской истории. Может быть, духи древних евреев — жрецов, левитов,[177] вождей разных племен, героев, Хасмонеев,[178] саддукеев[179] и разных других неизвестных сил — сохранили здесь свое влияние и силы, которые мы, евреи диаспоры, давно забыли или, возможно, никогда не знали? Макс здесь постарел.
Мириам стала использовать ивритские слова и выражения в наших разговорах. Мне показалось, что она теперь уже меньше интересуется идишем, чем это было в Нью- Йорке. Она все еще называла меня Баттерфляй, все еще обнимала и целовала, но сейчас, когда Макс был болен и, по всей видимости, стал импотентом, она отнюдь не выражала страстного желания отдаться мне. У нее всегда находились оправдания. Может быть, она обиделась на меня за то, что я привез с собой Цлову и Крейтлов? Иногда я чувствовал, что дружеские чувства Макса ко мне тоже охладели. Единственный, кто стал верен мне еще больше, был Леон. Он всегда приглашал меня на обед или на ленч. Он продолжал получать газету, для которой я писал, и жаждал обсуждать каждый выпуск моего романа. Здоровье Леона поправилось, и он утверждал, что воздух Тель-Авива для него целителен. Он даже выражал желание купить здесь дом и прожить остающиеся ему годы среди евреев.
В моей комнате было окно, выходившее на Хайаркон, и балкон с видом на море. По вечерам я часто сидел на балконе и копался в своей жизни. Я плыл в Эрец-Исраэль, чтобы соединиться с любимой женщиной. Я взял с собой трех женщин, с которыми раньше имел любовные связи, но судьба распорядилась так, что здесь, впервые за много лет, я оказался в одиночестве. Мириам спит возле Макса, Цлова в Иерусалиме, Фрейдл и Миша плывут в Нью-Йорк, а Стефа чрезвычайно предана мужу.
Польские евреи издавали в Тель-Авиве польский еженедельник, немецкие — немецкий, венгерские — венгерскую газету, а румынские — румынскую. В витринах книжных магазинов на улицах Бен Йегуды и Дизенгоф были выставлены новые издания книг на всех языках. Иногда я просыпался посреди ночи, сидел в кресле на балконе и смотрел на небо, усыпанное звездами, и на море. В Нью-Йорке я позабыл, что на небе есть звезды. Но над Тель-Авивом простирался космос со всеми его звездами, планетами и небесными светилами. Воздух был напоен запахами виноградников, эвкалиптов, кипарисов и другими ароматами, которые казались мне знакомыми и в то же время новыми. Дули теплые ветры, принося с собой запахи, которым не было названий.
Это море передо мной не было просто массой воды, это было Хайям Хагадол, или Великое море, по которому Иона спасался бегством от Господа, чтобы избавиться от необходимости предсказать разрушение Ниневии.[180] Судно, на котором Иуда Галеви — величайший из писавших на иврите поэтов Средневековья — направлялся в Эрец-Исраэль, плыло по этому морю. Здесь плавали купеческие суда, с которыми в Книге Притчей Соломоновых сравнивалась добродетельная женщина.[181] Волны искрились в лунном свете, и сам Господь охранял Тель-Авив. В тишине можно было слышать слова пророка: «Вот — видение Исайи, сына Амоса, которое он предвидел об Иудее и Иерусалиме в дни…». Рядом Рахиль[182] по-прежнему оплакивает своих детей и остается безутешной. Вокруг нас прятались филистимляне, аммониты, народы Моаба, Арама, ханааниты, амориты, хиттиты, жевузиты, гиргашиты[183] — постоянно ожидающие возможности возобновить древнюю войну против Бога и Его избранного народа.
Как-то днем ко мне пришел местный литератор со своим переводом на иврит одного из моих рассказов.Я отредактировал перевод в его присутствии, и он спросил меня:
— Оказывается, вы так хорошо знаете иврит, тогда почему вы пишете на идише, а не на иврите? Вам должно быть известно, что идиш вымирает, а иврит возрождается.
— Вымирание в моих глазах не является недостатком, — сказал ему я. — Древнегреческий язык вымер, так же как и латынь. Иврит был мертвым языком в течение двух тысяч лет. Все, кто сегодня жив, рано или поздно вымрут.
Он открыл рот, видимо, собираясь что-то сказать, но так ничего и не сказал, а лишь схватил свою рукопись и исчез.
Он был не единственным. Я слышал такие же точно мнения от других писателей и студентов. Мне было бы довольно просто приспособиться к современному ивриту и к местному произношению. Однако ответ, который я чаще всего давал, был следующим:
— На идише говорила моя мать. На идише говорили мои бабки и деды, все предки вплоть до Сифтей Кохен,[184] до Рабби Моше Иссерлес.[185] Если идиш был достаточно хорош для Бал Шем Това, для Гаона из Вильно,[186] для Рабби Нахмана из Вроцлава, для миллионов евреев, которые погибли от рук нацистов, то он достаточно хорош и для меня.
Однажды кто-то сказал мне:
— Идиш на восемьдесят процентов состоит из немецкого, а немецкий — это язык нацистов.
— И на иврите говорили наши враги — народы Аммона и Моаба, филистимляне, медианиты, а может быть, также амалекиты. На арамейском, языке Зохара[187] и Гемары, говорили Навуходоносор[188] и Гамилькар,[189] — ответил я.
В Израиле начался сезон дождей. Здоровье Макса улучшилось, и он уже мог ходить с помощью палки. Мы часто сидели с Мириам в кафе на улице Дизенгоф, пили кофе и болтали. Было похоже, что Стефа и Леон собираются купить дом и обосноваться в Тель-Авиве. Сам я не мог больше оставаться здесь. Последняя глава моего романа была сдана в газету «Форвард», а выбрать тему новой работы мне по некоторым причинам не удавалось.
Хаим Джоел Трейбитчер давал званый вечер по случаю новоселья в своем новом доме. Так как мы с Мириам не пошли на его прием в Нью-Йорке, было ясно, что мы не можем пропустить этот. Ходили слухи, что Хаим Джоел встретил в Хайфе богатую вдову, американскую миллионершу, и собирается жениться на ней. Его новый дом был расположен на бульваре Ротшильда, и Макс шутил, что его теперь переименуют в бульвар Трейбитчера. Хаим Джоел рассказал Максу об этой вдове, миссис Бейгельман, которая купалась в деньгах. Ее покойный муж, родом из Южной Африки, где у него были золотые копи, строил небоскребы в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Хьюстоне. Несмотря на такую счастливую судьбу, у него случился инфаркт, и он умер. Миссис Бейгельман встретилась с Максом и пришла в восторг от его шуток, обаяния, умения быть приятным и его рассказов о Варшаве. Она порекомендовала ему врача в Нью-Йорке, который оперировал ее мужа. Миссис Бейгельман, которая собиралась присутствовать на вечере у Хаима Джоела, оказалась необъятной женщиной ростом почти шесть футов, с носом, похожим на шофар, и зубами, как у козы. Ее голос был низким и глубоким контральто. Стефа тихо шепнула мне:
— Она может проглотить Трейбитчера, и никто этого даже не заметит.
Похоже было, что творческая энергия покинула меня — я не испытывал ни малейшего желания начинать новый роман. Впервые за много лет я чувствовал, что мне надо отдохнуть, взять отпуск. Меня охватила усталость, в запястьях начались подергивания — судороги, столь знакомые писателям. Пропало также и желание обладать Мириам. По какой-то причине, которую я не мог объяснить, меня охватывало чувство страха, когда я думал о предстоящем вечере у Трейбитчера. Хаим Джоел позвонил мне в отель и предупредил, чтобы я не опаздывал. Я спросил, почему это так важно, и он ответил:
— Я не могу вам сейчас это сказать, но в известном смысле вечер устроен для вас. Не бойтесь. Никто не будет короновать вас тыквой и свечами, как было с героем одного вашего рассказа.
Я хотел выругать Хаима Джоела за то, что он строит планы, не поинтересовавшись мнением заинтересованного лица, но он повторил:
— Ради Бога, приходите вовремя, — и повесил трубку.
В Тель-Авиве пошли дожди и стало холодно. В газетах писали, что в пустыне Негев реки внезапно вышли из берегов. Места, которые только что были иссушенной землей и песками, в одно мгновение переполнялись бушующими потоками, увлекавшими людей, верблюдов, овец. В окрестностях Тель-Авива образовались глубокие разливы воды, которые не могли перейти женщины, дети и старики. Их переносили на плечах добровольцы из числа молодых мужчин. Несколько раз по ночам отключалось электричество; Тель-Авив погружался в египетскую тьму. Даже в новом отеле, где жили Крейтлы, почему-то не было холодной воды. Плохо работал телефон; во время одного из моих разговоров с Леоном связь неожиданно прервалась.
Прива (вместе с Цловой) приехала в Тель- Авив, но не для того, чтобы ухаживать за больным супругом, а чтобы принять участие в званом вечере Хаима Джоела. В результате Мириам была вынуждена освободить комнату Макса и переселиться ко мне. Вне себя от ярости она решила бойкотировать прием у Трейбитчера.
— Мы не можем поступить так! — воскликнул я.
— Ты должен идти. Разве ты не знаешь, что тебе будет вручена литературная премия? — Оказалось, что миссис Бейгельман учредила премию в пятьсот долларов имени своего покойного мужа. — Трейбитчер собирается добавить такую же сумму в память Матильды, так что ты получишь тысячу долларов! — насмешливо размечталась Мириам. Потом заговорила более серьезным тоном:
— Баттерфляй, я много дней хотела поднять этот вопрос, но у меня не хватало мужества. Ты был очень добр ко мне, но ты слишком молод, чтобы стать тем, кем является для меня Макс.
— Слишком молод? Я на двадцать лет старше тебя.
— Мне уже скоро тридцать, и я хотела бы иметь ребенка прежде, чем лягу в могилу. Если мне суждено иметь детей, это надо делать теперь. Каждый месяц, когда приходит мой период, я чувствую, что ускользают последние шансы. Мужчине этого не понять. У нас у всех есть свои глупые фантазии. Когда-то ты написал рассказ — на самом деле это были воспоминания — о матери твоего друга, которая каждые два года рожала ребенка, мальчика. И каждый раз, качая очередного малыша в колыбели, она пела песенку о том, что когда-нибудь он вырастет и станет раввином. Ты помнишь?
— Да, это была мать моего друга, Исаака. Ни один из ее мальчиков не вырос. Все они умирали в детстве, но она никогда не переставала петь свою песенку: «Мойшеле будет реббеле, Береле будет реббеле, Хазкеле будет реббеле».
— Я упоминаю этот рассказ в моей диссертации, — сказала Мириам. — Зачем я живу, если не для того, чтобы создать кого-то, кто будет достоин называться Человеком? Чем заканчиваются весь этот секс и вся наша любовь и страсть? То, что я чувствую, сильнее, чем логика. Ты можешь даже назвать меня бесстыжей. Ты как-то цитировал выражение из Гемары, которое я сейчас не помню, о женщине, жаждавшей секса. Ты писал, что с такой женщиной любой может развестись безо всяких формальностей, требуемых брачным контрактом. Это правда?
— Так говорится в Гемаре.
— Ну, поскольку я не являюсь твоей женой, и у меня нет кетубы,[190] ты не можешь развестись со мной и не можешь выкинуть вон мою кетубу. Помнишь клятву, которой я тебе поклялась?
— Я все помню. Но что ты будешь делать, если получишь отрицательный ответ от меня? Поищешь другого отца?
— Я только что сказала, что не нарушу мой обет. Если я обречена никогда не стать матерью, я хочу знать это и успокоиться. Нет необходимости отвечать мне сейчас же. Скажи только, как долго мне ждать. Я не хочу год за годом жить в неизвестности.
— У нас будет ребенок.
Мы сидели молча. Я был ошеломлен тем, что сказал, а Мириам — тем, что услышала. Она смотрела на меня так, словно готова была смеяться и плакать одновременно.
Наконец наступил день званого вечера. По сведениям Макса, Хаим Джоел пригласил сотни гостей, «половину Земли Обетованной», что должно было обойтись ему в целое состояние. Я отдал погладить свой костюм и купил по этому случаю новую рубашку и галстук. Мириам пошла со мной за покупками и заставила меня купить еще и новую пару туфель. С тех пор как возвратилась Прива, к Максу никто не приходил, даже Мириам. За ним смотрели только Прива и Цлова.
Хаим Джоел позвонил по телефону, чтобы сообщить, что пришлет за мной и Мириам такси. За Максом, Привой и Цловой он послал собственный автомобиль. Он перечислил множество приглашенных — выдающихся людей, среди которых были министры, депутаты кнессета, офицеры, писатели, издатели, студенты университетов из Реховота и Иерусалима и актеры из театра Хабима и из других театров Израиля.
Вечер должен был начаться ужином «а ля фуршет». Хотя Мириам всячески старалась преуменьшить значение предстоящего события, тем не менее она к нему подготовилась. Даже сделала прическу, чего я никогда не видел в Нью-Йорке. Конечно, у Хаима Джоела Трейбитчера были отпечатаны прекрасные приглашения, в которых упоминалось мое имя и объявлялось о присужденной мне литературной премии. Он также заказал для этой премии что-то вроде диплома, написанного на пергаменте и на идише, и на иврите.
Накануне ночью шел дождь, но теперь он перестал, и небо очистилось. Я вышел на балкон полюбоваться закатом. Мне казалось, что даже солнце в Земле Обетованной было не таким, как в Польше или в Америке. Оно раскачивалось на золотых волнах, что напомнило мне Йом Кипур в сумерках перед Нейлах.[191] Казалось, воды были покрыты святостью. Это было библейское море «тех, что спускались к морю на кораблях, которые плавали в великих водах, где виделись создания Господа и чудеса Его в глубине». Это было море пророка Ионы, море книги Иова. Рядом были Тир, Сидон, Тарсис.[192] Это не был обычный закат солнца, подобный тем, которые я наблюдал в Билгорае и Варшаве или на Риверсайд-Драйв в Нью-Йорке. Это солнце в самом деле собиралось погрузиться в воды моря, как об этом писалось в Гемаре и в Мидраше.
Большой дом Хаима Джоела, расположенный в окрестностях Тель-Авива, был полон гостей — во всех комнатах толпились люди, олицетворявшие женскую красоту, мужской талант, высокие гражданские качества и даже филантропию. Я никогда не видел чего-либо подобного. Хаима Джоела помнили еще по приемам в Берлине, где он жил до того года, когда Гитлер пришел к власти. В то время хозяйкой была покойная Матильда. Казалось, это «парти» или месиба (сборище) было несколько хаотично, свободно от каких-либо условностей. В дверях Хаим Джоел вместе со своей будущей супругой коротко приветствовал меня. Он был в смокинге, который придавал его низенькой фигуре комичный вид, делая его чем-то похожим на карлика в цирке. Стоявшая рядом с ним огромная женщина в платье с золотыми блестками и с башней крашеных рыжих волос была обвешена драгоценностями. Они приветливо поздоровались с нами, но оглушительный шум из комнат поглотил их слова. Здесь можно было услышать все языки мира — обрывки разговоров и фразы на идише, иврите, английском, немецком, французском, русском, польском, венгерском. Мириам взяла меня под руку, и мы поспешили вперед. Официанты и официантки несли подносы, нагруженные деликатесами. Группы гостей теснились возле буфетов, ломившихся под тяжестью яств и бутылок. Я заметил незнакомца, который отличался сверхъестественным сходством с доктором Герцлем — та же борода, те же глаза, то же бледное аристократическое лицо. Меня обступили мужчины и женщины, которым я, по-видимому, был известен. Они приветствовали меня, жали мне руку, орали мне в уши что-то невразумительное. Время от времени кто-нибудь пытался перекричать толпу, постучать ложкой о стакан, безуспешно призывая к порядку. Становилось теплее, и в доме было уже невероятно жарко. Мириам сказала мне на ухо:
— Давай удерем отсюда!
Мы пробивались из комнаты в комнату, пока в конце концов не оказались в спальне. На двух широких кроватях высились груды пальто и жакетов. На самый верх одной из этих груд взгромоздилась вельветовая шляпа раввина или рабби. Я уже раньше заметил нескольких бородатых мужчин с ермолками на головах, одетых в длинные грубошерстные сюртуки. Я слышал, что, наряду с другими организациями, Хаим Джоел Трейбитчер поддерживал несколько иешив в Сафеде и Иерусалиме. В этой комнате было тихо, и я направился к стулу, который стоял у стены. Мириам воскликнула:
— Баттерфляй, я голодна. Я была настолько глупа, что решила, что они посадят нас за стол и накормят.
— Я должна поискать Макса. Оставайся здесь.
— Не забудь вернуться.
Я уселся в розовое кресло. В карманах моих брюк лежали два свежих носовых платка, но они оба уже были влажными от пота на лице. Мириам поцеловала меня и бросилась в мир беспорядка и безумия. Когда она открыла дверь, возникло впечатление, как будто тысяча глоток слила свои голоса в единый рев. Комната была полна теней от единственной лампы. Итак, это спальня миллионера, подумал я. Здесь он будет спать с этой гигантской женщиной всего через несколько месяцев после того, как умерла его жена. Я был голоден, но в то же время чувствовал тяжесть в желудке. Меня пучило, и рот переполняла какая-то кисло-сладкая жидкость. «Как они станут вручать мне премию во время такой оргии? — спрашивал я себя. — И как они найдут меня?» Хорошо было снова ощущать одиночество. Мне не хотелось ни их денег, ни их почета.
«Жениться, стать отцом? — вопрошал мой диббук. — Вырастить второго Аарона Грейдингера, второго Макса, вторую Мириам, второго Хаима Джоела Трейбитчера или, быть может, второе такое же чудовище, как эта дама, которая будет его женой?» Никому не дано знать, что может создать комбинация генов. Я стал искать какую-нибудь книгу, журнал или газету, чтобы отвлечься от своих мыслей, но ничего не нашел. Откинув голову на спинку кресла, я закрыл глаза.
Я стал впадать в то мрачное настроение, которое охватывало меня всякий раз, когда мне случалось оказаться в толпе. Одного человека, даже двух или трех я мог выносить с легкостью, но большое скопление людей всегда вызывало у меня страх. Толпа может стать опасной; сборища, толпы способствуют началу войн, революций, инквизиции, изгнаний, крестовых походов. Даже группа хасидов или толпа на похоронах ужасали меня. Это толпа отлила золотого тельца и потом поклонялась ему; толпа подвергла остракизму Спинозу; в 1905 году толпа еврейских революционеров напала на лавочника на Крохмальной улице и убила его, решив, что он капиталист. Толпы сжигали евреев, еретиков и ведьм, линчевали негров, поджигали дома, грабили, насиловали, даже убивали маленьких детей.
Я почти задремал, когда дверь вдруг распахнулась, и в комнату ворвалась мешанина голосов. Это была Мириам в сопровождении Хаима Джоела Трейбитчера, Макса и Стефы. Я вздрогнул и проснулся. Макс хорошо выглядел в вечернем костюме. Он подкрасил бороду, в ней снова появились черные полосы. Макс громко заорал:
— Что ты прячешься, как застенчивая невеста? Мы пришли за тобой!
— Кроме всего прочего, вы сегодня наш почетный гость! — воскликнул Трейбитчер.
— Он хочет показать нам, какой он скромный, — сказала Стефа, и по ее голосу я понял, что она тоже слегка пьяна. Мириам держала в руке бокал с вином, и ее глаза сияли блаженством опьянения.
Хаим Джоел Трейбитчер взял меня за руку и повел по дому. Комнаты были уже не так переполнены, как раньше. Вечер был теплый, и поэтому буфет и столы с напитками вынесли из дома. При доме был огромный сад. Мириам вручила мне тарелку с едой и даже нашла для меня стул. Фонари у дверей дома отбрасывали волшебный свет на деревья, траву и лица гостей. Воздух был насыщен одновременно ароматами осени и весны. Казалось, мы были уже не в Тель-Авиве, а при дворе королей где-то в Индии, Персии или в глубине Африки. Это напомнило мне королевский двор в Шушане, где король Ахашверош пировал со своими придворными, министрами и рабами. В опьянении он решил продемонстрировать красоту своей жены Астинь,[193] которая развлекалась неподалеку вместе с наложницами царя под присмотром евнухов. Я ел, пил сладкое вино, которое принесла мне Мириам; гости — и мужчины и женщины — подходили, чтобы приветствовать меня. Они уверяли меня, что читают все, что я пишу. Две из моих книг были переведены на иврит; мои рассказы печатались на идише и на иврите в журналах, а некоторые даже в ежедневных газетах. Тель-Авив это не Нью-Йорк, где писатель может прожить всю жизнь, опубликовать множество книг и остаться неизвестным. Здесь люди читали все и были в курсе всего происходящего.
В тот вечер, впервые в жизни, я испытал вкус славы. Когда мое имя было названо, меня посадили за стол среди знаменитостей. Хаим Джоел вручил мне свиток, написанный и разрисованный на пергаменте, и конверт с чеком. Он коротко рассказал обо мне на идише. Затем кто-то другой рассказал о моих трудах на иврите. Мириам, Стефа и будущая супруга Хаима Джоела расцеловали меня в щеки. Я понемногу пьянел. Тем не менее, я ухитрился поблагодарить Хаима Джоела и его гостей и сказать несколько слов о судьбе евреев и языка идиш, слов, которые вызвали аплодисменты. Я также не забыл упомянуть о своей дружбе с Максом и Мириам, женщиной, которая писала диссертацию о моем творчестве в американском университете. Впервые в своей жизни я говорил перед широкой публикой.
После вручения премии гости разделились на небольшие группы. Я слышал, как обсуждались уже ставшие привычными вопросы: «Кто такой еврей? Какова роль евреев диаспоры теперь, когда уже создано государство Израиль?» Профессор польского происхождения жаловался на то, что немецкие евреи захватили полный контроль над иерусалимским университетом и не допускают в число студентов выходцев из Польши или России. Обсуждалась также ситуация в текущей политике. Каким бы малым ни было количество евреев в Эрец-Исраэль — треть от числа проживающих в Америке, — они уже разбились на множество политических партий — левых наполовину, левых на три четверти, даже коммунистических. Хотя Россия проголосовала в Организации Объединенных Наций за создание государства Израиль, Хрущев уже начал склоняться на сторону Египта, Сирии, Иордании, даже палестинских террористов. Крошечное государство было со всех сторон окружено врагами. Белобородый рабби, чье лицо тем не менее выглядело молодо, рассуждал перед несколькими юношами в ермолках:
— Вся идея Земли Обетованной держится на Библии, на наших священных книгах. Но когда вера во Всемогущего и в Провидение угасает — то к чему им евреи, и почему Эрец-Исраэль должен быть еврейской страной? Они могли с таким же успехом выбрать Уганду или Суринам. Наша всесветность не представляет собой ничего, кроме глупости и невежества. Рабби Кук был прав, когда сказал…
Я прислушался, чтобы услышать, что сказал раввин Кук, но кто-то тихо потянул меня за руку. Это была маленькая полная женщина средних лет с черными глазами. Еще до того как она открыла рот, я понял, что она еврейка из Польши и жертва Гитлера. Она сказала на идише:
— Простите, что беспокою вас. Я ваша читательница… Мне надо поговорить с вами об одном деле, но только не на ходу. Не могли бы мы где-нибудь присесть и поговорить?
— Пойдемте, поищем место.
Комнаты постепенно пустели. Мы нашли свободную от гостей комнату и сели в углу.
— Дело, которое я хочу обсудить с вами, очень, очень важное, — сказала она. — Я весь вечер колебалась, подойти к вам или нет. Я кузина жены Хаима Джоела, Матильды, пусть она покоится в мире. Моя дочь училась в гимназии в Варшаве с Мириам Залкинд. Моей дочери, к несчастью, больше нет среди живых. Мириам сейчас не узнает меня — да и как бы она смогла? В то время я была сравнительно молода, а теперь и не молода, и не хороша. Я только недавно вышла из больницы после серьезной операции.
— Как вас зовут? Мириам будет рада услышать о вас.
— Я не хочу, чтобы она слышала обо мне. Будет лучше, если она не узнает меня.
Женщина покачала головой. С дрожью в голосе она сказала:
— Прошу вас, не сердитесь на меня. То, что я хочу рассказать, вам не будет приятно услышать, но я чувствую, что моя обязанность сказать это награжденному еврейскому писателю.
Я понял, что эта женщина знает о поведении Мириам, ее безнравственном образе жизни, возможно, даже о ее делах на арийской стороне. Я сказал:
— Да, я понимаю, но хочу вам заметить, что мы не можем судить тех, кто прошел через Катастрофу. Я имею в виду, что я не могу судить. Вы, вероятно, тоже жертва Гитлера.
— Да, я прошла через этот ад, через все это.
— Так и Мириам.
— Я знаю, но…
Женщина остановилась. Она открыла сумочку, достала носовой платок и вытерла глаза.
— То, что сделали с нами эти убийцы, когда-нибудь рассудит Бог. Но те, кто помогал убийцам и служил им, — для них у меня нет ничего, кроме презрения.
— Что вы имеете в виду?
— Мириам была одной из их капо.[194]
Она как будто выплюнула эти слова. Ее лицо перекосил спазм. Во мне все застыло.
— Где? Когда?
— Вы должны меня выслушать.
— Да, да.
У меня так пересохло горло, что я с трудом произносил слова. Женщина сказала:
— Не волнуйтесь. Я не собираюсь рассказывать вам все, что вынесла от рук нацистов. Меня переводили из одного лагеря в другой. Я была швеей, и только это сохранило мне жизнь. Я чинила их форму, шила для них белье — для офицеров, не для солдат. Вся история никогда не будет рассказана. Наши беженцы написали массу книг, я читала почти все из них. То, что они рассказывают, правда. Но настоящая правда — та, которую не может передать перо. Для меня, в любом случае, это уже слишком поздно. Прежде чем я описала бы все, что произошло со мной, — если бы я смогла, — я бы умерла.
— Вы не должны говорить так!
— Я хочу, чтобы вы знали: то, что я сейчас делаю, я делаю с тяжелым сердцем. Я не могу сказать точно, каким образом в конце сорок четвертого года я оказалась в Риге. Нас таскали с одного места на другое, пока я не попала в Ригу вместе с сотнями других бедолаг. У некоторых из нас еще сохранились остатки сил, у других конец уже был близок. В один из дней нас погрузили на судно, в трюмы, набив, как селедки в бочку, и отправили в Штутгоф. О том, что это был Штутгоф, мы узнали только потому, что некоторым из нас позволили выйти на палубу и увидеть белый свет. Затем они переправили нас в Марбург, который должен был стать нашей последней остановкой. В то время было уже ясно, что нацисты проиграли войну. Но будем ли мы живы, дождемся ли освобождения, оставалось под вопросом. В окрестностях Штутгофа мы видели горы детской обуви, одежды, самых разных предметов. Сами дети погибли в газовых камерах и были сожжены, а маленькие принадлежности их одежды лежали в кучах. Ну, а теперь о том, что я хочу рассказать вам, потому что чувствую себя обязанной сделать это. Мириам разгуливала по Штутгофу с плеткой, которую разрешалось носить только капо. Я видела ее так же ясно, как я вижу сейчас вас. Это все, что мне хотелось сказать. Я уверена, что вы знаете — еврейская девушка не могла стать капо за добрые дела. Хлыст предназначался для того, чтобы его использовали. Им били еврейских девушек за малейшие провинности, за промедление при выходе на работу, за попытку украсть картофелину, за прочие мелкие провинности. Некоторые капо даже помогали нацистам затаскивать детей в газовые камеры. Ну вот, это то, что я хотела рассказать вам. Как это говорится? — «Факты говорят за себя сами».
Я долго сидел молча. Потом спросил:
— Вы уверены, что это была Мириам?
— От этого никуда не денешься. Она часто бывала у нас дома. Я узнала бы ее за милю.
— Она вас видела? — спросил я.
— Нет, я уверена, что не видела. А даже если бы и увидела, она бы меня не узнала. Мы, как говорят, приближались к концу, группа скелетов. Нет, она не видела меня — я имею в виду, не узнала.
Я поблагодарил женщину и твердо пообещал ей ничего не рассказывать Мириам. И вдруг, в тот момент, когда я поднялся, чтобы пожать ей руку, появилась Мириам. Женщина побледнела и поспешно вырвала руку. Она покачнулась и открыла рот, но не произнесла ни звука.
Мириам спросила меня:
— Где ты был все это время? Я тебя искала.
— Я ухожу. Спокойной ночи, — сказала женщина дрогнувшим голосом.
— Доброй ночи, и еще раз — благодарю вас.
— Кто эта женщина? Чего она хотела? — спросила Мириам.
— Учительница. Ей нужен был совет.
— Ты и здесь раздаешь советы? Макс и Прива ушли домой вместе с Цловой. Прежде, чем мы пойдем, расскажи мне, чего хотела эта женщина?
— А, вечная история — муж, дети.
— Она показалась мне знакомой. Почему ты так взволнован? Она сказала что-то, расстроившее тебя?
— Вечные семейные трагедии.
— Пойдем.
И Мириам взяла меня под руку.
Ночь не была холодной, но я дрожал. Мы ждали такси, попутную машину или хотя бы автобуса, но прошло тридцать минут, а никакого транспорта не было. Пригород был почти совершенно темным. Небо покрылось облаками, однако между ними можно было увидеть мерцающие звезды. На Мириам было легкое летнее платье, и она тоже скоро стала жаловаться на холод. Она сказала:
— Где мы? Посреди пустыни? Ах, у тебя такая холодная рука! Обычно у тебя теплые руки.
— Я уже не так молод.
— Ты молодой, молодой. Может быть, пойдем пешком? Идти недалеко, но вопрос, в какую сторону? Прежде всего нам надо понять — где море?
— Да, где оно?
Как только я произнес эти слова, все съеденное в этот вечер хлынуло у меня изо рта. Я побежал, продолжая блевать. Добежав до фонарного столба, я ухватился за него, понимая, что не могу двигаться дальше. Волны горькой жидкости поднимались ко рту и вырывались из него. Лицо покрылось испариной. Я сознавал, что надо постараться не испачкать рубашку и костюм, но больше не владел своим телом. Мириам, крича, подбежала ко мне. Она схватила меня за шею и стала хлопать по спине, как будто я подавился пищей. Мимо проехало такси, и Мириам закричала водителю, чтобы он остановился. Шофер что-то крикнул в ответ, по-видимому, что он не желает пачкать свое такси, и уехал. Перед глазами плясали огоньки, колени дрожали, и я из последних сил удерживался, чтобы не упасть. «Я не должен упасть в обморок! Нельзя!» — твердил я себе. Пергаментный свиток, который мне вручил Трейбитчер, куда-то пропал, и, скорее всего, я потерял конверт с чеком. Мириам стояла надо мной, вытирая мое лицо носовым платком. В этот момент возле нас остановилось такси.
После того как я влез в такси, я увидел, что мегилла[195] трейбитчеровской награды находится у Мириам. Конверт с чеком тоже нашелся в моем нагрудном кармане. Мириам спросила:
— Что случилось? Что ты съел, от чего тебя так скрутило? Все, что подавали, было таким свежим.
Мои внутренности были опустошены, но рот, небо, даже нос, ощущали кислый вкус. Уже второй раз меня стошнило на глазах у Мириам, первый был в ту ночь, когда Стенли ворвался к нам с револьвером. Я был не в состоянии что-либо ответить Мириам.
Тем не менее я вспомнил, что надо достать бумажник из заднего кармана, чтобы заплатить за такси. Водитель, настроенный поболтать, о чем-то спрашивал Мириам на иврите. Я будто оглох. Я слышал его голос, но не мог разобрать слов, которые он произносил с сефардским акцентом. Мириам бойко отвечала ему на иврите. Я дал ей деньги, чтобы расплатиться, и она сказала, что этого слишком много. Когда мы остановились перед отелем и вылезли из машины, я почувствовал, как у меня снова задрожали колени. Ночной портье, пожилой человек, взглянул на меня и спросил:
— Что случилось? Плохо себя чувствуете?
В гостинице не было лифта, и Мириам повела меня наверх по лестнице. Пока мы поднимались, я впервые в жизни почувствовал боль в ногах (на которую часто жалуются старики), как будто произошла закупорка вен.
Мириам помогла мне раздеться и обтерла мое тело губкой с холодной водой. Она суетилась вокруг меня, как преданная жена, и я начал думать, что останусь с ней. Какой бы она ни была раньше — для меня безразлично. Кто я такой, чтобы судить жертв Гитлера? Кроме того, я слышал, что среди капо попадались опустившиеся люди, которые, тем не менее, помогали заключенным в лагерях. Единственное, чего они хотели, это спасти собственную жизнь. Меня переполняла жалость к этой молодой женщине, которая в свои двадцать семь лет пережила так много горького и как еврейка, и как женщина, и вообще как представитель рода человеческого. Мириам нашла мою пижаму и помогла мне надеть ее. Потом укутала меня в постели. Чуть позже она спросила:
— Можно мне остаться с тобой?
— Да, милая.
Она пошла в свой номер и оставалась там довольно долго. Я без сил лежал на кровати. Мои ноги оставались такими ледяными, как будто холод шел изнутри. Я уже начал задремывать, когда услышал, как открывается дверь. Мириам легла ко мне, и ее тело тоже было холодным. Очевидно, она вымылась холодной водой. Она обняла меня, и по моему позвоночнику пробежала дрожь от прикосновения ее холодных пальцев.
— Подожди, я накрою тебя вторым одеялом.
Мириам завозилась с другой постелью. Я услышал, как она бормочет:
— В этих отелях так плотно натягивают одеяла вокруг матрасов, что надо быть Геркулесом, чтобы вытащить их.
Она справилась со вторым одеялом, но от этого мне не стало намного теплее. Еврей во мне припомнил стих из Библии: «Когда царь Давид состарился и вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться».[196] Каким-то образом я умудрился заснуть, и даже во сне чувствовал холод.
Часом позже я вздрогнул и проснулся, хотя Мириам продолжала спать. Я чувствовал ее груди и живот, прижимавшиеся к моей спине. Ее тело разогрелось, и я согревался, как у печки. Вероятно, она спала с нацистами, подумал я. Мне вспомнились слова Стенли, что нацисты дарили ей украшения, сорванные с убитых еврейских девушек. Да, похоже, что я погрузился в самую глубокую трясину из всех возможных. В голову пришло выражение: «Сорок девять ворот к нечистоплотности». «Ниже этого пасть уже невозможно, — сказал я себе, и почему-то получил от этого удовлетворение. — Более жестокого удара не будет никогда».
Хотя это не было правдой, я всем говорил, что позвонил мой издатель и мне необходимо немедленно вернуться в Нью-Йорк. Стефа и Леон должны были вылететь в Америку на следующий день после вечера у Хаима Джоела. Максу было предписано вернуться в больницу, и Мириам не могла оставить его одного. До отъезда я встретился с матерью Мириам, Фаней Залкинд, и с ее любовником, Феликсом Рукцугом. Мириам была похожа на нее, но не слишком: мать была выше, смуглее, с черными глазами. Она очень быстро разговаривала на варшавском идише и часто смеялась — даже тогда, когда я не видел для этого никакого повода. Фаня была сильно накрашена и одета, как типичная актриса, а таких высоких каблуков, как у ее туфель, я никогда не видел. На ней была огромная шляпа и двухцветное платье: левая половина красная, правая — черная.
Фаня говорила о Мириам так, как будто та была ее младшей сестрой или подругой, а не дочерью. Она сказала:
— Мириам упрямая, ужасно упрямая. Она умна, но для умной девушки в ней было слишком много безрассудства. Я на коленях просила ее уехать с нами в Россию. В школе Мириам подавала надежды, но, между нами говоря, она влюблялась в каждого из своих преподавателей. Не могу понять, как работает ее мозг. Способная, умная — и глупая, как маленький ребенок. Если кто-нибудь скажет ей доброе слово, она готова принести себя в жертву этому человеку. Временами она выказывает большую осведомленность, особенно в литературе, и, в то же время, она ужасно наивна. Я не одобряла этого Стенли. Надо быть слепой, чтобы не видеть, что он фальшивка, как говорят в Америке — «позолоченное кольцо». Его стихи были нелепыми до абсурда. Вы, вероятно, мне не поверите, но он пытался ухаживать за мной. Даже его внешность вызывала у меня отвращение — у него был живот, как у беременной женщины.
О Максе вообще лучше не говорить. Он слишком стар даже для меня. В Варшаве у него была репутация настоящего шарлатана. Промотав деньги отца, он жил на средства женщин. Кто-то мне рассказывал, что он буквально продал свою любовницу американскому туристу за пятьсот долларов. Если бы он был моложе и сильнее, из него бы получился прекрасный сутенер. Мириам вырвалась из рук одного жулика только затем, чтобы попасть в руки другого. Я спрашиваю вас, куда все это приведет? Я представляла себе вас иначе — выше, темнее, с горящими черными глазами.
— Пока я не полысел, у меня были рыжие волосы, — сказал я.
— Да, вижу. Брови у вас еще рыжие. Говорят, рыжие темпераментны. Мне нравится ваш голос. Мириам боготворит вас. Впрочем, я лучше не буду вдаваться в детали. То, что мы пережили, перевернуло для нас все вверх дном. Я могла бы искренне полюбить вас, окажись у вас роль для меня. Мой друг Феликс Рукцуг мог бы инсценировать какой-нибудь ваш рассказ. Естественно, я бы играла главную роль. В его глазах я величайшая из когда-либо живших актрис.
И Фаня Залкинд расхохоталась.
Мне также представился случай встретить Феликса Рукцуга. Он был маленький, смуглый, широкоплечий, подтянутый. У него был тонкий нос и толстые губы. Он носил узкие, обтягивающие брюки, шеголял красным шарфом, на пальцах сверкали два бриллиантовых кольца — типичный жиголо. Феликс Рукцуг оставался коммунистом, даже сталинистом. Он до сих пор посылал свои статьи о театре в единственный еврейский журнал, оставшийся в Варшаве. Даже марксисты издевались над его избитыми фразами.
Я провел всего несколько минут с матерью Мириам, которая говорила шаловливо, умно, шутила и кокетничала. Мириам с удивлением наблюдала за нею.
Все было закончено — прощания, поцелуи, обещания, клятвы. Мириам и Макс проводили меня в Лод. По пути в аэропорт я внимательно смотрел в окно, надеясь найти те черты Эрец-Исраэль, которые отделяли старое от нового. Вначале мне казалось, что здесь ничего не осталось от библейских времен. Однако вскоре я стал замечать образы, которые несли в себе черты древности, — йеменское лицо, оливковое дерево, повозку, запряженную осликом. Этот район принадлежал евреям? Филистимлянам? Мириам держала меня за руку, время от времени пожимая ее. Я предал религию моих предков, но Библия все еще сохраняла для меня свое очарование.
Макс говорил:
— Мог ли я хотя бы на мгновение поверить, что мечта сионистов превратится в реальность? Нет, я покупал их «шкалим»,[197] поддерживая Еврейский Культурный фонд и Еврейский Национальный фонд, но никогда даже на мгновение не верил, что из этих фантазий что-нибудь получится. Даже «Декларация Бальфура»[198] не убедила меня. Но вот здесь еврейское государство, и я тоже здесь. И поскольку мне суждено умереть, я хочу быть похороненным в этой древней земле.
— Прекрати, Макс! — воскликнула Мириам.
— Ну, ну. Пока что я жив. Мы все уйдем рано или поздно. Но какое-то дыхание вечности остается, я это чувствую. Возвращайся, Баттерфляй.
— Я потом приеду в Нью-Йорк, — сказала Мириам. — Мы все возвратимся в Америку, и скоро.
— Да, — сказал Макс и похлопал меня по спине.
Я сидел у окна самолета. Рядом со мной расположился маленький седобородый человек, раввин. Он был одет в длинный кафтан, под которым виднелся небольшой платок с бахромой. Раввин держал на коленях том Мишны. Между пожелтевшими страницами Мишны лежал «Мессилат Йешарим»,[199] который время от времени падал на пол и который раввин поднимал и прикладывал к своим губам. Шляпу раввин положил вместе с пальто на лежавший рядом узел. На голове у него была ермолка с каймой. Я рассказал ему, кто я такой — внук главы еврейской общины в Билгорае, писатель из Нью-Йорка, пишущий на идише. Он был раввином синагоги в Хайфе, население которой, по его словам, состоит из немецких евреев и атеистов. Даже по субботам в синагоге едва удается наскрести миньян.[200] Его приглашали стать руководителем новой иешивы в Иерусалиме, но он ответил: «Иерусалим полон иешивами и Торой. Во мне нуждается Хайфа». Он потерял жену и детей в Холокосте. Его пытались женить снова. Как может быть иначе, раввину нужна ребецин! Но он ответил: «Я уже выполнил заповедь „Плодитесь и размножайтесь", и с меня хватит». Раввин летел в Соединенные Штаты, чтобы добыть денег для основания иешивы в Хайфе.
Он сказал мне:
— Мне о вас все известно. Я читал о вашем приезде в газете. Ваш дед был хасидом?
— Мой дед из Билгорая имел обыкновение ездить к Маггиду[201] Триска, а не к его сыну.
— Я знаю, знаю. Мы в Галиции ездили в Бельц, в Бобов, Гарлиц, Шеняву или в направлении Рижина: в Чортков, Хузятин, Садагур. Триск был в России, и люди редко ездили туда. Но я понимаю, понимаю. Диврей Авраам. Ему нравились Нотеракон и Гематрия. У каждого Учителя был свой путь, так и должно быть. У вас есть семья, жена и дети?
— Нет.
— Вдовец?
— Я никогда не был женат.
Раввин Зехария Клейнгевиртц поскреб свою бороду.
— Это почему? После того как Гитлер — пусть его имя будет навсегда уничтожено — убил так много евреев, им следует вырастить новые поколения.
— Правильно, но…
— Я знаю, просвещенный аргумент таков: зачем растить, воспитывать новые поколения, если евреи всегда в опасности? Мне все это говорят. Весь долгий год моя синагога пуста. Но на Рош Хашана и Йом Кипур они приходят. Не все, но многие. В чем тут дело? Если нет ни справедливости, ни судьи, то чем эти Праздники отличаются от остальных дней года? Я разговариваю с ними, я спрашиваю их, почему они не женятся или почему у них так мало детей, и у всех один и тот же ответ: «Для чего? Чтобы было кого убивать?» У дурных наклонностей есть ответ на все.
С другой стороны, искра еврейства существует в каждом еврее, и искра легко может разгореться в пламя. Кто заставляет юношей из России, тех, что называют себя «Леху Ве-нелха»,[202] ехать в Эрец-Исраэль? Почему они не принимают образ мыслей Ам Оламникс[203] и не едут вместо этого в Америку? Они приезжают сюда и приносят себя в жертву, они осушают болота и заболевают малярией. Многие из них умирают. Возьмите, к примеру, Иосифа Хаима Бреннера. Он был по-своему пламенным евреем, он принял мученическую смерть.
Раввин открыл Мишну и вновь стал, раскачиваясь, беспорядочно читать из разных мест книги. В какой-то момент мне показалось, что он заснул. Однако вскоре он вздрогнул и выпрямился.
— Вы, по крайней мере, зарабатываете себе на жизнь всей этой писаниной? — спросил он.
— Только лишь.
— О чем же вы пишете?
Прошло несколько минут, прежде чем я ответил:
— О еврейской жизни.
— Где? В Америке?
— В Америке. Большей частью о тех, кто приехал с моей прежней родины.
— Что же вы пишете, романы?
— Да.
— Я просматривал такие романы. «Он сказал», «она сказала». Куда ведут все эти любовные истории? Если он развратник и она развратница, то причем тут любовь? Это ненависть, а не любовь. Они надоедают друг другу. Каждая из этих женщин — сотах, распутница, нарушающая супружескую верность. В прежние времена им давали майим ме' арерим, воды проклятия, но сегодня они сами пьют эти воды. Вся игра строится на лжи. Сегодня он обманывает ее, а на следующий день она его. Вы понимаете, о чем я говорю?
— Да, рабби.
— И если это то, о чем вы пишете, каковы же ваши выводы?
— У меня нет выводов.
— И так будет продолжаться? — спросил раввин.
— Если человек нуждается в Вашем доверии, рабби, — ответил я, — то так и должно продолжаться.
Глава 12
В Нью-Йорке была зима и шел снег. Леон и Стефа готовились лететь в Майами-Бич. Леон сказал, что терпеть не может нью-йоркские зимы и, кроме того, у него есть в Майами бизнес. Он стал участником новой спекуляции отелями. Стефа подшучивала над ним, и Леон сказал:
— Я бизнесмен. Что же мне — изучать Мишну? Пока человек дышит, он должен что-то делать. Я прав, Аарон?
— Абсолютно прав, — ответил я.
— Вы перестанете писать, когда доживете до моих лет?
— Боюсь, что нет.
— Когда человеку нечего делать, он думает только о смерти, и это портит его. Когда он занят, то забывает о смерти. Ареле, я прав?
— С вашей точки зрения, да.
— А с чьей точки зрения я не прав?
— В книгах масоретского канона[204] есть мнение, что человек должен всегда иметь в виду Йом ха-Мита, день своей смерти.
— Для чего?
— Это удерживает человека от греховности.
— Я не нуждаюсь в том, чтобы меня удерживали от греховности. Единственное, чего я хочу, чтобы я мог грешить, — пошутил Леон. — По крайней мере, я могу читать о том, как грешат другие. Мертвый не может делать даже этого.
— Леон, твои замечания не по адресу, — вмешалась Стефа. — Аарон верит, что мертвец продолжает путешествовать и участвовать в любовных приключениях. Ты сам на днях читал мне его статью.
— Такие вещи он пишет только для того, чтобы заигрывать с читателями, — ответил Леон. — Сам он в них не верит. Правда в том, что и набожные евреи, и раввины не верят в жизнь после смерти. Если кто-нибудь из них заболевает, то бежит к доктору. Они глотают лекарства и витамины и все прочее. Если правоверные сидят в раю на золотых креслах и едят Левиафана,[205] то зачем так тревожиться по поводу смерти?
— Они боятся ада, — сказала Стефа.
— Ложь, самообман, чепуха, — сказал Леон. — Они просто знают, что после смерти все кончится. Даже пророк Моисей не хотел умирать. Он принялся просить Бога позволить ему пожить еще год, еще неделю, еще день. Это правда, Ареле?
— Так сказано в Мидраше.
— Сам Мидраш тоже боится смерти.
— Если все боятся, почему же в каждом поколении сотни тысяч, даже миллионы, солдат отправляются на войну? — спросил я. — В мире никогда не было недостатка в желающих повоевать из-за малейшего пустяка. Не так давно семь миллионов немцев отдали свои жизни за Гитлера. Миллион американцев рисковали жизнью, чтобы воевать с Гитлером и Японией. Если какой-нибудь демагог поднимется сегодня и призовет к войне против Мексики или к захвату Филлипинских островов, не будет недостатка в добровольцах, страстно жаждущих последовать призыву. Как вы это можете объяснить?
Леон Крейтл нахмурил брови.
— Каждый думает, что умрет другой, а не он… Ну, а каково ваше объяснение?
— Где-то в глубине души человек знает, что от него что-то останется.
— Что останется? Кости. В конце концов даже они сгниют. Чепуха.
— Война это инстинкт, — сказала Стефа. Наша дискуссия происходила у нее на кухне, и все это время Стефа гладила носовые платки и свое белье. Она поставила утюг на металлическую подставку и добавила: — Если ты не отправишься на войну, твой враг придет к тебе. В любом случае ты лишишься жизни. Мужчины все сумасшедшие.
— Теперь женщины тоже становятся солдатами — воюют точно так же, как мужчины, — сказал я.
Когда пришло время прощаться с Леоном и Стефой, я расцеловал их обоих. Между нами возникла близость, которой больше не было между мужем и женой. Стефа соглашалась с Леоном, что когда-то она была моей любовницей. И Леон, со своей стороны, заявлял, что надеется, что я женюсь на его жене после его смерти. Он предлагал опубликовать мои работы на идише, но я никогда не принимал эти предложения. Теперь уже книгу на идише невозможно было издать без дотации, и все это казалось мне бессмысленным. Перед тем как уйти, я торжественно пообещал посетить их в Майами-Бич. Через два года мне исполнится пятьдесят, а я уже чувствовал себя стариком. Я пережил две мировые войны, вся моя семья была уничтожена, женщины, с которыми я был близок, превратились в кучки пепла. Народ, о котором я писал, был мертв. Я превратился в ископаемое давно вымершей эпохи. Когда мой редактор приглашал меня на литературный вечер, более молодые гости спрашивали: «Вы еще живы? Я думал, что…». И извинялись за свою ошибку.
Как быстро развиваются отношения, и как быстро все кончается. Только несколько месяцев назад началась наша связь с Мириам. Мы были охвачены пламенем страсти, но сейчас, в январе, все это казалось принадлежащим далекому прошлому. Я был уверен, что Мириам останется с Максом в Израиле. Слава Богу, он был жив, несмотря на больное сердце. Теперь он страдал еще и от диабета. Мириам не могла, да и не хотела оставить его одного в таком состоянии. Он бы давно умер, если бы не Хаим Джоел Трейбитчер. Трейбитчер буквально взял Макса в свой дом. От Мириам и от других людей доходили слухи, что между этим благородным человеком и его новой женой, которая чаще находилась в Америке, чем в Тель-Авиве, нет согласия. У нее были сыновья, дочери, невестки, зятья, внуки и внучки. Она ездила на курорты и руководила собственным бизнесом. Слияния ее судьбы с судьбой ее мужа никак не получалось. У каждого из них были свои взгляды на будущее. У нее было множество наследников, а Трейбитчер намеревался оставить свои деньги еврейскому государству и различным благотворительным обществам. В дополнение ко всему, его жена постоянно впутывалась в судебные тяжбы. Обо всем этом мне рассказывала в своих письмах Мириам. Сама она поступила в Иерусалиме в университет, где благосклонно отнеслись к ее диссертации и обещали дать стипендию для защиты докторской степени. Надо было только сдать определенные курсы по ивриту и еврейской истории.
Мириам писала мне длинные письма, но я отвечал короткими записками. Пока Макс жив, она его не покинет. Их отношения превратились в платонические и стали ближе, чем раньше. Довольно странно, но Хаим Джоел Трейбитчер тоже по-своему влюбился в нее, и теперь у нее было два старика, а не один. Мириам писала:
«Не смейся, Баттерфляй, но эта ситуация мне очень нравится. В моей жизни было достаточно секса и разврата. У меня развилось чувство глубокого уважения к пожилым мужчинам. Они привлекают меня больше, чем студенты и молодые преподаватели, которые пытаются флиртовать со мной. Макс для меня все — и отец, и муж.
Однако у Хаима Джоела тоже есть свое обаяние. Он наивен, невероятно наивен. Я не могу себе представить, как он смог накопить миллионы и стать покровителем знаменитых европейских художников. И по сей день Хаим Джоел не понял, что у покойной Матильды были любовники. Я никогда не встречала человека с такой чистой душой. И в то же время у него есть чувство юмора, чем-то связанное с Талмудом, с хасидизмом. Он был знаком с руководителями хасидских общин, с раввинами, с женами раввинов, он знал секреты их судов. Но он смотрит на все невинными детскими глазами. Слушать дискуссии его и Макса — редкостное удовольствие. Их идиш таков, что иногда мне трудно уловить смысл. Они смешивают слова иврита, выражения из Гемары и других книг. Похоже, что для таких евреев все имеет происхождение в Торе, даже их шутки.
Мне больно думать, что все это исчезнет с их поколением. По мнению сабров,[206] они бесполезные, праздные люди, шмагеге. Они часто говорят, что ты с головой погрузился в „еврейство", из-за чего я начинаю опасаться, что моя диссертация о твоем творчестве поверхностна. Для меня ты современный человек. Я живу одной мечтой: увидеть тебя здесь. Но когда?»
Прива возвратилась в Нью-Йорк вместе с Цловой. Обе они звонили мне и приглашали на ужин. Они рассказали, что Хаим Джоел Трейбитчер отдал им (с процентами) все деньги, которые они потеряли. Прива приехала в Нью-Йорк, намереваясь основать Еврейское общество медиумов. Евреи, которые говорили на идише, не читали оккультных журналов и лучше всего могли обсуждать свои переживания на идише. Прива напомнила мне, что я публиковал множество писем такого рода и писал, что, если эти случаи правдивы, то нам следовало бы переосмыслить все наши ценности. Прива тоже собрала много таких историй. Жертвы Холокоста спаслись чудом, и у них не было ни мужества, ни желания рассказывать свои истории психологам и ученым. Ими следовало руководить дружески, хорошо знакомым им образом. Мы обсудили этот вопрос с Привой и Цловой, и две недели спустя появилась моя статья. Вскоре начали приходить письма.
Я никогда не получал так много писем в ответ на то, что писал. Интересующиеся исследованиями психики, такие, как доктор Райн, сожалели о том, что не обладают средствами, необходимыми для исследований. Но Еврейское общество медиумов не нуждалось ни в каких средствах. Мы создали наше общество подобно тому, как набожные евреи создают хедеры, хасидские штиблы, иешивы — не пользуясь разрешениями, секретарями, машинистками, почтой, даже марками. Всякий, у кого было, о чем рассказать, мог написать письмо, позвонить мне в редакцию газеты «Форвард» или Приве домой. Издатель дал мне право писать, что я хочу, и публиковать выбранные мною письма. В моей статье говорилось, что исследование медиумов никогда не станет наукой. Да и как могло быть иначе? Ученый был бы вынужден полагаться в своих исследованиях на людей, на их воспоминания, на их честность.Я цитировал слова моего отца: «Если бы рай и ад были посреди рыночной площади, то не было бы никакой свободы выбора. Каждый должен бы был верить в Бога, в Провидение, в бессмертие души, в вознаграждение и в возмездие. Любой может видеть мудрость Господа, но каждый должен иметь веру в Его милосердие. Вера же построена на сомнении».
Даже величайших святых наверняка одолевали сомнения. Ни один влюбленный не может быть абсолютно уверен, что его любимая верна ему. В качестве доказательства, что Всемогущий требует ожидаемого, я цитировал стих: «И он должен верить в Бога и это зачтется ему к его чести». Я указывал на то, что и так называемые точные науки были ничуть не более уверенными в себе. Теория газов, лежащая в основании всех электромагнитных явлений, зачахла за много лет до наших дней. Атом, долгое время считавшийся неделимым, оказался расщепляемым. Время стало относительным, гравитация является результатом какого-то искривления пространства, вселенная разбегается от самой себя после взрыва, якобы случившегося двадцать миллиардов лет тому назад. Аксиомы математики, считавшиеся вечными истинами, превратились в определения и правила игры.
Я стал заходить к Призе по вечерам, потому что в моей комнате на Семидесятой-стрит бывало холодно. По субботам я посещал Будников, но большинство вечеров на неделе проводил с Привой и Цловой. Я часто приглашал обеих женщин на ужин в ресторан «Тип-топ» на Бродвее. Иногда Цлова готовила мои любимые варшавские блюда — запаренный суп, макароны с бобами, кашу с жареным луком, картофель с грибами, изредка даже овсянку моей матери, которая готовилась из крупы, картошки, зеленого горошка, сушеных грибов. Цлова никогда не спрашивала меня, что варила моя мать. Она находила это в моих рассказах.
Сначала Прива запрещала мне упоминать имя Мириам. Она называла Мириам «эта трейф-девушка».[207] Однако, когда мы сидели за доской Оуджа или вокруг маленького столика, имя Мириам частенько подкрадывалось к нам. Трафарет, который двигался над буквами, сообщал нам, что Макс разочаровался в Мириам и что она обманывает его (а также меня) с Хаимом Джоелом Трейбитчером. Прива воскликнула:
— Не следует испытывать такой шок! Развратница всегда остается развратницей.
Прива и я все еще обращались друг к другу на «вы». С другой стороны, я и Цлова настолько перестали стесняться и так распустили языки, что Прива заявила:
— Ребята, хватит ломать комедию.Яне дура. Вы выпустили кота из мешка.
Стол, доска Оуджа и гадальные карты в известном смысле узаконили наши отношения. Однажды вечером, когда свет был выключен, и только маленькая красная лампочка, которую мы использовали во время сеансов, мерцала в темноте, планшет сообщил нам, что Мириам была капо. Прива спросила: «Где?», и планшет образовал слово «Штутгоф». Прива продолжала спрашивать, как Мириам вела себя, и планшет начал скакать с необыкновенной скоростью и образовал слова: «Хлестала кнутом еврейских девушек, затаскивала детей в газовые камеры». Далее планшет открыл нам, что Мириам была любовницей эсэсовского офицера, которого звали Вольфганг Шмидт. Я никогда по-настоящему не верил, что столиком или доской Оуджа движут потусторонние силы, потому что я чувствовал, как Цлова ногами приподнимает столик. Ее колено не раз стукалось о мое. Как эти две женщины маневрировали планшетом и заставляли его двигаться по их командам, я так и не понял. Я всегда был согласен с Хоундини, что все без исключения медиумы жульничают. Руки Привы часто тряслись; она страдала болезнью Паркинсона. Как могла женщина в ее состоянии управлять планшетом над доской с буквами? В тот вечер планшет носился зигзагами, как будто его таскала некая сила. Я закрыл глаза и в красноватой темноте передо мной материализовалась фигура Вольфганга Шмидта: огромный наци с покрытым оспинами лицом, со свастикой на рукаве, с пистолетом у бедра и хлыстом в руке. У него были маленькие и блестящие глазки, шрам на лбу и торчащие, как у борова, короткие светлые волосы. Я слышал, как он грубым голосом орал на Мириам. У меня было отчетливое чувство, что все это я видел и слышал раньше, во сне или перед пробуждением.
По ночам (когда я спал один) я часто просыпался, мучимый мыслями о своей литературной работе. Некоторые рассказы и роман, уже напечатанный в газете, залеживались в моих чемоданах. Но какой издатель станет публиковать длинный роман неизвестного автора, которому уже под пятьдесят? Мой ранний роман, изданный на английском, получил благоприятные критические отзывы, но продавался недостаточно быстро. Я развивал свой успех, переписывая рукопись. Включил эпизод, происходивший в Швейцарии, а так как совесть не позволяла мне писать о стране, которую никогда не видел, то я поехал в Швейцарию, прежде чем закончить книгу. Путешествие стоило мне в три раза больше, чем гонорар, который я получил. Издатель отказался выпускать второе издание романа. Он даже сказал мне, что набор «выброшен в переплавку».
Мысль начать все сначала, преодолевая сложности перевода с идиша, повергла меня в ужас. Один голос во мне говорил: «Слишком поздно, это выше твоих сил». Я был в середине написания другого романа, который требовал каждой унции моей литературной энергии. Тридцать или сорок тысяч читателей читали его ежедневно, большая часть из них — польские евреи, знакомые с каждым городом, улицей и домом, которые я описывал. Малейшая ошибка — и я получал десятки, а то и сотни писем. Мои описания секса или жизни уголовного мира вызывали протесты раввинов и лидеров еврейских общин, которые утверждали, что я подливаю масла в огонь антисемитизма, смущаю и бесчещу жертв Гитлера. Зачем нужно миру неевреев знать о еврейских ворах, мошенниках, сутенерах, проститутках, когда все они уже замучены? Почему бы вместо этого не писать о правоверных евреях, раввинах, хасидах, школярах, набожных женщинах, целомудренных девицах? Правда, у меня встречались и так называемые положительные типы, но время требует — так утверждали авторы писем, — чтобы еврейский писатель подчеркивал исключительно хорошее и святое.
Я также затрагивал все вопросы, которые были запретны для еврейской прессы. Я ни к чему не приспосабливался ни в художественной литературе, ни в журналистике. Статьи, которые я печатал теперь — о телепатии, ясновидении, галлюцинациях, предсказаниях, — возмущали читателей, которые относили себя к рационалистам, социалистам, радикалам. Зачем возвращаться к суевериям средних веков? — спрашивали они. Зачем пробуждать былой фанатизм? Коммунистическая газета использовала любую возможность, чтобы указать, что мои писания — это опиум для еврейских масс, предназначенный для того, чтобы заставить их забыть о борьбе за социальную справедливость, за объединение человечества. Даже сионисты требовали объяснить, где в том, что я пишу, возрождение еврейской истории, свидетелем которого было наше поколение?
Сидящий во мне бездельник, пессимист убеждал: «Добиться успеха в качестве писателя выше твоих сил. Брось это!» Я мечтал о том, чтобы стать лифтером где-нибудь в Бруклине или посудомоем в дешевом ресторане. Мне, вегетарианцу, требовались лишь ломоть хлеба, кусок сыра, чашка кофе и постель. Я мог бы жить на сумму менее двадцати долларов в неделю, мог бы отправиться на отдых или покончить жизнь самоубийством. Однако другой голос возражал: «У тебя есть настоящие произведения, лежащие в чемоданах, которые ты таскал из одной меблированной комнаты в другую. Не обрекай их на уничтожение. Сорок восемь это еще не старость. Анатолю Франсу исполнилось сорок, когда он впервые начал писать. Были даже такие — как там их звали? — чья литературная карьера началась, когда им было за пятьдесят. Когда-то ты принялся за дело, и, пока оно у тебя есть, будь ему предан. Начни завтра!»
Я вскочил с кровати, зажег свет и открыл ящик, где хранились мои записные книжки и некоторые старые дневники. Боже правый, я начал ценить дар свободы выбора, когда я был совсем молодым, когда мне еще не было даже двадцати. «СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ИЛИ СМЕРТЬ», — написал я на странице записной книжки и подчеркнул это трижды: зеленым, потом синим и наконец красным. Я записал этот короткий девиз больше двадцати лет назад в гостинице Отвоцка, когда мне было около двадцати семи. Тогда у меня случился такой же кризис, как сейчас. И среди ночи я поднял руку и поклялся, что на этот раз сдержу слово.
Дав это торжественное обещание, я не мог больше спать. На листке бумаги я прочел следующие стихи:
Протащись своим путем сквозь ужас и грех, Спрячься в свою нору и грызи свой хлеб.Строчки пробудили бесконечные ассоциации. Давным-давно я создал теорию, что свобода выбора строго индивидуальна. Два человека вместе имеют меньший выбор, чем поодиночке; массы, по-видимому, не имеют выбора вообще. Человек, у которого есть семья, имеет меньший выбор, чем холостяк; у того, кто входит в какую-нибудь партию, меньше выбора, чем у его не принадлежащего ни к какой партии соседа. Это соответствовало моей теории, согласно которой современная цивилизация и даже вся человеческая культура прилагают усилия, чтобы дать людям больше выбора, больше свободной воли. Я был тогда пантеистом[208] — не по учению Спинозы, а ближе к тому, что имеет в виду Каббала. Я отождествлял любовь со свободой. Если мужчина любит женщину, это уже акт свободы. Любовь к Богу не возникает по приказу; она может быть только актом свободной воли. Тот факт, что почти все создания рождаются в результате союза между самкой и самцом, был для меня доказательством того, что жизнь является экспериментом в лаборатории свободы Бога. Свобода не может оставаться пассивной, она жаждет созидать. Она жаждет бесчисленных вариантов, возможностей, комбинаций. Она жаждет любви.
Моя причудливая фантазия относительно свободы выбора была также связана с теорией искусства. Наука, по крайней мере временно, является учением о принуждении. Но искусство, в известном смысле, есть учение о свободе. Оно делает то, что хочет, а не то, что должно делать. Настоящий художник — свободный человек, который делает то, что ему нравится. Наука является продуктом команды изобретателей: технология требует коллектива. Но искусство создается индивидуумом — одиночкой. Я всегда считал ошибочной теорию искусства Ипполита Тайна и других профессоров, которые хотели трансформировать искусство в науку.
Во время бессонных ночей я позволял своим мыслям парить свободно, но пробуждаясь, оказывался в абсолютно принудительной реальности. Во сне осуществлялся любой выбор, во всяком случае, так я думал, просыпаясь от своих ночных кошмаров.
Однажды утром я открыл глаза, когда было уже совсем светло. Что-то испортилось в отоплении, и в комнате было холодно, как на улице. Я потрогал радиатор, который нельзя было назвать даже тепловатым. Мой нос закоченел, а в груди уже клокотал кашель. Я забыл завести часы, и они остановились в четверть четвертого. Во Вселенной продолжала править деспотическая причинность. В такой холод не возникало вопроса о том, чтобы принять ванну или вымыться под душем. Но побриться было необходимо. Я повернул кран и смочил помазок холодной водой. Было еще слишком рано идти в редакцию, и я решил согреться в квартире Мириам, ключ от которой у меня был. Я оделся и направился на угол Централ-Парк-Вест и Сотой-стрит. В доме меня поприветствовал швейцар:
— Рад вас видеть. У меня для вас телеграмма.
Он подал мне конверт. Я открыл его и прочел: «Макс умер сегодня ночью во сне. С любовью, твоя Мириам».
Зима шла к концу, и скоро должна была наступить весна. Фаня и Моррис Залкинды намеревались устроить нам пышную свадьбу, но мы с Мириам настояли на скромной церемонии в присутствии только их двоих. На самом деле это было двойное празднество, так как мать Мириам возвратилась из Израиля, порвав с Феликсом Рукцугом, и Моррис принял ее обратно.
Это раннее апрельское утро начиналось как солнечное, но к тому времени, когда мы были готовы ехать в бруклинский Сити-Холл, начал падать снег. Вскоре он превратился в метель. Фаня купила для Мириам великолепную соломенную шляпу, но Мириам не стала надевать ее в снегопад. Моррис Залкинд дал мне чек на двадцать тысяч долларов. Я поблагодарил его и быстро разорвал в клочья маленькую бумажку. Я взял свои три чемодана, два из которых были набиты рукописями и газетными вырезками, и переехал в квартиру Мириам. Над нашей кроватью она повесила увеличенную и вставленную в рамку фотографию Макса. Наша свадьба состояла только из гражданской церемонии, поскольку ни Мириам, ни меня не прельщала перспектива быть обвенчанными раввином. После церемонии Залкинды пригласили нас на ленч в вегетарианский ресторан. Потом они поехали в свой дом на Лонг-Айленде, а мы с Мириам на такси отправились домой. Моррис Залкинд сказал мне:
— Это была самая тихая свадьба со времени Адама и Евы.
В такси Мириам склонилась на мое плечо и разрыдалась. Она сказала, что не смогла удержать слез. Не успели мы войти в квартиру, как зазвонил телефон. Корректор из «Форварда» нашел в одной из моих статей ошибку и спрашивал разрешения исправить ее. Я сказал ему:
— Вы не должны просить разрешения. Потому что это главная цель вашего существования: исправлять промахи писателей, где бы вы их ни находили.
Квартира Мириам никогда не испытывала недостатка в тепле. Пар свистел в радиаторах, снегопад прекратился, солнце прорвалось сквозь облака, и лицо Макса на фотографии на стене было залито светом. Его глаза внимательно смотрели на нас с тем еврейско-польским весельем, которое не смогла уничтожить смерть. Мириам перестала плакать. Развалившись на кровати, она сказала:
— Если у нас будет ребенок, мы назовем его Максом.
— Не будет никаких детей, — сказал я.
— Почему нет? — спросила она.
— Мы с тобой похожи на мулов, — ответил я, — последние в поколении.
Примечания
1
Мессия (ивр. «машиах», букв. «помазанник») — потомок царя Давида, который явится спасти евреев и установить царство справедливости на земле; с приходом Мессии должны воскреснуть мертвые, которые подвергнутся суду Всевышнего.
(обратно)2
Аман — советник персидского царя Ахашвероша, замышлявший погубить евреев (по библейской Книге Эсфири). Многие верующие евреи, последователи Каббалы, верят в переселение душ. Каббала (ивр. букв. «традиция») — мистическое учение иудаизма об отношении Бога и мира, уходящее корнями в глубокую древность.
(обратно)3
Колумнист — автор, ведущий в газете свою колонку или пишущий передовицы.
(обратно)4
Вильно (ныне Вильнюс — столица Литвы) — до 1940 года входил в состав Польши.
(обратно)5
Штибл — дом, избушка в еврейском местечке; место встреч членов хасидской общины.
6
Ковно (ныне Каунас) — до 1940 года был столицей Литвы.
(обратно)7
Шита Мекубетцет — специальный комментарий к четвертому трактату Вавилонского Талмуда (трактат «О яйце», или на иврите «Беца»).
(обратно)8
Ритба — выдающийся комментатор Талмуда (Испания, XIII–XIV века).
(обратно)9
Раша — псевдоним известного итальянского раввина Абоаба Самуила.
(обратно)10
Иешива — высшая религиозная школа, в которой юноши изучают Талмуд и комментарии.
(обратно)11
…бежал через Пражский мост по направлению к Белостоку… — Прага — район Варшавы на правом (восточном) берегу р. Вислы; г. Белосток был занят советскими войсками по соглашению с Германией о разделе Польши 1939 года, после войны г. Белосток и Белостоцкое воеводство были возвращены Польше.
(обратно)12
Свадебный шатер (или «хупа») — специальный балдахин на четырех стойках, под которым стоят жених и невеста во время бракосочетания по еврейскому религиозному обряду.
(обратно)13
Стол (или доска) Оуджа (Ouija board) — приспособление для занятий спиритическими «столоверчениями», то есть вызовом духов и общением с ними, включающее алфавит и указатель на сдвижной доске и позволяющее, по мнению верящих в спиритизм, упростить получение сообщений из загробного мира.
(обратно)14
…после краха Уолл-стрит… — в 1929 году нью- йоркская биржа, находящаяся на Уолл-стрит, лопнула, что привело к неслыханному падению курсов акций и мировому экономическому кризису.
(обратно)15
Освальд Шпенглер (1880–1936) — немецкий философ, автор широко известной книги «Закат Европы», предсказывавшей гибель западной цивилизации и культуры.
(обратно)16
Каше варничкес (идиш) — блюдо еврейской кухни, состоящее из гречневой каши и отваренных «ушек» из теста.
(обратно)17
…вместо Исава — ироническая версия библейской истории о том, как ослепший в старости Исаак благословил в качестве своего наследника младшего сына Иакова вместо старшего Исава (Бытие, гл. 27).
(обратно)18
Исаак Перец — польский еврейский писатель, писавший на идише (вторая половина XIX века).
(обратно)19
Гирш Номберг (1876–1927) — польский еврейский писатель и общественный деятель.
(обратно)20
Гилель Цейтлин (1871–1942) — еврейский писатель, журналист, автор книг по философии хасидизма; хасидизм — (от слова хасид — ивр., букв. «благочестивый») — религиозно-мистическое течение в иудаизме, для которого характерны экзальтация, почитание цадиков, то есть праведников, святых людей.
(обратно)21
Талмуд (ивр., букв. «учение») — многотомный свод священных еврейских текстов, в основном разъясняющих и комментирующих Тору. Различают Иерусалимский и Вавилонский Талмуды (по месту их написания). Считается, что Талмуд впервые записан в период со II века до н. э. до V века н. э.
(обратно)22
Гемара (ивр., букв. «завершение») — толкование Мишны, древнейшей части Талмуда.
(обратно)23
Агада (букв. «рассказ») — собрание изречений, толкований отдельных мест Библии и гимнов. Здесь — наиболее известная Пасхальная Агада, посвященная празднику Песах.
(обратно)24
Натан Мудрый — герой поэмы Лессинга «Моисей Мендельсон».
(обратно)25
Клопс — мясные хлебцы, зразы с яйцом или луком.
(обратно)26
Галиция — юго-восточная часть довоенной Польши, в которую с 1772 года входили некоторые области собственно Польши, включая Краков, и юго-западной Украины, включая Львов. Большая часть Галиции входила в «черту оседлости».
(обратно)27
Кулеш и пампушки — украинские кушания, каша и пирожки.
(обратно)28
Люфтменшен (идиш, букв. «люди воздуха») — люди, живущие неизвестно на что, витающие в облаках.
(обратно)29
Дадаисты (от фр. «dada» — деревянная лошадка; детский лепет) — авангардистское течение начала XX века в поэзии и живописи.
(обратно)30
Бэбиситтер (babysitter, амер.) — приходящая няня.
(обратно)31
… «иа, иа»… — разговор идет на идише; на этом языке «да» звучит как «йа».
(обратно)32
Диббук — злой дух (или душа умершего), который вселяется в человека, овладевает его душой, говорит его устами, но при этом сохраняет самостоятельность.
(обратно)33
Никель (амер.) — монета в пять центов.
(обратно)34
Дайм (амер.) — монета в десять центов.
(обратно)35
Пятикнижие (или Тора) — первые пять книг Библии в еврейском изложении.
(обратно)36
Ахитов бен Азария — советник библейского царя Давида, поднявший против него восстание.
(обратно)37
Йом Kunyp — День Искупления, или Судный День, в который Бог решает судьбу человека и отпускает грехи, десятый день Рош Хашана, еврейского Нового Года.
(обратно)38
Холокост (др. греч., букв. «всесожжение») — Катастрофа европейского еврейства, когда в 1939–1945 годах нацистами было уничтожено шесть миллионов евреев.
(обратно)39
«Ауфбау» («Aufbau») — еврейская газета на немецком языке, пропагандировавшая ассимиляцию евреев в странах, где они проживают.
(обратно)40
Кухонька — в нью-йоркских квартирах нередко в одной из комнат (обычно в living room, то есть «общей» комнате) полуперегородкой выгорожено пространство, где располагается холодильник, газовая плита или настенный таган с вытяжкой и полка или (редко) мойка.
(обратно)41
Штетл (идиш) — еврейское местечко, поселение в пределах «черты оседлости», ограничивавшей места свободного поселения евреев в царской России и входившей в нее части Польши.
(обратно)42
Храм — имеется в виду разрушение римлянами главного Храма иудейской религии в Иерусалиме в 70 году н. э.
(обратно)43
Граф Потоцкий — один из самых знатных и богатейших магнатов Польши, выражение «граф Потоцкий» стало нарицательным.
(обратно)44
Фолвист — партия крупных еврейских землевладельцев в Польше до Второй мировой войны.
(обратно)45
Рабби (букв. «учитель») — глава хасидской общины.
(обратно)46
«Литерарише Блеттер» (идиш, «Литературные страницы») — еврейская газета в Варшаве.
(обратно)47
Ханаанцы, гиргашим, призим — народы, населявшие, по библейской легенде, Палестину и прилегающие области в период становления первого еврейского государства.
(обратно)48
«Книга Проклятий» — в Библии — перечень бед и наказаний, которыми Бог грозит тем, кто не будет соблюдать его законы (см. Левит, гл. 26 и Второзаконие, гл. 28).
(обратно)49
Бет Дин — раввинский суд.
(обратно)50
Хамец (ивр. букв. «квасное») — любые продукты, сделанные из зерновых, подвергшихся брожению (дрожжевое тесто, водка и т. п.; перед праздником еврейской Пасхи (Песах) хамец должен быть удален из дома на все дни праздника, но может быть возвращен после его окончания).
(обратно)51
Кошерный (от слова «кошер» — «подходящий», ивр.) — разрешенный по законам иудаизма; может применяться не только к пище, но и к человеку или даже к юридическому делу.
(обратно)52
…и курила сигареты — еврейская религия запрещает (наряду с запретом выполнять любую работу, пользоваться огнем, телефоном и др.) курить в Субботу.
(обратно)53
«…безумен, как шапочник» («mad as а hatter», англ.) — выражение из известной детской книжки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», ставшее поговоркой; это перефраз народной английской поговорки «безумен, как мартовский заяц» (ср. русское «мартовский кот»), в сказке Кэрролла Мартовский заяц — рассудительный герой.
(обратно)54
mercy killing — Букв.: убийство из милосердия (англ.); идиоматическое выражение, означающее «легкая смерть».
55
Хаймишь (идиш) — домашние.
(обратно)56
«Поалай Цион» (Рабочие Сиона) — левая партия социалистов-сионистов в Польше до Второй мировой войны.
(обратно)57
…стал ревизионистом… — Ревизионисты — радикальное крыло сионистов, возникшее в 1930-е годы под руководством Вл. Жаботинского, которое требовало немедленного создания Еврейского государства в Палестине и изгнания англичан, правивших Палестиной по мандату Лиги Наций.
(обратно)58
Йента — (идиш, букв. «девица») — здесь провинциальная, местечковая женщина; это слово часто ассоциируется с именем (Енте, Ентл), ставшим нарицательным, как, например, русское Фекла (ср. «связался с какой-то феклой»).
(обратно)59
Бриха (ивр., букв, «побег») — название подпольной операции (и организации, в дальнейшем влившейся в израильскую разведку Моссад) сионистской молодежи, в основном партизан из гетто и концлагерей, по массовому выводу евреев из оккупированной немцами Европы в страны Средиземноморья с целью дальнейшей отправки их в Палестину (1944–1947 гг.). Всего было выведено бодее двухсот тысяч человек.
(обратно)60
Гилгул (ивр., букв. «превращение, метаморфоза») — переселение души в одном из ее земных воплощений согласно воззрениям каббалистов.
(обратно)61
Бет Мидраш — (ивр., букв. «Дом Учения») — место изучения божественных книг и почитания Бога, обычно пристройка к синагоге; путешественники, не нашедшие другого пристанища, останавливаются в Доме Учения.
(обратно)62
Хавдала — (ивр., букв. «разделение») — обряд, отмечающий переход от субботы или праздника к будням.
(обратно)63
Арба канфес (или «цицес», букв. «маленькая кисточка») — кисти на углах «малого» молитвенного покрывала талес-котн, которое благочестивый еврей носит постоянно под одеждой.
(обратно)64
glatt — cовершенно (нем.)
(обратно)65
…лемехадрин мин хамехадрин — конечные слова молитвы, произносимой после субботнего праздничного ужина.
(обратно)66
Отто Вейнингер — немецкий философ, автор широко известных в начале XX века книг по вопросам отношений мужчины и женщины.
(обратно)67
Хедер — (ивр., букв. «комната») — начальная религиозная школа для мальчиков.
(обратно)68
…за чечевичную похлебку… — см. Библию, Бытие, гл. 25, 29–34. Старший из близнецов, Исав, согласился отдать младшему, Иакову, право первородства, то есть право наследовать имущество отца за то, что последний накормил его, смертельно проголодавшегося на охоте.
(обратно)69
fait accompli — Свершившийся факт (фр.)
70
Йихуд-штибл — дом (в хасидском местечке) или комната, предназначенные для обряда йихуд, когда новобрачных на десять минут запирают в пустой комнате, что подтверждает факт вступления в брак (так как по еврейскому праву мужчина и женщина, не состоящие в браке или в близком родстве, не могут находиться вдвоем в недоступном для других месте).
(обратно)71
Мицва-данс — часть свадебного ритуала; мицва (ивр.) — заповедь, религиозный долг.
(обратно)72
Шлимазл (идиш) — неудачник, недотепа.
(обратно)73
…«имен Иофора»… — Иофор (или Рагуил) — тесть пророка Моисея, Мадиамский священник, в разных местах Библии (Исход, гл. 3 и др.) называется различными именами.
(обратно)74
Телиша — значок в еврейском письме или печатном тексте, означающий тип напева при чтении вслух.
(обратно)75
Цуцик (укр.) — щеночек.
(обратно)76
Катва раба (ивр.) — букв. «большое письмо».
(обратно)77
Баттерфляй (batterfly, англ.) — бабочка.
(обратно)78
Голем — (ивр., букв. «комок, что-то неоформленное») — глиняный истукан, по преданию, оживленный пражским раввином Ливом бен Бецалелем; в просторечии — болван.
(обратно)79
Шива — траурный обычай оплакивания; оплакивающие сидят на полу в разорванных одеждах без обуви семь дней.
(обратно)80
Эндорская колдунья — волшебница из Эндора, которая вызвала для царя Саула дух пророка Самуила (см. Библию, Первая книга Царств, гл. 28).
(обратно)81
Бал Шем Тов (букв. «Владеющий благим именем Божьим») — прозвище основателя хасидизма, Израеля бен Елиезера (около 1700–1769).
(обратно)82
Эдипов комплекс — желание сексуальных отношений со своими родителями; герой древнегреческой трагедии Эдип спал со своей матерью.
(обратно)83
Тателе (идиш) — папочка.
(обратно)84
Прудон Пьер (1809–1865) — французский экономист и социолог, идеолог анархизма.
(обратно)85
Штюрнер Макс (1806–1856) — немецкий публицист и социолог, идеолог анархизма.
(обратно)86
Эмма Голдман (1869–1940) — американская анархистка.
(обратно)87
Нусекх — отступления, вариант текста.
(обратно)88
…на пути жизни — см. Библию, Притчи Соломона, гл. 2,18,19.
(обратно)89
Сити-Холл — место регистрации гражданских браков в Нью-Йорке.
(обратно)90
Синг-Синг — нью-йоркская тюрьма.
(обратно)91
…читали сликхес — сликхес (или слиход) — покаянные молитвы, которые читаются в синагоге на праздновании еврейского Нового Года Рош Хашана.
(обратно)92
Ле хаим (ивр., букв. «За жизнь») — традиционный еврейский тост.
(обратно)93
Король Собесский (Ян III) — известный польский полководец (1624–1696).
(обратно)94
…ты сам постелил свою постель — начало еврейской поговорки: «Ты сам постелил свою постель, тебе в ней и спать».
(обратно)95
«…твою печать, твой браслет и твой посох…» — см. Библию, Бытие, гл. 38, 15–25; трость (посох) — один из символов власти рабби, главы еврейской общины.
(обратно)96
Меламед — учитель еврейской религиозной школы.
(обратно)97
Крохмальная — улица в Варшаве, где жила в основном еврейская беднота.
(обратно)98
Тамара — в русском издании Библии Фамарь, невестка Иуды.
(обратно)99
Спиноза Барух (1632–1677) — голландский философ, считавший, что природа есть причина самой себя, причина существования и сущности всех вещей. За последовательный рационализм и материализм в 1656 году был изгнан из еврейской общины и проклят.
(обратно)100
…выслать с одним из транспортов… — в конце 1942 — начале 1943 года немцы часто устраивали облавы на улицах гетто и других частей города; пойманных евреев отправляли поездами («транспортами») в Освенцим и другие лагеря уничтожения. Это послужило одной из причин восстания в гетто.
(обратно)101
Машконе (ивр.) — залог, ссуда.
(обратно)102
…названы все евреи… — Иуда (сын праотца Иакова) впоследствии получил во владение землю, названную по его имени Иудеей. Евреев часто называют иудеями (в России это слово обычно употребляется для обозначения последователя иудаизма как религии).
(обратно)103
Тейгелах, мигеле, козинаки — сладости еврейской кулинарии.
(обратно)104
Мантель — здесь: плащ (слэнг 1950-х годов).
(обратно)105
Ребецин (идиш) — жена раввина.
(обратно)106
Меа Шеарим — еврейское религиозное общество времен конца войны.
(обратно)107
Хадасса — крупнейшая еврейская благотворительная организация в США, созданная известной феминисткой Генриеттой Сольд (1860–1945) и специализирующаяся (в основном) на медицинской помощи населению Израиля без различия национальности.
(обратно)108
Рабби Нахман из Вроцлава (1772–1810) — известный хасидский ученый и писатель.
(обратно)109
…избавилась от евреев… — после образования государства Израиль в 1948–1949 годах оставшиеся в живых и вернувшиеся в Польшу евреи были высланы в Израиль.
(обратно)110
«Шолом Алейхем» — (ивр., букв. «Мир Вам») традиционное еврейское приветствие.
(обратно)111
Лонг-Айленд — остров в окрестностях Нью-Йорка, место обитания наиболее богатых.
(обратно)112
Астор-билдинг — небоскреб на Манхеттене.
(обратно)113
Святая Земля — Палестина, государство Израиль.
(обратно)114
Бордвок — променад, деревянный настил над океанским пляжем.
(обратно)115
Такхлес (идиш) — толк, прок, предназначение.
(обратно)116
Эрец-Исраэль (ивр., букв. «Земля Израильская») — территория библейского царства евреев во времена царей Давида и Соломона, иначе — «земля обетованная»; здесь — нынешнее государство Израиль.
(обратно)117
Седер (ивр., букв. «порядок, последовательность») — ужин в первый вечер Песаха (Песах, как и все еврейские праздники, включая Субботу, начинается после захода солнца накануне календарной даты). Церемония седера происходит в строгом соответствии с описанием в Агаде.
(обратно)118
Четыре вопроса — задает во время седера ведущему самый младший участник церемонии; эти вопросы сформулированы в Агаде.
(обратно)119
Хейсев — праздничная кушетка, имитирует ложе, на котором возлежит, облокотясь на левую руку, ведущий церемонии, символизируя этим освобождение из рабства.
(обратно)120
Киттл (идиш) — белая одежда, одеваемая во время богослужений и праздников.
(обратно)121
Харосет — тестообразная смесь из тертых яблок и молотых орехов с вином, напоминающая глину — в память о евреях, делавших в египетском рабстве кирпичи из глины.
(обратно)122
Маца — лепешки из неквашеного теста, заменяющие хлеб на время Песаха.
(обратно)123
Йизкор — поминальная молитва, читается в синагогах в праздничные дни Йом Кипур, Шмини Ацарет, в седьмой день Песаха и в Шавуот. Шавуот — праздник урожая и получения Торы, отмечается в начале лета, через семь недель после Песаха (русская Пятидесятница).
(обратно)124
Цадик (идиш, ивр., букв. «праведник») — человек, отличающийся святостью.
(обратно)125
Что общего у шемитта с горой Синай? — вопрос, неоднократно разобранный в различных комментариях к Талмуду и не имеющий прямого ответа; шемитта (ивр., букв. «седьмой») — так называемый «субботний год».
(обратно)126
Пуримские клоуны — участники клоунады, разыгрываемой во время весеннего еврейского праздника Пурим в память о чудесном избавлении от гибели евреев Персидского царства при царе Ахашевероше (см. библейскую Книгу Эсфири).
(обратно)127
Адирондак, Кэтскилл — горные курортные места в северо-восточных штатах США.
(обратно)128
Голус (или Галут, ивр., букв. «изгнание») — самоназвание еврейской диаспоры; с оттенком презрения.
(обратно)129
Йеким — мн. от йеки (нем., букв. «пиджак»); так в Палестине и в Израиле называли евреев, эмигрировавших в 30–40 годы из Германии.
(обратно)130
Йегудим (арам., букв. «люди с востока») — евреи, как народ.
(обратно)131
Марраны (исп., букв. «свиньи») — испанские евреи, принимавшие крещение, чтобы избежать высылки из Испании в конце XV века, но тайно продолжавшие исповедовать и соблюдать обряды иудаизма.
(обратно)132
Отвоцк — курорт неподалеку от Варшавы.
(обратно)133
Мальтус Томас Роберт (1766–1834) — английский экономист, согласно теории которого в будущем человечество погибнет от обнищания и голода из-за перенаселенности планеты и недостатка природных ресурсов.
(обратно)134
Тиккун (ивр., букв. «исправление») — термин Каббалы.
(обратно)135
День Труда — государственный праздник в США, отмечается в первый понедельник сентября.
(обратно)136
Стена Плача — часть оставшейся стены разрушенного древнего Иерусалимского Храма, место поклонения евреев в память о всех погибших и умерших в изгнании.
(обратно)137
Мезуза — кусочек пергамента со словами молитвы «Шма Исраэль», прикрепленный к косяку двери, к которому прикасаются, входя в дом; символизирует охрану дома Богом.
(обратно)138
Дрейдл — четырехгранный волчок, традиционная детская игра на Хануку. Ханука — праздник в память победы еврейских повстанцев над греко-сирийскими захватчиками (164 год до н. э.).
(обратно)139
Тойкхекхе (ивр., букв. «упреки»).
(обратно)140
Каддиш — молитва, читаемая в память об умерших родственниках при наличии миньяна, то есть минимального кворума для коллективной молитвы (десять мужчин).
(обратно)141
Эль Мале Рахамим — первые слова поминальной молитвы йизкор.
(обратно)142
Осенние Праздники — Рош Хашана — еврейский Новый Год (от сотворения мира); Йом Кипур — Судный День, Суккот или Кущи — праздник сбора урожая, когда евреи семь дней живут в шалашах; Шмини Ацерет / Симхат Тора — в честь дарования Торы пророку Моисею на горе Синай. Осенние Праздники проходят в течение трех-четырех недель в сентябре — октябре.
(обратно)143
Шофар (бараний рог) — во время новогодней службы в Рош Хашана в синагоге трубят в бараний рог для пробуждения богобоязненности в народе и в память о том, как звуками шофара собирали народ у горы Синай при обнародовании десяти заповедей.
(обратно)144
Элул — шестой месяц по еврейскому календарю, соответствует августу — сентябрю.
(обратно)145
…«Ле шана тов тикетейве»… — «Пусть вас запишут на хороший год» — традиционное новогоднее поздравление; в Торе есть упоминание «Книги жизни», куда Бог записывает имена праведников, но в народе считают, что туда попадают все, кому суждено пережить этот год.
(обратно)146
Хоменташи — треугольные пирожки с маком.
(обратно)147
Хошана Раба — название одного из дней праздника Суккот.
(обратно)148
Плетцель (идиш) — плоский пирожок.
(обратно)149
Талес — молитвенное покрывало, накрывающее голову и плечи поверх одежды.
(обратно)150
…не было сдачи с десяти долларов… — В Нью-Йорке много станций метро, где для перехода на противоположную платформу приходится выйти на улицу и вновь войти в другой вход, снова заплатив за билет.
(обратно)151
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876), Штирнер Макс — (псевдоним, наст. имя — Каспар Шмидт) (1806–1856), Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) — видные теоретики анархизма.
(обратно)152
Сефарды — потомки евреев Пиренейского полуострова, говоривших на языке ладино, а не на идише; в современном Израиле — все евреи, не относящиеся к ашкеназам, т. е. евреям Восточной Европы.
(обратно)153
Ортодоксальные, консервативные и реформированные евреи — три основных направления в иудаизме; два последних возникли в XIX веке в Германии и США и отличаются некоторыми подходами к религиозным обрядам и к традициям. Так, консерваторы впервые разрешают участие женщин в молитве вместе с мужчинами и даже занятие ими должностей раввина и кантора, а реформисты вообще считают главным не религиозное, а этическое учение и достижение социальной справедливости. Эти два направления наиболее распространены в США, Европе и странах бывшего СССР.
(обратно)154
Шулхан Арух (ивр., букв. «накрытый стол») — книга еврейских религиозных законов и правил, составленная в XVI веке рабби Иосифом Каро.
(обратно)155
Ташликх (ивр., букв. «бросание») — обряд «сбрасывания грехов в воду» — эта церемония совершается в первый день Рош Хашана: читая псалмы Давида, в реку бросают крошки хлеба, символизирующие грехи человека.
(обратно)156
Капота — традиционная верхняя одежда восточно-европейских евреев, похожая на халат.
(обратно)157
Штраймл — круглая шапка, отороченная мехом, которую хасиды некоторых направлений носят по Субботам и праздникам.
(обратно)158
…поверх парика… — набожные еврейки, направляясь в синагогу в праздники, надевают парик.
(обратно)159
Праздник Симхат Тора — отмечается в конце праздника Суккот, который длится семь дней.
(обратно)160
Мидраш (ивр., букв. «толкование») — сборники толкований и комментариев Библии (II век до н. э. — XI век н. э.), не вошедших в Талмуд.
(обратно)161
Чолент — мясное блюдо, приготовляемое на Субботу.
(обратно)162
Кугел — запеканка, на Субботу готовится на курином жире.
(обратно)163
Шейтл — шаль, головной платок.
(обратно)164
Вейцман Хаим (1874–1951) — известный ученый-химик, лидер Всемирного сионистского движения, первый президент государства Израиль.
(обратно)165
Наторей карта (ивр. «стражи города») — экстремистская ультраортодоксальная еврейская община.
(обратно)166
Бунд (идиш, букв. «союз») — «Всеобщий еврейский социал-демократический союз», возникший в 1897 году в западных губерниях России и первоначально входивший в РСДРП на правах автономной организации; раскололся в 1921 году, когда левая часть его вошла в РКП(б), а правая эмигрировала в Польшу.
(обратно)167
Хашомер Хатцайр — молодежная организация левосионистской ориентации.
(обратно)168
Хетер хораа — разрешение на право преподавания в религиозных учебных заведениях.
(обратно)169
Диаспора (греч., букв. «рассеяние») — рассеяние народа в результате изгнания его из родной страны чужеземными завоевателями. Диаспора евреев началась еще в VIII веке до н. э. после взятия ассирийцами Самарии, но окончательно свершилась после поражения евреев в Иудейских войнах с римлянами в I веке н. э.
(обратно)170
Герцль Теодор (1860–1904) — австрийский журналист и писатель, основатель сионизма — движения за возвращение евреев на их историческую родину и восстановления еврейского государства.
(обратно)171
Иосиф Хаим Бреннер (1881–1921) — еврейский писатель, был убит арабами в Яффо 2 мая 1921 года во время антиеврейских выступлений.
(обратно)172
Макс Нордау (псевдоним, наст. имя Симха Меир Зюдфельд, 1849–1923) — еврейский философ, писатель, публицист, один из основателей Всемирной Сионистской Организации.
(обратно)173
Ахад ха-Ам (ивр., букв. «один из народа») — псевдоним писателя-публициста Ашера Гинцбурга (1856–1927), поборника и пропагандиста возрождения иврита как литературного и разговорного языка современной еврейской культуры.
(обратно)174
…Включавшего мясное… — Религиозные правила (кошер) запрещают одновременное употребление в пищу мясных и молочных продуктов.
(обратно)175
Миква — водоем для ритуальных омовений.
(обратно)176
Машгиах — эксперт, следящий за соблюдением законов кашрута на кухне и в зале кошерного ресторана или при производстве кошерных продуктов на продажу.
(обратно)177
Левиты — одно из «колен Израилевых» — еврейских племен библейской эпохи, из которого, по преданию, происходил и пророк Моисей; во время исхода из египетского рабства в эпизоде, когда часть народа восстала против Моисея и стала поклоняться идолу («золотому тельцу»), левиты защитили Моисея, и с тех пор высшие жрецы и священники Иерусалимского храма назначались исключительно из левитов.
(обратно)178
Хасмонеи — династия иудейских царей, правившая Израилем со II века до н. э. до конца иудейских войн и рассеяния евреев после изгнания их римлянами из Палестины во II веке н. э.; берет начало после победоносного восстания Маккавеев против сирийских оккупантов, в честь которого был установлен праздник Ханука.
(обратно)179
Саддукеи — одна из правящих партий в древнем Израиле, требовавшая отделения религии от государства и признававшая только законы Священного Писания, но не его дальнейшего развития.
(обратно)180
…разрушение Ниневии — см. Библию, Книга пророка Ионы.
(обратно)181
…сравнивалась добродетельная женщина — см. Библию, Притчи Соломона, гл. 31,14.
(обратно)182
Рахиль — жена праотца Иакова (Израиля), см. Библию, Бытие, гл. 28–35; см. также Книга пророка Иеремии, гл. 31–15.
(обратно)183
…филистимляне… гиргашиты — народы, жившие, по библейскому преданию, в древней Палестине и вокруг нее и воевавшие с еврейскими племенами.
(обратно)184
Кохены — потомки Аарона, жрецы Яхве в походной скинии во время Исхода (см. Библию) или в Иерусалимском храме и их потомки.
(обратно)185
Рабби Моше Иссерлес (1525–1572) — известный ученый талмудист из Кракова (Польша).
(обратно)186
Гаон из Вильно (Гаон — ивр., букв. «превосходство») — раввин Илия из Вильно (ум. 1797), знаменитый книжник раввинского толка, лидер антихасидского движения.
(обратно)187
Зохар (ивр., букв. «сияние») — мистический комментарий к Торе, одна из основных книг Каббалы.
(обратно)188
Навуходоносор (VII–VI век до н. э.) — вавилонский царь, в 586 году до н. э. взял Иерусалим, разрушил Храм и переселил наиболее богатых евреев в Вавилонию.
(обратно)189
Гамилькар — карфагенский полководец и политический деятель (III век до н. э.).
(обратно)190
Кетуба — брачный контракт.
(обратно)191
Нейлах (ивр. «закрывающая» — ворота к Богу) — заключительный комплекс молитв Йом Кипура.
(обратно)192
Тир, Сидон, Тарсис — портовые города, упоминаемые в Библии.
(обратно)193
Шушан (Сузы) — столица Персии. Ахашверош (Артаксеркс или Ксеркс) — один из царей Персии периода ее расцвета. Астинь — царица, предшественница Эсфири, см. Библию, Книга Есфири, гл. 1.
(обратно)194
Капо — староста барака в концлагере или камеры в тюрьме.
(обратно)195
Мегилла (ивр.) — свиток, грамота.
(обратно)196
«…не мог он согреться» — см. Библию, Третья книга Царств, гл. 1.1.
(обратно)197
Шкалим (мн. от «шекель», ивр. «вес», названия древней и современной монеты в Израиле) — в начале XX века так назывался членский взнос во Всемирную Сионистскую Организацию.
(обратно)198
«Декларация Бальфура» — письмо министра иностранных дел Великобритании Бальфура барону Ротшильду от 2 ноября 1917 года, содержавшее согласие с идеей Хаима Вейцмана о признании Палестины как «национального очага еврейского народа». Первая политическая победа сионистов.
(обратно)199
«Мессилат Йешарим» — этический трактат рабби Моше Хаима Луцатта (XVIII век).
(обратно)200
Миньян — десять мужчин старше тринадцати лет, минимальный кворум для совместной молитвы в синагоге.
(обратно)201
Маггид — проповедник (у хасидов).
(обратно)202
«Леху Ве-нелха» (ивр. «Борцы за свободу Израиля») — иначе «Лехи» — боевая подпольная организация в Палестине 1940–1947 годов.
(обратно)203
Aм Оламникс (ивр. «Народ мира») — антисионистская идеология, утверждающая евреев как истинных космополитов, то есть обитателей всей планеты.
(обратно)204
…в книгах масоретского канона… — Книги Танаха, еврейского Священного Писания. Не включают в себя некоторые книги Ветхого Завета, считающиеся апокрифическими (например, Книги Юдифи, Хасмонеев, истории о Сусанне и старцах и др.).
(обратно)205
Левиафан (ивр. «извилистый») — огромное морское чудовище, упоминаемое в Библии; по преданию, праведники в раю будут вкушать его мясо (и мясо другого сказочного животного — дикого быка шор абар).
(обратно)206
Сабры — коренные израильтяне, родившиеся в Израиле и говорящие на иврите как на родном языке (ивритское слово «цабар» происходит от арабского «плод алоэ» — колючий снаружи, но сладкий внутри).
(обратно)207
Трейф (от ивр. «трефа» — «мясо растерзанного животного», то есть зарезанного не по правилам) — не кошерный; в данном случае в значении «неподходящая».
(обратно)208
Пантеист — пантеизм — философское учение, согласно которому Бог представляет собой безличное начало, растворенное во всей природе («Всё — Бог»). У Спинозы это — материалистическое учение (природа — Бог, другого нет), в Каббале — идеалистическое (Бог — создатель во всей природе).
(обратно)


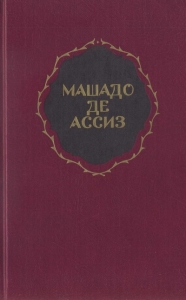

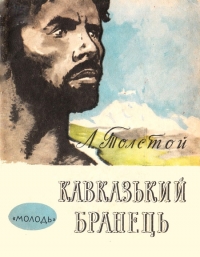
Комментарии к книге «Мешуга», Исаак Башевис-Зингер
Всего 0 комментариев