Ричард Олдингтон «ДА, ТЕТЯ» предостережение
За славой не гоняться,
На солнышке валяться…{1}
I
Если бы мистер Освальд Карстерс не унаследовал права почти бесконтрольно распоряжаться годовым доходом в триста пятьдесят фунтов стерлингов, он, вероятно, никогда не стал бы великим человеком. Надо сказать, что мистер Карстерс не сам протиснулся вперед и вверх — к величию. Нет. Если бы достойный богослов-диссидент, святой мистер Бакстер,{2} был наделен не только святостью, но и даром пророчества, он, может быть, имел бы в виду именно Карстерса, когда писал свой знаменитый трактат, озаглавленный «Если задница тянет христианина книзу — подтолкнем его». Подталкиванием в данном случае занималась миссис Карстерс. Ее старания взвалить на мужа ярмо величия были деятельны и неустанны, и сравниться с ними могла только быстрота, с какой он всякий раз падал под этим бременем.
Первое время после войны Освальд Карстерс жил как заправский холостяк в маленькой, но удобной квартирке с услугами, близ Риджентс-парка. Во время войны он мог послужить превосходной натурой для любого карикатуриста ура-патриотической газеты. Интуиция подсказала Освальду, что там, где убивают без отдыха и без разбора, не место интеллигентному человеку. Поэтому он написал своим тетушкам, имевшим кое-какие связи (в трудные минуты он всегда писал тетушкам), и тетушки стали нажимать кнопки. Трудно себе представить, чтобы в военное время чья-либо тетя не сказала своему молодому племяннику: «Ты нужен королю и отечеству» и, взяв его за руку, не повела, нежно, но решительно на вербовочный пункт. Но тетушки Освальда были мирные, гуманные создания, озабоченные судьбой бродячих кошек и бездомных собак, и они, продолжая твердить друг другу и всем знакомым, что «сейчас место каждого молодого человека в окопах», про себя делали оговорку, что Освальд недостаточно крепок для грубой армейской жизни. Кроме того, он — Карстерс, а это меняет дело. Тетушки Освальда привыкли играть по отношению к нему роль провидения. Когда он перетрачивал свой доход — а случалось это постоянно, — то либо одна из них дарила ему сотню фунтов, либо какая-нибудь другая, самая дряхлая, умирала, завещав ему пятьсот фунтов, миниатюру, изображающую ее в молодости, и несколько престарелых животных, которых Освальд по доброте сердечной тут же препровождал к ветеринару для усыпления.
— У Освальда слабое здоровье, — говорили они друг другу, — но он не эгоист. Он любит животных. И он такой способный.
И вот Освальда признали негодным к действительной службе, и он, как незаменимый работник, был забронирован за одной из канцелярий министерства военной промышленности; а позже какой-то шутник администратор перевел его в министерство здравоохранения. Если оставить в стороне налеты цеппелинов, пайки и необходимость ежедневно являться на службу, можно сказать, что Освальд прожил годы войны разумно и не без приятности. К его маленькому доходу прибавилось жалованье, так что он мог позволить себе скромный комфорт, столь необходимый для человека, слабого здоровьем. Так появилась уютная квартирка с услугами, с которой он не съехал и тогда, когда его весьма вежливо освободили от тягот военной службы, наградив орденом Британской империи. Орден привел тетушек в восторг. Они усмотрели в нем официальное признание «способностей» Освальда и их собственной прозорливости — ведь это они ввели его в сферу, где способности ценят. Опасаясь, как бы не избаловать его чрезмерными похвалами, они тем не менее часто обсуждали его «блестящую карьеру», прошедшую и будущую.
Тетушки с нетерпением ожидали следующего этапа Освальдовой карьеры — «теперь, когда он оставил государственную службу». Но Освальд ничего не предпринимал и даже рассмеялся, когда кто-то предложил ему выставить свою кандидатуру в парламент. Этот изнеженный человечек являл собою живой символ нации, обескровленной гигантским и, в сущности, никчемным усилием, каким явилась промышленная революция. Как аристократия железных крестоносцев постепенно выродилась в кокетливых салонных аббатиков и дамских угодников, точно так же, но гораздо быстрее, и промышленная аристократия Англии породила поколение бесхребетных освальдов. Его предки (люди, которые подобно Клюкве{3} «понесли потери»), видимо, израсходовали всю жизненную энергию, отпущенную на эту семью. Освальду ничего не хотелось делать, он отлично обходился веселым, но совершенно пустым времяпрепровождением. Внешне он напоминал ссохшегося чиновника колониальной службы или какого- то салонного ковбоя. Смуглая кожа и очень темные глаза, похожие на птичьи, придавали ему, по словам теток, «иностранный вид», но, хотя от природы он был худой, сидячая жизнь уже наградила его небольшим, но заметным брюшком. Его тонкие смуглые пальцы пожелтели от бесчисленных папирос, которые он курил с жеманным изяществом. Ноги, правда, были у него коротковаты и толстоваты, и на макушке намечалась небольшая плешь, прикрытая жидкими волосами. Когда он порхал по гостиной, куря и разговаривая высоким, чиновничьим голосом и щуря свои блестящие птичьи глаза, он был похож на тех участников любительского спектакля в колониях, что изображают хор в «Птицах» Аристофана.
Тетушки Освальда не задавались вопросом, какая карьера больше всего ему подходит. Они считали, что прибыльная и почетная карьера — удел любого мужчины. Им не терпелось увидеть, как Освальд будет продвигаться к богатству и почестям, но выбор средств для достижения этой желанной цели они предоставляли ему самому — ему ведь лучше знать, чем он хочет заняться. Освальду же ничем не хотелось заниматься, тем более ничем таким, что требовало бы времени и усилий. Если бы тетушки присмотрелись к нему беспристрастным критическим оком, они заметили бы, что единственное, на что годен Освальд, это на то, чтобы быть дилетантом. Освальд много «выезжал», как свойственно всякому молодому холостяку приличной наружности и, судя по всему, со средствами, если у него есть фрачная пара и xoрошо подвешен язык. А язык у Освальда был подвешен неплохо. Он не пропускал ни одного спектакля русского балета. Исправно ходил на премьеры и на концерты модных исполнителем. Помаленьку коллекционировал — гравюры Пиранези, японских куколок в виде женщин, которые, будучи перевернуты вниз головой, открывают взору приятный сюрприз. И очень много читал — сейчас все много читают. Помимо неиссякающего потока бессмертных пустяков, которые читают все, Освальд дарил своим особым вниманием елизаветинскую драматургию и наиболее скандальные мемуары бурбонского двора. Из современников ему, по его словам, а может, и на самом деле, были особенно близки мистер Литтон Стрэчи{4} и Марсель Пруст — писатели, которые чувствуют себя как дома среди сильных мира сего и которым очень мало дела до тех несчетных представителей рода человеческого, что трудятся ради хлеба насущного, далеко не всегда делая на этом карьеру. Освальду было так же уютно в его шелковом гнездышке привычек, как соне, свернувшейся на зимнюю спячку в шарике из сухой травы. Если б он снизошел до молитвы, то стал бы молиться о том, чтобы наше беспримерное процветание длилось вечно.
Увы, оно длилось невечно. О экономика, какие только преступления не совершаются во имя твое! В 1919–1921 годах все страшно вздорожало. Конечно, прибыли необходимы — иначе как бы нам платили дивиденды, но, черт возьми, во всем нужно знать меру. Так не раз думал Освальд, когда бывал вынужден с болью в сердце платить за какую-нибудь совершенно необходимую безделку. И с еще горшей болью он подумал об этом однажды утром, когда управляющий банком, где лежали его деньги, пригласил его к себе в кабинет.
— Будьте добры, мистер Карстерс, взгляните на состояние вашего счета.
Мистер Карстерс взглянул и с ужасом убедился, что он перерасходовал 382 фунта 16 шиллингов и 3 пенса. Как он мог столько истратить? Под влиянием этого удара в его мозгу зароились неясные, но злобные мысли о долговечности богатых теток.
— Не хотелось бы вас беспокоить, — произнес управляющий с необыкновенной учтивостью (как-никак у Освальда хранилось в сейфах банка на несколько тысяч фунтов ценных бумаг), — но начальство наше не одобряет таких больших перерасходов. Всем нам сейчас пришлось сократиться. Дела идут неважно, и за войну надо расплачиваться, ведь так?
— Да-а, — неуверенно протянул Освальд, — очевидно, так.
Про себя он думал — с какой стати мирному гражданину вроде Освальда Карстерса нужно расплачиваться за войну? Пусть бы это делали те забияки, которые в нее ввязались!
— Так вот, — продолжал управляющий, придав своему лицу неуместную на взгляд Освальда веселость, — как же мы поступим? Можете вы что-нибудь внести в погашение? Скажем, фунтов сто пятьдесят на этой неделе, а остальное в будущем месяце.
Послушать управляющего — все было очень просто, но Освальд знал, что такой выход невозможен, и слова эти прозвучали для него, как похоронный звон.
— Не могу, — ответил он тихо и покачал головой. — К сожалению, не могу.
— Тогда придумаем что-нибудь другое, — сказал управляющий сдержанно, но все же вполне учтиво. — Вот, скажем, эти ваши нефтяные акции Тоно-Мала?
Управляющий знал, что акции Тоно-Мала в ближайшее время должны подняться: игра на понижение себя исчерпала, а Освальд этого не знал. Управляющий зашелестел страницами «Тайме».
— Вот они, — сказал он весело, ткнув пальцем во вчерашние котировки, — Тоно-Мала: 17 шилл., 16 шилл. 9 п., 16 шилл. 6 п., 16 шилл. 9 п., 16 шилл. 3 п., 16 шилл. Все еще понемножку падают. Пожалуй, есть смысл разделаться с ними, пока не упали еще больше. Думаю, что мы могли бы продать ваши пятьсот акций по 16 шиллингов 6 пенсов. Это покроет перерасход, и у вас еще останутся свободные средства. Ну как?
У нерешительности есть свои хорошие стороны. Освальд терпеть не мог действовать, даже если действие выражалось в том, чтобы подписать документ о продаже ценных бумаг. Кроме того, он всегда держал слово, а он обещал тете Урсуле, что без ее разрешения не продаст эти акции. Но при мысли о тете Урсуле он совсем приуныл — еще один тягостный разговор! Внезапно Освальд вспомнил, что у подъезда банка стоит такси и без всякого толка отстукивает пенсы. Надо экономить!
— Мне очень жаль, — протянул он и добавил совсем уже невнятно: — И вообще я должен посоветоваться… Заеду завтра с утра… Уладим… Спасибо, что согласились подождать… обратился в бегство с намерением отпустить такси, пройтись домой пешком и все как следует обдумать. Но, увы, экономии не повезло. Шел дождь, Освальд был в новом костюме, какая же это экономия — отказаться от такси, но испортить костюм, за который заплачено пятнадцать гиней! И, согнувшись под ударами судьбы, Освальд полез в машину.
Нужно экономить, убеждал себя Освальд, строжайшим образом экономить, и нужно сейчас же повидаться с тетей Урсулой. (Тетя Урсула была самой богатой и самой снисходительной из его теток.) Освальд не отличался железной силой характера. В теории он экономию одобрял, но лишения его страшили, и страшила необходимость признаться тете Урсуле в таком чудовищном грехе — ведь он истратил больше, чем ему причиталось за целый год. А тут все почему-то пошло вкривь и вкось и расходы прямо-таки одолели его. Такси поминутно задерживалось у светофоров, с возмутительной быстротой отщелкивая шиллинги и пенсы, и Освальд пытался подсчитать, во что обходится стране неумелое регулирование уличного движения. У двери в квартиру его дожидался мальчишка-рассыльный, твердо решивший получить с него плату за кресло на русский балет, которое Освальд беспечно заказал еще до визита к управляющему банком. Двадцать пять шиллингов! Взявшись за телефонную трубку, чтобы позвонить тетушке, он вспомнил, что уже три месяца не платил за телефон и телеграммы. За завтраком он с ужасом обнаружил, что накануне в припадке гурманства распорядился оживить эту трапезу куликовыми яйцами, спаржей и тепличной клубникой. Экономия!.. День тянулся уныло, неумолчный шум дождя навевал еще пущую тоску. Освальд думал проехать автобусом до Пикадилли-Серкус, а там пересесть на другой автобус и добраться до Найтсбридж, где жила тетя Урсула. Но каждый нерв его холеного тела восставал против такой жертвы. Как? Шагать по лужам под зонтом, с которого каплет за шиворот, смотреть, как подходят и отходят переполненные автобусы, не впуская ни одного нового пассажира, протискиваться среди мокрых плащей, зонтов и отсыревших сограждан и предстать перед тетей Урсулой для такого важного разговора в заляпанных грязью штиблетах, мокрых брюках и совершенно без сил? Освальд вызвал по телефону такси…
Квартира тети Урсулы была непомерно велика для одинокой женщины, но тетя Урсула считала необходимым блюсти приличия — в память покойного супруга. Супруг разбогател на продаже сельскохозяйственных машин в Южной Африке, затем его разбил паралич и пять лет он терзал ее своей беспомощностью и жалкими словами, после чего искупил эту вину внезапной смертью и великодушным завещанием. Во времена Эдуарда Седьмого тетя Урсула была, судя по всему, красавицей — белокурой, воздушной и капризной.
Не приемля бесплотно геометрических линий, к которым пристрастилось молодое поколение — это так неженственно! — она скрывала дрябло округлые формы под обильными слоями шелка и кружев. К левой части ее кружевного бюста были неизменно пришпилены золотые часы с бриллиантовой монограммой; она носила множество старинных колец с изумрудами и рубинами, а на шее, на вычурной золотой цепочке, — лорнет в золотой оправе. Трудно сказать, какой титулованной старухе времен своей молодости она подражала; если бы не знать, что она никогда не вращалась в «высших сферах», можно бы поклясться, что перед вами — одна из стареющих дам, входивших в интимный кружок покойного монарха. Муж оставил тетю Урсулу более чем обеспеченной, но у нее были свои слабости, и самой дорогостоящей из них было коллекционирование бедных, но чрезвычайно элегантных и музыкально одаренных молодых людей, которые, казалось, очень тепло относились друг к другу, избегали общества молодых женщин и отлично чувствовали себя с пожилыми дамами. Освальд терпеть не мог этих молодых людей, а они осторожно поругивали его в разговорах с тетушкой. И все же — такова крепость родственных уз! — тетя Урсула охотно истратила бы на Освальда не меньше половины того, что ежегодно вкладывала в наименее обещающего из своих молодых людей, если бы только Освальд избрал себе карьеру.
Тетя Урсула приняла Освальда не в парадной, до тесноты заставленной гостиной, а у камина, в так называемом «уголке». Уголок этот ее покойный супруг предназначал для размышлений и неустанного умственного труда. Там имелся шкафчик для сигар, два глубоких, удобных кресла, способствующих мозговой деятельности, шкаф, где хранились классические произведения английской литературы в богатых переплетах, но неразрезанные, и камин, а на нем — отвратительные африканские божки полированного дерева. Тетя Урсула, как сторонница европейской культуры, с радостью упразднила бы эти «гадкие непристойности», но, блюдя приличия, она считала себя обязанной сохранять дом своего мужа в точно таком виде, в каком он его оставил. Более просвещенный Освальд не прочь был бы получить эти африканские фигурки — он знал, что они поднимаются в цене, тетушка же считала, что это ничего не стоящий хлам.
Сказать, что Освальд радовался свиданию с теткой, значило бы уклониться от истины. Напротив, его трясло от страха. Он жеманно поцеловал ее в лоб и вложил ей в руки томик французских мемуаров, который перед уходом схватил с одной из своих полок.
— Ну и мерзостная погода! — воскликнул он, пытаясь скрыть тревогу под манерой светского ветреника. — Дорогая моя, я еле держусь на ногах. Вы не поверите, сколько я обегал магазинов, прежде чем разыскал этого Тилли.
Тетя Урсула хорошо знала Освальда, и эти дары данайцев немного ее насторожили, но все же такое внимание не могло ей не польстить.
— Бедняжка! — сказала она сострадательно. («Бедняжка» относилось к тому, что Освальд в мерзостную погоду разыскивал для нее книгу.) — Очень мило с твоей стороны! А какую карьеру сделал граф Тилли,{5} поистине великий человек, погубленный этой ужасной революцией. Но знаешь, Освальд, нехорошо, что ты тратишь драгоценное время и деньги на мои прихоти. Мне было бы куда приятнее, если бы ты думал о своей карьере.
— Как раз об этом я и хотел с вами посоветоваться, — выпалил Освальд.
— В самом деле? Чем же ты намерен заняться?
Поскольку эти слова вырвались у Освальда непроизвольно, он растерялся и почувствовал, что нужно как-то выиграть время. Он спросил:
— Можно закурить, тетя?
— Можно, милый, только не роняй пепел на ковер. А теперь расскажи мне подробно о своих планах.
Освальд не спеша раскурил папиросу и с удивлением заметил, что руки у него дрожат.
— После войны, когда я ушел с государственной службы, — начал он с расстановкой, — я чувствовал, что мне необходимо отдохнуть.
— Бедняжка! — сказала тетя Урсула.
— Но я обнаружил, — пустился фантазировать Освальд, — что безделье не в моем характере.
— Нy разумеется! — горячо подтвердила она.
— К тому же, — добавил он осторожно, — безделье мне не по средствам. Уже сейчас состояние моих финансов меня не на шутку тревожит.
— Вот как?
Тетя Урсула выпрямилась и устремила на него пристальный взгляд.
— Дело в том, — пролепетал Освальд едва слышно, — что и перебрал со своего счета.
— Сколько? — Не вопрос, а пистолетный выстрел.
— Около трехсот восьмидесяти фунтов, — признался он убитым голосом.
Тетя Урсула в ужасе всплеснула руками. Триста восемьдесят фунтов! И она обрушилась на Освальда со всей страстью и силой, каких никогда не смела проявлять в супружеских ссорах. Что он натворил? Куда он их истратил? Он связался к какой-нибудь женщиной? Или с женщинами? Нет, это неслыханно! Уж не воображает ли он, что бедная старуха, разоренная подоходным налогом — а все эта ужасная война, за которую надо расплачиваться, — продаст с себя последнее платье, чтобы заплатить долги распутника и транжира? Триста восемьдесят фунтов — да это целое состояние, хватило бы на покрытие государственного долга! И о чем только Освальд думает? Он, видно, решил всех их разорить и опозорить?
— В таком случае, — продекламировал Освальд, — я продам свои Тоно-Мала.
Но это не помогло — напротив.
Всякий, кому приходилось наблюдать, как шипит, подобно сифону с содовой водой, испуганная и негодующая кошка, ясно представит себе, как отнеслась тетя Урсула к такому кощунственному предложению. Освальд, еще не изучивший до последних глубин религию денег, был поражен. Оказалось, что продавать акции, — кроме как ради хорошего барыша, — это просто низость, поступок столь же опрометчивый, сколь порочный. Это — «Путь повесы».{6} Она обрисовала будущее Освальда в трагических тонах. Продавать акции в уплату долгов — значит снижать свой доход; а снижение дохода — это новые долги, новые непозволительные продажи акций и новое снижение дохода. В итоге — нищета, позор, разорение и самоубийство. Освальд, беспомощно поглядывая на угасающий огонь в камине, мечтал об одном — как бы смыться. Вот ради чего он служил отечеству в холодных, неприветливых министерствах! О господи, что она еще говорит?
— Кто эта женщина, Освальд? Я должна знать.
— Какая женщина? — вопросил он, ослабев от неожиданности.
— Да та, на которую ты так возмутительно растрачиваешь свой капитал.
— Но это неправда! Никакой женщины нет.
— Освальд!!
Бедный Освальд умоляюще протянул к ней руки — как маленький Дэвид Копперфилд в разговоре с бабушкой Бетси Тротвуд.
— Помилуйте, тетя! Никакой женщины нет, втянусь вам!
— Ты хочешь сказать, что все эти деньги истратил на себя?
— Все сейчас так дорого, — пролепетал он.
— Как ты умудрился столько истратить — ума не приложу, — строго сказала тетушка, не смущаясь тем, что сама за то же время умудрилась истратить примерно в пять раз больше. — И что же ты теперь думаешь предпринять?
Говорят, что в минуты смертельной опасности щитовидная железа человека начинает выделять спасительное стимулирующее вещество. Освальда осенило.
— Я думаю, — сказал он, — избрать карьеру писателя.
— Но ведь это, — сказала тетя Урсула, забыв, что покровительствует элегантным молодым гениям, и повторяя освященные традицией слова, — это сплошное безделье!
— Вовсе нет, — возразил Освальд решительно, словно опираясь на долголетний опыт, — эта профессия требует огромной затраты сил. Писатель всегда работает. Непрестанная умственная деятельность. Это идеальная карьера для человека мыслящего и энергичного.
Примечательно, что, когда молодой человек объявляет о своем намерении стать писателем — а почти у всех молодых людей такая минута рано или поздно наступает, — наиболее скептически к этому относятся его ближайшие родственники. Со стороны тети Урсулы Освальд встретил самое скептическое отношение. Под стимулирующим воздействием жестокой необходимости и щитовидной железы он стал красноречив. Фантазируя без удержу, он сообщил, что уже давно обдумывает этот вопрос и теперь все для себя выяснил. Он съедет с квартиры и поселится за городом, как все писатели. Он будет работать в Лондонской библиотеке и напишет книгу о елизаветинской драматургии. Он задумал серию остроумных и язвительных портретов-биографий в жанре мистера Стрэчи. Кроме того, он решил написать длинный роман в жанре мосье Пруста — картину общественной и интеллектуальной жизни Лондона. А еще он будет помещать критические статьи в газетах.
— Я не сомневаюсь, — воскликнул он, — что могу писать не хуже, чем большинство тех, кого сейчас печатают!
Услышав эти слова Освальда, всякий, кто сталкивался с молодыми талантами, понял бы, что его дело дрянь. Но на тетю Урсулу они произвели впечатление.
— По-моему, Освальд, тебе незачем хоронить себя в деревне. Ты будешь там скучать и попусту терять время. А кроме того, литератору, — мысль, что в семье завелся литератор, уже наполняла ее гордостью, — литератору необходимо развлекаться и поддерживать знакомства. Прежде чем выпустить книгу, ты должен накормить обедом всех влиятельных критиков и расхвалить романы, написанные их женами.
Теперь настала очередь Освальда отдать должное ее прозорливости в литературных вопросах.
— А почему бы вам тоже не писать книги, тетя? — вскричал он. — Мы могли бы работать вместе.
Польщенная до глубины души, тетя Урсула так живо откликнулась на этот комплимент, что Освальд тут же оказался втянутым в совместное исследование на тему «Двор Людовика XV». Как все казалось легко и приятно! Тема есть, ты пишешь книгу, издатели соревнуются за честь и прибыль, которую она им принесет, ты подмазываешь критиков — et voilá!{7} Богатство и слава!
У тети Урсулы щитовидная железа тоже, по-видимому, работала на полный ход.
— Придумала! — вскричала она. — Освальд, ты должен жениться!
— Что? На женщине? — возопил он в ужасе.
— Ну разумеется. Какие странные вопросы ты задаешь, Освальд.
— Но мне пришлось бы содержать ее на свои долги, — сказал он с тоской.
— Не говори глупостей. Ты молодой человек приличной наружности, из очень хорошей семьи, у тебя есть кое-какие средства, а впереди — карьера. Женихов сейчас мало, Освальд. Те молодые люди, которые не загубили свою жизнь зря в этой ужасной войне, видимо, предпочитают развлекать друг друга. В разумных пределах ты вполне можешь выбирать. Мы тебе подыщем славную, умненькую девушку со скромным приданым, чтобы она заботилась о тебе и о твоей карьере. Ну-ка, подумаем, кто у нас есть на примете?
И тетя Урсула стала перебирать фамилии и банковские счета, точь-в-точь как лошадник перебирает стати и родословную фаворита. Освальд сидел молча, придавленный новым горем. У него хватило ума не перебивать тетку — он понимал, что она расплющила его, как нежный цветок, между страницами своей чековой книжки. А тетя Урсула, с восторгом предвкушая новый интерес и новые занятия — ведь жизнь бывает порой скучновата, — тетя Урсула проявила похвальную щедрость. Она дала ему чек на сто пятьдесят фунтов, чтобы на первое время заткнуть рот управляющему банком, а остальное пообещала собрать у других теток. Освальд пробормотал невнятные и скорбные слова благодарности. Утомительная эта сцена заняла столько времени, что теперь ему надо было мчаться в ресторан, наскоро пообедать, а оттуда — галопом в Альгамбру. Он промямлил что-то насчет делового свидания.
— Я хотела предложить тебе пообедать у меня и обсудить твое будущее, — сказала тетушка, поджав губы, — ей все еще мерещилось, что где-то в жизни Освальда кроется разорительная женщина, и явный ужас, который внушала ему женитьба, только усилил это подозрение. — Но если у тебя деловое свидание, то, конечно, тебе надо идти. Завтра ты всерьез начнешь работать на новом поприще. А я пока набросаю кое-какие свои мысли, — ее так и распирало от смиренной гордости, — для книги о нашем милом Людовике Пятнадцатом; ты можешь потом использовать их, как захочешь. Приезжай ко мне обедать завтра. Нет, завтра Руперт дает фортепьянный концерт. Приезжай послезавтра, и мы все обговорим. А я уж постараюсь найти тебе самую прелестную невесту.
— Спасибо, тетя, — кротко промолвил Освальд.
Очень грустный, очень смирный Освальд любовался в тот вечер на сказочный мир русского балета. Правда, чек у него в кармане. Правда, он пока спасен, но какой ценой! Казалось, балет утратил часть своей прелести. Даже ореол Мясина{8} и тот померк. Освальд добрался до постели совершенно без сил и в полнейшем угнетении духа.
II
Вкусить всю прелесть бездельной жизни литератора Освальду мешало его зависимое положение и бешеная деятельность тети Урсулы. Историки отмечают, что в вырождающихся династиях исконные мужские добродетели дольше всего сохраняются в женщинах. Так, во всяком случае, обстояло дело с династией Карстерсов. Сколько ни рылся Освальд в своей душе, он не мог найти в ней ни следа честолюбия, жажды успеха и признания. Ему хотелось жить легко, спокойно, без забот, как в блаженные дни до страшного удара, который нанес ему управляющий банком. Он чувствовал слабость во всем теле и жалел, почему он не старая дева, от которой никто не ждет решительных поступков, и главное — карьеры. За сорок восемь часов, что прошли до обеда у тети Урсулы, Освальду ценой тяжких изнурительных усилий удалось сделать три дела. Он отнес чек в банк, и ему разрешили взять со счета десять фунтов на текущие расходы. Он написал на листе писчей бумаги: «Освальд Карстерс. — Елизаветинская драматургия». Он побывал в Лондонской библиотеке и ужаснулся количеству книг на тему, которую считал только своей. Подобно Лабрюйеру{9} (которого он не читал), Освальд сделал открытие, столь пагубное для плодотворности литературного труда, — что все уже было сказано. Кропотливое усердие, породившее эти горы никчемной писанины, вызвало у него отвращение. Он почувствовал, что писать — это не занятие для джентльмена.
Зато тетя Урсула в больном воображении Освальда каким-то колдовством превратилась из одной в целую дюжину неутомимых и зловредно-назойливых теток. Не успели они сесть за стол, как она в присутствии тактичного лакея в белых перчатках, маячившего на заднем плане, отравила Освальду первую же ложку супа словами:
— Ну, мой дорогой, как подвигается твоя новая работа?
Утаив, что он написал лишь заглавие книги, которую, как ему теперь было ясно, он никогда не сумеет начать, а тем более закончить, и что писательство уже претит ему не меньше чем любая другая деятельность, Освальд пустился в подробный, но путаный отчет о своих разысканиях в библиотеке.
— Материала гораздо больше, чем я думал, — сказал он, — и хотя начало сделано, я уже вижу, что предстоит огромная подготовительная работа.
Тете Урсуле так не терпелось похвастать собственными подвигами, что она почти не заметила угрюмости Освальда и не потрудилась правильно ее истолковать. Она сказала:
— Смотри, милый, ты не слишком увлекайся на первых порах. Побереги себя. Настойчивость и упорство — вот что необходимо.
— Да, тетя.
— Хочешь, я расскажу, что я пока успела для тебя подготовить?
— Да, тетя.
— У меня набралось уже полтетради заметок для нашего общего труда. Ты знаешь, милый, просто удивительно, сколько я, оказывается, помню про те давние времена. Что-то, видимо, роднит меня с роскошью Версаля.
Освальд мысленно проклял завидную память тетушки. Он, хоть убей, не мог представить ее себе в роли бурбонской герцогини, однако пробурчал что-то, отдаленно напоминающее комплимент.
— Я обсуждала твою карьеру с Рупертом, — продолжала тетка, — и должна сказать, он проявил большое участие и готовность помочь. Завтра ты зайдешь к одному его знакомому — он редактор и каждую неделю будет брать у тебя отзыв на книгу. Плата, сколько я понимаю, невысокая, кажется, пять шиллингов в неделю, но для тебя это будет превосходная практика, и публика узнает твое имя. Ну что, правда, замечательно?
— Замечательно, — повторил Освальд в каком-то тоскливом оцепенении. Еще работа! Ему очень хотелось свернуть Руперту шею.
— Тридцать фунтов в год, — вычисляла тетя Урсула, — это как раз проценты на двести шестьдесят фунтов по облигациям военного займа. Так на это и нужно смотреть. Книг, как я поняла, возвращать не нужно, так что со временем у тебя еще составится неплохая библиотека.
Освальд отхлебнул полстакана сладкого французского вина и, как мог, притворился осчастливленным. Одну слабую попытку защититься он все же предпринял.
— А вы не думаете, — спросил он робко, — что это отнимет много времени, которое можно было бы употребить на… на что-нибудь другое?
— Разумеется, нет! Ты просто будешь читать, — а что может быть приятнее? — и записывать свои впечатления и мысли.
Освальд неслышно вздохнул и подивился про себя, ничему к пирогу с крыжовником у тетки подают белое вино. Этого никакие нервы не выдержат.
В «уголке», где они пили кофе с глазу на глаз, тетя Урсула продолжала свои волнующие сообщения.
— Насчет этого твоего перерасхода, Освальд…
— Да, тетя?
— У других твоих теток я не встретила того отклика, на который рассчитывала. По странному совпадению все они за последние месяцы понесли убытки. Мне это не совсем понятно, Освальд, поскольку мои маклеры утверждают, что на бирже наблюдается оживление. Я заручилась обещанием только на сто фунтов, а значит, остается еще порядочный дефицит. Тебе придется очень, очень себя ограничить.
— Да, тетя.
Это «Да, тетя» стало своего рода лейтмотивом или девизом жизни Освальда, которая теперь обернулась для него сущим адом. Он негодовал, подчиняясь дотошной тирании тети Урсулы, черпавшей поддержку в изобретательности своих сестер и невесток. Только бы выпутаться из этой истории, и, честное слово, никогда больше он не сунет голову в такой муравейник. Они поедали его живьем. И как назло, они отмеривали свою помощь такими скупыми дозами, а экономил Освальд так неудачно, что его задолженность банку все не убывала. Если б решиться продать часть акций, он снова стал бы платежеспособным, снова обрел бы самоуважение. Но на это он не решался — отчасти потому, что не надеялся вовремя остановиться, отчасти потому, что тетя Урсула, твердо вознамерившись вернуть его на путь истины, взяла за правило проглядывать его банковскую книжку. Он чувствовал, что тетки в собственных корыстных интересах сговорились добиться того, чтобы впредь он не перетрачивал ни пенса. И особенно его бесило, что они не оставляли его в покое. Они вечно звонили ему, приглашали на скучнейшие обеды и завтраки и знакомили то с каким-нибудь идиотом, написавшим книгу, то с плоскогрудой девицей, выставленной на продажу. Он просто задыхался от бешенства. Ему теперь почти не удавалось встречаться с приятными для него людьми. Он подозревал, что «все» уже знают о его несчастье и смеются над ним. Он просиживал долгие, унылые часы в халате, кропал рецензии, которые выходили в свет урезанными и измененными до неузнаваемости, или пытался разобраться в хаотических версальских заметках тети Урсулы. Какая чепуха! Освальду было ясно, что обрывки сведений, сохранившиеся в ее памяти, — сплошная мешанина и бессмыслица. Порой у него вырывался стон: «Ах, только бы мне выпутаться из этой истории!» Часть своей ярости он перелил в беспощадный «портрет» другого тирана в юбке — Елизаветы Тюдор. За яркость разоблачений статью напечатал один из толстых журналов, и тетя Урсула прочла ее с гордостью, даже не заподозрив, что читает пристрастное описание самой себя.
Освальд «выпутался из этой истории», но из огня попал в полымя, сменив опеку тетушки на законный брак. Сказать, что Освальд влюбился в Джулию Хиткоут, было бы явным преувеличением. Его никогда особенно не тянуло к женщинам, а о безумной страсти не могло быть и речи — очень уж он был угнетен. Но Джулия сулила избавление, и как девушки иногда выходят замуж, чтобы отделаться от гнета родителей, так Освальд женился, чтобы отделаться от кошмара теток. Это был во многих отношениях странный брак, — хотя бы потому, что стороны как бы поменялись ролями. В Освальде было много от женщины, в Джулии — от мужчины. Она говорила густым, низким голосом, свои черные волосы стригла очень коротко, а такого властного характера, как у нее, Освальд не рисовал себе даже в самых мрачных своих размышлениях о женском сословии. Джулия была постарше его и немного богаче, но — пусть Освальд и его тетушки об этом не знали — она-то знала, что три или четыре ее «романа» несколько сбили ей цену на брачной бирже. Эту распутницу прельщала мысль выйти замуж за девственника. Она устала от связей с женатыми людьми — тайных связей с их уловками и горьким осадком, — так приятно будет получить мужчину в полную собственность — мужчину, которому не нужно будет вечно куда-то спешить или выдумывать всякие небылицы, чтобы обмануть бдительность подозрительной жены. Джулия, прожив много лет в Блумсбери, знала жизнь куда лучше, чем Освальд. К тому же она была честолюбива.
Честолюбие Джулии нельзя считать чем-то исключительным. Она принадлежала к довольно обширной категории женщин, унаследовавших какую-то сумму, недостаточную, однако, для того, чтобы прославиться любовником-негром или купить титул. Ей хотелось известности, хотелось занять видное место в обществе. Сперва она попыталась добиться чего-то своими силами, но после нескольких лет бесплодных занятий живописью убедилась, что на этом пути успехов ей не достичь. Оставалось одно — связать себя законными узами с восходящим светлом. К счастью или к несчастью для Освальда, она весьма смутно представляла себе, из чего складывается литературная слава. Она поверила оптимистическим прогнозам тети Урсулы относительно блестящей карьеры племянника, оценила должным образом его статью в толстом журнале и в первый же раз, как увидела наивное личико Освальда и его темные птичьи глаза, твердо решила завладеть им. Их общий годовой доход (так она подсчитала) составит восемьсот с лишним фунтов, к тому же литературные заработки Освальда будут непрерывно расти. Если не разбрасываться, можно будет обзавестись студией, загородным домиком и двухместной машиной, и потом спокойно ждать того счастливого часа, когда гений Освальда увенчают автомобиль «Бугатти», дом на Итон-сквер и вилла на Ривьере. Тем временем они будут устраивать скромные, но изысканные приемы — только для людей с именем. А когда Освальд сделает свое дело, то есть прославит их обоих, — о, тогда-то она займет в высшем свете подобающее ей место где-то между леди Левери{10} и миссис Болдуин.{11}
В сердцах тетушек предстоящий брак вызвал приятное трепыхание — острый и бескорыстный интерес к событию в их собственной жизни либо почти забытому, либо безвозвратно упущенному. Да, они радовались бескорыстно и притом, вероятно, больше, чем Джулия и Освальд — те не могли уйти от действительности, тогда как тетушки вольны были воображать сплошной медовый месяц райского блаженства. С самого начала они твердо условились считать, что это — идеальный брак, в котором гармонически сочетаются высокие чувства, сродство характеров и материальная выгода. Все это было бы верно, если бы тетушки исходили из правильных предпосылок; но, к несчастью, предпосылки-то их диктовались не фактами, а надеждами: тетушки возлагали большие надежды на собственную выдумку, будто Освальд «несомненно влюблен», а Джулия «несомненно благоразумна», видимо полагая при этом, что во всяком браке мужчина должен быть введен в заблуждение, женщина же, как существо более трезвое, должна открыть ему глаза постепенно и безболезненно. А избыток романтики не менее опасен, чем недостаток ее, — ни одним супругам еще не удавалось сорок лет подряд разыгрывать Ромео и Джульетту! Если бы Освальд и Джулия любили друг друга; если бы характеры их были созвучны; если бы Освальд был из тех мужчин, что не могут быть счастливы без жены; если бы Джулия была из тех женщин, что находят усладу в единобрачии; если бы у Освальда был талант и желание работать и если бы честолюбивые мечты Джулии были не столь грандиозны и беспредметны, — что ж, тогда тетушки, может быть, оказались бы правы. Но поскольку ни одно из этих «если» не соответствовало истине…
За неделю до свадьбы тетя Урсула неожиданно посетила Освальда. На лице ее написано было благоволение, не предвещавшее ничего хорошего. Перепуганный Освальд заподозрил, что она надумала преподать ему парочку добрых, а возможно, интимных советов относительно его супружеских обязанностей. Он оказался прав лишь отчасти: тетя Урсула была слишком хорошо воспитана, чтобы, не таясь, заглядывать в чужие спальни.
Она заговорила таким дурацки торжественным тоном, что Освальду стало и смешно и страшновато.
— Освальд, ты делаешь очень и очень ответственный шаг на жизненном пути.
— Да, тетя.
— Брак — это не шутка. Вы, молодежь…
Она умолкла, ибо забыла нужное место в тщательно подготовленной речи.
— Да, тетя? — спросил Освальд с наивным лукавством.
— Я хотела предостеречь тебя на основании собственного опыта, но, пожалуй, лучше положиться на твою чуткость.
— Да, тетя.
— Где твоя банковская книжка? — спросила она, резко переменив тон. Освальд порылся в ящике и вручил ей книжечку в кожаном переплете, с красивой надписью «М-р Освальд Карстерс». Вооружившись лорнетом, она внимательно просмотрела последние страницы.
— Гм. Я вижу, у тебя все еще перерасход в девяносто фунтов, несмотря на те деньги, что ты от нас получил, и на твои доходы. Чем ты можешь это объяснить?
— Тетя, дорогая! — взмолился Освальд. — Ведь надо же человеку жить, черт побери!
— Но жить по средствам, Освальд. В особенности же, когда он берет на себя ответственность за Любимое Существо.
Для английского джентльмена характерно, что чем дольше он чувствует, чем больше хотел бы сказать, тем вернее теряет дар речи. Освальд чувствовал и хотел бы сказать очень многое: что тетки сами его воспитали, а значит, в какой-то степени сформировали его характер; что не грех бы им часть тех денег, которые они, судя по их намекам, решили ему завещать, подарить ему теперь, чтобы он мог жить беззаботной жизнью холостяка — единственно ему приятной; что они, пользуясь его беспомощностью, нещадно им помыкают; что они заставили его лицемерно притвориться, будто ему нужна карьера; что тетя Урсула, попросту говоря, приказала ему взвалить на себя ответственность за Любимое Существо, с которым сама же его и свела. Все это и еще многое ему хотелось сказать, но, к величайшему своему стыду и досаде, он выдавил из себя только роковые покорные слова:
— Да, тетя.
— Так вот, Освальд, послушай, — и она почти угрожающе ткнула в него лорнетом. — Мы, то есть другие твои тетки и я, очень подробно это обсудили. При всей нашей любви к тебе мы не можем скрыть, что ты нас разочаровал. Когда мы соглашались на твою горячую просьбу разрешить тебе избрать карьеру писателя, мы никак не ожидали, что это согласие ты используешь как предлог для пустой траты времени. Но оставим это. Мы надеемся и верим, что теперь, полнее осознав свою ответственность, ты будешь добросовестно добиваться успеха на самим тобою избранном пути. Оставим это.
— Я… — с отчаянием выпалил Освальд… и осекся. Ему до смерти хотелось послать тетку ко всем чертям, крикнуть ей в лицо, что не нужно ему никакой карьеры, что он не хочет жениться, что от нее ему нужно одно — триста фунтов в год и свобода. Но, увы, — он понял, что дело зашло слишком далеко, возвращаться поздно, так уж лучше идти вперед. Опять же, если послать тетку ко всем чертям, это едва ли убедит ее дать ему триста фунтов годовых, хотя, возможно, и обеспечит ему небезопасную свободу — жить на перерасходы и убывающий ка питал.
Тетя Урсула подождала его ответа, но, видя, что он только ежится, потеет и молчит, она снова ткнула и него лорнетом и продолжала:
— Мы, то есть другие твои тетки и я, решили, что в денежных делах ты недостаточно серьезен и что мы не исполнили бы своего долга, если бы дали тебе при твоих расточительных вкусах и склонности к безделью довести себя и Джулию до полной нищеты. Прочитай вот это.
«Это» оказалось документом, который тетя Урсула достала из сумочки и протянула Освальду таким жестом, словно приставляла к его виску пистолет. Сердце у Освальда сжалось, когда он постепенно осознал, что документ этот — распоряжение управляющему банком выплачивать со счета Освальда пятьдесят фунтов стерлингов в год ему самому, а остальное, за вычетом подоходного налога, перечислять на текущий счет «моей жены Джулии Карстерс» до тех пор, пока этот брак будет длиться. Освальд почувствовал, что у него захватило дух, точно от сильного удара под ложечку. Откуда-то издалека до него доносился голос тетки.
— Джулия — разумная девушка, — говорила она, — и близко принимает к сердцу твои интересы и твою карьеру. Она возьмет на себя твои расходы и будет заботиться о том, чтобы ты жил прилично и ни в чем не нуждался. А у тебя остается фунт в неделю карманных денег и все, что ты заработаешь (а это, я надеюсь, будет немало). Если вы почему-нибудь расстанетесь — от чего сохрани бог, — это условие автоматически теряет свою силу.
— Но, тетя, — простонал Освальд, — почему я должен отдать Джулии весь свой доход?
— Я уже объяснила тебе, Освальд. Это единственный способ оградить тебя и Джулию от бедности и всякого риска. Ну вот, будь умником и подпиши. Поверь, мы все сделаем, как лучше. Подпиши, и я тотчас улажу дело с твоим перерасходом и внесу на твой счет триста фунтов. На них ты купишь Джулии свадебный подарок — новенький двухместный автомобиль. Ну, дорогой, не мешкай, времени у тебя осталось не так уж много.
— Но, тетя… — снова начал Освальд.
Тетя Урсула так свирепо ткнула в него лорнетом, что он весь сжался.
— Оставим глупости, Освальд. Не хочешь же ты, чтобы накануне свадьбы семья отказалась от тебя и обрекла тебя на нищету?
— Нет, тетя, — сказал Освальд, теперь уже окончательно укрощенный. Не может быть, подумал он, чтобы Джулия оказалась таким же тираном, как эти гарпии-тетки.
— Тогда возьми перо и подпиши.
И Освальд, негодуя, сердясь и все еще на что-то надеясь, подписал купчую и был продан в рабство.
III
После всех этих бурь, от которых впору было сойти с ума любому джентльмену смирного нрава, Освальд мечтал о супружестве, как о тихой пристани, где он отдохнет от унижений, где не будет ни теток, ни опостылевшей ему карьеры. С помощью всяких благовидных доводов он убеждал себя, что уж лучше быть на содержании и иметь пятьдесят фунтов карманных денег, нежели пользоваться свободой, сопряженной с риском перетрат и проистекающими из них ужасами, реальными и воображаемыми. Подобно герою Корнеля, Освальд «мечтал унизиться». И Джулия, во всяком случае на первых порах, была к нему очень добра. Восемьсот фунтов в год и собственный мужчина казались ей прочными благами в нашем неустойчивом мире. И еще ей нравилось развращать своего неуча мужа. Женское властолюбие (это наследие счастливого матриархального каменного века) проявляется не сразу и растет лишь по мере того, как падает престиж полоненного мужчины. Джулия, удовлетворенная и разнеженная, снисходительно улыбалась прихотям мужа, так что Освальд, можно сказать, пользовался привилегиями любимой из наложниц. Сплошь и рядом ему разрешали самому выбирать себе времяпрепровождение, и на несколько месяцев двор Людовика XV, елизаветинская драматургия и роман в манере Пруста были преданы забвению, что вызывало у Освальда чувство искренней благодарности.
Но в одном вопросе Джулия проявила твердость, и не будь Освальд так доверчив, он бы сразу заподозрил, что цепи карьеры ослаблены лишь на время. Джулия настояла на том, чтобы он продолжал заниматься литературной критикой.
— Но, радость моя, — сказал Освальд тоном любящего, рассудительного мужа, — ведь это просто смешно — тратить столько времени и труда за те жалкие гроши, что они платят.
— Ну сделай это для меня, — нежно пропела Джулия. — С этим связаны интересные знакомства, и мне лестно видеть наше имя в печати. А что касается платы, предоставь это мне.
У Освальда чуть не вырвалось «Да, тетя» — ведь в точности таким тоном тетя Урсула изводила его «для его же блага». Но Джулия, как и тетя Урсула, была практична и свои слова «предоставь это мне» подкрепила действиями. Она пригласила редактора на воскресенье в их загородный домик — Освальду такое и в голову бы не пришло, он терпеть не мог этого человека, видя в нем одно из орудий пытки карьерой. Она улещала редактора, она закармливала его так, что у Освальда глаза на лоб лезли, когда он сравнивал эту роскошь с обычной ее бережливостью; и она имела со своим гостем две долгие конфиденциальные беседы. Освальд не поверил своим ушам, когда узнал, что его еженедельная рецензия будет теперь цениться в две гинеи — больше восьмисот процентов прибавки! И он заслужил эту плату, — может быть, его писания и не стоило читать, но они мало чем отличались от других, за которые платили столько же. Внимание редактора было лестно, деньги — нужны до зарезу (ведь положение его было ненамного лучше, чем если бы он попал под опеку Канцлерского суда); однако Освальд так жаждал покоя, что охотно променял бы на него и славу и богатство. Он-то не был честолюбив. С каждой статейкой он возился почти неделю, напряженно думал о ней и наяву и во сне. И далеко не каждую он довел бы до конца, если бы не просвещенные советы Джулии и ее мягкий, но непрестанный нажим.
А нажим на него оказывали безусловно — не так по-родительски грубо, как тетя Урсула, но с более настойчивой лаской, с более целеустремленным честолюбием, с более продуманных позиций слабой, обиженной женщины. Освальд был чужд самообольщения. Он знал, что никогда не будет повинен в крови сограждан, никогда не вольет пламень восторга в живые струны,{12} если на это потребуется больше получаса усидчивой работы. Данте поселил бы его в преддверии ада как ничтожное, бесцветное создание. Подобно многим эгоистам, он легко поддавался настроению окружающих его людей. Он не был наблюдателен; не обладал интуицией, позволяющей сразу угадать истинные мотивы и чувства под маской человеколюбия, которая часто обманывает и того, кто ее носит. Джулия быстро поняла, как с ним надо управляться. Чтобы порадовать его — либо в награду, либо для отвода глаз, либо перед очередной атакой, — достаточно было проявить заботу о том, чтобы он был сыт и ухожен, а в остальном предоставить ему, по выражению тети Урсулы, «терять время» как ему вздумается. Для того же, чтобы принудить его к чему-нибудь, у Джулии имелся целый арсенал разнообразного оружия. На его пылкость она отвечала равнодушием, повергая его этим в растерянность и печаль. Ссылаясь на соображения экономии, давала ему на обед холодную баранину, а Освальд ненавидел и холодную баранину, и экономию. Непрестанными напоминаниями о статье в еженедельнике она доводила его до несварения желудка и бессонницы. Но самым действенным из ее методов было дуться на Освальда за его провинности, большей частью воображаемые, до тех пор, пока ее угрюмое неодобрение и оскорбленная праведность не становились почти осязаемыми. Она умела, не произнося ни единого слова, заполнить самый воздух густым туманом укоризны и страдания. Освальд пытался противопоставить этому наигранную беззаботную веселость, но неизменно терпел позорное поражение и в конце концов спрашивал с трепетной робостью: «Что случилось, дорогая?», после чего ему тут же и притом не слишком ласково сообщали, что именно случилось.
Довольно скоро Джулия перестала ощущать ту «радость обладания», которая, судя по американской рекламе, всегда сопутствует покупке автомобиля новейшей марки и которую, как принято считать, испытывает темпераментная молодая женщина, приобретая красивого нового мужа. В общем, Освальд вел жизнь никчемного, но безобидного холостяка, у которого в доме завелась женщина. И Джулии это стало надоедать — сплошная тоска и никаких успехов в обществе. Где вожделенный дом на Итон-сквер, где толпы гостей, воздающих почести красоте и славе? Мечта эта казалась сейчас более несбыточной, чем в то время, когда они только поженились. Разочарованная Джулия скучала, а скука и разочарование породили злость. Избрав местом военных действий их загородный домик, она начала дуться еще с субботы, а в воскресенье к вечеру создала в доме такую атмосферу, что у Освальда поджилки тряслись от страха, как у венецианца, которому два незнакомца в маек» вежливо сообщают, что их превосходительства хотели бы с ним поговорить. За обедом — невкусным, холодным — он всеми силами старался оттянуть неизбежное «Что случилось, дорогая?». Не очень-то умея поддерживать разговор с враждебно настроенной аудиторией, он смешно помаргивал своими птичьими глазками, растерянно шевелил пальцами, пожелтевшими от табака, и ронял идиотские замечания.
— Голубые лупинусы разрослись просто на диво.
— Разве?
Джулия — воплощенная апатия и скорбь — обиженно ковыряла вилкой еду.
— Да. Посмотри, как они хороши рядом с теми большими красными маками.
— Разве? А я и не заметила.
Освальд чуть не спросил «Что случилось, дорогая?», но вовремя вонзил зубы в бутерброд с сыром. Пауза. Джулия вздохнула и скорбно поникла темной горделивой головой.
— А знаешь что? — Освальд попробовал нарушить неловкое молчание, прибегнув к жалкой лести. — Не повесить ли нам одну из твоих картин в комнате для гостей? Очень бы оживило… так подойдет…
— Перестань, Освальд. Ты знаешь, что мои картины — дрянь, и нечего притворяться, будто ты этого не знаешь.
— Ну что ты! Я же всегда уговаривал тебя не бросать живопись.
— Да, — быстро ввернула Джулия, — это тебе легче, чем самому поработать.
Уязвленный, Освальд отхлебнул сидра. Он не любил сидр, но ничего из более дорогих напитков ему не давали. Он вздохнул. Она вздохнула. Его вздох означал: «И чего эта женщина злится, черт бы ее побрал?» Ее вздох означал: «Почему этот мужчина, вместо того чтобы лелеять свою женушку, только терзает меня своим эгоизмом?» Освальд упрямо хранил молчание; нет, он не спросит «Что случилось, дорогая?». Он попробовал думать о приятном — корзины с фруктами, русский балет, изысканность Свана,{13} бар в отеле Ритц… Его размышления грубо прервали:
— Освальд!
— Что? Прости, пожалуйста.
— Ничего особенного. Просто я вижу, что ты меня разлюбил.
— Ну что ты, Джулия! Ты же знаешь…
Джулия перебила его мягко, но с суровой решимостью.
— Я хочу серьезно поговорить, Освальд, а ты сидишь как воды в рот набрал. Это очень жестоко с твоей стороны, и я иногда думаю, что напрасно согласилась за тебя выйти. Такой мужчина, как ты, неспособен заботиться о своей жене.
Будь у Освальда столь же ясный ум и острый язык, как у его супруги, он тут же изничтожил бы содержащиеся и ее словах намеки и ложные предпосылки. Это он-то как коды в рот набрал? Это он просил, чтобы за него вышли замуж? И ему ли «заботиться» о жене, которая так явно заботится о нем, что шагу не дает ступить самостоятельно? Но язык отказался ему служить, как в тот день, когда тетка вырвала у него роковую подпись. Он только и смог, что простонать:
— Ну зачем ты так, Джулия?
— Я не собираюсь с тобой спорить, Освальд, — сказала Джулия кротко, но с достоинством. (Я только говорю вам, Оскар.{14}) — Я просто считаю, что ты мог бы быть ко мне повнимательнее.
Освальд не устоял.
— Но что случилось, дорогая?
— Не мне бы это объяснять, — отвечала она уже более строго, — ведь это касается главным образом тебя, и если б не моя безрассудная любовь, мне это было бы глубоко безразлично.
— Но что я такого сделал? — вопросил Освальд со слабыми поползновениями на тон капризного ребенка.
— Ты ничего не сделал, в том-то и горе. А должен был сделать. Я хочу поговорить о твоей карьере.
(«О господи! — подумал Освальд. — Вторая тетя Урсула!»)
— Когда мы еще не были женаты, — продолжала Джулия печально, но твердо, — ты рисовал мне наше будущее в таких заманчивых красках, говорил, что будешь работать, не жалея сил, писать книги и создашь для нас обоих интересную жизнь.
— О! — вскричал Освальд. Он хотел добавить: «Лгунья ты этакая!», но из осторожности воздержался. Она пропустила его жалобный вопль мимо ушей.
— Я знаю, Освальд, у тебя есть талант, но ты ленив и равнодушен! Да, да! Я осуждаю себя — и твоя тетя Урсула меня осуждает — за то, что я потакаю твоей лени.
— Боже мой! — сказал Освальд, беспомощно уставившись на жену.
— Но теперь я решилась — я не погублю твою карьеру. И не допущу, чтобы ты сам причинил себе такое зло.
Освальд до того был ошарашен этой бессовестной под тасовкой фактов, что у него не хватило ни ума, ни мужества сказать, что лучше бы она решила, наоборот, погубить его карьеру и тем исключить возможность дальнейших разговоров на эту тему: вот тогда-то он но гроб жизни будет ее послушным, праздным рабом. Так или иначе, Джулия не дала ему раскрыть рот.
— Завтра, — изрекла она, — мы начинаем новую жизнь. Я посоветовалась с твоей тетей, и она согласна, что мой долг — работать с тобой и не дать заглохнуть твоему таланту. Ты не сможешь оправдываться тем, что жизнь твоя пошла прахом из-за меня. Я решила работать с тобой вместе, и завтра мы приступим, как только вернемся в город. Ну вот. Я свое сказала, все решено. Иди сюда, моя радость, поцелуй меня и скажи, что ты согласен.
И снова жизнь несчастного Освальда превратилась в сущий ад. Во всяком проявлении энергии Освальд усматривал смутную угрозу, но энергия, направленная на то, чтобы заставить его действовать, причиняла ему поистине адские муки. Из всех философов Освальду нравился один Эпикур — отнюдь не проповедуя буйных наслаждений, он, напротив, призывает нас бежать людской суеты, не гнаться за богатством и властью, а жить в спокойном, трезвом уединении. Освальд робко предложил жене почитать труды Эпикура, но она принадлежала к современной философской школе стяжателей и Эпикура с презрением отвергла. Да и сам Освальд не достиг того состояния атараксии, когда дух держит тело в повиновении и, даже будучи связан материальными узами, познает идеальную свободу. Как подумаешь, что угнетателям и грабителям часто достаются высокие награды, как вспомнишь, сколько ничтожнейших людей из чистого тщеславия домогаются известности, — право же, обидно становится, что Освальду не дали спокойно прозябать в невинном безделье. Лишиться душевного покоя по милости нескольких неугомонных женщин — какая это злая, но какая обычная участь!
Джулия взяла на себя роль музы и сотрудницы Освальда. Она все на свете приводила к одному знаменателю — «современности», другими словами, ничего, кроме злобы дня, для нее не существовало. Все, что не входило в круг ее непосредственных интересов (а входило в них очень немногое), именовалось у нее либо «хлам», либо «старье». Применяла она эти литературоведческие термины без особенного разбора, но какую-то разницу между ними все же усматривала, поскольку Эпикура называла «старье», и Пруста — «хлам». «Старьем» было на ее взгляд все, что имело хотя бы десятилетнюю давность, — за исключением извечных банальностей, которые существуют с тех пор, как на свете появились банальные люди, то есть очень, очень давно.
— Вот, например, это, — сказала Джулия, придвигая к себе запылившуюся стопку бумаг на «рабочем» столе Освальда. — Это что?
— Ах, это? Заметки для книги о елизаветинской драматургии.
Джулия повела носом, как скептик на галерке в день премьеры.
— А это?
— Заметки тети Урсулы для нашей совместной книги о дворе Людовика Пятнадцатого.
— И ты думаешь, это старье кому-нибудь интересно?
— Да, — заявил Освальд неожиданно храбро. — Мне интересно, и тете Урсуле тоже.
— А публике нет, — сказала Джулия, ни минуты не сомневаясь в том, что она и есть публика. — Не удивительно, что с таким материалом у тебя ничего не выходит. Это не современно. Да если бы Шекспир, или как его там, написал пьесу сейчас, никто бы не пошел ее смотреть.
— А кто в этом виноват? — спросил Освальд, но Джулия пропустила его иронию мимо ушей.
— Почему бы тебе не написать что-нибудь вроде пьес Ноэля Кауарда?{15}
— По той же причине, почему этого не делают еще сто тысяч человек, — отвечал Освальд просто. — Потому, что я этого не могу. Если бы я мог писать новые пьесы, то, уж поверь, не стал бы трудиться разбирать старые.
Слегка удивленная логичностью этого довода, Джулия, однако, не сложила оружия.
— Ну, а тогда почему бы тебе не написать что-нибудь о русском балете? Некоторые их постановки еще пользуются успехом.
— Дорогая моя, — сказал Освальд почти твердо, — если ты проедешься на Черинг-Кросс-роуд, то увидишь там целый магазин, набитый книгами о балете. Самый ничтожный из авторов этих книг знает о нем больше, чем я.
— У тебя на все отговорки, — сказала она недовольно.
Освальд пожал плечами.
— Ты думаешь только о себе, — разбушевалась Джулия. — Ты жалкий эгоист и лентяй. Тебе бы только сидеть и курить, да ходить в театр, да выпивать с гадкими молодыми людьми. Порядочный человек и знаться бы с такими не стал. Почему ты не можешь быть, как другие мужчины, Освальд, почему ты ничего не делаешь?
Бедный Освальд! Кое-что ему очень хотелось бы сделать — например, укротить жену и получить обратно свои деньги. И еще ему хотелось сделать нечто очень, казалось бы, простое — высказать свое мнение в домашнем споре. Ну вот, к примеру, неужели он не может объяснить, что пытаться писать книги, когда тебе это противно, нет никакого смысла? Нет, не может…
Джулия отказалась от безнадежной задачи сделать из Освальда «мужчину» и притом «современного», но продолжала пилить его так успешно, что через полгода у него был состряпан какой-то винегрет касательно двора Людовика XV и начат объемистый исторический роман, в котором нравы комедий XVII века задумано было изобразить в манере Пруста. Сгибаясь под этой ношей, Освальд только на то и надеялся, что провал обеих книг убедит его мучительницу в полном отсутствии у него литературных способностей и он обретет желанный покой.
Но он недооценил свою Джулию. По мере того как издатели один за другим спешили отказаться от его шедевров, надежды Освальда росли, а чело Джулии мрачнело. Как! Отказаться напечатать труды ее мужа, созданные при ее участии, преграждать ей дорогу в высшее общество и в светскую хронику? Да кто они такие, эти издатели? Мужчины они или нет? Оставив Освальду две тысячи папирос и граммофон, она велела ему сидеть за городом, а сама занялась выяснением этого вопроса. Одни издатели ее просто не приняли, другие принимали, но решительно, хотя и любезно, отказывались от чести напечатать Освальда, а когда глаза у Джулии добрели, незаметно вызывали звонком секретаря-машинистку. Наконец она разыскала одного маленького издателя — правда, сам он был крупный мужчина с веселым румяным лицом и в роговых очках, а маленькими были его кабинет, редакционный персонал и деловые масштабы.
Поначалу он отмахнулся от Освальда почти так же решительно (хоть и любезно), как остальные. Но Джулия посмотрела на него, а он посмотрел на Джулию. Он запнулся, не закончив красноречивой тирады на тему о застое в делах и недостатке читательского интереса к французским мемуарам и историческим романам. Он снова посмотрел на Джулию, и она ответила ему ласковым взглядом. Он предложил ей папиросу, она не отказалась. Разговор перешел с книг Освальда на популярных актеров и автомобили. Он позволил себе две-три остроты, и смех Джулии показал, что она их оценила. Джулия дала понять, на какие жертвы приходится идти жене отшельника-ученого (который в эту самую минуту, дымя папиросой, тянул в деревенском кабачке джин с вермутом и заигрывал с буфетчицей), и издатель пожалел ее и горячо одобрил. Время летело незаметно. Вошла секретарша с бумагами, но издатель жестом повелел ей удалиться.
— Половина первого, — сказал он. — Может, нам вместе позавтракать и обговорить все подробно?
Джулия стала кокетливо отнекиваться, но сдалась на его чисто мужской довод, что сделки веселее всего заключать за столом. Завтрак и правда получился веселый, только об Освальде и его злосчастных трудах не было сказано ни слова, хотя они обсудили самые разнообразные предметы и обнаружили поразительную общность интересов и вкусов. Они расстались в половине четвертого, сговорившись вместе пообедать на следующий вечер и подумать, «как поступить с этими книгами». Джулия написала Освальду, что, возможно, задержится дня на два, и настроение у Освальда поднялось — не только потому, что ему продлили отпуск, но и при мысли о трудностях, с какими она в своем упрямстве столкнулась. Знай он, с чем именно она столкнулась, он бы так не радовался. Деловые беседы нередко затягиваются, не без приятности для тех, кто питает к ним склонность.
Дней десять спустя Освальд валялся на диване, курил и раздумывал, испортится ли граммофон, если пластинка будет крутиться и крутиться, потому что очень уж лень встать и остановить его. Вдруг он услышал с дороги громкий, знакомый гудок автомобиля и понял, что передышке пришел конец. Это, разумеется, была Джулия. Он удивился, как тепло, почти смиренно она с ним поздоровалась словно заискивая перед ним. Большую часть своей жизни Освальд прожил так бездумно, что не удосужился уяснить себе великий закон, гласящий, что неверность часто порождает мир в доме. Он только порадовался, что Джулия сегодня не расположена к агрессивным действиям.
А Джулия, надо сказать, была так основательно введена в заблуждение вздорными теориями Освальдовых теток, что все еще полагала, будто Освальд «хочет писать», и не сомневалась, что договор, да еще сразу на две книги, приведет его в восторг. Ненависть к писательству, которую он почти не пытался скрыть, она воспринимала как признак «артистического темперамента». Поэтому она тут же извлекла из сумочки длинный, сложенный вдвое конверт и сказала Освальду:
— Угадай, что это такое?
— Опять бланк для сведений о подоходном налоге?
— Ничего подобного! Это тебя порадует.
В сознании Освальда, как яркий метеор в темном небе, промелькнула надежда — неужели ему возвращают доход, который он так опрометчиво перевел на имя жены?
— Это юридический документ? — спросил он осторожно.
— Да.
У Освальда заколотилось сердце.
— Касается денег? — спросил он уже смелее.
— Отчасти. Но это еще не все — он касается твоей карьеры.
Разочарование Освальда можно описать, лишь прибегнув к метафоре. Что-то оборвалось у него в душе. Так чувствует себя молодой офицерик, который воображает, что его вызвали в ротную канцелярию, чтобы уволить в отпуск, а оказалось, что ему всего-навсего выпала честь вести солдат в атаку на окопы противника.
Ах, это слово «карьера» — и как только бог допустил такую пакость!
— Покажи, — сказал он уныло.
— Я тебе все объясню. — Джулия вытянула было бумагу из конверта, но тут же засунула обратно. — Понимаешь, сейчас очень трудно что-нибудь напечатать. Все издатели, с которыми я говорила, уверяют, что на книжном рынке безнадежный застой. Так что когда я наконец получила предложение, то не стала торговаться. Мерритон тебе понравится — это и есть твой издатель, он на будущей неделе приедет к нам погостить. По-моему, он молодец. На лучшие условия он просто не мог пойти. Это называется «договор с отсроченной оплатой». Первое издание — тысяча экземпляров, тебе идет десять процентов, но деньги ты получаешь только после того, как будет продано полторы тысячи.
Она протянула Освальду внушительного вида документ, аккуратно напечатанный на машинке, и Освальд принял его растерянно и грустно. Впрочем, он ощутил и некоторую законную гордость, когда прочел слова: «Освальд Карстерс, проживающий в собственном доме в Примптоне, графство Бакингемшир, в дальнейшем именуемый «Автор». Только сейчас Освальд осознал себя гением. Настоящий издатель принял его книги и верит, что они разойдутся не меньше, чем в полутора тысячах экземпляров, поскольку намерен платить «Автору» лишь по распродаже этого тиража. Он позабыл все тернии карьеры, вдохнув аромат ее роз.
— Ты доволен? — спросила Джулия.
— Ну, конечно, — отвечал он, стараясь сдержать ликование. — Ты все устроила очень, очень хорошо.
Она подошла и поцеловала его предательски изощренным поцелуем, отважным поцелуем женщины, сознающей, что она исполнила свой долг.
Тем, кто любит толковать о полном слиянии интересов в браке, отрадно было бы отметить, что Джулия радела о карьере Освальда, как о своей собственной. Она проявила похвальную, более того — героическую преданность. Мерритон приехал в пятницу вечером и наговорил Освальду много приятных слов. В субботу днем Джулия вдруг вспомнила, что у нее нет омаров для воскресного завтрака, а они совершенно необходимы. И Освальда отправили на машине в ближайший городок со строгим наказом — не возвращаться домой без этих ракообразных. Поездка заняла два часа, и Джулия использовала это время для задушевной деловой беседы. Но как ни удовлетворительно эта беседа закончилась, было ясно, что потребуется еще одно совещание — в воскресенье днем, и она совершила со своим гостем долгую прогулку по лесу. Он отбыл в понедельник, заверив хозяев, что прекрасно провел время и что дело продвигается как нельзя лучше. Джулия сияла гордостью и надеждой. Она и не подумала растратить авансом крупные суммы, причитавшиеся Освальду, — напротив, стала наводить еще более суровую экономию, чтобы тем скорее можно было устраивать блестящие приемы, каких ждут от модного писателя.
На беду возникли затруднения, всякие непредвиденные оттяжки. Только через полгода Освальд получил корректуру, хотя за это время Джулия, не жалея себя, целых четыре раза проводила по нескольку дней в Лом доне, пытаясь ускорить дело. Наконец она добилась победы, привезла Освальду гранки и, поскольку он отнесся к ним прохладно, сама их выправила и даже сама доставила в Лондон, чтобы они не затерялись по почте. Прошло еще два месяца. Джулия по-прежнему проводила много времени в Лондоне, ведь ей нужно было «проследить за производством» и, что еще важнее, — познакомиться с влиятельными критиками, которые могли бы заинтересоваться талантом Освальда после задушевных бесед с его женой. Мерритон написал Освальду, что «его подводит переплетная», но одну из книг он рассчитывает выпустить не позже чем через неделю. Каково же было изумление, горе и ярость супругов, когда Освальд вскрыл и прочел письмо какого-то негодяя, называвшего себя «Ликвидатор» и сообщавшего, что Мерритон и К° обанкротились и что Освальд, вероятно, пожелает выкупить листы двух своих книг за пустячную сумму в триста фунтов.
Джулия прочла это письмо и побледнела. Она заперлась в своей спальне и проплакала не меньше часа. Столько жертв, и все напрасно! Какая трагедия — разыгрывать Алкестиду ради такого недостойного Адмета!{16} Джулии было от души жаль себя. И жалость эта вылилась в презрение к Освальду. Какой мелкий, недостойный человек, как он ничтожен, как оскорбительно слеп! Любой мужчина, чья жена проявила такое самопожертвование, что-нибудь да предпринял бы на его месте — либо устроил бы скандал, либо сорвал хороший куш. А он знай себе курит свои папиросы и ничего не делает — этакое свинство! Слишком поздно Джулия поняла, что как горбатого исправит только могила, так из Освальда никогда не получится Арнольд Беннет.{17} А ему, как видно, и горя нет, лишь бы она о нем заботилась и содержала его, — вот это уже совсем свинство. И это после всего, что она для него сделала! Не удивительно, что Джулия проливала слезы.
Но кто посмеет сказать, что английская женщина утратила издревле присущие ей добродетели — мужество, веру в будущее, самопожертвование? В пучине поражения
Джулия почерпнула силы и мужество для новых подвигов. Если, рассудила она, такое ничтожество, как Освальд, может писать книги и — с ее помощью — чуть ли не выпускает их в свет, так почему бы ей не написать что-нибудь действительно современное и интересное и, раз жертвы необходимы, не пожертвовать собой ради себя? Теперь Джулии стало ясно, что, как бы она ни помогала Освальду, он все равно не добился бы успеха. Эти высокие материи просто никому не интересны. Читатели хотят, чтобы в книгах была жизнь, такая, какой они ее знают, такая, какой живут лондонские Джулии, эти вершины эволюционного развития. Недаром Джулия всегда говорила, что в игре котенка больше жизни, чем во всех этих старых классических поэтах от Шелли до Лоры Ли Хоуп. А Освальд упорно не хотел это понять.
И вот, никому не сказав ни слова, Джулия засела писать книгу. Разумеется, это был роман. Ведь о «жизни» можно написать только в романе. Темой романа была жизнь Джулии, а героиней — сама Джулия. Не та Джулия, которую знали все, даже не та, которую знал Освальд, — это была Джулия, известная одному богу, как говорят над братской могилой. Это, несомненно, была Джулия, но Джулия новая, о существовании которой никто и не догадывался, перед чьим чарующим обаянием и умом ничто не могло устоять. В последней главе эта выдуманная Джулия стала женой выдуманного мужчины, ни в чем не похожего на Освальда. Те месяцы, когда сей плод созревал, Освальд прожил сравнительно спокойно. Правда, свои еженедельные статьи он не мог не писать, но больше его почти не тревожили. Временами он спрашивал себя, какого черта Джулия все сидит у себя одна как сыч, уж не замышляет ли она нового способа заставить его что-нибудь делать. Однако ничего такого не случилось, и Освальд стал находить, что жить на свете, пожалуй, не так уж плохо. Ему даже позволили съездить на неделю в Лондон и возобновить знакомство с двумя-тремя шикарными, но отзывчивыми молодыми людьми в ярких галстуках, необычайно приятными в обращении.
Как-то после обеда Джулия сказала:
— Я хочу с тобой серьезно поговорить, Освальд.
— Да? — Он насторожился.
— Ты что-нибудь написал за этот год?
— Нет.
— И не собираешься?
— Я… у меня нет никаких планов, я…
— Значит, ты признаешь, что из твоего писательства ничего не вышло?
— Да я никогда и не думал, что выйдет! — выкрикнул он с решимостью отчаяния. — Ты пойми, я совсем не хотел… ну, просто… если бы не тетя Урсула, и не банк, и не ты… Это очень трудно объяснить, — закончил он едва слышно.
— Так трудно, что я даже не понимаю, о чем ты говоришь, — с достоинством произнесла Джулия. — Но одно я поняла — ты просто притворялся, когда обещал мне столько сделать, а сам ничего не сделал. Это ты признаешь?
— Да я не притворялся, и я ничего не обещал, — вспылил Освальд. — За меня притворялись другие.
— Какая чепуха! Но довольно об этом. Важно вот что: то, чего не сделал ты, сделала я. Я написала роман, и он принят в печать.
— Боже правый!
Смысл этого восклицания был Джулии не вполне ясен, но она сочла за благо расценить его как комплимент.
— Один экземпляр у меня здесь. Хочешь, я тебе почитаю?
Что оставалось Освальду, как не сказать «да»? Когда тебе читают вслух, можно курить, можно думать о чем-нибудь другом. К тому же он еще не опомнился от удивления и, как ни странно, ощущал уколы ревности. Ему всегда внушали, что талантливый член семьи — это он, и такая узурпация со стороны Джулии граничила с нахальством. Но он покорно слушал чтение, и постепенно настроение у него менялось — он начал гордиться, что женат на женщине, которая сумела написать роман. Сам он и не притязал на такое умение, но все же подумал, что своим примером и разговорами хотя бы отшлифовывал ее талант. И он сказал Джулии, что у нее есть талант, чем очень ей угодил.
Для Джулии настала короткая пора счастья. Она верила в свою книгу, а тем более в то, что книга принесет ей славу и общественный вес. Мысль, что ей удалось то, что не удалось ее законному покровителю, наполняла ее гордостью. Состоялось несколько поездок в Лондон и целая оргия увлекательных задушевных разговоров со всякими людьми, которые, как считалось, могли повлиять на успех начинающего автора. В день выхода книги Джулия торжествовала. Она пригласила к обеду четверых самых влиятельных критиков, каких могла раздобыть, а позже вечером десятки людей заходили к ним выпить и получали в подарок экземпляр великого произведения с авторской надписью. Эти экземпляры являли собою хлеб, отпущенный по водам, который вернется сторицею, — маленькую жертву ради большого тиража. Все говорили ей любезности и пророчили небывалый успех. И пожалуй, самой лучшей минутой за весь вечер была та, когда один молодой человек, отнесшийся к задушевным разговорам очень серьезно и пораженный количеством и энтузиазмом гостей, застенчиво спросил ее:
— Ну что, приятно чувствовать себя знаменитостью?
И Джулия ответила честно:
— Просто упоительно.
Освальд с чисто мужской непоследовательностью не на шутку завидовал успеху жены. А зря. Сказать, что Джулия не заслужила права на свое счастье, было бы жестоко, но ее мечты о величии, безусловно, зиждились на песке. Правда, любители задушевных бесед не подвели, и отзывы в печати были отличные, но порою не в меру хорошие отзывы губят книгу — публика ждет от нее слишком многого. Успех оказался недолговечным, и скоро книга Джулии исчезла из глаз, захлестнутая потоком новых романов, который непрестанно течет с печатных машин в библиотеки, а оттуда — на бумажные фабрики. Джулия мужественно боролась с судьбой и налегла на задушевные беседы. Но сила и слава, богатство и почет упорно не давались ей в руки — она была всего-навсего одной из несчетных молодых женщин, написавших свой первый роман. Все, в том числе издатель, твердили ей: «Пишите вторую книгу».
И вот здесь-то возникло страшное затруднение: оказалось, что писать ей не о чем. Первая книга, посвященная тому, что всего на свете интересней — самой Джулии, — написалась поразительно легко. Вторая же упорно не желала даже начаться. Джулия совсем истерзалась, а тут еще обнаружилось, что на финансирование собственной славы и задушевных бесед ушла уйма денег. Она удалилась в деревню, чтобы там обдумать положение.
Среди поклонников, которых Джулия приобрела, пожалуй, не столько своими литературными талантами, сколько умением вести интимные беседы, был некий бледный молодой блондин — человек «серьезный». Он не любил мыться, зачитывался иностранной литературой, платонически склонялся к коммунизму, превыше всего ценил «стиль» и сотрудничал в очень «серьезном» журнале, который с интересом читали люди, в нем сотрудничавшие.
По его совету Джулия решила стать стилистом. Из серьезных, но чрезвычайно невразумительных речей молодого человека и из образцов, которые он ей показал, она уловила основные требования «стиля». Почти все они были отрицательного порядка. Выходило, что быть стилистом значит не писать ни о чем, что могло бы хоть немного заинтересовать простых смертных, и выражать свои мысли так, чтобы простой человек не мог даже заподозрить, что вы имеете в виду. Поток сознания должен течь, пока течет, — все равно куда и зачем. А главное, следует внушать читателю, что вы могли бы открыть ему тысячу истин, но считаете это ниже своего достоинства. Молодой человек даже предложил ей тему: «Конфликт дуального «я». Джулия не вполне поняла, что это значит, но для выработки «стиля» это не было препятствием — скорее наоборот. Она прилежно трудилась и не раз познала высшую радость художника — чувство, что в тебе есть силы, о которых ты не догадывался.
Но горе в том, что, когда это замечательное произведение было закончено, отделано, еще раз просмотрено совместно с бледным блондином и артистически перепечатано — каждую страницу открывала строка из красных букв, — никто не пожелал его издать. Джулия то и дело ездила в Лондон, бледный блондин не скупился на советы, она вела задушевные беседы, почти забыв об осторожности, — и все же ей пришлось издать книгу за свой счет. Успеха она не имела ни малейшего, несмотря на расточительный прием, на котором целую толпу критиков насытили икрой и коктейлями, что уже граничило с чудом. Джулия была близка к отчаянию и снова удалилась в деревню — обдумать положение.
В эту трудную пору Джулия доказала, что она вправду разумная женщина. Она продала автомобиль, сдала лондонскую студию, поставила крест на литературе и решила завести ребенка. Прекратив наезды в Лондон и задушевные беседы, она втравила простодушного Освальда в роль отца. Казалось бы, с экономической точки зрения эта мера была не столь целесообразна, как остальные, но Джулия знала Освальдовых теток лучше, чем сам Освальд. Как только отпали последние сомнения в том, что Джулии предстоит умножить род человеческий, по крайней мере, на одну особь, она отрядила Освальда с дипломатическим поручением к теткам, предварительно как следует его натаскав, и он возвратился домой с прямо-таки царскими дарами. Даже тетя Урсула ни словом не обмолвилась о его карьере, и все тетушки, казалось, решили, что отцовство — единственная карьера, доступная Освальду, а так оно в известном смысле и было. Джулия не стала их разуверять — пусть думают что хотят, лишь бы дали денег; но по тому, как она держалась, вполне можно было заключить, что партеногенез наблюдается не только у насекомых. Она чувствовала, что уберегла свою исполненную благородства жизнь от окончательного крушения и принялась разрабатывать план воспитания, которое поможет ее сыну — а она не сомневалась, что будет сын, — достичь того, что ей самой не далось в руки.
Освальду еще не исполнилось сорока лет, но это был уже пожилой человек — нерешительный, изнеженный, ленивый и в общем недалекий. Джулия его не трогала; она предпочитала выводить своего птенца без посторонней помощи и неделю за неделей предавалась мечтам о будущем ребенке, который должен был стать не только ее ребенком, но продолжением ее самой.
Как это случилось — Освальд так и не мог потом сообразить, — но однажды он подошел зачем-то к покинутому письменному столу Джулии, отпер один из ящиков и обнаружил множество писем, связанных в пачки разной толщины. Джулия отдыхала в спальне наверху, Освальд отлично знал, что читать чужие письма нехорошо; он даже знал, что одна из первейших обязанностей мужа — никогда не заглядывать в корреспонденцию своей жены. И все же он прочел эти письма — и тем разрушил свой удобный, уютный и сытый мирок. Ибо письма эти были, безусловно, компрометирующими и не могли оставить ни тени сомнения даже у самого тупого и нелюбопытного мужа. Начав с писем Мерритона, Освальд читал их одно за другим в лихорадочной спешке, весь дрожа от негодования. Двойная жизнь, которой вероломная Джулия жила последние три-четыре года, вся прошла перед его глазами. Какие козни, какая гадость! В отчаянии и гневе Освальд сжал руками виски.
— Шлюха! — пробормотал он. — Самая настоящая шлюха!
Тетя Урсула, задремав над чашкой чая в «уголке» у камина, не услышала, как новая горничная робко постучала в дверь. Достигнув определенного возраста, человек бывает склонен пугаться, когда перед ним внезапно, как привидение или какое-то языческое божество, возникает служанка. Тетя Урсула высказалась на этот счет довольно резко, а затем пожелала узнать, почему ее потревожили.
— Простите, мэм, вас спрашивает мистер Освальд.
— Мистер Освальд?
— Да, мэм.
Тетя Урсула помотала головой, точно стряхивая с волос последние капли сна.
— Вы уверены, что это мистер Освальд?
— Да, мэм, и ему очень нужно вас видеть.
— Просите.
В комнату молча вошел бледный, мрачный Освальд с безумными глазами и с кожаным саквояжем в руке. Он скорбно поцеловал тетку в лоб и, не ответив ни на один из ее вопросов, поставил саквояж на пол, тяжело опустился в кресло и закрыл лицо руками. У тети Урсулы засосало под ложечкой.
— Освальд! — прикрикнула она. — Отними руки от лица! Почему ты здесь?
Освальд жалобно посмотрел на нее, открыл рот, точно собираясь застонать, но не издал ни звука.
— Что-нибудь неладно с Джулией?
Освальд кивнул.
— Не может быть! Она нездорова, а ты оставил ее одну?
Освальд покачал головой.
— Так в чем же дело? Да не молчи ты как идиот. Ты меня пугаешь.
— Я убежал, — произнес Освальд угрюмо, — он уже начал страшиться того, что сделал.
— Убежал? Зачем? Ты что, с ума сошел, Освальд, или хочешь довести меня до сердечного припадка?
— Нет, тетя, — сказал Освальд с чувством. — Кроме вас, у меня ничего не осталось на свете.
Тетя Урсула пресекла эти неуместные сантименты.
— Перестань говорить глупости и, если можешь, объяснись.
— Джулия… — начал Освальд, но объясниться не смог, а только протянул тетке саквояж.
— Вот, смотрите! — сказал он, чуть не плача, и опять спрятал лицо в ладони.
Тетя Урсула открыла саквояж так осторожно, словно думала, что Освальд принес в нем своего новорожденного ребенка, а может быть, даже небольшого крокодильчика. Убедившись, что там нет ничего, кроме писем, она взяла лорнет и принялась читать.
— Боже милостивый! — воскликнула она. — Что это за неприличности?
— Любовные письма к Джулии, — объяснил он печально. — От других мужчин.
Тетя Урсула прочитала два-три письма, положила их обратно в саквояж, защелкнула его и устремила на Освальда задумчивый взгляд, постукивая по колену лорнетом.
— Когда ты нашел эти письма?
— Сегодня утром.
— И поссорился из-за них с Джулией?
— Нет, тетя. Я просто уехал.
— Как! Не сказавшись ей?
— Да, тетя.
— Боже милостивый! — возмутилась она. — Так-то ты обращаешься с матерью твоего будущего ребенка?
Освальд привык ждать от тетки сюрпризов, но такая реакция на его сообщение была для него полной неожиданностью. Он всю дорогу репетировал волнующую сцену, по ходу которой тетка со слезами обнимала его и обещала освободить от ига Джулии и снова поселить в удобной холостяцкой квартирке. Он взмолился:
— Но, тетя, она же мне самым бессовестным образом изменяла. Прочтите эти письма.
— Не хочу. Я никогда не читаю чужих писем и удивляюсь, как ты позволил себе такую бестактность. Воображаю, в каком состоянии сейчас бедняжка Джулия. Ты рискуешь жизнью моего крестника. Позвони.
Как в тяжелом кошмаре, Освальд слабо нажал кнопку звонка, и горничная явилась.
— Бейлис, — твердо произнесла тетя Урсула, — сейчас же вызовите миссис Освальд по междугороднему, закажите разговор на шесть минут. Как только соединят, дайте мне знать. Я хочу поговорить с миссис Освальд.
— Слушаю, мэм.
— С какой стати… — начал Освальд, одновременно кипятясь и робея, но тетка перебила его.
— Послушай, Освальд. Ты очень глупо сделал, что прочел эти письма, а еще глупее — что «убежал», — это ты правильно выразился, убежал как мальчишка. Ты читал Бальзака?
Вопрос был поставлен в упор, а несчастный Освальд даже не представлял себе, к чему она клонит. Он тихо ответил:
— Да, тетя.
— В таком случае тебе известно, что некоторым мужчинам самой судьбой предназначено… ну, скажем, делать неприятные открытия. Ты небось вообразил, что хочешь требовать развода?
— Да, тетя.
— Вовсе ты этого не хочешь. Ты так привык к заботам Джулии, что уже неспособен сам о себе заботиться. А я этим заниматься не собираюсь. И как бы то ни было, ты не можешь бросить своего ребенка. Это будет единственный наследник фамилии Карстерс… и семейного капитала.
— А почем я знаю, что ребенок мой?
— Это я сейчас выясню у Джулии. Если она заверит меня, что он твой, тогда я просто не разрешу тебе ее покинуть. Конечно, она вела себя опрометчиво, с кем не бывает, — и я не сомневаюсь, что она в этом раскаивается. Ты слышишь, что я говорю?
— Да, тетя.
— Джулия тебя очень любит, я совершенно убеждена, что и ребеночка она хочет иметь отчасти для того, чтобы выразить этим свое раскаяние и любовь к тебе.
— Да, тетя? — недоверчиво спросил Освальд.
— Я в этом совершенно убеждена, — повторила тетка, грозно нахмурив брови, — и незачем было ко мне бежать, мне за тебя просто стыдно. Возьми эти письма, разорви их и сожги в камине. Все сразу не бросай, а то загасишь огонь.
Очень медленно и неохотно, точно во власти гипноза, Освальд стал рвать письма и аккуратно складывать их на раскаленные угли. А тетка продолжала говорить.
— Как только Джулия мне подтвердит, что ты отец ребенка, я сама отвезу тебя домой. Такое потрясение может отразиться на ее здоровье. Что же касается ваших отношений в дальнейшем, я позабочусь о том, чтобы такие безобразия не повторялись. Я очень на вас обоих сердита. Если бы не ребенок, я бы вообще отказалась иметь с вами дело. Ты меня слышишь, Освальд?
Резкий телефонный звонок больно отозвался у Освальда в ушах как раз в ту минуту, когда он, разрывая очередное письмо, покорно ответил:
— Да, тетя.
Комментарии
1
За славой не гоняться, // На солнышке валяться. — Строка из комедии Шекспира «Как вам это понравится».
2
Бакстер Ричард (1615–1691) — английский богослов.
3
Клюква — персонаж комедии Шекспира «Много шума из ничего»
4
Стрэчи Литтон (1880–1932) — английский эссеист, член модернистской группы «Блумсбери» (так называется район Лондона, где в начале века проживала и собиралась культурная элита).
5
Тилли Иоганн (1559–1632) — полководец времен Тридцатилетней войны, автор мемуаров.
6
«Путь повесы» — серия гравюр Уильяма Хогарта.
7
Вот и все (фр.).
8
Мясин (Массин) Леонид Федорович (1895–1979) — русский танцовщик, балетмейстер. Солист труппы С. Дягилева, участник балетных Русских сезонов за границей.
9
Лабрюйер Жан (1645–1696) — французский моралист, известный своими афоризмами, автор книги «Характеры».
10
Леди Левери — жена Джона Левери, известного художника-портретиста.
11
Миссис Болдуин — жена Стэнли Болдуина, в то время премьер-министра Англии.
12
…не вольет пламень восторга в живые струны. — Аллюзия на элегию английского поэта Томаса Грэя (1716–1771) «Сельское кладбище».
13
Сван — герой романа французского писателя Марселя Пруста (1871–1922) «В поисках утраченного времени».
14
Я только говорю Вам, Оскар. — Широко известная в свое время реплика американского художника Джеймса Уистлера (1834–1903) в споре с английским писателем Оскаром Уайльдом (1854–1900).
15
Кауард Ноэль (1899–1973) — английский драматург, актер и композитор, создавший в 20-е годы множество комедий в традициях Конгрива и Уайльда, некоторые из его драм осуждались как безнравственные.
16
…разыгрывать Алкестиду ради такого недостойного Адмета. — Намек на греческий миф о царе Адмете, которому боги обещали продлить жизнь, если кто-то согласится умереть вместо него. Жена царя единственная из близких решилась на эту жертву.
17
Беннет Арнольд (1867–1931) — популярный в начале века английский писатель, автор более сорока романов и сборников рассказов, мастер жанровых бытовых зарисовок.

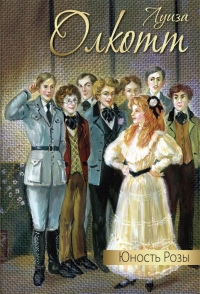




Комментарии к книге ««Да, тетя»», Ричард Олдингтон
Всего 0 комментариев