В двадцатых годах нашего столетия в Дюссельдорфе на Рейне жила, если не в роскоши, то в достатке, вдовевшая вот уже десять лет госпожа Розалия фон Тюммлер с дочерью Анной и сыном Эдуардом. Ее муж, подполковник фон Тюммлер, бессмысленно погиб в самом начале войны — не в бою, а при автомобильной катастрофе, что тем не менее давало право говорить о нем как о воине, павшем на поле брани. Этот жестокий удар, перенесенный ею, тогда еще сорокалетней женщиной, с патриотическим смирением, отнял отца у обоих ее детей, у нее же самой — завидно веселого мужа, нередкие отклонения которого от стези супружеской верности говорили лишь об избытке жизненных сил.
Годы замужества, а их было двадцать, Розали, по облику и говору истая жительница Рейнского края, провела в трудолюбивом Дуисбурге, где стоял гарнизон фон Тюммлера, но после утраты мужа поселилась с детьми в Дюссельдорфе (дочери было тогда восемнадцать, сыну всего лишь шесть лет), отчасти из-за красивых парков — примечательности этого города (госпожа фон Тюммлер страстно любила природу), отчасти же из-за дочери Анны, серьезной девушки, которая увлекалась живописью и хотела посещать знаменитую Академию художеств. Вот уже десять лет маленькая семья проживала на тихой, обсаженной липами улице имени Петера фон Корнелиуса{1}, в небольшом особняке, окруженном тенистым садом и обставленном немного старомодной, но покойной мебелью, в стиле тех лет, когда Розали была невестой. Несколько родственников и друзей, а также профессора академий живописи и медицинских наук, да два-три фабриканта с женами составляли небольшой кружок, часто собиравшийся под радушным кровом для скромных вечерних пиршеств, во время которых, следуя местному обычаю, воздавали должное рейнским винам.
Госпожа фон Тюммлер была общительного нрава. Ей нравились людные сборища, и, в пределах своих возможностей, она держала открытый дом. Непритязательный, веселый нрав, сердечная теплота, которая выражалась и в любви к природе, снискали ей общее расположение. Высоким ростом она не отличалась, но сохранила былую стройность; в ее густых вьющихся волосах уже заметно проглядывала седина, а на тыльной стороне увядающих нежных рук проступило множество пятнышек, похожих на веснушки (явление, против которого еще не найдено средство), и все же она казалась молодой, благодаря прекрасным, всегда оживленным глазам, глянцевито-каштанового цвета, сиявшим на женственно-милом, тонко очерченном лице. Нос ее имел свойство слегка краснеть, когда она бывала в приподнятом настроении, что становилось особенно заметным в обществе, и она старалась устранить этот недостаток, прибегая к пудре — совсем напрасно, по общему суждению, потому что это производило даже трогательное впечатление и ничуть ее не портило.
Розали родилась весной, в мае месяце, и сегодня праздновала свою пятидесятую годовщину в кругу родных и нескольких друзей, за усыпанным цветами столом, в саду, разукрашенном фонариками, под звон бокалов и благодушные, порою шутливые тосты. Она старалась веселиться с теми, кто был весел — не без усилия: потому что с некоторых пор и в сегодняшний вечер тоже она чувствовала недомогание, сопутствующее переходному возрасту, физическому угасанию ее женственности, неуклонно совершавшемуся, невзирая на сопротивление несостарившейся души. Головные боли, сердцебиение, приступы щемящей тоски сменялись днями уныния, болезненной раздражительности, благодаря которой и в этот праздничный вечер тосты, произнесенные в ее честь, казались ей безнадежно плоскими и глупыми. Зная, что ее дочь никогда не сочувствует такого рода юмору, почерпнутому в пуншевой чаше, она обменивалась с нею понимающим, безнадежным взглядом.
Самая доверительная, нежная близость связывала ее с этой девушкой, ныне взрослой подругой, на двенадцать лет опередившей брата, от которой не надо было скрывать горестей своего возраста. Анне было уже под тридцать, она до сих пор не вышла замуж, но это не смущало Розали, которая из простого эгоизма предпочитала сохранить в дочери милую, неразлучную спутницу, нежели уступить ее мужу. Анна фон Тюммлер была более высокого роста, но глаза ее цвета каштана были те же, что у матери, впрочем, не совсем те же — им недоставало наивной оживленности материнских глаз; они скорее были холодны и задумчивы. Анна родилась с искривлением стопы, операция, сделанная в детстве, не привела к желательному результату, и девушка навсегда была лишена возможности заниматься спортом, танцами, принимать участие в увеселениях сверстниц. Незаурядные способности, духовная утонченность щедро восполнили все то, в чем ей было отказано. Занимаясь с преподавателями на дому, всего по два-три часа в день, она без труда сдала экзамен на аттестат зрелости, но затем отказалась от науки ради искусства — сначала ваяния, затем живописи — и, будучи еще ученицей, непримиримо отвергла слепое подражание природе, предпочтя ему сугубо отвлеченное, абстрактно-символическое направление с некоторым уклоном в кубизм. Картины своей дочери, где изысканная современность уживалась с примитивом, декоративность с глубокомыслием и утонченное пиршество красок с аскетизмом, госпожа фон Тюммлер рассматривала с унылой почтительностью.
— Значительно, вероятно, очень значительно, детка, — говорила она. — Профессор Цумштег это оценит. Он повлиял на тебя и научил любить такую живопись, у него наметанный глаз и опыт. Надо иметь опыт и наметанный глаз, чтобы понимать такие вещи. Как она называется?
— Деревья на ночном ветру.
— Как-никак здесь есть намек на то, что ты хотела выразить. Значит, эти кегельные шары на серо-желтом фоне и есть деревья, а вот та странная линия, свивающаяся как спираль, должна изображать ночной ветер? Интересно, Анна, очень интересно! Но, боже правый, что вы все делаете из милой природы, дочурка? Чего тебе стоит один-единственный разок послужить своим искусством красоте, написать что-нибудь для души, скажем, изящный натюрморт, ветку свежей сирени, так, чтоб казалось, что вдыхаешь ее прелестный запах, а рядом с вазой стояла бы жеманная парочка из мейссенского фарфора, кавалер, склонившийся в поцелуе над ручкой дамы, — и все это отражалось бы в сверкающей поверхности стола…
— Стой, стой, мамочка! У тебя неуемная фантазия. Но так писать теперь уже нельзя.
— Анна, не пытайся уговорить меня, что ты, такая способная, не можешь написать что-нибудь ласкающее глаз.
— Ты меня неверно поняла, мама! Речь идет не обо мне, не о том, умею ли я так писать. Этого не допускает наше время, наше искусство.
— Тем хуже для времени и для искусства! Нет, прости, девочка, я не то хотела сказать. Если это неугодно жизни, идущей вперед, то не о чем и спорить. Напротив, печально было бы отстать от жизни. Это я вполне понимаю. И еще я понимаю, что необходим талант, чтобы придумать такую говорящую линию, как твоя. Мне она ничего не говорит, но по ней видно, что она говорит о многом.
Анна поцеловала мать, далеко отставив руки с мокрой палитрой и кистью. И Розали тоже поцеловала дочь, радуясь, что та, в измазанной красками блузе, занимаясь своим отвлеченным и, как казалось матери, мертворожденным рукомеслом, находит в нем утешение и примирение с незадавшейся жизнью.
Фрейлейн фон Тюммлер очень рано поняла, сколь пагубно хромающая поступь молодой девушки отражается на чувственных влечениях сильного пола, и, даже когда ею, несмотря на телесный ее недостаток, увлекался какой-нибудь юноша, она во всеоружии гордости, недоверчиво и холодно отклоняла его искания, подавляла их в самом зародыше. Однажды, вскоре после переезда в Дюссельдорф, она полюбила, мучительно стыдясь своей страсти, вызванной физической привлекательностью молодого человека, химика по образованию, поставившего себе целью превратить науку в средство обогащения, так что, получив звание доктора, он тотчас же поступил на одну из химических фабрик Дюссельдорфа, где занял доходное место и видное положение. Его смуглая кожа, его покоряющая мужественность, деловая сметка и открытый нрав, подкупавший даже мужчин, были предметом грез всех девушек и женщин светского круга, превозносивших до небес этого доктора химии и наперебой закармливавших его индейками и гусями. Отныне горьким уделом Анны стало томиться, как томятся другие, сознавать себя рабою пошлого чувства, которое она старалась побороть, тщетно взывая к собственному достоинству.
Впрочем, доктор Брюннер (так звали юного красавца), вполне сознавая себя расчетливым честолюбцем, возмещал этот душевный изъян тяготеньем ко всему изысканно-возвышенному, а потому некоторое время откровенно ухаживал за фрейлейн фон Тюммлер и охотно болтал с ней в обществе о живописи и литературе. Нашептывая своим вкрадчивым голосом пренебрежительно-шутливые суждения о той или иной из своих горячих поклонниц, он как бы стремился заключить с Анной союз против их назойливо чувственных ухищрений, против заурядности, не утонченной телесным изъяном. Каково приходится самой Анне, что за мучительное блаженство испытывает она в то время, как он глумится над другою, об этом доктор Брюннер, казалось, и не подозревал: как будто в духовной близости с Анной он искал лишь защиту от утомительных любовных преследований и уважение к себе — уже за то, что он дорожил этим уважением. Велико было искушение Анны открыться, довериться ему, хотя она и знала, что ее слабость окажется только очередной напрасной данью мужской неотразимости Брюннера. Его искания становились все более настойчивыми, серьезными, и Анна в сладостном смятении сознавалась себе, что безоглядно пошла бы за него, скажи он решающее слово. Но это слово не было сказано. Тщеславного стремления к возвышенным материям оказалось недостаточно, чтобы перешагнуть через ее телесный изъян и вдобавок скромное приданое. Вскоре он стал избегать Анны и обручился с дочерью богатого фабриканта из Бохума{2}, куда и перекочевал, отдав предпочтение родному городу невесты и химическому предприятию ее отца, к величайшему горю дюссельдорфских дам и облегчению Анны.
Розали знала о сердечных муках дочери, знала задолго до того, как Анна, в приступе отчаяния, пришла выплакать на материнской груди то, что называла своим позором. Не будучи очень умной, госпожа фон Тюммлер обладала ничуть не злорадной, а напротив, даже глубоко благожелательной прозорливостью во всем, что касалось духовной и физической жизни женщины, почему от ее глаз не могло ускользнуть ни одно такого рода событие в кругу ее знакомых. По едва заметной улыбке, по блеску глаз, по краске в лице она узнавала, что девушке нравится тот или иной юноша, и сообщала о своих наблюдениях подружке-дочери, ничего такого не замечавшей, да и не хотевшей замечать. Она инстинктивно определяла, находит ли женщина удовлетворение в супружеской жизни, или нет, и печалилась или радовалась вместе с той, кого взяла под наблюдение. Она безошибочно определяла беременность в самом ее начале, причем, как обычно, когда дело касалось событий радостно-естественных, переходила на диалект и говорила: «Помяни мое слово, она понесла». Розали любила наблюдать, как охотно Анна помогает готовить уроки старшекласснику-брату. С наивной, но безошибочной психологической прозорливостью она угадывала, как утешало обездоленную девушку ее умственное превосходство над мужским началом. Вообще нельзя было сказать, чтобы Розали принимала чуткое участие в душевной жизни сына, этого непомерно вытянувшегося юнца, который был так похож на ее покойного мужа, не ладил с гуманитарными науками и мечтал о строительстве дорог и мостов и о профессии инженера. Прохладное дружелюбие, поверхностная заботливость — вот и все, что Розали дарила ему. По-настоящему привязана она была к дочери, единственной истинной своей подруге. Благодаря замкнутости Анны дружескую откровенность между обеими женщинами можно было бы назвать односторонней, если бы мать и без слов не знала всего о своей девочке, о скорбном одиночестве этого гордого сердца.
Без ложной обидчивости, просто и весело, принимала она любовно-снисходительные, насмешливо-сожалеющие, а подчас почти высокомерные улыбки своей подруги-дочери. Добрая душа, она легко сносила добродушное подтрунивание над своей простотой, которую, несмотря ни на что, почитала желанно-счастливым свойством, и, смеясь над собой, в то же время смеялась и над кислой гримаской Анны. Это случалось нередко, в особенности когда она садилась на своего конька — проникновенную нежность к природе, — желая ею заразить и рассудительную девушку. А как она любила «свое» время года, пору, когда родилась, — весну, весну, снабжавшую ее, — по уверениям Розали, — здоровьем и жизнерадостностью из самых сокровенных своих истоков! Когда воздух становился мягким и птицы заводили призывные песни, лицо ее светлело. Первые крокусы и подснежники в саду, нарядное цветение тюльпанов и гиацинтов на клумбах вокруг дома трогали добрую женщину до слез. Милые фиалки вдоль сельских дорог, желтые кисти дрока в цвету, красный и белый шиповник, а также сирень, и то, как выбрасывают ввысь свои бело-розовые свечи каштаны, — все вызывало восхищение, и так хотелось поделиться им с дочерью. Розали уводила ее из северной комнаты, отведенной под мастерскую, от абстрактного ее творчества, и Анна, улыбаясь, с готовностью сбрасывала рабочую блузу, чтобы сопровождать мать в многочасовых прогулках: как ни странно, она была превосходным ходоком, и если в обществе, стараясь скрыть хромоту, чувствовала себя связанной в движениях, то здесь, на свободе, где можно было шагать непринужденно, она вдруг становилась выносливой.
Родной, привычный ландшафт, вновь по-весеннему поэтические дороги их прогулок, вдоль которых цвели деревья, прелестные в своем бело-розовом уборе и сулящие обилие плодов, — что за волшебная пора! Они часто гуляли у реки. Текущую воду окаймляли высокие серебристые тополя, и пушистые их сережки роняли пыльцу, похожую на снег, гонимый ветром. Розали, которая и это находила восхитительным, достаточно знала ботанику, чтобы поучать свою дочь, рассказывая ей о том, что тополь — «двудомное» дерево, что на одних тополях растут только мужские, на других — только женские цветы. Она охотно говорила и об опылении ветром — о любовных услугах, что оказывает зефир детям флоры, о предупредительности, с какою он переносит цветочную пыльцу в целомудренно ожидающий женский цветок. Этот вид оплодотворения казался ей особенно прелестным.
Но подлинной страстью ее были розы. Она выращивала королеву цветов в своем саду, всеми средствами, заботливо и терпеливо охраняла ее от прожорливых гусениц, и, покуда длилось царственное цветение, на этажерках и столиках ее будуара не переводились букеты восхитительно свежих роз, в бутонах или уже распустившихся, преимущественно красных (белые она меньше любила), питомицы ее сада или же приношения знакомых дам, знавших о ее страсти. Закрыв глаза, она надолго погружала лицо в букет, а затем, подняв голову, уверяла, что это и есть аромат богов и что Психея, склонившись со светильником над спящим Амуром, его кудрявой головой и чуть приоткрытыми устами, конечно же вдыхала именно этот небесный аромат, и она, Розали, не сомневается, что и праведники там, в райских кущах, всегда будут вдыхать запах нетленных роз.
— В таком случае, — скептически замечала Анна, — там до того привыкнут к нему, что и вовсе перестанут его замечать.
Но госпожа фон Тюммлер сердилась на Анну за подобное умничанье. Если так рассуждать, если все высмеивать, можно усомниться и в самой вечности, а немудреное, привычное счастье — все же счастье. Это давало Анне лишний повод в знак примирения нежно и снисходительно поцеловать свою мать, после чего обе женщины принимались вместе смеяться.
Искусственного благовония духов Розали не признавала, разве что капельку освежающего одеколона И. М. Фарина, который она покупала в переулке напротив. Но все запахи, которые дарует нам природа, Розали любила без меры, в чувственном благоговении упиваясь их сладостью, пряной горечью, хмельным дурманом. Дорога, по которой они часто гуляли, вела к оврагу, где на дне неглубокой лощины густо разрослись кусты черемухи и жасмина, что в знойные, влажные, предгрозовые дни июня слали вверх жаркие облака одуряющих, почти удушливых благовоний. Несмотря на то что у Анны это вызывало головную боль, она должна была сопровождать свою мать и сюда. Розали упивалась тяжелыми вздымающимися испарениями. Она подолгу простаивала здесь, уходила, вновь возвращалась, наклонялась над оврагом и вздыхала:
— Девочка моя, как это чудесно! Это дыхание природы, ее сладостное дуновение, напоенное солнцем и влагой. Она шлет нам его из своих недр. Вкусим его, почитая природу, ведь мы тоже ее любимые дети.
— Ты, мама, во всяком случае! — отвечала Анна, брала мечтательницу под руку и, прихрамывая, уводила ее прочь. — Ко мне природа относится значительно хуже: у меня всегда болит голова от этого настоя ее ароматов.
— Да, потому что ты от нее воротишь нос, — отвечала Розали. — Не славишь ее своим талантом, а, напротив, с его помощью норовишь возвыситься над ней, пользуешься природой только как темой для своих фантазий — это твои собственные хвастливые слова — и в заумных своих замыслах уносишься бог весть куда, в холодную пустоту. Я уважаю твое искусство, Анна, но на месте милой природы тоже была бы обижена. — И однажды совершенно серьезно предложила дочери: если уж Анна так одержима этой своей абстрактностью и хочет изображать все только условно, пусть хоть раз попытается в красках выразить запахи.
Эта мысль пришла ей в голову в июле, в дни, когда зацвели липы и из аллей сада в открытые окна, заполняя весь дом, проникал неописуемо чистый и нежный, колдовской аромат позднего цветения, а с губ Розали вообще не сходила восхищенная улыбка. Тогда-то она и сказала:
— Вот что вам надо бы писать, вот чего добиваться в своей живописи! Ведь не хотите же вы полностью изгнать природу из искусства, вы все же исходите из нее в своих отвлеченностях и нуждаетесь в земном и чувственном, чтобы его одухотворять. Ну, а запах, если можно так выразиться, одновременно и абстрактен и чувствен; он невидим, он неуловимо говорит с нами из эфира. На вашем месте я дерзнула бы передать невидимое упоение, изобразить его зримо, — в конце концов это основная задача живописи. Где ваши палитры? Скорее разотрите на них аромат и перенесите его на холст в виде счастья в красках. Потом можете назвать свое творение «Запахом лип», чтобы зрители поняли, что вы задумали.
— Милая мама, ты бесподобна, — возразила фрейлейн фон Тюммлер. — Такие проблемы поставят в тупик любого профессора живописи. Знаешь ли ты хотя бы, что только весьма романтическая личность способна придумать это твое синтетическое смешение чувственных восприятий, мистическое претворение запахов в краски!
— Вероятно, я заслужила твои ученые насмешки?
— Нет, нет! Ты не заслужила их, — искренне сказала Анна.
Но как-то, в разгаре августа, когда время близилось к полудню и стояла сильная жара, дамы, гуляя, натолкнулись на удивительное явление, напоминавшее злую шутку, издевательство. Возле опушки леса их внезапно коснулся запах мускуса. Первая почуяла его Розали.
— Ах! А это откуда? — поделилась она своим открытием. Дочь вынуждена была согласиться.
— Да, похоже на мускус.
Они не прошли и двух шагов, как обнаружили источник этого запаха. Он возбуждал отвращение. То была кучка разлагающихся нечистот на краю дороги, густо облепленная жирными мухами, кишевшими на ней и над ней. Лучше было не вглядываться. То были экскременты животного, а быть может, и человека, соединившиеся с гниющими травами, и вдобавок истлевший остов какого-то лесного зверька. Словом, ничего не могло быть гаже этой дымящейся кучки. Однако тошнотворный запах распада в двувалентном, двусмысленном своем перерождении уже нельзя было назвать вонью. Он безоговорочно воспринимался как запах мускуса.
— Пошли дальше! — одновременно сказали обе женщины, и Анна, сильнее обычного волоча ногу, повисла на руке матери. Они помолчали, как бы стараясь разобраться в поразительном явлении.
— Вот видишь, недаром я не переношу запах мускуса и не понимаю, как можно им душиться. Духи эти не пахнут ни цветами, ни травами. Помнится, на уроках естественной истории мы проходили, что некоторые животные выделяют мускус из желез, кажется крысы и кошки, да, тибетские кошки и мускусные крысы. А вот у Шиллера в «Коварстве и любви» есть человечек{3}, эдакий пошляк, у него пронзительно гнусавый голос. Когда он выходит на сцену, по всему партеру распространяется запах мускуса. Я никогда не могла без смеха читать это место!
И они развеселились. Даже теперь, когда организм Розали должен был мучительно приспосабливаться к физическим и нравственным недугам переходного возраста, она умела звонко, от всего сердца, смеяться. К этому времени Розали обрела друга, неподалеку от дома, в уголке городского сада. Это был старый, одиноко стоявший дуб, сучковатый и искривленный. Его корни были обнажены, а кряжистый ствол невысоко над землей разделялся на толстые узловатые ветви. Наверху они утончались и пускали новые побеги. В стволе было дупло, запломбированное цементом, — администрация парка пеклась о своем детище. Но иные ветви уже отмирали и, не в силах зазеленеть, голыми искалеченными обрубками торчали ввысь. Другие, — правда, их было немного, — весною вновь зазеленели, покрылись зубчатыми, извилистыми листьями, из которых спокон веков плетут священные венки победы. Розали не могла наглядеться на дуб. День за днем она участливо следила, как зарождаются, набухают и распускаются листки на ветвях и веточках, в которые еще просачивалась жизнь. Рядом с дубом на лужайке стояла скамья. Они сели, и Розали сказала:
— Мощный старик! Можно ли без умиления смотреть, как бодро он держится, как все еще выбрасывает новые побеги. Взгляни на его корни, одеревеневшие, толстые, — они распластались по матери-земле в поисках пропитания, цепкие, словно якоря. Не один шторм пережил он и не один еще переживет. Такие не сгибаются. Полый, зацементированный, он уже не в силах весь покрыться листвой. Но когда приходит его время, он все же набухает соками, перемогая старость, а когда ему удается немножко зазеленеть, его лелеют и чтут за отвагу. Видишь, там, наверху, кивает ветру тоненький побег. Не вся крона распустилась, но пусть хотя бы он поддержит честь старика.
— Не сомневаюсь, что это достойно внимания, но, если ты не возражаешь, я охотнее вернулась бы домой, — сказала Анна, — мне нездоровится…
— Нездоровится? У тебя… Ах, девочка, как я могла забыть? Мне стыдно, что я повела тебя гулять. Глазею на старика, и не вижу, что ты скорчилась от боли. Обопрись на мою руку, и пойдем.
Фрейлейн фон Тюммлер с давних пор ежемесячно жаловалась на сильные боли. Это стало привычным явлением, и врачи рассматривали его как неприятный конституциональный недостаток, с которым приходится мириться. А потому недомогания Анны не вызывали у матери особых опасений и на обратном пути, желая утешить и развлечь страдалицу, и вместе с тем выразить и свою зависть, она сказала:
— Помнишь, когда это впервые случилось с тобой, ты была еще совсем девчонкой и так испугалась? А я объяснила тебе, что это вполне естественно, что так и быть должно, что следует радоваться и гордиться тем, что ты стала женщиной. Незадолго до этого у тебя бывают боли. Это мучительно и не обязательно — я никогда их не знала, — но бывает и так. Я помню еще два-три подобных случая, когда бывали боли… Так что же: a la bonne heure![1] У нас, женщин, они другие, чем у мужчин. Те не знают боли, разве только когда хворают, и тогда они ужасно теряются. Тюммлер, твой отец, тоже терялся при малейшей боли, хотя он был офицер и пал смертью храбрых. Наш пол ведет себя по-иному, мы выносливее, страдание — наш удел. Мы, так сказать, прирожденные страдалицы. Прежде всего, мы знаем естественные, здоровые, священные боли родов. Это нечто неотъемлемо женское, мужчины избавлены от них. Правда, глупые мужчины приходят в отчаянье от наших полубессознательных криков, упрекают себя и хватаются за голову, а мы, хоть и кричим, в глубине души смеемся над ними. Когда ты, Анна, появилась на свет, мне пришлось очень худо. Это продолжалось тридцать шесть часов, а Тюммлер все время бегал по комнатам и держался за голову, и все же это был великий праздник жизни, и кричала не я, а во мне кричало нечто — святой экстаз страдания. Позже, с Эдуардом, не было и вполовину так страшно, но для мужчины и этого было бы предостаточно. Господа мужчины не в ладу с подобными испытаниями. Видишь ли, обычно боль является предупреждающим сигналом неизменно благожелательной природы о том, что в теле завелся недуг. «Эй! — значит это. — Тут что-то не в порядке! Предприми что-нибудь, не против самой боли, а против того, что кроется за ней!» Конечно, и у женщин боль может иметь подобное значение. Но ты ведь знаешь, что эти твои ежемесячные боли не таковы. Они ни о чем не предупреждают. Это просто разновидность женского страдания, и ты так и рассматривай ее, как почетный акт женской жизни. Постоянно, пока ты женщина, не дитя уже и еще не старуха, не способная ни на что, эти боли напоминают о мощном изобилии твоей крови, твоих материнских органов, которые готовит к оплодотворению добрая природа. И только, когда боли не наступают, — а за всю жизнь так было со мной только дважды, с большим перерывом, — регулы исчезают, и мы переходим в иное, благословенное состояние. Господи, боже ты мой, с каким радостным испугом я тридцать лет назад обнаружила, что они не наступили! То была ты, моя любимая девочка, и я до сих пор не забыла, как краснея шепнула об этом Тюммлеру, прильнув к нему: «Роберт, знаешь, не без того у меня… Я вроде понесла…»
— Милая мама, окажи хоть эту любезность, оставь свой диалект, сейчас он меня особенно раздражает.
— Ой, душенька, прости! Не хватало еще, чтобы и я тебя раздражала. Меньше всего я хотела этого. Но, право, в счастливом смятении я именно в таких словах призналась Тюммлеру. И потом, ведь речь идет о самых естественных вещах, не так ли? А природа и диалект, в моем ощущении, чем-то связаны между собою, как, скажем, связаны между собою природа и народ. Если я болтаю чепуху, так поправь! Ты ведь настолько меня умнее… Да, ты умна, но ты не в ладах с природой, ты наделяешь ее отвлеченными мудрствованиями, хочешь ее изобразить по-своему, в кубах и спиралях, и, если уж мы заговорили о взаимосвязях, позволь спросить тебя — нету ли связи между надменной одухотворенностью твоих отношений с природой и тем, что именно тебя она наделила этими ежемесячными страданиями?
— Ну, мама, — не удержавшись от смеха, сказала Анна, — меня ты ругаешь за мудрствования, а сама придумываешь непозволительно мудреные теории!
— Если мне удалось хоть немножко развеселить тебя, детка, то да здравствуют дурацкие теории. Но о страданиях женщины я говорила всерьез. Ты должна ликовать, гордиться тем, что тебе тридцать лет, что ты в самом соку и в расцвете. Поверь мне, я охотно примирилась бы с любою болью, только бы со мною обстояло, как с тобой. К сожалению, со мной все обстоит по-иному, все проистекает скудно, неправильно, а вот уже два месяца и вовсе нет ничего. Ах, кончился мой бабий век! В библии сказано, кажется про Сару, ну да, про Сару, что она благодаря чуду{4} в преклонном возрасте понесла, но это, вероятно, только так, благочестивая небылица, теперь такое не случается. Раз уж кончилось все исконно женское, значит, ты не женщина больше, а только пустая ее оболочка, непригодная, изношенная, отвергнутая природой. Милочка моя, поверь, это очень горько! У мужчин, думается мне, все обстоит по-другому. Я знавала таких, что и в восемьдесят лет не давали проходу ни одной женщине. И Тюммлер, твой отец, был из таких. Как часто мне приходилось смотреть на многое сквозь пальцы, даже когда он был уже подполковником! Ну, что такое пятьдесят лет для мужчины? Немножко темперамента, и ничто еще не препятствует долго изображать сердцееда, а некоторым из них особенно везет как раз у совсем молоденьких девочек. Нам, женщинам, отпущено всего-навсего тридцать пять полноценных лет. А когда тебе пятьдесят, ты изношена, ты свое отслужила, ты просто хлам для природы.
На эти жестокие слова, проникнутые набожным поклонением природе, Анна отвечала иначе, чем ответило бы большинство женщин. Она сказала:
— Мама, своими словами ты стараешься унизить достоинство стареющей женщины, которая честно выполнила жизненный долг и по велению твоей любимой природы отныне должна существовать покойно и умиротворенно, отрешившись от низменных страстей, но даря людям, близким и чужим, одну лишь возвышенную, чистую любовь. И ты завидуешь мужчинам только в том, что их половая жизнь не столь четко ограничена, как женская. Я лично весьма сомневаюсь: достойно ли это зависти? Во всяком случае, цивилизованные народы приносили изысканную дань поклонения именно матроне; они ее чтили, как мы чтим тебя, мама, любуясь твоей прелестной, достойной старостью.
— Милая, — и Розали на ходу притянула дочь к себе, — ты говоришь так красиво, так разумно, несмотря на боли. Я хотела утешить тебя, а на деле ты утешила свою глупенькую маму, разобравшись в ее недостойных горестях. Но знай, детка, — не так просто дается это отрешение, это достоинство. Трудно, иногда мучительно трудно, приходится и телу, когда оно переходит в новое состояние, ну, а когда вступает в действие еще и душа, которая знать не хочет о хваленых преимуществах матроны и всеми силами борется против угасания тела, тогда особенно трудно. Да, мучительнее всего — приспособление души к новому состоянию тела.
— Разумеется, мама, я тебя понимаю. Но, видишь ли, душа и плоть едины. Психика так же подчинена законам природы, как и физиология. Природа учитывает все, и ты не тоскуй: духовная жизнь недолго будет находиться в противоречии с естественными изменениями тела. Ты должна сказать себе, что духовная жизнь — только отражение телесной. И если твоей милой душе кажется, что приспособление к новой жизни тела — непосильная задача, — она ошибается. Скоро она убедится в том, что ей остается лишь следовать велениям тела. Ведь тело формирует душу по своему подобию, а не наоборот.
Фрейлейн фон Тюммлер не случайно говорила так. В то время, к которому относится вышеописанный разговор, у них в доме часто стало появляться новое, постороннее лицо, и от тихой наблюдательности озабоченной Анны не могли укрыться назревавшие сложные события.
Этим новым лицом был некто Кен Китон, двадцатичетырехлетний американец, молодой человек, по мнению Анны, ничем не примечательный и особым умом не блиставший. Во время войны он застрял в Дюссельдорфе, где давал уроки английского, а в иных домах за вознаграждение просто болтал с женами богатых коммерсантов на своем родном языке. Эдуард, на пасху перешедший в выпускной класс, прослышал об этом и выпросил у матери согласие несколько раз в неделю заниматься с мистером Китоном. В гимназии не скупились на латынь и греческий и, слава богу, достаточно внимания уделяли математике, но английский язык, который Эдуард считал очень важным для своей будущей профессии, там, к сожалению, не проходился. Эдуард мечтал, кое-как осилив скучные гуманитарные науки, поступить в политехникум, а там для завершения образования поехать в Англию или даже в Эльдорадо техники — Соединенные Штаты. Поэтому он был не только обрадован, но и очень благодарен матери за то, что она, уважая целеустремленную ясность его намерений, разрешила ему брать уроки английского. Занятия с Китоном очень нравились Эдуарду. Они приносили несомненную пользу; забавно было с самых азов изучать новый язык по детскому учебнику и новые слова с их головоломным правописанием и удивительным произношением, которому Кен обучал своего питомца, причем «л» получался у него еще более жестким, чем у рейнских жителей, а «р» он перекатывал по нёбу с таким преувеличенным рокотом, словно задался целью показать свой родной язык с самой смешной стороны. «Scrr-ew the top on!»[2] — говорил он. «I sllept like a top»,[3] «Alfred is a tennis play-err. His shoulders are thirty inches brr-oaoadd»[4] Эдуард был готов все полтора часа хохотать над широкоплечим теннисистом Альфредом, которого можно было прославлять, применяя неумеренное кколичество «though», и «thought», и «taught», и «tough».[5] И тем не менее Эдуард делал успехи, именно благодаря тому, что Китон, отнюдь не ученый педагог, придерживался самого легкомысленного метода обучения, то есть, беззаботно полагаясь на случай, болтал на slang[6] о всевозможных пустяках, и ученик походя усваивал непринужденный, полный юмора, во всем мире распространенный язык его родины.
Госпожа фон Тюммлер, привлеченная весельем, царившим в комнате Эдуарда, иногда заходила к молодым людям и принимала участие в их полезных забавах. Вместе с ними она от души смеялась над Альфредом, the tennis play-err, и даже находила некоторое сходство между ним и молодым учителем сына, таким же широкоплечим, как этот Альфред. У Кена были густые светлые волосы, не слишком красивое, но не лишенное приятности, открытое лицо типичного англосакса, здесь, в Дюссельдорфе, поражавшее своей оригинальностью. Превосходно сложенный, что угадывалось, несмотря на широкую, свободную одежду, он был крепок, длинноног, узкобедр. Руки у него тоже были красивые, на левой он носил довольно безвкусное кольцо. Простые, непринужденные, но не лишенные изящества манеры, потешный немецкий язык, в его устах безнадежно сходствовавший с английским, как, впрочем, и крохи итальянского и французского (он побывал во многих европейских странах), — все нравилось Розали. Но больше всего ее привлекала полная естественность Кена. Время от времени, и постепенно все чаще, она после урока стала приглашать его к ужину. Интерес Розали к Кену отчасти был вызван и молвой о большом успехе Кена у женщин. Приглядываясь к нему, она решила, что молва не лжет, хотя и не могла примириться с тем, что за едой или разговором он, слегка отрыгнув, подносил руку ко рту и говорил: «Pardon me!»[7] видимо считая это весьма учтивым, на самом же деле только привлекая ненужное внимание к своей оплошности.
За столом Кен рассказывал, что родился в небольшом городке в Восточных штатах, где его отец в поисках счастья сменил не одну профессию, был broker'ом,[8] обслуживал бензиновую колонку, а иногда даже «делал деньги» на real estate business.[9] Его сын посещал high school,[10] где, — «по европейским понятиям», как он почтительно добавлял, — вообще ничему не учили. Поэтому, чтобы не остаться полным неучем, он недолго думая махнул в Детройт, Мичиган, и поступил там в колледж, зарабатывая «на учебу» трудом рук своих в качестве повара, официанта, а не то судомойки или привратника. Когда госпожа фон Тюммлер спросила: «Как же при всем этом вам удалось сохранить белые, можно сказать, барские руки», — он отвечал, что, делая черную работу, всегда носил перчатки — пусть полуголый или в лучшем случае в спортивной рубашке без рукавов, но в перчатках — обязательно! За океаном так поступают все. Даже рабочие на стройках хотят, чтобы руки у них были как у клерков и украшены кольцами. Розали похвалила этот обычай, но Кен возразил:
— Обычай? Чересчур хорошее слово для данного случая! Народным обычаем в европейском понимании (вместо «европейский» он говорил «континентальный») это не назовешь. То ли дело, например, старинный немецкий обычай — «розга жизни». На пасху парни стегают девушек и скотину свежими березовыми ветками, вербными прутьями, «приперчивают», «щекочут», как они говорят — для здоровья, для плодовитости. Вот это можно назвать обычаем, и это мне нравится. «Пасхальная закуска» — вот как иначе называется этот обычай, это весеннее «приперчивание».
Розали и ее дети понятия не имели о «пасхальной закуске» и удивлялись осведомленности Кена в народной жизни. Эдуард посмеялся над «розгой жизни», Анна состроила брезгливую гримаску; восхищалась одна Розали, в полном единодушии с гостем. Кен заметил, что это, конечно, похлеще, чем перчатки во время работы, но что в Америке ничего подобного не сыщешь, хотя бы оттого, что там нет деревень и крестьяне там — не крестьяне, а такие же предприимчивые дельцы, как все прочие, и к обычаям нисколько не привержены. Вообще Кен, будучи до мозга костей американцем, проявлял весьма сомнительную привязанность к своей великой родине. «Не didn't care for America».[11] Он ни во что ее не ставил, находил просто отвратительной эту погоню за долларами, хождение в церковь, беспримерное ханжество, колоссальную посредственность, а главное — отсутствие исторической атмосферы. Разумеется, у Америки есть история, но это не «history»,[12] а так, просто коротенькая и плоская «story».[13] Конечно, на его родине, кроме бескрайних пустынь, есть и красивые, величественные ландшафты, но за ними «ничего не стоит», тогда как в Европе за всем стоит так много, в особенности за европейскими городами с их уходящей в даль веков исторической перспективой. Американские города — «he didn't care for them». Возведенные вчера, сегодня они без всякого ущерба могли бы исчезнуть с лица земли. Маленькие — это унылое захолустье, один в точности похож на другой, а большие — нагромождение вздыбленных свирепых чудовищ, где музеи ломятся от скупленных на «континенте» памятников старины. Скупать, быть может, лучше, чем воровать, но не намного лучше, потому что все, относящееся к тринадцатому — пятнадцатому векам, здесь не к месту, все равно что уворовано.
Тюммлеры смеялись над непочтительной болтовней Кена, журили его, но он уверял, что именно почтительное преклонение перед исторической атмосферой и перспективой заставляют его так говорить. Ранние исторические даты — одиннадцатый — семнадцатый век по p. X. — его страсть, его «hobby».[14] По истории он был одним из лучших учеников в колледже — по истории и по «athletics».[15] Его уже давно тянуло в Европу, где старина у себя дома, и он бы, несомненно, если бы не было войны, пересек океан по собственному почину, как матрос, как стюард, лишь бы подышать воздухом истории. Но война началась как по заказу; в 1917 он сразу же поступил добровольцем в «army»,[16] и все время «trainings»[17] боялся, как бы война не закончилась раньше, чем его переправят «на эту сторону». Перед самым концом представления, перед шапочным разбором, его посадили на дрянное транспортное судно и доставили во Францию, где он действительно побывал в бою под Компьеном и даже получил довольно тяжелое ранение, так что пришлось несколько недель проваляться в госпитале. Он был ранен в почки, и теперь у него «работает» только одна, но ему вполне достаточно и одной. Так или иначе, смеясь говорил Кен, теперь он нечто вроде инвалида и даже получает небольшую пенсию, которой дорожит больше, чем простреленной почкой.
На инвалида он нисколько не похож, заметила госпожа фон Тюммлер, и он подхватил: «Слава богу, нет, only a little cash».[18]
Выписавшись из госпиталя, он ушел с военной службы, был «honorably discharged»,[19] получил «Медаль за отвагу» и остался на неопределенное время в Европе, где находит все изумительным и упивается столь любезной ему стариной. Кафедральные соборы Франции, итальянские палаццо и кампанильи, живописные ландшафты Швейцарии, такие уголки на Рейне, как «скала на Рейне», разве все это не most delightful indeed![20] И повсюду вино! Во французских бистро, в итальянских тратториях и в уютных погребках Швейцарии и Германии, во всех этих славных заведениях, именующихся ресторанами «Легкого коня», или «Вола», или «Под вечерней звездой»! Да разве все это встретишь там, за океаном? Там вообще нету вина, одни drinks[21] — виски и ром, и ни намека на кружку освежающего тирольского пива, на смородиновую настойку, которую потягиваешь, сидя за дубовым столом средневековой харчевни или в беседке, увитой жимолостью! Good heavens![22] В Америке они вообще не умеют жить!
Германия! Это его любимая страна, хотя он толком ее не знает, поблуждал только вокруг Боденского озера да насмотрелся Прирейнского края, где живут эти милые, веселые люди, которые так aimable,[23] в особенности когда бывают слегка под мухой. Почтенные старые города — Трир, Аахен, Кобленц и «священный» Кельн, — попробуйте-ка назовите «священным» какой-нибудь американский город! Holy[24] Канзас-Сити, — ха-ха! Золотой клад, охраняемый русалками с Миссури-ривер{5} — ха-ха-ха! Pardon me! О Дюссельдорфе, о его пространной истории со времен Меровингов{6} он знал больше, чем Розали и ее дети вместе взятые, и как профессор рассуждал о мажордоме Пипине Коротком{7}, о Барбароссе{8}, построившем императорский замок в Риндхузе, о соборе в Кайзерсверте{9}, где был ребенком коронован Генрих IV, об Альберте фон Берг{10}, о курфюрсте Яне Виллеме{11} и еще о многом другом.
Розали заметила, что он мог бы преподавать историю с неменьшим успехом, чем английский. «На историю спрос не велик», — возразил Кен. О нет, напротив, последовал ответ. Она сама, например, обнаружив, как мало знает, с удовольствием стала бы у него учиться. Он был бы «а bit fainthearted»,[25] сознался Кен. Тут Розали высказала свою сокровенную мысль: странно и даже печально, но так уж повелось, что молодость и старость друг друга чуждаются и друг перед другом робеют. Молодость полагает, что старость, столь почтенная, не способна понимать бурные страсти. А старость, в глубине души восхищаясь молодостью, почему-то считает своим долгом скрывать это восхищение за фальшивой насмешкой и снисходительностью.
Кен весело и одобрительно смеялся, Эдуард заметил, что мама сегодня говорит, как по писанному, Анна же особенно пытливо смотрела на мать. Та бывала очень оживлена в присутствии мистера Китона, а иногда, к сожалению, даже немного жеманна. Она стала часто приглашать его и глядела на него с материнской умиленностью и тогда, когда он, прикрыв рот, говорил свое «pardon me!», что казалось Анне не совсем приличным. Анна чувствовала себя довольно неуютно в присутствии этого молодого человека и не находила в нем ничего замечательного, несмотря на его страсть к Европе, увлеченность средневековьем и основательное знакомство со старинными кабачками Дюссельдорфа. Слишком часто, с нервной озабоченностью, осведомлялась госпожа фон Тюммлер перёд приходом мистера Китона, не покраснел ли ее нос. Он бывал красен, хотя Анна это добросовестно отрицала. Но если даже он не был красен до появления Кена, то в присутствии этого молокососа он тотчас же становился пунцовым. Но тогда ее мать, возбужденная беседой, обычно забывала об этом досадном обстоятельстве.
Анна не ошибалась: Розали проникалась все большей нежностью к юному наставнику сына, не противясь внезапно настигшему ее чувству. То ли она и вправду не замечала, что с нею делается, то ли сознательно не заботилась о сохранении в тайне своей поздней страсти. Казалось, что все приметы, по которым ее женская пытливость сразу же угадала бы чужую влюбленность: воркующий, восхищенный смешок, когда она слушала болтовню Кена, эта вспышка и потупленность нежных глаз, — в ее особом случае ей не казались уликами. Или же она так безмерно гордилась овладевшим ею чувством, что считала недостойной трусливую скрытность?
Для измученной Анны положение вещей стало бесспорно ясным в тот по-летнему теплый сентябрьский вечер, когда Кен остался к ужину и Эдуард, после супа, попросил разрешения снять куртку. Молодым людям было предложено не церемониться, и Кен последовал примеру своего ученика; нимало не смущаясь тем, что на Эдуарде как-никак была цветная рубашка с длинными рукавами и манжетами, Кен запросто скинул куртку и остался в спортивной безрукавке, так что все могли любоваться его юношески сильными, мускулистыми, белыми руками, наглядно подтверждавшими, что в колледже он был на хорошем счету не только по истории, но и по спорту. Видимо, Кен был далек от того, чтобы заметить, как потрясло это зрелище хозяйку дома, да и Эдуард не обратил внимания на мать. Но Анна со смешанным чувством стыда и сожаления видела все. Лихорадочно болтая и смеясь, Розали попеременно становилась то пугающе бледной, то заливалась краской, и ее уклончивый взгляд вновь и вновь неотвратимо возвращался к этим рукам и самозабвенно задерживался на них с выражением глубокой и печальной страсти.
Возмущенная безмятежным простодушием Кена, в которое, впрочем, не слишком верила, Анна, как только представился удобный случай, указала на открытую стеклянную дверь и, сославшись на вечернюю свежесть, проникающую из сада, предложила молодым людям, во избежание простуды, снова надеть куртки. Но госпожа фон Тюммлер, едва дождавшись конца ужина, пожаловалась на мигрень и, внезапно простившись с гостем, удалилась в свою спальню. Там, бросившись на кушетку во власти ужаса и наслаждения, она призналась себе в постыдной своей страсти.
— Боже милостивый, я люблю его, да, я люблю его, как никогда не любила! Может ли это быть? Ведь по законам природы мне положено тихо, смирившись, доживать свой век, стать внушающей уважение почтенной матроной. Разве не смешно в мои годы изнемогать от сладострастия, как изнемогаю я, когда вижу его, вижу его прекрасные руки? Они обнимают меня в моих ужасных, в моих восхитительных мечтах. Почему я испытала это мучительно-сладостное содрогание при виде его сильной груди, обрисовавшейся под тонкой тканью рубашки? Может быть, я просто распутная старуха? Нет, только не распутная, не бесстыдная! Ведь я стыжусь его, стыжусь его молодости, не знаю, как вести себя с ним, как смотреть ему в глаза, в эти ясные, приветливые, мальчишеские глаза, неспособные даже разглядеть мою страсть. И все же он, он сам, не подозревая ни о чем, «исхлестал», «приперчил», избил меня своей «розгой жизни», преподнес мне «пасхальную закуску». Зачем только так молодо, с таким увлечением рассказывал он об этой «розге жизни»? Теперь, при одной мысли о ее жгучем, возбуждающем прикосновении, бесстыдное наслаждение затопляет, захлестывает самые сокровенные тайники моего существа. Я хочу его, как меня хотел Тюммлер, когда я уступила его желанию, стала его женой, он был такой видный, и мы предавались наслаждению, когда он этого желал. На сей раз желание исходит от меня. Он пришелся по вкусу моей душе, приглянулся, как девушка мужчине. Это — возраст. Моя старость и его молодость. Молодость желанна, как женщина, и по-мужски вожделеет к ней старость, не уверенная в себе, не чая радости, робея и стыдясь своей непригодности, своей ущербленности. Ах, сколько горя у меня впереди! Как смею я надеяться, что он не оттолкнет мою страсть, ответит на нее, как я ответила Тюммлеру? Ведь он не девушка, о нет, стоит только вспомнить его сильные руки. Он молодой мужчина и сам может выбирать, желать женщин, и, говорят, они ему не отказывают ни в чем. Здесь в городе женщин сколько угодно! Стоит мне подумать об этом, и сердце сжимается от ревности. Он дает уроки Луизе Фингстен, что живет на Пемпельфортерштрассе, занимается с Амелией Лютценкирхен, женой этого ленивого толстого фабриканта, страдающего одышкой, который делает кастрюли; Луиза — длинная дылда, у нее редкие волосы, но ей всего тридцать восемь лет, и она умеет строить такие сладкие глазки. Амелия всего лишь немногим старше ее, и она красива. Да, к сожалению, она красива, и толстяк дает ей полную свободу. Возможно ли, что они лежат в его объятиях обе, или хотя бы одна из них, должно быть Амелия, а может быть, и тощая Луиза! Его руки обнимают их, касаются их грудей, его руки, ласки которых я жажду с неистовой страстью, недоступной их мелким душонкам! Его горячее дыхание, его губы, его руки касаются их тел… Мои зубы, мои почти молодые зубы, скрежещут, все скрежещет во мне, когда я думаю об этом. А я сложена лучше, мое тело красивее, более достойно его ласк, его рук! А какую нежность уготовила бы я моему возлюбленному, как самозабвенно принадлежала бы ему! Но они молоды, они живые источники, бьющие ключом, а я — иссякший родник, я потеряла право даже на ревность — ревность мучительную, пожирающую, скрежещущую! Недаром на «гарден-парти» у этих Рольвагенов, где мы были вместе, я своими глазами, которые, увы, все видят, уловила, как он обменялся с Амелией взглядом и улыбкой, почти несомненно говорившими о тайне. Уже и тогда мое сердце сжалось, но я не поняла почему, не подумала, что это ревность, что я способна еще ревновать! Но теперь я поняла, я узнала, что могу ревновать, и не откажусь от этой муки, ликуя приму ее, хотя она так странно противоречит угасанию моего бедного тела. Анна говорит, что духовная жизнь — только отражение телесной, что душа подчинена велениям тела. Анна знает много, Анна не знает ничего… Нет, этого сказать нельзя. Она страдала, она безрассудно любила и стыдилась своей любви. Кое-что она знает. Но в том, что душа перестраивается вместе с телом на мирный и благостный лад, в этом она ошибается. Она не верит в чудеса, не знает, что иногда природа позволяет душе расцвести, когда уже поздно, слишком поздно, — расцвести любовью, желанием, ревностью, как случилось со мной. Сара, прародительница Сара, подслушав за дверью хижины, что ей предстоит стать матерью, рассмеялась. За это господь разгневался на нее и сказал: «Почто смеется дщерь моя Сара?» Нет, я не рассмеялась бы. Я хочу верить в чудо, свершившееся в моей душе, хочу веровать в чудотворную природу и преклоняться перед ней за горькую и постыдную запоздалую весну, за это щедро дарованное мне испытание.
Так в тот вечер сама с собой говорила Розали. Под утро она наконец забылась тяжелым сном, а после пробуждения первой ее мыслью была все та же благословенная, жестокая страсть. Стареющую женщину умиляла сила жизни, умилял мучительно сладостный расцвет ее чувства. Особенно набожной она не была и не стала впутывать в игру господа бога. Набожное свое поклонение она всегда дарила природе. Она чтила ее и теперь, когда природа действовала словно наперекор самой себе. Да, этот поздний расцвет души противоречил законам природы и светской благопристойности. Несмотря на то что для Розали ее чувство было счастьем, о нем приходилось молчать, скрывать его от людей, даже от дочери, с которой она всегда делилась своими чувствами, но прежде всего от него, от любимого, чтобы он не догадался, не смел догадываться ни о чем. Иначе она не посмеет поднять на него глаза, смотреть на него.
Так в ее общение с Кеном вкралось нечто глубоко неуместное, что-то от робкого смирения, которое гордая своим чувством Розали не сумела в себе преодолеть. На тех, кто это замечал, то есть на Анну, это действовало еще более угнетающе, чем прежняя преувеличенно веселая манера матери держать себя.
В конце концов прозрел и Эдуард. Бывали минуты, когда брат с сестрой, нагнувшись над тарелками, молча кусали губы, а Кен в замешательстве от непонятного молчания вопросительно поглядывал по сторонам. Однажды Эдуард потребовал объяснения от сестры.
— Что с мамой, — спросил он Анну, — Кен разонравился ей? — И так как сестра промолчала, скривил рот и добавил: — Или слишком уж понравился?
— Это что еще за вздорные мысли? — осадила его сестра. — Мальчики не должны интересоваться такими вещами. Наберись благоприличия и оставь свои мудрые наблюдения при себе! — И немного погодя прибавила: — Ты мог бы более почтительно поразмыслить над тем, что мать, как все женщины в известном возрасте, чувствует себя неважно, переживает тяжелую пору.
— Весьма для меня поучительно и ново! — иронически возразил ученик старшего класса. — Но не слишком ли общо? Мать мучается по какому-то особому, личному поводу; да и ты, моя высокочтимая сестрица, мучаешься не меньше. Обо мне, глупом мальчишке, говорить, конечно, не стоит. Но, возможно, этот глупый мальчишка окажется полезным, подняв вопрос об удалении своего не в меру привлекательного учителя. Я мог бы сказать матери, что достаточно преуспел с Китоном, и тот снова, еще раз, был бы «honorably discharged».
— Что ж, попытайся, мой милый.
И он попытался.
— Мама, — сказал он, — я думаю, мы можем покончить с моими английскими уроками и расходами, в которые я тебя ввел. Благодаря твоей щедрости и помощи мистера Китона заложен хороший фундамент, и теперь я могу сам заниматься и читать по-английски. Впрочем, никто еще не изучил чужой язык дома, вне той страны, где все говорят на нем и где приходится им одним обходиться. Вот когда я побываю в Америке, то после той подготовки, которую ты мне дала, я без особых усилий полностью его усвою. Теперь, знаешь ли, приближаются экзамены на аттестат зрелости, там английского языка с меня не спросят. Мне следует подумать, как бы не провалиться по древним языкам. Надо сосредоточиться на чем-нибудь одном. Самое время поблагодарить мистера Китона за его труды и с ним расстаться друзьями!
— Но, Эдуард, — быстро и даже с некоторым пылом откликнулась госпожа фон Тюммлер. — То, что ты наговорил, так для меня неожиданно! Не могу сказать, чтобы я это одобрила. Разумеется, очень трогательно и внимательно с твоей стороны избавить меня от лишних расходов. Но это — полезный расход, и для будущности, о которой ты мечтаешь, даже очень важный. За нами дело не станет. Мы не откажем тебе в образовании, как не отказывали в нем Анне, когда она училась в академии. Не понимаю, почему, делая такие успехи в английском, ты хочешь остановиться на полпути. Не сочти за обиду, мальчик, но можно подумать, что ты плохо ценишь мою готовность помочь тебе. Твой аттестат зрелости — вещь серьезная, и я понимаю, что тебе придется основательно подзубрить древние языки, которые и без того набили тебе оскомину. Но английские уроки два-три раза в неделю, — ты ведь не станешь отрицать, Эдуард, что они скорее являются отдыхом, развлечением, чем дополнительной нагрузкой. Кроме того, позволь мне коснуться чисто человеческих отношений. Кен, как его все зовут, словом, мистер Китон, с давних пор уже находится с нами в отношениях, не позволяющих сказать ему: «В вас больше не нуждаются», и просто указать ему на дверь: мавр, мол, сделал свое дело, мавр может уходить! Он стал другом нашего дома, в какой-то мере даже членом нашей семьи, и с полным правом мог бы оскорбиться тем, что его хотят спровадить. И всем нам недоставало бы его. Особенно Анна, я думаю, расстроилась бы, если бы он больше не приходил и не оживлял наши ужины своим интимным знанием истории Дюссельдорфа, рассказами о споре из-за Юлих-Клевского наследства{12} и о курфюрсте Яне Виллеме, памятник которому стоит на рыночной площади. Да и тебе, Эдуард, недоставало бы его, и даже мне. Словом, мальчик, твое предложение сделано от чистого сердца, с добрыми намерениями, но я не вижу ни необходимости, ни даже возможности пойти ему навстречу. Пусть лучше все остается по-старому.
— Как хочешь, мама, — сказал Эдуард и сообщил о своей неудаче сестре.
— Так я и думала, мой мальчик, — заметила Анна. — По существу мама правильно обрисовала положение, у меня возникли те же сомнения, что и у нее, когда ты сообщил мне о своем плане. Во всяком случае, она права в том, что Китон приятный собеседник и мы все сожалели бы о его отсутствии. Ладно, продолжай с ним заниматься по-прежнему.
Эдуард посмотрел сестре в лицо: оно было невозмутимо. Он пожал плечами и ушел. Кен как раз ожидал Эдуарда в его комнате, прочитал вместе с ним несколько страниц из Эмерсона{13} или Маколея, а затем американскую mystery story,[26] давшую материал для болтовни еще на полчаса до конца урока, а потом остался к ужину, не дожидаясь особого приглашения, как повелось уже давно. После урока он был неизменным участником семейных трапез, и Розали в эти дни омраченного стыдом недозволенного счастья привыкла совещаться с домоправительницей Бабеттой о меню, заказывая всевозможные лакомые блюда и заботливо выбирая бутылку выдержанного рюдесгеймера или пельтцера, за которым после ужина все вместе коротали еще часок-другой в гостиной. Вопреки своим привычкам, Розали не отказывалась от вина, надеясь почерпнуть в нем отвагу без страха смотреть в глаза любимому. Но иногда вино лишь утомляло и удручало ее. Тогда в ней боролись два желания, и в зависимости от того, какое побеждало, она либо оставалась, чтобы страдать подле Кена, либо удалялась, чтобы поплакать в одиночестве.
В октябре, когда начался светский сезон, она встречалась с Кеном не только у себя дома, но и в обществе, у Фингстенов на Пемпельфортерштрассе, у Лютценкирхен, у инженера Рольвагена. Она искала Кена и в то же время никогда не подсаживалась к группе гостей, завладевшей его персоной, и, механически болтая в другом кружке, ждала, когда он подойдет ее приветствовать. Она всегда знала, где он сейчас находится, различала его голос в многоголосой толпе и отчаянно страдала, когда, как ей казалось, Кен обменивался многозначительным взглядом сообщника с Амелией Лютценкирхен или Луизой Фингстен. Хотя, кроме отличного сложения, полной непринужденности и располагающего дружелюбия, молодой человек ничем особенно не отличался, его охотно принимали и ласкали в обществе, и он снисходительно-весело пользовался слабостью немцев ко всему иностранному, прекрасно понимая, что его немецкое произношение и ребяческие обороты речи возбуждают общие симпатии. Впрочем, с ним охотно говорили и по-английски. Одевался Кен как ему заблагорассудится. Он не располагал никаким «evening dress».[27] Но светские нравы за последние годы стали более свободными, и смокинг как в ложе театра, так и на вечерних приемах уже казался чопорным пережитком. Так что даже в тех случаях, когда большинство господ было в смокингах, Кена радушно принимали в его обычном уличном костюме — коричневых брюках, коричневых башмаках и сером вязаном свитере. В таком виде он посещал салоны, непринужденно ухаживал за дамами, и не только за теми, с которыми занимался английским, но и за теми, которые могли бы стать его ученицами. За столом он, согласно обычаям своей родины, сперва резал мясо на мелкие кусочки, затем клал нож наискось на край тарелки, небрежно опускал левую руку и, орудуя правой, поглощал то, что наготовил. Он не изменял этой привычке потому, что видел, что гости и хозяева наблюдают за ним с большим интересом.
С Розали он охотно болтал в сторонке, с глазу на глаз, не только потому, что она принадлежала к числу его хлебодателей и «боссов», — его просто искренне влекло к ней. В то время как холодная интеллигентность и духовные запросы ее дочери внушали ему страх, женственная нежность госпожи фон Тюммлер его привлекала, и, не разбираясь в подлинном ее значении (это не приходило Кену в голову), он просто радовался ласковой теплоте, какой окружала его эта женщина. Ему было с ней хорошо, и он нимало не заботился о причинах, вызывавших у Розали внезапную напряженность, смятение и замешательство, считая все это проявлением европейской нервозности, а стало быть, восхитительным. Страдания, казалось, красили Розали. Она расцвела и похорошела, весь ее облик стал более юным. Окружающим это бросалось в глаза, и ей частенько делали комплименты. Розали и раньше выглядела моложаво, но сейчас в ее красивых карих глазах появился горячий, слегка лихорадочный блеск, придававший ей новое очарование. Ее округлившееся, порозовевшее лицо приобрело удивительную подвижность, позволявшую ей во время беседы, как правило непринужденно веселой, скрывать за смехом горестные треволнения сердца. На этих вечерах все много и громко смеялись, в щедром единодушии налегая на вина и пунш; так что некоторая эксцентричность Розали здесь, среди всеобщего веселья и непринужденности, проходила вполне незамеченной. Но подлинное счастье испытывала Розали, когда, случалось, одна из дам говорила ей в присутствии Кена:
— Милочка, вы изумительно хороши сегодня! Скажите, как вам открылся источник молодости? Вы выглядите лучше, чем двадцатилетние барышни!
И когда вдобавок любимый подтверждал: «Да, right you are![28] Фрау фон Тюммлер is perfectly delightful tonight!»[29] — она смеялась, и горячий ее румянец можно было объяснить радостью по поводу столь лестных признаний. Она не смотрела на него, но думала о его руках, и вновь поток ужасного, сладостно-жгучего наслаждения затоплял, захлестывал самые сокровенные тайники ее существа, — теперь это случалось с ней часто и, вероятно, очевидно для всех, если ее находили обворожительной, если ее находили молодой.
Однажды вечером, вернувшись из гостей, Розали изменила своему намерению — скрыть от дочери-подруги недозволенную, печальную, но чудесную тайну своего сердца. Непреодолимая потребность любовного, понимающего участия заставила ее нарушить данное себе слово и довериться умной Анне.
После полуночи дамы вернулись домой в такси. Шел мокрый снег. Розали знобило.
— Милая детка, — сказала она. — Позволь мне еще полчасика побыть с тобой, в твоей уютной спальне. Меня знобит, голова пылает, и мне, боюсь, сейчас не удастся заснуть. Если бы ты на прощанье приготовила нам по чашке чаю, это было бы недурно. Пунш этих Рольвагенов ударяет в голову. Рольваген хоть и приготовляет его собственноручно, но как-то бездарно. Он доливает в него мозель и сомнительный яблочный шабо, и вдобавок еще немецкое шампанское. Завтра у всех нас снова будет отчаянная мигрень, злейшее «hang-over»[30] к тебе это не относится, ты так благоразумна, что почти не пьешь. А я забываюсь и за болтовней не замечаю, что мой бокал все время наполняют, — мне все кажется, что это еще первый бокал. Да, приготовь нам по чашке чаю, это будет очень кстати. Чай возбуждает, но в то же время успокаивает, и стакан чаю, вовремя выпитый, предохраняет от простуды. У Рольвагенов было слишком жарко натоплено; мне по крайней мере так показалось. А на дворе ненастье… Может быть, наконец дает о себе знать весна? Сегодня утром, в парке, мне, право же, почудилось ее дыхание. Но твоей сумасбродной маме это чудится, едва только день начинает прибавляться. Ты хорошо сделала, что включила электрический камин, здесь уже недостаточно топят. Милая моя девочка, ты умеешь создать уютную обстановку для задушевной беседы перед сном. Видишь ли, Анна, я давно хотела поговорить с тобой откровенно — да, да, ты права, ты никогда не лишала меня этой возможности. Но бывают такие обстоятельства, детка, о которых можно говорить и которые можно обсуждать только в редкие минуты, когда у человека развязывается язык…
— Какие обстоятельства, мама? Рома у нас нет. Но не хочешь ли чаю с лимоном?
— Сердечные обстоятельства, детка, обстоятельства, касающиеся природы, чудотворной, загадочной, всесильной природы, которая иногда поступает с нами удивительно противоречиво и даже своенравно. Тебе это тоже знакомо… Милая Анна, последнее время я часто думаю о твоем, прости, что касаюсь этого, о твоем увлечении Брюннером, о том, как ты пришла ко мне пожаловаться на свое горе. Тот вечер чем-то был похож на сегодняшний. Негодуя на себя, ты даже назвала свое горе позором, из-за постыдного разногласия, в которое вступил твой разум с твоим сердцем, или, вернее, если позволишь так выразиться, — с твоей чувственностью.
— Очень разумная поправка, мама. Ссылаться на сердце — сентиментальное надувательство. Не следует называть сердцем совсем другое. Наше сердце всегда говорит лишь с соизволения разума.
— Ты вправе так говорить. Ведь ты всегда утверждала, что природа устанавливает гармонию между душой и телом. Но не станешь же ты отрицать, что в ту пору между твоими желаниями и разумом гармонии не было. Ты была совсем молоденькой, и тебе не надо было стыдиться природы, ты стыдилась только себя, своего разума, его приговора, который говорил тебе, что это желание унизительно. Но разум не смог преодолеть желания. В этом и заключался твой стыд и заключалось твое горе. Ты ведь горда, моя Анна, ты очень горда. Но ты не знаешь, что существует и гордость чувством, гордость, отрицающая свою вину, не желающая считаться с осуждением разума. Этого ты не хочешь знать, и тут мы с тобой расходимся. Я живу сердцем, и если природе угодно будет даровать моему сердцу неподобающие переживания, даже противоречащие ее законам, мне будет, конечно, мучительно стыдно из-за моей старости и непригодности, но это ничуть не умалит моего благоговейного преклонения перед природой, ее животворящими силами.
— Милая мама, — возразила Анна. — Прежде всего я должна отклонить почести, которые ты воздаешь моему благоразумию и моей гордости. Она бы плачевно капитулировала перед тем, что ты столь поэтически назвала моим сердцем, если б не вмешалась милосердная судьба. Когда я подумаю о том, куда привело бы меня сердце, я благодарю господа за то, что он не дал ему воли. Я меньше чем кто-либо вправе бросить камень. Но речь не обо мне, а о тебе, и отклонить честь быть твоей наперсницей я не согласна. Не правда ли, ты хочешь мне в чем-то признаться? Но ты говоришь так неясно, одними общими местами и намеками… Пожалуйста, помоги мне понять, к чему ты клонишь.
— Что бы ты сказала, милая Анна, если бы твою мать на старости лет захватила пылкая страсть, подобающая только цветущей, юной, а никак не увядающей женщине?
— Почему ты прибегаешь к условному обороту речи? Так, надо думать, и обстоит с тобой. Ты полюбила?
— Как ты это сказала, моя родная? Как свободно, как смело и открыто произнесла ты это слово. Я так долго таила его вместе с горьким счастьем и стыдом, так рьяно оберегала его от всего света, и от тебя тоже, что ты, наверно, сейчас как с облаков свалилась, с облаков, где жила твоя достойная мать-матрона. Да, я люблю, люблю горячо, алчно, блаженно, отчаянно, как любила ты. Мое чувство считается с благоразумием так же мало, как некогда с ним считалось твое. Хотя я и горжусь весенним расцветом, который мне даровала природа, я все же страдаю, как страдала ты… Потому-то меня и потянуло рассказать тебе все, все…
— Милая, хорошая мама, скажи мне все, скажи не стесняясь. Тебе трудно начать, так позволь помочь тебе вопросом? Кто он?
— Для тебя это будет потрясающей неожиданностью, детка. Это — юный друг нашего дома, учитель твоего брата.
— Кен Китон?
— Да.
— Он… Ну хорошо… Не опасайся, мама, я не разражусь восклицаниями вроде «непостижимо, неслыханно», — хотя большинство людей поступает именно так. Глупо и дешево обзывать непостижимым чувство, которого не испытываешь сама. И все же, как ни боюсь я ранить тебя — припиши все это только моему сочувствию… Ты все время говоришь о том, что недостойна своего чувства, а спросила ли ты себя, он-то, достоин ли он твоего чувства, этот юнец?
— Он? Достоин ли он? Я не понимаю тебя, Анна! Ведь я люблю его. Кен лучше, прекрасней, мужественней всех, кого я видела в жизни…
— И поэтому ты его любишь? Не попытаться ли нам правильнее расставить следствие и причину? Не потому ли он кажется тебе столь прекрасным, что ты… что ты его любишь?
— О милая, ты разделяешь неразделимое. Здесь, в моем сердце, его очарованье и моя любовь живут рядом!
— Но ты так страдаешь, милая мама, а я так искренне хочу тебе помочь. Не можешь ли ты попытаться на одно мгновение, только на одно мгновение, — возможно, и этого было бы достаточно, чтобы тебя исцелить, — посмотреть на него не в ослепительном свете твоей любви, а при будничном свете дня; увидеть его таким, каков он есть. Хорошо, в угоду тебе, соглашусь, что он привлекательный мальчик, но, право же, не заслуживающий таких терзаний и таких страстей…
— Я знаю, Анна, ты желаешь мне добра, у тебя лучшие намерения, но ты должна помочь мне не ценой того, чтобы чернить его и быть несправедливой. А ты несправедлива со своим «дневным светом» — это такой пристрастный, неверный свет. Ты говоришь — он мил, допускаешь мне в угоду, что он привлекателен, желая этим сказать, что он — посредственность, что ничего выдающегося в нем нет. А на самом деле он незаурядный, замечательный человек. Сердце сжимается, когда подумаешь о его тяжелой жизни. Вспомни о его скромном происхождении, о железной настойчивости, которую он проявил, чтобы попасть в колледж, где превзошел всех студентов по истории и гимнастике. Вспомни, как он встал под знамя простым солдатом и показал себя героем, получил отличие, был «honorably discharged».
— Прости, но такое отличие получает любой солдат, за кем не числится никакой провинности.
— Любой. Опять ты играешь на его посредственности, хочешь намекнуть, что он всего лишь простоватый, заурядный юнец. Но ты забываешь, что и простота бывает достойной и победительной, забываешь, что в простоте Кена отражается великий дух его демократической, далекой родины…
— Он не любит своей родины.
— Тем не менее он истый ее сын, и если он любит Европу, ее исторические перспективы и народные обычаи, это говорит в его пользу, возвышает его над серым большинством. За свою страну он пролил кровь. Ты говоришь «honorably discharged» бывает всякий. Но всякого ли награждают орденом за храбрость — «Purple heart»[31] — в знак того, что он доблестно противостоял врагу и получил ранение, тяжелое ранение?
— Ах, милая мама, ведь война одного милует, другого нет. Один погибает, другой остается жив, независимо от храбрости того или другого. Когда тебе оторвет ногу или когда тебе прострелят почки, — орден является утешением, но не признаком особой отваги, в большинстве случаев, конечно.
— Так или иначе, он пожертвовал свою почку на алтарь отечества!
— Да, ему повезло. И слава богу, что на худой конец можно обойтись одной почкой. Но именно: на худой конец. Все же это дефект, телесный недостаток, мысль о котором до некоторой степени умаляет его совершенство, его великолепную юность, и, глядя на него при свете дня, не следует забывать, что, несмотря на свое хорошее или, скажем, нормальное сложение, он не безупречен, — он инвалид, уже неполноценный человек.
— Великий боже! Кен не безупречен! Кен неполноценный человек! Бедное дитя мое, он безупречен до совершенства, он запросто, играя, обходится без одной почки, и это не только его мнение, это общее мнение, и прежде всего женщин, которые бегают за ним и с которыми он, конечно, развлекается. Милая, добрая, умная Анна! Разве ты не догадываешься, зачем, собственно, я затеяла этот разговор? Я хотела узнать, спросить у тебя, и, надеюсь, ты скажешь мне откровенно: не заметила ли ты, что он находится в связи с Амелией Лютценкирхен, или с Луизой Фингстен, или с ними обеими? Уверяю тебя, Кена достанет на это, несмотря на его неполноценность! Подозрения измучили меня, я перестала понимать и надеялась, что ты, которая умеешь видеть вещи хладнокровно, в обычном, так сказать, свете дня, скажешь мне чистую правду.
— Бедная моя мамочка! Как ты страдаешь, как мучаешься! Мне больно за тебя. Но нет, мне кажется, нет! Правда, я мало знаю его образ жизни и не испытываю потребности вникать в него, но я не думаю. Во всяком случае, мне не приходилось слышать о подобных отношениях между ним и госпожой Фингстен или госпожой Лютценкирхен.
— Надеюсь, моя добрая девочка, ты говоришь это не в утешение мне, не с тем, чтобы приложить бальзам к моим ранам, не из сожаления. Жалость, — хотя, быть может, я и ищу ее у тебя, — здесь неуместна… В стыде и в муках — мое счастье. Я горда ущербной весной своей души, и если тебе показалось, что я молю о жалости, то это не так.
— Нет, мама, мне не кажется, что ты молишь о жалости. Но в подобных случаях гордость и счастье тесно сплетаются со страданием. Они нерасторжимы. И если даже ты не ищешь жалости и сострадания, — все равно ты вызываешь их у тех, кто тебя любит, кто хочет, чтобы ты сама себя пожалела и освободилась от этого наваждения… Прости меня за резкость, но я не забочусь о словах, я забочусь о тебе, родная, и не только после твоего признания, за которое я тебе так благодарна, не только с сегодняшнего дня. Ты с большим самообладанием скрывала свою тайну, но что она — столь необычная и странная — существует и уже несколько месяцев терзает тебя, это не осталось незамеченным для тех, кто тебя любит, кто в полной растерянности наблюдал за тобой…
— Кого ты подразумеваешь, говоря о тех, кто меня любит?
— Я говорю о себе. За последнее время ты очень переменилась, мама! То есть не переменилась — это не то слово, — ведь ты осталась все той же, и, говоря «переменилась», я имею в виду не твой внешний облик, его омоложение, но и это не то слово: ты, разумеется, не могла на самом деле так уж помолодеть. Но по временам, минутами, моему взору чудилось некое фантасмагорическое видение, словно в твоем милом, почтенном образе внезапно вырисовались черты той мамы, которую я знала, когда была подростком, — нет, больше того — подчас мне казалось, что я вижу тебя такой, какой никогда не видела. Так, вероятно, ты должна была выглядеть, когда была молодой девушкой. И этот обман зрения, если это обман зрения, — но нет, это не обман! — казалось, должен был меня только радовать, веселить мое сердце, ведь правда? Но мне не было весело, напротив, — мне тяжело становилось на сердце. И именно в те мгновения, когда ты молодела на моих глазах, мне было особенно жаль тебя! Потому что одновременно с этим я видела, что ты страдаешь, видела, что фантасмагория, о которой я упомянула, не просто связана с твоим страданием, а является его выражением, зримым выражением того, что ты называешь своей ущербной весной. Милая мама, откуда у тебя такие слова? Они несвойственны тебе. Ты — скромная, душевная женщина, заслуживающая всяческого восхищения. Твои глаза ясно и зорко смотрят на природу, на жизнь, но не в книги. Ты никогда много не читала, и прежде ты не пользовалась такими словами, выдуманными поэтами, такими горькими, больными словами, и когда теперь ты их все же произносишь, это доказывает…
— Что доказывает, Анна? Если поэты пользуются такими словами, то не потому ли, что они им полезны? Они отражают их переживания, их чувства. То же самое происходит и со мной, хотя, по-твоему, мне это и не к лицу. Но это неверно. Слова приходят к тому, кому они нужны, они просятся наружу, их не страшишься. Но я могу объяснить твой обман чувств и зрения, всю эту фантасмагорию, как ты сказала. Это воздействие его юности, стремление моей души уподобиться ей, чтобы не испытывать только стыд и унижение.
Анна плакала. Они обнялись. Их слезы смешались.
— И эти слова, родная моя, — с усилием проговорила хромая девушка, — тоже сродни тем чужим словам, к которым ты стала прибегать. В твоих устах они звучат как разрушение. Твоя злополучная одержимость разрушает тебя, я вижу это, и я это слышу, когда ты со мной говоришь. Мы обе должны покончить с этим любой ценой, положить конец твоей пагубной страсти, спасти тебя от самой себя. С глаз долой — из сердца вон, дорогая мамочка! Есть только один исход, спасительный исход: молодой человек не должен больше бывать у нас, мы должны отказать ему от дома. Но этого мало. Ты видишь его и вне дома, в обществе. Ладно, значит, мы обяжем его покинуть город. Я берусь за это. Я поговорю с ним по-дружески, поставлю ему на вид, что он попусту растрачивает себя здесь, что давным-давно пора расстаться с Дюссельдорфом, что не может же он весь свой век околачиваться в этом городе. Я скажу ему, что Дюссельдорф — еще не вся Германия, что при его любознательности ему следует отправиться дальше, в Мюнхен, в Гамбург, в Берлин, что и эти города существуют на свете, что их тоже надо изучить, что следует быть более подвижным, жить то здесь, то там, прежде чем вернуться на родину и занять там подобающее положение, вместо того чтобы разыгрывать из себя в Европе учителя-инвалида. Я повлияю на него. А коли он не согласится, не пожелает порвать с Дюссельдорфом, где он успел наладить деловые связи, что ж, мама, тогда уедем мы. Мы сдадим наш дом и переселимся в Кельн, или во Франкфурт, или в какое-нибудь красивое местечко под Таунусом, и ты оставишь здесь то, что тебя разрушает и мучает, забудешь обо всем с помощью никогданевидения. Стоит только не видеться, и все пройдет. Так не бывает, чтобы нельзя было забыть. Можешь называть это забвение позором, но, верь мне, забывается все! И тогда там, в Таунусе, ты снова будешь наслаждаться своей милой природой, снова станешь нашей любимой старой мамой. Проникновенная, но бесполезная настойчивость.
— Стой, Анна, остановись! Хватит, я не могу больше слушать! Ты плачешь вместе со мной, твое участие полно любви, но все, что ты наговорила, все твои предложения — невозможны и для меня ужасны. Прогнать его или уехать нам? Вот куда привела твоя опека! Ты говоришь о милой природе, но плюешь ей в лицо своими бессмысленными требованиями, ты хочешь, чтобы и я плюнула ей в лицо, задушила ущербную свою весну, которой она так чудесно и щедро меня облагодетельствовала. Каким грехом и предательством это было бы по отношению ко всеблагой природе! Какой неблагодарностью и неверием в ее всемогущество, каким отрицанием ее милосердия! Ты забыла о Саре и о том, как она провинилась перед богом. Она подслушивала у двери и, смеясь, себе говорила: «Я стара, прилично ли мне предаваться наслаждениям? Да и супруг мой стар». Но господа оскорбило ее неверие. «Почто смеется дщерь моя Сара?» — сказал он. Я-то думаю, что она смеялась не столько над своим преклонным возрастом, сколько над тем, как стар и обременен годами ее супруг и господин Авраам. Ему было девяносто девять лет. Какую женщину не рассмешила бы мысль о любовных утехах с девяностодевятилетним старцем? Пусть даже в жизни мужчины пора любви не столь резко ограничена, как в жизни женщины. Но мой господин молод! Он — сама молодость, воплощение молодости, и насколько же легче и заманчивее для меня мысль… Ах, верная моя Анна! Я полна вожделения, кровь моя кипит постыдным, жгучим и горьким желанием, и я не откажусь от него, не отрекусь, не удеру в Таунус, а если ты уговоришь уехать Кена, то возненавижу тебя до конца своих дней.
В великом смущении слушала Анна эту безудержно-хмельную речь.
— Милая мама, — сказала она угасшим голосом, — ты очень возбуждена. Сейчас ты больше всего нуждаешься в покое и сне. Выпей двадцать пять капель валерьянки на воде, даже тридцать. Это безобидное средство иногда очень помогает, и, заверяю тебя, я не предприму ничего, что было бы несогласно с твоими желаниями. Верь мне, твое спокойствие мне дороже всего! Если же я пренебрежительно говорила о Кене, которого буду уважать как объект твоего благоволения, хотя мне следовало бы ненавидеть его как причину твоих страданий, — то пойми, я и это делала только в надежде образумить тебя. Я бесконечно тебе благодарна за оказанное доверие и надеюсь, твердо надеюсь, что, объяснившись со мной, ты облегчила сердце. Может быть, это объяснение — начало твоего выздоровления, — прости, я хотела сказать успокоения, — и твое милое, веселое, дорогое нам сердце вновь станет прежним. Оно любит, страдая; но не думаешь ли ты, что со временем оно научится любить благоразумно и не страдая. Любовь, знаешь ли (все это Анна говорила, заботливо провожая мать в ее спальню, с тем чтобы собственноручно накапать ей в стакан валерьяновых капель), — любовь — какой только она не бывает, как многообразно то, что прячется под ее именем, и вместе с тем — она всегда одна и та же. Любовь матери к сыну, — знаю, ты не очень привязана к Эдуарду, — но и эта любовь бывает задушевной и пылкой, она едва уловимо, но непреложно, отличается от любви к ребенку своего пола, ни на мгновение не преступая границы дозволенного — границы материнской любви. Если учесть, что Кен действительно мог быть твоим сыном, может, ты попытаешься перевести нежность к нему в иное русло, придать ей оттенок материнства, себе на благо?
Розали улыбнулась сквозь слезы.
— Дабы между душой и телом воцарилось должное согласие? — грустно пошутила она. — Милое дитя, как я насилую твой ум, как злоупотребляю им. Я поступаю нехорошо. И все это напрасно! Материнская нежность — тоже что-то вроде Таунуса… Но, кажется, я начинаю заговариваться. Я смертельно устала, тут ты права. Спасибо за участие и терпение! Спасибо и за обещание уважать Кена во имя того, что ты называешь моим «благоволением». Обещай, что не будешь ненавидеть его, как я возненавидела бы тебя, если б ты его прогнала! Он — только средство, избранное природой, чтобы сотворить чудо в душе моей.
Анна удалилась. На следующей неделе Кен дважды ужинал у Тюммлеров. В первый раз за столом присутствовала пожилая чета из Дуйсбурга, кузина Розали с мужем. Анна знала, что известная сложность чувств и напряженность отношений неотвратимо распространяет флюиды, всегда заметные постороннему взгляду, и зорко следила за гостями. Она увидела, как кузина несколько раз удивленно перевела глаза с Кена на хозяйку дома, увидела даже улыбку, прятавшуюся в усах ее мужа. В тот же вечер Анна впервые обнаружила перемену в поведении Кена с матерью, какую-то новую насмешливо-дерзкую манеру: он упорно не желал сносить с трудом дававшееся ей видимое безразличие и вынуждал хозяйку оказывать ему знаки внимания. В другой раз посторонних не было. Госпожа фон Тюммлер разрешила себе своенравную выходку, чтобы высмеять совет дочери, преподанный в тот памятный вечер, и одновременно использовать его в своих целях. Дело в том, что Кен, как выяснилось, напропалую кутил прошедшую ночь с добрыми друзьями: с учеником Академии живописи и с двумя сынками местных фабрикантов. До утра совершая обход старинных погребков, он явился к Тюммлерам с основательно гудящей головой, с hang-over первой степени, как выразился разболтавший тайну Эдуард. Когда Кен стал прощаться и все пожелали друг другу покойной ночи, Розали, бросив на дочь возбужденно-лукавый взгляд, ухватила молодого человека за ухо и сказала:
— Ну, сыночек, выслушай серьезный выговор от мамаши Тюммлер и намотай себе на ус, что ее дом открыт только для людей степенного нрава и примерного поведения, а не для ночных птиц и забулдыг, которые не способны членораздельно говорить по-немецки и у которых двоится в глазах! Слышишь, бездельник! Не будешь?! Не будешь?! А если дурные мальчишки станут совращать тебя, впредь не следуй их примеру и не расточай так беспутно свое здоровье, слышишь?! Изволь одуматься! — Говоря это, она вновь и вновь дергала его за ухо, а Кен, притворно шарахаясь от легкого подергивания ее руки, делал вид, что наказание нестерпимо болезненно, извивался и строил жалобные гримасы, обнажая при этом свои красивые, блестящие зубы. Его лицо почти касалось ее лица, и, наслаждаясь его милой близостью, она добавила: — А если это повторится и ты не исправишься, непослушный сынок, я вышлю тебя из города! Так и знай! Я отправлю тебя в тихое местечко, под Таунус, где природа, бесспорно, прекрасна, но нет никаких искушений, и ты вволю сможешь обучать английскому языку деревенских ребят. На первый раз иди проспись, шалопай! — И она отпустила его ухо, простилась с ним, по-прежнему пристально глядя ему в глаза, еще раз, с потускневшим лукавством, глянула на Анну и ушла.
Неделю спустя произошло событие, своей необычайностью повергшее Анну фон Тюммлер в великое изумление, потрясшее и смутившее ее. Радуясь за мать, она не знала, следует ли рассматривать случившееся как счастье или как несчастье. В десять часов утра горничная пригласила ее зайти к госпоже фон Тюммлер. Так как маленькая семья обычно завтракала порознь, сперва Эдуард, затем Анна и последней хозяйка дома, то Анна в это утро с матерью еще не виделась. Розали лежала в шезлонге в своей спальне, укрытая легким кашемировым одеялом. Она была бледна, но ее носик пылал. Розали кивнула вошедшей, тяжело ступающей дочери, улыбаясь с несколько подчеркнутой томностью, и в ожидании вопроса хранила молчание.
— Что случилось, мама? Ты больна?
— О нет, дитя мое, не тревожься, это не болезнь. Я даже собиралась сама зайти к тебе поздороваться вместо того, чтобы вызывать тебя сюда, но мне следует соблюдать покой, знаешь, как это иногда бывает с нами, женщинами…
— Мама! Как тебя понять?
Тогда Розали приподнялась, обвила шею дочери руками, привлекла ее к себе, заставила сесть на край шезлонга и шепнула, щека к щеке, в самое ухо, порывисто, блаженно, одним дыханием:
— Триумф, Анна, триумф! Оно вернулось ко мне, вернулось после такого долгого перерыва, вполне естественно, совсем как полагается у зрелой, живой женщины! Дорогая моя, что за чудо! Что за чудо совершила со мной великая добрая природа, благословив меня за веру в нее! Это потому, что я веровала, Анна! Я не смеялась, и добрая природа наградила меня за это, взяла обратно те превращения, какие сама же проделала над моим телом. Этим она доказала, что заблуждалась, и теперь восстановила гармонию между моим духом и плотью, но только иным способом, чем хотелось тебе, дочка. Не тем, что душа, покорно следуя велениям тела, перестроилась на почтенный, достойный лад, а наоборот, наоборот, — тем, что душа оказалась полновластной хозяйкой тела. Поздравь меня, деточка, я так счастлива! Я снова женщина, полноправная, настоящая женщина, и чувствую себя достойной его мужественной юности. Мне не надо больше в полуобморочном состоянии опускать перед ним глаза. Розга жизни, хлестнувшая меня, коснулась не только души, но и тела, вновь сделала его животворным источником. Поцелуй меня, верная моя девочка, признай, что я вправе быть счастливой, и восславь вместе со мной величие доброй природы.
Розали снова опустилась в шезлонг и закрыла глаза. На губах ее блуждала самодовольная улыбка, носик был красен.
— Дорогая, родная мамочка, — сказала Анна, готовая разделить ее радость, но почему-то с тяжелым сердцем, — это действительно большое, трогательное событие, новое доказательство твоих великолепных природных данных. Они сказались уже в свежести твоих чувств, а теперь покорили себе и жизнь твоего тела. Как видишь, я разделяю твою точку зрения, верю, что это телесное обновление — продукт юношески сильных, духовных чувствований. И что бы я прежде ни говорила об этих вещах, ты не должна считать меня мещанкой, отрицающей всякую власть духа над плотью, признающей за плотью решающее слово в их взаимоотношениях. Настолько-то и я знакома с природой, чтобы понимать их обоюдную зависимость и единство. Как сильно дух порой подчиняется велениям плоти, так, со своей стороны, он умеет властвовать над ней, — да, иногда это граничит с чудом. Ты сама — блистательный пример тому. И все же, позволь сказать тебе, прекрасное, радостное событие, которым ты так горда, — и вполне законно: конечно, ты вправе гордиться! — на меня не производит того впечатления, как на тебя. По-моему, оно не так уж много изменило, великолепная моя мама, и ничего существенного не прибавило к моему восхищению твоими природными данными или данными природы вообще. Я, хромая, стареющая девушка, бесспорно, имею основание не придавать слишком большого значения телесной жизни. Как раз противоречие между свежестью твоего чувства и увяданием тела казалось мне более блистательным, более чистым и высоким триумфом духовной жизни, чем это событие, говорящее о несокрушимости твоего организма.
— Уж лучше помолчи, бедняжка моя! То, что ты сегодня называешь свежестью чувств, ты еще так недавно называла без всяких околичностей сумасбродством и одержимостью и советовала мне обратиться к материнским чувствам, перестроиться на почтенный, старушечий лад. Ой, не рано ли, Анхен? Природа высказалась против тебя! Она взяла мое чувство под опеку и недвусмысленно доказала, что оно не должно стыдиться ни себя, ни цветущей юности, пробудившей это чувство. И ты полагаешь, что мои обстоятельства ничего не меняют? Что это не столь уж важно?
— Я нисколько не намерена умалять слово, сказанное природой, моя милая, достойная изумления мамочка! Прежде всего, я не хочу омрачать радость, данную тебе этим ее словом. Надеюсь, ты не заподозрила меня в таком побуждении, когда я сказала, что совершившееся событие мало что меняет. Мои слова относились к внешней, к практической стороне дела. Когда я советовала, искренне желала тебе себя превозмочь, ограничить материнской нежностью чувство к молодому человеку, — прости, что я так холодно о нем говорю, — к нашему другу Китону, я исходила из того, что он мог быть твоим сыном. Эта истина непреложна, правда? В ней ничто не изменилось, и она будет влиять на ваши отношения с обеих сторон: с твоей и с его тоже.
— Так, и с его тоже… Ты говоришь об обеих сторонах, подразумевая одну. Ты не веришь, что он мог бы любить меня не только как сын?
— Я этого не сказала, милая мама!
— Как бы ты могла сказать это, Анна, верная моя девочка! Подумай о том, как мало у тебя данных и нужного авторитета, чтобы судить о любовных делах. У тебя не хватает чутья в этой области, потому что ты рано потерпела разочарование, душа моя, и отвратила взор от этой стороны жизни! Духовные запросы заменили тебе естественные, природные радости. Это хорошо. Это твое счастье, это возвышенно. Но вправе ли ты судить и присуждать к безнадежности и меня? Ты не наблюдательна, ты не видишь того, что вижу я, не улавливаешь признаков, говорящих мне о столь многом, и прежде всего о том, что его чувство созрело и готово ответить на мое. Надеюсь, ты не станешь утверждать, что он просто играет мною, и беспристрастно согласишься, что он не дерзкий сердцеед и что я имею основания надеяться на ответное чувство? И разве это было б так уж удивительно? При всей твоей неосведомленности в вопросах любви, ты, вероятно, знаешь, что молодые мужчины предпочитают зрелую женственность неискушенной молодости глупеньких, робких гусынь? Должно быть, здесь не обходится без тяготения к материнской нежности, ведь и в страсть зрелой женщины к юноше тоже вкрадывается нечто материнское. Кстати, помнится, ты недавно сама говорила об этом.
— В самом деле, мамочка? Так или иначе, но ты права, и я согласна со всем, что ты сказала.
— Тогда не считай, что для меня все складывается столь уж безнадежно, особенно теперь, когда природа признала мое чувство. Не считай этого, несмотря на мои седые волосы, на которые ты, кажется, сейчас покосилась. Да, к сожалению, я поседела, и допустила большую ошибку, своевременно не покрасившись. Теперь я не могу вдруг начать краситься, хотя природа до некоторой степени и поощряет меня к этому. Но зато с лицом я могу кое-что предпринять, не только массаж — я буду накладывать немножечко румян. Вы, дети, не станете ведь возражать?
— Ну, что ты, мама! Эдуард вообще ничего не заметит, если ты мало-мальски умело возьмешься за дело… А я… хоть я и нахожу, что безыскусственность более свойственна твоему облику, но думаю, ты не погрешишь против природы, если поможешь ей столь общеупотребительным способом.
— Да? Нельзя же допустить, чтобы в Кене возобладали сыновние чувства. Это обмануло бы мои надежды. Да, славная моя, преданная девочка, это сердце… Я знаю, ты не любишь говорить и слушать о «сердце»… Но мое сердце полно ликования и гордости, когда я думаю о том, как теперь встречусь с Кеном, с его молодостью… Да, сердце твоей мамы полно надежд на счастье, на новую жизнь!
— Как я рада за тебя, мама! И как мило с твоей стороны, что ты позволила мне разделить твое счастье! Я разделяю его, разделяю от всей души! В этом ты не усомнишься, даже если я скажу, что какая-то тревога омрачает мою радость. Это похоже на меня, не правда ли? Какое-то опасение, практическое опасение, я вынуждена повторить это слово за неимением лучшего, хотя уже раз употребила его… Ты говоришь о своих надеждах, обо всем, что дает тебе право на них, — я нахожу, что это право прежде всего дает тебе собственная привлекательность. Но кое-что ты упустила, не досказала. Куда направлены эти надежды, как применимы они к действительности, к жизни? Может быть, ты намерена вторично выйти замуж? Сделать Кена Китона нашим отчимом, повести его к алтарю? Пусть я трусиха, но так как разница в возрасте у вас не меньше, чем у матери с сыном, то я побаиваюсь разумного осуждения, которое мог бы вызвать такой шаг!
Широко раскрыв глаза, госпожа фон Тюммлер смотрела на дочь.
— Нет, — ответила она, — такая мысль не приходила мне в голову! Могу заверить, что она мне чужда. Нет, Анна, глупая ты девчонка, я не задавалась целью дать вам двадцатичетырехлетнего отчима. Но как странно слышать от тебя это благочестивое и чопорное слово «алтарь».
Анна молчала, веки ее трепетали, она глядела мимо матери, в пустоту.
— Надежда, — сказала Розали, — кто способен определить, что она такое, как того требуешь ты? Надежда есть надежда. Она безотчетна. Как же ты можешь требовать, чтобы она отвечала практическим целям? То, что сделала со мной природа, — красиво. Только красоты жду я от нее и впредь. Но сказать тебе, как я представляю себе будущее, куда приведут меня мечты, во что они выльются, я не умею. Это — только надежда. Она вообще не рассуждает… и уж менее всего об алтаре.
Поджав губы, тихо, неохотно, как бы против воли, Анна проронила:
— Жаль, это по крайней мере было бы относительно благоразумным решением вопроса.
Потрясенная госпожа фон Тюммлер пристально вглядывалась в лицо хромой, пытаясь прочесть ее мысли. Анна не смотрела на мать.
— Анна, — глухо крикнула Розали, — как ты говоришь, как ты ведешь себя! Я тебя не узнаю. Скажи, кто из нас двоих художница, артистка? Я или ты? Кто бы мог подумать, что ты полна предрассудков, отстала от матери, и не только от нее, а от своего времени, от новых «свободных нравов»? В творчестве — ты такая передовая, признаешь только все изощренно-новое, так что человеку моих скромных возможностей трудно угнаться за тобой. А в отношении морали ты будто живешь бог знает когда, в допотопные времена, задолго до войны. У нас республика, у нас свобода, понятия так изменились в сторону легкомыслия, стали куда более вольными. Это отражается на всем. Вот, у молодых людей сейчас считается хорошим тоном вывешивать носовой платок из кармана на грудь — они вывешивают половину платка, словно флаг, тогда как прежде виднелся только кончик. Это явно не случайность, а сознательная демонстрация республиканского свободомыслия нравов. Эдуард тоже, согласно моде, вывешивает свой носовой платок, и я смотрю на это не без удовольствия.
— Тонкое наблюдение, мама! Но, я полагаю, твой символический носовой платок не очень-то применим к Эдуарду. Ты сама говоришь, что, повзрослев, он стал во многом похож на нашего отца, подполковника. Должно быть, не очень тактично упоминать о папа в этом разговоре, и все же…
— Анна, ваш отец был превосходным офицером и пал на поле брани. Но изрядным ветреником он тоже был и до конца своих дней заводил разные шашни. Вот самый убедительный пример того, как неограниченна половая жизнь мужчин. Мне непрестанно приходилось закрывать глаза на его похождения. Поэтому я не воспринимаю твои слова как чрезмерную бестактность!
— Тем лучше, мама, если такое выражение применимо к данному случаю. Но папа был офицер и, невзирая на то, что ты называешь его ветреностью, жил сообразно известным правилам чести, которые не слишком занимают меня, но, думается, унаследованы Эдуардом. Он похож на отца не только лицом и фигурой; верь мне, на известные обстоятельства он реагировал бы так же, как его отец.
— На какие обстоятельства?
— Милая мама, позволь мне, как прежде, быть с тобой совсем откровенной. Вполне допустимо, что отношения с Кеном Китоном, какие ты рисуешь себе в мечтах, не всегда будут облечены полной тайной, о них станет известно в обществе. Меня особенно смущает твоя очаровательная импульсивность, твоя заслуживающая восхищения неспособность к притворству. Стоит только какому-нибудь наглецу намекнуть Эдуарду, что его мать… ну, одним словом, как говорится, ведет легкий образ жизни, и наш Эдуард полезет в драку, даст молодчику пощечину, и тогда, кто знает, что за опасные, глупейшие последствия повлечет за собой его рыцарский поступок.
— Бога ради, Анна, что ты выдумываешь! Ты меня пугаешь, детка! Я знаю, ты делаешь это, заботясь обо мне, но твоя заботливость бесчеловечна, бесчеловечна, как всякий суд детей над матерью…
Розали всплакнула. Анна услужливо помогала ей вытирать слезы, любовно водя рукой, в которой мать держала платочек.
— Милая, хорошая мама, прости меня! Я поневоле причиняю тебе горе. Но не говори о суде детей. Не сомневайся, что я терпеливо, — нет, это звучит слишком высокомерно, — скажем, с почтительным участием отнеслась бы к тому, что ты принимаешь за свое счастье. А Эдуард, право, не пойму даже, почему я заговорила о нем? Вероятно, в связи с его республиканским носовым платком. Речь идет не о нас с Эдуардом и не о людях тоже. Только о тебе, мама. Ну вот, ты сказала, что лишена предрассудков. Но так ли это на самом деле? Мы говорили о папа, о жизненных устоях, унаследованных от него. По его понятиям, он не преступал их, не грешил против них, ветреничая и огорчая тебя. И ты всегда прощала его, прощала, — постарайся понять меня верно, — потому что, в сущности, была того же мнения, сознавала, что с истинным распутством его ветреность не имеет ничего общего. Этого не допускало его происхождение, его взгляды. Ты такая же. В крайнем случае я, художница, выродок, но и я тоже, — правда, по иной причине, — не способна воспользоваться своей эмансипацией, своей моральной деклассированностью.
— Бедное дитя, — перебила ее госпожа фон Тюммлер, — не говори о себе так печально.
— Речь вообще не обо мне, дорогая мама! — возразила Анна. — Я и говорю и забочусь только о тебе. Для тебя было бы прямым распутством то, что для ветреника папа было разве что веселым препровождением времени, не противоречившим ни его собственным убеждениям, ни убеждениям общества, его среды. Гармония между духом и телом, несомненно, хорошая, необходимая вещь. И ты по праву гордишься тем, что природа, твоя природа почти чудом тебе ее даровала. Но гармония между образом жизни и прирожденными нравственными убеждениями еще более необходима человеку. Там, где она нарушена, нарушен весь духовный строй, и это приводит к несчастью. Ты чувствуешь, что я права? Ты жила бы в разладе с самой собой, претворив в действительность то, о чем грезишь. Ведь по сути дела ты так же, как и папа, связана известными условностями, и нарушение этих условностей было бы разрушительным, опустошительным несчастьем для тебя. Я говорю то, что мне подсказывает отчаяние. Почему я снова прибегла к этому слову: разрушение? Знаю, однажды в страхе я уже произнесла его, но полностью ощутила это слово я еще раньше. Почему меня не покидает ощущение, что испытание, счастливой жертвой которого ты стала, связано с разрушением? Я хочу сделать тебе признание: недавно, после нашего ночного разговора, когда ты была так возбуждена и мы пили чай у меня, — я решила поговорить с доктором Оберлоскамфом, помнишь, он лечил Эдуарда, когда тот хворал желтухой, и меня, когда я не могла глотать во время ангины, ты же никогда не нуждалась в докторах, — словом, я намеревалась поговорить с ним о тебе, обо всем, что ты мне доверила, только затем, чтобы он успокоил меня. Но я запретила, тут же запретила себе такую консультацию — из гордости, мама, ты поймешь меня, из гордости за тебя и ради тебя, и оттого, что мне показалось унизительным, показалось предательским поведать о твоих чувствах какому-то медику, которого, с божьей помощью, достанет на желтуху, на больное горло, но отнюдь не на глубокое человеческое потрясение. Я нахожу, что есть болезни, которые слишком хороши для врачей…
— Благодарю тебя вдвойне, моя милая, — сказала Розали. — И за то, что ты проявила обо мне заботливость и хотела поговорить с Оберлоскамфом, и за то, что отвергла это побуждение. Разве можно, хотя бы в малой степени, связывать с болезнью то, что ты называешь моим испытанием, — «пасху женственности», победу души над телом? Разве счастье — болезнь или легкомыслие? Нет, это — просто жизнь, жизнь с ее радостями и горестями. А жизнь — всегда надежда, безотчетная надежда, о которой я не умею дать точные сведения твоему разуму.
— Я и не требую их, дорогая мама.
— Тогда ступай, детка! Дай мне отдохнуть. Ты ведь знаешь, уединение и отдых полезны нам, женщинам, в такие почетные дни.
Анна поцеловала мать и, тяжело ступая, вышла из ее спальни. Обе женщины остались под впечатлением их разговора. Анна сказала далеко не все, что могла бы сказать и что лежало у нее на сердце. Ее мучили сомнения, долго ли продлится поздний, тревожный расцвет матери, который та пышно величала «пасхой своей женственности». И если Кен, что весьма вероятно, ответит матери, — долго ли продлится его чувство? Как трепетно будет оберегать его от каждой более молодой женщины стареющая возлюбленная, как будет она с первого же дня сомневаться в его верности, даже в уважении. Хорошо хоть, что она понимает счастье не как веселье и радость, а как жизнь со всеми ее страданиями.
Со своей стороны, госпожа фон Тюммлер была огорчена отношением дочери к случившемуся больше, чем хотела ей показать. Если стареющую женщину не слишком испугало романтическое предположение, что Эдуард, при известных обстоятельствах, пожертвует из-за чести матери своей молодой жизнью (хоть она и всплакнула, но сердце ее не забилось в безотчетной тревоге), то сомнение, высказанное Анной касательно «отсутствия предрассудков», ее мысли о распутстве, о необходимости гармонического единения между образом жизни и прирожденными нравственными убеждениями заставили добрую женщину очень и очень призадуматься и нарушили покой торжественного дня. Она отдавала должное сомнениям дочери, находила в них добрую толику правды. Надо сказать, это нисколько не мешало ей радоваться предстоящей после знаменательного события встрече с юным возлюбленным. Но слова умной дочери о жизни в разладе с самим собой неотвязно преследовали ее, и после длительных колебаний и раздумий она решила отречься от счастья. И отречение может быть счастьем, коль скоро оно вызвано не плачевной необходимостью, а свободным, сознательным проявлением воли полноправной женщины. На том Розали и порешила.
Кен появился у Тюммлеров через три дня после знаменательного физиологического события, читал и болтал по-английски с Эдуардом, а потом остался ужинать. При виде его славного мальчишеского лица, его широких плеч и узких бедер милые глаза Розали засияли счастьем, и их живой блеск оправдывал, если можно так выразиться, яркость ее подкрашенных щек, бледность которых и в самом деле слишком противоречила бы ликующему сиянию глаз. Начиная с этого дня, а затем и всякий раз, когда приходил Кен, она усвоила привычку, здороваясь с ним, брать его руку, влекущим движением притягивать молодого человека к себе и при этом серьезно, светло и многозначительно глядеть ему в лицо, отчего у Анны создавалось впечатление, что мать не прочь тут же посвятить юношу в чудо, которое совершила с нею природа. Нелепое опасение, разумеется! Весь вечер обращение хозяйки с молодым гостем отличалось веселой непринужденностью, нисколько не напоминавшей тот фальшиво материнский тон, к которому Розали прибегла назло дочери тогда, после попойки, как не было больше и заискивающей покорности и стыдливой робости, столь не шедшей к ее милому облику.
Китон, который уже давно и с удовольствием обнаружил, что покорил сердце этой седой, но полной очарования европеянки, не мог уяснить себе перемену в ее поведении. Вполне понятно, что он стал менее уважительно относиться к Розали, обнаружив ее слабость, но в то же время эта слабость пробуждала в нем мужское желание. Его привлекала непосредственность Розали, он и сам был столь же непосредствен, а проникновенная нежность ее чудесных глаз вполне окупала ее почтенный возраст и увядающие руки. Мысль вступить с ней в любовную связь, подобную той, какую он поддерживал, правда, не с Амелией Лютценкирхен и не с Луизой Фингстен, а с другой дамой из общества, которую Розали ни в чем не подозревала, отнюдь не была чужда Кену; и вскоре Анна заметила, что тон, которого он стал придерживаться в отношении матери своего ученика, изменился, стал более игривым и вызывающим.
Особой удачи доброму малому это не приносило. Вопреки рукопожатию при встрече, когда она привлекала его к себе так близко, что их тела почти соприкасались, вопреки глубокой нежности ее глаз, все попытки Кена неизменно наталкивались на ласковое достоинство, сразу его отрезвлявшее и державшее в границах благопристойности. Повторные попытки ни к чему не приводили. «Влюблена она в меня в конце концов или нет?» — спрашивал он себя и во всем винил ее детей — эту хромую и своего питомца. Но Кену ничуть не больше везло и когда он оставался с Розали наедине, в уголке гостиной, что позволяло ему придавать своим маленьким атакам уже не насмешливый, а нежно-серьезный, даже настойчиво-страстный характер. Как-то раз он отважился назвать ее «Розали», самым обольстительным образом растягивая свое картавое, столь всех пленявшее «р». На его родине это было принятым обращением, которое не сочли бы даже за особую вольность. Но Розали на мгновение смутилась, покраснела и поспешила уйти, так за весь вечер и не удостоив его больше ни единым взглядом или словом.
Зима выдалась не суровая, взамен снегов и морозов она в изобилии принесла дожди и рано пришла к концу. Уже в феврале наступили солнечные, мягкие дни, дышавшие весной. Крошечные почки там и сям отважно набухали на ветвях. Розали с нежностью приветствовала подснежники в своем саду и раньше обычного могла радоваться нарциссам и крокусам на невысоких стеблях, уже распустившимся на участке ее виллы и в городском саду, где над ними склонялись прохожие, с восхищением указывая друг другу на пеструю толчею цветов.
— Подумай, как удивительно и как странно, — сказала госпожа фон Тюммлер дочери, — разве это не напоминает осень? Кажется, будто цветет все тот же цветок. Конец и начало! Их можно спутать, так они друг на друга похожи. Глядя на эти крокусы, переносишься обратно в осень и, напротив, веришь в наступление весны при виде последышей осеннего цветения.
— Да, небольшая путаница в этом есть, — ответила Анна, — по-видимому, твоя закадычная подруга, мать-природа, вообще питает пристрастие к двусмысленности и мистификации.
— Ты не лезешь в карман за острым словцом против нее, злая девочка, и то, что меня изумляет, тебе служит поводом над ней поглумиться. Но не трудись, пересмешница, тебе все равно не удастся поколебать нашу нежную дружбу с милой природой, а теперь, когда наступило «мое время года», и подавно. Я называю его моим потому, что время года, на которое пал день нашего рождения, сродни нам, как мы сродни ему. Ты родилась накануне рождественских праздников и поистине можешь считать это добрым предзнаменованием. Ты, надо думать, навсегда прониклась чувством нежности к этой поре, морозной, но согретой внутренней радостью. Нет, право же, я убеждена, что существует нерушимая связь между нами и временем года, совпавшим с днем нашего появления на свет. В их совместном ежегодном возвращении я вижу какую-то непреложную прочность обновления. Мне, например, это обновление приносит весна. Не только потому, что весна, или, как говорится в стихах, «вешняя пора», — для всех излюбленное время года, а потому, что я причастна весне, так что порою мне кажется, что ее улыбка предназначена мне лично.
— В этом и я не сомневаюсь, милая мама, — возразило дитя зимы. — И, будь уверена, что по этому поводу я не позволю себе ни единого острого словца!
Следует, однако, заметить, что в этом году жизненный подъем, который Розали испытывала или полагала, что испытывает весною, что-то задерживался, не оправдывая ее расчетов. Можно было подумать, что моральные устои, внушенные ей дочерью, устои, которых она так честно придерживалась, шли ей во вред, как если бы и они, или, вернее, именно они, привели ее к тягостному «разладу». У Анны, во всяком случае, сложилось такое впечатление, и хромая девушка упрекала себя за то, что напрасно убедила мать отречься от своего чувства. Свободомыслие Анны отнюдь не требовало подобных жертв от этой достойной женщины. Ей это просто показалось подходящим для душевного покоя ее матери. Порою Анну даже терзали подозрения, не из дурного ли чувства, не из тайной ли зависти призвала она свою мать к целомудренному воздержанию? Ведь она, Анна, однажды сама так страстно возжелала чувственных радостей, но так их и не сподобилась. Нет! Столь низкими побуждениями она не могла руководствоваться! И все же Анну при взгляде на мать не переставала мучить обеспокоенная совесть. Она видела, что Розали легко устает во время столь любимых ею прогулок и под предлогом неотложных дел через полчаса, а то и раньше, настаивает на возвращении домой. Мать часто подолгу лежала и, несмотря на то что мало двигалась, теряла в весе. Когда Розали бывала не одета, Анна с тревогой смотрела на ее похудевшее, дряблое тело. Теперь никто не спросил бы Розали, из какого источника молодости она пьет. С лицом тоже обстояло не лучше. Синие тени усталости обозначились под ее глазами, и даже румяна, в честь вновь обретенной женственности, никого не вводили в обман, не могли скрыть желтоватую бледность ее лица. Но стоило осведомиться о ее здоровье, как Розали весело и небрежно бросала в ответ: «Пустяки, я здорова, все в порядке!» И фрейлейн фон Тюммлер не смела посоветоваться с доктором Оберлоскамфом о здоровье своей матери. Не только чувство вины, но и чувство уважения заставило Анну отказаться от этой мысли — того самого уважения, какое побудило ее сказать, что бывают болезни «слишком хорошие для врачей».
Вот почему Анну особенно порадовала веселая предприимчивость матери, ее вера в свои силы, когда однажды вечером семейство Тюммлер и Кен Китон, сидя за бутылкой вина, надумали совершить загородную прогулку. С того дня, как Розали пригласила дочь к себе в спальню, чтобы сделать свое удивительное признание, не прошло и месяца. Розали была оживлена и прелестна, как в былые дни. Ее можно было бы счесть зачинщицей прогулки, если бы эту заслугу не пришлось приписать Кену, так как он своей болтовней на исторические темы навел присутствующих на эту мысль. Он рассказывал о всякой всячине, о разных замках и старинных крепостях, которые ему довелось повидать, о замке на берегу Вуппера, об Эресховене, о Гимборне, Гомбурге и Кротторфе, а затем перескочил на курфюрста Карла-Теодора, который в восемнадцатом веке перенес свою резиденцию из Дюссельдорфа в Шветцинген, а позднее в Мюнхен{14}, что не помешало его наместнику, некоему графу Гольштейну, преуспеть тем временем в дюссельдорфском градостроительстве. В пору наместничества была учреждена Академия художеств, разбит городской парк, возведен замок Иегерхоф и, как заметил на этот раз Эдуард, несколько южнее города, рядом с деревушкой, носящей то же название, построен замок Хольтергоф. «Верно, и Хольтергоф», — подтвердил Кен. И, сам тому удивляясь, признался, что это замечательное творение позднего рококо никогда не попадало в поле его зрения, как и прилегающий к замку прекрасный парк, что тянется до самого Рейна. Госпожа фон Тюммлер и Анна иногда бывали там, гуляли в парке, но, впрочем, как и Эдуард, не побывали внутри очаровательно расположенного замка.
— Колокол в церковь сзывает, сам же в церкви не бывает! — неодобрительно сказала хозяйка. Диалект и народные речения у нее всегда служили признаком веселого, благодушного настроения. — Хороши дюссельдорфцы, все четверо вместе взятые! — добавила она. — Один и вовсе не был там, а остальные не удосужились осмотреть внутреннее убранство этой жемчужины среди замков, куда первым делом идет всякий приезжий.
— Вот что, мои милые, — воскликнула Розали. — Пора прекратить это безобразие! Нечего ему потакать! Поехали всем скопом в Хольтергоф, не откладывая прогулки в долгий ящик! Сейчас там славно! И очаровательное время года, и барометр стоит на «ясно». В парке все распускается, весной он, наверно, милее, чем летом, в зной, когда мы были там с Анной. Я истосковалась по черным лебедям, которые — помнишь, Анна? — так высокомерной меланхолично скользили по озеру. У них были красные клювы, и они снисходительно и манерно принимали наши угощения, прожорливые создания!.. На этот раз мы обязательно захватим им белого хлеба. Погодите-ка! Сегодня пятница? Отправимся в воскресенье! Идет? Ведь это самый удобный день для Эдуарда и для мистера Китона тоже. Не правда ли? Хотя в воскресенье туда, наверно, нахлынет тьма народу, но меня это не смущает! Я люблю потолкаться в разряженной толпе. Я наслаждаюсь всем этим не меньше, чем они, и, с восторгом разделяя общее веселье, веселюсь напропалую! А во время народных празднеств в Оберкесселе, когда пахнет пончиками, жаренными в сале, а ребятишки сосут леденцы и возле балаганов теснится пропасть неописуемо вульгарного люда, и все свистят, дудят, кричат! Мне это по душе. Правда, Анна на этот счет иного мнения. Ей от этого не по себе. Не спорь, Анна, ты предпочитаешь изысканную грусть черных лебедей, там, на водной глади… Кстати о воде! Слушайте, детки, давайте поплывем и мы! Скучно ехать за город в трамвае. То ли дело путешествие по реке. Старик Рейн доставит нас на место. Эдуард, будь любезен, загляни в расписание пароходов! Нет, впрочем, погоди! Кутить так кутить! Один разок можно себе это позволить. Наймем моторную лодку и прокатимся по Рейну. Тогда и мы будем в гордом одиночестве на воде, как черные лебеди… Надо только решить: пуститься ли в плаванье до обеда или после?
Решили, что до обеда. Кстати, Эдуард высказал предположение, что замок открыт для посетителей всего несколько часов, по утрам.
Итак, в воскресенье! При энергичном вмешательстве Розали все наладилось быстро и точно. Китону было поручено нанять лодку. Сбор назначили на послезавтра в девять утра, на пристани у ратуши возле футштока.
Все сложилось, как того хотели. Утро выдалось солнечное, слегка ветреное. Предприимчивая публика с детьми и велосипедами запрудила набережную в ожидании белого парохода, курсировавшего по линии Кельн — Дюссельдорф. Для семейства Тюммлеров стояла наготове моторная лодка. Ее хозяин — человек с серьгами в ушах, с выбритой верхней губой и рыжеватой морской бородкой — помог дамам войти в лодку. Не успели гости занять места на корме под натянутым тентом, как лодка уже и отчалила. Она шла, быстро разрезая течение мощной реки, берега которой, впрочем, выглядели достаточно прозаично. Башня старого замка, покосившийся купол Ламбертускирхе, портовые сооружения вскоре остались позади. На смену им, за изгибом реки, снова возникли бараки, лодочные сараи, фабричные здания. Но дальше, за каменным молом, местность стала живописнее и зеленее. Деревушки, старинные рыбачьи селения, — оказалось, что Кен и Эдуард даже знают их, — ютились под защитой плотины, среди заливных лугов плакучих ив и тополей. Сколько река ни извивалась, пейзаж оставался все тем же все полтора часа, до самого конца пути. «Как хорошо, — воскликнула Розали, — что мы предпочли лодку загородному трамваю, на котором бог весть сколько времени тащились бы по отвратительным улицам предместий». Она, очевидно, от всего сердца наслаждалась нехитрой прелестью водной прогулки. Закрыв глаза, она тихонько и радостно напевала навстречу крепчавшему ветру: «О ветер речной, как люблю я тебя! А ты меня любишь, скажи?» Ее осунувшееся узкое лицо было очень миловидно под маленькой фетровой шапочкой, украшенной пером, а весеннее пальто с отложным воротничком из легкой шерстяной ткани в красную и серую клетку замечательно шло к ней. Анна и Эдуард тоже захватили в дорогу пальто, один Кен, сидевший между матерью и дочерью, надел только серый шерстяной свитер под суконную куртку. Носовой платок, словно флаг, свисал у него из нагрудного кармана, и Розали, стремительно повернувшись и широко раскрыв глаза, вдруг засунула его поглубже в карман Кена.
— Скромнее, скромнее, молодой человек! — сказала она, степенно и укоризненно покачав головой.
Он улыбнулся: «Thank you!»[32] — и выразил желание узнать, что за song[33] она напевала сейчас.
— Song? — переспросила она. — Так себе, чирикание, ла-ла-ла, а не песня. — Она снова закрыла глаза и, едва шевеля губами, замурлыкала: «О ветер речной, как люблю я тебя!..»
Ветер все время хотел сорвать шапочку с ее еще густых, вьющихся, поседевших волос, и Розали была вынуждена придерживать ее, не прекращая оживленной болтовни о том, как славно было бы продлить эту прогулку по Рейну, миновать Хольтергоф и уплыть туда, вдаль, к Леверкузену и Кельну, а оттуда еще дальше, через Бонн и Годесберг, в Бад-Хоннеф, что лежит у подножья Семигорья. Говорят, там очень красиво. Нарядный курорт утопает в плодовых садах и виноградниках, и там имеются щелочные источники, которые очень полезны при ревматизме. Анна взглянула на мать. Она знала, что последнее время Розали часто жалуется на боли в пояснице, и эта прерывистая болтовня, эти как бы нечаянно, на ветер брошенные слова о целебных водах заставили Анну заподозрить, что и теперь ее не оставляет эта мучительная, ноющая боль.
Через час они позавтракали хлебцами с ветчиной, запивая их портвейном из маленьких дорожных рюмок. Не было и одиннадцати, когда лодка причалила к маленькой, легкой пристани вблизи парка и замка.
Розали расплатилась с лодочником и отпустила его, так как обратный путь они для удобства все же решили проделать в трамвае. Парк начинался не у самой реки. Им пришлось пересечь довольно топкий луг, прежде чем вступить в старинную княжескую усадьбу, под сень вековых, заботливо ухоженных деревьев. С возвышения, от ротонды, где в нишах из просмоленного тиса стояли скамьи для отдыха, расходились аллеи великолепных деревьев, уже покрытых распустившимися почками. Лишь изредка одинокий и робкий побег продолжал скрываться под защитой коричневой оболочки. Иные аллеи, посыпанные мелким гравием, кое-где были в четыре ряда окаймлены шеренгами дубов, лип, буков, конского каштана и стройных вязов. Разросшиеся ветви образовывали над этими тропами подобие шатра. Были здесь и редкостные деревья, вывезенные из далеких краев. Эти деревья в одиночестве стояли на лужайках — причудливые контефрии, древовидные папоротники, буки и даже старые знакомцы Кена — калифорнийские веллингтонии, дышащие своими мягкими корнями.
Розали оставалась равнодушной к этим причудам. Природа должна быть естественной и скромной, полагала она, чтобы говорить сердцу. Красоты парка ее не волновали. Лишь изредка подымая глаза на гордые деревья, шагала она рядом с Эдуардом, вслед за его молодым наставником и хромающей Анной, которая, впрочем, сумела изменить порядок шествия с помощью маленькой хитрости. Она остановилась и подозвала брата, чтобы спросить его, как называются аллея, по которой они идут, и узенькая тропинка, ее пересекавшая: каждая аллея здесь хранила свое старинное название. Была в парке и «аллея вееров», «аллея охотничьего рога» и прочие в том же роде. Анна продолжала идти рядом с Эдуардом, оставив Розали наедине с Кеном. Он нес пальто, которое сняла Розали. В парке было безветренно и много теплее, чем на реке. Мягко светило весеннее солнце, сквозь высокие ветви роняя на дорогу золотые крапинки, играя скользящими бликами на лицах людей.
В превосходно скроенном коричневом костюме, плотно облегавшем ее девически тонкий стан, госпожа фон Тюммлер шла бок о бок с Кеном, порою бросая загадочно улыбающийся взгляд на пальто, переброшенное через его руку.
— Вот они! — крикнула она, подразумевая черных лебедей.
Птицы важно и неторопливо скользили по водной глади навстречу посетителям.
— Как они хороши! Анна, ты узнаешь их? Где их хлеб? — Кен вытащил из кармана завернутый в газету хлеб и протянул Розали. Хлеб хранил тепло его тела. Розали взяла хлеб и откусила от него кусочек.
— But it is old and hard![34] — крикнул он, делая движение задержать ее.
— У меня хорошие зубы! — возразила она.
Но вот один лебедь, подплыв к самому берегу, распростер свои темные крылья и стал бить ими по воздуху, вытягивая шею вверх и гневно шипя на Розали. Наши друзья посмеялись над его жадной ревностью, правда, не без испуга. Остальные птицы подплыли к своему вожаку. Розали медленно бросала им черствые крошки, и птицы неспешно, с достоинством принимали угощение.
— И все же я опасаюсь, — сказала Анна матери, когда они пошли дальше, — что этот злой лебедь не простил тебе хищения своей пищи. Он все время был подчеркнуто холоден и надменен.
— Нет, почему, — возразила Розали. — Он только на одно мгновение испугался, что я съем весь хлеб. Ему тем более должно было прийтись по вкусу то, что пришлось по вкусу мне.
Они приблизились к замку, к чистому круглому пруду, в котором он отражался. На островке в полном одиночестве стоял тополь. На посыпанной гравием площадке, перед входом в невесомо легкое строение, изысканная соразмерность которого граничила с прихотливой вычурностью, а розовый фасад кое-где — увы! — облупился, несколько людей в ожидании открытия замка коротали время, сверяя с данными карманных справочников геральдические фигуры на фронтоне, ангела с давно остановившимися часами и каменные гирлянды цветов на высоких башнях. Розали и ее спутники примкнули к ним и, подняв головы, тоже принялись рассматривать очаровательные архитектурные украшения феодальных времен, овальные «oeils-de-boeuf»[35] под крышей цветного шифера. Мифологические фигуры — Пан и его нимфы, довольно игриво и легко одетые, стояли на цоколях между окон, такие же ветхие, как те четыре каменных льва, что с угрюмым видом, скрестив лапы, охраняли лестницу и входы.
Кен с головой ушел в историю, и восторгам его не было конца. Он находил все «splendid»[36] и «excitingly continental».[37] О dear, стоит только подумать о его прозаической родине за океаном! Там и в помине нет этой аристократической грации обветшания за неимением курфюрстов и ландграфов, что могли бы себя увековечить, воздав столь роскошную дань культуре.
Это, впрочем, не помешало ему повести себя достаточно дерзко в отношении столь почитаемой им культуры и, к вящему удовольствию ожидающих, усесться верхом на круп сторожевого льва, несмотря на то что лев был снабжен острым шипом, как на игрушечных лошадках, — для того чтобы можно было насадить на них конника. Обеими вытянутыми вперед руками он ухватился за этот шип и с гиканием и возгласами «хи!» и «но-но!» делал вид, что пришпоривает царя зверей, поистине являя в своем юном шаловливом задоре как нельзя более милое зрелище. Анна и Эдуард избегали глядеть на мать.
Но тут заскрипели засовы, и Китон поспешил слезть со своего скакуна, ибо ключник, человек с пустым закатанным рукавом, по всей вероятности унтер-офицер и инвалид войны, в утешение получивший это теплое местечко, распахнул двери центрального портала. Он встал в высоком дверном проеме и, пропуская мимо себя публику, вручал входные билеты и тут же надрывал их, сиплым голосом давая заученные наизусть, сотни раз говоренные пояснения.
— Лепные детали фасада, — говорил он, — изготовлены скульптором, нарочно выписанным для этого из Рима, а парк и замок являются творениями французского архитектора. Посетители видят перед собой один из самых выдающихся образцов позднего рококо, уже переходящий в стиль Людовика Шестнадцатого; в замке имеется пятьдесят пять зал и покоев, и весь он обошелся владельцам в восемьсот тысяч талеров, и так далее, и тому подобное.
В вестибюле на входящих пахнуло затхлым холодом. Выстроенные в ряд, там стояли большие войлочные туфли, похожие на лодки. Посетители залезали в них под визг и хихиканье дам, чтобы не попортить драгоценный паркет, и в самом деле одну из главных достопримечательностей парадных залов, куда все и побрели вслед за без умолку говорящим инвалидом, беспомощно шаркая и скользя ногами. В середине каждого покоя прихотливые и разнообразные узоры паркета складывались в затейливые звезды, цветочные гирлянды. Блестящая поверхность, подобно тихой заводи, отражала тени людей, нарядную гнутую мебель, высокие зеркала между увитых гирляндами золоченых колонн, затканные цветами шелковые шпалеры с золотой кромкой, хрустальные люстры, блеклую нежную роспись потолков и медальонов над дверями, где повторялись охотничьи сцены и эмблемы музыки. Несмотря на местами потускневшую амальгаму, все это создавало странную иллюзию ушедших времен. Всюду струящийся поток жеманных золотых завитков, отражавших неповторимый вкус породившего его времени, говорил о расточительной роскоши и неистребимой жажде наслаждений.
Кен Китон вел госпожу фон Тюммлер, держа ее под локоток. Каждый американец так ведет свою даму по улице. Смешавшись с посторонними посетителями, разлученные с Анной и Эдуардом, они следовали за гидом, который хрипло бубнил свой текст, деревянным книжным языком объясняя людям то, что они видят; видят же они далеко не все, поучительно добавил он, по шаблону переходя на топорно шутливый, многозначительный тон, впрочем, нисколько не отразившийся на кривом и кислом выражении его лица. Не все пятьдесят пять комнат замка открыты для обозрения. Эти господа в старину знали толк в шалостях и веселых забавах. Они не упускали удобного случая для тайных похождений, для чего у них имелись укромные уголки, куда можно было попасть при помощи хитрых механизмов, как, например, вот этот. И он остановился возле зеркала, которое, повинуясь нажатию пружины, отодвинулось в сторону, открыв изумленным взорам узкую винтовую лестницу с перилами тонкой сквозной резьбы. Внизу, на цоколе, стоял безрукий торс мужчины, увенчанный виноградными гроздьями и очень условно прикрытый фиговым листом. Верхняя часть туловища была слегка откинута назад, и под вскинутой козлиной бородкой расплывалась широкая, сластолюбивая улыбка. В охах и ахах не было недостатка. «И тому подобное», — сказал гид, — это было его излюбленное выражение. После чего он водворил зеркало с секретом на место.
— Или вот еще, — сказал он, пройдя немного дальше, и сделал так, что отодвинулась часть шелковых шпалер, оказавшаяся потайной дверью, за которой открывался уводивший в неизвестность узкий коридор. Оттуда пахнуло плесенью. — Вполне в их вкусе, — сказал однорукий, — иные времена, иные нравы! — сентенциозно изрек он и повел посетителей дальше.
Войлочные лодки нелегко было удержать на ногах. Госпожа фон Тюммлер уронила одну из них, и покуда Китон, встав на колени, со смехом ловил ее и снова одевал ей на ногу, посетители успели уйти вперед. Он снова взял ее под локоть, но она, мечтательно улыбаясь, не трогалась с места, глядя вслед исчезавшим в отдаленных покоях людям. По-прежнему опираясь на его руку, она обернулась назад и стала стремительно ощупывать шпалеры там, где они открылись.
— You aren't doing it right, — шепнул он. — Leave it to me't was here.[38] — Он разыскал пружину. Дверь послушно открылась, и затхлый воздух потайного хода поглотил их. Было темно. Со вздохом глубокой безысходной муки Розали охватила руками шею юноши, и он, тоже ликуя, прижал к себе ее трепещущее тело.
— Кен, Кен! — твердила она, уткнувшись лицом в его шею. — Я люблю тебя, я тебя люблю, ты знал об этом, правда? Я не сумела скрыть это от тебя. А ты, ты тоже любишь меня немножко, хоть немножко? Скажи, можешь ли ты любить меня, такой молодой, как по велению природы полюбила тебя я, седая женщина? Да? Твой рот, — о, наконец-то! — твой молодой рот, который меня так мучил, твои губы. Можно поцеловать их? Скажи, можно? Ведь ты пробудил меня вновь, мой любимый! Я все могу, как ты, Кен. Любовь сильна — она чудо, она приходит и делает чудеса. Целуй меня, милый! Меня так мучили твои губы, о, как они меня измучили! Потому что — знаешь ли ты? — плохо приходилось моей бедной голове от разного умничания, от мыслей об отсутствии предрассудков, о том, что распутничать не мой удел, о том, что мне грозит опустошенность и разрушение из-за разлада между образом жизни и прирожденными убеждениями. Ах, Кен, это умничание действительно едва не опустошило, не разрушило меня, а ты… Это ты наконец! Это ты, это твои волосы, твое дыхание, твои руки! Это твои руки обнимают меня, я узнаю их, это тепло твоего тела, от которого я вкусила, а черный лебедь рассердился…
Еще немного, и она упала бы. Он поддерживал ее, увлекал вперед по таинственному ходу. Постепенно их глаза привыкли к темноте. Ступеньки вели вниз, к полукруглой арке-двери, за которой унылый верхний свет падал на альков, обитый шелком с вытканными по нем целующимися голубками. Маленький диванчик стоял там, амур с завязанными глазами держал над ним что-то вроде светильника. Было душно. Они сели.
— Фу! Мертвящий запах тлена! — с содроганием шепнула Розали, прижимаясь к его плечу. — Как печально, Кен любимый, что мы оказались здесь, среди давно ушедших, мертвых… Я мечтала целовать тебя на лоне природы, овеянная ее запахами, сладостным дурманом жасмина и черемухи. Вот где я должна была целовать тебя, а не здесь, в этом гробу. Пусти, оставь меня, гадкий мальчик! Я буду твоей, но не здесь, среди тлена. Завтра я приду к тебе, в твою комнату, завтра утром, а может быть, и сегодня вечером. Я устрою это, я сыграю шутку с моей премудрой Анной!..
Он заставил ее еще раз повторить это обещание. Наконец они решили, что пора вернуться к своим. Неизвестно только было — идти ли обратно или вперед. Кен решил идти вперед. Через другую дверь покинули они мертвую комнату наслаждений. Здесь тоже был темный ход, он петлял, он подымался вверх, пока наконец не привел к заржавленной калитке. Она поддалась могучему напору Кена, но снаружи так густо была опутана вьющимися растениями, что им едва удалось выбраться. Воздух был чист и свеж, журчала вода. За широкими клумбами, где распускались первые цветы весны — желтые нарциссы, били фонтаны. Они вышли в парк с другой стороны. Только что справа показалась группа посетителей уже без гида. Анна и Эдуард шли последними. Наша пара смешалась с шедшими впереди людьми, которые начали разбредаться по парку, любуясь фонтанами. Самым правильным было остановиться, оглядеться, пойти навстречу брату с сестрой. «Где вы были?» — последовал вопрос, и: «Об этом следует спросить вас!» И: «Можно ли так исчезать?» — Анна и Эдуард даже возвращались, чтобы разыскать пропавших, но все было напрасно, «В конце концов не могли же вы исчезнуть с лица земли», — сказала Анна. «Не в большей мере, чем вы», — возразила Розали. Никто не решался смотреть другому в глаза.
Они миновали кусты рододендрона, обогнули замок и вышли обратно к пруду. Трамвайная остановка была почти рядом. Сколь длительно было путешествие на лодке, вдоль изгибов Рейна, столь стремительно совершилось возвращение в шумном трамвае, проносившемся по фабричному району, мимо рабочих окраин. Брат и сестра скупо обменивались словами между собой или с матерью, руку которой Анна держала в своей, заметив, что Розали дрожит мелкой дрожью. В городе, около Королевской аллеи, они распрощались с Китоном.
Госпожа фон Тюммлер не пришла к Кену Китону. Этой ночью она почувствовала себя очень худо и напугала весь дом. То, что недавно сделало Розали столь счастливой, столь гордой, то, что она превозносила как чудо, содеянное природой, как возвышенную победу духа, — сейчас возобновилось самым зловещим образом. У нее еще достало сил позвонить, но когда прибежали дочь и служанка, они нашли ее истекающей кровью, без памяти.
Доктор Оберлоскамф прибыл немедленно. Розали пришла в сознание у него на руках и очень удивилась его присутствию.
— Как, доктор, вы здесь? — сказала она. — Очевидно, Анна побеспокоила вас? Но у меня самое обыкновенное женское недомогание…
— При некоторых обстоятельствах, уважаемая, подобные функции нуждаются в наблюдении, — возразил старик.
Дочери он со всей решительностью заявил, что больную необходимо поместить в гинекологическую клинику.
— Это случай, требующий подробного исследования, которое, впрочем, может показать и полную его безобидность. Вполне возможно, что метрорагии — предыдущая, о которой он сейчас впервые услышал, и эта, всех встревожившая, вторая — вызваны миомой, которую без особых трудностей удастся оперировать и удалить. Под наблюдением директора и первого хирурга клиники, профессора Мутезиуса, вашей уважаемой матушке будет обеспечен надежнейший уход.
Его предписание было выполнено, к немому изумлению Анны, без возражений со стороны госпожи фон Тюммлер. Только глаза у матери были очень большие, отсутствующие.
Бимануальное исследование, предпринятое Мутезиусом, показало не по возрасту увеличенную матку, неравномерное утолщение ткани, а на месте придатка с уже угасающей деятельностью — бесформенную опухоль. При выскабливании были найдены карциноматозные клетки, судя по характеру, частично возникшие в яичниках. Не подлежало сомнению, что и в самой матке наличествует очаг ракового поражения. Все указывало на бурное развитие злокачественной опухоли.
Профессор, человек с двойным подбородком, ярко-красным лицом и водянисто-голубыми глазами, которые легко наполнялись слезами без какой бы то ни было связи с душевными переживаниями, отвернулся от микроскопа.
— Я сказал бы, что очаг поражения предостаточен, — обратился он к своему ассистенту, доктору Кнеппергесу. — Все же оперировать будем, Кнеппергес! Тотальная экстирпация в пределах здоровой ткани малого таза и лимфатических желез, возможно, продлит жизнь.
Но вскрытие брюшной полости при белом, дневном свете дуговых ламп явило врачам и сестрам страшную картину, не оставлявшую надежды даже на временное улучшение. Оказывать помощь было слишком поздно. И брюшная полость — это было видно и невооруженным глазом — подверглась нашествию пораженных клеток. Все лимфатические железы были карциноматозно перерождены; не оставалось сомнения, что очаги рака распространились и в печени.
— Вот те и на! Взгляните-ка на эту картину! — сказал Мутезиус. — Вероятно, это превосходит все ваши ожидания. — О том, что это превзошло и его собственные, он предпочел умолчать. — Нашему благородному искусству, — присовокупил он, между тем как глаза его наполнились слезами, не говорившими ни о чем, — здесь предъявлено слишком непосильное требование. Вырезать все это невозможно! Если вы изволили заметить, что эта штука в виде метастаза проникла уже и в оба мочеточника, вы не ошиблись. Полагаю, уремия не за горами. Я, видите ли, не отрицаю возможности, что матка сама произвела это прожорливое отродье. И все же советую вам прислушаться к моему предположению — вся история берет начало в яичниках. Неиспользованные гранулезные клетки, те, что со дня рождения находятся в полном покое, с наступлением переходного возраста, бог весть, благодаря каким возбудителям, получили пагубное развитие. Тогда, post festum[39] если вам угодно так выразиться, эстрогенные гормоны устремляются на организм — затопляют, захлестывают его, что и приводит к гормональной гиперплазии слизистой оболочки матки и, как правило, сопровождается кровотечениями.
В полупоклоне, которым Кнеппергес, тощий, самонадеянный молодой человек, поблагодарил за поучение, сквозила скрытая ирония.
— Что ж, начали, lit aliquid fieri videatur,[40] — сказал профессор. — Все жизненеобходимое мы ей оставим, как ни парадоксально это звучит в данном случае.
Анна ждала наверху в палате. Мать подняли в лифте, перенесли на носилках и уложили на кровать. Она проснулась после наркоза и невнятно проговорила:
— Анна, детка, он шипел на меня.
— Кто, мамочка?
— Черный лебедь.
И тут же снова уснула. Но в последующие дни Розали не раз еще вспоминала о лебеде, его кроваво-красном клюве и темном биении распластанных крыльев. Вскоре уремическая кома повергла ее в глубокое беспамятство. И когда началось двухстороннее воспаление легких, уставшее сердце больше уже не могло бороться.
Но незадолго до конца ее сознание еще раз прояснилось. Розали подняла глаза на дочь, которая сидела у кровати, сжимая руку матери в своей руке.
— Анна, — сказала она, силясь подвинуть верхнюю часть тела немного ближе к краю кровати и поближе к дочери. — Ты слышишь меня?
— Конечно слышу, мамочка, любимая.
— Анна, никогда не говори о жестокой издевке природы, о том, что она обманывает. Не ропщи на нее. Я не ропщу. Не хочется уходить туда, от вас, от жизни и весны. Но разве без смерти была бы весна? Смерть — великая спутница жизни, и если ко мне она явилась в облике воскресшей молодости и любви, это не было ложью, а было благоволением и милостью.
Еще неуловимое движение, еще поближе к дочери, и замирающий шепот:
— Природа… Я всегда любила ее. И она всегда ко мне благоволила.
Розали скончалась мирно, оплакиваемая всеми, кто ее знал.
Примечания
1
В добрый час! (франц.)
(обратно)2
Закрути крышку (англ.).
(обратно)3
Я спал как убитый (англ.).
(обратно)4
Альфред играет в теннис. Его плечи шириной в тридцать дюймов (англ.).
(обратно)5
Трудно произносимые слова для фонетических упражнений. (Прим. ред.)
(обратно)6
Жаргон (англ.).
(обратно)7
Извините меня (англ.).
(обратно)8
Маклер (англ.).
(обратно)9
Торговля недвижимостью (англ.).
(обратно)10
Средняя школа (англ.).
(обратно)11
Америка ему безразлична (англ.).
(обратно)12
История (англ.).
(обратно)13
Историйка (англ.).
(обратно)14
Конек (англ.).
(обратно)15
Гимнастика (англ.).
(обратно)16
Армия (англ.).
(обратно)17
Учения (англ.).
(обратно)18
Только слегка ранен (англ.).
(обратно)19
Уволен с почетом (англ.).
(обратно)20
Восхитительно, в самом" деле (англ.).
(обратно)21
Напитки (англ.).
(обратно)22
Боже мой! (англ.)
(обратно)23
Милы (франц.).
(обратно)24
Священный (англ.).
(обратно)25
Слегка смущен (англ.).
(обратно)26
Таинственную историю (англ.).
(обратно)27
Вечерним костюмом (англ.).
(обратно)28
Да, вы правы! (англ.)
(обратно)29
Сегодня совершенно восхитительна! (англ.)
(обратно)30
Похмелье (англ.).
(обратно)31
«Пурпурное сердце» (англ.).
(обратно)32
Благодарю вас (англ.).
(обратно)33
Песня (англ.).
(обратно)34
Но он завалявшийся и черствый! (англ.)
(обратно)35
«Бычьи глаза» (франц.).
(обратно)36
Великолепным (англ.).
(обратно)37
Восхитительно-континентальным (англ.).
(обратно)38
Вы не так это делаете. Позвольте мне. Это здесь (англ.).
(обратно)39
Здесь — после всего (лат.).
(обратно)40
Чтобы казалось, будто что-то сделано (лат.).
(обратно)Комментарии
1
Петер, фон Корнелиус (1783 — 1867) — известный немецкий исторический живописец из школы «назарейцев» в Риме, иллюстратор «Фауста», «Божественной Комедии» и «Песни о Нибелунгах», мастер фресковой живописи на историко-религиозные темы.
2
Бохум — город в Западной Германии, в Рурской области.
3
...у Шиллера в «Коварстве и любви» есть человечек... — Имеется в виду гофмаршал фон Кальб (действие первое, явление шестое).
4
...про Сару, что она благодаря чуду... — По библейскому преданию, Сара, жена ветхозаветного патриарха Авраама, родила сына Исаака, когда ей было девяносто, а Аврааму — сто лет.
5
Золотой клад, охраняемый русалками с Миссури-ривер... — Намек на сокровище, которое стерегут дочери Рейна в древнегерманском сказании о Нибелунгах, послужившем основой для тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга».
6
Меровинги — династия франкских королей (V — VIII вв.), ведущая свое происхождение от легендарного короля Меровея.
7
Мажордом Пипин — Пипин Короткий (714 — 768) — мажордом (старший сановник) при дворе последнего Меровинга, Хиль-дериха III, захвативший власть и основавший династию Каро-лингов (потомки Карла Великого).
8
Барбаросса (Рыжебородый) — Фридрих I (1125 — 1190)) — германский король из династии Гогенштауфенов и император Священной Римской империи.
9
Кайзерсверт — старинный немецкий город на правом берегу Рейна.
10
Альберт фон Берг (1193 — 1280)N — немецкий философ-схоластик, комментатор Аристотеля, автор трудов по теологии, алхимии, физике, естественной истории, один из предшественников научной мысли Возрождения.
11
Ян Виллем — курфюрст Иоганн-Вильгельм (1690 — 1716), многое сделавший для процветания Дюссельдорфа.
12
...о споре из-за Юлих-Клевского наследства. — После смерти последнего представителя Клевского дома, курфюрста Иоганна-Вильгельма, возгорелась борьба за Юлих-Клевские земли, на которые заявил притязания, вместе с прочими претендентами, римско-германский император Рудольф II; борьба эта привела к войне 1614 — 1666 гг. и закончилась разделом спорных владений между Бранденбургом и Пфальц-Нейбургом.
13
Эмерсон Ралф Уолдо (1803 — 1882} — американский философ, публицист и поэт.
14
...курфюрст Карл-Теодор, который в восемнадцатом веке перенес свою резиденцию из Дюссельдорфа.., в Мюнхен. — После смерти Максимилиана-Иосифа в 1777 г. его преемником в Баварии сделался курфюрст пфальцский Карл-Теодор (1724 — 1799), который вовлек страну в войну за баварское наследство (1778 — 1779).



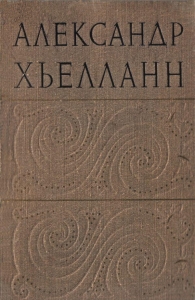
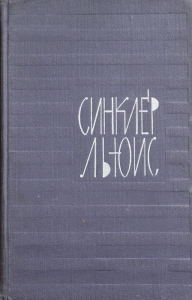
Комментарии к книге «Обманутая», Томас Манн
Всего 0 комментариев