Хаим Нахман Бялик Как трубе стало стыдно
Эту историю я слышал от одного гостя, приглашенного на пасхальный седер и случайно сидевшего рядом со мной за трапезой. То был солдат-еврей лет сорока, из запасных, призванный в этом году на войну. Я передаю его слова точно, без прикрас.
I
Второй раз в моей жизни, — начал солдат, — мне приходится проводить седер за чужим столом. В первый раз это случилось, когда я был мальчиком лет девяти, тридцать два года тому назад; тогда вместе со мной Пасху в чужом доме проводила вся наша семья: отец, мать, брат, сестры и даже наш слуга Степа. Как это вышло, вы спрашиваете? Дело было так.
Мой отец с семьей поселился в маленькой деревушке на расстоянии дня езды от еврейского местечка всего через день, ровно через один только день после того, как евреям запретили жить в сельских местностях. Если б он переселился туда днем раньше, ничего бы не произошло, но он опоздал на один день — и участь его была решена. А шел он против закона не ради удовольствия и не из желания прекословить, его к этому вынудила должность лесничего, которую он получил в одном из соседних лесов, а когда речь идет о заработке, никто ведь не думает ни о преступлении, ни о последующем наказании. Местные власти поначалу было показались строгими, но в сущности были очень довольны: в конце концов, для них полезнее один бесправный еврей, чем десять с правами; этот — плодовое дерево, а те — бесплодная смоковница. Действительно, прошло некоторое время, и между обеими сторонами: моим отцом-преступником и блюстителями законов — установились «нормальные отношения»: отец с семьей жил в деревне, а они за это получали, сообразно чину, ежемесячную мзду, а кроме того, подарки к случаю, вроде небольших сумм по праздникам и небольших безвозвратных ссуд да прочих подношений ко всем христианским и еврейским праздникам и ко дню рождения станового пристава, его жены и всех детей. Эти люди, вы знаете, не брезгуют никакими подачками: пару откормленных индюков, бочонок вина, бутылку водки, сотню яиц, сахарную голову[1] в синей бумаге, фунт чаю, пачку табаку, творог, маковые ушки[2] — все берут. И как невинно! Становой, например, никогда не требует, а просит. «Йося, — говаривал он отцу, опуская ему на плечо свою тяжелую руку, — прикажи, пожалуйста, свезти ко мне немного дров из твоего леса, зима ведь подходит уже». Или: «Не забудь, голубчик, послать мне черепиц, этак штук тысячу; ведь видишь сам: крышу чинить пора».
У косоглазого урядника была своя манера: на что свой косой глаз положит, то начнет расхваливать. «Ита, — говорил он матери, посматривая на жирную курицу, копавшуюся в грязи на дворе, — где ты достала такую чудную курочку?» И будьте покойны, после такой похвалы эта чудная курочка складывала свои крылышки на сене в синей коляске урядника. Урядник норовил являться к нам непременно по субботам или по праздникам и обязательно во время обеда. Только садились за стол, как в окне, выходившем на улицу, показывалась рыжая лошадь и синяя коляска урядника, а в коляске и сам урядник. Что поделаешь? Принимали его с почетом, приглашали к обеду. Субботние песни отменялись, книга, в которую папа заглядывал в перерыве между блюдами, закрывалась и откладывалась в сторону, и начиналась пьяная болтовня, осквернявшая субботний стол непристойными словами и насмешками, которые приходилось принимать как милую шутку, смеяться им, когда внутри все переворачивается от боли и рука сжимается, порываясь схватить гостя за шиворот и вышвырнуть его вон.
Правда, со временем наша семья привыкла к нему, перестала обращать на него внимание, и нередко, залив в глотку целую бутылку водки и охмелев, он пел вместе с нами субботние песни, сопровождая их по своему обыкновению ужимками и сквернословием; при этом он подмигивал хозяйке осоловелыми масляными глазками и как бы нечаянно лапал служанку Парашу, толстую крестьянку с изрытым оспой лицом. Только наш привезенный из местечка меламед никак не мог примириться ни с урядником, ни с собакой, привязанной у нас во дворе на цепи. Обоих он всякий раз видел будто впервые, и оба повергали его в панический ужас, хотя отец за душу меламеда приносил особую мзду.
Так прожили мы в деревне лет пять. Тем временем отец из своего леса построил домик и пригласил на новоселье всех крестьян деревни, накрыв для них отдельный стол. За домом, вниз по склону, тянулся большой огород, который разбила мать. В хлеву стояли три молочные коровы, в конюшне — пара лошадей. Во дворе гуляли куры со своими выводками, кричали гуси. В канаве перед двором возились гусята, на ближайшей поляне паслись теленок и жеребенок. Все, как у крестьян. Доходы были небольшие, жизнь скудная, но было в ней какое-то спокойствие и беззаботность.
Все будни отец проводил в лесу, только в канун субботы или праздника возвращался в своей бричке домой и проводил в кругу жены и детей день-два. Дети с нетерпением и радостным трепетом ждали его приезда возле дороги, уходившей в лес. Как только с опушки леса раздавались звуки знакомых колокольчиков, дети встряхивались, словно птахи, и с криком и визгом бежали к коляске: «Папа, папа!» И вот уже они все карабкаются на повозку, падают в нее и жмутся к отцу. Один усаживается на колени, другой виснет на шее, третий ощупывает карманы, чтобы узнать, какой гостинец привез папа. Даже наш кучер, он же лесник, Степа, рослый широкоплечий парень, заражается общей радостью, улыбается, обнажая свои белые и крепкие зубы, и, чтобы потешить детей, взмахивает изо всех сил кнутом, так что лошади вихрем доносят их к дому.
Я не сказал вам еще, что в той же деревне долгие годы жил, и с правом на жительство, еще один еврей, по имени Зелиг. Его дом стоял на вершине холма, на краю деревни, а наш — у подножия холма, и два эти еврейских дома, стоявшие несколько в стороне от других деревенских домов и отличные от них высотой, формой крыши и окон, казались отдельным маленьким хуторком. Очень скоро сверху вниз была протоптана по холму узкая тропинка, мелькавшая в зелени, как пробор в волосах. Она связала крепкими узами оба дома. В обоих домах один меламед, одни порядки и обычаи. Каждая хозяйка знает, что в горшке у другой, они посылают друг дружке кушанья и печенья на пробу, одалживают друг у дружки лопату, горшок, сито, покупают на двоих пучок зелени, лукошко яиц, петушка с курочкой. В зимние вечера и в длинные летние дни они заходят навещают друг дружку или усаживаются возле дома болтать, перебрать горох, варить варенье, щипать перья, вязать чулок.
Прошло немного времени, и союз между двумя семьями укрепился. Соседи породнились. У отца нашего были и сыновья, и дочери. Старшему, Шмуэлю, уже исполнилось двадцать, у него была льгота, освобождавшая от воинской повинности. Наоборот, у Зелига сперва шли девочки, потом мальчики, и старшая дочь Зельда уже была на выданьи. Отпраздновали помолвку, назначили день свадьбы. Однако льгота не спасла жениха, его забрали-таки в армию, и к огорчению обеих семей свадьбу отложили до лучших времен, пока не выйдет срок службы и жених не вернется домой.
Одно обстоятельство очень удручало папу: в деревне не было постоянного миньяна,[3] а суббота или праздник без общей молитвы, говаривал он, теряют половину своей прелести. Всего у нас набиралось семь человек для миньяна — четверо у нас: папа, два старших брата и меламед, и трое в семье Зелига. А когда брат уехал служить, осталось шестеро. Поэтому отец очень радовался, когда Бог посылал ему на субботу гостей: лесоторговцев, приказчиков с лесных складов, других лесничих или просто какого-нибудь еврея, разъезжающего по деревням — стекольщика, коробейника. В подобных случаях отец с вечера посылал уведомить об этом Песаха-Ици, молочника, простого и бездетного еврея, который жил со своей бесплодной женой и молочными коровами на одиноком хуторе в ближней долине, на расстоянии не большем, чем разрешается по закону пройти в субботу. Тот приходил к нам в субботу утром, шел через поле и огороды, надев белый талес[4] под праздничный сюртук — шел, чтобы присоединиться к остальным. Делал он это не потому, что был особо щепетилен в исполнении законов — большая часть деревенских жителей не очень строга в исполнении заповедей, — а потому, что если уж молиться в субботу на людях, то надо делать это как следует. Когда до миньяна не хватало, добавляли несовершеннолетнего и давали ему в руки Пятикнижие.[5] Когда же миньяны стали собираться чаще, папа привез из местечка свиток Торы, который хранился в небольшом кивоте за занавеской; в классной комнате для него был отведен особый угол, и с тех пор он нагонял на нас, малышей, мистический страх своей таинственной святыней. Наш меламед нараспев читал Тору перед маленькой деревенской общиной, облачавшейся в талесы и вооруженной очками и Пятикнижиями, и это чтение придавало субботнему утру настроение особой святости; святость, казалось, чувствовала даже медная посуда, сверкавшая на полках буфета и улыбавшаяся нам оттуда нежной и ласковой субботней улыбкой. В смежной комнате в это время стояла мама в чистом субботнем платье, в шелковом платке, с толстым молитвенником в руках; губы ее шепчут, глаза наполняются слезами умиления, и мысли ее при этом приблизительно таковы: «Правда, мы заброшены в далекую деревню, затеряны среди иноверцев, но Бог милосерден и добр, Свой народ Он не оставляет, не покидает. Он, многомилостивый, дал нам субботу, дал приют у нас в доме Своей святой и чистой Торе». В честь такой субботы, когда собирался миньян, мама накануне заготовляла лишний кугель[6] и после молитвы угощала всех водкой, пряниками и прочими субботними лакомствами. Евреи пьют, по своему обыкновению, маленькими глотками, благодарят папу и маму: «На здоровье, Йося, дай Бог, чтобы евреям жилось хорошо и вольготно. На здоровье, Ита, дай Бог, чтоб ваш сын поскорее вернулся». Мама вздыхает и отвечает: «Аминь, дай Бог, да будет воля Его».
Порой бывали у нас в доме и дружеские беседы и застолья. В зимний вечер, на исходе субботы, когда случалось резать теленка или гусей и вытапливать жир, к нам приезжал из соседнего местечка резник, умный еврей, всегда чисто одетый, в пальто с широким поясом и с футляром для ножей. Он отличался приятной манерой говорить и приносил с собою дух местечкового еврейства и какую-то торжественность. По такому случаю к нам тотчас же после гавдалы[7] собирались все участники миньяна: ребе Зелиг с женой и сыновьями, молочник Песах-Ици, его бесплодная жена, два-три лесоторговца, приглашенных папой в пятницу с ночевкой. Все сидят у стола вокруг кипящего самовара, пьют чай и потеют. Папа играет с Зелигом в «волки и овцы», меламед стоит над ними, раскачивается, как над раскрытым Талмудом, и советует обоим противникам одновременно. Весельчаки-приказчики развлекают женщин своими шутками. Молочник Песах-Ици не вынимает изо рта трубки с махоркой и наполняет комнату дымом, а мой старший брат, музыкант, стоит и наигрывает на скрипке хасидскую или румынскую мелодию.
Но вот в комнату входит резник. «Добро пожаловать! Доброй недели!» — и ему уступают почетное место во главе стола. Наскоро выпив два-три стакана чаю и согревшись, он заворачивает полы лапсердака, засучивает рукава и со сверкающим ножом в руке с разбойничьим видом отправляется на «бойню», т. е. в хлев, чтоб расправиться с теленком или с гусями. Дворовые собаки слышат крики связанных гусей и мычание поваленного теленка, осаждают хлев и с нетерпеливым, прерывистым лаем ждут своей доли, непригодных в пищу кусков, которые обыкновенно кидают им. Окончив свою работу, резник возвращается в комнату, садится на то же почетное место и вновь обретает вид благообразного еврея с широким поясом и приятной речью. Игра в «Волки и овцы» откладывается, и все взоры обращаются к нему. Ребе Гади — так зовут резника — сидит в чистой черной бархатной ермолке, под которой белеет широкий лоб, и рассказывает. Тут и сказания об Илье-Пророке — добром будь помянут, и о Баал-Шем-Тове — благословенна его память, и о старце из Шполы — да осенит нас его благодать, и еще сказание об одном из тридцати шести праведников…[8] Все молчат и напряженно слушают. Меламед сидит с закрытыми глазами, теребит рукой свою тощую бороденку, раскачивается, словно над раскрытым Талмудом, и внемлет каждому слову, поминутно испуская богобоязненные вздохи, Песах-Ици окутан клубами дыма, шляпа его сдвинулась на затылок, шалопаи-приказчики внезапно посерьезнели, а одна из женщин спешит спрятать под платок непокорную прядь волос. Самовар и тот понижает голос и глухо бормочет. Тихо. Рассказ резника, негромкий, мерный и выразительный, течет медленно, сочится сладкими каплями и проникает в сердца, как животворный бальзам. Выходит, мир еще не остался без надзора, ведь Хранитель Израиля не дремлет, не спит…[9]
После рассказов — трапеза «Мелаве Малка», проводы царицы Субботы; начинается она выпивкой — водка, наливка, на закуску шкварки, пупки, печенка только что зарезанных гусей, в продолжение — опять выпивка, да горячий борщ, да блинчики с начинкой, под конец — снова выпивка, пение, игра брата на скрипке, воодушевленные пляски до рассвета. Молочник Песах-Ици, этот молчаливый еврей, в такую ночь иногда совершенно преображался и доходил чуть не до исступления. Он пускался в пляс и плясал и пел до самозабвения, до полного изнеможения, среди пляски сбрасывал с себя сюртук — лицо его пылает, глаза закрыты, руки простерты в молитвенном экстазе, а он пляшет и кричит: «Израиль, святой народ, эх, чтоб мне послужить искуплением за ноготок с Израилева мизинчика!» Или причитает: «Евреи, люди добрые, дайте мне сгореть во славу Господню. Сжальтесь надо мной, свяжите и бросьте на костер. Ой, ой, сердце мое сгорает любовью к Израилю!» Так он, бывало, пляшет, кричит, плачет, пока не падает замертво на скамью. А назавтра, рано утром, проспавшись, он уходит украдкой и отправляется домой, возвращается к своему молоку, к коровам, к гусям, к трубке и снова надолго умолкает.
Но большинство праздников у нас проходило в скромной и спокойной радости, овеянной тихой печалью. Оторванность от еврейской среды, оторванность вынужденная, в эти дни особенно чувствуется сельскими жителями, и сердце наполняется тоской. Людское-то исполняется согласно обычаям: трапезы, питье, сон, отдых. А вот что касается Бога, того недостает — нет синагоги, нет еврейской среды, ничего нет. А иногда нет даже миньяна, потому что меламед на эти дни уходит домой и гостей тоже не бывает: ведь даже самый последний бедняк остается на праздник дома; если даже и удается собрать миньян, то что за удовольствие — ох, грехи наши тяжкие! — кружиться с одним свитком Торы и потрясать одной пальмовой ветвью.[10] Праздничные визиты тоже не слишком разнообразны. Семьи Зелига и Песаха-Ици приходят к нам, наша семья и семья Песаха-Ици — к Зелигу, наша семья и семья Зелига — к Песаху-Ици, вот все возможности и исчерпаны. Сидят в гостях друг у друга, щелкают орехи, лузгают семечки, рассказывают давно устаревшие новости, постукивают кольцами по столу и зевают так, что скулы болят.
С тех пор, как старший брат ушел на военную службу, моей матери к чаше ее тихой скорби добавилась еще одна капля — особенно это ощущалось по субботам и праздникам. Семейный круг сузился, скрипка брата висела на стене немая и одинокая. Место брата за столом оставалось незанятым и всегда было перед глазами матери, как зияние на месте вырванного зуба или отрезанного пальца. Каждый раз, раздавая кушанье едокам, она поднимала грустные глаза на пустое место и сдерживала горестный вздох, чтобы не омрачить радость праздника или субботы.
Отношения между отцом и крестьянами были очень доброжелательные. С тех пор, как отец приехал следить за рубкой леса, в деревне прибавился заработок: одни крестьяне работали в лесу, другие возили дрова и бревна в местечко, третьи подвозили лес к ближайшей станции железной дороги. Строительный материал крестьяне нашей деревни получали за бесценок или в рассрочку, и мало-помалу на месте покривившихся и вросших в землю хат появились хорошие и высокие постройки — новый дом, амбар, хлев. Две-три соломенные крыши сменились черепичными, многие прорехи в заборах были залатаны. Бывали, правда, случаи, когда лесоматериал крестьяне увозили без разрешения — в деревне, расположенной возле леса, без этого не обходится, но папа не преследовал виновных по суду и часто делал вид, что и вовсе ничего не замечает. В конце концов, он ведь среди них живет, да еще без разрешения, и вообще еврею лучше не лезть в дрязги. Крестьяне очень уважали его за это и не раз обращались к нему со своими тяжбами и недоразумениями. Папа умел говорить с ними на их языке и доступным для них образом: одного умилостивит, другого упрекнет, третьего отругает, и все уходят от него довольными. С самыми почтенными крестьянами мы в праздник Пурим даже обменивались подарками: папа посылал им «маковые ушки» и другое печенье, а они в ответ слали живую курицу, яйца, фунтик мака. Один из них, Василий, умный и разбитной мужик, старый папин приятель, даже послал своего сына к нашему меламеду для обучения письму (в деревне на сорок дворов не было ни школы, ни церкви, ни священника), и маленький мужичок Петька совсем объевреился. Он знал наизусть много отрывков из молитв и библейские истории, которые рассказывали ему товарищи-евреи или которые ему доводилось случайно слышать, писал он по-русски еврейскими буквами, но наоборот, непременно слева направо. В святочную ночь деревенские парни приходили со своими песнями к нам под окна, и наша старая нянька Явдуха выносила им из дому белую булку, бобов, гороху, мелких денег. Весной старший брат отправлялся в ближайшую рощу и привешивал между двумя деревьями качели, на которых качались все деревенские дети, русские и еврейские вместе. Зимой он делал им салазки, на которых дети скользили с верхушки зелиговой горы до самого низу. Летними вечерами иногда деревенские парни и девки собирались возле нашего дома. Шмуэль, мой брат, стоял в комнате у окна и играл на скрипке, а они перед домом водили хороводы. Между прочим, эта старуха Явдуха вынянчила у нас трех детей и очень привязалась к ним и ко всей семье. Она добросовестно воспитывала малышей: кормила и поила, укладывала спать и будила, следила, как еврейка, за тем, чтоб они надевали маленький талес, чтоб ходили с покрытой головой и молились по утрам, следила за их занятиями, за набожностью, не позволяла есть молочное с мясным. Когда кто-нибудь из них заболевал, она тайком приносила склянку святой воды и кропила больного.
Все как будто шло хорошо. Жило себе спокойно маленькое еврейское семейство в одной из маленьких деревушек — и кому какое дело? Так нет же, сатана попутал, и в одно мгновенье все пошло прахом.
II
Явился сатана на шестой год нашего пребывания в деревне. В губернском городе произошли перемены: один губернатор то ли умер, то ли ушел в отставку, его место занял другой, по всей губернии начали следить за порядком, пошли строгости, многих выселяли. Зловещие слухи, ежедневно приходившие из окрестных мест, повергали в страх и беспокойство жившие в деревнях одинокие еврейские семьи. Судьба каждого висела на волоске, зависть и боязнь потерять кусок хлеба насущного изменили людей. Каждый дрожал за свою шкуру и с опаской смотрел на соседа. Папа иногда возвращался из лесу расстроенный, долго шептался с матерью и с Зелигом, потом внезапно ехал в уездный или губернский город, чтобы смягчить настроение властей. Самая мысль о выселении из деревни леденила кровь. Наша семья уже прочно осела там, и как раз незадолго до этих строгостей папа начал строить смоляной завод, в который вложил почти весь свой капитал. Очевидно, хлопоты отца в присутственных местах не имели успеха, потому что он возвращался из своих поездок еще более озабоченным, чем прежде. Чиновники в департаментах вдруг снова стали очень строги. Дань выросла во много раз, но полной уверенности все равно не было. Урядник продолжал навещать нас, словно по долгу службы, но теперь он старался приезжать к вечеру, незаметно; правый глаз его, который, казалось, косил еще более, становился вдруг чужим и холодным, почти сердитым, и он как будто вовсе не узнавал нас. Деревенские крестьяне тоже вдруг изменились: какое-то высокомерие появилось в них — высокомерие, которого раньше не было. И что хуже всего — ночи не проходило без того, чтобы не воровали лес. Были среди крестьян и такие, которые даже не считали нужным скрывать это, зная, что отцу лучше молчать и делать вид, что он ничего не замечает. Дошло до того, что однажды ночью наш сторож накрыл одного крестьянина, Сашку Волка, известного в деревне вора, когда тот с двумя сыновьями грузил на телегу краденые дрова. Воры напали на Степу, жестоко избили его, а дрова отвезли домой. Тут уж отец, разумеется, промолчать не мог и подал в суд. Этим он приобрел себе на деревне немало врагов в семье воров и среди их родичей. Один из них, деревенский грамотей, отъявленный пьяница, начал аккуратно раз в неделю писать на отца доносы одинакового содержания: «Довожу до вашего сведения, что такой-то еврей, живущий со своей семьей в деревне без права жительства, вопреки закону, портит общество своими дурными поступками и наносит ущерб губернии». Крестьянин-вор, бывало, кладет письмо за пазуху и отвозит куда следует. Отца каждый раз вызывали в присутствие, и, возвращаясь со следствия, он бывал бледен, как мертвец. Однажды после такой поездки из пары лошадей, которых отец запрягал в повозку, пришла домой одна. Вторая лошадь, лучшая, осталась у одного из чиновников в качестве залога, а уцелевшая лошадь, которой папа не нашел на месте подходящей пары, вернулась с хозяином одинокая, словно побитая, и сбоку от нее страшно и пусто болталась осиротевшая оглобля. Лицо отца пылало от обиды, точно ему сбрили полбороды или отрезали половину сюртука, а кучер Степа едва не плакал от огорчения и, выпрягая единственную лошадь и отводя ее на конюшню, осыпал ее ругательствами и проклятиями, скрежетал зубами, бил кулаком по морде, вымещая на скотине свой гнев. Потеря эта была, правда, вскоре возмещена. Отец променял оставшуюся лошадь, тоже хорошую, на пару похуже, что очень огорчило Степу, но спокойствие и уверенность к нам уже не вернулись. Не зная, что готовит грядущий день, отец прекратил постройку смоляного завода, и здание осталось неоконченным. Папа говорил, что штабеля кирпичей, брошенные в чаще среди деревьев и ставшие укрытием свиньям и телятам, являются к нему каждую ночь во сне и плачут…
Тем временем строгости по отношению к деревенским евреям усугублялись. Поначалу еще давали малый срок на выселение, потом начали выселять без предупреждения. Откупиться нельзя было никак. Домашние очаги, создававшиеся годами, рушились в одно мгновенье по неожиданному приказу. По дорогам, из деревень в местечки, во всякий день ползли крестьянские телеги, перевозя еврейский скарб. Назавтра эти же крестьяне возвращались с телегами в свои деревни и радовались несчастью оставшихся евреев, которых приказ еще не настиг. Страх затаился в нашей семье — все ожидали самого худшего.
Однажды, в православный праздник, когда папа был дома, Степа в смущении вбежал в дом и рассказал, что крестьяне собрались в кабаке и, пьяные, пишут какую-то бумагу против отца. Главные подстрекатели — Сашка Волк, вороватый мужик, и его родственник-грамотей, а голоса защитников заглушаются водкой, которой жалобщики щедро потчуют сход. Бумага, по слухам, содержит ходатайство схода перед присутственным местом об «удалении жида Йоси из деревни», во-первых, потому что он живет здесь вопреки закону, а во-вторых, потому что он вреден. Говорили, что в деле был замешан и еврей. Около того времени один еврей купил участок леса по соседству с отцом, это привело к конкуренции, которая, как водится, перешла в ссору.
Папа немедленно отправился в кабак. Он думал, что при нем они не будут такими смелыми. Так и случилось. Внезапное появление в кабаке отца смутило подстрекателей. Двое-трое из них стушевались и ушли, остальные уставились в пол. Один из них испугался и протянул руку к оставленной бумаге, чтобы поскорее спрятать, но его опередил другой крестьянин, старый и набожный, из почитателей отца: он схватил бумагу, перекрестился и изорвал ее в куски, приговаривая: «Благодари Бога, Йося, ты избавился от беды, а мы от греха. Вели подать людям водки». Папа велел — и тотчас настроение общества переменилось. Справедливость восторжествовала, и защитники отца одержали верх. После двух-трех рюмок некоторые из раскаявшихся до того расчувствовались, что клялись Господом, что они собаки, сукины дети и внуки. А один, прося у отца прощения, плакал навзрыд, ползал по полу и причитал: «Топчи, Йося, топчи!» Другой бил себя кулаком в грудь и кричал, что он будет защищать Йосю до последней капли крови, а Волка убьет, непременно убьет. По дороге домой, отец услышал доносившиеся из кабака крики — видно, в разгар покаяния вернулись подстрекатели, столкнулись с нашими защитниками, и обе стороны начали, как водится, тузить друг друга.
Бумагу на сей раз порвали, но опасность не вовсе миновала. Крестьяне разделились на два враждующие лагеря. Спорам и ссорам не было конца, и в присутственные места поступали доносы от обеих сторон. Становой, вызывая поочередно то одних, то других, топал на всех ногами и рычал: «В Сибирь! В кандалы!»
В один из дней праздника Маккавеев[11] становой позвал отца к себе. Папа положил на санки пару жирных гусей — подарок жене станового — и поспешил на зов. Хозяйка приняла подарок очень любезно, а становой тотчас увел папу во внутреннюю комнату и сказал:
— Прости, Йося, больше тебя прятать не могу. Твои враги подкопались под тебя. По губернии пошли строгости. Предостережения да предупреждения. Еврей в деревне — сохрани Бог, чтоб не видно и не слышно было! Они теперь говорят об этом открыто, не таясь.
— Да может ли быть, — попробовал возразить отец, — из-за одного дня?
— Из-за одного дня…
— Что же делать? — спросил отец. — Может быть, есть какое-нибудь средство?
Становой развел руками, вытянул губы, словно говоря: делай, что можешь, а я ничего не могу.
Отец, не возвращаясь домой, отправился в уездный город, из уездного — в губернский. Так он метался, кидался и только через несколько дней вернулся домой, разбитый и расстроенный, не добившись почти ничего. Нашлись, правда, у него советчики, но советы их были разноречивы. Нашлись и ходатаи, которые обнадеживали, но надежды были слабы. Один из них, у которого, по его словам, была «рука» в управлении, взял на себя, разумеется, за хорошее вознаграждение, сговориться с этой «рукой», чтоб дать отцу право жительства, то есть перенести запись о поселении его в деревне на день раньше. Но все говорили, что ничего из этого не выйдет, он, мол, отъявленный мошенник. Все-таки папа дал ему задаток: кто знает, а вдруг?..
Этим «а вдруг» ходатай доил папу около трех месяцев, но толку никакого не вышло. Каждую неделю обнаруживалась новая «рука», которая требовала мзды, и рука отца устала давать. В один прекрасный день ходатай дал знать отцу, что уничтожить распоряжение о выселении невозможно, оно уже написано и подписано и лежит в должном месте. Но что же делать? Задержать — это обойдется во столько-то и столько-то. Папа дал столько-то и столько-то и задержал. Прошло несколько дней, и снова пришло известие, что бумага, несмотря на задержки, движется, и надо снова придержать ее. Папа снова дал столько-то и столько-то и снова задержал ее. Так дело и шло: ходатай стоял на страже и держал бумагу обеими руками, а бумага тем временем двигалась. Она двигалась медленно, шаг за шагом, незаметно для глаза, крадучись, как вор, но все же двигалась, и каждая задержка и остановка стоила отцу денег и, главное, ранила его самолюбие и изматывала силы: обивание порогов начальствующих лиц, бесплодная ходьба по инстанциям, тайные подарки, просьбы, лицемерие, унижение перед важными и бессердечными сановниками, отъявленными пьяницами, и перед наглыми щелкоперами, всякой мелкой сошкой, тайные встречи в грязных кабаках и бесконечные переговоры… Подобные поездки испортили отцу немало крови, и возвращаясь домой, он по два-три дня не вставал с постели. А поднявшись, затворялся один в своей комнате и часами шагал взад-вперед. Однажды в сумерках я увидел, как он стоит в углу перед маленьким кивотом и тихо плачет…
Немало седых волос на голове, немало морщин на лбу добавили ему эти дни.
Отец видел, что естественным путем спасение не придет, и стал уповать на милость Небес. Хлопотать он не перестал, ибо сказано: «И благословлю тебя во всем, что ни будешь делать»,[12] но в настоящее спасение больше не верил. Он тайно молился только о том, чтоб несчастье не торопилось прийти, а там, кто знает, может быть… Может быть, случится какое-нибудь чудо, манифест какой-нибудь, война или какое другое бедствие, которое заставит забыть про Йосю из Козеевки.
Между тем наступил месяц нисан.[13] От моего старшего брата Шмуэля, который служил трубачом в военном оркестре, пришло письмо, а в нем две новости: во-первых, он, Шмуэль, за свои отличные музыкальные способности удостоился нашивки, во-вторых, он получил от начальства отпуск на две недели и накануне Песаха приедет домой вместе со своей трубой. Папа прочел это письмо вслух, и весь дом радовался. Дети кричали: «Шмуэль приедет! Шмуэль привезет трубу!» Лицо матери на миг просияло, и в глазах блеснули слезы.
— Ай, жена, что ты плачешь? — говорит папа и тоже смахивает навернувшуюся слезу. — Вот тебе добрый признак. Вот увидишь, что Бог нас не оставит.
— Дай-то Бог. Хотя бы ради детей, — отвечает мама, с трудом удерживаясь от слез, чтоб не огорчать отца.
Увы, молитвы отца и матери не были услышаны. Несчастье пришло очень скоро и в такой день, когда мы меньше всего ожидали его: в канун Песаха.
III
Гость передохнул и продолжал дальше:
На этот раз канун Песаха выпал на пятницу, и у меня в памяти он сохранился во всех подробностях. С утра солнце светило не переставая, и оба дома, вверху горы и внизу, сверкали и улыбались друг другу обновленной белизной и кичились один перед другим своими поясами — синей лентой, проведенной под окнами в честь праздника. За домом раздавались песни баб, сегодня впервые вышедших на огород, и каждый час появлялась новая свежевскопанная грядка, черная и сырая. После дождя гора Зелига покрылась за ночь нежным покровоом зеленого шелка. Тропинка, сбегавшая сверху вниз, по-новому зажелтела на этой зелени, вся сверху донизу посыпанная сырым золотистым песком. Никто не видел, кто посыпал ее, но все понимали, что рано утром это сделала тайком невеста в честь жениха, который должен был сегодня приехать. Мне жалко было топтать эту дорожку, не хотелось испортить ее прежде, чем ступит на нее нога жениха. В обоих дворах шли приготовления:[14] чистили посуду, терли, скребли, так что слышно было издалека. Столы и стулья были осуждены на кипяток и на раскаленные камни, их терзала сухая рука сморщенной старушки Явдухи, этой объевреившейся бабы, которая следила за кошерностью лучше любой еврейки, и грубая толстая рука девки Параши с изрытым оспой лицом. Хозяйки весь день работали сами и заставляли работать других с тем же рвением, не покладая рук, словно состязались в усердии. Не шутка ведь: сегодня приедет Шмуэль, жених, и это после двух лет воинской службы.
А надо вам сказать, что с тех пор, как от брата пришло письмо, между хозяйками возник спор. Моя мать утверждала, что Шмуэль — ее гость. «Сначала свои родители, — говорила она, — а потом уж невестины». А та возмущалась: «Вот и нет! Шмуэль жених, и где это слыхано, чтоб жених не провел хоть один Песах в доме невесты?» В дело вмешались мужчины и порешили так: пусть будет поровну. Первый седер — у своих родителей, второй — у невестиных.
Такое же разногласие возникло в этот день и между детьми. Каждый хотел ехать со Степой на ближайшую станцию встречать гостя, который должен был приехать поездом сегодня в полдень. В конце концов эта честь выпала мне. Я стою и с нетерпением жду, когда же наконец тронется повозка, ведь уже целый час как она запряжена и стоит у ворот. Она ждет Степу, который все еще сидит во дворе верхом на козлах и строгает и обтачивает топором белые палки, новые пасхальные ручки для ухватов и лопат. Я изо всех сил стараюсь помочь Степе, чтобы ускорить дело, но мать зовет меня мыть голову и переменить белье. Она боится, как бы я не замешкался в дороге, как бы праздник не застал меня грязным.
Чтобы не терять времени, я на этот раз охотно подставляю голову под горячую струю, под поломанный гребень, надеваю белоснежную шуршащую рубаху, от которой у меня холодок пробегает по коже, и в подходящую минуту пытаюсь упросить маму позволить мне сейчас — не ради меня, конечно, а в честь брата — надеть и новый костюм, и шапку, и главное, начищенные ботинки. Мне хочется показаться Шмуэлю во всем блеске. Но мама отвергает эту просьбу обычным аргументом: в дороге все это загрязнится, так что и для вещей и для меня самого лучше будет, если я надену их, когда вернусь. Я поневоле довольствуюсь малым и торжественно выхожу, обновленный и приукрашенный только наполовину. Накрахмаленная рубаха слегка трется о тело, и я чувствую, как часть праздничной радости уже впитывается в кожу и в кости.
В столовой я натыкаюсь на сестренку, которая сидит на скамеечке и толчет мацу в деревянной ступе, вдвое большей, чем она сама. Вторая сестра, совсем еще малышка, просеивает эту муку сквозь сверкающее по-пасхальному сито на белую простыню. На круглой деревянной решетке для просолки мяса уже давно лежат выпотрошенные куры, их синие пупки и золотистый жир, а между ними — разрубленный надвое индюк. С решетки стекает красная жижа. Средний брат натирает хрен, морщится и чихает. У двери в кухню стоит Параша вся в чистом: на ней белый передник и белый чепчик, как на невесте; ее изрытое оспой лицо сияет, она соскребает зазубренным ножом сверкающую чешую с толстой барахтающейся рыбы, для которой уже приготовлена медная кастрюля. Из кухни слышится шуршание растираемых пряностей и приправ, потрескивание огня, пылающего в обновленной печи, откуда выглядывает прокаливаемая в пламени посуда. Папа готовит харосет.[15] Во дворе мама погружает в яму с водой огромную связку начищенных и блестящих вилок и ложек. Деревянная утварь: стулья, полки, бочка, белый ушат — все стоит уже на месте вычищенное и вымытое и исполняет свое назначение. Из другой ямы во дворе еще подымается маленький огонек от сожженного квасного,[16] и в воздухе носится легкий дымок. Канун Песаха распространяет свои звуки и ароматы далеко кругом. Но сам Песах еще заперт в зале, в особой комнате, и мама не позволяет туда входить. Там он сидит, прячется, осиянный светом, словно царь, — там, за занавеской, среди дорогих белых подушек и сверкающих стеклянных рюмок и бокалов, — и перешептывается с Ильей-пророком. Только когда мама по необходимости открывает на секунду дверь, Песах взглядывает на нас, детей, одним глазком и подмигивает: «Тут я, детки».
Через полчаса после уничтожения квасного бричка трогается — и я в ней. Теперь я уже точно знаю, что еду и что через два часа, с Божьей помощью, увижу брата и его трубу.
Когда повозка свернула на ведущую к станции дорогу, до меня донеслись песни баб, копавших на огороде. Я повернул голову назад, туда, где мы жили: два белых дома, верхний и нижний, стоят в своих синих поясах и смотрят на меня. Оба торопят: не мешкайте в пути — Песах близок!
Дорога к станции, хотя и размокла немного от ночного дождя и кое-где пестрела болотцами, была не особенно плоха, и лошади бежали, по обыкновению, бойкой рысью. От деревни до станции два часа езды, столько же назад. Если нас никто не задержит, мы должны вернуться с гостем часа за два-три до наступления вечера, то есть когда все в доме уже будет готово к празднику. Я представляю себе, какая будет радость, когда повозка вернется со Шмуэлем, как оба семейства вместе выйдут его встречать, и невеста тоже.
Лошади бежали между вспаханных полей, позванивая бубенцами. Легкий ветерок дул в лицо. Настроение у меня было великолепное. Благодать близящегося Песаха витала над всем миром. Между легкими облачками открывались широкие пространства, сиявшие новой, пасхальной синевой. В чистом воздухе сталкивались волны нежного тепла и успокоительного холода, они попеременно дули в лицо и в затылок. Среди полей стояли, точно стеклянные, лужи воды: то они были гладки, так что небо отражалось в них, то дрожали холодной рябью и сияли золотыми и серебряными чешуйками, как пасхальные бокалы. Даже грязные остатки маленьких снежных холмиков, видневшиеся порой в ложбинах, не портили картину. Они казались мне последними остатками квасного, которые от стыда попрятались в землю.
Повозка бежит, мы выезжаем из полей в лес, из лесу на поле. Я тем временем обдумываю, как пройдут дни предстоящего Песаха. В этот Песах у нас будет необыкновенно весело. Каждый день веселье. В первый день родители невесты придут к нам: вино, пряники, торты, орехи и игра в орехи. На второй день мы пойдем к ним, и опять вино, пряники, торты, орехи и игра в орехи. Вечером опять все соберутся к нам. Придут родители невесты, она сама, Песах-Ици с женой. Все, все. Шмуэль будет играть на трубе. Дети будут танцевать. И опять вино, пряники, торты, орехи…
Скажу откровенно: больше, чем приезду брата, я радовался трубе, которую он должен был привезти, и она заставляла меня торопиться на станцию. Я никогда еще не видел трубы. Я знал ее только по фотографической карточке, которую брат прислал вскоре по поступлении в оркестр и которая висела на стене рядом со скрипкой. Брат изображен на ней в военной форме и с трубой в руках. Великолепная штука эта труба! И вот сейчас я не только увижу ее, я, может быть, подую в нее! Одно это «может быть» наполняло меня безграничной радостью, и я не мог удержаться, чтоб не поделиться этой радостью со Степой, который сидел впереди меня на облучке.
— Скажи, Степа, — обращаюсь я к нему — ты видал когда-нибудь трубу?
— Это как? — отвечает он, оборачиваясь ко мне с изумлением.
— Знаешь, Шмуэль привезет трубу, настоящую медную трубу!..
Это, по-видимому, его совершенно не трогает. Он ничего не отвечает, отворачивается к лошадям и снова совершенно спокойно погоняет. «Что он понимает, этот осел?» — думаю я с презрением. Я приставляю кулак к кулаку наподобие трубы и начинаю трубить и петь в такт подпрыгивающей бричке. Навстречу нам тянутся фуры, возвращающиеся со станции. Вот проехали легкие дрожки, в них сидят два чиновника. А я продолжаю трубить, ни на кого не обращая внимания. Только Степа несколько раз оборачивается назад и тревожно провожает их глазами, пока они не скрываются из виду, — будто чувствует, что эта встреча не к добру.
Подъехав к станции, мы увидели Шмуэля, ждущего на крыльце. Как огрубело его лицо, и где его борода? Я выскочил из брички и бросился к нему. Приветствия, поцелуи. Степа напоил лошадей и положил в бричку вещи брата. Я искал среди них глазами трубу, но не нашел ничего, кроме одного тяжелого и грубого сундучка и другого, поменьше и покрасивее, похожего на футляр. Я сообразил, что тут-то она и лежит, но на всякий случай спросил, что это.
— Это футляр с инструментом, — отвечал брат.
Рука, ощупывавшая футляр, сама собой отпрянула назад — из уважения. Инструмент! Я хотел попросить брата, чтобы он мне тут-же показал инструмент, но не решился. Я посмотрел на него умоляюще. Он, словно поняв меня, сказал:
— Надо спешить домой. Песах вот-вот наступит.
Он прав. Надо спешить домой, Песах вот-вот наступит. Мы все заторопились, уселись в бричку. Лошади легким и веселым шагом побежали той же дорогой, вызванивая: «Шмуэль едет! Шмуэль едет!» Шмуэль тотчас вступил со Степой в бесконечный разговор о деревенских делах; он спрашивает, а тот отвечает. Я же думаю только о футляре и о том, что находится там внутри. Я уже отчаялся было увидеть трубу в дороге: она была спрятана и заперта в футляре, как Песах в зале. Но Бог, очевидно, захотел вознаградить меня за тяготы пути, и неподалеку от дома у брата явилась прекрасная мысль трубным звуком возвестить о своем прибытии. Сказано — сделано. Он открыл футляр, и в его руках засверкала труба, вся из блестящей меди, со множеством тонких трубочек. Я едва не ослеп от блеска. Еще мгновение, и под пальцами брата из трубы стали выплескиваться, подымаясь и опускаясь, тонкие и чистые звуки. Инструмент заливался, как дитя. Но вдруг его медная глотка взревела изо всех сил, и по чистому воздушному простору понесся над полями прекрасный и мощный марш.
Степа взмахнул кнутом — и лошади полетели, как на крыльях. Колокольчики на их шеях сперва смутились было перед мощным маршем и словно смолкли, но тотчас очнулись и снова весело и дробно зазвенели, радостно возвещая: «Шмуэль едет! Шмуэль едет!» Деревья, что росли вдоль дороги, пустились в пляс и расступались перед нами; лужи сияли, приветствуя нас; все ликовало: Шмуэль едет! Шмуэль едет!
Бричка летит, и вдруг навстречу опять дрожки с двумя чиновниками. Те же самые дрожки и те же самые чиновники, которых мы встретили по дороге на станцию. Эта двукратная встреча показалась мне дурным знаком, над которым стоило призадуматься. Труба в руках Шмуэля вздрогнула и будто внезапно потускнела. Шмуэль быстро опустил ее на дно повозки и прикрыл шинелью. Бричка и дрожки быстро миновали друг друга, а их пассажиры, словно по какому-то тайному знаку, обернулись назад и долго подозрительно смотрели друг на друга…
Между тем наша бричка с внезапным быстро оборвавшимся грохотом проехала по маленькому мостику, перекинутому через ров, и въехала в деревню. Здесь, как было условлено, нас должны были встречать — но, к нашему удивлению, там никого не оказалось. На сердце стало тревожно. Брат протрубил еще один слабый сигнал и спрятал инструмент в футляр. Степа вдруг привстал, изо всех сил хлестнул по лошадям и погнал их вихрем. Мимо нас быстро проносились один за другим одинокие домики на краю деревни, заборы, босые грязные ребятишки, топтавшиеся в лужах, которые оборачивались на звуки бубенцов и кнута и глазели на солдата, несущегося в бричке.
Вот показались и два белых домика — на вершине и у подножия холма. Перед нашим домом стояла группа мужчин и женщин: видно, собрались в честь гостя. Но почему никто не шелохнется, не идет навстречу? Странно.
Степа по-прежнему правит стоя, расставив ноги и высоко взмахивая кнутом, который рассекает воздух, точно пузыри лопаются. Бричка шумно и стремительно приближается к дому. Вот я уже различаю в толпе отдельные лица. Семья Зелига, взрослые и дети, Песах-Ици, жена его… Наряды перемешались — праздничные, будничные… Вот новые шапки, платки, ботинки. Вот и невеста тут — вся в белом. Вот и деревенский староста с окладистой бородой и красным поясом. Он стоит в стороне с палкой в руках и с медной бляхой на груди. При чем тут он? И почему из наших никого нет?
Как только бричка остановилась у ворот и мы увидели лица собравшихся, сомнений не осталось. Без слов и объяснений все было понятно…
IV
Гость понизил голос и продолжал:
Разгадка была жестокой, настолько жестокой, что ее не мог постигнуть такой маленький мальчик, как я. Ведь все случилось так неожиданно!
Кто мог подумать, что когда мы с братом вернемся со станции домой, мы там ничего не найдем?
Кто ожидал, что в те четыре-пять часов, что мы были в дороге, придут к нам в дом чужие, погрузят вещи и людей на возы и скажут им: ступайте, куда глаза глядят…
И когда? Именно в такой день!
Сколько долгих месяцев это постановление подбиралось к нам, подкрадываясь, тихонько подползало, как змея, чтоб теперь, в момент, когда о нем забыли, вдруг выпрыгнуть и ужалить. И как же ядовито было это жало!
Лица встретивших нас близких, уже нарядившихся в новые шляпы и платочки, сказали нам о том, что произошло. Своим мрачным и убитым видом, заплаканными глазами они более походили на провожающих покойника, чем на встречающих гостя.
Когда Шмуэль, а за ним и я вылезли из брички, неожиданно вырвался и взвился, как стрела, горький вопль, крик одинокого отчаяния, вырвался и тотчас оборвался, словно отсеченный острым ножом, и прорезал глубокий след в воздухе и в сердцах. То кричала мать невесты. В этом оборвавшемся крике был стон души, отлетающей от тела. Дети разревелись. Мужчины отвернулись в сторону и усиленно заморгали глазами.
У меня потемнело в глазах, и то, что было дальше, я помню смутно, обрывками.
Мы со Шмуэлем стоим во дворе, и я не понимаю, как мы попали туда. Никаких людей — новые шляпы и ботинки сами по себе ходят за нами бесшумно, точно плавают в воздухе. Кто-то поблизости что-то говорит, я разбираю каждое слово, но не вижу, кто это, и не понимаю, что и зачем он говорит. Из запертого хлева — я вижу только его замок — доносится, пронзая мозг, жалобный рев теленка. Почему теленок ревет?
От стены дома отделяется и плывет по воздуху еще одна новая шляпа. Под ней борода, еще ниже две протянутые руки. Руки плачут, как дети, и говорят: смотри, Шмуэль, что сделали с нами. — Папа? Он еще здесь?
Вот и Явдуха. Она издали всматривается в Шмуэля, качает своей маленькой головкой и тихо стонет: «Родной ты мой, голубчик мой». Мы оказываемся в доме: все вверх дном.
Пасхальный стол, стены, окна — все голо. Кровати пустые. Несколько стульев валяются на полу. Вверх ногами…
Только маленький кивот по-прежнему стоит в своем уголке, покрытый чистым, новым занавесом, чтоб не видеть творящегося в доме безобразия.
Среди этих руин мечется старая Явдуха, всплескивает руками и тихо стонет:
— Пришли, окаянные, пришли… посадили на подводу и отправили… мать и детей…
Стоит ли рассказывать подробности выселения? Все было очень просто и быстро.
В полдень неожиданно нагрянули два чиновника, специально посланные из губернского города (те самые, которых мы дважды встретили по дороге), привезли из деревни три подводы и велели без всяких рассуждений погрузить на них людей и вещи и отправить в одно из ближайших местечек. Никакие просьбы, слезы и вопли не помогли. Мать и дети силой были водружены на подводу вместе с подушками, перинами, узлом мацы и прочим скарбом. Даже кастрюля с рыбой и горшок с мясом были сняты с плиты недоваренными и выселены с хозяевами. С переселенцами отправилась и лучшая из наших трех коров, мать оставленного теленка, потому что дети нуждались в молоке. Отцу большого труда стоило получить разрешение остаться на час, пока прибудет бричка с двумя сыновьями, но с условием, чтобы затем все немедленно покинули деревню — в тот же день, в той же повозке. Сельскому старосте строго-настрого было велено проследить, чтобы приказ был исполнен в точности.
Приказ был исполнен в точности.
Папа передал Тору с ее маленьким кивотом Зелигу, вручил связку ключей старой Явдухе, которая осталась сторожить дом, и заторопился сам и заторопил нас со Шмуэлем садиться в повозку, чтоб догнать мать и детей.
Настал последний миг разлуки. Старая няня прижала мою голову к своей груди и разрыдалась. Из толпы снова послышался плач женщин. Мать невесты упала в обморок. Невеста закрыла лицо руками, плечи ее дрожали.
Бричка тронулась. Взрослые мужчины, Зелиг и Песах-Ици, молча проводили нас до конца деревни, где начинался лес, и вернулись обратно. Из крестьян никто не вышел нас проводить. Завидев бричку издали, они поспешили попрятаться по домам. Через минуту мы очутились в лесу. Все осталось позади — два белых домика, холм, провожавшие, староста с палкой и медной бляхой, Явдуха — нет больше деревни.
Справа от дороги, сквозь ветви тощих деревьев, проглянула круглая полянка, посреди которой высилась незаконченная постройка — смоляной завод. Штабеля кирпичей скорбно смотрели на нас из-за стволов деревьев. Мне казалось, что они очнулись от глубокого, тяжкого сна и тихо жалуются: «Йося, Йося, почему ты нас покинул?»
Папа отвернулся, чтоб не видеть. Вдруг послышалось всхлипывание и тихие вздохи.
Папа плакал.
Степа сердито стегнул по лошадям, словно хотел конским топотом и звоном бубенцов заглушить плач отца, но лошади были утомлены, дорога скверная, и повозка продвигалась медленно.
Снова бежит бричка между лесов и полей. Снова тихо и мелодично позванивают бубенцы, но как грустен теперь этот звук!
Под вечер показались, наконец, вдали три тянувшиеся по грязи подводы, груженные людьми и узлами. За последним возом шла привязанная к нему корова. Она все время оглядывалась назад и отчаянно ревела. Я вспомнил мычание теленка, запертого в хлеве.
Через несколько минут мы поравнялись с возами.
Как рассказать о встрече матери с сыном? Это свыше моих сил, лучше мне обойти это молчанием. После той встречи под открытым небом мать долгое время лежала, как мертвая, утонув в груде узлов с подушками и перинами. Рядом с ней, свернувшись, прикорнула моя маленькая сестра, уснувшая в слезах, с мокрыми щеками. Вторая сестра и средний брат сидели на других возах, тоже с заплаканными лицами.
На закате обоз достиг леса, находившегося на расстоянии получаса от местечка. Мать вдруг встрепенулась, поправила платок на голове, вынула маленькую коробочку из одного узла, велела остановить воз и слезла.
— Куда? — спросил папа, видя, что она направляется в лес, к горке, и тоже задержал бричку.
— Зажечь свечи, — отвечала мама.
Никто не удивился. Ведь сегодня и суббота, и Песах, а мама еще ни разу в жизни не пропустила благословения свечей. Но никто вообразить не мог, что в сумятице выселения она не забудет приготовить свечи — на случай, если придется застрять в дороге.
Шмуэль бросился за ней помогать. Крестьяне с благоговением ожидали на месте. На горке зажглись два маленьких огонька. Слепой лес вдруг прозрел, в нем явились два живых глаза. Деревья в лесу молча дивились на еврейку в платочке, которая в этот миг стояла среди них, прикрывала руками свечки и тихо плакала.
Поразительная вещь: как ни печально и как ни странно было все, что происходило в этот день, мне показалось, что в тот момент, как в лесу зажглись два маленьких огонька, лес наполнился святостью и в одном из укромных уголков его, где-то в издавна спрятанном храме, открылись маленькие врата милосердия и выглянул оттуда добрый ангел. Два огонька показались мне двумя золотыми точками, венчающими конец молитвенного стиха на краю горизонта: до сих пор — будни, отсюда — суббота и праздник. Охватившая нас всех скорбь, как будто чуть-чуть отступила и осенилась святостью. Казалось, даже крестьяне почувствовали это, и когда они вместе с лошадьми и подводами снова двинулись в путь, их шествие по сумеречному лесу словно озарилось каким-то неведомым светом, и их «гей! гей!», понукавшее усталых лошадей, звучало добрее и милосерднее, будто скорбь этих мгновений окропила и их, смягчив сердце и голос.
Помолившись над свечами, мать уже не захотела сесть на подводу, а пошла пешком по краю дороги. Шмуэль и папа молча шагали по обе стороны от нее. Дети, по совету отца, перешли с подвод в нашу бричку, и Степе было приказано везти их в местечко, не дожидаясь подвод. Очень скоро подводы, силуэты идущих рядом людей и лес остались позади. Я еще раз оглянулся на холмик в лесу: два огонька мелькнули на миг и тотчас скрылись. «Потухли», — подумал я с испугом, и мне стало жаль леса, который снова ослеп и погрузился во мрак. Врата милосердия распахнулись на миг и снова закрылись, добрый ангел спрятался, все кругом замерло.
Повозка между тем выехала из лесу, и круглая луна, неожиданно, как из-под земли, выскользнувшая нам навстречу, смотрела на нас своим полным ликом, изумленно спрашивая: кто это едет здесь в такой час?
Мы все съежились в повозке и сидели молча. На душе было пусто. Холод, темнота, обида, стыд. Как мы приедем в местечко в такое время?
А местечко быстро бежит нам навстречу, издали мигает нам в вечернем сумраке множеством огоньков, праздничных огоньков, которые говорят о мирных домах, о чистых и сияющих комнатах, о столах с белыми скатертями, уставленных всякими яствами, о сияющих подушках, о вине, алеющем в бокалах из дорогого стекла, о сверкающих вилках и ложках, о новых одеждах и нарядах, о праздничном настроении, о просветленных лицах…
Из всех евреев мира, может быть, только мы одни в этот час находимся в дороге.
Я взглянул на небо. И оно в эту ночь принарядилось в самую свою синюю синеву и рассыпало по ней все свои украшения — звезды большие, малые и совсем малюсенькие… То тут, то там наползают на них серебряные цепочки легких облаков, едва заметных, воздушных, оттеняющих легким кружевом густой бархат праздничной синевы. Вот они обступают пасхальное серебряное блюдо — луну — и осторожно снимают с него белоснежную салфетку, облачную кисею, обнажая его во всем великолепии.
С лунным светом излучается тихая скорбь и наполняет сердце отчаянием. Что-то сдавливает горло, слезы навертываются на глаза. И вдруг нам становится понятно все, что с нами случилось, — и льются слезы. Сперва мы плачем тихо, каждый про себя, потом громко, в голос — все четверо вместе.
Мы плачем, а бричка бежит, бежит.
Когда мы добрались до местечка, луна уже стояла в зените. По предложению брата Мойше, бричка ехала впереди, а мы слезли и шли пешком, сбоку, во мраке, стараясь укрыться, как воры, в тени заборов и домов. Предосторожность эта, правда, была излишней, потому что на улицах не было ни одной живой души: все еще были в синагоге. До постоялого двора мы дошли в полном одиночестве.
Спустя еще четверть часа прибыли на постоялый двор подводы. В эту минуту все вышли из синагоги, и проходившие мимо евреи в праздничных нарядах с изумлением смотрели на три груженых воза, остановившиеся у корчмы Мойше-Аарона, на кусочки мацы, осыпавшиеся с одного из них в лунном свете.
В эту ночь, — закончил рассказчик свой рассказ, — я в первый раз вместе со всей семьей провел седер за чужим столом, за столом корчмаря Мойше-Аарона — добрая ему память. Этот добрый человек всех нас оставил у себя, не дал разлучиться. Более того, желая порадовать моих родителей, он почтил меня «четырьмя вопросами».[17]
— А труба? — раздался вдруг голос маленького мальчика, присутствия которого за столом никто раньше не замечал. Все посмотрели на ребенка, и он покраснел. Гость улыбнулся и ответил:
— Труба? Через две недели, когда кончился отпуск, брат вернулся с ней на службу, и мне больше не удалось услышать ее голоса. Все это время она провалялась под кроватью в корчме, куда ее в футляре запихнули вместе с остальными вещами. Она не посмела вылезти оттуда и подать голос. Ей было стыдно.
Примечания
1
В царской России прессованный сахар-рафинад продавали в виде больших конусов, как правило, обернутых в синюю плотную бумагу, — так называемые сахарные головы, от которых откалывали маленькие кусочки.
(обратно)2
«Маковые ушки», или «хоменташи» (идиш), т. е. «уши Амана» — традиционное печенье с маковой начинкой к празднику Пурим; имеет форму треугольников.
(обратно)3
Десять человек, необходимых для коллективной молитвы.
(обратно)4
Талес (иврит, идиш) — молитвенное покрывало; представляет собой белый шелковый прямоугольних с темно-синими или черными полосами по краям.
(обратно)5
Пятикнижие — первые пять книг Библии, которые составляют Тору. По еврейскому религиозному закону в миньяне могут участвовать только достигшие совершеннолетия (т. е. 13 лет) мужчины или несовершеннолетний, если он держит в руках Тору. В синагогах принято читать Тору не по печатной книге, а по пергаментному свитку, хранящемуся в специальном шкафчике — кивоте, называемом у евреев ковчегом.
(обратно)6
Кугель (идиш) — еврейское национальное блюдо, запеканка из лапши с начинкой.
(обратно)7
Гавдола, или гавдала (идиш, иврит) — обряд, знаменующий окончание субботы, сопровождается зажиганием витой свечи с двумя или более фитилями, которая носит то же название.
(обратно)8
Баал-Шем-Тов (или Бешт, иврит) — буквально «носитель доброго имени» — прозвание основателя хасидизма, р. Исраэля (1700–1760), жизнеописание и деяния которого изобилуют чудесами; старец из Шполы (Арье Лейб, 1725–1812) — хасидский цадик, ученик Бешта, известен своим благочестием и добрым отношением к обращавшимся к нему за помощью евреям, за что был прозван «Шпольским дедушкой»; тридцать шесть праведников — по еврейскому преданию погрязший в грехах мир продолжает существовать благодаря тому, что в каждом поколении живут тридцать шесть праведников.
(обратно)9
См. Псалом 120:4.
(обратно)10
Речь идет о еврейских праздничных обрядах: на праздник Симхат Тора принято обходить помещение синагоги кругами, держа в руках свитки Торы, а в Суккот каждый еврей ежедневно совершает особый ритуал, потрясая пальмовой ветвью.
(обратно)11
Праздник Хануки.
(обратно)12
Второзаконие, 15:18 (цит. неточно).
(обратно)13
Нисан (иврит) — название весеннего месяца, в середине которого начинается праздник Песах.
(обратно)14
К празднику Песах делается очень тщательная уборка дома, в особенности кухни: все восемь дней Песаха положено пользоваться специальной посудой и утварью, а обычная либо убирается на время, либо подвергается особой обработке.
(обратно)15
Харосет (иврит) — традиционное еврейское пасхальное кушанье, приготовляемое из тертых яблок, корицы, вина и орехов.
(обратно)16
Квасное тесто и пять видов злаков (хомец, или хамец (иврит) запрещены к употреблению в Песах. Небольшое количество квасного полагается сжигать.
(обратно)17
Четыре традиционные вопроса, которые маленькие дети задают родителям на седере, праздничном застолье в первые два вечера Песаха.
(обратно)

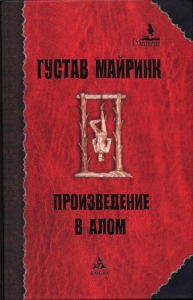

Комментарии к книге «Как трубе стало стыдно», Хаим Нахман Бялик
Всего 0 комментариев