Сомерсет Моэм Собираясь в гости
Миссис Скиннер не любила опаздывать. Она была уже одета — вся в черном шелку, как того требовали ее возраст и траур по недавно скончавшемуся зятю; осталось лишь надеть ток. Ее немного смущала венчающая ток эгретка из перьев цапли, которая могла вызвать резкое осуждение кое-каких знакомых, наверняка тоже приглашенных в гости; и в самом деле, разве не бесчеловечно убивать этих прекрасных белых птиц ради их перьев, да еще когда у них пора любви; но раз уж так случилось, глупо было бы отказаться от такой красивой и элегантной отделки, к тому же отказ обидел бы зятя. Он привез ей эти перья с Борнео, не сомневаясь, что подарок обрадует ее. Кэтлин не преминула наговорить неприятностей по этому поводу, о чем, должно быть, жалеет теперь, после того, что произошло; впрочем, — ее младшая дочь всегда недолюбливала Гарольда. Миссис Скиннер решительно водрузила ток на голову (в конце концов, это ее единственная приличная шляпа) и, стоя перед зеркалом, приколола его булавкой с большим наконечником из черного янтаря. Если кто-нибудь упрекнет ее за эти перья, у нее готов ответ.
«Конечно, это ужасно, — скажет она, — мне бы и в голову не пришло покупать такую вещь, но это последний подарок моего бедного зятя».
Это будет и объяснением и оправданием. Все с таким сочувствием отнеслись к их горю. Миссис Скиннер достала из ящика чистый носовой платок и слегка побрызгала на него одеколоном. Она никогда не душилась, считая это признаком известного легкомыслия, но одеколон — другое дело, он так приятно освежает. Теперь можно было считать себя почти готовой. Миссис Скиннер перевела глаза с зеркала на окно. Прекрасный день выбрал каноник Хейвуд для приема в саду. Совсем тепло, на небе ни облачка, и зеленая листва еще не утратила весенней свежести. Миссис Скиннер улыбнулась, заметив в садике свою маленькую внучку, которая, вооружась граблями, деловито возилась у отведенной ей цветочной клумбы. Очень она бледненькая, Джоэн, нельзя было так долго держать ребенка в тропиках; и потом, она не по годам серьезна, никогда не бегает, не резвится, ей бы только поливать свои цветы или играть в какие-то тихие, ею самой придуманные игры. Миссис Скиннер оправила платье на груди, взяла перчатки и пошла вниз.
Кэтлин сидела за письменным столиком у окна, занятая составлением каких-то списков; она была почетным секретарем Клуба любительниц гольфа, и во время состязаний ей приходилось очень много трудиться. Она тоже была уже совсем готова.
— Я вижу, ты все-таки надела джемпер, — сказала миссис Скиннер.
За завтраком обсуждался вопрос о том, ехать ли Кэтлин в джемпере или в черной шифоновой блузке. Джемпер был черный с белым, и Кэтлин находила его очень эффектным, но едва ли это могло сойти за траур. Однако Миллисент вы¬сказалась в пользу джемпера.
— Совсем не обязательно нам всем иметь такой вид, словно мы только что с похорон, — сказала она. — Ведь Гарольд мертв уже восемь месяцев.
Миссис Скиннер была несколько шокирована черствостью этих рассуждений. Миллисент стала какая-то странная с тех пор, как вернулась с Борнео.
— Уж не думаешь ли ты снять вдовий креп раньше времени, милочка? — спросила она у дочери.
Миллисент уклонилась от прямого ответа.
— Теперь траур не так соблюдают, как в прежнее время, — сказала она и немного помолчала. Когда она заговорила опять, миссис Скиннер почудились в ее голосе какие-то необычные нотки. Видимо, и Кэтлин уловила их, судя по тому, что она удивленно взглянула на сестру. — Гарольд, я уверена, не хотел бы, чтобы я вечно носила по нему траур.
— Я нарочно оделась пораньше, потому что хотела кое о чем поговорить с Миллисент, — сказала Кэтлин в ответ на замечание матери.
— О чем же?
Кэтлин промолчала. Она отложила в сторону свои списки и, нахмурив брови, принялась перечитывать письмо от дамы, которая жаловалась на несправедливые действия комиссии, снизившей ей гандикап с двадцати четырех очков до восемнадцати. Быть почетным секретарем Клуба любительниц гольфа — обязанность нелегкая и требующая большого такта. Миссис Скиннер стала натягивать свои новые перчатки. Маркизы над окнами смягчали солнечный свет и умеряли жару. Миссис Скиннер посмотрела на большую, ярко раскрашенную деревянную птицу-носорога, которую Гарольд отдал ей на сохранение; она всегда казалась ей немного нелепой и какой-то варварской, но Гарольд очень дорожил этой птицей. Она имела отношение к какому-то культу и вызвала большой интерес у каноника Хейвуда. На стене над диваном было развешано малайское оружие (названий миссис Скиннер не помнила); там и сям красовались серебряные и медные вещицы, привезенные Гарольдом в разное время. Она всегда относилась к Гарольду с симпатией, и при мысли о нем ее взгляд невольно скользнул к роялю, на котором стояла обычно его фотография вместе с фотографиями обеих ее дочерей, внучки, сестры и племянника.
— Кэтлин! А где же портрет Гарольда? — спросила она.
Кэтлин оглянулась. Портрета не было.
— Кто-то его убрал, — с удивлением сказала Кэтлин. Она встала и подошла к роялю. Фотографии были переставлены так, чтобы не бросалось в глаза пустое место.
— Может быть, Миллисент захотелось поставить его у себя в комнате, — сказала миссис Скиннер.
— Я бы заметила. И потом, у Миллисент есть другие фотографии Гарольда. Они у нее заперты на ключ.
Миссис Скиннер всегда казалось странным, что в комнате дочери нет ни одного портрета Гарольда. Она даже раз попробовала завести об этом разговор, но Миллисент его не поддержала. Миллисент сделалась удивительно неразговорчива после своего возвращения с Борнео, и всякие попытки миссис Скиннер проявить материнское сочувствие встречали с ее стороны молчаливый отпор. Она не желала говорить о постигшей ее утрате. Люди переживают горе по-разному. Видимо, прав был мистер Скиннер, советовавший оставить Миллисент в покое. Воспоминание о муже вернуло мысли миссис Скиннер к предстоящему визиту.
— Твой отец спрашивал меня, надеть ли ему цилиндр, — заметила она. — Я сказала, что на всякий случай не мешает.
Прием у каноника был парадным событием. Обычно в таких случаях заказывалось в кондитерской Бодди мороженое, клубничное и ванильное, но кофе-гляссе у Хейвудов всегда готовили дома. Приглашено было все местное общество. Поводом послужил приезд епископа Гонконга, который был школьным товарищем каноника. Гостям было обещано, что епископ расскажет о миссионерской деятельности в Китае. Миссис Скиннер, у которой дочь восемь лет прожила на Востоке, а зять был резидентом в одном из районов Борнео, относилась к этой перспективе с живейшим интересом. Разумеется, она в таких вещах понимала гораздо больше, чем люди, которые не имеют никакого отношения к колониям и колониальным делам.
«Что знает об Англии тот, кто Англию только и знает?» — как любил говорить мистер Скиннер.
Мистер Скиннер, который в эту самую минуту вошел в комнату, был юристом, как и его покойный отец, и имел контору в Линкольнс-Инн-филдс. Каждый день он с утра уезжал в Лондон и только к вечеру возвращался домой. Он получил возможность сопровождать жену и дочерей к канонику Хейвуду лишь благодаря тому, что каноник предусмотрительно избрал для приема субботу. В визитке и брюках в полоску мистер Скиннер выглядел весьма презентабельно. В его наружности не было франтовства, но была скромная внушительность. Это была наружность респектабельного семейного адвоката, каким он и был на самом деле; его фирма никогда не бралась за дела, допускающие хотя бы тень сомнения, и, если клиент излагал ему обстоятельства, которые могли показаться неблаговидными, мистер Скиннер озабоченно сдвигал брови.
«К сожалению, мы обычно воздерживаемся от ведения подобных дел, — говорил он. — Вам лучше обратиться в другое место».
Он придвигал к себе блокнот и писал на верхнем листке фамилию и адрес. Затем отрывал листок и вручал его клиенту. «Я бы посоветовал вам обратиться вот к этим господам. Если вы сошлетесь на меня, они сделают для вас все, что возможно».
У мистера Скиннера было чисто выбритое лицо и лысина во всю голову. Строго поджатый рот с тонкими, бескровными губами противоречил робкому выражению голубых глаз. Щеки были бледные и морщинистые.
— Я вижу, ты надел новые брюки, — сказала миссис Скиннер.
— Сегодня, по-моему, как раз подходящий случай, — отвечал супруг. — Не знаю, может быть, вдеть бутоньерку в петлицу?
— Не нужно, папа, — сказала Кэтлин. — Это не совсем хороший тон.
— Увидишь, очень многие будут с бутоньерками, — возразила миссис Скиннер.
— Разве что какие-нибудь клерки, — сказала Кэтлин. — Вы же знаете, Хейвудам приходится приглашать самую разную публику. И потом, ведь у нас траур.
— Интересно, не устроят ли после речи епископа сбор пожертвований? — сказал мистер Скиннер.
— Ну нет, не думаю, — сказала миссис Скиннер.
— Это был бы очень дурной тон, — добавила Кэтлин.
— На всякий случай не мешает захватить деньги, — сказал мистер Скиннер. — Если понадобится, я дам за всех. Вот не знаю, десяти шиллингов достаточно или нужно дать фунт?
— Уж если давать, то не меньше фунта, папа, — сказала Кэтлин.
— Ну, там видно будет. Я не хочу давать меньше других, но больше, чем нужно, тоже давать незачем.
Кэтлин убрала в ящик все свои бумаги и встала из-за стола. Она посмотрела на часы.
— А Миллисент не готова? — спросила миссис Скиннер.
— У нас еще масса времени. Просили к четырем, так что раньше половины пятого приезжать нет смысла. Я велел Дэвису подать машину в четыре пятнадцать.
Обычно машиной правила Кэтлин, но изредка, в торжественных случаях, Дэвис, садовник, надевал униформу и превращался в шофера. Это лучше выглядело со стороны; к тому же Кэтлин вовсе не стремилась сидеть за рулем, когда на ней был новый джемпер. Взглянув на мать, с усилием втискивавшую палец за пальцем в новые перчатки, Кэтлин вспомнила, что и ей надо надеть перчатки. Она понюхала, не пахнет ли от них бензином после чистки. Запах был, но совсем слабый. Она решила, что никто не заметит.
Наконец отворилась дверь и вошла Миллисент — в полном трауре, с длинным вдовьим крепом. Миссис Скиннер никак не могла привыкнуть к этому костюму, хотя и знала, что его полагается носить целый год. Жаль, что он совершенно не идет Миллисент; некоторым траур к лицу. Она сама как-то примерила шляпу Миллисент и нашла, что выглядит очень эффектно. Бог даст, милый Альфред переживет ее, но если случится наоборот, она не снимет траура до конца своих дней. Как королева Виктория. Конечно, Миллисент — другое дело; Миллисент намного моложе, ей всего тридцать шесть; невесело в тридцать шесть лет остаться вдовой. Едва ли ей удастся второй раз выйти замуж. Кэтлин, верно, так и не выйдет, — ей уже тридцать пять. Когда Миллисент и Гарольд были здесь последний раз, она предлагала, чтобы Кэтлин поехала к ним погостить. Гарольд как будто ничего не имел против, но Миллисент заупрямилась. А почему, собственно? Все-таки там мог представиться случай. Не то, чтобы они хотели сбыть Кэтлин с рук, но девушка должна выйти замуж, а здесь среди их знакомых совсем не попадаются неженатые мужчины. Миллисент все жаловалась на климат. Правда, у нее у самой цвет лица совершенно погиб. Никто бы теперь не поверил, что из двух сестер более хорошенькой всегда была Миллисент. Кэтлин с годами похудела (некоторые, правда, находят ее чересчур худой), но теперь, когда она остриглась, а на щеках у нее всегда румянец благодаря игре в гольф при любой погоде, она, по мнению миссис Скиннер, стала совсем недурна. Вот о бедной Миллисент этого не скажешь; фигура у нее испортилась окончательно: ростом она невелика, и, располнев, стала просто бесформенной. А располнела она ужасно; должно быть, тропическая жара виновата — мешает двигаться. Кожа у Миллисент бледная и нечистая; голубые глаза, когда-то составлявшие ее главную прелесть, словно выцвели.
«Ей надо бы заняться своей шеей, — размышляла миссис Скиннер. — У нее скоро будет двойной подбородок».
Она пробовала заговаривать об этом с мужем. Он возразил, что Миллисент, в конце концов, не такое уж юное создание. Так-то оно так, но из этого еще не следует, что нужно совсем распуститься. Миссис Скиннер решила серьезно поговорить с дочерью; но, разумеется, из уважения к ее горю придется подождать до окончания траура. В сущности, она была рада законному поводу отложить этот разговор, мысль о котором слегка пугала ее. Миллисент и в самом деле изменилась. Что-то мрачное было теперь в выражении ее лица, от чего матери становилось не по себе в ее присутствии. Миссис Скиннер любила тотчас же высказывать вслух всякую мысль, пришедшую в голову, а у Миллисент завелась неприятная манера не отвечать, когда к ней обращаешься (просто так, чтобы что-нибудь сказать), и неизвестно, слышала она или нет. Иногда это невыносимо раздражало миссис Скиннер, и, чтобы удержаться от резкого замечания по адресу Миллисент, ей приходилось напоминать себе, что бедный Гарольд умер всего восемь месяцев назад.
Свет из окна падал на пухлое лицо вдовы, молча остановившейся посреди комнаты. Кэтлин, стоя к окну спиной, с минуту вглядывалась в это лицо.
— Миллисент, мне нужно поговорить с тобой, — начала она. — Сегодня утром я играла в гольф с Глэдис Хейвуд.
— Кто выиграл, ты? — спросила Миллисент. Глэдис Хейвуд была единственной незамужней дочерью каноника.
— Она мне сказала одну вещь, которая касается тебя, и я считаю, что ты должна знать об этом.
Миллисент перевела глаза на окно, за которым ее дочка поливала цветы.
— Мама, вы сказали Энни, чтобы она напоила Джоэн чаем в кухне? — спросила она.
— Да, девочка будет пить чай вместе со слугами.
Кэтлин недружелюбно взглянула на сестру.
— Епископ по дороге на родину провел несколько дней в Сингапуре, — продолжала она. — Он большой любитель путешествий. На Борнео он тоже бывал и знает многих из твоих знакомых.
— Как ему интересно будет встретиться с тобой, дорогая, — сказала миссис Скиннер. — Может быть, он и бедного Гарольда знал.
— Да, он встречался с ним и очень хорошо его помнит. Он говорит, что был потрясен известием о его смерти.
Миллисент села и принялась натягивать черные перчатки. Миссис Скиннер показалось странным, что она никак не отозвалась на слова Кэтлин.
— Кстати, Миллисент, — сказала она. — Куда-то исчез портрет Гарольда. Ты его не брала отсюда?
— Да, я его убрала.
— Казалось бы, для тебя должно быть приятнее иметь его перед глазами.
Миллисент и на этот раз промолчала. Положительно несносная привычка.
Кэтлин, слегка повернув голову, в упор посмотрела на сестру.
— Миллисент, зачем ты нам сказала, что Гарольд умер от лихорадки?
Вдова не шевельнулась и не отвела глаз, но по ее желтоватому лицу медленно разлилась краска. Она по-прежнему молчала.
— Что означает твой вопрос, Кэтлин? — с недоумением спросил мистер Скиннер.
— Епископ говорит, что Гарольд покончил самоубийством.
У миссис Скиннер вырвался возглас испуга, но муж сделал ей знак не вмешиваться.
— Это правда, Миллисент?
— Правда.
— Почему же ты нам не сказала?
Миллисент помедлила с ответом. Она вертела в пальцах брунейскую медную фигурку, которую взяла со столика. Это был тоже подарок Гарольда.
— Я думала, для Джоэн лучше, если все будут считать, что ее отец умер от лихорадки. Мне не хотелось, чтобы она знала.
— Ты поставила нас в очень неловкое положение, — заметила Кэтлин, наморщив лоб. — Глэдис Хейвуд упрекнула меня, зачем я ей сказала неправду. Мне стоило большого труда убедить ее, что я сама ничего не знала. Каноник, по ее словам, очень обижен. Он говорит, что после стольких лет знакомства, даже дружбы, он вправе был рассчитывать на большее доверие с нашей стороны, тем более, что он и венчал тебя с Гарольдом. И если, мол, мы не хотели говорить ему правду, то, во всяком случае, незачем было говорить неправду.
— Должен сказать, что в этом я с ним вполне согласен, — ледяным тоном произнес мистер Скиннер.
— Я, понятно, объяснила Глэдис, что мы здесь ни при чем. Мы говорили то, что было сказано нам.
— Надеюсь, этот разговор не помешал тебе выиграть партию, — сказала Миллисент.
— Совершенно неуместное замечание, моя милая, — воскликнул мистер Скиннер.
Он поднялся, перешел комнату и стал перед холодным камином, машинально раздвинув сзади фалды визитки.
— Это касалось только меня, — сказала Миллисент. — Почему же я не имела права умолчать об этом, если считала, что так будет лучше?
— Видно, мать для тебя — чужая, раз ты даже с ней не захотела поделиться, — сказала миссис Скиннер.
Миллисент только пожала плечами.
— Нетрудно было сообразить, что рано или поздно это все равно станет известно, — сказала Кэтлин.
— А почему? Не могла же я предвидеть, что два старых попа, встретившись, не найдут другой темы для пересудов.
— Когда епископ упомянул о своем пребывании на Борнео, совершенно естественно, что Хейвуды спросили, не был ли он знаком с тобой и с Гарольдом.
— Это все разговор не по существу, — сказал мистер Скиннер. — В любом случае ты обязана была сказать нам всю правду, и мы бы тогда решили, как лучше поступить. Как адвокат, могу тебе сказать, что попытки скрыть истинное положение вещей в конечном счете всегда только вредят делу.
— Бедный Гарольд, — сказала миссис Скиннер, и слезы поползли по ее щекам. — Это ужасно. Он всегда был таким внимательным зятем. Что могло побудить его к этому ужасному поступку?
— Климат.
— Я бы хотел услышать от тебя, как это случилось, Миллисент, — сказал отец.
— Кэтлин вам скажет.
Кэтлин помялась. То, что ей предстояло сказать, было и в самом деле ужасно. Казалось чудовищным, что нечто подобное могло произойти в такой семье, как у них.
— Епископ говорит, что он перерезал себе горло.
Миссис Скиннер ахнула и в невольном порыве бросилась к своей сраженной судьбою дочери. Она жаждала заключить ее в объятия.
— Бедная моя девочка! — воскликнула она.
Но Миллисент отстранилась.
— Нет, нет, мама, пожалуйста. Не выношу, когда меня трогают.
— Ну, знаешь ли, Миллисент, — сказал мистер Скиннер, нахмурясь.
Он явно не одобрял ее поведения.
Миссис Скиннер вздохнула, горестно покачала головой и, осторожно прикладывая к глазам платочек, возвратилась на свое место. Кэтлин перебирала пальцами длинную золотую цепь, висевшую у нее на шее.
— Просто нелепо, что я от подруги узнаю про обстоятельства смерти моего зятя. Мы оказались в глупейшем положении. Епископ очень ждет встречи с тобой, Миллисент, он хочет выразить тебе свое сочувствие. — Она сделала паузу, но Миллисент упорно молчала. — Епископ говорит, Миллисент куда-то уезжала с Джоэн, а вернувшись, застала бедного Гарольда мертвым на кровати.
— Каково было вынести такое потрясение, — сказал мистер Скиннер.
Миссис Скиннер снова заплакала, и Кэтлин мягко положила ей руку на плечо.
— Не надо плакать, мама, — сказала она. — У вас будут красные глаза, и это может показаться странным.
В наступившей тишине миссис Скиннер вытерла слезы и после некоторого усилия овладела собой. Почему-то ей не давала покоя мысль, что на голове у нее сейчас ток с эгреткой из перьев цапли, подаренных Гарольдом.
— Я вам еще не все сказала, — снова начала Кэтлин.
Миллисент не спеша подняла голову и посмотрела на сестру твердым, но в то же время настороженным взглядом. Так смотрят, когда ожидают услышать какой-то звук и боятся пропустить его.
— Мне бы не хотелось причинять тебе боль, дорогая, — продолжала Кэтлин, — но я не сказала еще об одной подробности, которую тебе, по-моему, следует знать. Епископ говорит, что Гарольд пил.
— Боже мой, какой ужас! — воскликнула миссис Скиннер. — Как можно говорить подобные вещи! И это тебе рассказывала Глэдис Хейвуд? А что ты ей сказала?
— Сказала, что это неправда.
— Вот к чему ведут секреты, — сердито заметил мистер Скиннер. — Всегда так бывает. Чем больше скрытничаешь, тем больше даешь пищи для разных нелепых слухов, которые в десять раз хуже истины.
— Епископу в Сингапуре сказали, будто Гарольд наложил на себя руки в припадке белой горячки. Я считаю, Миллисент, что твой долг опровергнуть это — ради всех нас.
— Ужасно, что такие вещи говорят о человеке, которого уже нет в живых, — сказала миссис Скиннер. — А ведь это может очень дурно отразиться на Джоэн, когда она вырастет.
— Но откуда взялись эти разговоры, Миллисент? — спросил отец. — Гарольд был всегда так воздержан.
— Да, здесь, — отвечала вдова.
— Разве он там пил?
— Как лошадь.
Неожиданность и резкость этого ответа ошеломили всех троих.
— Миллисент, как ты можешь говорить так о своем покойном муже? — воскликнула миссис Скиннер, всплеснув затянутыми в перчатки руками. — Я не понимаю тебя. Я вообще не могу тебя понять с тех пор, как ты возвратилась домой. Никогда бы не поверила, что моя родная дочь так отнесется к смерти своего мужа.
— Не стоит сейчас вдаваться в это, мать, — сказал мистер Скиннер. — Поговорим потом.
Он подошел к окну и выглянул в освещенный солнцем садик, потом вернулся на прежнее место. Достал из кармана пенсне и, хоть вовсе не собирался надевать его, тщательно протер платком стекла. Миллисент смотрела на него, и в ее взгляде была совершенно откровенная, беззастенчивая ирония. Мистер Скиннер негодовал. Неделя труда осталась позади, и до понедельника он мог чувствовать себя свободным человеком. Хоть он и говорил жене, что этот прием в саду у каноника скучнейшая затея, куда лучше было бы спокойно выпить чаю у себя в саду, — на самом деле он думал о предстоящем визите с удовольствием. Миссионерская деятельность в Китае интересовала его весьма отдаленно, но с епископом любопытно было познакомиться. И вот — извольте! Шутка ли, оказаться впутанным в такую историю. Вдруг узнать, что твой зять был пьяницей и самоубийцей. Миллисент рассеянно оправляла свои белые манжеты. Ее хладно¬кровие бесило его; но вместо того, чтобы сказать ей об этом, он обратился к младшей дочери:
— Почему ты стоишь, Кэтлин? Кажется, в комнате достаточно стульев.
Кэтлин, не говоря ни слова, пододвинула себе стул и села. Мистер Скиннер шагнул к Миллисент и остановился перед нею.
— Я, разумеется, понимаю, зачем ты сказала нам, что Гарольд умер oт лихорадки. Это была ошибка, потому что рано или поздно такие вещи всегда выходят наружу. Не знаю, насколько сведения, сообщенные епископом, соответствуют фактам, но мой тебе совет рассказать нам все, и как можно подробнее, а тогда — подумаем. Раз каноник и Глэдис знают, теперь уже нет надежды сохранить дело в тайне. Пересуды неизбежны. Но мы хотя бы должны знать всю правду, это нам поможет.
Миссис Скиннер и Кэтлин мысленно одобрили его постановку вопроса. Они ждали, что ответит Миллисент. Выражение ее лица оставалось непроницаемым; краска быстро сбежала с него, и оно было мучнисто-бледным, как обычно.
— Едва ли вам будет приятно услышать от меня всю правду, — сказала она.
— Во всяком случае, ты можешь рассчитывать на наше понимание и сочувствие, — патетически произнесла Кэтлин.
Миллисент искоса глянула на сестру, и тень усмешки скользнула по ее плотно сомкнутым губам. Потом она медленно обвела взглядом всех троих. Миссис Скиннер показалось, что она смотрит на них так, словно перед ней три портновских манекена. Она как будто существовала в каком-то другом мире, совершенно отдельно от них.
— Как вам известно, я вышла за Гарольда не по любви, — сказала она задумчиво.
Миссис Скиннер уже собралась запротестовать, но ее удержало движение мужа, едва заметное, но достаточно красноречивое для нее — недаром они были женаты столько лет. Миллисент продолжала. Она говорила ровным голосом, не спеша, почти не меняя тона.
— Мне шел двадцать восьмой год, и других женихов у меня не было. Ему, правда, было уже сорок четыре, и мне казалось, что это очень много, но он ведь занимал хорошее положение, верно? Едва ли я могла рассчитывать на лучший шанс.
У миссис Скиннер навернулись было опять слезы, но она вовремя вспомнила о приеме.
— Да, теперь я понимаю, почему ты убрала отсюда фотографию, — сказала она скорбным голосом.
— Мама, пожалуйста, не надо! — воскликнула Кэтлин.
Фотография была сделана, когда Гарольд только что стал женихом Миллисент, и вышла очень удачной. Миссис Скиннер всегда находила Гарольда видным мужчиной. Он был высок ростом, крепкого телосложения, пожалуй, немного толстый, но неизменно подтянутый и представительный. Правда, он тогда уже был лысоват, но мужчины теперь лысеют рано; кроме того, он сам говорил, что топи — ну, знаете, эти тропические шлемы — очень портят волосы. Он носил небольшие черные усы, и лицо у него было совсем коричневое от загара. Его лучшим украшением были глаза — большие, карие, такие же, как у Джоэн. Он был интересным собеседником. Кэтлин называла его речи напыщенными, но миссис Скиннер с ней не соглашалась, считая, что мужчине к лицу апломб; когда же она заметила (а заметила она очень скоро), что Гарольду нравится Миллисент, это окончательно расположило ее в его пользу. Он всегда был предупредителен с миссис Скиннер, а она делала вид, будто ей крайне интересны его рассказы о подведомственном ему районе и об его охотничьих подвигах. Кэтлин говорила, что он о себе чересчур высокого мнения, но миссис Скиннер принадлежала к поколению, безоговорочно принимавшему на веру преувеличенное мнение мужчин о себе. Миллисент очень скоро поняла, куда дует ветер, и хотя она ничего не говорила матери, для той было ясно, что если Гарольд сделает предложение, он не встретит отказа.
Гарольд гостил у знакомых, которые прожили на Борнео тридцать лет и очень хорошо отзывались о тамошних условиях. По-видимому, ничто не мешало замужней женщине вполне сносно устроить там свою жизнь; детей, конечно, пришлось бы отправлять на родину, как только им исполнится семь лет, но так далеко вперед миссис Скиннер не считала нужным загадывать. Она пригласила Гарольда на обед, сказала ему, что к чаю они всегда дома. Дела, как видно, еще не торопили его, и когда разговор зашел о том, что он чересчур загостился у своих друзей, последовало радушное приглашение провести неделю-другую в доме у Скиннеров. К концу этого срока Гарольд уже был женихом Миллисент. Свадьбу отпраздновали очень пышно, молодые провели медовый месяц в Венеции и затем отбыли на Восток. Миллисент писала из каждого порта, куда заходил пароход. Судя по всему, она была счастлива.
— Меня очень любезно встретили в Куала Солор, — рассказывала она. Куала Солор был главный город провинции Сембулу. — Мы остановились у резидента, и все наперебой приглашали нас на обеды. Раз или два я слышала, как мужчины предлагали Гарольду выпить, но он отказывался, говоря, что он теперь человек женатый и начал новую жизнь. Я не понимала, почему все смеются. Миссис Грэй, жена резидента, не раз говорила о том, как все тут рады, что Гарольд женился. Очень уж тоскливо одному, без семьи, в отдаленных административных пунктах. Когда мы уезжали из Куала Солор, миссис Грэй попрощалась со мной таким тоном, что я невольно была озадачена. Она словно бы торжественно вверяла Гарольда моим заботам.
Все трое слушали молча. Кэтлин не отрывала глаз от бледного, бесстрастного лица сестры; мистер Скиннер смотрел на противоположную стену, увешанную крисами, парангами и другим малайским оружием; у этой стены сидела на диване его жена.
— Только когда я снова попала в Куала Солор полтора года спустя, мне стала ясна причина этого непонятного поведения. — Миллисент издала горлом странный сдавленный звук, точно отголосок презрительного смешка. — Я узнала многое, о чем не догадывалась раньше. Гарольд в тот раз приезжал в Англию специально, чтобы жениться. На ком жениться, это особой роли не играло. Помните, мама, как мы из кожи вон лезли, чтобы не упустить его? Можно было не тратить столько усилий.
— Не понимаю, о чем ты говоришь, Миллисент, — сказала миссис Скиннер обиженным тоном; намек на какие-то интриги не понравился ей. — Я сразу увидела, что он в тебя влюблен.
Миллисент пожала своими массивными плечами.
— Он был запойным пьяницей. Каждый вечер, уходя спать, он брал с собой бутылку виски, а к утру она оказывалась пустой. Его предупредили, что, если он не бросит пить, ему придется уйти в отставку. Главный его начальник сказал, что хочет дать ему последний шанс. Пусть берет отпуск и едет в Англию. И пусть постарается привезти оттуда жену, чтоб было кому присматривать за ним. Гарольд женился на мне потому, что ему нужна была нянька. В Куала Солор заключались пари насчет того, сколько времени мне удастся продержать его трезвым.
— Но он был влюблен в тебя, — перебила миссис Скиннер. — Ты не знаешь, какими словами он о тебе говорил; а в то самое время, о котором ты сейчас упомянула — когда ты уехала в Куала Солор, потому что должна была родиться Джоэн, — я получила от него такое милое письмо, и все только о тебе.
Миллисент снова поглядела на мать, и густой, темный румянец окрасил ее желтоватую кожу. Руки, покоившиеся на коленях, слегка задрожали. Она вспоминала ту первую пору своей семейной жизни. Правительственный катер доставил их к устью реки, и ночь они провели в бунгало, которое Гарольд шутя назвал своей приморской виллой. На следующий день туземная лодка повезла их вверх по реке. Из прочитанных романов Миллисент вынесла впечатление, что на реках Борнео царит всегда загадочный, зловещий мрак, а тут над головой было ярко-синее небо, по которому бежали белые облачка, и зелень мангровых зарослей и пальм нипа, спускавшихся к самой воде, блестела на солнце. По берегам сплошной стеной тянулись джунгли, а дальше на фоне неба темнел зубчатый силуэт далекой горы. Утренний воздух был свежим и бодрящим. Казалось, приветливый плодородный край раскрывается ей навстречу, и она всем существом ощущала его вольный простор. Они вглядывались в сплетение ветвей на берегу, высматривая обезьян, а один раз Гарольд показал ей в воде что-то, похожее на корягу, и сказал, что это крокодил. На пристани их встречал помощник Гарольда в шлеме и в парусиновых штанах, а за ним, в качестве почетного караула в честь прибывших, выстроилось десятка полтора молодцеватых солдатиков. Гарольд представил жене своего помощника. Фамилия его была Симпсон.
— Черт побери, сэр, — сказал он Гарольду. — До чего же я рад, что вы вернулись. Без вас тут можно было пропасть с тоски.
Бунгало резидента стояло на пригорке, в глубине сада, где в буйном беспорядке разрослись веселые, яркие цветы. Дом казался немного запущенным, и мебели было маловато, но комнаты были большие и прохладные.
— Деревня в той стороне, — сказал ей Гарольд.
Она последовала взглядом за движением его руки, и в это мгновение из чащи кокосовых деревьев донеслись мерные удары гонга. У нее как-то странно сжалось сердце.
Хоть делать ей было почти нечего, дни проходили без томительной скуки. Ранним утром бой приносил им чай, и они нежились на веранде, наслаждаясь душистой утренней прохладой (он в фуфайке и саронге, она в халате), пока не наступало время одеваться к завтраку. Потом Гарольд уходил в свою канцелярию, а она час-другой занималась малайским языком. После второго завтрака он возвращался в канцелярию, а она ложилась спать. Позднее, подкрепившись чашкой чаю, они шли гулять или играли в гольф на площадке, для которой Гарольд велел расчистить ровный участок у подножия холма. К шести уже темнело, и Симпсон являлся пропустить рюмочку. За разговором коротали время до обеда, который бывал поздно; иногда Гарольд играл с Симпсоном в шахматы. Вечера, напоенные пряным ароматом, были пленительны. Набитые светлячками кусты под верандой мерцали и переливались холодным огнем, точно призрачные маяки, а в воздухе было разлито благоухание цветущих деревьев. После обеда прочитывали полученные из Лондона газеты полуторамесячной давности и наконец шли спать. Миллисент нравилось быть замужней женщиной, хозяйкой дома; нравились слуги-туземцы, молчаливые, но приветливые, расхаживавшие по комнатам босиком в своих пестрых саронгах. Мысль, что она жена резидента, рождала в ней приятное чувство собственной значительности. Гарольд внушал ей уважение тем, как свободно он говорил по-малайски, величественной осанкой и умением держать себя с подчиненными. Иногда она заходила послушать, как он решает судебные дела. Она видела, как многообразны его обязанности и как уверенно он справляется с ними, и это возвышало его в ее глазах. Мистер Симпсон говорил ей, что никто здесь не понимает туземцев лучше Гарольда. В нем есть то сочетание твердости, такта и добродушия, которое необходимо в обращении с этим боязливым, недоверчивым и мстительным народом. Миллисент начала даже восхищаться своим мужем.
Они были женаты уже около года, когда двое натуралистов-англичан, направлявшихся в глубь страны, попросили у них приюта на несколько дней. Просьба была подкреплена рекомендательным письмом губернатора, и Гарольд сказал, что нужно принять гостей как следует. Их приезд внес приятное разнообразие в жизнь дома. Миллисент пригласила к обеду Симпсона (он жил в форте и обедал у них только по воскресеньям), а после обеда мужчины засели за бридж. Миллисент скоро оставила их и ушла спать, но шум в гостиной долго не давал ей заснуть. Она не знала, который был час, когда Гарольд разбудил ее, ввалившись в комнату. Она не подала голоса. Ему пришло в голову принять ванну перед сном. Ванная находилась внизу, как раз под спальней, и он стал спускаться с лестницы. Должно быть, по дороге он споткнулся: раздался сильный грохот, сопровождаемый бранью. Потом его стошнило. Слышно было, как он льет на себя ведрами воду, а немного спустя он взобрался по лестнице наверх, на этот раз с большей осторожностью, и нырнул в постель. Миллисент притворилась спящей. Ей было противно. Она поняла, что Гарольд пьян. Она дала себе слово утром поговорить с ним об этом. Что подумают натуралисты? Но утром у Гарольда был такой неприступно-величественный вид, что она не решилась напоминать ему о вчерашнем. Ровно в восемь они с Гарольдом и оба гостя сели завтракать. Гарольд окинул взглядом накрытый стол.
— Овсяная каша, — сказал он. — Миллисент, наши гости, вероятно, предпочли бы что-нибудь поострее, такой завтрак их едва ли устроит. Что до меня, мне ничего не нужно, кроме стакана виски с содовой.
Натуралисты засмеялись, но лица у них были смущенные.
— Ваш муж опасный человек, — сказал один из них.
— Я бы считал свой долг гостеприимства не исполненным, если бы в первый день вашего пребывания в моем доме отпустил вас спать трезвыми, — сказал Гарольд, как всегда сумев отлично выразить и закруглить свою мысль.
Миллисент, слушавшая с натянутой улыбкой, почувствовала облегчение, узнав, что гости вчера были так же пьяны, как и хозяин. Больше она не оставляла вечером мужчин одних, и все довольно рано расходились по комнатам. Но все же она была очень рада, когда натуралисты решили продолжить прерванный путь. Жизнь в бунгало вошла в обычную колею. Спустя несколько месяцев Гарольду пришлось отправиться в инспекционную поездку по району. Вернулся он больной, с сильным приступом малярии. Впервые Миллисент наблюдала вблизи эту болезнь, о которой столько слышала раньше, и ее не удивило, что Гарольд никак не может поправиться даже после того, как приступ миновал. Он был словно не в себе. Придя домой, подолгу молчал, уставясь на нее остекленевшим взглядом; или выходил на середину веранды, слегка пошатываясь, но сохраняя величественную осанку, и произносил длинные речи о политическом положении Англии — и вдруг, потеряв нить, прищуривал глаза с совершенно несвойственным ему лукавством и говорил:
— До чего же эта проклятая малярия изводит человека. Ах, женушка, женушка, не знаешь ты, что за трудное дело быть строителем империи.
Она стала подмечать на лице Симпсона какое-то тревожное выражение; раз или два, оставшись с ней вдвоем, он словно бы порывался сказать ей что-то, но в последнюю минуту природная робость мешала ему. В конце концов она не выдержала и, когда Гарольд однажды задержался в канцелярии дольше обычного, сама начала разговор.
— Вы что-то хотите мне сказать, мистер Симпсон? — спросила она без всяких предисловий. Он покраснел и замялся.
— Нет, нет. Почему вы так решили?
Симпсон был молодой человек двадцати четырех лет, худой и нескладный, с пышными кудрями, которые он всегда старательно приглаживал. Руки у него распухли и были покрыты волдырями от укусов москитов. Миллисент упорно смотрела ему в глаза.
— Если это касается Гарольда, как вы не понимаете, что лучше откровенно сказать мне, в чем дело.
Он стал совсем пунцовым и беспокойно ерзал на плетеном стуле. Она продолжала настаивать.
— Боюсь, не сочли бы вы это дерзостью, — сказал он наконец. — Да оно и в самом деле подло говорить о своем начальнике у него за спиной. Малярия — подлая болезнь: когда она тебя хорошенько потреплет, делаешься потом весь точно выжатый.
Он снова замялся. Углы губ у него обвисли, как будто он собирался заплакать. Миллисент почудилось в нем что-то детское.
— Я буду нема, как могила, — сказала она, пряча под улыбкой свое беспокойство. — Говорите, не бойтесь.
— Пожалуй, не надо бы вашему мужу держать в канцелярии виски. Бутылка под рукой, вот его и тянет лишний раз к ней приложиться.
Голос Симпсона был хриплым от волнения. Миллисент вдруг пронизала холодная дрожь. Она постаралась овладеть собой, боясь, что спугнет юношу и тогда уже ничего больше от него не добьется. Ему очень не хотелось говорить. Она просила, настаивала, взывала к его чувству долга, наконец расплакалась. И тогда он рассказал ей, что Гарольд уже две недели почти не бывает трезвым; туземцы толкуют об этом, говорят, что скоро все пойдет опять, как шло до его женитьбы. По-видимому, он тогда много, слишком много пил, но до каких-либо подробностей ей так и не удалось допытаться.
— Вы думаете, он и сейчас там пьет? — спросила она.
— Не знаю.
Миллисент вдруг бросило в жар от стыда и гнева. Канцелярия помещалась в строении, которое называли фортом, потому что там хранились ружья и боеприпасы. Строение это было расположено напротив бунгало резидента и тоже окружено садом. Солнце уже село, и Миллисент не понадобилось надевать шляпу.
Она поднялась и пошла туда. Гарольда она застала в его кабинете, позади большой комнаты, где он обычно отправлял правосудие. Перед ним стояла бутылка виски. Он курил сигарету и втолковывал что-то нескольким малайцам, которые слушали его, подобострастно и в то же время чуть презрительно улыбаясь. Лицо у него было красное.
Малайцы мгновенно исчезли.
— Я пришла посмотреть, что ты здесь делаешь, — сказала она.
Он встал — его обращение с ней всегда было подчеркнуто вежливым — и покачнулся. Чувствуя, что ноги плохо его держат, он постарался напустить на себя побольше важности.
— Присаживайся, дорогая, присаживайся. Мне пришлось задержаться — неотложные дела.
Она посмотрела на него с негодованием.
— Ты пьян, — сказала она.
Он уставился на нее слегка выпученными глазами, пытаясь придать своему большому, мясистому лицу надменное выражение.
— Не могу даже представить себе, о чем ты говоришь, — сказал он.
Она готова была обрушить на него целый поток гневных упреков, но вместо этого вдруг разрыдалась. Бросившись в кресло, она закрыла лицо руками. Гарольд с минуту смотрел на нее, потом и у него потекли по щекам слезы; протянув к ней руки, он шагнул вперед и тяжело упал на колени. Он плакал и цеплялся за нее.
— Прости меня, прости, — твердил он. — Обещаю тебе, этого никогда больше не будет. Во всем виновата проклятая малярия.
— Какой стыд, — простонала она.
Он всхлипывал, как ребенок. Было что-то трогательное в самоунижении этого рослого, величественного человека. Наконец Миллисент подняла голову. На нее был устремлен взгляд, полный мольбы и раскаяния.
— Ты мне даешь честное слово, что никогда больше не возьмешь в рот виски?
— Даю, даю. Мне противно даже думать об этом.
И тогда она ему сказала, что у нее будет ребенок. Он был вне себя от восторга.
— Теперь мне больше ничего на свете не нужно. Теперь можешь быть спокойна за меня.
Они вместе вернулись домой. Гарольд принял ванну и лег поспать. После обеда у них был долгий, душевный разговор. Он признался ей, что до женитьбы иногда действительно пил сверх меры; здесь, в глуши, дурные привычки приобретаются легко. Он обещал подчиниться всем ее требованиям. И все время, пока не подошел срок ехать в Куала Солор, Гарольд был образцовым мужем, нежным, заботливым, полным любви и гордости; его решительно не в чем было упрекнуть. За Миллисент прислали катер; она уезжала на целых полтора месяца, и Гарольд свято обещал, что в ее отсутствие не притронется к бутылке. Прощаясь, он положил руки ей на плечи.
— Я никогда не нарушаю данного слова, — сказал он со свойственным ему величественным видом. — Но не говоря уже об этом, неужели ты считаешь меня способным в такое время причинять тебе лишние тревоги?
Родилась Джоэн. Миллисент жила в доме резидента, и его жена, миссис Грэй, добрейшая пожилая дама, заботилась о ней, как родная. Долгие часы, которые они проводили вдвоем, почти нечем было заполнить, кроме разговоров, и Миллисент очень скоро выяснила все, что касалось алкоголического прошлого ее мужа. Больнее всего было узнать, что Гарольду в свое время было прямо заявлено: если он не привезет из Англии жену, то лишится своего поста. Мысль об этом вызывала у Миллисент глухое чувство обиды. А когда она поняла, какой упорный характер носили его приступы запоя, ей стало не по себе. Ее начал преследовать мучительный страх: что, если, оставшись один, он не смог устоять против искушения? Она взяла ребенка и няньку и отправилась домой. Доехав до устья реки, она послала вперед нарочного предупредить о своем возвращении, а сама осталась ночевать в бунгало на берегу. Утром, когда катер подходил к пристани, она с тревогой всматривалась в собравшихся там людей. Гарольд и мистер Симпсон стояли впереди. За ними выстроились молодцеватые солдаты. Сердце у Миллисент екнуло: Гарольд пошатывался из стороны в сторону, точно человек, старающийся сохранить равновесие во время качки, и она поняла, что он пьян.
Невеселое это было возвращение.
Миллисент почти позабыла про мать, отца и сестру, молча слушавших ее рассказ. Только сейчас она, словно очнувшись, вспомнила об их присутствии, и то, о чем она рассказывала, отодвинулось далеко-далеко.
— В эту минуту я поняла, что ненавижу его, — сказала она. — Мне захотелось его убить.
— Опомнись, Миллисент, что ты говоришь! — воскликнула мать. — Ты забыла, что его уже нет в живых, бедняги.
Миллисент взглянула на мать, тень прошла по ее бесстрастному лицу. Мистер Скиннер беспокойно задвигался в кресле.
— Рассказывай дальше, — сказала Кэтлин.
— Когда он узнал, что мне все известно, он перестал стесняться. Через три месяца с ним сделался припадок белой горячки.
— Почему ты не уехала от него? — спросила Кэтлин.
— А чем бы это помогло? Через две недели ему бы дали отставку. Кто бы нас тогда содержал, меня и Джоэн? Я должна была оставаться при нем. Когда он был трезв, я не имела оснований жаловаться. Он не был в меня влюблен, но по-своему любил меня; ведь и я вышла за него не по любви, а оттого, что мне нужен был муж. Чего только я не делала, чтобы помешать ему пить! Даже с помощью мистера Грэя добилась, что из Куала Солор перестали возить к нам спиртное, но он добывал виски у китайцев. Я стерегла его, как кошка стережет мышь. Но ему ничего не стоило перехитрить меня. После короткого перерыва он снова запил. Дела его пришли в беспорядок. Я боялась, что на него начнут поступать жалобы. От нас до Куала Солор было два дня пути, только на это я и надеялась, но, должно быть, слухи туда все-таки дошли, так как мистер Грэй прислал мне предостерегающее письмо. Я показала это письмо Гарольду. Он бушевал и возмущался, но, видимо, предостережение подействовало, и два или три месяца он не пил совершенно. Потом все опять пошло по-старому. Так продолжалось, пока нам не вышло время ехать в отпуск на родину.
Готовясь к отъезду, я просила и умоляла Гарольда следить за собой. Я не хотела, чтобы кто-нибудь из вас узнал, что за человек мой муж. И все время, покуда мы были в Англии, он держался. Когда пора было уже пускаться в обратный путь, у меня произошел с ним серьезный разговор. Он очень любил дочь и очень гордился ею, и Джоэн тоже была к нему привязана. Она всегда любила его больше, чем меня. Я спросила, неужели он хочет, чтобы девочка выросла в сознании, что у нее отец пьяница. И тут я поняла, что наконец-то держу его в руках. Мои слова потрясли его. Я прибавила, что не допущу этого, что, если Джоэн когда-нибудь увидит его пьяным, я в тот же день возьму ее и уеду. Вы не поверите, он даже побледнел, когда я это сказала. Оставшись одна, я бросилась на колени и благодарила Бога за то, что он указал мне путь к спасению мужа.
Гарольд сказал, что, если я буду ему помогать, он постарается переломить себя. И он действительно старался изо всех сил. Мы решили бороться с бедой вместе. Когда он чувствовал, что его одолевает потребность выпить, он приходил ко мне. Вы знаете, он всегда немного любил важничать; но со мной он был таким кротким, таким смиренным, он был точно ребенок. Пусть верно, что он на мне женился без любви, но в то время он меня любил всем сердцем, меня и Джоэн. А я, я прежде ненавидела его за позор, за то отвращение, которое он мне внушал, когда в пьяном виде старался напустить на себя величественный и важный вид; но теперь у меня возникло к нему своеобразное чувство. Это не была любовь, но какая-то робкая, застенчивая нежность. Он был для меня не просто мужем, он был словно дитя, которое я выносила с болью и муками. Он гордился мною, и, поверите ли, я тоже узнала это чувство гордости. Меня больше не раздражали его тирады, а его важничанье казалось мне смешным и милым. И мы одержали победу. Он совершенно излечился от своей пагубной страсти. Он даже шутил теперь по этому поводу.
Симпсон уехал, и его место занял другой молодой человек, по фамилии Фрэнсис.
— Знаете, Фрэнсис, ведь я — завязавший пьяница, — как-то раз сказал ему Гарольд. — Если б не моя жена, меня бы давно выгнали отсюда. Хорошая у меня жена, Фрэнсис, другой такой нет ни у кого на свете.
Вы даже представить себе не можете, с каким чувством я слушала эти слова. Ради этого стоило страдать, стоило пережить все, что я пережила. Я была по-настоящему счастлива.
Она замолчала. Широкая желтая река, на берегу которой она прожила так долго, катила перед ее глазами свои мутные воды. Вдоль реки летела стая цапель, сияя белизной в трепетных лучах заката, летела вразброд, стремительно и низко, почти над самой водой. Она была точно россыпь белоснежных звуков, по-весеннему сладостных и чистых, божественное арпеджио, извлеченное из невидимой арфы невидимой рукой. Полет этих птиц среди зеленых берегов, уже тонувших в вечерней дымке, напоминал свободный полет ничем не омраченных мыслей.
— И вдруг заболела Джоэн. Три недели мы жили в беспрерывной тревоге. Ближе, чем в Куала Солор, врача не было, приходилось полагаться на советы туземного фельдшера. Когда девочка поправилась, я увезла ее на побережье подышать морским воздухом. Мы провели там неделю. Это впервые я оставила Гарольда с тех пор, как родилась Джоэн. Недалеко от устья реки была рыбачья деревушка, несколько хижин на сваях, но, если не считать этого, мы были там совсем одни. Я много думала о Гарольде, думала с нежностью, и вдруг мне стало ясно, что я люблю его. Я так радовалась, когда за нами пришла лодка, мне хотелось поскорей сказать ему о своем открытии. Я знала, что для него это будет огромным счастьем. Не могу передать вам, как хорошо было у меня на душе.
По дороге гребец рассказал мне, что мистеру Фрэнсису пришлось отправиться в отдаленное селение, чтобы взять под стражу женщину, убившую своего мужа. Он уехал два или три дня назад.
Меня удивило, что Гарольд не встречал меня на пристани. Он всегда придавал большое значение таким вещам; муж и жена, говорил он, должны быть не менее внимательны друг к другу, чем к посторонним людям. Непонятно было, что могло задержать его. Я поднялась на пригорок, где стоял наш дом. За мной туземная нянька несла на руках Джоэн. В доме царила странная тишина. Казалось, он пуст, нет даже слуг. Я подумала, может быть, Гарольд не ждал меня так рано и ушел куда-то. Я взошла на крыльцо. Джоэн просила пить, и нянька пошла с ней на кухню, чтобы напоить ее. В гостиной Гарольда тоже не оказалось. Я позвала, но ответа не было. Мне стало досадно, я так хотела поскорей увидеть его. Я вошла в спальню. Нет, Гарольд не ушел никуда, он просто лежал и спал. Меня это даже насмешило: ведь он любил уверять, что никогда днем не спит. Привычка спать днем, по его словам, — это просто блажь белого человека. Я на цыпочках подошла к кровати. Вот я его сейчас разыграю, подумала я. Я отдернула москитную сетку. Он лежал на спине, голый, в одном саронге, а рядом стояла пустая бутылка из-под виски. Он был пьян.
Все началось сначала. Мои многолетние усилия пошли прахом. Напрасно я мечтала. Надеялась. Меня вдруг охватило бешенство.
Снова лицо Миллисент потемнело от прилившей краски, и она крепко вцепилась в подлокотники кресла.
— Я схватила его за плечи и стала трясти изо всех сил. «Скотина, — кричала я. — Скотина!» От ярости я не помнила, что делаю и что говорю. Я все трясла и трясла его. Если б вы знали, как он был омерзителен в эту минуту — большой, жирный, полуголый, с опухшим багровым лицом, покрытым трехдневной щетиной. Он шумно, с присвистом дышал. Я кричала на него, но он не слышал. Я пыталась стащить его с кровати, но он был слишком тяжел. Он лежал передо мной, как чурбан. «Открой глаза», — кричала я вне себя. И снова и снова трясла его. Я его ненавидела. И ненавидела еще сильнее за то, что целую неделю любила его. Он меня предал. Он меня предал. Я хотела сказать ему, что он грязное животное. Но мои слова до него не доходили. «Я заставлю тебя открыть глаза», — кричала я. Мне нужно было, чтобы он на меня посмотрел.
Вдова облизнула сухие губы. Дыхание ее участилось. Она опять замолчала.
— В таком состоянии разумнее всего было дать ему проспаться, — сказала Кэтлин.
— На стене у кровати висел паранг. Вы знаете, что Гарольд любил всякие диковины.
— Что такое паранг? — спросила миссис Скиннер.
— Не задавай глупых вопросов, мать, — раздраженно оборвал ее муж. — Вон паранг, висит прямо над тобой.
Он указал на длинный малайский клинок, давно уже почему-то притягивавший его взгляд. Миссис Скиннер поспешно отодвинулась в угол дивана, словно ей сказали, что рядом с ней лежит свернувшаяся клубком змея.
— И вдруг у Гарольда хлынула из горла кровь. Поперек горла зияла большая красная рана.
— Миллисент! — закричала Кэтлин и бросилась к ней. — Ради бога, что ты хочешь сказать?
Миссис Скиннер сидела, испуганно разинув рот.
— Паранг больше не висел на стене. Он лежал на кровати. И тогда Гарольд раскрыл глаза. Они были совсем такие, как у Джоэн.
— Но я не понимаю, — сказал мистер Скиннер. — Как он мог покончить с собой, если он был в таком состоянии, как ты рассказываешь?
Кэтлин схватила сестру за плечо и с силой тряхнула.
— Миллисент, говори сейчас же!
Миллисент резким движением высвободилась.
— Ведь я сказала, паранг висел на стене. Я не знаю, что произошло. Хлынула кровь, а потом Гарольд открыл глаза. Он умер почти мгновенно. Не сказал ни слова, только как будто ахнул.
К мистеру Скиннеру вернулся дар слова.
— Несчастная, ведь это убийство.
Миллисент, вся покрывшаяся красными пятнами, взглянула на отца с таким презреньем и ненавистью, что он отшатнулся.
Миссис Скиннер воскликнула:
— Миллисент, но это не ты, не ты?!
Тут Миллисент сделала нечто, от чего у всех троих оледенела кровь в жилах. Она хихикнула.
— Кто же еще, — сказала она.
— Боже правый, — прошептал мистер Скиннер.
Кэтлин стояла, вся вытянувшись, и обеими руками держалась за сердце, словно хотела умерить его биение.
— Что же было после? — спросила она.
— Я закричала. Потом бросилась к окну и распахнула его. Потом стала звать няньку. Она вышла в сад вместе с Джоэн. «Не надо Джоэн, — крикнула я. — Не пускай ее сюда». Она позвала повара и велела ему увести девочку. Я кричала ей: «Скорей, скорей!» Когда она вошла в комнату, я показала ей Гарольда и сказала: «Туан убил себя». Она взвизгнула и бросилась бежать.
Никто не решался войти в дом. Все точно обезумели от страха. Я отправила к мистеру Фрэнсису нарочного с письмом, в котором рассказала, что случилось, и просила вернуться как можно скорее.
— То есть как это «рассказала, что случилось»?
— Я написала, что, вернувшись с побережья, увидела Гарольда на постели с перерезанным горлом. В тропиках ведь нельзя долго держать тело. Я достала у китайцев гроб, солдаты вырыли могилу за фортом. Когда вернулся мистер Фрэнсис, прошло уже два дня после похорон. Он был еще совсем мальчик. Я могла делать с ним что хотела. Я сказала ему, что нашла Гарольда с парангом в руке и что, видимо, он зарезался в припадке белой горячки. Я показала ему и пустую бутылку. Слуги подтвердили, что он пил все время, пока меня не было. То же самое я рассказала в Куала Солор. Все там очень жалели меня, а правительство назначило мне пенсию.
Несколько минут никто не говорил ни слова. Наконец мистер Скиннер попытался взять себя в руки.
— Я юрист. Я обязан стоять на страже закона. У меня есть мой профессиональный долг. Наша фирма всегда гордилась своей репутацией. Ты поставила меня в чудовищное положение.
Он мямлил, с трудом ловя фразы, разбегавшиеся в его смятенном мозгу. Миллисент обдала его презрительным взглядом.
— Что же ты намерен делать?
— Убийство есть убийство. Я не могу попустительствовать в таком деле.
— Глупости, папа, — резко сказала Кэтлин. — Не пойдешь же ты доносить на родную дочь.
— Ты поставила меня в чудовищное положение, — повторил он.
Миллисент снова пожала плечами.
— Вы сами требовали, чтобы я рассказала вам правду. Да и слишком долго я несла эту тяжесть одна. Пора вам разделить ее со мною.
Дверь отворилась, и заглянула горничная.
— Машина у крыльца, сэр, — сказала она.
Кэтлин сумела найтись и ответить что-то, и горничная ушла.
— Что ж, поедем, — сказала Миллисент.
— Но я не могу сейчас ехать в гости, — с ужасом воскликнула миссис Скиннер. — Я слишком взволнована. Как мы будем смотреть Хейвудам в глаза? А епископ? Он ведь захочет с тобой познакомиться.
Миллисент равнодушно повела плечами. В глазах у нее было все то же ироническое выражение.
— Надо ехать, мама, — сказала Кэтлин. — Если мы не приедем, это будет выглядеть странно. — Она метнула на Миллисент злобный взгляд. — И вообще вся эта история вопиюще дурного тона.
Миссис Скиннер беспомощно оглянулась на своего супруга. Он подошел и подал ей руку, помогая подняться.
— Придется, пожалуй, ехать, мать, — сказал он.
— О боже, еще и эта эгретка из перьев, которые Гарольд сам подарил мне, — простонала она.
Мистер Скиннер повел ее к двери. Кэтлин следовала за ними, а последней, чуть поотстав, шла Миллисент.
— Вы потом привыкнете, вот увидите, — сказала она спокойно. — Первое время я ни о чем больше и думать не могла, но теперь иногда по два, по три дня не вспоминаю. А бояться нечего.
Никто не ответил. Они прошли через холл и вышли к машине. Дамы сели сзади, а мистер Скиннер с шофером. Машина была старомодная, без стартера, и Дэвис вылез, чтобы завести мотор. Мистер Скиннер обернулся и сердито посмотрел на Миллисент.
— Я не должен был ничего об этом знать, — сказал он. — Ты поступила в высшей степени эгоистично.
Дэвис занял свое место, и они поехали в гости к канонику.



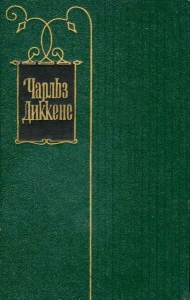

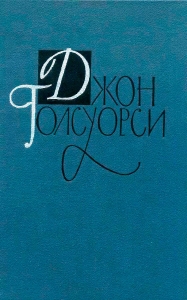
Комментарии к книге «Собираясь в гости», Уильям Сомерсет Моэм
Всего 0 комментариев