Оноре де Бальзак Серафита
Госпоже Эвелине Ганской, урожденной графине Ржевуской
Передаю Вам, мадам, сочинение, о котором Вы меня просили; счастлив, посвящая его Вам, воспользоваться возможностью засвидетельствовать Вам свою глубочайшую привязанность. Если меня после этой попытки вырвать из глубин мистицизма книгу, посмевшую, благодаря прозрачности нашего прекрасного языка, соперничать с ослепительной поэзией Востока, обвинят в беспомощности, вина за это падет на Вас! Не Вы ли вдохновили меня на битву, схожую с поединком Иакова, заявив, что даже неудачный образ героя, очаровавшего Вас, как, впрочем, и меня с самого детства, все равно значил бы кое-что для Вас? Теперь это «кое-что» перед Вами. И почему бы моей книге не стать достоянием одних лишь благородных умов, нашедших, подобно Вам, убежище от светской суеты в одиночестве? Они смогли бы придать этому сочинению недостающую гармонию, способную превратить его, под пером одного из наших поэтов, в славную эпопею, о которой все еще мечтает Франция; впрочем, они, эти благородные умы, скорее воспримут его как созданную неким добропорядочным художником балюстраду, на которую опираются пилигримы, любуясь клиросом какого-нибудь изящного храма и размышляя о смертности человека.
Остаюсь Вашим почтительным и преданным слугой
де БальзакПариж, 23 августа 1835 года
I. Серафитус
При взгляде на карту норвежского побережья чье воображение не будет захвачено его фантастическими извивами — бесконечным кружевом гранита, о который с несмолкаемым грохотом разбиваются волны Северного моря? Да и кто не мечтал увидеть грандиозное зрелище берегов без пляжей, с множеством бухточек и заливчиков, не схожих друг с другом, весь этот непроходимый хаос? Уж не захотелось ли самой природе изобразить нестираемыми иероглифами символ норвежской жизни, придав берегам Норвегии очертания остова гигантской рыбины? Ведь рыбная ловля — главное занятие в здешних краях, оно в основном и кормит горстку людей, прилепившуюся, подобно пучкам лишайника, к безводным скалам. Их там, на четырнадцатом градусе долготы, всего лишь около семисот тысяч душ. Из-за весьма прозаических опасностей, из-за вечных снегов, подстерегающих путешественников на горных вершинах Норвегии, от самого имени которой веет холодом, дивная красота этих мест сохраняется в своей первозданности и, мы скоро убедимся в этом, вполне созвучна, по крайней мере в поэзии, необычным человеческим судьбам, вершившимся здесь. О них мы и хотим поведать.
Некоторые из здешних бухт — простые щели с высоты птичьего полета — настолько широки, что льды не в силах сковать целиком бурное море, попавшее в их каменную западню. Местные жители называют их фьордами, а почти все географы пытались так или иначе приспособить это слово к своим родным языкам. Несмотря на схожесть всех этих своеобразных каналов, у каждого из них есть нечто свое; хотя море повсюду проникло в их изломы, скалы по-разному изборождены трещинами, а головокружительные пропасти могут посоперничать с самыми причудливыми геометрическими фигурами: где-то скала напоминает зубчатую пилу, где-то на ее слишком отвесных плитах не могут зацепиться ни снег, ни северные ели с их тонкими хохолками; а еще дальше сотрясения земли скруглили кокетливую впадину — красивую долину, в которую этажами сбегают деревья с темным плюмажем. Невольно хочется назвать эту страну морской Швейцарией. Одна из таких бухт, именуемая Стромфьорд, расположилась между Дронтхаймом и Христианией. Даже если Стромфьорд не самое красивое место в этих краях, оно заслуживает внимания хотя бы потому, что вобрало в себя все земные прелести Норвегии и стало сценой, на которой разыгрался воистину небесный спектакль.
С первого взгляда Стромфьорд предстает в виде воронки, выщербленной морем. Проход, который проложили себе здесь волны, открывается взору как место сражения между двумя одинаково могучими соперниками — водной стихией и гранитом; первый силен своей инерцией, второй — своей подвижностью. Достаточно взглянуть на рифы фантастических форм, препятствующие входу кораблей в залив. Бесстрашные дети Норвегии прыгают с одной скалы на другую, будто не замечая пропасть глубиной в сто туазов. Кое-где скалы соединены ненадежным и неустойчивым гнейсовым мостиком. Кое-где то ли охотники, то ли рыбаки перебросили вместо мостов ели, соединяющие две площадки, вырубленные кирками, под ними неустанно грохочет море. Этот опасный узкий вход в гавань ползет, извиваясь, вправо, пока не наталкивается на гору высотой в три сотни туазов над уровнем моря, ее подножье образует отвесную отмель длиной в пол-лье; всего лишь в двух сотнях футов над водой прочный гранит начинает разрушаться, покрываться трещинами и деформироваться. Гора не уступает мощному натиску моря и отбрасывает его к противоположным берегам, которым отступающие волны придают более плавные очертания. В глубине фьорд замыкается гнейсовой глыбой, покрытой лесами, по ней каскадами сбегает речушка. Когда снега тают, она превращается в настоящую реку — широкий водный поток, который с грохотом вырывается на простор, изрыгает старые ели и древние лиственницы, едва заметные в хаосе падающих вод. Стремительно сброшенные в воды залива, эти деревья вскоре всплывают на поверхность, сгрудившись и образуя островки, затем прибиваются к левому берегу Стромфьорда, где жители прибрежной деревушки находят их разбитыми, раздробленными, иногда целиком, но всегда без коры и веток. Гора, отбивающая у своего подножья в Стромфьорде наскоки моря, а на вершине — северного ветра, называется Фалберг. Ее гребень, под неизменным покровом из снега и льда, — самый отвесный в Норвегии; из-за близости полюса здесь, на высоте 1800 футов, свирепствует холод, сравнимый со стужей на самых высоких горах мира. Вершина Фалберга, обрывающаяся в сторону моря, плавно снижается к востоку, с водопадами на реке Зиг ее соединяют расположенные террасами долины; мороз пощадил здесь лишь заросли вереска и деревья-страдальцы. То место фьорда у нижней кромки лесов, откуда вырываются воды реки, называется Зигдальхен, что можно перевести как обрыв реки Зиг; за излучиной напротив плоской вершины Фалберга располагается долина Жарвис — живописная местность, над которой возвышаются холмы, поросшие елью, лиственницей, березой, редкими дубами и буками, — самый богатый, самый многоцветный ковер из всех, что северная природа бросила на эти суровые скалы. Ясно видна линия, начиная от которой на участках, разогретых лучами солнца, расположены посевы, там же можно обнаружить образцы норвежской флоры. Здесь залив достаточно широк, чтобы море, отброшенное Фалбергом, вернулось, уже смиренно бормоча, к последней гряде береговых холмов с полоской мягкого песчаного пляжа, усеянного принесенными рекой из Швеции слюдой, ее чешуйками, красивыми камешками, порфиром, мрамором с его бесчисленными оттенками, а также обломками, исторгнутыми морем, ракушками, морскими растениями, занесенными сюда бурями либо с полюса, либо с юга.
В долине Жарвис, у подножья гор, затерялась деревня из двух сотен деревянных домов, ее население похоже на счастливые рои лесных пчел, которые, не умножаясь и не вымирая, собирают мед на пороге дикой природы. Безвестное существование этой деревни легко объяснить. Мало кто осмелился бы искать приключения в рифах, чтобы добраться до берега моря и заняться там ловлей рыбы, как это обычно делают норвежцы на наименее опасных побережьях. Богатые рыбой воды фьорда частично удовлетворяют потребности местного населения в пище, а пастбища долин снабжают его молоком и маслом; кроме того, несколько отличных участков позволяют людям собирать урожай ржи, конопли, овощей; причем они научились защищать посевы от холодов и короткого, но безжалостного воздействия северного солнца — норвежцы демонстрируют в такой двойной борьбе свойственную им сноровку. Отсутствие путей сообщения по суше, где невозможно проложить дороги, да и по морю — лишь утлые суденышки способны пересечь морские каналы фьорда — мешает населению обогащаться за счет древесины. Потребовались бы колоссальные средства, чтобы расчистить фарватер залива и открыть путь в глубь страны. Все дороги, связывающие Христианию с Дронтхаймом, обходят стороной Стромфьорд и пересекают Зиг по мосту в нескольких лье от водопада; побережье между долиной Жарвис и Дронтхаймом покрыто обширными недоступными лесами; наконец, Фалберг тоже отсечен от Христиании неприступными пропастями. И все же Зиг мог бы связать деревню Жарвис с внутренней Норвегией и Швецией, но, чтобы установить контакт с цивилизацией, Стромфьорду нужен был свой гений. И он действительно появился: поэт, верующий швед, до конца жизни восхищавшийся красотой этой страны — одного из самых великолепных созданий Творца.
Сегодня люди, которых наука вооружила особым внутренним зрением, позволяющим душе воспринимать один за другим, как на полотне, самые контрастные пейзажи планеты, могут запросто охватить взглядом весь Стромфьорд. Возможно, именно они сумеют проникнуть в извилистые рифы бурлящей горловины бухты, промчаться по ее волнам вдоль вечных плит Фалберга, чьи белые пирамиды теряются в темных тучах почти всегда жемчужно-серого неба; возможно, именно они смогут вдоволь налюбоваться прекрасным полотном залива, вслушиваясь в шум водопадов Зига, нависающих длинными космами и падающих на живописные вырубки прекрасных деревьев, небрежно разбросанных, торчком или вповалку, среди гнейсовых валунов; а потом и отдохнуть, созерцая веселые пейзажи низких холмов Жарвиса, откуда сбегают семействами, мириадами самые богатые растения севера: здесь — грациозно склонившие стан, как юные девушки, березки; там — колоннады буков с вековыми замшелыми стволами; многообразные, совершенно несхожие растения, белые облака среди темных елей, бесконечные переливы пурпурного вереска; наконец, все цветы, все ароматы этой флоры с ее неведомыми нам чудесами. Можно еще более расширить пространства этих амфитеатров, взлететь в облака, затеряться во впадинах под утесами, где отлеживаются акулы, но и тогда ваше воображение не охватит полностью все богатство, всю поэзию этого уголка Норвегии! А может ли ваша мысль стать такой же необъятной, как Океан, омывающий берега Норвегии, такой же капризной, как фантастические силуэты, нарисованные лесами, облаками, тенями, игрой этой световой гаммы? Сумеете ли вы разглядеть над прибрежными лугами, на последней извилистой полоске земли у подножия высоких холмов Жарвиса две или три сотни домов, покрытых ноеве, чем-то вроде кровли из березовой коры, домов хрупких, плоских, похожих на шелковичных червей на занесенном ветром тутовом листе? Над этими скромными, мирными жилищами возвышается церковь, чья незамысловатая архитектура гармонирует с бедностью деревни. Вокруг церкви погост, чуть поодаль — дом священника. Еще выше, на склоне горы, расположено единственное каменное строение, прозванное жителями «шведским замком». И не случайно! За тридцать лет до дня, когда начинается эта история, в Жарвисе поселился богатый человек, приехавший из Швеции и пожелавший способствовать благосостоянию края. Его небольшой дом, отличавшийся своей основательностью, должен был послужить примером для местных жителей. Особенно поражала каменная стена, окружавшая дом, что не свойственно Норвегии, где, несмотря на обилие камня, все заборы, в том числе полевые изгороди, делаются из дерева. Защищенный таким образом от натиска снегов дом возвышался посреди обширного двора. Необычайно длинные навесы над окнами опирались на обтесанные ели, придающие северным жилищам патриархальный вид. Под этими укрытиями можно было созерцать диковатые обнаженные пространства Фалберга, сравнивать бесконечность моря в час прилива с каплей воды из пенистого залива, вслушиваться в раздольное течение Зига, поверхность которого издали казалась неподвижной, особенно там, где река низвергается в свой гранитный кубок, окаймленный в радиусе трех лье северными ледниками; наконец, окинуть взглядом всю местность, где предстоит развернуться простым и одновременно сверхъестественным событиям этой истории.
Европейцы запомнили зиму 1799—1800 годов как одну из самых суровых; Норвежское море полностью замерзло во фьордах, хотя обычно энергия прибоя не дает ему покрыться льдами. Ветер с яростью испанского галерника смел лед Стромфьорда, оттеснил снега в глубь залива. Уже с давних времен жителям Жарвиса не дано было видеть зимой широкое зеркало вод, отражающих краски неба, — любопытное зрелище в глубине этих гор, чьи изломы сглажены многослойными пластами снега и где даже самые острые ребра казались ложбинами, мелкими складками на колоссальной тунике, наброшенной природой на эту местность, тогда еще грустную и монотонную. Длинные языки Зига, неожиданно скованные льдом, образовывали грандиозную арку, под которой можно было бы найти убежище в непогоду, если бы кто-нибудь дерзнул проникнуть сюда. Но даже самые смелые охотники не решались хотя бы на шаг отойти от своих убежищ, опасаясь не найти под снегом узкие тропинки, проложенные по краям пропастей, расщелин или склонов. Ни одна тварь не оживляла эту белую пустыню, где свирепствовал северный ветер — единственный и редко звучащий голос. Под неизменно сероватым небом озеро отливало вороненой сталью. Возможно, какой-нибудь старой гаге и удавалось иногда безнаказанно пересечь это безжизненное пространство, да и то благодаря теплому пуху, под которым так сладко спят богачи, им ведь неведомо, какой ценой он достается; но как и бедуина, в одиночку бредущего по пескам Африки, никто не видел и не слышал эту птицу; в немой, лишенной своей электрической энергии атмосфере не услыхать ни свиста крыльев гаги, ни ее радостных криков. Впрочем, какой, пусть даже острый, взор мог бы выдержать ослепительный блеск пропасти, украшенной сверкавшими кристаллами, или хотя бы скупой отсвет снегов, слегка искрящихся под лучами бледного солнца, возникающего время от времени, подобно умирающему, старающемуся показать, что он все еще жив? Зачастую, когда скопища серых облаков, эскадронами пролетавших над горами и елями, укутывали небо тройным покрывалом, земля, лишенная небесных лучей, освещала сама себя. Именно здесь восседали на полярном троне властелины царства холода, главной приметой которого была воистину королевская тишина — обитель абсолютных монархов. Любой крайний принцип несет в себе видимость отрицания и симптомы смерти: в самом деле, не есть ли жизнь борьба двух сил? Там же не было никаких признаков жизни. Безусловно царила одна лишь бесполезная мощь льдов. Даже рокот бурного моря в час прилива не проникал в это безмолвное пространство, такое шумное во время трех кратких времен года, когда природа торопится произвести скудные урожаи, необходимые для выживания терпеливого народа этих мест. Несколько высоких елей вздымали свои черные пирамиды, увитые снежными гирляндами, наклонная бахрома их ветвей дополняла траур вершин, на которых, впрочем, они смотрелись всего лишь темными точками. Люди затаились у семейных очагов в тщательно закупоренных домах с запасами выпечки, топленого масла, вяленой рыбы, разной другой провизии, заготовленной на семь зимних месяцев. Дымки их жилищ, погребенных под снегом, были едва видны. От тяжести снега их кое-как защищают длинные доски, уходящие достаточно далеко от крыши и прикрепленные к прочным столбам, — таким образом вокруг дома образуется крытая галерея. Во время жестоких зим женщины ткут и красят шерстяную или полотняную ткань, из которой делается одежда, а большинство мужчин читают или предаются тем самым замечательным медитациям, что породили глубокие теории, мистические грезы севера, его верования, научные исследования, сделанные с необычайной тщательностью и полнотой; то есть нравы здесь полумонастырские, заставляющие душу откликаться на собственные движения, находить в этом пищу духовную и вообще выделяющие норвежского крестьянина среди европейцев как совершенно особое явление. Таков был Стромфьорд на первом году девятнадцатого века, в середине мая.
Однажды утром, когда под ослепительным солнцем ярко вспыхнули повсюду огни эфемерных алмазов — кристаллов из снега и льда, два силуэта промчались по заливу, пересекли его и полетели вдоль подножья Фалберга, поднимаясь, от облака к облаку, к его вершине. Что это было: два существа, две стрелы? Тот, кто узрел бы их на этой высоте, мог принять загадочные силуэты за пару гагар, летящих меж облаков. Даже самый суеверный рыбак, даже самый неутомимый охотник не поверили бы, что человеческие существа могли пройти по еле заметным тропам гранитных отвесов, по которым эта пара неслась с чудовищной ловкостью, подобно сомнамбулам, когда они, презрев земное притяжение и опасность малейшего отклонения, бегут по кромке крыш, сохраняя равновесие с помощью неведомой силы.
— Останови меня, Серафитус, — взмолилась побледневшая девушка, — позволь перевести дыхание. Продвигаясь вдоль стен этой пропасти, я не отрывала глаз от тебя, иначе что бы от меня осталось? Я ведь всего лишь беспомощное создание. Тебе не тяжело?
— Нет, — произнес тот, на чью руку она опиралась. — Не стоит останавливаться, Минна! Это место не слишком надежно, чтобы здесь задерживаться.
И снова засвистели по снегу длинные полозья, привязанные к ногам; Минна и Серафитус продолжили свое движение к вершине, пока не добрались наконец до спасительного карниза, который случай протянул по склону пропасти. Тот, кого Минна назвала Серафитусом, оперся на правую пятку, чтобы приподнять длинную, в один туаз, лыжу, узкую, как подошва ребенка, привязанную к его полусапожку двумя ремешками из акульей кожи. Толщиной в два пальца, эта лыжа была обита оленьей кожей, мех ее, царапая снег, неожиданно остановил Серафитуса, он подвел левую ногу — лыжа на ней была не менее двух туазов в длину, — проворно повернулся, подхватил свою пугливую спутницу, поднял ее, несмотря на длинные полозья на ногах, и усадил на выступ скалы, предварительно очистив его своей меховой курткой от снега.
— Здесь, Минна, ты в безопасности, дрожи сколько угодно.
— Мы уже одолели треть пути до вершины нашего Ледяного колпака, — сказала девушка, взглянув на пик Боннэ-де-Глас и называя его именем, известным всем норвежцам. — Я все еще не верю этому.
Минна смолкла, пытаясь восстановить дыхание. Улыбнулась Серафитусу. Тот, не отвечая, продолжал удерживать девушку, прислушиваясь к звонкому биению ее сердца, тревожному, как у пойманной птахи.
— Оно часто бьется так, даже когда я не двигаюсь, — сказала Минна.
Серафитус кивнул головой без какой-либо снисходительности или холодности. Хотя изящество сделало этот жест почти нежным, в нем не было и намека на возражение, которое у женщины обернулось бы обольстительным кокетством. Серафитус неожиданно обнял девушку. Минна приняла ласку за ответ на свои мысли и продолжала неотрывно смотреть на своего спутника. Серафитус поднял голову, отбросив со лба почти нетерпеливым жестом жесткие золотые кольца шевелюры, и тут заметил выражение счастья в глазах девушки.
— Да, Минна, — отеческий тон был особенно очарователен у совсем юного создания. — Смотри на меня, не опускай глаза.
— Почему?
— Хочешь узнать? Попытайся.
Минна бросила взгляд под ноги и неожиданно вскрикнула, подобно ребенку, столкнувшемуся с тигром. Ужасное ощущение бездны овладело ею, для этого вполне хватило одного взгляда. Фьорд не желал отдавать свою добычу, его гулкий глас оглушал, забивал уши, казалось, фьорд хотел наверняка разделаться с Минной, вставая между ней и жизнью. По всему телу Минны, от волос до пяток, пробежала дрожь; вначале ледяная, она тут же сменилась невыносимым жаром, наполнила им нервы, забилась в венах, прострелила разрядами, подобно электрическому скату, конечности. Не в силах сопротивляться, Минна чувствовала, как непонятная сила притягивает ее к подножью площадки, где ей уже виделось некое чудовище, тянувшее к ней свое жало, магнетические очи монстра очаровывали Минну, казалось, разверстая пасть вот-вот разорвет свою жертву.
— Я умираю, дорогой Серафитус, лишь одного тебя я любила, — Минна машинально сделала шаг к бездне.
Серафитус нежно подул ей в лоб и в глаза. И вдруг, как у путника, ободренного купанием, у Минны остались лишь воспоминания о невыносимых страданиях, снятых этим ласковым дыханием, мгновенно охватившим все ее тело и утопившим ее в бальзамических ароматах.
— Да кто же ты? — произнесла она с чувством какого-то восторженного ужаса. — Впрочем, я знаю — ты моя жизнь. Как можешь ты смотреть в эту бездну, не падая в нее? — повторила она через несколько мгновений.
Серафитус оставил прижавшуюся к скале Минну и, словно тень, подошел к краю площадки, вперил свой взор в глубь фьорда, как бы бросая вызов его зияющим глубинам, — неподвижный, бледный и невозмутимый, как мраморная статуя: бездна над бездной.
— Серафитус, если ты любишь меня, вернись! — вскрикнула девушка. — Рискуя собой, ты снова заставляешь меня страдать. Кто же ты, если в столь юном возрасте обладаешь такой сверхчеловеческой силой? — спрашивала она, снова оказавшись в его руках.
— Но ведь и ты, — ответил Серафитус, — без страха разглядываешь куда более необъятные пространства.
И, подняв палец, это странное существо указало Минне на голубой ореол, нарисованный облаками: в самом деле, над ними оставалось чистое пространство, в котором в силу еще не объясненных атмосферных законов звезды были видны даже днем.
— Ничего общего! — с улыбкой возразила Минна.
— Ты права, — отозвался Серафитус, — мы рождены, чтобы стремиться в небо. Родина, как лицо матери, никогда не пугает дитя.
Голос Серафитуса отозвался в глубине души ставшей вдруг безмолвной спутницы.
— Пошли! — снова позвал он.
И они опять помчались по узким тропкам вдоль горы, проглатывая пространство, перелетая с одной высоты на другую, с гребня на гребень, со скоростью арабского скакуна — птицы пустыни. В несколько мгновений они добрались до пестрого ковра из трав и цветов, на который еще никому не доводилось ступать.
— Какой красивый «солер»! — воскликнула Минна, назвав луг его подлинным именем. — Но откуда он здесь, на такой высоте?
— Действительно, здесь заканчивается растительность норвежской флоры, — сказал Серафитус. — Если и встречаются кое-какие травы и цветы, то только потому, что эта скала защищает их от полярного холода. Минна, — сказал он, срывая цветок, — возьми это единственное в своем роде, нежное, еще неведомое человеку создание, спрячь его на груди и сохрани на память о единственном в твоей жизни рассвете на горном «солере»! Ведь у тебя больше не будет проводника, способного привести тебя сюда.
Он протянул ей необычное растение, которое его орлиный взгляд высмотрел среди бесстебельной смолевки и камнеломки, — настоящее чудо, распустившееся под дыханием ангелов. С детской поспешностью Минна схватила прозрачно-зеленый с изумрудным блеском пучок из маленьких листиков, свернутых в рожок, в глубине они были светло-коричневыми, но постепенно, от оттенка к оттенку, кончики листочков с необыкновенно изящным резным узором становились зелеными. Листочки были так сжаты, что казались слившимися друг с другом, вместе они составляли пучок красивых розеток. То там, то здесь на этом ковре вспыхивали белые звезды, окаймленные золотой ниточкой, из розеток выступали пурпурные тычинки без пестика. И наконец, нестойкий и дикий аромат, в котором смешивались запахи роз и апельсинов, придавал нечто божественное загадочному цветку. Серафитус меланхолично разглядывал его, словно необычный аромат пробуждал в нем печальные, лишь одному ему понятные мысли! Минне же это невиданное явление казалось капризом природы, которой захотелось ради собственного удовольствия придать некоторым драгоценным камням свежесть, нежность и запах растений.
— Но почему же единственный? Второго такого никогда не будет? — обратилась девушка к Серафитусу.
Тот покраснел и резко изменил тему разговора.
— Давай сядем, повернись, посмотри! На этой высоте тебе уже не страшно, не так ли? Пропасти слишком глубоки, ты не ощущаешь их глубину; они слились в одно целое с морем, чередой облаков и красками неба; у льдов фьорда весьма красивый бирюзовый оттенок; сосновые леса кажутся тебе лишь тонкими темно-бурыми линиями; отсюда пропасти должны выглядеть именно так.
Серафитус говорил с упоением, сопровождая речь жестами, свойственными лишь тем, кто побывал на высочайших вершинах мира. Проявляется это непроизвольно: ведь там, в горах, даже самоуверенный мэтр поневоле видит в проводнике брата, чувство превосходства возвращается к нему лишь по мере спуска в долины, туда, где живут люди. Серафитус опустился на колени, чтобы отвязать лыжи Минны. Та даже не заметила этого: она была восхищена впечатляющей панорамой Норвегии, чьи уходящие вдаль горы можно было охватить одним взглядом, взволнована неизменной торжественностью этих холодных вершин, которую невозможно выразить словами.
— Лишь нечеловеческая сила могла привести нас сюда, — заметила Минна, сжав руки, — мне кажется, что я грежу.
— Вам видится сверхъестественным то, что вы не в состоянии объяснить, — отозвался Серафитус.
— Во всех твоих ответах удивительная глубина. Рядом с тобой мне все становится понятным. О, как я свободна!
— Ты уже без лыж, вот и все.
— Ах, как бы мне хотелось снять с тебя лыжи и целовать твои ноги.
— Прибереги эти слова для Вильфрида, — ласково ответил Серафитус.
— Для Вильфрида! — повторила Минна с гневом, который утих, лишь только она взглянула на своего спутника. — Ты-то никогда не теряешь самообладания! — Она попыталась, но безуспешно, взять его руку. — Ты во всем безнадежно безупречен.
— А потому ты заключила, что я ко всему равнодушен.
Взгляд Серафитуса привел Минну в ужас: казалось, он читает ее мысли.
— Ты убеждаешь меня, что мы понимаем друг друга, — в голосе ее звучала признательность любящей женщины.
Серафитус слегка покачал головой, бросив на девушку грустный и мягкий взгляд.
— Ты, кому все ведомо, — вновь заговорила Минна, — скажи мне, почему робость, которую я испытывала рядом с тобой там, внизу, растаяла здесь, наверху? Почему я впервые решилась посмотреть тебе в лицо, ведь там я едва осмеливалась украдкой взглянуть на тебя!
— Возможно, здесь мы расстались с земной суетой, — ответил он, расстегивая меховую куртку.
— Никогда еще ты не был так прекрасен, — заметила Минна, расположившись на мшистом камне и целиком предаваясь созерцанию того, кто привел ее на этот, казалось, неприступный пик.
И в самом деле, никогда раньше Серафитус так не светился, а именно этим словом можно было охарактеризовать живость его лица, саму его суть. Не происходила ли его красота от ослепительной белизны, которую придают коже чистый воздух гор и зеркало снегов? А может, от внутреннего движения, возбуждающего плоть в момент, когда она отдыхает после долгого волнения? Или все дело было в контрасте между золотым светом, исходящим от солнца, и мраком туч, через которые прошла эта красивая пара? Возможно, к этому следовало бы еще добавить эффект одного из самых прекрасных явлений человеческой натуры. Если бы какой-нибудь проворный физиономист исследовал Серафитуса, казавшегося в тот миг — с гордостью на челе и блеском в глазах — семнадцатилетним юношей, если бы он попытался разглядеть суть этой цветущей жизни под самыми белыми одеждами, в которые когда-либо север обряжал своих детей, то мог бы вполне поверить в существование некоего фосфорического флюида из нервов, светившихся, казалось, под кожей, или в постоянное присутствие какого-то внутреннего света, расцветившего Серафитуса, подобно лучам в бокале из белоснежного алебастра. Когда Серафитус снял перчатки, чтобы отвязать лыжи Минны, руки его могли показаться нежными и утонченными, чувствовалось, однако, что в них скрывалась сила, не уступающая той, что Создатель вложил в прозрачные клешни краба.
Огни, полыхавшие в его золотистом взоре, соперничали с лучами солнца, будто он не вбирал эти лучи, а сам наполнял их светом. Тонкое и хрупкое, как у женщины, тело выдавало в Серафитусе одну из тех внешне слабых натур, чья сила всегда соответствует желанию и обретается в нужный момент. Не отличаясь высоким ростом, Серафитус как бы вырастал, когда поворачивался лицом; казалось, что он готовится взлететь. Волосы, завитые рукой феи и как будто приподнятые чьим-то дыханием, усиливали иллюзию его неземного поведения; но легкая, естественная осанка отражала скорее его моральное, а не телесное состояние. Соображение Минны способствовало этой постоянной галлюцинации, перед чарами которой не устоял бы никто, она придавала Серафитусу черты сказочных существ из счастливых снов. Ни один из известных типов не мог бы дать представление об этом, на взгляд Минны, безусловно мужественном лице, которое, однако, с точки зрения мужчин, могло бы затмить, благодаря своей женской грации, самые прекрасные головки Рафаэля. А ведь этот художник небес постоянно вкладывал нечто вроде спокойной радости, любовной неги в линии своих ангельских красавиц; но, по крайней мере, если взглянуть на самого Серафитуса, кто бы мог придумать грусть, смешанную с надеждой, наполовину скрывавшую неизгладимые чувства, запечатленные в его чертах? Кто смог бы, даже силой всемогущей фантазии художника, разглядеть тени, отбрасываемые неким мистическим ужасом на это слишком умное лицо, которое, казалось, вопрошало небо и на котором неизменно отражалось сочувствие к людям? Эта голова плыла горделиво, подобно великолепной хищной птице, чей крик сотрясает воздух, и в то же время смиренно склонялась, подобно горлице, чей голос наполняет нежностью молчаливый лес. Кожа Серафитуса отличалась удивительной белизной, ее еще больше оттеняли ярко-красные губы, темные брови и шелковистые ресницы — единственные черты, проступавшие на бледном лице, чья абсолютная правильность ни в чем не ослабляла силу чувств: они отражались на нем спокойно, ненавязчиво, но с той величественной и естественной серьезностью, которую мы обычно приписываем высшим существам. Все в этой мраморной фигуре выражало силу и спокойствие. Минна поднялась, чтобы взять руку Серафитуса, надеясь, что так сможет притянуть его к себе и оставить на этом соблазнительном челе поцелуй, исторгнутый скорее восхищением, чем любовью; но взгляд молодого человека, пронзивший ее, как луч солнца пронзает призму, охладил пыл бедной девушки. Бессознательно она почувствовала пропасть между ними, отвернулась и зарыдала. И тут сильная рука обняла ее за талию, юный голос сказал Минне:
— Пойдем.
Она повиновалась и, как-то вдруг успокоившись, положила голову на грудь юноши, который, стараясь идти в ногу с девушкой, мягко и осторожно повел свою спутницу туда, где перед ними открылась лучезарная красота полярной природы.
— Прежде чем я стану смотреть и слушать тебя, скажи, Серафитус, почему ты отталкиваешь меня? Я больше не нравлюсь тебе? Почему, скажи? Мне ничего не надо для себя, пусть мои земные богатства принадлежат тебе, как и богатства моего сердца, пусть свет приходит ко мне лишь из твоих глаз, как моя мысль — из твоих мыслей, тогда я не боялась бы уже обидеть тебя, возвращая тебе отражения твоей души, слова твоего сердца, день твоего дня, как мы возвращаем Богу созерцания, которыми он питает наше сознание. Я хотела бы целиком раствориться в тебе!
— Ну хорошо, Минна, постоянное желание — обещание от будущего. Надейся! Но если хочешь быть чистой, соединяй всегда мысль Всемогущего с земными чувствами, и тогда ты полюбишь все создания, и сердце твое вознесется высоко!
— Я сделаю все, что пожелаешь, — ответила она, робко поднимая на него глаза.
— Я не могу быть твоим спутником, — грустно сказал Серафитус. Он хотел что-то добавить, но промолчал, потом указал на Христианию, маячившую точкой на горизонте: — Посмотри!
— Мы такие маленькие, — ответила она.
— Да, но возвеличиваемся чувством и умом, — отозвался Серафитус. — Именно с нас, Минна, начинается познание вещей; то малое, что мы узнаем о законах видимого мира, позволяет нам обнаружить необъятность высших миров. Не знаю, пришло ли время для такого разговора с тобой, но я так хотел бы передать тебе факел моих надежд! Возможно, что однажды мы соединимся в мире, в котором любовь бессмертна.
— Но почему же не сейчас и не навсегда? — прошептала Минна.
— Здесь нет ничего постоянного, — надменно ответил он. — Мимолетные прелести земной любви — всего лишь намек некоторым душам на существование вечного блаженства, подобно тому как открытие какого-либо закона природы позволяет избранным личностям представить себе систему в целом. Не подтверждает ли и наше хрупкое земное счастье факт существования другого, полного счастья, как земля — часть мироздания — подтверждает его же существование? Нам не дано измерить грандиозную орбиту божественной мысли, частичкой которой мы являемся, настолько же малой, насколько велик Бог, но мы можем догадываться о ее размерах, преклоняться, восхищаться, ожидать. Люди неизменно ошибаются в своих науках, не замечая, что все на планете относительно и подчиняется всеобщему движению, постоянному созиданию, неизбежно порождающему и прогресс, и конечную точку. Сам по себе человек не является конечным продуктом, иначе не было бы и Бога!
— Как тебе удалось найти время, чтобы столько познать? — спросила девушка.
— Я вспоминаю, — ответил он.
— Ты прекраснее всего, что я вижу вокруг.
— Мы — одно из величайших созданий Бога. Не зря же Он дал нам способность познавать природу, концентрировать ее в себе мыслью, чтобы с ее помощью вознестись к Нему? Сила нашей любви зависит от того, сколько, много или мало, небесного в наших душах. Но не будь несправедливой, Минна, посмотри на зрелище у твоих ног, оно великолепно, не правда ли? Под тобой, подобно ковру, стелется Океан, горы похожи на стены цирка, эфир накрывает этот театр круглым куполом, на этой высоте мысли Бога впитываются, как аромат. Взгляни! Бури, разрушающие корабли с людьми, кажутся нам здесь слабыми завихрениями, подними голову — над нами сплошная синь. Это похоже на звездную диадему. Здесь исчезают детали земного бытия. Опираясь на эту природу, подчеркнутую пространством, не ощущаешь ли ты в себе больше глубины, чем рассудка? Больше величия, чем восторга, больше энергии, чем воли? Не испытываешь ли ты нечто, идущее уже не от нас? Нет ли у тебя ощущения крыльев за спиной? Помолимся.
Серафитус преклонил колени, скрестил руки на груди, Минна, в слезах, тоже упала на колени. За несколько мгновений, в течение которых Серафитус и Минна оставались неподвижными, голубой ореол, дрожавший в небесах над их головами, увеличился, и неожиданно они оказались в лучах света.
— Почему ты не плачешь вместе со мной? — сдавленным голосом спросила Минна.
— Преисполненные духом не плачут, — ответил Серафитус, поднимаясь с колен. — Как я могу плакать? Я больше не вижу человеческих бед. Здесь добро предстает во всем своем величии; там, внизу, я слышу мольбы и страхи арфы страданий, дрожащей под рукой плененного разума. Отсюда мне слышен стройный концерт арф. Там, внизу, у вас есть только надежда — прекрасный зачаток веры; здесь же царит вера — осуществленная надежда!
— Ты никогда не полюбишь меня, я слишком несовершенна, ты презираешь меня, — сказала девушка.
— Минна, фиалка, спрятавшаяся у подножия дуба, печалится: «Солнце не любит меня, оно не приходит ко мне». Солнце же знает: «Если бы я осветило ее, бедный цветок погиб бы!» Друг цветка, оно пропускает свои лучи через листву дубов и тем самым ослабляет их, раскрашивает чашечку своего любимого цветка. Мои же покровы недостаточны, боюсь, что ты станешь еще пристальнее вглядываться в меня: а если разглядишь, то будешь потрясена. Послушай, меня не привлекают плоды земли, я слишком хорошо понял суть ваших радостей; подобно распущенным императорам безбожного Рима, я проникся отвращением ко всему, ведь мне дан дар провидца. Покинь меня, — грустно закончил Серафитус.
Затем он уселся на один из выступов скалы, низко опустив голову на грудь.
— Почему ты лишаешь меня надежды? — упрекнула его Минна.
— Уходи! — вскричал Серафитус. — Я не могу дать тебе то, чего ты ждешь от меня. Твоя любовь слишком груба для меня. Почему ты не любишь Вильфрида? Он ведь мужчина, испытанный страстями, он сумеет сжать тебя в своих крепких объятиях, он заставит тебя почувствовать большую и сильную руку. У него прекрасные черные волосы, очи, полные человеческих мыслей, сердце, извергающее потоки лавы в словах, слетающих с его уст. Он измучит тебя ласками. Он будет твоим возлюбленным, твоим супругом. Вильфрид предназначен тебе.
Минна безутешно рыдала.
— Разве ты посмеешь сказать, что не любишь его? — спросил Серафитус голосом, отозвавшимся острой болью в ее сердце.
— Пощады, пощады, мой Серафитус!
— Люби его, бедное дитя земли, тебе не оторваться от нее. Ты связана с ней своей судьбой, — заявил неумолимый Серафитус, подхватив Минну и увлекая ее к самой кромке «солера», откуда открывался такой простор, что взволнованная девушка вполне могла подумать, будто парит над миром. — Мне нужен был спутник, чтобы отправиться в царство света, но я захотел сначала показать тебе этот кусок грязи, и я вижу, что ты все еще привязана к ней. Прощай. Оставайся в этой топи, живи чувствами, подчиняйся своей природе, бледней с бледными мужчинами, красней с женщинами, играй с детьми, молись с виновными, вздымай очи к небу в скорби; трепещи, надейся, дрожи; у тебя будет спутник, ты сможешь еще смеяться и плакать, давать и получать. Я подобен изгнаннику вдали от небес и чудовищу — вдали от земли. Сердце мое не трепещет более; я живу лишь собой и для себя. Я чувствую разумом, дышу челом, вижу мыслью, умираю от нетерпения и желаний. Никто здесь, внизу, не в силах исполнить мои желания, успокоить мое нетерпение, я разучился плакать. Я — одинок. Я смиряюсь и жду.
Серафитус посмотрел на возвышение, покрытое цветами, где он усадил Минну, затем молча повернулся в сторону мерцающих гор, чьи вершины были покрыты плотными тучами, к которым он и обратил свои мысли.
— Слышишь этот замечательный концерт, Минна? — снова заговорил он голосом горлицы, орел уже вволю накричался. — Не правда ли, похоже на музыку эоловых арф, которые ваши поэты помещают в глубь лесов и гор? Различаешь ли ты эти неясные фигуры, идущие по облакам? Замечаешь ли крылатые ноги тех, кто готовит небесные декорации? Эти мелочи освежают душу; по мановению неба вскоре опадут весенние цветы, с полюса уже отправился луч. Бежим, пора.
В одно мгновение они прикрепили лыжи и спустились с Фалберга по быстрым склонам, связывавшим гору с долинами Зига. Какой-то чудесный разум вел их при спуске, точнее, полете. Когда встречалась впадина, покрытая снегом, Серафитус подхватывал Минну и устремлялся быстро вперед, как легкая птица по хрупкому насту, покрывавшему бездну. Часто, подталкивая спутницу, он слегка отклонялся, чтобы избежать пропасти, дерена, выступа скалы, которые различал, казалось, под снегом, как некоторые моряки, привыкшие к Океану, догадываются о рифах по цвету, шуму, положению вод. Когда они достигли дорог Зигдальхена и смогли наконец двигаться прямиком, почти без опаски, ко льдам Стромфьорда, Серафитус остановил Минну:
— Тебе уже не хочется разговаривать со мной?
— Я опасалась, — вежливо ответила девушка, — нарушить ваши размышления.
— Поторопимся, дорогуша, приближается вечер.
Минна вздрогнула, услышав, скажем так, новый голос своего проводника: голос чистый, словно девичий, рассеявший фантастические лучи грез, сквозь которые она до сих пор продвигалась. Серафитус начал терять свою мужскую силу, его взор не излучал больше необычайный поток разума. Вскоре эти два прелестных существа ринулись к фьорду, добрались до снежной равнины, лежавшей между побережьем залива и первым рядом домов Жарвиса; подгоняемые сумерками, они устремились вперед к дому священника, поднимаясь по склону горы, как если бы преодолевали ступени гигантской лестницы.
— Мой отец беспокоится, должно быть, — сказала Минна.
— Нет, — заверил ее Серафитус.
В этот момент они были уже перед скромным жилищем, где господин Беккер, пастор Жарвиса, читал, поджидая дочь к ужину.
— Дорогой господин Беккер, — сказал Серафитус, — возвращаю вам Минну, живую и здоровую.
— Спасибо, мадемуазель, — ответил старик, положив очки на книгу. — Вы, должно быть, устали.
— Вовсе нет, — ответила Минна, почувствовавшая в этот момент на лице освежающее дуновение своего спутника[1].
— Минна, не придете ли послезавтра вечером ко мне на чай?
— Охотно, мой милый.
— Господин Беккер, вы приведете ее ко мне?
— Да, мадемуазель.
Серафитус кокетливо склонил голову, прощаясь со стариком. За несколько мгновений он добрался до двора «шведского замка». Восьмидесятилетний слуга с лампой в руках появился под громадным навесом. С женской грациозностью Серафитус избавился от лыж и устремился в салон замка, рухнул там на большой диван, покрытый мехами, и растянулся на нем.
— Что пожелаете? — спросил старик, зажигая невероятно длинные свечи, которыми пользуются в Норвегии.
— Ничего, Давид, я слишком устала.
Серафитус расстегнул куртку из куньего меха, закутался в нее и заснул. Какое-то время старый слуга с нежностью смотрел на это странное существо. Даже ученые затруднились бы определить его пол. Наблюдая за тем, как он спал в своих обычных одеяниях, которые можно было принять и за женскую, и за мужскую накидку[2], как было не оценить миниатюрность девичьих ног, небрежно свисавших с дивана, изящество, с которым природа соединила их с телом; напротив, лоб, профиль головы были, казалось, наивысшим выражением человеческой силы.
— Она страдает и не хочет признаться мне в этом, — подумал старик. — Она умирает, как цветок, пораженный слишком ярким солнечным лучом.
И старик зарыдал.
II. Серафита
Вечером Давид вошел в салон.
— Знаю, кого вы хотите мне объявить, — сонным голосом сказала ему Серафита. — Вильфрид может войти.
Услышав эти слова, в салон быстро вошел мужчина, приблизился и сел рядом с ней.
— Дорогая Серафита, вам нездоровится? Вы бледнее, чем обычно.
Откинув волосы назад, она медленно повернулась к нему: красивая женщина, которую злая мигрень лишила сил даже жаловаться.
— Я совершила безумный поступок: прошла с Минной фьорд, мы поднялись на Фалберг.
— Вы что, хотели погибнуть? — В вопросе сквозил испуг любовника.
— Не бойтесь, мой добрый Вильфрид, я оберегала вашу Минну.
Вильфрид хлопнул по столу, вскочил, сделал несколько шагов к двери, издав горестное восклицание, затем вернулся и хотел было протестовать.
— Но зачем же столько шума, если вы считаете, что мне нездоровится? — сказала Серафита.
— Извините, пощадите! — взмолился он, опускаясь на колени. — Говорите со мной неласково, потребуйте от меня все, что вам подскажет самая жестокая женская фантазия, но не сомневайтесь в моей любви. Вы используете Минну как топор и наносите мне ею чудовищные удары. Пощадите!
— Но к чему, друг мой, столько бесполезных слов? — отозвалась Серафита и взглянула на Вильфрида так ласково, что ему почудилось, будто из глаз ее исходит поток света, вибрирующий, как замирающие звуки полной нежности итальянской песни.
— Ах! От страха не умирают, — сказал он.
— Вам плохо? — Голос ее действовал на сердце этого человека как самый магнетический взгляд. — Чем я могу помочь вам?
— Любите меня, как я вас.
— Бедняжка Минна!
— Я никогда не ищу ссоры! — вскричал Вильфрид.
— Да, настроение у вас убийственное, — улыбнулась Серафита. — Правильно ли я произношу эти слова? Похоже на тех парижанок, о чьих любовных утехах вы мне рассказывали?
Вильфрид сел, скрестил руки и мрачно посмотрел на Серафиту.
— Я прощаю вас, — сказал он, — вы не ведаете, что творите.
— О, — отозвалась она, — начиная с Евы женщина сознательно творит добро и зло.
— Согласен.
— Я уверена в этом, Вильфрид. Нашим совершенством мы обязаны женскому инстинкту. To, что вы, мужчины, узнаете, мы чувствуем.
— Почему же вы не чувствуете, как сильно я вас люблю?
— Потому что вы меня не любите.
— Боже мой!
— Но к чему же тогда ваши опасения?
— Вы ужасны в этот вечер, Серафита. Настоящий демон.
— Нет, я наделена способностью понимать, и это ужасно. Боль, Вильфрид, — это луч, освещающий нам жизнь.
— Так зачем же вы отправились на Фалберг?
— Минна расскажет вам об этом, я слишком устала, чтобы говорить. Слово за вами, вы все знаете, всему научились и ничего не забыли, за вами столько политических баталий. Поразвлекайте меня, я вся внимание.
— Чем бы я мог удивить вас? Впрочем, ваша просьба — насмешка. Вы не признаете ничего земного, вы разрушаете понятия, принятые в мире, громите его законы, нравы, чувства, науки, сводя их к размерам, которые они приобретают, если на них взглянуть с небес.
— Вы ведь хорошо знаете, друг мой, что я не женщина. Вы не имеете права любить меня. Надо же! Я покидаю эфирные регионы моей вымышленной силы, сжимаюсь в комок, унижаюсь, как бедные самки всех видов, и тотчас вы превозносите меня! И вот я вся разбита, места живого нет, прошу у вас помощи, мне нужна ваша рука, а вы отталкиваете меня. Мы не понимаем друг друга.
— Никогда не видел вас такой злой.
— Злая! — повторила она, бросив взгляд, в котором все чувства смешались в одном небесном ощущении. — Да нет, мне просто нездоровится. А потому оставьте меня, друг мой. Надеюсь, это не оскорбит ваше мужское достоинство? Мы ведь должны всегда угождать вам, снимать вашу усталость, быть всегда веселыми и позволять себе лишь капризы, которые вас забавляют. Так что я должна делать, друг мой? Спеть вам, станцевать, хотя усталость лишает меня голоса, да и ног я под собой не чувствую? Ах, господа, даже агонизируя, мы должны вам улыбаться! Если не ошибаюсь, у вас это называется властвовать. Как же мне жалко бедных женщин! Признайтесь, вы ведь покидаете своих дам, когда они стареют, как будто у них нет ни сердца, ни души? Знайте, Вильфрид, мне больше ста лет! Идите прочь! Бросьтесь к ногам Минны.
— О! Моя вечная любовь!
— Да знаете вы, что такое вечность? Замолчите, Вильфрид. Вы не любите, вы желаете меня. Скажите, разве не напоминаю я вам какую-нибудь кокетку?
— И впрямь! Я не узнаю более в вас чистую небесную девушку, которую впервые увидел в церкви Жарвиса.
При этих словах Серафита закрыла лицо руками, а когда отняла их, Вильфрид был изумлен, обнаружив на нем выражение набожности и святости.
— Вы правы, друг мой. Не оправдывается ни одно из моих посещений земли.
— Дорогая Серафита, будьте моей звездой, не покидайте место, откуда проливаете на меня такой яркий свет.
Сказав это, он протянул руку, чтобы взять руку девушки, но Серафита отвела ее, без презрения и гнева. Вильфрид резко поднялся, подошел к окну и встал так, чтобы Серафита не могла увидеть слезы в его глазах.
— Почему вы плачете? — спросила она. — Вы же не ребенок, Вильфрид. Вернитесь ко мне, я этого хочу. Вы дуетесь на меня именно тогда, когда сердиться должна бы я. Вы же видите, мне не по себе, а вы заставляете меня своими неуместными сомнениями размышлять, говорить, разделять капризы или идеи, утомляющие меня. Если бы ваш разум был подобен моему, вы бы усладили меня музыкой, отвлекли бы от неприятностей; но вы любите меня ради себя самого, а не ради меня.
После этих слов буря, пронзившая сердце Вильфрида, неожиданно стихла; он медленно приблизился, чтобы лучше созерцать соблазнительное создание, лежавшее перед ним, подперши голову рукой, расслабленное, обольстительное.
— Вы думаете, что я вовсе не люблю вас, — вновь заговорила Серафита. — Ошибаетесь. Послушайте, Вильфрид, вы уже немало узнали, много страдали. Хотите, я расскажу вам, как вы смотрите на жизнь? Дать вам руку?
Серафита приподнялась на своем ложе, от ее изящных движений, казалось, исходил свет.
— Если девушка позволяет взять себя за руку, не дает ли она обещание, которое придется держать? Но вы ведь хорошо знаете, что я не могу принадлежать вам. Два чувства преобладают в любви, соблазняющей женщин на земле. Либо они преданно служат страдающим, деградирующим, преступным существам, хотят утешить их, поставить на ноги, отнять у зла; либо отдаются существам высшим, величественным, сильным, которых желают обожать, понимать и которые часто губят их. Вы тоже деградировали, но вы очистились в пламени покаяния, и сегодня вы велики; я же чувствую себя слишком слабой, чтобы быть наравне с вами, но и слишком набожной, чтобы унижаться перед силой, иной, чем Всевышний. Так можно сформулировать и вашу жизнь, друг мой, ведь мы находимся на севере, среди туч, где абстракции возможны.
— Ваши слова убивают меня, Серафита. Я постоянно страдаю, видя, как с помощью этой чудовищной науки вы лишаете все деяния человека свойств, сформированных временем, пространством, формой, и все для того, чтобы подвергнуть их математическому анализу в каком-то абсолютно чистом виде, как это проделывает геометрия с телами, лишая их массы.
— Хорошо, Вильфрид, пусть будет по-вашему. Оставим это. Нравится вам этот ковер из медвежьей шкуры, который мой бедный Давид положил здесь?
— Да, очень.
— Вы бы не узнали меня в этой «душегрейке»[3].
Это было что-то вроде кашемировой безрукавки, подбитой чернобуркой.
— Не кажется ли вам, что ни при одном дворе, ни у одного властителя нет такого меха?
— Он достоин той, что носит его.
— А она кажется вам очень красивой?
— Человеческие слова к ней неприменимы, тут нужен разговор по душам.
— Вильфрид, вы умеете снять мою боль сладкозвучной речью... которой утешали других.
— Прощайте.
— Останьтесь. Я очень люблю и вас, и Минну, поверьте! Но вы для меня одно существо. Вместе вы для меня как брат или, если угодно, сестра. Женитесь, я хочу увидеть вас счастливым до того, как покину навсегда этот мир испытаний и страданий. Боже мой, простые женщины смогли все получить от своих любовников! Они сказали им: «Замолкните!» И те онемели. Они сказали им: «Умрите!» И те умерли. Они сказали им: «Любите меня издали!» И те остались в отдалении, как царедворец перед королем. Они сказали им: «Женитесь!» И те женились. Я же хочу, чтобы вы были счастливы, а вы мне отказываете. Значит, у меня нет такой власти? Ну хорошо, Вильфрид, послушайте, подойдите ко мне, да я бы обиделась, если бы вы женились на Минне; но когда меня уже не будет с вами, обещайте мне соединиться с Минной, небо предназначило вас друг другу.
— Я слушаю вас с удовольствием, Серафита. Хотя ваши слова не совсем понятны, они мне очень симпатичны. Но что вы хотите сказать?
— Вы правы, я забываю о своем безумии, о том, что я — бедное создание, чья слабость вам нравится. Я мучаю вас, а ведь вы забрались в этот дикий край, чтобы найти здесь отдохновение, оно так необходимо вам, страдающему от навязчивого преследования неведомым духом, измученному изнурительной научной работой, почти опустившемуся до преступления и уже носившему цепи людского суда.
Вильфрид почти без сознания рухнул на ковер. Но Серафита освежила своим дыханием его чело, и он тотчас мирно задремал у ее ног.
— Спи, отдыхай, — сказала она, поднимаясь.
Серафита простерла руки над челом Вильфрида, и с ее уст сорвались одна за другой фразы, разные по тональности, но все мелодичные и преисполненные доброты, струившейся, казалось, из ее головы то чередою грозовых облаков, то лучами света, которые грешная богиня невинно проливает на спящего любимого пастушка.
«Теперь, дорогой Вильфрид, ты достаточно силен, и я могу предстать перед тобой в своем истинном виде.
Настал час, когда души оказываются под сверкающими лучами будущего, час, когда душа обретает свободу.
Сейчас мне позволено сказать, как я тебя люблю. Неужели ты не видишь, как сильна моя любовь, любовь совершенно бескорыстная, принадлежащая лишь тебе, идущая с тобой в будущее, освещающая его для тебя? Ведь эта любовь — подлинный свет. Догадываешься ли ты теперь, с какой страстью я желала бы, чтобы ты разделался с этой жизнью, которая гнетет тебя, чтобы ты приблизился еще ближе к миру, где любовь бессмертна? Не правда ли мучительно любить ради одной лишь жизни? Не почувствовал ли ты вкус вечной любви? Понимаешь ли ты теперь, до какого блаженства может подняться существо, когда оно любит вдвойне того, кто никогда не изменяет любви, перед кем преклоняют колени в знак обожания.
Я хотела бы иметь крылья, Вильфрид, чтобы укрыть тебя ими, иметь силу, чтобы передать ее тебе, тогда ты мог бы вступить раньше времени в мир, где самые чистые радости самой чистой привязанности, когда-либо испытанные на этой земле, были бы тенью в разгар дня, который обязательно придет, чтобы осветить и возрадовать сердца.
Прости душе друга, показавшей тебе в одном слове картину твоих ошибок с милосердным намерением унять острую боль угрызений твоей совести. Услышь слова прощения! Освежи душу, вдыхая зарю, которая поднимается для тебя над мраком смерти. Да, твоя собственная жизнь — по ту сторону смерти!
Пусть мои слова приобретут чарующую форму снов, пусть они украсятся образами, воспылают и снизойдут на тебя. Вознесись, вознесись туда, откуда все люди отчетливо видны, хотя они сжаты и малы, как песчинки на берегу морей. Человечество протянулось, как простая лента: различаешь ли ты оттенки этого цветка из садов небесных? Видишь ли тех, кому не хватает разума, тех, кто начинает украшаться им, кто измучен, кто пребывает в любви, в мудрости, кто мечтает о мире, полном света?
Подсказывает ли тебе эта простая мысль судьбу человечества? Откуда оно? Куда идет? Держись своего пути! Пройдя его до конца, услышишь звуки горнов Всемогущего, крики победы, аккорды, одного из которых достаточно, чтобы вздрогнула земля, но которые глохнут в мире без востока и без запада.
Понимаешь ли ты, дорогой измученный человек, что без оцепенения, без покрова сна подобные зрелища захватили бы и разорвали твой разум, как ветер бурь уносит и рвет слабую ткань, и навсегда лишили бы человека разума? Понимаешь ли ты, что лишь душа, достигшая всемогущества, с трудом противостоит в грезах ненасытному Разуму?
Лети безостановочно по блестящим и сверкающим сферам, восхищайся, несись дальше. В полете ты отдыхаешь, движешься без устали. Как все люди, ты бы хотел быть постоянно погруженным в эти благоухающие и светлые сферы, здесь ты освобождаешься от своего безжизненного тела, говоришь языком мысли! Беги, лети, играй крыльями, которые обретешь, когда преисполнишься любовью настолько, что уже ничего больше не будешь чувствовать, станешь воплощением согласия и любви! Чем выше ты поднимаешься, тем меньше замечаешь пропасти! В небесах же их просто нет. Посмотри на того, кто говорит с тобой, кто поддерживает тебя над морем с его безднами. Взгляни еще раз на меня, ведь при свете бледного солнца земли я стану для тебя лишь неясным видением».
Серафита выпрямилась, застыла в той воздушной позе — легкий наклон головы, летящие волосы, — в которой все лучшие художники изображали Посланцев неба: складки ее одежд придавали им ту неуловимую грацию, что притягивает взор художника, выражающего все чувствами, к изящным линиям покрывала античной Полимнии. Она протянула руку — Вильфрид очнулся и поднялся.
Когда взгляд его нашел Серафиту, бледная девушка лежала на медвежьей шкуре, голова на руке, лицо спокойное, глаза блестящие. Вильфрид молча разглядывал ее, уважительное опасение отражалось на его лице и выдавало себя робким смущением.
— Да, дорогая, — вымолвил он наконец, как если бы отвечал на вопрос, — мы разделены целыми мирами. Я смиряюсь и могу лишь обожать вас. Но что станет со мной в одиночестве?
— Вильфрид, но у вас есть Минна!
Он опустил голову.
— О, не будьте так высокомерны, женщина воспринимает все через любовь: когда она не слышит, то чувствует, когда не чувствует — видит, когда же не видит, не чувствует, не слышит, ну, тогда этот земной ангел находит вас, чтобы защитить, и делает это под маской любви.
— Серафита, достоин ли я принадлежать женщине?
— Вы неожиданно стали слишком скромным, не уловка ли это? Женщине всегда нравится, когда восхваляют ее слабость! Итак, послезавтра вечером пожалуйте ко мне на чай; будет и добрейший господин Беккер; увидитесь и с Минной — самым чистосердечным созданием, известным мне в этом мире. А теперь оставьте меня, друг мой, мне предстоит долго молиться, чтобы заслужить прощение моих прегрешений.
— Вы способны грешить?
— Дорогой мой, использовать свое могущество, не гордыня ли это? Думаю, я была слишком надменной сегодня. Итак, идите. До завтра.
— До завтра, — еле слышно ответил Вильфрид, бросив долгий взгляд на существо, неизгладимый образ которого хотел унести с собой. Не в силах сразу удалиться от дома, Вильфрид несколько мгновений не двигался с места, вглядываясь в сияние, исходившее из окон «шведского замка».
«Что же я видел? — спрашивал он себя. — Нет, это не просто некое существо, это — настоящее чудо творения. От мира, увиденного через покров туч, в моей памяти остаются потрясения, подобные воспоминаниям о снятой боли, головокружению, вызванному грезами, в которых нам слышится стон ушедших поколений, этот стон смешивается со стройными голосами возвышенных сфер, где все есть — свет и любовь. Грежу ли я? Не сплю ли я еще? А может, не могу прогнать сон из глаз, прикованных к постоянно удаляющимся пространствам света? Несмотря на ночную прохладу, голова у меня все еще полыхает. Пойду-ка в дом священника! В обществе пастора и его дочери я смогу привести мысли в порядок».
И все же он не трогался с места, откуда мог наблюдать за салоном Серафиты. Это загадочное существо было, казалось, светящимся центром круга, создававшим вокруг нее атмосферу более пространную, чем у других существ; кто попадал в этот круг, испытывал власть мощного потока губительных истин и мыслей. Вильфрид с большим трудом преодолел эту необъяснимую силу; самообладание вернулось к нему лишь после того, как он пересек ограду замка. Он поспешил к дому священника и вскоре оказался под высокой деревянной аркой, служившей галереей для жилища господина Беккера. Открыв первую дверь, отделанную ноеве из березы и занесенную снегом, он сильно постучал во вторую:
— Господин Беккер, можно мне провести вечер с вами?
— Да! — два голоса слились в один.
Войдя в переднюю, Вильфрид начал постепенно возвращаться к реальности. Очень тепло поздоровался он с Минной, пожал руку господину Беккеру, пробежал взглядом по одной из картин, образы которой смягчили его физические страдания, ведь с ним происходило то, с чем сталкиваются иногда люди, привыкшие к долгому созерцанию. Так, когда какая-нибудь яркая мысль увлекает на крыльях химеры ученого или поэта, изолируя их от всего земного, перенося их через бескрайние пространства, где самые громадные собрания фактов становятся абстракциями, где самые большие творения природы превращаются в образы, горе им, если внезапно какой-нибудь шум окажет воздействие на их чувства и водворит странствующую душу в ее тюрьму из костей и плоти. Борьба, а точнее, ужасное столкновение двух сил — Плоти и Духа, одна из которых схожа с невидимым воздействием грома, а другая разделяет с чувствительной природой это гибкое сопротивление, мгновенно бросающее вызов разрушению, — порождает невиданные страдания. Тело снова нуждается в пожирающем его пламени, а пламя вновь завладевает своей добычей. Но такое соединение сопровождается бурлением, взрывами и страданиями, чьи видимые свидетельства представляются нам химией, которой вздумалось соединить двух непримиримых антагонистов. Уже в течение нескольких дней, приходя к Серафите, Вильфрид чувствовал, как его тело проваливается в бездну. Одним взглядом это странное создание мысленно втягивало его в сферу, в которую Медитация вводит ученого, куда Молитва переносит верующую душу, куда Мечта приводит художника, куда Сон заносит некоторых людей; ведь у каждого свой голос, зовущий к небесным безднам, у каждого свой проводник, чтобы добраться туда, и все страдают по возвращении. Только там рвутся покрова и предстает нагим Откровение — тайное свидетельство, страстное и ужасное, неведомого мира, лишь жалкие обрывки которого здесь, на земле, становятся достоянием разума. Для Вильфрида час, проведенный рядом с Серафитой, часто походил на так любимую териакисами[4] полудрему, когда каждое нервное окончание становится источником наслаждения. Он выходил от нее разбитым, как девушка, уставшая бежать за гигантом. Безжалостные порывы ледяного ветра гасили смертельный трепет, вызванный в нем столкновением ее двух совершенно несовместимых натур; но затем Вильфрид неизменно возвращался в дом священника, влекомый к Минне зрелищем той обыденной жизни, о которой он невольно мечтал, подобно европейскому авантюристу, испытывающему приступ ностальгии посреди соблазнившего его сказочного мира Востока. Измученный как никогда, иностранец буквально свалился в кресло и какое-то время озирался вокруг с видом только что проснувшегося человека. Господин Беккер и его дочь, привыкшие, как видно, к таким странностям гостя, продолжали свои занятия.
Гостиная была украшена коллекцией насекомых и ракушек Норвегии. Умело расположенные на желтом фоне соснового покрытия стен, они образовывали богатый гобелен, причудливо расцвеченный табачным дымом. В глубине, напротив главной двери, возвышалась колоссальная печь из кованого железа. До блеска начищенная старательной служанкой, она сверкала, как полированная сталь. Сидя за столом в большом, обитом тканью кресле у печи, упрятав ноги в меховой мешок, господин Беккер читал фолиант, покоившийся на стопке книг, как на пюпитре; слева от него стоял жбан с пивом и стакан; справа горела закопченная лампа, подпитываемая рыбьим маслом. На вид священнику было лет шестьдесят. Черты лица из тех, что так любил писать Рембрандт: колечки морщин обрамляли маленькие живые глаза, над ними нависали седеющие брови, из-под шапочки черного бархата выбивались двумя клочковатыми волнами белые волосы, широкий и лысый лоб, крупный подбородок, делающий почти квадратным овал лица; невозмутимость — признак скрытой силы, королевское достоинство, которое придают деньги, власть бургомистра-защитника, понимание искусства или невероятная сила счастливого неведения. Этот прекрасный старец, чья дородность свидетельствовала о солидном здоровье, был закутан в домашний халат из грубого сукна, скромно отделанного каймой. Он важно посасывал длинную пенковую трубку, регулярно выпускал табачные дымки и рассеянно следил за их фантастическими узорами, при этом несомненно старался усвоить, прилагая определенные интеллектуальные усилия, мысли автора читаемой им книги. С другой стороны печи, рядом с дверью, ведущей на кухню, из табачного тумана, к которому Минна, казалось, привыкла, проступал ее силуэт. Перед ней на столике располагалось все необходимое для работы: стопка салфеток, чулки для починки, лампа, похожая на ту, что освещала белые страницы книги, в которую был, казалось, погружен отец. Свежесть ее лица, с придававшими ему необыкновенную чистоту деликатными чертами, гармонично сочеталась с непорочностью, начертанной на ее бледном лбе, сквозившей в ее светлых глазах. Минна держалась прямо, слегка наклонившись к свету и невольно обнаруживая тем самым красоту своего стана. Она уже переоделась ко сну в белоснежный пеньюар из миткаля. Простенький перкалевый чепчик, украшенный лишь рюшечкой из того же материала, укрывал ее шевелюру. Даже погруженная в какие-то потаенные мысли, Минна безошибочно считала нити салфетки либо петли чулка. Законченный образ, истинный тип женщины, предназначенной для земных дел, чей взгляд способен проникнуть в святая святых, но которую мышление, одновременно скромное и милосердное, удерживает рядом с мужчиной. Сидя между двумя столами в каком-то опьянении, Вильфрид созерцал эту картину, полную гармонии, которую не мог скрыть от него табачный дым. Единственное окно, освещавшее гостиную в лучшее время года, было тщательно закрыто. Старый гобелен, подвешенный к планке вместо занавесей, свисал, образуя большие складки. Ничего экзотического, ничего выдающегося, лишь строгая простота, настоящее доброжелательство, природная естественность и вообще все привычки, свойственные домашней жизни без волнений и забот. Во многих жилищах, внешне похожих на сказочные, кажется, что блеск мимолетных удовольствий скрывает руины под холодной улыбкой роскоши; а эта гостиная была в высшей степени реальной, гармоничной по своему колориту, обнаруживала патриархальный уклад полнокровной и строгой жизни. Тишину нарушали лишь топотня служанки, готовившей ужин, да шипение вяленой рыбы, которую она жарила по местному обычаю в соленом масле.
— Хотите трубку? — произнес пастор в тот момент, когда ему показалось, что Вильфрид уже в состоянии его услышать.
— Спасибо, дорогой господин Беккер.
— Кажется, сегодня вам нездоровится больше, чем обычно, — заметила Минна, удивленная слабостью, которую выдавал голос иностранца.
— Это мое обычное состояние, когда я выхожу из замка.
Минна вздрогнула.
— В нем живет странная личность, господин пастор, — продолжил Вильфрид после паузы. — В течение шести месяцев, что я нахожусь в этой деревне, я не осмеливался спросить вас о ней, мне и сегодня приходится буквально заставлять себя говорить об этом. Сначала я горько сожалел о том, что зима прервала мое путешествие, и мне пришлось остаться здесь; но в течение двух послед них месяцев цепи, приковывающие меня к Жарвису, становятся изо дня в день все более крепкими, боюсь, что мне придется закончить жизнь именно здесь. Вы знаете, как я встретил Серафиту, какое впечатление произвели на меня ее взгляд и голос, наконец, как я был принят у нее, хотя она никого не принимает. С первого дня я пришел к вам, чтобы вы рассказали мне об этом загадочном существе. Так началась для меня череда очарований...
— Очарований! — вскричал пастор, вытряхивая пепел из трубки в простую, наполненную песком тарелку, служившую ему пепельницей. — А разве они существуют?
— Конечно, вы вот читаете, и с таким интересом, «Трактат о чарах» Жана Виера[5], поэтому мне не слишком сложно будет объяснить вам свои ощущения, — живо отозвался Вильфрид. — Если внимательно изучать природу, от ее величайших катаклизмов до самых мелких процессов, придется признать нереальность каких-либо чар, имея в виду истинный смысл этого слова. Человек не создает силы, он использует ту единственную, которая существует сама по себе и выражает их все, то есть движение — магическое дуновение всемогущего создателя миров. Виды достаточно четко разделены, чтобы рука человека могла перепутать их; и единственное чудо, на которое она оказалась способной, заключалось в соединении двух враждебных субстанций. К тому же порох — родич молнии! Но чтобы сотворить некое существо, и так неожиданно?! Для этого необходимо время, а оно не идет ни вперед, ни вспять по нашему желанию. Так, вне нас, природа пластики подчиняется законам, порядок и исполнение которых не могут быть изменены рукой человека. Но после того, как мы стали частью Материи, было бы неоправданно отрицать существование в нас чудовищной власти. Последствия ее настолько несоизмеримы, что целые поколения не смогли еще как следует в них разобраться. Я уж не говорю о способности все абстрагировать, заставить Природу замкнуться в Слове, а ведь это — потрясающий феномен, о котором толпа не размышляет, как не думает она и о движении. Тот же феномен привел индийских теософов к объяснению творения словом, но они придали ему обратную силу. Самая малая толика пищи — рисовое зернышко, порождающее некое творение, которое в нем же последовательно выражается, — была для них таким чистым образом слова созидающего и слова абстрагирующего, что просто напрашивалось применить эту систему к сотворению миров. Большинство людей должны были довольствоваться зернышком риса, посеянным в первом стихе всех версий книги Бытия. Сказав, что «Слово было у Бога», святой Иоанн лишь все усложнил. Но посев, прорастание и расцвет наших идей — свойство, присущее многим людям и не идущее ни в какое сравнение с совершенно индивидуальной способностью придавать ему большую или меньшую энергию с помощью Бог знает какой концентрации, возводя это свойство в третью, девятую, двадцать седьмую степень, делая его, таким образом, массовым и добиваясь сказочных результатов, благодаря собирательному воздействию природы. Я же называю чарами грандиозные действа, которые разыгрываются между двумя мембранами на ткани нашего мозга. В неисследованной природе Духовного Мира еще встречаются существа, обладающие невиданными способностями, сравнимыми с ужасной мощью, которой обладают газы в физическом мире. Эти существа взаимодействуют с другими, активно вторгаются в них, околдовывают их, беззащитных и несчастных: очаровывают, господствуют над ними, низводят их до ужасной роли вассалов, отдают на милость высшей силы, воздействуя на них подобно электрическому скату, оглушающему рыбака электрическим разрядом, или подобно дозе фосфора, тонизирующей или ускоряющей жизнь; или подобно опиуму, погружающему плоть в сон, освобождающему разум от его пут, позволяющему ему порхать над миром, увидеть себя через некую призму, извлекающему из него самую вкусную пищу, или, наконец, подобно каталепсии, сводящей на нет все способности в пользу одних лишь грез. Чудеса, очарования, чары, волшебства, наконец, действия, неточно называемые сверхъестественными, возможны и могут быть объяснены лишь деспотизмом Духа, принуждающего нас испытать последствия загадочной оптики, которая увеличивает, уменьшает, возносит творение, заставляет его двигаться в нас по своему желанию, обезображивает или украшает его в наших глазах, крадет нас у неба или бросает нас в ад, этими двумя понятиями выражают и высшее наслаждение, и острейшую боль. Эти явления — в нас, а не вне нас. Существо, именуемое Серафитой, представляется мне одним из таких редких и ужасных демонов, которым дано воздействовать на людей, на природу и делить оккультную власть с Богом. Для меня уроки такого очарования начались с навязанного мне молчания. Каждый раз, когда я осмеливался расспрашивать вас о ней, мне казалось, что я вот-вот узнаю некий секрет и буду хранить его, как неподкупный страж; но каждый раз, когда я хотел расспросить вас, горячая печать смыкала мои уста и я тоже невольно включался в охрану этой загадки. Уж сколько раз вы видели меня здесь сокрушенным, разбитым после попыток заигрывать с миром иллюзий, который несет в себе эта девушка — нежное и хрупкое создание для вас, а для меня — самая жестокая чародейка. Да, она кажется мне ведьмой, держащей в правой руке невидимый аппарат, чтобы возбуждать мир, а в левой — гром, чтобы все разрушать по своему желанию. Наконец, я не могу больше смотреть ей в глаза: их яркий свет невыносим. В последние дни, стараясь сохранить тайну, я слишком неловко балансирую на грани безумия. И использую каждый момент, когда чувствую в себе смелость сопротивляться этому монстру, увлекающему меня за собой, не спрашивая даже, могу ли я лететь вслед за ним. Кто она? Видели ли вы ее молодой? И вообще, была ли она рождена когда-нибудь? Были ли у нее родители? Не союз ли это льда и солнца? Она замораживает и сжигает, то возникает, то исчезает, как ревнивая истина, она привлекает и отталкивает меня, она приносит мне то жизнь, то смерть, я люблю и ненавижу ее. Не могу больше так жить, я хочу обрести гармонию, будь то в небе или в аду.
Держа в одной руке заново набитую трубку, а в другой — снятую крышку, господин Беккер слушал Вильфрида с таинственным видом, поглядывая иногда на дочь, она же, казалось, понимала эту речь, подобно тому, кто вдохновлял ее. Вильфрид был прекрасен, как Гамлет, противостоящий тени своего отца, тени, с которой он разговаривает, когда она возникает среди живущих, оставаясь видимой лишь ему.
— Это очень похоже на речь влюбленного, — наивно заметил добродушный пастор.
— Влюбленного! — подхватил Вильфрид. — Да, если следовать вульгарным представлениям. Но, дорогой господин Беккер, не передать словами то неистовство, с каким я мчусь к этому дикому существу.
— Так вы любите его? — произнесла Минна с упреком.
— Мадемуазель, меня охватывает какой-то странный трепет, когда я вижу ее, и глубокая тоска, когда не вижу, у любого мужчины подобные эмоции были бы предвестниками любви, это чувство быстро сближает людей, а между нами, когда я рядом с ней, разверзается какая-то бездна, холод ее пробирает меня, но это ощущение пропадает, когда я далеко от нее. Каждый раз, расставаясь с ней, я впадаю во все большее отчаяние, а с каждым новым посещением страсть моя возрастает. Так ученые, ищущие ключ к тайне, наталкиваются на сопротивление природы; так художник, желающий перенести жизнь на холст, страдает от сознания бессилия средств искусства.
— Сударь, как это верно! — наивно отозвалась девушка.
— Но откуда ты можешь знать это, Минна? — спросил старик.
— Ах, отец, если бы вы были с нами сегодня утром на вершинах Фалберга, если бы вы видели, как молится Серафитус, вы бы не спрашивали меня об этом. Вы бы согласились с тем, что сказал господин Вильфрид, когда впервые увидел Серафитуса в нашем храме: это — гений Молитвы.
На какое-то мгновение воцарилась тишина.
— Ну да, конечно, — откликнулся Вильфрид, — у нее нет ничего общего с созданиями, которые суетятся в дырах этого земного шара.
— На вершинах Фалберга?! — вскричал старый пастор. — Но как вам удалось туда подняться?
— Понятия не имею, — ответила Минна. — Теперь эта прогулка кажется мне сном, о котором у меня осталось лишь воспоминание! Я и сама бы не верила в реальность происходившего, если бы не это материальное свидетельство.
Она достала из-за корсажа цветок и показала его. Все трое не могли оторвать глаз от совсем не увядшей прелестной камнеломки; под ярким светом ламп она сияла в табачном дыму, как новый луч света.
— Сверхъестественно! — заявил старик, разглядывая цветок, распустившийся зимой.
— Бездна! — вскричал Вильфрид, возбужденный ароматом.
— От этого запаха у меня кружится голова, — заметила Минна. — Мне кажется, что я еще слышу его слова — музыку мысли, вижу еще свет его взгляда — выражение любви.
— Пощадите, дорогой господин Беккер, расскажите мне историю Серафиты — загадочного человеческого цветка, чей образ явлен нам этим таинственным растением.
— Дорогой гость, — ответил старик, выпустив табачное облачко, — чтобы объяснить вам, как появилось на свет это существо, необходимо посвятить вас в таинство одного из самых загадочных христианских учений; но не просто ясно охарактеризовать самое непонятное из откровений, последнюю вспышку веры, которая, как говорят, осветила наше море грязи. Что вам известно о Сведенборге?
— Только имя; о нем же, о его книгах, его религии не знаю ничего.
— Ну хорошо, расскажу вам все о Сведенборге.
III. Серафита-Серафитус
После паузы — очевидно, пастору нужно было собрать воедино свои воспоминания — он рассказал следующее:
— Эммануэль де Сведенборг родился в Упсале в Швеции. По одним источникам, это было в январе 1688 года, а если верить его эпитафии — в 1689 году. Его отец был епископом в Скаре. Сведенборг прожил 85 лет, дата его кончины в Лондоне — 29 марта 1772 года. Причем я имею в виду лишь его переход в иное состояние. Ведь последователи Сведенборга утверждали, что видели его в Жарвисе и Париже позже этой даты. Позвольте, дорогой господин Вильфрид, — сказал пастор, жестом предупреждая любую попытку прервать его, — я лишь излагаю факты, не пытаясь ни утверждать, ни отрицать их. Сначала выслушайте, а потом можете думать об этом все, что пожелаете. Хотел бы вас предупредить: во всех моих попытках судить, критиковать, обсуждать учения, я буду придерживаться интеллектуального нейтралитета между разумом и Им!
Жизнь Эммануэля Сведенборга делилась как бы на две части, — продолжал пастор. — Между 1688 и 1745 годами барон Эммануэль де Сведенборг был известен в мире как человек широчайших знаний, уважаемый, любимый за свои добродетели, всегда безупречный, неизменно полезный. Занимая высокие должности в Швеции, он в то же время опубликовал между 1709 и 1740 годами много солидных книг, высоко оцененных в мире науки, по проблемам минералогии, физики, математики и астрономии. Сведенборг придумал метод строительства доков для ремонта судов. У него есть труды по самым важным вопросам: от высоты приливов до положения Земли. Он нашел одновременно способы постройки совершенных шлюзов для каналов и более простые приемы добычи металлов. Практически во всех науках, которыми он занимался, был достигнут прогресс. В молодости Сведенборг изучил древнееврейский, греческий, латинский, восточные языки и знал их настолько, что некоторые знаменитые профессора частенько обращались к нему за консультациями; он сумел обнаружить в Татарии следы самой древней книги Священного Писания — Войны Иеговы и Высказывания (книга Браней Господних, о которой Моисей говорит в Числах, 21:14, 15, 27—30), упоминается она также Иисусом Навином, Иеремией, Самуилом. Войны Иеговы были, по мнению Сведенборга, исторической частью, а Высказывания — пророческой частью этой книги, предшественницы книги Бытия. Сведенборг утверждал даже, что Яшар, или Книга Праведника, которую упоминает Иисус Навин, существовала в восточной Татарии вместе с культом Посланий. Говорят, недавно какой-то француз подтвердил предсказания Сведенборга, заявив, что обнаружил в Багдаде несколько частей Библии, неизвестных в Европе. В 1785 году в Париже с участием почти всех европейских ученых состоялась дискуссия по поводу животного магнетизма. В ходе этой дискуссии маркиз де Томе отомстил за Сведенборга, опровергнув утверждения чиновников, назначенных королем Франции, чтобы проверить действие магнетизма. Эти господа заявляли, что никакой теории магнита вообще не существовало, в то время как Сведенборг занимался ею уже с 1720 года. Господин де Томе воспользовался этим случаем, чтобы объяснить причины «забвения», которому самые знаменитые авторитеты предали шведского ученого: уж очень им хотелось порыться в его сокровищах, использовать их для своих работ. «Некоторые из самых прославленных, — говорит господин де Томе, намекая на Теорию Земли Бюффона[6], — не могут избежать искушения напялить на себя павлиньи перья, даже не воздав должное его памяти». Наконец, он доказал, приводя убедительнейшие цитаты из энциклопедических произведений Сведенборга, что этот великий пророк опередил на несколько веков неспешное продвижение гуманитарных наук: достаточно прочесть его труды по философии и минералогии, чтобы убедиться в этом. В одном из них он выступает предшественником современной химии, объявив, что все продукты органической природы разлагаются и сводятся к двум простым компонентам; что вода, воздух, огонь не являются простыми элементами; в другом трактате он в нескольких словах доходит до сути загадок магнетизма, отнимая тем самым приоритет этого открытия у Месмера[7]. А вот, — господин Беккер указал на длинную полку между печью и окном, на которой стояли книги разных размеров, — вот семнадцать его произведений, одно из них — «Философские и минералогические сочинения», опубликованное в 1734 году, — состоит из трех фолиантов. Эти труды, доказывающие подлинные познания Сведенборга, были переданы мне господином Серафитусом, его кузеном, отцом Серафиты. В 1740 году Сведенборг впал в абсолютное молчание и нарушил его лишь для того, чтобы, оставив мирские занятия, размышлять исключительно о духовном мире. Впервые он получил повеления свыше в 1745 году. Вот как сам Сведенборг рассказывает об этом: однажды вечером, в Лондоне, когда он уже отобедал с большим аппетитом, густой туман распространился по его комнате. Когда туман рассеялся, в углу комнаты возникло нечто, принявшее очертания человека, голос его был ужасен: «Не ешь столько!» И Сведенборг установил себе строжайшую диету. В следующую ночь видение в ореоле повторилось: «Я послан Богом. Он выбрал тебя, чтобы объяснить людям смысл Его Слова и Его творений. Запиши то, что я продиктую тебе». Видение продолжалось недолго. АНГЕЛ, по словам Сведенборга, был одет в пурпур. В эту ночь глаза внутреннего человека Сведенборга были открыты и направлены в сторону Неба, мира Духов и Ада; в этих трех различных миpax он встретил своих знакомых, уже погибших в их человеческом виде: одни давно, другие недавно.
С этого момента Сведенборг постоянно жил жизнью Духа, ведь он остался в этом мире посланцем Бога. Даже если его миссия и оспаривалась неверующими, поведение Сведенборга явно выдавало в нем существо, стоящее над человечеством. Хотя ограниченные средства и вынуждали его обходиться самым необходимым, в нескольких торговых городах он предоставлял невероятные, явно чрезмерные суммы крупным фирмам — обанкротившимся или на грани краха. Никто из взывавших к его щедрости не уходил неудовлетворенным. Один неверующий англичанин отправился вслед за Сведенборгом, нашел его в Париже и рассказал, что в доме этого великого пророка двери постоянно оставались открытыми. Однажды слуга пожаловался англичанину на эту небрежность, ведь если бы пропали деньги хозяина, могли бы заподозрить в воровстве его. «Пусть не беспокоится, — улыбнулся Сведенборг, — я прощаю ему мнительность, он же не видит сторожа, который следит за моей дверью». И в самом деле, в какой бы стране он ни жил, двери его никогда не запирались, ничего у него не пропадало. Находясь в городе Готембурге, расположенном в шестидесяти милях от Стокгольма, Сведенборг предсказал, еще за три дня до прибытия почты, точный час пожара, разрушившего Стокгольм, и заметил при этом, что его собственный дом не сгорел — все это было правдой. Королева Швеции[8] рассказывала в Берлине своему брату королю, что одна из ее придворных дам была вынуждена заплатить некую сумму, хотя и знала, что ее покойный муж уже вернул долг. Не обнаружив квитанции, она отправилась к Сведенборгу и попросила того выяснить у ее мужа, где находится документ об оплате. На следующий день Сведенборг показал ей это место; больше того, по ее просьбе он попросил покойного предстать перед женой, тот явился ей во сне в своем домашнем халате, который носил перед смертью, и показал квитанцию, и впрямь спрятанную в месте, указанном Сведенборгом. Однажды в Лондоне, сев на корабль капитана Диксона, Сведенборг услышал, как одна дама спрашивала, много ли запасено провианта. «Много не потребуется, — успокоил он. — Через неделю, в два часа, мы будем в порту Стокгольма». Так и случилось. Состояние провидца, в которое Сведенборг входил по своему желанию, когда речь шла о земных вещах, и которое удивляло всех окружающих своими замечательными свойствами, было лишь слабым проявлением его способности видеть небеса. Среди этих видений весьма любопытны те, в которых Сведенборг рассказывает о своих путешествиях по «Звездным землям», его описания всегда удивляют какой-то наивностью деталей. Человек, чье выдающееся место в науке неоспоримо, который соединял в себе мысль, волю, воображение, мог бы, конечно, выдумать кое-что получше, если бы он выдумывал. Впрочем, фантастическая литература Востока не содержит ничего, что могло бы сравниться с его творчеством — оглушительным и полным внутренней поэзии, если только позволено сравнивать духовное творчество с образцами арабской фантастики. Похищение Сведенборга Ангелом, который служил ему проводником во время его первого путешествия, это совершенство, превосходящее на всем пути, проложенном Богом между Землей и Солнцем, совершенство эпопей Клопштока, Мильтона, Тассо и Данте. Эта, вводная, часть его «Звездных земель» никогда не была опубликована; она принадлежит к традициям устного творчества, завещанным Сведенборгом трем своим любимым ученикам. Господин Силверихм обладает ее письменным вариантом. Господин Серафитус порывался иногда рассказать мне о Сведенборге, но память о Слове его кузена была настолько болезненна, что он тут же замолкал и впадал в задумчивость, из которой ничто уже не могло его вывести. Аргументы, которыми Ангел доказал Сведенборгу, что эти астральные тела не созданы для блужданий и одиночества, опрокидывают, как мне говорил барон, все гуманитарные науки грандиозной божественной логикой. Согласно пророку, жители Юпитера вовсе не развивают науки и именуют их тенями; жители же Меркурия терпеть не могут выражать свои мысли словами, которые кажутся им слишком материальными, у них визуальный язык; жителей Сатурна постоянно искушают демоны; жители Луны похожи на шестилетних детей, они — чревовещатели, передвигаются ползком; жители Венеры — гигантского роста, но глупы и живут разбоем; но и на этой планете есть существа добродушные и доброжелательные. Наконец, он описывает нравы народов, населяющих эти миры, и объясняет общий смысл их существования по отношению к вселенной в более точных терминах; его объяснения настолько соответствуют свойствам их видимых перемещений в общей системе мироздания, что настанет, может быть, день, когда ученые будут черпать из этого кладезя мудрости.
Господин Беккер взял одну из книг и открыл ее там, где была закладка.
— Вот как Сведенборг заканчивает это произведение: «Если кто-нибудь засомневается, что я бывал перенесен во многие звездные земли, пусть он вспомнит мои исследования о расстояниях в иной жизни; они существуют лишь относительно внешнего состояния человека; однако, находясь изнутри, как и ангельские души этих земель, я смог их познать». Обстоятельства, при которых появился в наших местах барон Серафитус, любимый кузен Сведенборга, заставили меня внимательно относиться ко всем событиям его необыкновенной жизни. Недавно некоторые европейские газеты обвинили Сведенборга в обмане. Они обнародовали следующую историю, ссылаясь при этом на некое письмо шевалье Бейлона. Утверждалось, что Сведенборг, узнав от сенаторов о секретной переписке покойной королевы Швеции с принцем Пруссии, ее братом, поведал ей о тайнах, которые эта переписка содержала, и уверил ее в том, что они стали известны ему благодаря сверхъестественным силам. Достойный доверия господин Шарль-Леонар де Шатльхаммер, капитан королевской гвардии и кавалер ордена Меча, ответил письмом на эту клевету.
Порывшись в бумагах в ящике своего стола, пастор нашел наконец газету и протянул ее Вильфриду, тот прочел вслух следующее письмо:
«Конрад, Стокгольм, 13 мая 1788 г.
Я с удивлением прочел письмо, излагающее содержание беседы между известным Сведенборгом и королевой Луизой-Ульрикой; обстоятельства, связанные с этой беседой, полностью искажены; надеюсь, что автор письма извинит меня, если благодаря правдивому рассказу, который может быть подтвержден несколькими благородными лицами, присутствовавшими при этом и все еще находящимися в добром здравии, я докажу ему, насколько он ошибся. В 1758 году, вскоре после смерти прусского принца, Сведенборг явился ко двору: у него была привычка регулярно находиться там. Как только королева заметила его, она спросила: «Между прочим, господин асессор, не видели ли вы моего брата?» Сведенборг ответил отрицательно, тогда королева продолжила: «Если встретите его, передайте ему привет от меня». При этом она хотела лишь пошутить, не имея ни малейшего намерения дать какое-то поручение к своему брату. Через неделю, а вовсе не через 24 дня и не ради какого-то специального собрания Сведенборг опять заявился ко двору, но так рано, что королева еще не вышла из своих покоев, называемых Белыми Палатами, где беседовала со своими статс-дамами и другими дамами двора. Не ожидая выхода королевы, Сведенборг вошел прямо в ее покои и что-то сказал ей на ухо. Изумленная королева была обескуражена: потребовалось время, чтобы она пришла в себя.
Успокоившись, она сказала окружающим: «Лишь Бог и мой брат могут знать то, что он только что сказал мне!» Она призналась, что Сведенборг говорил ей о ее недавней переписке с принцем, содержание которой было известно только им. Я не могу объяснить, как Сведенборг узнал об этом секрете, но могу дать честное слово, что ни граф Г., как об этом говорит автор письма, ни кто-то иной не перехватывал и не читал писем королевы. Тогдашний сенат разрешал ей писать брату, сохраняя, однако, в тайне эту переписку, не имевшую государственной важности. Очевидно, что автор вышеозначенного письма совершенно не знал характера графа Г. Граф Г. — уважаемый господин, имевший выдающиеся заслуги перед своей родиной, — соединял в себе таланты разума с качествами души, его солидный возраст нисколько не ослабил этих ценных свойств. Во время своего правления он неизменно сочетал самую просвещенную политику с абсолютной безупречностью поведения, не терпел тайных интриг и закулисных происков, считал их недостойными методами для достижения своих целей. Автор также плохо знал асессора Сведенборга. Единственная слабость этого действительно честного человека заключалась в том, что он верил в явления духов, но я очень долго был знаком с ним и могу утверждать: он так же был убежден в том, что говорил и беседовал с духами, как я — в том, что в данный момент пишу эти строки. Как гражданин и друг он был абсолютно безупречен, ненавидел ложь и вел образцовую жизнь. Следовательно, объяснение, данное этому факту шевалье Бейлоном, лишено всякого основания; ночной визит к Сведенборгу графов Г. и Т. полностью выдуман. Могу заверить автора письма, что я ни в коей мере не являюсь последователем Сведенборга; лишь любовь к истине заставила меня точно изложить факт, о котором часто говорилось в совершенно извращенном виде; подтверждаю написанное своею подписью».
Господин Беккер вновь спрятал газету в ящик стола и добавил:
— Свидетельства, предоставленные Сведенборгом относительно своей миссии по отношению к королевским семьям Швеции и Пруссии, несомненно укрепили уверенность некоторых персонажей этих двух дворов. К сожалению, я не могу поведать вам о всех фактах из его материальной и видимой жизни — ее принципы совершенно несхожи с тем, что было о них известно. Будучи равнодушен к богатству и славе, он жил уединенно и даже выделялся своего рода отвращением к попыткам обращать в свою веру, раскрывался перед немногими и помогал лишь тем, в ком явно обнаруживались вера, мудрость и любовь. С одного взгляда он мог понять состояние души тех, кто соприкасался с ним, превращал в ясновидящих тех, кого хотел тронуть своей внутренней убежденностью. По свидетельству учеников Сведенборга, после 1745 года никто из них не видел, чтобы поступки его подчинялись какому-либо человеческому мотиву. Лишь один человек — шведский священник Маттезиус — обвинил его в безумии. Впрочем, вскоре судьба распорядилась так, что этот Маттезиус, враг Сведенборга и его работ, сам лишился рассудка; всего лишь несколько лет тому назад он еще жил в Стокгольме на пенсию, предоставленную ему шведским королем. Похвальное слово о Сведенборге было составлено в точном соответствии с событиями его жизни и произнесено в 1786 году в большом зале Королевской Академии наук в Стокгольме господином де Санделем, советником Горного колледжа. Наконец, документ, полученный лордом-мэром Лондона, констатирует малейшие детали последней болезни и смерти Сведенборга.
При этом присутствовал господин Ферелиус, шведский священнослужитель самого знатного происхождения. Свидетели подтверждают, что Сведенборг не только не отказывался от своих работ, но постоянно подчеркивал их истинность. «Через сто лет, — сказал он господину Ферелиусу, — моя доктрина будет главенствовать в ЦЕРКВИ». Он очень точно предсказал день и час своей смерти. В тот день, в воскресенье 29 марта 1772 года, Сведенборг поинтересовался, который час. «Пять», — ответили ему. «Настало время, — произнес он. — Благослови вас Господь!» Десять минут спустя, испустив легкий вздох, Сведенборг спокойно скончался.
Простота, скромность в быту, одиночество были характерны для его жизни. Закончив то или иное сочинение, он садился на корабль и отправлялся в Лондон или в Голландию с целью издать свое творение, но никогда не говорил об этом. И таким образом он последовательно опубликовал 27 разных сочинений, написанных, по его словам, под диктовку Ангелов. Правда это или нет, но не так уж много людей, способных выдержать их пламенные речи. Все эти сочинения перед вами, — сказал господин Беккер, указывая на вторую полку, на которой стояло десятков шесть томов. — В семи из них Божий дух проливает самый яркий свет: «Радости супружеской любви», «Небо и ад», «Секреты Апокалипсиса», «Рассуждение о внутреннем смысле», «Божественная любовь», «Подлинное христианство», «Ангельская мудрость всемогущества, ведение, вездесущность тех, кто разделяет вечность и безграничность Бога».
Господин Беккер открыл первый том, лежавший у него под рукой:
— Толкование Апокалипсиса начинается у Сведенборга так: «Здесь нет ничего от меня, я говорил словами Всевышнего, который устами того же Ангела сказал Иоанну Богослову: Не запечатывай слово пророчества книги сей...» (Откровение святого Иоанна Богослова, 22:10).
Затем, посмотрев на Вильфрида, пастор продолжил:
— Зимними ночами, когда я читал потрясающие произведения, в которых этот человек с совершенным простодушием излагает невероятные вещи, трепет охватывал меня. «Я видел, — утверждает Сведенборг, — Небеса и Ангелов. Духовный человек распознает духовного человека намного лучше, чем земной человек узнает земного. Описывая чудеса небес и поднебесья, я повинуюсь приказу, данному мне Всевышним. Ваша воля не верить мне, я не могу привести других в то состояние, в которое Бог привел меня; не в моих силах ни научить их общению с Ангелами, ни совершить чудо — даровать им способность понимания; они сами являются единственными инструментами своей ангельской экзальтации. Вот уже 28 лет я нахожусь в духовном мире с Ангелами, а на земле — с людьми; ибо Всевышний изволил открыть мне глаза Духа, как Он открыл их Павлу, Даниилу и Елисею». И все же у некоторых людей бывают видения духовного мира: благодаря лунатизму происходит полный разрыв между внешней формой человека и его внутренним существом. «В этом состоянии, — говорит Сведенборг в своей работе «Об ангельской мудрости» (№ 257), — человек может быть возвышен до небесного света, так как вследствие исчезновения телесных ощущений небесное влияние на внутреннего человека совершается без помех». Многие люди, уверенные в том, что у Сведенборга вовсе не было небесных откровений, считают, однако, что не все его сочинения отмечены в равной мере божественным вдохновением. Другие требуют абсолютного согласия со Сведенборгом, хотя и признают наличие темных мест в его творчестве; но они верят, что лишь несовершенство земного языка мешало пророку ясно выразить свои духовные видения; впрочем, этот туман рассеивается для тех, кого возродила вера; ведь, как замечательно сказал самый крупный из последователей Сведенборга, плоть — произрождение во вне.
Для поэтов и писателей чудеса плоти безграничны; для ясновидящих все — чистая реальность. Описания этой реальности стали сущим скандалом для некоторых христиан. Нашлись критики, которые высмеяли небесную суть ее храмов, ее золотых дворцов, ее роскошных особняков, где резвятся ангелы; другие насмехались над ее рощами с загадочными деревьями, над ее садами, в которых говорят цветы, где воздух чист, а загадочные драгоценные камни — сардоникс, карбункул, хризолит, хризопраз, халцедон, берилл, а также урим и туммим[9] — владеют даром движения, выражают небесные истины, им можно задавать вопросы, а они отвечают изменением своей окраски (Истинная религия, 219); многие ученые отвергают его миры, в которых цвета создают изумительные сочетания, где слова пламенеют, где Слово пишется мудреными завитушками (Истинная религия, 278). На самом севере несколько писателей высмеивали двери из жемчуга и бриллиантов, украшающие интерьер домов его Иерусалима[10], где самая мелкая посуда сделана из редчайших веществ земли. «Но, — говорят его ученики, — если подобные вещи рассеяны в этом мире, почему бы им не быть в изобилии в другом? На Земле они земного происхождения, а на небесах имеют небесный вид, соответствующий ангельскому состоянию». Впрочем, по этому поводу Сведенборг любил повторять великие слова Иисуса Христа: «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, — как поверите, если буду говорить вам о небесном?» (Иоанн, 3:12) Сударь, я прочел всего Сведенборга, — с некоторым самодовольством заявил господин Беккер. — Говорю об этом с гордостью, потому что сохранил рассудок. Читая его, можно или потерять рассудок, или стать ясновидящим. Хотя я и избежал этих двух безумий, зачастую мною овладевали незнакомые чувства восторга, глубокие потрясения, внутренняя радость, которые даются лишь полнотой истины, ясностью небесного света. Все на земле кажется ничтожным, когда душа пробегает потрясающие страницы cочинений Сведенборга. Невозможно не поразиться при мысли, что за тридцать лет этот человек опубликовал по вопросу об истинах духовного мира двадцать пять томов ин-кварто, написанных по-латыни, самая малая из его книг насчитывает 500 страниц, и все они напечатаны мелким шрифтом. Кроме того, по слухам, он оставил двадцать других томов в Лондоне у своего племянника господина Силверихма, бывшего духовника шведского короля. Конечно, человек, посвятивший сорок лет своей жизни сочинению и публикации этих замечательных произведений, составивших целую энциклопедию, не мог обойтись без поддержки неба, особенно будучи уже в возрасте, когда силы человеческие начинают убывать. В его сочинениях тысячи пронумерованных тезисов, ни один из них не противоречит остальным. Повсюду точность, методичность, присутствие духа проявляются и вытекают из одного — существования Ангелов. «Истинная религия», где изложена вся его доктрина, строгое учение света, была задумана и исполнена в 83 года. Наконец, никто из критиков и врагов Сведенборга не отрицал его вездесущность, всеведение. Тем не менее, даже когда я почерпнул из этого потока небесных лучей, Бог не открыл мне внутреннего взора, и я судил об этих сочинениях с точки зрения невозрожденного человека. Поэтому я часто находил, что вдохновленный свыше Сведенборг иногда, должно быть, плохо слышал Ангелов. Некоторые видения, в которые я должен был, согласно Провидцам, уверовать с восторгом, вызывали у меня лишь смех. Я ведь не выдумал ни кудрявый почерк ангелов, ни их пояса, в которых не так уж много золота. Например, поначалу фраза «Есть одинокие ангелы» как-то странно умилила меня, затем, подумав, я не стал связывать это одиночество с их брачными узами. Я не понял, почему Дева Мария сохраняет на небе свои белоснежные одежды. Я осмелился даже задаться вопросом: почему гиганты-демоны Енакимы[11] и Гефилимы вечно сражаются с херувимами в апокалиптических полях Армагеддона[12]. Мне непонятно, каким образом демоны все еще могут спорить с Ангелами. Возражая мне, барон Серафитус утверждал, что речь шла об Ангелах, которые оставались на земле в человеческом виде. Зачастую видения шведского пророка испещрены гротескными фигурами. Одно из его «Памятных событий» начинается такими словами: «Увидел души, собранные вместе, на головах у них были шляпы». В другом «Памятном событии» он сообщает, что получил с неба записку, а в ней обнаружил буквы, которыми пользовались примитивные народы: они состояли из ломаных линий с идущими вверх кружочками. Чтобы убедительнее доказать небесное происхождение этой бумаги, ему следовало, возможно, представить ее шведской Королевской Академии наук. Впрочем, может быть, я и не прав, возможно, материальные абсурдности, посеянные в его произведениях, имеют некий духовный смысл. Иначе как объяснить растущее влияние его религии? Церковь Сведенборга насчитывает сегодня больше семисот тысяч приверженцев: в Соединенных Штатах Америки к ней активно присоединяются разные секты, в Англии в одном лишь Манчестере семь тысяч последователей Сведенборга. Люди, известные своими знаниями и своим высоким положением в обществе, будь то в Германии, в Пруссии или на Севере, публично приняли доктрину Сведенборга, еще более утешительную, чем все остальные христианские верования. Теперь я хотел бы вкратце объяснить вам основные пункты доктрины, разработанной Сведенборгом для своей церкви; но такое краткое изложение, сделанное по памяти, неизбежно было бы неточным. Поэтому я позволю себе рассказать вам лишь о секретах, имеющих отношение к рождению Серафиты.
В этом месте господин Беккер сделал паузу, собираясь, казалось, с мыслями, затем продолжил:
— Установив математически, что человек живет вечно в нижних или верхних сферах, Сведенборг называет Ангельскими душами существа, которые, еще в этом мире, подготовлены для неба, где становятся Ангелами. По Сведенборгу, Бог не создал Ангелов специально, среди них нет ни одного, кто не был бы человеком на земле. Таким образом, земля — рассадник для неба. Следовательно, Ангелы не являются Ангелами для самих себя (Ангельская мудрость, 57); они преображаются через внутреннее соединение с Богом, и Бог никогда не отказывает им в этом; Божья суть никогда не бывает отрицательной, она бесконечно активна. Ангельские души проходят через три сущности любви, так как человек может быть преображен лишь последовательно (Истинная религия). Прежде всего — через Любовь к самому себе, высшее выражение этой любви — человеческий гений, чьи творения рождают поклонение. Затем — через Любовь к Миру, порождающую пророков — великих людей, коих Земля принимает за вождей и славит как богов. Наконец — через Любовь к Небу, создающую Ангельские души. Эти души, можно сказать, цветы человечества, которое стремится найти свое выражение в них. Они должны обладать или небесной Любовью, или небесной Мудростью, но, прежде чем обрести Мудрость, они всегда пребывают в Любви. Итак, начальное преображение человека — Любовь. Чтобы достичь первой ступени, ее предшествующие существования должны пройти через Надежду и Милосердие, которые готовят ее для Веры и Молитвы, и, порожденные исполнением этих добродетелей, передаются каждой новой человеческой оболочке, скрывающей метаморфозы Внутреннего существа, так как ничто не отбрасывается, все необходимо: Надежда не бывает без Милосердия, Вера — без Молитвы, четыре грани этого квадрата соответствуют друг другу. «Если какая-нибудь добродетель отсутствует, — говорит Сведенборг, — Ангельская душа напоминает разбитый жемчуг». Каждое из этих существований представляет собой, следовательно, некий круг, в который вписываются небесные богатства предшествующего состояния. Высокое совершенство Ангельских душ происходит из этого загадочного продвижения. В нем ничто не теряется из последовательно полученных качеств, все служит их славному воплощению; в самом деле, при каждом преобразовании они незаметно освобождаются и от плоти, и от своих ошибок. Человек, живущий в Любви, избавляется от всех своих дурных страстей: Надежда, Вера, Милосердие, Молитва, как говорит Исайя, очистили внутренний мир человека, который не должен быть более загрязнен никакими земными влияниями. Отсюда известное выражение святого Луки: Приготовляйте себе... сокровища, неоскудевающие на небесах (Евангелие от Луки, 12:33). И завет Иисуса: Оставьте этот мир людям, он их; очищайтесь и приходите к моему Отцу. Второе преобразование — Мудрость. Мудрость — понимание небесных вещей, к которым Дух приходит через Любовь. Дух Любви приобрел силу, преодолев все земные страсти, он слепо любит Бога; напротив, Дух Мудрости обладает разумом и знает, почему он любит. Крылья первого распростерты и несут его к Богу, крылья второго сомкнуты страхом, который ему внушает Наука: он знает Бога. Один бесконечно желает увидеть Бога и устремляется к нему, другой касается его и трепещет. Союз между Духом Любви и Духом Мудрости приводит создание в божественное состояние, в котором его душа — ЖЕНЩИНА, а тело — МУЖЧИНА, крайнее человеческое выражение, когда Дух берет верх над Формой, а она все еще сопротивляется божественному Духу, ведь форма, т. е. плоть, не ведает, восстает и желает остаться грубой. Это высшее испытание порождает неслыханные страдания, известные лишь небесам, Христос познал их в саду Елеонском[13].
После смерти первое небо открывается этой двойной и очищенной человеческой природе. Люди умирают в отчаянии, Дух же умирает в восхищении. Итак, Природное состояние — в нем пребывают существа непреображенные, Духовное состояние — в нем пребывают Ангельские души, и Божественное состояние — в нем остается Ангел, прежде чем сломать свою оболочку. Лишь пройдя эти три ступени существования, человек попадает на небо. Одна из идей Сведенборга убедительно объясняет различие между Природным и Духовным: с точки зрения людей, утверждает он, Природное переходит в Духовное, они рассматривают мир в этих видимых формах и воспринимают его в реальности, свойственной их чувствам. Напротив, с точки зрения ангельского духа, Духовное переходит в Природное, мир рассматривается в его внутреннем духе, а не в его форме. Так, наши гуманитарные науки — всего лишь анализ форм. С точки зрения мира, ученый — нечто чисто внешнее, как и его знание, внутренний мир помогает ему лишь сохранить способность понять истину. Ангельский дух идет гораздо дальше, его знание — мысль, для которой человеческая наука всего лишь слова; он черпает знание вещей в Слове, постигая Связи, соединяющие миры с небесами. Слово Бога было бы полностью написано чистыми Связями, оно покрывает внутреннее или духовное чувство, которое не может быть понято без науки Связей. Существуют, говорит Сведенборг (Небесная доктрина, 26), многочисленные Секреты во внутренней сути Связей. Так, люди, насмехавшиеся над книгами, в которых пророки собрали Слово, были невеждами, подобно людям на Земле, ничего не ведающим о какой-либо науке, но тем не менее осмеивающим ее истины. Познать Связи Слова с небесами, познать Связи между видимыми и весомыми вещами земного мира, с одной стороны, невидимыми и невесомыми вещами духовного мира, с другой, — значит иметь небо в своем разуме. Поскольку все объекты различных созданий исходят от Бога, они непременно содержат некий тайный смысл, ибо, как мудро говорил Исайя: Земля-покрова[14]. Эта мистическая связь между малейшими частицами материи и небесами составляет то, что Сведенборг именует Небесным Арканом (Секретом). Так, его сочинение Небесные Секреты, где объясняются Связи Природного с Духовным, представляющие, по выражению Якоба Бёме[15], знак всякой вещи, содержит не менее 16 томов и 13 тысяч тезисов. «Именно в отличном знании Связей, дарованном Богом Сведенборгу, — подчеркивает один из его последователей, — суть интереса, вызываемого этими произведениями». «Все в них идет от неба, — утверждает тот же комментатор, — все обращено к небу. Сочинения пророка совершенны и ясны: он вещает на небесах, но так, чтобы его услышали на земле; одной его фразы достаточно, чтобы создать целый том». И этот последователь цитирует одну такую фразу из тысяч других. «Небесное царство, — говорит Сведенборг (Небесные секреты), — царство мотивов. Действие происходит в небе, оттуда распространяется по миру и, по ступеням, по бесконечно малым частям земли; земные последствия, будучи связаны с их небесными причинами, приводят к тому, что все здесь связано и значимо. Человек — средство соединения Природного и Духовного». Следовательно, Ангельским душам ведомы главным образом связи, соединяющие любую земную вещь с небом, им понятен глубокий смысл пророческих снов, выявляющих превращения Земли. Для Ангельских душ все на Земле имеет свое значение. Малейший цветок — мысль, жизнь, соответствующая определенным чертам Вселенной, постоянно питающей их интуицию. Для них Адюльтер и дебоши, упоминаемые Священным Писанием и пророками, чье слово зачастую искажено так называемыми писателями, означают состояние душ, упорствующих в стремлении испытать в этом мире разные земные влияния и углубляющих таким образом свое расхождение с небом. Тучи — покрова, которыми окружает себя Бог. Светильники, 12 хлебов, лошади и всадники, проститутки, драгоценные камни — все в Священном Писании имеет для них особый смысл и выявляет будущее земных вещей в их отношениях с небом. Все могут убедиться в истине Откровения Иоанна Богослова, которую человеческая наука покажет и докажет материально позже, например, такое откровение, «...вместившее в себя», говорит Сведенборг, «несколько земных наук»: «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откровение, 21:1). Ангельским душам открывается великая вечеря Божия, где пожирают «трупы царей... трупы всех свободных и рабов», на которую их созывает «Ангел, стоящий на солнце» (Откровение, 19:17—19). Им явилось на небе «великое знамение» (Откровение, 12:14) — крылатая «жена, облеченная в солнце» (Откровение, 12:1), и «конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует « (Откровение, 19:11) «...Имя Ему: Слово Божие» (Откровение, 19:13). По Сведенборгу, конь Апокалипсиса есть видимый образ человеческой мудрости, несущей на себе смерть (Откровение, 9:17—19), так как сам по себе разум — носитель принципа разрушения. Наконец, Ангельские души видят народы в потаенных формах, которые непосвященным кажутся фантастическими. Когда какой-нибудь человек готов принять пророческое вдохновение Связей, оно пробуждает и нем дух Слова Божьего; именно тогда он осознает, что творения — всего лишь превращения; это вдохновение оплодотворяет его разум и возбуждает в нем непреодолимую жажду истины, которую можно утолить только на небе. Он представляет себе, в зависимости от степени совершенства своего внутреннего мира, могущество Ангельских душ и, ведомый Желанием (далеко не самое несовершенное состояние непреображенного человека), движется к Надежде, дающей ему ключи от Небес. Кто не пожелал бы стать достойным войти в сферу умов, тайно живущих Любовью или Мудростью? Живя на земле, эти умы сохраняют чистоту; они не видят, не думают и не говорят, как остальные люди. Существуют два вида восприятия: внутреннее и внешнее; у Человека — целиком внешнее, у Ангельской души — целиком внутреннее. Дух идет в глубь Чисел, все они в нем, ему известны их значения. Он обладает движением и соединяется со всеми благодаря своей вездесущности: «Ангел, — согласно шведскому пророку, — является другому, когда пожелает» (Ангельская Мудрость Божественной Любви), — ведь он обладает способностью отделяться от своего тела и видит небеса так, как видели их пророки и как видел их сам Сведенборг. «В этом состоянии, — говорит он (Истинная религия, 136), — душа человека переносится с одного места на другое, тело же его остается на том же месте, то есть в состоянии, в котором я сам пребывал в течение 26 лет». Именно в этом смысле мы должны понимать все места из Библии, говорящие: Дух унес меня. Для Человеческой Мудрости Мудрость Ангельская есть то, что бесчисленные силы природы суть для ее действия, которое едино. Все возрождается, движется, существует в Духе, ибо сам он в Боге; именно это выражают слова святого Павла: In Deo sumus, movemus et vivimus, т. е. «Существуем, действуем и живем в Боге». Земля для Духа не препятствие, а в Слове для него нет загадок. Его будущая божественность позволяет проникать в мысль Бога, скрытую Глаголом, как если бы Духу, живущему своим внутренним миром, был открыт тайный смысл, скрытый во всех вещах этого мира. Наука есть язык Мирского, Любовь — Духовного. Человек больше описывает, чем объясняет, а Ангельский Дух видит и понимает. Наука огорчает человека, Любовь воодушевляет Ангела. Наука продолжает поиск, Любовь уже нашла. Человек судит о природе по своим отношениям с ней; Ангельский Дух — по своим отношениям с небом. Наконец, все общается с Душами. Душам ведом секрет гармонии между созданиями; они находят общий язык с душами звуков, цветов, растений; они умеют расспрашивать минерал, а минерал отвечает на их мысли. Что для них науки и сокровища земли, когда они охватывают их в любой момент своим взглядом; не служат ли миры, которыми столько занимаются люди, всего лишь последней ступенькой для душ, ведущей их к Богу? Любовь неба или мудрость неба проявляются в окружающем их световом круге, видимом лишь избранным. В отличие от невинности детей, у которых она — лишь внешняя форма, их невинность заключается в знании вещей: они одновременно невинны и мудры. «И, — говорит Сведенборг, — невинность небес оказывает такое впечатление на душу, что те, кого она касается, на всю жизнь сохраняют, подобно мне, восхищение ею. К тому же, — добавляет он, — достаточно, наверное, хотя бы в малейшей степени испытать это, чтобы навсегда измениться, пожелать вознестись на небо и войти таким образом в сферу «Надежды». Его учение о браках может быть сведено к следующему: «Всевышний взял красоту, элегантность из жизни мужчины и перенес их на женщину. Когда же в жизни человека отсутствуют и эта красота, и эта элегантность, он суров, печален и жесток; с ними же он радостен, целостен. Ангелы всегда в апогее красоты. Их свадьбы сопровождаются замечательными церемониями. В этом союзе без потомства мужчина породил Рассудок, а женщина — Решимость: они превращаются в одно существо, в единую Плоть на земле; а затем, приобретя небесную форму, восходят на небо. На земле, в естественном состоянии, взаимная склонность обоих полов к сладострастию — следствие, влекущее за собой и усталость, и отвращение; но в своей небесной форме пара, ставшая одной и той же Душой, находит в самой себе бесконечную причину для проявлений сладострастия. Сведенборг был свидетелем такого соединения Душ, при котором, согласно святому Луке, «ни женятся, ни замуж не выходят» (Лука, 20:35) и вдохновляются лишь духовными удовольствиями. Ангел, предложив ему быть свидетелем одного такого соединения, увлек его на своих крыльях (крылья — символ, а вовсе не земная реальность). Он переодел его в свои праздничные одежды, когда же Сведенборг увидел себя облеченным в свет, то спросил: «К чему это?» «В подобных случаях, — ответил Ангел, — наши одежды зажигаются, блестят и превращаются в свадебные» (Delicioe sаp. de am. conj. 19, 20, 21). И тут Сведенборг увидел двух Ангелов: один пришел с Юга, другой — с Востока; Ангел Юга был в колеснице, влекомой двумя белыми лошадьми, их упряжь имела цвета и блеск зари; но когда колесница приблизилась к нему в небе, он не увидел более ни колесницы, ни лошадей. Ангел Востока в пурпуре и Ангел Юга во всем гиацинтовом примчались как два дыхания и слились: один был Ангелом Любви, другой — Ангелом Мудрости. Проводник Сведенборга сказал ему, что эти два Ангела были когда-то связаны на земле внутренней сердечной дружбой. Согласие — суть всех удачных браков на земле — обычное состояние Ангелов на небе. Любовь — свет их мира. Данное Богом состояние вечной восторженности Ангелов позволяет им поделиться своей радостью по этому поводу с самим Всевышним. Эта взаимность бесконечности составляет их жизнь. На небе они становятся бесконечными, участвуя в сущности Бога, которая порождается сама собой. Безграничность небес — обиталища Ангелов — такова, что, если бы человек был постоянно наделен таким же стремительным взглядом, как свет, идущий от солнца на землю, и если бы он мог видеть бесконечно, его глаза не нашли бы горизонта, за которым могли бы отдохнуть. Лишь свет объясняет блаженства неба. «Это, — говорит Сведенборг (Sap. Ang., 7, 25, 26, 27), — пар от божественной добродетели, чистейшая эманация его ясности, рядом с ней даже самый яркий земной день кажется потемками. Свет может все, обновляет все и не поглощается; он окружает Ангела и позволяет ему коснуться Бога, благодаря бесконечным и самоумножающимся радостям. Этот свет убивает любого, кто не готов встретиться с ним. Никто — ни здесь на земле, ни на небе — не может увидеть Бога и жить после этого. Вот почему сказано (см. Исход, 19: 12, 19, 21—23): «Гора, на которой Моисей разговаривал с Всевышним, была объявлена запретной из страха, чтобы тот, кто пришел, дабы прикоснуться к Нему, не погиб бы». И еще: «Когда Моисей сошел с горы Синая с двумя скрижалями откровения, его лицо сияло лучами так, что ему пришлось положить на него покрывало, чтобы, обращаясь к народу, никого не умертвить» (Исход, 34:29—35). Преображение Иисуса Христа также сопровождалось сиянием, исходящим от Посланца небес, и невыразимыми радостями, которые ощущают Ангелы, ибо постоянно ими преисполняются. «Лицо Его, — говорит святой Матфей, — просияло, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет, облако светлое осенило Его учеников» (Матфей, 17:1—5). И на какой-нибудь звезде жители отказываются повиноваться Всевышнему, если Слово Его не слышат, со всех сторон собираются ангельские души, а Бог посылает Ангела-истребителя, чтобы изменить массу отступнического мира, который для него, в бесконечности Вселенной, подобен бесплодному ростку в природе. Ангел-истребитель, летящий на комете, приближается к планете и заставляет ее повернуться вокруг своей оси: континенты превращаются в дно морское, самые высокие горы становятся островами, а страны, некогда покрытые морскими водами, а теперь прекрасные своей свежестью, возрождаются, повинуясь законам Бытия; Слово Божье снова приобретает свою силу над новой землей, которая сохраняет повсюду свойства земной воды и небесного огня. Свет, принесенный Ангелом с небес, заставляет побледнеть солнце. Тогда, как говорит Исайя: «И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли» (Исайя, 2:19). «И закричат они горам: Падите на нас!» (Откровение, 6:1 6), морю: возьми нас! воздуху: спрячь нас от гнева Агнца! Агнец — главная фигура неизвестных и преследуемых на земле Ангелов. Христос также сказал: Счастливы те, кто страдает! Счастливы блаженные! Счастливы те, кто любит! И в этом весь Сведенборг: Страдать, Веровать, Любить. Но чтобы любить по-настоящему, разве не нужно познать страдания, разве не нужно верить? Любовь порождает Силу, а Сила дает Мудрость; отсюда — Разум; ибо Сила и Мудрость несут в себе Волю. В самом деле, обладать разумом — не означает ли это Знать, Хотеть и Мочь, то есть обладать тремя качествами Ангельской души? «Если вселенная имеет какой-то смысл, это самое достойное Бога!» — говорил мне господин Сен-Мартен, с которым я свиделся во время его поездки в Швецию.
Господин Беккер сделал паузу, потом продолжил:
— Но что означают эти лоскуты, вырванные из всего пространства Творения, о котором можно составить себе представление, лишь сравнивая его с рекой света, с волнами пламени? Того, кто погружается в нее, уносит чудовищной силы поток. Поэма Данте Алигьери может показаться лишь точкой тому, кто решится погрузиться в бесчисленные строфы, с помощью которых Сведенборг сделал доступными небесные миры, подобно тому как Бетховен построил свои дворцы гармонии из тысяч нот, как архитекторы воздвигли свои храмы из тысяч камней. Вы передвигаетесь там по бесконечным пропастям, в которых наш разум не всегда служит вам опорой. Конечно! Необходимо обладать высочайшим разумом, чтобы вернуться благополучно из такого путешествия к нашим общественным идеям.
Немного помолчав, пастор снова заговорил-.
— Сведенборг особенно обожал барона Серафитца, чье имя, согласно старому шведскому обычаю, приняло в стародавние времена латинское окончание «ус». Барон был самым странным учеником шведского Пророка, который открыл в нем зрение Внутреннего Человека и подготовил его к жизни, управляемой Сверху. Он искал Ангельскую душу среди женщин. Сведенборг нашел ему ее в одном из своих видений. Его невеста была дочерью лондонского сапожника, в ней, говорил Сведенборг, бурно проявлялась небесная жизнь, она уже справилась с испытаниями, выпавшими ранее на ее долю. После преображения Пророка барон приехал в Жарвис, чтобы совершить небесную свадьбу и сотворить все положенные молитвы. Что касается меня, сударь, я ведь не ясновидящий, я — свидетель лишь земных дел этой пары: ее жизнь — слепок жизни святых обоих полов, чьи добродетели составляют славу романской церкви. Оба они постарались смягчить нищету обитателей Жарвиса, помогли им собрать, хотя и не без труда, определенное состояние, покрывавшее их потребности; люди, жившие рядом с ними, никогда не видели их в гневе или нетерпении, барон и его жена неизменно оставались добросердечными и ласковыми, вежливыми и милосердными, по-настоящему добрыми; их союз был гармонией двух неразлучных душ. Две гаги в едином полете, звук с эхом, мысли в слове передают, может быть несовершенно, образ этого союза. Любовь, которая окружала их здесь, сравнима лишь с любовью растения к солнцу. Жена барона была проста в общении, стройна, прекрасна лицом, всегда светилась благородством, достойным самых августейших особ. В 1783 году, на 26-м году жизни, она зачала ребенка и радостно вынашивала его. А ведь супруги прощались с миром, они сказали мне, что их несомненно ожидает преображение, когда ребенок покинет оболочку из плоти, в которой нуждается, пока не обретет способность существовать самостоятельно. Ребенок родился, это была Серафита, которая занимает нас сейчас. После ее зачатия отец и мать жили еще более одиноко, чем раньше, вознося горячие молитвы к небу. Они надеялись увидеть Сведенборга, и с помощью веры их надежда осуществилась. В день рождения Серафиты Сведенборг явился в Жарвис и наполнил светом комнату, в которой появилось на свет дитя[16]. Говорят, он сказал тогда: «Дело сделано, небеса возрадовались!» Обитатели дома услышали странные звуки какой-то мелодии, которая, казалось, была принесена дыханием ветра со всех сторон света. Дух Сведенборга увел барона из дома, привел к фьорду и там оставил. Несколько мужчин из Жарвиса приблизились тогда к нему и услышали, как он произносил сладостные слова Священного Писания: «Как прекрасны на горах ноги Ангела, посланного нам Всевышним!»
Я отправился из дома в замок крестить ребенка, дать ему имя и исполнить другие свои обязанности. Но встретил барона. «Ваши заботы излишни, — сказал он мне, — наш ребенок не может иметь имени на земле. Вы не можете крестить водой земной Церкви того, кто только что был крещен в огненной купели Неба. Этот ребенок останется свежим цветком, вы никогда не увидите его состарившимся, вся его жизнь пройдет на ваших глазах; вы существуете, он живет; у вас внешние чувства, у него их нет, он весь во «внутреннем». Эти слова были произнесены сверхъестественным голосом, который поразил меня еще больше, чем лучезарное лицо барона. Весь его облик соответствовал тому фантастическому образу вдохновленных свыше, который сложился у нас при чтении библейских пророчеств. Но подобные эффекты не так уж редки в наших горах, где селитра вечных снегов производит в человеческом организме удивительные вещи. Я спросил барона о причине его взволнованности. «Мне явился Сведенборг, я вдохнул небесного воздуха», — сказал барон. «В каком виде предстал он перед вами?» — «Как на смертном одре. Одет же он был как в июле 1771 года, когда я видел его в последний раз в Лондоне у Ричарда Шиерсмита, в квартале Голд-Бас-Филд: сюртук из блестящего ратина со стальными пуговицами, закрытый жилет, белый галстук, тот же судейский парик с пудреными локонами по бокам, приподнятые впереди волосы открывали широкий и сияющий лоб, гармонировавший с его крупным квадратным лицом, в котором сквозили сила и спокойствие. Я узнал нос с широкими, полными огня ноздрями; вновь увидел этот вечно улыбавшийся рот, ангельские уста, услышал слова, сделавшие меня счастливым: «До скорого свидания!» И я был осенен сиянием небесной любви».
Убежденность, которой светилось лицо Верона, не позволила мне спорить с ним, я молча слушал его заразительный, теплый голос, согревающий мое нутро; его фанатизм возбуждал мое сердце, как чужой гнев напрягает наши нервы. Так же молча я последовал за бароном. В его доме я обнаружил безымянного ребенка, лежавшего на материнской груди. Мать таинственно укрывала его. Серафита отозвалась на мой приход, повернув голову в мою сторону. Особенно поразили меня глаза необыкновенного ребенка — видящие и уже мыслящие. Детство создания, которому была предначертана особая судьба, сопровождалось необычными обстоятельствами для нашего климата. В течение девяти лет наши зимы были более мягкими, а лето длилось дольше обычного. Редкое явление вызывало много дискуссий среди ученых; их объяснения показались убедительными академикам, но вызвали лишь улыбку у барона, когда я рассказал ему об этом. Никто никогда не видел крошку Серафиту нагой; никогда к ней не прикасались ни мужчина, ни женщина; так и жило невинное дитя на груди у своей матери и никогда не плакало. Старый Давид подтвердит вам все это, если вы захотите расспросить его о хозяйке, которую он обожал так же, как обожал святой ковчег царь, имя которого он носит. С девяти лет ребенок начал молиться: молитва — его жизнь; вы видели Серафиту в нашем храме на Рождество — единственный день, когда она туда приходит; там она держится на значительном расстоянии от остальных прихожан. Близость их причиняет ей страдания. Она редко покидает замок. Из-за такой скрытности подробности ее жизни неизвестны; ее способности, ощущения, все — внутреннее; большую часть времени она погружена в мистическое созерцание — привычное состояние, как говорят католические писатели, для первых христиан-одиночек, сохранивших традицию Слова Христова. Ее рассудок, душа, тело — все в ней девственно, как снег гор. В десять лет она была такой же, какой вы видите ее теперь. Когда Серафите было девять лет, отец и мать ее, назвав час своей смерти, скончались одновременно, без страданий и без видимой болезни. Стоя у их ног, она смотрела на них спокойно, и не было в ней ни печали, ни страдания, ни радости, ни любопытства; отец и мать улыбались ей. Когда мы пришли забрать оба тела, она сказала: «Уносите!» «Серафита, — удивился я, — вас не опечалила смерть отца и матери? Они ведь так любили вас!» «Разве они мертвы? Нет, они навсегда во мне. Это — ничто», — добавила она, безучастно указывая на уносимые тела. Я видел ее в третий раз после рождения. В храме ее трудно заметить, она стоит у колонны, на которую опирается кафедра, в потемках черты ее плохо различимы. Из слуг к этому времени оставался в доме лишь старый Давид, который, несмотря на свои 82 года, вполне справлялся с обслуживанием хозяйки. Некоторые люди из Жарвиса рассказывали замечательные вещи о Серафите. Поскольку их истории вызвали определенное доверие в этой стране, где так популярны таинства, я принялся изучать, стараясь обнаружить факты, аналогичные тем, которые приписываются Серафите, «Трактат о чарах» Жана Виера, а также произведения о демонологии, где собраны якобы сверхъестественные явления в человеке.
— Так вы не верите в нее? — спросил Вильфрид.
— Напротив, — добродушно ответил пастор, — я вижу в ней исключительно капризную девушку, избалованную родителями, заморочившими ей голову религиозными идеями, о которых я только что вам рассказал.
Минна не смогла удержать легкий жест несогласия.
— Бедная девушка! — продолжил пастор. — Родители оставили ей в наследство надменную экзальтацию, сбивающую мистиков с пути истинного, сводящую их, в той или иной мере, с ума. Она держит диеты, огорчающие бедного Давида. Этот добрый старик похож на хилое растение, которое колышется при малейшем ветерке, распускается при малейшем луче солнца. Его хозяйка, чей малопонятный язык стал его собственным, для него и ветер, и солнце; в его глазах ноги ее бриллиантовые, лоб усеян звездами; передвигается она в лучезарной и чистой атмосфере; речь ее сопровождается музыкой; она способна делаться невидимой. Если вы захотите повидаться с ней, старик объяснит, что она путешествует по Звездным землям. Трудно поверить в такие сказки. Вам ведь известно, любое чудо более или менее похоже на легенду о Золотом Зубе[17]. У нас в Жарвисе тоже есть свой Золотой Зуб. Так, рыбак Дюнкер утверждает, что видел, как Серафита погружалась в фьорд и выходила оттуда в виде гаги либо шла по волнам во время бури. Фергюс, который отгоняет стада на горные пастбища, наблюдал, как во время дождя небо неизменно оставалось ясным над «шведским замком» и всегда голубым над головой Серафиты, когда она выходила. Некоторые женщины слышат звуки гигантского органа, когда Серафита приходит в храм, и вполне серьезно спрашивают у своих соседок, не слышат ли те тоже эти звуки. А вот моя дочь, которую уже два года обожает Серафита, не слышала никакой музыки и никогда не ощущала небесного аромата в воздухе во время их прогулок. Конечно, возвращаясь с таких прогулок, Минна часто и по-девичьи наивно восхищалась красотой северной весны; она приходила опьяненная благоуханием лиственниц, сосен или цветов, которыми ходила надышаться с Серафитой; но такой восторг вполне естествен после нашей длинной зимы. В компании этого демона нет ничего необычного, не правда ли, девочка?
— Его секреты меня не касаются, — ответила Минна. — Рядом с ним я знаю все; вдали от него — не знаю ничего; рядом с ним я — другая; вдали — забываю все об этих чудесных мгновениях. Видеть его — мечта, память о которой остается во мне лишь по его желанию. Когда я была рядом с ним, мне доводилось слышать музыку, о которой говорят жены Банкера и Эриксона, но я забывала о ней вдали от него; рядом с ним я могла ощутить небесный аромат, видеть чудеса — и все забывала здесь.
— Что меня больше всего удивляло с тех пор, как я знаю ее, это то, что она позволила нам быть рядом с собой, — сказал пастор, обращаясь к Вильфриду.
— Рядом! — воскликнул иностранец. — Ни одного поцелуя, ни даже прикосновения к ее руке. При первой же нашей встрече ее взгляд смутил меня; она сказала мне: «Приветствую вас здесь, ведь вы должны были появиться». Мне показалось, что она знала обо мне. Я задрожал. Ужас заставляет меня верить в нее.
— А меня любовь, — сказала Минна, не покраснев.
— А не смеетесь ли вы надо мной? — произнес господин Беккер, добродушно улыбаясь. — Ты, дочь моя, представляясь Духом Любви, а вы, сударь, Духом Мудрости?
Он выпил бокал пива и не заметил странного взгляда, который Вильфрид бросил на Минну.
— Если говорить серьезно, — заявил священник, — я был очень удивлен, узнав, что сегодня, впервые, две эти сумасшедшие якобы поднялись на вершину Фалберга; ну разве это не фантазия девиц, вскарабкавшихся на какой-нибудь холм? Вершина Фалберга недосягаема.
— Отец, — взволнованно запротестовала Минна, — значит, я была во власти демона, ведь я одолела с ним Фалберг.
— Ну, это уже не шутки, — сказал господин Беккер. — Минна никогда не сочиняла.
— Господин Беккер, — снова вмешался Вильфрид, — утверждаю, что Серафита оказывает на меня такое необычайное влияние, что я просто не знаю, как это выразить словами. Она рассказала мне о вещах, которые были известны мне одному.
— Сомнамбулизм! — отпарировал старик. — Впрочем, некоторые эффекты такого рода приводятся Жаном Виером как явления, вполне объяснимые и некогда наблюдавшиеся в Египте.
— Позвольте мне ознакомиться с теософическими сочинениями Сведенборга, — сказал Вильфрид, — хочу погрузиться в его лучезарные пропасти, вы пробудили во мне это желание.
Господин Беккер протянул один из томов Вильфриду, тот принялся тотчас читать. Было около девяти часов вечера. Служанка принесла ужин. Минна приготовила чай. После ужина каждый из них молчаливо занимался своим делом: пастор читал «Трактат о чарах», Вильфрид пытался постичь гений Сведенборга, а девушка шила, погрузившись в воспоминания. Это были типичные норвежские посиделки, мирный, трудовой, полный размышлений вечер, с цветами под снегом. Поглощая страницы пророка, Вильфрид целиком ушел в свой внутренний мир. Иногда пастор полусерьезно, полунасмешливо указывал Минне на Вильфрида, та отвечала почти печальной улыбкой. Минне чудилась голова Серафитуса, она улыбалась ей, плавая на облаке дыма, который обволакивал всех троих. Часы пробили полночь. Внезапно наружная дверь резко распахнулась. Они услышали тяжелые и торопливые шаги испуганного старика в узкой передней между двумя дверями. В гостиную ворвался Давид.
— Насилие! Насилие! — кричал он. — Идите! Идите все! Демоны разбушевались! У них огненные митры. Это Адонисы, Вертумны[18], сирены, они искушают ее, как искушали Иисуса на Горе. Помогите изгнать их.
— Узнаете язык Сведенборга? В чистом виде, — сказал, улыбаясь, пастор.
Но Вильфрид и Минна с ужасом смотрели на старого Давида — разметавшиеся седые волосы, потерянный взор, дрожащие ноги, облепленные снегом, ведь он прибежал без лыж. Давид был так взволнован, что казалось, находился во власти буйного ветра.
— Что случилось? — спросила его Минна.
— Так вот! Демоны надеются и стараются снова завладеть ею[19].
От этих слов Вильфрида бросило в жар.
— Вот уже почти пять часов она стоит, обратив глаза к небу, раскинув руки, она страдает, она обращается к Богу. Я не могу пересечь черту, ад поставил Вертумнов часовыми. Они возвели железные стены между ней и ее старым Давидом. А вдруг я ей понадоблюсь, что делать? Помогите мне! Придите, помолитесь!
Было страшно видеть отчаяние бедного старика.
— Божия чистота охраняет ее, но что будет, если она уступит насилию? — убежденно вопрошал он.
— Спокойно! Давид, не несите вздор! Следует все проверить. Мы пойдем с вами, и вы увидите, что у вас нет ни Вертумнов, ни демонов, ни сирен.
— Ваш отец — слепец, — совсем тихо сказал Давид Минне.
Вильфрид, на которого чтение первого трактата Сведенборга — он быстро пробежал его — произвело страшное впечатление, был уже в коридоре и надевал лыжи. Минна тоже мгновенно собралась. Оба не стали дожидаться стариков и устремились к «шведскому замку».
— Вы слышите этот треск? — заметил Вильфрид.
— Льды фьорда ожили, — ответила Минна, — скоро придет весна.
Вильфрид промолчал. Они добрались до двора, но не смели войти в дом.
— Что вы думаете о ней? — спросил Вильфрид.
«Какой свет! — изумилась Минна, подойдя к окну салона. — Вот он! Боже мой! Как он прекрасен! О Серафитус, возьми меня!»
Возглас девушки шел изнутри. Она увидела Серафитуса стоящим, слегка окутанным опаловым туманом, исходившим из его почти фосфорического тела.
«Как она прекрасна!» — также мысленно восхитился Вильфрид.
В это мгновение появился господин Беккер, за ним Давид. Священник увидел дочь и иностранца перед окном, подошел к ним, посмотрел в салон и сказал:
— Ну и что, Давид, она молится.
— Но, сударь, попробуйте войти.
— Зачем мешать молящимся? — возразил пастор.
В это мгновение луч луны, застывшей над Фалбергом, осветил окно. Все обернулись, взволнованные этим естественным явлением, заставившим их вздрогнуть; но когда они вновь повернулись к Серафите, ее уже не было.
— Странно! — Вильфрид был изумлен.
— Я слышу прелестные звуки! — заявила Минна.
— Ну так что? — отозвался пастор. — Она несомненно пошла прилечь.
Давид вошел в замок. Остальные, храня молчание, вернулись домой; все по-разному понимали смысл этого видения: господин Беккер сомневался, Минна восторгалась, Вильфрид желал.
Ему было 36 лет. Его отличали достаточно развитая, но по-своему гармоничная фигура, невысокий рост, как у почти всех людей, возвышенных над прочими; широкие грудь и плечи, короткая шея, как у людей, чье сердце должно быть приближено к голове; черные волосы, густые и тонкие; солнечный блеск темно-желтых глаз выдавал жадность, с которой его натура вбирала свет. Мужественные и эмоциональные черты свидетельствовали об отсутствии внутреннего покоя, присущего безмятежной жизни, в то же время они выдавали неисчерпаемые ресурсы его энергичного характера и аппетиты инстинкта; его движения подтверждали совершенство физического аппарата, гибкость чувств и точность их игры. Этот человек мог схватиться с дикарем, услышать, подобно ему, шаги врагов в самых отдаленных уголках леса, уловить их запах в воздухе, различить на горизонте сигнал друга. Его сон был чуток, как у всех созданий, не любящих попадать впросак, организм быстро приспосабливался к климату стран, куда забрасывала Вильфрида его бурная жизнь. Для искусства и науки эта натура вполне могла бы послужить человеческой моделью; в нем все было гармонично: действие и сердце, ум и воля. На первый взгляд казалось, что он принадлежит к типу существ чисто инстинктивных, без раздумий отдающих предпочтение материальным потребностям; но уже на заре жизни он ринулся в общественный мир, с которым чувства его были не в ладу; учение укрепило его ум, размышление обострило мысль, науки расширили кругозор. Он изучил человеческие законы, игру интересов, обнаруженную страстями. Казалось, что он с юных лет был на короткой ноге с абстракциями, на которых покоятся Общества. Вильфрид корпел над книгами, вобравшими в себя совершенные когда-то людьми поступки, бодрствовал по ночам на праздниках в европейских столицах, спал где придется, мог, наверное, заснуть на поле сражения в ночь, предшествующую бою, и в ночь после победы; возможно, что именно мятежная юность бросила его на палубу какого-то судна, бродившего по самым экзотическим странам земного шара; так познавал он реальную жизнь людей. Так открылись перед ним настоящее и прошлое; двойная история — вчерашняя и сегодняшняя. Немало людей, подобно Вильфриду, были сильны Руками, Сердцем и Головой; как и он, большинство из них злоупотребляли этой тройной мощью. По своему окружению Вильфрид относился не к лучшей части человечества, но в го же время к числу тех, в ком сила разумна. Хотя душа его была глубоко упрятана, в нем обнаруживались неизъяснимые черты, различимые лишь чистыми существами: ребенком, чья невинность не была нарушена дыханием какой-либо дурной страсти, стариком, вновь обретшим ее; эти свойства выдавали в нем своего рода Каина, которому оставалась одна лишь надежда и который стремился, казалось, получить отпущение грехов на краю земли. Минна подозревала в нем каторжника славы, и Серафита знала об этом; обе восхищались им и жалели его. Но откуда шло это предвидение Божье? Ответ одновременно и очень прост, и очень необычен. Как только человек пытается проникнуть в секреты природы, в которой нет ничего секретного, где главное — просто уметь рассмотреть, сразу можно убедиться в том, что самое простое в ней порождает самое удивительное.
Однажды вечером, через несколько дней после прибытия Вильфрида в Жарвис, Минна обратилась к Серафитусу:
— Вы читаете в душе этого иностранца, у меня же о нем весьма неясные впечатления. Он то замораживает, то греет меня, но, кажется, вы знаете причину этого холода или этого тепла, так объясните мне, ведь вы знаете о нем все.
— Да, я видел причины, — ответил Серафитус, прикрывая глаза своими широкими веками.
— Но как вам это удается? — полюбопытствовала Минна.
— Я обладаю даром Зеркальности, — ответил он ей. — Зеркальность — это нечто вроде внутреннего взгляда, который проникает всюду, лишь сравнение позволит тебе понять его значение. В больших городах Европы, где появляются на свет произведения, в которых рука человека старается представить следствия моральной и физической природы, есть люди возвышенные, выражающие идеи при помощи мрамора. Ваятель воздействует на мрамор, он отделывает его, он вкладывает в него мир мыслей. Существуют изваяния из мрамора, которые рука человека снабдила способностью передавать лишь возвышенное или лишь плохое в человеке; большинство людей видят в скульптуре только человеческую фигуру и ничего больше, некоторые другие, занимающие более высокое место в человеческой иерархии, замечают в ней какую-то часть мыслей, переданных скульптором, восхищаются ее формой; посвященные же в секреты искусства находятся как бы в сговоре с ваятелем: увидев его произведение, они распознают в нем целый мир его мыслей. Это — князья искусства, они несут в себе нечто вроде зеркала, в котором природа отражается до мельчайших подробностей. Так вот, во мне тоже есть подобие зеркала, отражающего моральную природу с ее причинами и следствиями. Я разгадываю будущее и прошлое, проникаю в сознание. Как? Этот вопрос всегда будет занимать тебя. Постарайся сотворить из мрамора тело человека, добейся, чтобы в скульптуре были чувство, страсть, порок или преступление, добродетель, вина или покаяние; тогда ты поймешь, как я прочел душу иностранца, хотя и не объяснил тебе суть Зеркальности; ибо, чтобы постичь этот дар, необходимо им владеть.
Хотя Вильфрид относился к двум первым и таким разным категориям человечества — людям силы и людям мысли, — его выходки, непростая жизнь, ошибки часто приводили к Вере, ведь у сомнения две стороны: свет и потемки. Вильфрид слишком торопил мир в двух его формах — Материи и Духе, — чтобы не быть захваченным жаждой непознанного, желанием идти навстречу ему, что характерно почти для всех людей, способных знать, мочь и хотеть. Но ни его наука, ни его поступки, ни его воля не поддавались руководству. Он по необходимости бежал от жизни общества, подобно тому как большой грешник ищет убежище в монастыре. Угрызения совести — добродетель слабых — не терзали его. Угрызения совести — признак беспомощности, ведущей к новым ошибкам. Лишь Покаяние — признак силы, оно венчает все. Но и бродя по свету, ставшему его монастырским убежищем, Вильфрид нигде не нашел бальзама для своих ран; нигде он не повстречал существа, к которому смог бы привязаться. У таких, как он, отчаяние иссушило источники желания. Он относился к тому роду душ, которые, схватившись со страстями и оказавшись сильнее их, обнаруживают, что им уже некого сжимать в своих железных объятиях; у них не было случая встать во главе себе подобных, чтобы бросить под копыта своих коней целые народы, но они могли бы выкупить ценой ужасных жертв способность разрушить себя в какой-либо вере: что-то вроде живописнейших скал, с нетерпением ожидающих мановения волшебной палочки, по которому могли бы вырваться наружу глубокие источники. Заброшенный причудой своей беспокойной и ищущей жизни на дороги Норвегии, Вильфрид оказался застигнутым зимой в Жарвисе. В тот день, когда он впервые увидел Серафиту, вся его прошлая жизнь была забыта. Девушка вызвала в нем острейшие чувства, которые казались ему утерянными навсегда. Из-под пепла вырвался последний язык пламени, растаявший при первых звуках ее голоса. Приходилось ли кому-нибудь ощутить, как возвращаются молодость и чистота после прозябания в старости и барахтанья в грязи? Неожиданно Вильфрид полюбил так, как не любил никогда в жизни: тайно, убежденно, ужасно, до безумия. Его жизнь была поколеблена в самой своей основе, свелась к одному желанию — видеть Серафиту. Слушая ее, он уносился в неведомые миры; перед ней он лишался дара речи, она очаровывала его. Так, под снегами, среди льдов, поднялся на своем стебельке этот небесный цветок, пробуждавший его желания, прежде обманутые, при виде ее рождались свежие идеи, надежды, чувства, которые роятся вокруг нас и уводят в дальние края, подобно тому как Ангелы увлекают на небеса Избранников на символических картинах, продиктованных художникам каким-нибудь знакомым гением. Небесный аромат размягчал гранит этой скалы, свет, наделенный даром слова, нес ему божественные мелодии, сопровождающие путника в его дороге на небо. Испив до дна кубок земной любви, раскрошив его зубами, он вдруг обнаружил сверкающую прозрачными волнами драгоценную вазу, вызывающую жажду неутолимых наслаждений у того, кто может приблизить к ней пылающие от религиозного рвения губы, но так, чтобы не взорвался на кусочки кристалл. После долгих поисков на земле он нашел наконец эту железную стену и теперь жаждал ее преодолеть. Вильфрид бросился к Серафите, стремясь объяснить ей глубину страсти, заставившей его мчаться подобно сказочной лошади под неизменно невозмутимым бронзовым всадником, которого неукротимый темперамент животного делает все более грузным и нетерпеливым. Вильфрид приходил, чтобы рассказать о своей жизни, утвердить величие своей души грандиозностью своих ошибок, продемонстрировать руины своих пустынь, но когда он пересекал порог и попадал в безбрежное пространство, охваченное ее глазами, чья сияющая синева не имела пределов ни впереди, ни сзади, то становился спокойным и покорным, как лев, который на бегу, в погоне за добычей на одной из африканских равнин, вдруг получает на крыльях ветра послание любви и... замирает. Перед ним разверзлась пропасть, в нее проваливалась его бредовая речь, а из глубины этой пропасти поднимался голос, делавший Вильфрида совсем другим — ребенком шестнадцати лет, застенчивым и пугливым перед этой девушкой — воплощением спокойствия, — перед этой белой фигурой, чье неизменное спокойствие было похоже на жесткую бесстрастность людского суда. И дуэль эта прервалась лишь на тот вечер, когда одним взглядом она сразила его, подобно коршуну, что описывает головокружительные спирали вокруг добычи, а затем неожиданно падает на нее и уносит в свои владения. В нас самих происходит длительная борьба, мы хотели бы положить конец этой борьбе, представляющей собой как бы изнанку человечества. Эта изнанка принадлежит Богу, а место ее — людям. Не один раз Серафита явно хотела показать Вильфриду, что знала об этой многообразной изнанке, составляющей вторую жизнь у большинства людей. Зачастую, встречая его, она ворковала: «Зачем так гневаться?» А ведь, направляясь к ней, Вильфрид убеждал себя выкрасть ее, сделать своей собственностью. Только такой сильный человек, как Вильфрид, мог возмутиться так, как это только что произошло у господина Беккера, когда лишь рассказ старика успокоил его. Этот насмешливый и грубоватый человек увидел наконец, как в его ночи занялась заря звездной веры; он спрашивал себя, не была ли Серафита изгнанницей из верхних сфер на пути к своей родине. Он не просто обожествлял эту норвежскую лилию, чем грешат любовники во всех странах, он в это верил. Зачем оставалась она в глубине фьорда? Чем занималась здесь? Вопросы без ответа переполняли его разум. Как могли бы сложиться их отношения? Какая судьба привела его сюда? Для него Серафита была застывшим куском мрамора, легким, как та тень, что опускалась на глазах Минны на край пропасти: и так повсюду Серафита — и бровью не поведя, и глазом не моргнув — оставалась на краю всех пропастей и ничего с ней не случалось. Типичный, но все-таки любопытный случай безответной любви. Как только Вильфрид заподозрил возвышенное существо в волшебнице, открывшей ему секрет своего существования в гармоничных грезах, ему захотелось подчинить себе Серафиту, сохранить ее для себя, умыкнуть у неба, где его возлюбленную, возможно, ждали. Он ощущал себя представителем Человечества, Земли, не желавшим отдавать свою добычу. Такая победа до конца жизни тешила бы его тщеславие — единственное чувство, которое может долго возбуждать мужчину. При этой мысли кровь закипала в венах, сердце раздувалось. Если бы замысел сорвался, он сокрушил бы ее. Так естественно — ломать то, чем нельзя обладать, отрицать то, чего не понимаешь, оскорблять то, что желаешь!
На следующий день Вильфрид, возбужденный необычным зрелищем, свидетелем которого стал, вздумал порасспросить Давида и отправился повидаться с ним под предлогом узнать о самочувствии Серафиты. Хотя господин Беккер и считал, что старик впал в детство, иностранец усомнился в проницательности пастора, в его способности обнаружить частицы истины в потоке разглагольствовании слуги.
У Давида была неподвижная и нерешительная физиономия восьмидесятилетнего старца: из-под седых волос выступал лоб, по которому, как по разрушенному фундаменту, пролегли морщины, лицо в складках напоминало ложе высохшего потока. Казалось, что жизнь его затаилась в глубине глаз, откуда пробивался лучик света; но взгляд старика был слегка затуманен, в нем сквозили явные растерянность и глуповатая пьяная неподвижность. От тяжелых и замедленных движений тянуло холодом возраста, который передавался тому, кто долго созерцал его, он обладал какой-то отупляющей силой. Его ограниченный разум пробуждался лишь при звуке голоса, при виде хозяйки, при воспоминании о ней. Она была душой этого абсолютно материального обломка. Одинокий Давид напоминал ходячий труп: лишь когда Серафита показывалась или о ней говорили, мертвец выбирался из могилы, к нему возвращалась способность ходить и говорить. Никогда еще апокалиптический образ высохших костей, которые должно оживить божественное дыхание в долине Иосафата[20], не был воссоздан лучше, чем этим Лазарем, без конца вызываемым из могилы к жизни голосом девушки. Неизменно иносказательный язык Давида, зачастую непонятный, затруднял жителям Жарвиса общение с ним; но они уважали его очень далекий от вульгарности дух, который так нравится, возможно инстинктивно, народу. Дремавшего у очага старика Вильфрид нашел в первом зале. Подобно псу, узнающему друзей дома, Давид поднял глаза, узнал иностранца и снова замер.
— Ну что, где она? — осведомился Вильфрид, усаживаясь возле старика.
Давид пошевелил пальцами в воздухе, как если бы хотел изобразить полет птицы.
— Она больше не страдает?
— Лишь существа, предназначенные небу, умеют страдать так, что страдания не уменьшают их любовь, это знак настоящей веры, — серьезно ответил старик, подобно тому как настраиваемый инструмент производит случайный звук.
— Кто подсказал вам эти слова?
— Дух.
— Так что случилось с ней вчера вечером? Обманули вы наконец бдительность Вертумнов на посту? Удалось проскользнуть мимо Мамон?
— Да, — ответил Давид, просыпаясь и как бы стряхивая сон.
Туман в его глазах рассеялся под лучом, пришедшим из души и постепенно сделавшим его взгляд сверкающим, как у орла, умным, как у поэта.
— Что вы увидели? — спросил Вильфрид, изумленный этим неожиданным изменением.
— Я видел Виды и Формы, я слышал Дух вещей, я видел мятеж Злых, я слышал слово Добрых! Явились семь демонов, спустились семь архангелов. Архангелы держались вдалеке, они созерцали, прикрыв лица, демоны были рядом, они сверкали и действовали. Мамона прилетел на своей перламутровой раковине в виде прекрасной обнаженной женщины; ее белоснежное тело сверкало, никогда формы человеческого тела не будут так совершенны, и он говорил: «Я — Удовольствие, и ты будешь обладать мной!» Люцифер — князь змей прибыл в царском облачении, он был ангельски красив в человеческом обличье, и он сказал: «Человечество будет служить тебе!» Морская стихия — королева скупых, не отдающая ничего из того, что получила, — появилась, облеченная в зеленую мантию; она обнажила грудь, выставила напоказ свой ларчик с драгоценностями, извлекла сокровища и одаривала ими; она захватила с собой волны сапфиров и изумрудов; ее богатства пришли в движение, вынырнули из потаенных мест и заговорили; самая прекрасная из жемчужин расправила свои мотыльковые крылья, светилась, звучала морской музыкой, она сказала: «Мы с тобой сестры — дочери страдания; подождешь меня? Мы исчезнем вместе, мне осталось лишь превратиться в женщину». И вот явилась Птица с крыльями орла и лапами льва, головой женщины и крупом коня. Животное упало к ее ногам, лизало их, обещало семьсот лет изобилия любимой дочери. Самый ужасный — Ребенок — добрался до ее колен и, плача, умолял: «Не оставишь меня? Я слаб, страдаю, останься, мама!» Он играл с другими, распространяя в воздухе леность, и небо, казалось, уступало его жалобам. Дева — с ее чистой песней — принесла свои хоры, расслабляющие душу. Цари Востока прибыли с рабами, армиями и женами; Раненые просили ее помощи, Несчастные тянули к ней руки: «Не покидай нас! Не покидай нас!» Я сам воскликнул: «Не покидай нас! Мы будем обожать тебя, останься!» Цветы вышли из семян, их запахи обволакивали ее и тоже умоляли: «Останься!» Гигант Енак[21] вышел из Юпитера, привел с собой Золото и его друзей, увлекая за собой Духов Звездных Земель, и все они говорили: «Мы будем служить тебе семьсот лет». Наконец, сама Смерть спустилась со своего белого коня и сказала: «Я буду повиноваться тебе!» Все пали ниц перед ней, и если бы вы были там, то увидели бы, что они заполнили всю большую долину, и все кричали ей: «Мы вскормили тебя, ты наше дитя, не оставляй нас». Сама Жизнь вышла из своих Красных Вод и пообещала: «Я не покину тебя!» Затем, заметив молчание Серафиты, она засияла как солнце, воскликнув: «Я — свет!» «Свет там!» — возразила Серафита, указывая на облака, в которых летали архангелы; но она была утомлена, Желание сокрушило ее нервы, она могла лишь причитать: «Боже мой!» Множество Ангельских душ, карабкаясь по горе и почти добравшись до ее вершины, обнаруживали под ногами гравий, по которому они снова катились в пропасть! Все эти падшие Души восхищались ее твердостью; их оцепеневший Хор, рыдая, призывал ее: «Мужайся». Наконец она поборола Желание, разыгравшееся в ней во всех Формах и во всех Видах. Не шелохнувшись, она молилась, и когда подняла глаза, то увидела ноги Ангелов, улетающих на небо.
— Она увидела ноги Ангелов? — повторил Вильфрид.
— Да, — подтвердил старик.
— Она рассказывала вам свой сон? — спросил Вильфрид.
— Такой же серьезный, как и сон вашей жизни, — ответил Давид. — Я был при этом.
Спокойствие старого слуги изумило Вильфрида, он ушел, спрашивая себя, насколько эти необычные видения уступали тем, о которых он читал накануне в книге Сведенборга.
— Если Духи существуют, они должны действовать, — говорил он себе, входя в дом священника, где нашел господина Беккера в одиночестве.
— Дорогой пастор, — сказал Вильфрид, — Серафита связана с нами только своей формой, непроницаемой формой. Не считайте меня ни сумасшедшим, ни влюбленным: убеждение не может быть предметом спора. Превратите мою веру в научное предположение, и постараемся вместе понять его. Завтра мы оба пойдем к ней.
— И что будет? — отреагировал господин Беккер.
— Если взору ее послушно пространство, если мысль ее — разумный взгляд, позволяющий ей охватить все на свете и добраться до сути всего, связать все это с общей эволюцией миров; если, одним словом, она все знает и видит, пусть же прорицательница вещает, заставим эту неумолимую орлицу расправить крылья, вспугнув ее! Поможете мне? Я вдыхаю огонь, пожирающий меня, — либо я погашу его, либо сгорю в нем. Я нашел наконец добычу, я хочу ее.
— Это была бы, — сказал священник, — достаточно трудная победа, ведь бедная девушка...
— Что? — не сдержался Вильфрид.
— Сумасшедшая, — сказал священник.
— Я не оспариваю ваше утверждение, но и вы не оспаривайте ее превосходства над нами. Дорогой господин Беккер, она часто смущала меня своей эрудицией. Ей доводилось путешествовать?
— Из своего дома к фьорду.
— Она не покидала Жарвиса! — вскричал Вильфрид. — Значит, она много читала?
— Ни листочка, ни буквы! В Жарвисе книги были только у меня. Что касается произведений Сведенборга — а лишь они имелись в замке, — вот они перед вами. Она не дотрагивалась ни до одного из них.
— Вы никогда не пытались поговорить с ней?
— К чему?
— Никто не жил с ней под одной крышей?
— У нее нет друзей, кроме вас и Минны, нет и слуг, кроме Давида.
— Она никогда не слышала разговоров о науке, об искусстве?
— От кого?
— Но она уверенно рассуждает обо всем этом, многие из наших бесед — лишне тому подтверждение, что вы думаете об этом?
— Весьма возможно, что за несколько лет молчания девушка приобрела способности, которыми обладали Апполон из Тиана и многие так называемые колдуны, сожженные инквизицией за то, что не хотели признать существование другой жизни.
— Если бы она заговорила по-арабски, что бы вы об этом подумали?
— Истории медицинских наук известны несколько девиц, говоривших на незнакомых им языках.
— И все же?! — горячился Вильфрид. — Ей ведь известны такие факты из моего прошлого, о которых знал лишь я один.
— Посмотрим, расскажет ли она мне о моих сокровенных мыслях, — сказал господин Беккер.
Вошла Минна.
— Итак, дочка, что происходит с твоим демоном?
— Он страдает, отец, — ответила она, приветствуя Вильфрида. — Человеческие страсти в их фальшивых нарядах окружили его ночью и угостили невиданными пышными церемониями. Но вы ведь смеетесь над этими сказками.
— Для того, кто умеет читать ее мысли, они так же прекрасны, как сказки из «Тысячи и одной ночи» для заурядного обывателя, — сказал, улыбаясь, пастор.
— Но разве Сатана не перенес Спасителя на вершину храма, показав Ему народы у Его ног?
— Евангелисты, — ответил пастор, — не очень внимательно правили копии, а потому есть несколько версий.
— Верите ли вы в реальность ее видений? — спросил Вильфрид у Минны.
— Кто может в этом сомневаться, когда он о них рассказывает?
— Он? — спросил Вильфрид. — Кто это?
— Тот, кто там, — ответила Минна, указывая на замок.
— Вы говорите о Серафите! — изумился иностранец.
Девушка опустила голову, бросив на него взгляд, полный нежного лукавства.
— И вы тоже, — снова заговорил Вильфрид, — развлекаетесь тем, что сбиваете меня с толку. Кто это? Что вы думаете о ней?
— То, что я чувствую, необъяснимо, — зарделась Минна.
— Вы сошли с ума! — воскликнул пастор.
— До завтра! — сказал Вильфрид.
IV. Тучи над святилищем
Есть зрелища, на создание которых человек готов пожертвовать все свои материальные сокровища. Целые народы рабов и ныряльщиков искали на дне морском и во чреве скал те самые жемчуга и бриллианты, которые украшают зрителей. Передаваемые из поколения в поколение, эти сокровища сверкали на всех коронованных лбах, а если бы могли говорить, то поведали бы самую истинную из человеческих историй. Действительно, разве не были они свидетелями несчастий и радостей сильных и слабых мира сего? Их носили повсюду с гордостью на праздниках, со слезами к ростовщику, их крали, за них убивали, придумывали искуснейшие вещи, чтобы перевозить их в сохранности. За исключением жемчужины Клеопатры, ни одна из них не потерялась.
Великие, Блаженные собираются, чтобы посмотреть, как возлагают корону на какого-нибудь короля, чье убранство — дело рук человеческих, но в час славы пурпур его менее совершенен, чем пурпур простого полевого цветка. Все эти роскошные праздники света несут в себе музыку, в которой почти гремит слово Человека; и все же находятся мысль, чувство, способные сокрушить все его творения. Дух может сосредоточить вокруг человека и в самом человеке ярчайший свет истины, позволить ему услышать самые дивные мелодии, разбросать по небу сверкающие созвездия, которым он станет задавать свои вопросы. Сердце способно и на большее! Человек может оказаться один на один с единственным созданием, найти в едином слове, в едином взгляде невыносимое бремя, настолько слепящее и оглушающее, что под его тяжестью он сгибается и падает на колени. Самые реальные сокровища заключены вовсе не в вещах, но в нас самих.
Так не является ли для ученого научная тайна целым миром сокровищ? Но вот настает его Праздник, и что же? Участвуют ли в нем толпы людей, сопровождают ли его трубные звуки Силы, блеск Богатства, музыка Радости? Да нет, он скрывается в каком-то темном убежище, где зачастую бледный и страдающий человек шепчет ему на ухо одно лишь слово. Подобно факелу, брошенному в подземелье, это слово освещает ему путь Науки. Все человеческие идеи, облеченные в самые привлекательные формы, которые когда-либо изобретала Тайна, окружали слепца, сидящего в грязи на обочине. Три мира — Естественный, Духовный и Божественный — со всеми их сферами открывались бедному флорентийскому изгнаннику[22]: он шагал, сопровождаемый Счастливыми и Страдающими, молящимися и вопящими, ангелами и проклятыми. В тот момент, когда посланец Бога, который знал и мог все, явился трем Его ученикам, а было это вечером, за общим столом самой бедной из харчевен, вспыхнул свет, разнес Материальные Формы, осветил духовные способности, ученики увидели Его в ореоле славы, земля ускользала у них из-под ног, как спадающая сандалия.
Господин Беккер, Вильфрид и Минна чувствовали тревогу, направляясь к необычному созданию, которому хотели задать свои вопросы. В сознании каждого из них «шведский замок» внезапно вырос и стал местом грандиозного спектакля, вроде тех, чей размах, чьи краски так хитроумно, гармонично воспеты поэтами, их персонажи кажутся вымышленными обычным людям, но вполне реальны для тех, кто начинает проникать в Духовный Мир. На трибунах этого колизея господин Беккер располагал серые легионы сомнения, свои мрачные идеи, свои порочные методы спора; он созывал туда разные философские и религиозные миры, сражающиеся друг с другом, и все они являлись в виде какой-то бестелесной системы, подобном времени, символом которого стал старик, вздымающий одной рукой косу, а в другой несущий людской муравейник, мир людей. Вильфрид помещал в этом колизее свои первые иллюзии и последние надежды; населял его судьбами людей и их битвами, религией и ее победоносной властью. Минне же с этих трибун замок виделся иногда, хотя и смутно, небесами, любовь открывала ей занавес, расшитый таинственными образами, мелодичные звуки, достигавшие слуха, усиливали ее любопытство. Для них этот вечер был, следовательно, тем же, чем ужин для трех путников в Еммаусе[23], видение — для Данте, вдохновение — для Гомера, им же открывались все три формы мира, разодранные покрова, рассеянные сомнения, высвеченные потемки. Человечество — во всех своих видах и в ожидании света — было наилучшим образом представлено этой девушкой, этим мужчиной и этими двумя стариками, один из которых был слишком грамотным, чтобы сомневаться, другой — слишком невежественным, чтобы верить. Ни одна сцена до сих пор не казалась настолько простой внешне и не была в действительности совсем иной.
Войдя в дом вслед за старым Давидом, они застали Серафиту у стола, накрытого к чаепитию, заменяющему на Севере радости, которые дарит в южных странах вино. Конечно, ничто не обнаруживало в ней — или в нем, ведь это существо имело странное свойство являться в двух ипостасях — те силы, коими оно владело. Серафита буднично занималась своими гостями, приказывала Давиду подбросить хвороста в очаг.
— Здравствуйте, соседи. Дорогой господин Беккер, ваш приход очень кстати; возможно, вы видите меня живой в последний раз. Эта зима убила меня. Садитесь же, — обратилась Серафита к Вильфриду. — А ты, Минна, располагайся здесь, — указала она Минне стул рядом с Вильфридом. — Ты не захватила с собой вышиванье, нет проблем со стежками? Мне очень нравится рисунок. Кому же достанется твой шедевр? Отцу или этому господину? — сказала она, поворачиваясь к Вильфриду. — Нам ведь нужно сделать ему до отъезда подарок на память о девушках Норвегии?
— Вчера вам еще нездоровилось? — осведомился Вильфрид.
— Пустяки, — ответила она. — Такие страдания мне нравятся; они необходимы, чтобы покинуть жизнь.
— Так смерть не пугает вас? — спросил, улыбаясь, господин Беккер, не веривший в болезнь Серафиты.
— Нет, дорогой пастор. Есть два способа умереть: для одних смерть — победа, для других — поражение.
— Вы думаете, что победили? — спросила Минна.
— Не знаю, — ответила Серафита, — возможно, это всего лишь еще один шаг.
Молочная свежесть ее чела исказилась, глаза затуманились под еле приподнятыми веками. Это простое движение взволновало и сковало трех посетителей. Господин Беккер оказался самым смелым.
— Дочь моя, — сказал он, — вы — сама искренность, но вы и божественно добры; в этот вечер мне хотелось бы получить от вас нечто большее, чем чай со сладостями. Если верить некоторым людям, вам известны необычайные вещи, но коли это так, не смогли бы вы проявить милосердие и рассеять некоторые из наших сомнений?
— Ах! — улыбнулась она. — Ну конечно, я хожу по облакам, хорошо чувствую себя среди пропастей фьорда, способна остановить чудище-море, я знаю, где растет поющий цветок, где проходит говорящий луч, где сверкают и живут благоухающие краски; у меня есть кольцо Соломона, я — фея, я отдаю приказы ветру, а тот покорно их исполняет; я вижу сокровища в земле; я — дева, перед которой летают жемчуга, и...
— И мы без риска можем подняться на Фалберг? — прервала ее Минна.
— И ты туда же! — отозвалось создание, чей ослепительный взгляд смутил девушку. — Если бы я не была способна прочесть в ваших мыслях желание, приведшее вас ко мне, была бы я тем, за кого вы меня принимаете? — сказала она, обволакивая всех троих пронзительным взглядом, к величайшему удовлетворению Давида, который удалялся, потирая руки.
— Ах! — вновь заговорила Серафита после паузы. — Конечно, вас привело сюда детское любопытство. Вы спрашивали себя, бедный господин Беккер, может ли девушка семнадцати лет знать хотя бы один из тысячи секретов, которые пытаются постичь ученые, уткнувши нос в землю, вместо того чтобы поднять глаза к небу! Если бы я сказала вам, как и откуда растение общается с животным, вы бы засомневались в собственных сомнениях. Вы ведь сговорились расспросить меня, признайтесь?
— Да, дорогая Серафита, — ответил Вильфрид, но разве такое желание не естественно для людей?
— Вы не боитесь наскучить этому ребенку? — ласково сказала Серафита, положив руку на волосы Минны.
Девушка подняла глаза и, казалось, хотела раствориться в Серафитусе.
— Слово — всеобщее благо, — серьезно заговорило таинственное создание. — Горе тому, кто хранил бы молчание посреди пустыни, считая, что никто не слышит его: здесь, на земле, все говорит и все слушает. Слово движет миры. И мне не хотелось бы, господин Беккер, бросать слова на ветер. Мне известны проблемы, которые занимают вас больше всего: не было бы чудом охватить прошлое вашего сознания! Ну что ж! Чудо свершится. Послушайте меня. Вы никогда не признавали полностью свои сомнения, только я, непоколебимая в своей вере, могу рассказать вам о них, и тогда вы испугаетесь самого себя. Вы — на самой мрачной стороне Сомнения: вы не верите в Бога, а здесь на земле любая вещь становится второстепенной для того, кто посягает на принцип вещей. Оставим, однако, бесплодные дискуссии — плод фальшивых философий. Поколения спиритуалистов употребили немало напрасных усилий на то, чтобы отрицать Материю, а поколения материалистов — на то, чтобы отрицать Дух. К чему эти споры? Разве человек не дал и той и другой системе неопровержимые доказательства? Не сталкиваются ли в нем самом материальные и духовные вещи? Лишь сумасшедший может отказаться увидеть частицу материи в человеческом теле; разлагая его, ваши естественные науки находят мало различий между ним и прочими тварями. Мысль, которую рождает в человеке сравнение нескольких предметов, тоже никому не кажется частью Материи. Сейчас я высказываю не свою точку зрения, речь идет о ваших сомнениях, а не о моих убеждениях. Вам, как и большинству мыслителей, не кажутся материальными отношения между вещами, которые вам дано открыть и реальность которых подтверждают ваши ощущения. Естественный мир вещей и существ заканчивается, следовательно, в человеке Сверхъестественным миром совпадений или различий, которые он замечает между бесчисленными формами Природы; эти отношения настолько многочисленны, что кажутся бесконечными: если до сих пор никому не удалось установить число земных созданий, какой человек смог бы подсчитать их связи? Не является ли известная вам часть этих связей по отношению к их общей сумме тем же, что и любое число по отношению к бесконечности? А ведь эта бесконечность, которую вы открываете для себя, заставляет вас воспринимать мир как чисто духовный. Сам по себе человек представляет достаточное доказательство существования этих двух видов: Материи и Духа. В нем заканчивает свой путь видимый конечный мир; в нем же начинается невидимый и бесконечный мир, и эти два мира не связаны друг с другом; в самом деле, понимают ли камни фьорда, как они сочетаются, осознают ли они, как воспринимает их окраску человек, слышат ли они музыку ласковых волн? Пересечем, не измеряя ее глубины, пропасть, которую нам открывает соединение Материального и Духовного миров — создание видимое, весомое, ощутимое, заканчивающееся созданием неощутимым, невидимым, невесомым; оба создания совершенно несхожи, разделены небытием, объединены неоспоримыми соразмерностями, собраны в существе, которое принадлежит к обоим этим мирам! Сольем в один эти два мира, несовместимые для ваших философий и совместимые на деле. Какой бы абстрактной ни казалась человеку связь между ними, у нее есть особый признак. Какой? Где он обнаруживается? Мы еще не установили, до какой степени изощренности может дойти Материя. Если бы вопрос заключался лишь в этом, не понимаю, почему бы тому, кто связал физическими связями звезды на неизмеримых расстояниях, чтобы сотворить из них покров, не создать мыслящих существ, как могли бы вы запретить ему дать мысли определенное материальное содержание! Следовательно, ваш невидимый моральный мир и ваш видимый физический мир составляют одну и ту же материю. Мы вовсе не разделяем ни свойства и тела, ни предметы и связи. Все, что существует, все, что действует на нас и огорчает нас сверху и под нами, перед нами, в нас, то, что замечают наши глаза и наши рассудки, все эти вещи, именуемые и безымянные, составят, если приспособить проблему Создания к уровню вашей Логики, некий конечный блок материи; если бы он был бесконечным, то уже не повиновался бы Богу. Здесь, по вашему убеждению, дорогой пастор, каким бы способом и кто бы ни захотел смешать бесконечного Бога с этим конечным блоком материи, со всем тем, что ему приписывает человек, Бог не мог бы существовать: бесполезно спрашивать о конкретных вещах; бесполезно обращаться к Его рассудку; духовно и материально Бог становится невозможным. Послушаем же Слово человеческого Разума, поспешного в своих конечных выводах.
Когда Бог противопоставляется Вселенной, между ними возможны лишь два состояния. Либо Материя и Бог совпадают по времени, либо Бог был единственным предшественником Материи. Представим себе, что разум, просвещающий человеческие расы с тех пор, как они существуют, собран в одной голове, но даже такая гигантская голова не смогла бы выдумать некий третий способ существования, если только не уничтожить Материю и Бога. Пусть человеческие философии нагромождают горы слов и идей, пусть религии собирают образы и верования, откровения и тайны, все равно придется столкнуться с этой ужасной дилеммой и выбрать между двумя ее составляющими; но вам и не надо выбирать: и то и другое приводит человеческий разум к Сомнению. При такой постановке проблемы, какое значение имеют Дух и Материя? Какое значение имеет движение миров в том или ином направлении, коли существо, которое ведет их, изобличается в абсурдности? Какой смысл в поисках ответа на вопрос, движется ли человек к небу или возвращается оттуда, возвышается ли создание до Духа или нисходит до Материи, если вопрошаемые нами миры не дают никакого ответа? Какой смысл имеют теогонии[24] языческих богов и все воинство их, теология с ее догмами, если, каков бы ни был выбор человека между двумя сторонами проблемы, его Бога больше нет? Рассмотрим первую сторону, предположим, что мы имеем дело с Богом, существующим одновременно с Материей. Не означает ли быть Богом — испытывать воздействие или существование какой-то субстанции, чуждой Его собственной? Не превращается ли Бог в этой системе во второстепенную силу, обязанную организовывать материю? Но кто же принуждает Его? Кто был арбитром между Ним и Его грубой спутницей — Материей? Кто же оплатил труды Шести дней, засчитываемых этому Великому Художнику? Если бы нашлась какая-нибудь определяющая сила, которая не была бы ни Богом, ни Материей, то при виде Бога, занятого созданием механизма миров, было бы в такой же степени смешно называть его Богом, как гражданином Рима раба, посланного вертеть точильный камень. Впрочем, существует проблема малоразрешимая как для высшего разума, так и для Бога. Пытаться перенести ее еще выше — значит уподобиться индейцам, громоздящим мир на черепаху, черепаху на слона, но не знающих, на чем покоятся ноги их слона? И эта высшая воля, вышедшая из схватки Материи с Богом, и этот Бог, что превыше Бога, может ли все это оставаться вечно, не желая того, чего желал Он, допуская, что Вечность может разделиться на два времени? Где бы ни был Бог, разве не погибает вовсе Его интуитивный разум, если Он не познал свою последующую мысль? Кто же прав из этих двух Вечностей? Будет ли это несотворенная Вечность или Вечность сотворенная? Если бы Он постоянно желал видеть мир таким, какой он есть, тогда эта новая необходимость, впрочем гармонирующая с идеей суверенного разума, предполагает со-вечность материи. Будет ли Материя со-вечной по божественной воле, обязательно и в любое время похожей на самое себя, или со-вечной сама по себе, могущество Бога, которое может быть только абсолютным, погибает вместе с Его Свободной Волей; Он всегда определил бы в себе ту важнейшую причину, которая была бы сильнее Его. Не означает ли быть Богом потерю способности отделить себя от своего творения как в последующей, так и в предыдущей вечности? Является ли эта сторона проблемы изначально неразрешимой? Рассмотрим ее следствия. Вынужденный создать мир любой вечности, Бог кажется необъяснимым, но Он таковым и является, будучи в вечном единстве со своим творением. Вынужденный жить в вечном единении со своим творением, Бог так же унижен, как и в своем первом положении созидателя. Можете представить себе Бога, лишенного своей зависимости или независимости по отношению к собственному творению? Может ли Он разрушить его, не отказываясь от самого себя? Исследуйте, сделайте выбор! Разрушит ли Он его однажды или никогда не разрушит, оба условия фатальны для атрибутов, без которых Он не мог бы существовать. Не является ли мир своего рода испытанием, переходной формой, которая будет разрушена? Не был бы в таком случае Бог непоследовательным и беспомощным? Непоследовательным: разве не должен Он еще до начала эксперимента знать его результат и почему медлит разрушить то, что разрушит позже? Беспомощным: почему созданный Им мир несовершенен? Если же несовершенное творение опровергает способности, которые человек приписывает Богу, вернемся тогда к поставленному вопросу! Предположим, что творение совершенно. Идея созвучна с идеей абсолютно разумного Бога, который не мог ни в чем ошибаться; но почему тогда наступает деградация? И почему приходит возрождение? К тому же совершенный мир обязательно неразрушим, его формы не могут погибнуть; мир никогда не продвигается вперед и не отступает, он вращается в вечном круге, из которого никогда не вырвется, не так ли? Следовательно, Бог будет зависеть от своего творения; оно Ему, следовательно, со-вечно, что заставляет вернуться к одному из условий, наиболее враждебных Богу. Будучи несовершенным, мир признает продвижение, прогресс; совершенный же мир неподвижен. Если же невозможно признать Бога прогрессивного, которому неведом в любой вечности результат Его творения, то существует ли вообще неизменный Бог? Не является ли это триумфом Материи? Не является ли это самым большим из всех отрицаний? Рассмотрим первую гипотезу: Бог погибает по своей слабости. По второй гипотезе, Он погибает в силу своей инерции. Таким образом, с точки зрения замысла сотворения мира, для любого добросовестного ума предполагать, что Материя — современница Бога, значит пытаться отрицать Бога. Вынужденные выбирать, чтобы управлять нациями, между двумя сторонами этой проблемы, целые поколения великих мыслителей предпочли Материю. Отсюда — догма двух принципов Магии, перешедшей из Азии в Европу в виде Сатаны, воюющего с Вечным отцом. Но не подрывает ли божественный авторитет эта религиозная формула и вытекающие из нее бесчисленные обожествления? Каким другим именем назвать верование, дающее Богу в соперники олицетворение зла — соперника, которого его всемогущий разум толкает на извечную борьбу без какой-либо надежды на победу? Закон вашей статики гласит, что две равные и противонаправленные силы взаимоуничтожаются.
Не хотите ли теперь обратиться ко второй стороне проблемы? Итак, Бог существовал всегда — один, единственный.
Не будем воспроизводить предшествующую аргументацию, которая особенно наглядна, когда речь идет о расколе Вечности на две временные составляющие: несотворенное и сотворенное время. Оставив также в стороне вопросы, поднятые ходом или неподвижностью миров, ограничимся проблемами, связанными со второй темой. Если сначала существовал один лишь Бог, то мир происходил бы от Него, а Материя исходила бы тогда из Его сущности. Следовательно, Материи больше нет! Все формы — покрова, под которыми скрывается Божественный Разум. В таком случае Мир — Вечен, но тогда Мир есть Бог! Не является ли, однако, этот тезис еще более фатальным, чем предшествующий, для всего того, что человеческий разум приписывает Богу? Может ли быть объяснима вышедшая из Бога, постоянно связанная с ним Материя в ее нынешнем состоянии? Как поверить в то, что Всемогущий, исключительно милосердный по своей сути и по своим способностям, мог породить вещи, совершенно на него не похожие, в то, что Он не во всем и не везде похож на самого себя? Значит ли это, что в Нем есть и плохие стороны, от которых Он мог бы однажды избавиться? Предположение не столько оскорбительное или язвительное, сколько ужасное, так как заключает в себе оба принципа, неприемлемость которых доказана предыдущим тезисом. Бог должен быть один, Он не может разделиться, не отказываясь от самого важного из своих постулатов. Значит, невозможно признать часть Бога, которая не была бы Богом? Эта гипотеза показалась настолько преступной романской церкви, что та ввела понятие евхаристии — догмата веры о вездесущности в малейших частицах святого причастия. Как же можно в таком случае представить себе всемогущий разум, который не побеждал бы? Как соединить его, не требуя немедленной победы, с Природой? А эта Природа ищет, комбинирует, переделывает, умирает и возрождается; ее старания в момент созидания гораздо активнее, чем при всеобщем слиянии; она страдает, стонет, не ведает, вырождается, творит зло, ошибается, уничтожает самое себя, исчезает, снова возрождается? Как оправдать почти всеобщее игнорирование божественного начала? Каков смысл смерти? Почему гений зла, этот царь земной, был порожден Богом — воплощением доброты по своей сути и по своим качествам, который не мог вроде бы произвести ничего, что не отвечало бы Ему самому? Но если от этого неумолимого вывода, ведущего нас первоначально к абсурду, обратиться к подробностям, какую же цель можно поставить перед миром? Если все есть Бог, то все есть, взаимно, следствие и причина; или, скорее, не существует ни причины, ни следствия: все — Едино, как Бог, и вы не замечаете ни старта, ни финиша. Могла ли быть реальная цель оборотом все более тонкой Материи? В каком бы направлении ни развивался этот процесс, не был ли детской игрушкой механизм этой Материи, вышедшей из Бога и возвращающейся к Богу? Почему бы ему быть грубым? В какой форме Бог есть в наивысшей степени Бог? Кто прав — Материя или Дух, если никто из них не мог быть неправым? Кто сможет распознать Бога в этом извечном Промысле, в котором Он сам бы разделял себя на два Естества: одно ничего не ведает, а другое ведает все? Можете представить себе Бога, развлекающего самого себя в человеческом виде? Смеющегося над собственными усилиями, умирающего в пятницу, чтобы воскреснуть в воскресенье, продолжающего эти шутки из века в век и всегда понимающего для чего? Не объясняющего себе — Творению то, чем занимается Он — Создатель. При выборе из невозможного Бог из предшествующей гипотезы, беспомощный из-за силы своей инерции, кажется более вероятным, чем тот глупо ухмыляющийся Бог, уничтожающий самого себя в момент, когда две части человечества противостоят друг другу с оружием в руках. Как ни комично высшее выражение второй стороны проблемы, она была принята половиной человеческого рода, народами, создавшими себе смешные мифологии. Эти страстные нации отличались последовательностью: у них все было Богом, даже Страх с его низостями, даже Преступление с его вакханалиями. Принимая пантеизм — религию нескольких гениев человечества, как узнать, кто прав? Дикарь, свободно живущий в пустыне, одетый в свою наготу, величественный и неизменно правый в любых своих действиях, слушающий солнце, беседующий с морем? Цивилизованный человек, чьи самые большие утехи идут от лжи, который уродует и торопит природу, чтобы положить ружье на плечо, которому разум понадобился лишь для того, чтобы приблизить час своей смерти и заработать болезни от всех своих удовольствий? Когда лопата чумы, лемех войны или дух пустыни прошелся, все стирая на своем пути, по одному из уголков земного шара, кто оказался сильнее нубийского дикаря или целителя из Фив? Ваши сомнения идут по нисходящей, они охватывают все — и цель, и средства.
Если физический мир кажется необъяснимым, моральный мир тем более свидетельствует против Бога. Где же в таком случае прогресс? Если все постоянно совершенствуется, почему мы умираем в детском возрасте? Почему нации по крайней мере не увековечивают свое существование? Мир, вышедший из Бога, мир в Боге, статичен ли он? Живем мы один раз? Или вечно? Если живем лишь раз, подгоняемые ходом Вселенной, знание которой нам не было дано, так будем поступать, как нам захочется! Если же мы вечны, пустим все на самотек! Виновато ли создание в том, что существует в момент превращений? Если оно грешит в час великого превращения, будет ли за это наказано после того, как само стало его жертвой? Что станет с божественной добротой, если она не приведет нас немедленно в счастливые края, если только таковые вообще существуют? Что станет с божественным предвидением, если Богу неведом результат испытаний, которым Он нас подвергает? Что представляет собой альтернатива, даруемая человеку всеми религиями: вариться в вечном котле или прогуливаться в белых одеждах с пальмовой ветвью в руке и ореолом вокруг головы? Возможно ли, что это языческое изобретение — последнее слово какого-нибудь бога? Какой щедрый разум не считает недостойным человека и Бога корыстную добродетель, рассчитывающую вечные удовольствия, обещанные всеми религиями тому, кто выполнит, всего за несколько часов своего существования, некоторые странные и зачастую противоестественные условия? Ну в самом деле, не смешно ли побуждать неукротимые чувства в человеке и одновременно запрещать ему удовлетворять их? Впрочем, к чему эти мелкие придирки, когда отвергаются и Добро и Зло? Существует ли Зло? Если субстанция во всех своих формах есть Бог, то и Зло есть Бог. Поскольку человек получил способности рассуждать и чувствовать, то вполне логично пользоваться ими, искать смысл человеческих страданий и задавать вопросы будущему; если же эти прямые и строгие рассуждения приводят к подобному заключению, какова же путаница! Выходит, что в таком мире не может быть ничего определенного: ничто не продвигается и не останавливается, все меняется и ничто не разрушается, все возвращается на круги своя, ведь если ваш рассудок не подсказывает вам какую-нибудь четкую цель, невозможно также доказать исчезновение хотя бы малейшей частицы Материи: она может преобразоваться, но не исчезнуть. Если слепая сила оправдывает атеиста, сила разума необъяснима: в самом деле, должна ли она, идущая от Бога, наталкиваться на препятствия, не должна ли ее победа наступать немедленно? Где же сам Бог? Если даже живущие не замечают Его, смогут ли обрести Его мертвые? Падите обожествления и религии! Рассыпьтесь слишком слабые основы всех социальных сводов, вы не смогли замедлить ни падение, ни смерть, ни забвение всех ушедших народов, какими бы могучими они ни были! Сокрушитесь, мораль и справедливость! Наши преступления абсолютно относительны, это — божественные следствия, чьи причины нам неведомы! Все есть Бог. Или мы есть Бог, или Бога нет! О старик, дитя века, каждый год которого оставил на твоем челе след своих неверий! Вот итог твоих наук и твоих долгих размышлений. Дорогой господин Беккер, вы положили голову на подушку Сомнения, найдя в этом самое удобное из всех решений, поступая подобно большинству людей, говорящих себе: не будем ломать голову над этой проблемой, ведь Бог не даровал нам свою милость, не дал нам никакого алгебраического доказательства для ее решения, в то же время Он дал нам силы уверенно идти от Земли к звездам. Не об этом ли вы думаете про себя? Разве я закрываю глаза на это? Разве не осуждаю открыто подобные мысли? Итак, либо догмат двух антагонистических принципов, при которых всемогущий Бог погибает оттого, что, вроде бы развлекаясь, поражает; либо абсурдный пантеизм, в котором все — Бог и Бога больше нет; оба эти источника религий, победе которых способствовала Земля, одинаково вредны. Вот брошенный между нами обоюдоострый топор, им вы отрубаете голову этого седовласого старика, вознесенного вами на раскрашенные облака. А теперь дайте топор мне!
Господин Беккер и Вильфрид уставились на девушку почти с испугом.
— Верить, — заговорила Серафита голосом Женщины, ибо Мужчина уже сказал свое слово, — верить — это дар! Верить — значит чувствовать. Чтобы верить в Бога, нужно чувствовать Бога. Это чувство — медленно приобретаемое свойство человека; так приобретаются удивительные возможности, и вы восхищаетесь ими у великих людей, у воинов, художников и ученых, у тех, кто знает, у тех, кто производит, у тех, кто действует. Мысль — пучок отношений, которые вы замечаете между вещами, интеллектуальный язык, поддающийся изучению, не так ли? Так же как и Верование — пучок небесных истин, но этот язык настолько же выше мысли, насколько мысль выше инстинкта. Верующий отвечает лишь одним восклицанием, лишь одним жестом; Вера вкладывает ему в руки пылающий меч, которым он решает, освещает все. Ясновидящий не сходит с неба, он созерцает его и молчит. И есть создание, что верит и видит, знает и может, любит, молится и ждет. В нем, смиренно мечтающем о царстве света, нет ни высокомерия Верующего, ни безмолвия Ясновидящего; оно слушает и отвечает. Для него сомнение темных веков — не убийственное оружие, но путеводная нить; оно принимает сражение во всех формах; оно приспосабливает свой язык ко всем речам; оно не гневается, но жалеет; не осуждает, не убивает, но спасает и утешает; в нем нет желчности агрессора, но мягкость и тонкость света, который проникает, греет и освещает все. С его точки зрения, сомнение не является ни святотатством, ни кощунством, ни преступлением; это — переход, — человек возвращается на круги своя в Преисподнюю или продвигается к Свету. Итак, дорогой пастор, порассуждаем. Вы не верите в Бога. Почему? По вашему мнению, Бог непонятен, необъясним. Согласна. Я не скажу вам, что понять целиком Бога значило бы быть Богом; и я не скажу вам, что вы отрицаете то, что вам кажется необъяснимым, ведь это дает мне право утверждать то, что мне кажется невероятным. Для вас Он — очевидный факт, находящийся в вас самих. У вас материя приводит к разуму; и вы думаете, что человеческий разум должен бы вести во тьму, к сомнению, к небытию, не так ли? Если Бог кажется вам непонятным, необъяснимым, признайтесь по крайней мере, что в любом чисто физическом предмете вы видите последовательного и возвышенного творца. Почему Его логика должна остановиться на человеке — Его самом законченном творении? Если этот вопрос и не кажется убедительным, он требует по крайней мере каких-го размышлений. Вы отрицаете Бога, но, к счастью, затем, чтобы выразить свои сомнения, к тому же вы признаете обоюдоострые факты, разрушающие ваши рассуждения так же успешно, как те — Бога. Мы согласились и с тем, что Материя и Дух — два создания, никак не согласующиеся друг с другом, что духовный мир состоит из бесконечных связей, порожденных конечным материальным миром; что, если никто на земле не может сравниться по силе своего рассудка с миром земных творений, с еще большим основанием никто не может постичь связи, которые рассудок усматривает между этими творениями. Можно было бы, конечно, покончить уже с этим вопросом, установив вашу неспособность понять Бога, как вы считаете камни фьорда неспособными сосчитать и разглядеть друг друга. А как по-вашему, не отрицают ли они самого человека, хотя тот использует их, чтобы построить свой дом? Существует подавляющий вас факт — бесконечность; если вы ощущаете ее в себе, как же можете вы не признавать последствия этого? Может ли конечное полностью познать бесконечное? Если вы не способны охватить бесконечные, по вашему же собственному признанию, связи, то как же вам узреть отдаленную цель, в которой они находят свое выражение? Поскольку порядок, чье выявление — одна из ваших потребностей, также бесконечен, может ли ваш ограниченный разум понять его? И не спрашивайте, почему человек вовсе не понимает то, что может воспринять, ведь он воспринимает и то, чего не понимает. Если я докажу вам, что ваш рассудок не ведает ни о чем из того, что находится в пределах его досягаемости, согласитесь ли вы, что он тем более не может представить себе то, что выходит за эти пределы? Разве не буду я тогда вправе сказать вам: «Одно из условий, при которых судилище вашего рассудка осуждает Бога, должно быть истинным, второе — ложным; поскольку творение существует, вы ощущаете потребность в определенной цели, но эта цель должна быть прекрасной, не правда ли? Однако, если материя кончается в человеке разумом, не достаточно ли вам знать, что цель человеческого разума есть свет высших сфер, где действует интуиция того самого Бога, который кажется вам неразрешимой проблемой? Виды, стоящие ниже вас, лишены понимания миров, а вы обладаете им; почему же над вами не могут существовать виды более разумные, чем вы? Прежде чем стремиться оценить Бога, не должен ли человек лучше познать самого себя? Прежде чем угрожать звездам, которые светят ему, прежде чем нападать на истины неба, не должен ли он сформулировать свои собственные?» На отрицания Сомнения я должна ответить отрицаниями. А теперь я спрашиваю вас, есть ли на земле что-то достаточно очевидное, чему я могла бы поверить? Мне не трудно доказать вам, что вы упорно верите в вещи активные, хотя и не одушевленные, рождающие мысль, хотя и не разумные, точно так же вы верите в живые абстракции, недоступные пониманию в любой форме, абстракции, которых нигде нет, хотя вы находите их повсюду; они — безымянны, даже если вы и дали им имена; будучи схожи с Богом во плоти, как вы Его себе представляете, они гибнут под тяжестью необъяснимого, непонятного и абсурдного. И еще я спрошу вас, почему, принимая эти вещи, вы сохраняете сомнения по отношению к Богу. Вы верите в Числа — фундамент вашего дворца знаний, которые вы именуете точными. Без Чисел нет математики. Ну хорошо! Какое мистическое существо, если бы ему была дана способность жить вечно, смогло бы бесповоротно назвать, и на каком достаточно динамичном языке, Число, содержащее бесконечные числа, в существовании которого вас убедила ваша наука? Спросите об этом самого великого из человеческих гениев, даже если бы он задумался на тысячи лет, усевшись за стол и зажав голову руками, что ответил бы он вам? Вы не знаете, где начинаются Числа, когда и где они заканчиваются. В одних случаях вы называете их Временем, в других — Пространством, все существует лишь Числами; без них все было бы одной и той же субстанцией, ведь лишь Числа различают и оценивают. Для вашего рассудка Число есть то, чем оно служит для Материи, т. е. неким непонятным фактором. Сотворите ли вы из него божество? Существо ли оно? А может быть, дыхание, исходящее от Бога, чтобы организовать материальный мир, где все обретает свою форму лишь через Делимость, которая есть одно из свойств Числа? Не отличаются ли друг от друга самые малые и самые большие творения своими количествами, качествами, размерами, силами — всеми этими атрибутами, порожденными Числом? Бесконечность Чисел — факт, доказанный вашим разумом, а ведь ни одно его доказательство не может быть представлено материально. Математик скажет вам, что бесконечность Чисел существует и не доказывается. Бог, дорогой пастор, — это Число, обладающее движением, оно ощущает себя и не требует доказательств, так вам скажет Верующий. Как и Единица, Он начинается с Чисел, не имеющих с Ним ничего общего. Существование Числа зависит от Единицы, которая, не будучи каким-то Числом, порождает их все. Бог, дорогой пастор, это замечательная Единица, не имеющая ничего общего со своими творениями, тем не менее порождающая их! Согласитесь, вы ведь понятия не имеете о том, где начинаются и где заканчиваются Числа, где начинается и заканчивается сотворенная вечность? Но почему, веря в Числа, вы отрицаете Бога? Разве не помещено Творение между Бесконечностью неорганизованных веществ и Бесконечностью божественных сфер, подобно тому как Единица находится между Бесконечностью дробей, которые с недавних пор вы называете десятичными, и Бесконечностью Чисел, которые вы называете целыми! Лишь вам на Земле доступно понимание Чисел — первой ступени лестницы, ведущей к Богу, и тут же ваш рассудок спотыкается на ней. Что случилось? Не в состоянии измерить первую абстракцию, данную вам Богом, понять ее, вы беретесь измерить вашей меркой цели Бога? А если бы я погрузила вас в пропасти Движения — силы, организующей Числа? Мне достаточно сказать вам, что вселенная — всего лишь Число и Движение, чтобы вы сразу заметили, что мы говорим на разных языках. Мне доступны оба, а вы совсем не понимаете их. Ну а если бы я добавила еще, что Движение и Число порождены Божественным Словом? Вы, люди, потешаетесь над ним как высшим разумом Ясновидящих и Пророков, услышавших когда-то это дыхание Бога, достигшее святого Павла, а ведь все видимые творения — от вас: общества, памятники, действия, страсти происходят из вашего слабого слова; без языка вы были бы вроде черного раба или лесного человека. Итак, вы упорно верите в Число и Движение, чьи сила и результат необъяснимы, непонятны, впрочем, к их существованию я могу применить дилемму, которая еще недавно освобождала вас от необходимости верить в Бога. Даже вам, такому сильному полемисту, мне все равно придется доказывать, что Бесконечность должна повсюду сохранить свое своеобразие и что она обязательно одна. Лишь Бог бесконечен, так как, само собой, не может быть двух бесконечностей. Если — воспользуемся человеческими словами — что-то из того, что можно доказать на земле, вам кажется бесконечным, будьте уверены — это один из ликов Бога. Продолжим. Вы обеспечили себе место в бесконечности Чисел, вы приспособили его к своему росту, создав, если только вы способны что-то создать, арифметику, на этом фундаменте покоится все, даже ваши общества. Подобно тому как Числа — единственная вещь, в которую поверили ваши так называемые атеисты, — организуют физические создания, арифметика — использование Чисел — организует моральный мир. Казалось, это Счисление должно быть абсолютным, как все, что истинно по своей сути; но оно чисто относительно, не существует в абсолюте, вы не можете представить никакого доказательства его реальности. Прежде всего, если Счисление способно выражать в числах организованные субстанции, оно беспомощно по отношению к организующим силам, одни из которых конечны, остальные — бесконечны. Человек, представляющий себе Бесконечность рассудочно, не сумел бы распорядиться ею во всем ее объеме; иначе он был бы Богом. Ваше Счисление, будучи приложенным к вещам конечным, а не к Бесконечности, является, следовательно, истинным по отношению к частностям, которые вы замечаете; и в то же время ложным по отношению к целому, которое вы вовсе не воспринимаете. Природа похожа на саму себя в своих организующих силах или в своих бесконечных принципах, но она никогда не бывает такой в своих конечных следствиях; так, вы никогда не встретите в природе два идентичных предмета, поэтому в Естественном Порядке два и два никогда не дадут четыре, ведь пришлось бы соединить абсолютно схожие единицы, но вы же знаете, что невозможно найти два схожих листа на одном и том же дереве или два схожих дерева одной и той же породы. Эта аксиома вашего счисления, ложная в видимой природе, так же ложна в невидимой вселенной ваших абстракций, где одна и та же разновидность присутствует в ваших идеях — вещах видимого мира, расширенных благодаря их связям; таким образом, различия выражены здесь гораздо сильнее, чем где-либо еще. В самом деле, поскольку все здесь связано с темпераментом, силой, нравами, привычками самых разных индивидуумов, то самые малые предметы предстают как выражение собственных чувств. Но если человек смог создать Единицы, то не потому ли, что придал им вес и значение, равные кускам золота? И все же, если вы возьмете дукат бедняка и дукат богача и скажете, исходя из логики казначейства, что речь идет о двух равных количествах, мыслитель возразит вам: первый дукат морально значительнее второго; он обеспечит месяц счастья, тогда как другой — лишь самый эфемерный каприз. Следовательно, два и два могут равняться четырем лишь в ложной и чудовищной абстракции. Дробь также не существует в Природе: в ней то, что вы называете частью, есть конечная вещь в себе. Но ведь часто случается, и у вас есть тому доказательства, что сотая часть вещества превосходит то, что вы назвали бы целым, не так ли? Но если часть не существует в Природном Порядке, то тем более она не существует в Моральном Порядке, где идеи и чувства могут быть различны, как виды Растительного Порядка, но они всегда целые. Теория дробей является, следовательно, еще одним проявлением неслыханного самодовольства вашего разума. Что касается Чисел с их Бесконечно малыми и Бесконечными целыми, то они представляют собой силу, лишь малая часть которой известна всем, ее значение ускользает от вас. Вы построили себе хижину в бесконечности Чисел, украсили ее хитро расположенными и раскрашенными иероглифами, и воскликнули: «Все в этом!» От простых Чисел перейдем к сложным. Ваша геометрия устанавливает, что прямая линия — самый короткий путь от одной точки к другой, но ваша же астрономия доказывает вам, что Бог использует лишь кривые. Следовательно, одна и та же наука содержит две доказанные истины: одна засвидетельствована благодаря тому, что ваши чувства вооружены телескопом, другая — вашим рассудком, при этом они противоречат друг другу. Подверженный ошибкам человек утверждает одну из них, а Создатель миров, которого вы никогда не уличили в ошибке, опровергает ее. Кто же решит выбор между прямолинейной и криволинейной геометриями? Между теорией прямой и теорией кривой? В то время как таинственный художник, умеющий обычно быстро достигать цели, использует в своем творчестве прямую линию лишь для того, чтобы обрезать ее под прямым углом и получать ломаную, человек не в силах добиться этого: ядро, которое он хочет направить по прямой, идет по кривой, а когда вы хотите наверняка попасть в определенную точку пространства, вы приказываете бомбе следовать по ее жестокой параболе; никто из ваших ученых не пришел к такому простому заключению: Кривая есть закон материальных миров, Прямая же — закон духовных миров, одна — теория законченных творений, другая — теория Бесконечности. Лишь человек — единственный на земле знающий, что такое Бесконечность, — может познать прямую линию; лишь он обладает чувством вертикальности, расположенным в специальном органе. Не является ли привязанность к творениям кривой у некоторых людей признаком нечистоплотности их натуры, еще связанной с материальными субстанциями, порождающими нас; и не выявляет ли любовь великих умов к прямой предчувствие ими неба? Между этими двумя линиями — провал, как между конечным и Бесконечным, между Материей и Духом, между человеком и идеей, между движением и движимым предметом, между Творением и Богом. Попросите у божественной любви ее крылья, и вы преодолеете эту пропасть! А за ней начинается Откровение Глагола. Нигде вещи, которые вы зовете материальными, не лишены глубины; линии — окончания твердых тел, содержащих в себе определенную силу воздействия, коей вы пренебрегаете в ваших теоремах, что делает их ложными по отношению к телам в целом; отсюда это постоянное разрушение всех человеческих памятников, которым вы безотчетно придаете активные свойства. Природа состоит лишь из тел, но ваша наука воссоздает только внешние аспекты. Так не опровергает ли Природа на каждом шагу все ваши законы: укажите хотя бы один, не опровергнутый фактом? Законы вашей Статики нарушаются тысячами случайностей физики, так влага сокрушает самые могучие горы и доказывает вам таким образом, что даже самые тяжелые субстанции могут быть вознесены невесомыми. Ваши законы об Акустике и Оптике отступают перед звуками, которые вы слышите в себе во время сна, и перед светом электрического солнца, чьи лучи зачастую доставляют вам неприятности. Вы больше не знаете, ни как свет действует в вас, ни как работает простой и естественный механизм, превращающий свет в рубины, сапфиры, опалы, изумруды на шее экзотической птицы из Индии, хотя он и остается серым и темным на шее той же птицы, живущей под облачным небом Европы, ни как ему удается остаться белым здесь, среди полярной природы. Вы не можете решить, является ли цвет свойством, присущим телам, или следствием притока света. Вы принимаете соленость моря, даже не проверив, солено ли оно на всю свою глубину. Вы признали существование нескольких субстанций, пересекающих то, что вам кажется пустотой; субстанций, которые невозможно обнаружить ни в одной из форм, определяемых Материей, и которые, несмотря ни на что, гармоничны с ней. К тому же вы верите в результаты, полученные Химией, хотя она до сих пор не располагает каким-либо средством оценить изменения, вызванные появлением или исчезновением этих субстанций, которые уходят или приходят через ваши кристаллы и машины, работающие от неуловимых источников энергии тепла и света, действующих благодаря тонким свойствам металла или стекловидного кремния. Вы получаете лишь мертвые вещества, вы изгнали из них неведомую силу, противостоящую процессам разложения на земле, и их свойства притяжения, вибрации, концентрации и полярности — лишь феномены. Жизнь — мысль тел; они только средство зафиксировать ее, удержать на ее пути; если бы тела сами по себе были живыми существами, они служили бы причиной и не погибали бы. Когда какой-то человек констатирует результаты общего движения, которые делят между собой все создания в зависимости от их способности к абсорбции, вы провозглашаете его в высшей степени ученым, как если бы гений заключался в способности объяснять то, что есть. Гений должен бросить взгляд за пределы следствий! Все ваши ученые засмеялись бы, если бы им сказали: «Между двумя существами, одно из которых находится здесь, а другое, допустим, на Яве, складываются вполне определенные отношения, они способны в одно и то же мгновение испытать то же ощущение, осознать его, задать себе вопросы и сами безошибочно ответить на них!» Тем не менее есть минеральные вещества, подтверждающие наличие настолько же отдаленных симпатий, как и те, о которых я говорю. Вы верите в силу электричества, заключенного в магните, и вы же отрицаете силу электричества, происходящего из души. По вашему мнению, влияние Луны, чье воздействие на приливы вам кажется вполне доказанным, никак не отражается на ветрах, растительности, людях; она приводит в движение море и точит стекло, но она же должна уважать больных; у нее определенные отношения с половиной человечества, но она же не может ничего поделать с другой. И это ваши самые ценные убеждения. Идем дальше! Вы верите в Физику? Но ведь ваша Физика начинается, как католическая религия, с Символа веры. Разве не признает она внешнюю силу, отличную от тел, которым сама передает движение? Вы видите ее следствия. Но что это? Где она? Какова ее суть? В чем ее жизнь? Имеет ли она пределы? И вы еще отрицаете Бога!.. Точно так же большинство ваших научных аксиом, верных по отношению к одному человеку, неверны по отношению к человечеству в целом. Наука едина, а вы ее разделили. А разве не следовало бы, чтобы познать подлинный смысл законов явлений, изучить связи, которые существуют между явлениями и законом целого? В любой вещи есть внешняя сторона, воздействующая на ваши чувства; под этой внешностью живет душа: есть тело и способности. Где же учитесь вы науке об отношениях между вещами? Нигде. У вас, следовательно, нет ничего абсолютного? Самые определенные из ваших идей покоятся на анализе Материальных форм, чей Дух неизменно игнорируется вами. Существует возвышенная наука, которую некоторые люди смутно ощущают, но слишком поздно, не осмеливаясь признаться себе в этом. Эти люди поняли необходимость исследовать тела не только в их математических свойствах, но еще и в целом, в их оккультном единении. Самый великий среди вас[25] догадался под конец жизни, что существует всеобщая причинно-следственная связь, что видимые миры согласуются между собой и подчиняются невидимым мирам. Он просто в отчаяние пришел, пытаясь установить абсолютные правила! Подсчитывая эти миры, как виноградинки рассеянные в воздухе, он объяснял их гармонию законами планетарного и молекулярного притяжения; и вы приветствовали этого человека! Ну хорошо! Повторяю вам, он умер в отчаянии. Если предположить равными центробежные и центростремительные силы, которые он придумал, чтобы объяснить вселенную, та должна была бы остановиться, а ведь он признавал существование движения в неопределенном направлении; если же предположить неравенство этих сил, из этого немедленно вытекало бы смешение миров. Следовательно, его законы вовсе не были абсолютными, существовала некая проблема еще более высокого порядка. Впрочем, разве помешала ему констатация связи между звездами и центростремительным действием их внутреннего движения искать свою виноградную лозу, свою удачу? Несчастный! Чем больше он расширял пространство, тем тяжелее становилось его бремя. Он говорил вам о гармонии частей; но куда двигалось целое? Он созерцал бесконечное, с точки зрения человека, пространство, заполненное этими группами миров, лишь ничтожная часть их доступна телескопу, а их грандиозность обнаруживается скоростью света. Это блаженное созерцание открыло перед ним бесконечные миры, которые, будучи высажены в этом пространстве подобно цветам на лугу, рождаются, как дети, растут, как люди, умирают, как старики, живут, усваивая из своей атмосферы вещества, годные для питания, у них есть центр и принцип жизни, их существование гарантировано расстояниями между ними; подобно растениям, они поглощают и поглощаются, составляют жизнеспособное целое со своей судьбой. Вот что потрясло этого человека! Он ведь знал, что жизнь — результат соединения вещи с ее принципом, что смерть или инерция и, наконец, сила тяжести — результат разрыва между предметом и свойственным ему движением; и тогда он предвосхитил возможность гибели этих миров, если бы Бог лишил их своего Слова. Он принялся искать следы этого Слова в Откровениях! Вы решили, что он свихнулся, знайте же: он стремился оправдать свой гений. Вильфрид, вы пришли, чтобы просить меня разрешить ваши проблемы, унести меня на дождевом облаке, погрузить меня в фьорд, из вод которого я бы вновь возникла в образе лебедя. Если бы наука и чудеса были целью человечества, Моисей оставил бы вам дифференциальное исчисление; Иисус Христос осветил бы вам темные закоулки ваших наук; Его апостолы сказали бы вам, откуда исходят эти огромные потоки газа или плавящихся металлов: будучи привязаны к ядрам, они вращаются, чтобы затвердеть, ищут свое место в пространстве, врываются, иногда с невероятной силой, в определенную систему, устанавливают контакт с какой-нибудь звездой, разрушаются при столкновении или уничтожают своими смертоносными газами. Вместо того чтобы заставлять вас жить в Христе, святой Павел объяснил бы вам, почему пища осуществляет невидимую связь всех творений и видимую связь всех живых видов. Сегодня самым большим чудом было бы найти квадрат, равный кругу, вы считаете эту задачу неразрешимой, но, разумеется, она решается в ходе миров пересечением с определенной математической линией, чьи витки предстают взору тех, кто достиг высших сфер. Поверьте мне, чудеса в нас самих, а не вне нас. Так свершались естественные события, которые воспринимались народами как сверхъестественные. Был ли не прав Бог, свидетельствуя свою мощь одним поколениям и отказывая в этом другим? Никому не заказано мечтать. Ни Моисей, ни Иаков, ни Зороастр, ни Павел, ни Пифагор, ни Сведенборг, ни самые таинственные Вестники, ни самые блестящие Божьи Пророки не превзошли тот уровень, который и вам по силам. Только народам даны моменты, когда они преисполняются верой. Если бы материальная наука служила целью человеческих усилий, признайтесь, во всех ли случаях общества — эти большие человеческие общежития — были бы развеяны силой Провидения? Если бы цивилизация была целью Вида, погиб ли бы разум? Остался бы он чисто индивидуальным? Величие всех когда-то великих наций основывалось на исключениях: как только исключению приходил конец, умирало и могущество. Если бы Ясновидящие, Пророки, Вестники занялись Наукой вместо того, чтобы опираться на Веру, не попытались бы они воздействовать на ваши головы, а не на ваши сердца? Все они приходили, чтобы направить народы к Богу, все провозглашали святой путь, говорили вам простые слова, ведущие к небесному царству; все пылали любовью и верой, все вдохновлялись Словом, парящим над народами, соединяющим, оживляющим, поднимающим их, Слово это никогда не служило людской корысти. Ваши великие гении, поэты, ученые исчезли вместе с их городами, Пустыня одела их в свои песочные одежды, тогда как имена этих добрых пастырей, до сих пор благословляемых, оказываются сильнее катастроф. Мы ни о чем не можем договориться. Мы разделены пропастями: вы держитесь потемок, а я живу в истинном свете. Ожидали ли вы именно этого слова? Я произношу его с радостью, слово может изменить вас. Знайте же, что есть науки материи и науки духа. Там, где вы видите тела, я вижу силы, чье изначальное встречное движение отражает их взаимное притяжение. Для меня характер тел — показатель их принципов и знак их свойств. Эти принципы порождают тонкости, ускользающие от вас, связанные с центрами. Разные виды, в которых жизнь распределяется, служат непрерывными источниками, сообщающимися друг с другом. У каждого из видов — своя особая продукция. Человек — следствие и причина; он питается, но и сам питает. Называя Бога Творцом, вы умаляете Его роль; Он не создал, как вы думаете, ни растений, ни животных, ни звезд. Мог ли Он использовать несколько способов? Не соблюдал ли Он единство композиции? Кроме того, разве Он не сформулировал принципы, которые должны были развиваться по Его общему закону и в зависимости от той среды, в которой они могли бы действовать? Итак, одна субстанция и движение; одно растение, одно животное, но непрерывные отношения. В самом деле, все аналогии основаны на близком сходстве, и жизнь миров направляется к центрам страстным желанием, как голод толкает вас утолить его пищей. Вот пример аналогий, связанных со сходствами, — вторичный закон, на котором покоятся творения вашей мысли; музыка, небесное искусство — пример осуществления этого принципа: не является ли она комплексом звуков, гармонизированных Числами? Не служит ли звук разновидностью воздуха — сжатого, растворенного, отраженного? Вам известен состав воздуха: азот, кислород и углерод. Вы не можете получить звук в вакууме, поэтому ясно, что музыка и человеческий голос — результат организованных химических веществ, которые действуют в унисон с подобными же веществами, подготовленными в вас вашей мыслью, скоординированными при помощи света — великого кормильца вашего земного шара. Приходилось ли вам наблюдать за скоплениями селитры, отложенными снегами, за разрядами молнии, за растениями, выдыхающими в воздух металлы, содержащиеся в них, не задумываясь о том, что солнце соединяет и распределяет тонкое вещество, питающее все на Земле? Как сказал Сведенборг: «Земля — это человек!» Ваша нынешняя наука, возвышающая вас в собственных глазах, — пустяк по сравнению с лучами, которыми переполнены Ясновидящие. Хватит, хватит меня расспрашивать, мы говорим на разных языках, на какое-то время я воспользовалась вашим, чтобы вызвать проблеск веры в вашей душе и дозволить вам ухватиться за полу моего плаща, увлечь вас в прекрасные края Молитвы. Богу ли опускаться до вас: скорее, вы должны тянуться к Нему! Если человеческий разум сразу же исчерпал себя, безуспешно пытаясь своими силами постичь Бога, не очевидно ли, что следует искать другой путь, чтобы познать Его? Этот путь в нас самих. Ясновидящий и Верующий именно потому и способны заметить Зарю, что взор их более проницателен, чем у тех, кто не способен оторвать свой взгляд от земли.
Слышите эту истину? Самые точные из ваших наук, самые смелые размышления, самые прекрасные Озарения, — облака. Над ними Святилище, из которого исходит истинный свет.
Она села и замолчала, на ее спокойном лице не было и тени волнения вроде того, что охватывает ораторов даже после самых спокойных импровизаций.
Вильфрид наклонился к уху господина Беккера:
— Откуда у нее все это?
— Не знаю.
«На Фалберге он был более мягким», — отметила про себя Минна.
Прикрыв рукой глаза, Серафита упрекнула с улыбкой:
— Вы слишком задумчивы сегодня, господа. Вы относитесь ко мне и Минне как к мужчинам, с которыми привычно говорить о политике или коммерции, а ведь мы — девушки, и вы должны рассказывать нам сказки за чаем, как это делается на наших вечеринках в Норвегии. Ну же, господин Беккер, расскажите какие-нибудь из неизвестных мне саг! Например, сагу о Фритьофе[26], вы ведь верите в эту хронику и обещали поведать мне о крестьянском сыне, у которого был говорящий и имеющий душу корабль. Я мечтаю о фрегате «Эллида»! Не на такой ли вот фее с парусами должны плавать девушки?
— Уж коли мы возвращаемся в Жарвис, — сказал Вильфрид, не отрывавший глаз от Серафиты, как вор, укрывшийся в тени, от сокровищницы, — скажите, почему вы не выходите замуж?
— Вы все рождаетесь вдовцами или вдовами, — ответила она. — Моя же свадьба была подготовлена со дня рождения, я невеста...
— Чья? — в один голос отозвались все.
— Позвольте мне сохранить секрет, — ответила она. — Обещаю вам, если этого захочет наш Отец, пригласить вас на эту таинственную свадьбу.
— Это случится скоро?
— Жду.
Последовала долгая пауза.
— Пришла весна, — прервала молчание Серафита. — Уже грохочут воды и взрываются льдины. Не пора ли нам приветствовать первую весну нового века?
Сопровождаемая Вильфридом, она подошла к открытому Давидом окну. После длительного молчания зимы весенние воды бушевали подо льдом и отзывались музыкой во фьорде: очищенные пространством звуки накатывались, как волны, наполненные светом и свежестью.
— Ну хватит, Вильфрид, хватит мрачных мыслей! Если они окончательно овладеют вами, вам же труднее придется. Кто не прочел бы ваши желания в искорках ваших взглядов? Будьте великодушны, сделайте хоть шаг к добру! Согласитесь, превзойти человеческую любовь означает полностью пожертвовать собой ради любимой. Повинуйтесь мне, я поведу вас по пути, который приведет вас к высотам, о которых вы мечтали, любовь там будет воистину бесконечной.
Серафита оставила Вильфрида в глубокой задумчивости.
«Уж не пророчица ли это милое создание, ведь только что молнии вырывались из ее глаз, слово ее гремело над мирами, она занесла секиру сомнений над нашими науками? Уж не приснилось ли нам все это?» — думал Вильфрид.
— Минна, — сказал Серафитус, вновь подходя к дочери пастора, — орлы летят на падаль, голубки — к живым родникам под зеленую и мирную тень. Орел поднимается к небесам, голубка спускается с них. Не надоело ли тебе пребывать в краю, где не найти ни источника, ни тени? Совсем недавно ты не могла без паники смотреть на пропасть, береги же свои силы для того, кто полюбит тебя. Пойдем, бедная девочка, теперь ты знаешь — у меня есть невеста.
Минна поднялась и подошла с Серафитусом к окну, где стоял Вильфрид. Все трое услышали, как вздымается Зиг под натиском поверхностных вод, которые уже вырывали деревья из плена льдов. Фьорд вновь обрел голос. Иллюзии были развеяны. Все восхищались природой, освобождавшейся от оков, казалось, она отвечала мощным согласием Духу, чей голос только что разбудил ее.
Трое гостей загадочного существа покинули его, преисполненные неясным чувством, в котором смешалось все: сон, оцепенение, изумление; это не было ни сумерками, ни зарей, но порождало жажду света. Все были погружены в размышления.
— Я начинаю думать, что она — Дух в человеческой оболочке, — сказал господин Беккер.
Вернувшись к себе, Вильфрид, уже спокойный и убежденный, пытался осмыслить, можно ли бороться с силами, обладавшими таким божественным величием.
Минна спрашивала себя: «Но почему же он не принимает моей любви?»
V. Прощание
Человек обладает свойством, огорчительным для лиц, склонных к медитации, пытающихся найти смысл движения обществ и подчинить движения рассудка законам развития. Какой бы важности ни был факт, даже если бы он был сверхъестественным, каким бы грандиозным ни было публично сотворенное чудо, молния этого факта, гром этого чуда утонули бы в океане морали, чья поверхность, слегка потревоженная каким-нибудь мгновенным всплеском, тотчас восстановила бы свою обычную размеренную жизнь.
Не так ли, чтобы быть услышанным, Голос проходит через пасть Животного? А Рука выводит буквы на фризах залы, где развлекается Двор? Освещает ли Око сон короля? Придет ли Пророк растолковать сон? Возрождается ли призванный на небо Мертвый в светлых краях, где оживают его способности? Уничтожает ли Дух Материю у подножия мистической лестницы[27] Семи Духовных миров, вздымающихся этажами в пространстве и падающих каскадом сверкающих волн на ступени небесной Паперти? Внутреннее Откровение может быть сколь угодно глубоким, а внешнее — очевидным, уже на следующий день Валаам сомневается в своей ослице и в себе самом, Валтасар[28] и Фараон заставляют двух Ясновидцев — Моисея и Даниила — комментировать Слово. Но вот является Дух, возносит человека над землей, поднимает к нему моря, показывая ему их дно, исчезнувшие виды, оживляет для него высохшие кости, чей прах покрывает большую долину: Апостол пишет Откровения! Двадцать веков спустя человеческая наука одобрит апостола и превратит его образы в аксиомы. Ну и что! Масса продолжает жить, как она жила вчера, как жила во времена первой олимпиады, на следующий день после Сотворения Мира или накануне великой катастрофы. Сомнение покрывает все своими волнами. Те же волны разбивают, одним и тем же движением, человеческий гранит, ограничивающий океан разума. Человек задается вопросом, видел ли он на самом деле увиденное, слышал ли услышанное, был ли факт фактом, а идея идеей, затем, снова воспрянув духом, думает о своих делах, повинуется любому слуге, идущему за Смертью, забытью, обволакивающему своим черным плащом старое Человечество, о котором успело забыть новое. Человек не останавливает свой ход, свой биологический рост до дня, пока Секира не обрушивается на него. Эта мощь волны, этот напор соленых вод тормозят любой прогресс, но они же несомненно предупреждают также и смерть. Лишь души, подготовленные служить вере среди высших существ, способны обнаружить мистическую лестницу Иакова[29].
После того как Серафита, подвергшаяся такому серьезному допросу, развернула перед собеседниками Божественное пространство, подобно тому как прикосновение к органу заполняет церковь мощными звуками, обнаруживая целый мир музыки, торжественные волны которой добираются до самых неприступных сводов и переливаются, как лучи света, в самых легких цветах капителей, Вильфрид возвратился к себе, напуганный тем, что увидел мир в руинах, а на этих руинах неведомые волны света, разлитые руками Серафиты. На следующий день он все еще думал об этом, но страха больше не было; он не чувствовал себя ни разбитым, ни изменившимся; его страсти, идеи проснулись — свежие и острые. Он отправился отобедать к господину Беккеру и нашел его полностью погрузившимся в «Трактат о чарах, заклинаниях, колдовстве», который пастор листал с утра, чтобы поддержать своего гостя. С детской непосредственностью ученого он отмечал страницы, на которых Жан Виер приводил подлинные доказательства, подтверждавшие возможность событий, случившихся накануне: ведь для ученых идея — событие, хотя самые крупные события воспринимаются ими с большой натяжкой как идея. На пятой чашке вечер для обоих философов потерял свою таинственность. Небесные истины оказались более или менее убедительными и поддающимися логике рассуждений. Серафита же показалась им достаточно красноречивой девушкой; следовало отдать должное ее очарованию, соблазнительной красоте, завораживающим жестам, всем этим ораторским приемам, благодаря которым актер вкладывает в одну фразу целый мир чувств и мыслей, даже если в действительности фраза эта зачастую вульгарна.
— Ба! — сказал добрейший священник, с легкой философской гримасой размазывая соленое масло по тартинке. — Последнее слово этих прекрасных загадок зарыто на шесть футов в землю.
— И все же, — заметил Вильфрид, кладя сахар в чай, — не представляю себе, как шестнадцатилетняя девушка может познать столько вещей, в ее словах спрессован такой опыт!
— Ну и что, — сказал пастор, — прочтите историю молодой итальянки, которая с двенадцати лет говорила на сорока двух языках, древних и современных; или историю монаха, который обонянием угадывал мысли! В трудах Жана Виера и в дюжине трактатов, я могу дать их вам почитать, есть тысячи доказательств этому.
— Согласен, дорогой пастор, но для меня Серафита — божественная женщина, которой хотелось бы обладать.
— Она — сам разум, — задумчиво отозвался господин Беккер.
Прошло несколько дней, снег в долинах незаметно растаял, подобно новой траве зазеленели леса, норвежская природа прихорашивалась к своей однодневной свадьбе. В эти дни, хотя и потеплело, Серафита не выходила на улицу, оставаясь в одиночестве. Затворничество любимой женщины особенно раздражало Вильфрида, усиливало его страсть. Когда же это невыразимое существо приняло Минну, та заметила в Серафитусе разрушительные следы внутреннего огня: голос его стал глубоким, кожа приняла золотистый оттенок; и если до этого поэты сравнивали белизну кожи Серафиты-Серафитуса с чистотой алмазов, теперь она светилась топазовым блеском.
— Видели ее? — спросил Вильфрид, который бродил вокруг «шведского замка» и ожидал возвращения Минны.
— Скоро мы потеряем его, — ответила девушка, глаза ее наполнились слезами.
— Мадемуазель, — воскликнул иностранец, сдерживая голос, возбуждаемый гневом, — не играйте мной. Вы можете любить Серафиту лишь так, как одна девушка может полюбить другую, а вовсе не такой любовью, какую она вызывает во мне. Вы не представляете, какой опасности подвергаетесь, разжигая мою ревность. Почему я не могу быть рядом с ней? Из-за вас?
— Понятия не имею, — ответила Минна, внешне спокойно, хотя ужас овладевал ею, — но по какому праву вы вторгаетесь в мое сердце? Да, я люблю его, — продолжила она, вновь обретая смелость убеждений и готовность защищать религию своего сердца. — Но моя ревность, вполне естественная в любви, никого не страшит здесь. Увы! Я ревную к тайному чувству, владеющему им. Между ним и мной лежит пространство, которое я не в силах преодолеть. Я хотела бы знать, кто — звезды или я — любит его больше, кто из нас больше способствовал бы его счастью? Почему я не смею откровенно сказать о своей любви? Перед лицом смерти мы можем позволить себе признаться в своих чувствах. Сударь, Серафитус скоро умрет.
— Минна, вы ошибаетесь, сирена, которую я так часто купал в своих желаниях, которая кокетливо позволяла восхищаться ею, растянувшись на своем диване, грациозная, слабая и жалкая, вовсе не молодой человек.
Минна смутилась, но возразила.
— Но и тот, чья сильная рука вела меня там, — она указала на вершину пика, — по Фалбергу, по «солеру», к вершине Боннэ-де-Глас, вовсе не слабая девушка. Ах, если бы вы слышали его пророчества! Его поэзия была музыкой мысли. Девушка не могла бы говорить таким суровым голосом, перевернувшим мне душу.
— Но на чем основана ваша уверенность?.. — спросил Вильфрид.
— Исключительно на подсказке сердца, — Минна, растерявшись, поспешила прервать иностранца.
— Что касается меня, — воскликнул Вильфрид, бросая на Минну ужасающий взгляд, полный убийственного желания и сладострастия, — я могу доказать вам, зная, насколько сильна ее власть надо мной, что вы ошибаетесь.
В этот момент, когда слова так же быстро срывались с языка Вильфрида, как мысли переполняли его голову, он увидел Серафиту, идущую из «шведского замка» в сопровождении Давида. Ее появление успокоило его.
— Посмотрите, только женщина может обладать такой грациозностью и гибкостью.
— Он страдает, это его последняя прогулка, — отозвалась Минна.
По знаку хозяйки, навстречу которой шли Вильфрид и Минна, Давид удалился.
— Отправимся к водопадам Зига, — предложило им загадочное существо капризным тоном больного, которому все спешат повиноваться.
Легкий седой туман стелился над долинами и горами фьорда, чьи вершины, сверкающие, как звезды, пронзали его, делая похожим на движущийся Млечный Путь. Сквозь эту земную дымку проступало, подобно шару из раскаленного железа, солнце. Несмотря на последние игры зимы, теплые бризы, разогретые ладаном и вздохами земли, несущие запахи березы, уже украшенной белым цветом, и аромат лиственницы с обновлявшимися шелковыми кисточками, предвосхищали прекрасную весну севера — мимолетную радость самой меланхолической природы из всех. Ветер принимался срывать эту вуаль из облаков, которая как-то неловко скрывала вид залива. Пели птицы. Кора деревьев, там, где солнце не высушило еще зимнюю дорогу, по которой журчали ручьи, веселила взгляд своей фантастической окраской. Все трое брели в молчании вдоль пляжа. Но лишь Вильфрид и Минна созерцали эту картину, которая казалась им волшебной после монотонного зрелища зимнего пейзажа. Их спутник шел задумчиво, как будто старался различить какой-то голос в этой симфонии. Они добрались до скал, между которыми бурлил Зиг, здесь заканчивалась длинная просека, бегущая меж старых сосен, поток замысловато проложил в лесу эту крытую тропу с каркасом из мощных нервюр[30], напоминающих храмовые. Отсюда фьорд был виден как на ладони, море сверкало на горизонте подобно стальному клинку. В этот момент рассеявшийся туман обнажил голубое небо. Повсюду в долинах вокруг деревьев еще носились сверкающие крупицы, алмазная пыль, разгоняемая свежим бризом, чудесные сережки из капель, подвешенных на концах пирамидальных веток. Поток грохотал над ними. С его поверхности срывался пар, который солнце раскрасило всеми оттенками световой гаммы, его лучи распадались, вычерчивая семицветные ленты, заставляя вспыхивать огоньки из тысячи призм, чьи отражения сталкивались друг с другом. Эта дикая полоса была покрыта красивым шелковистым муаровым ковром из разного рода мхов, умытых лесной влагой. Уже цветущие вересковые заросли украшали скалы своими хитро перепутанными гирляндами. Подвижная листва, привлеченная свежестью вод, склонилась над ними; кружево лиственниц ласкало сосны, неподвижные, как озабоченные старухи. Это роскошное убранство контрастировало со строгостью древних лесных колоннад, ярусами опоясывающих горы, и с гигантским зеркалом вод фьорда, простиравшегося у ног трех зрителей, горный поток топил в нем свою ярость. Наконец, море окаймляло эту страницу самой большой из поэм — случай, которому так обязана мозаика созидания, вроде бы предоставленная сама себе. Жарвис был уголком, затерянным в этой красоте, в этом безмерном пространстве, величественном, как все то, что, будучи обречено на эфемерное существование, представляет собой мимолетный образ совершенства; в самом деле, под влиянием только для нас фатального закона внешне законченные творения – услада наших сердец и очей – переживают здесь лишь одну весну.
Несомненно, на вершине утеса эти трое в полной мере могли ощутить свое одиночество в мире.
— Какое наслаждение! – воскликнул Вильфрид.
— У природы свои гимны, — сказала Серафита. — Не правда ли, чудесная музыка? Признайтесь, Вильфрид, ни одна из женщин, которых вы знали, не смогла создать себе такое замечательное убежище? Здесь я испытываю чувство, редко возбуждаемое зрелищем городов. Хочется упасть в быстро поднявшиеся травы. И в них – глаза к небу, сердце нараспашку, затерянная в этом океане, я бы смогла услышать и вздох цветка, который, едва высвободившись из своего примитивного естества, торопится жить, и крики гаги, которой мало ее крыльев, все это напоминает мне желания мужчины – он понимает их всех и сам желает! Но это уже, Вильфрид, из поэзии женщины! Вы замечаете сладострастную мысль в этом окутанном дымкой водном просторе, в этих вышитых парусах — природа играет в них, как кокетливая невеста, — и в этой атмосфере, в которой она готовится к свадьбе, наполняя чудесным ароматом свою зеленеющую шевелюру. Хотели бы вы увидеть очертания наяды в этом облаке пара? Или, по-вашему, мне следовало бы вслушаться в мужской призыв Потока?
— Не похожа ли здесь любовь на пчелу в чашечке цветка? — Вильфрид, впервые заметивший в Серафите следы земного чувства, нашел момент подходящим, чтобы выразить переполнявшую его нежность.
— Вы снова за свое? — с улыбкой ответила Серафита, которую Минна оставила одну.
В этот момент девушка карабкалась на скалу, где заметила голубые камнеломки.
— Снова, — повторил Вильфрид. – Выслушайте меня. — Его надменный взгляд натолкнулся на нечто, похожее на оправу алмаза. – Вы же не знаете, кто я такой, что могу и чего хочу. Не отбрасывайте мою последнюю мольбу! Будьте моей, и совесть моя сохранит чистоту, небесный голос достигнет моего слуха, внушая мне добро в том великом деле, в котором меня вела ненависть к народам. А ведь с вами я мог бы вершить его во имя их благополучия! Есть ли более прекрасная миссия для любви? О какой более прекрасной роли может мечтать женщина? Я явился в эти края, замыслив великое дело.
— И вы готовы пожертвовать его величием ради простой девушки, ради ее любви, сулящей вам лишь спокойную жизнь?
— Мне все равно, я хочу только вас! — ответил Вильфрид. — Раскрою вам свою тайну. Я объездил весь Север — большую мастерскую, в которой выковываются новые расы, призванные освежить устаревшие цивилизации, отсюда эти человеческие массы растекаются по земле. Я хотел бы начать свою деятельность именно здесь, завоевать силой и умом власть над местным населением, подготовить его к боям, начать войну, расширить ее, как пожар, проглотить всю Европу, обещая свободу одним, возможность грабежа — другим, славу одному, удовольствие — другому; оставаясь при этом воплощением Судьбы — беспощадным и жестоким, носясь, как ураган, вбирающий в себя из атмосферы все частицы, из которых состоит гром, пожирая людей, как прожорливый молох. Таким образом я покорил бы Европу, ожидающую сегодня нового Мессию, призванного опустошить мир и переделать его общества. Отныне Европа поверит лишь тому, кто раздавит ее железной пятой. Возможно, когда-нибудь поэты, историки оправдают мою жизнь, восславят меня, припишут мне какие-то идеи, хотя для меня эта грандиозная шутка, написанная кровью, есть лишь повод для мести. Но, дорогая Серафита, мои наблюдения отвратили меня от Севера, сила здесь слишком слепа, я жажду Индии! Схватка с эгоистичным, трусливым и меркантильным правительством больше увлекает меня. Кроме того, гораздо легче возбудить воображение народов, живущих у подножия Кавказа, чем пробудить разум в этих замороженных странах, где мы с вами находимся. А потому я мечтаю пересечь русские степи, добраться до Азии, затопить ее до Ганга моим победоносным воинством, и там я опрокину британскую мощь. Семь человек в разные эпохи уже осуществили этот план. Я обновлю Искусство, как это сделали сарацины, брошенные Магометом на Европу! Я не буду мелочным царем, подобно тем, кто управляет сегодня старыми провинциями Римской империи, ссорясь со своими подданными, например, по поводу какой-нибудь таможенной подати. Нет, нет сил, способных остановить молнии моих очей, бурю моих слов! Подобно Чингисхану, ноги мои пересекут треть земного шара; руки мои обхватят Азию, как это сделал когда-то Аурангзеб[31]. Будьте моей спутницей, поднимитесь белой красавицей на трон. Я никогда не сомневался в успехе; воцаритесь в моем сердце, и я буду уверен в победе!
— Я уже царствовала! — отрезала Серафита.
Эти слова были подобны удару топора, нанесенному ловким лесорубом по основанию молодого дерева и сразившему его. Лишь мужчинам известно, какую ярость способна вызвать женщина в их душах; в самом деле, когда, желая показать капризной любимой свою силу или власть, ум или превосходство, он небрежно бросит: «Впрочем, это пустяки!», она улыбнется и так же небрежно согласится: «Действительно, пустяки!», показывая, что сила для нее ничего не значит.
— Как, — воскликнул в отчаянии Вильфрид, — богатства искусства, богатства мира, прелести двора...
Серафита остановила его одним лишь движением губ:
— Существа, гораздо могущественнее вас, предлагали мне больше.
— Да у тебя просто души нет, тебя не соблазняет перспектива утешить великого человека, готового всем пожертвовать ради тебя, чтобы жить с тобой в домике на берегу какого-нибудь озера![32]
— Но, — возразила она, — меня и так любят безгранично.
— Кто? — вскричал Вильфрид, приближаясь нервным шагом к Серафите, словно хотел бросить ее в пенистые каскады Зига.
Но взгляд Серафиты, жест ее руки охладили его; Серафита указала Вильфриду на Минну, которая бежала к ним, светлая и розовая, красивая, как цветы, которые она держала в руках.
— Дитя! — сказал Серафитус и пошел ей навстречу.
Вильфрид остался на вершине скалы, застыв как статуя, погрузившись в свои мысли; в этот миг ему хотелось, чтобы потоки Зига подхватили его, как одно из этих деревьев, что проносились перед его глазами и исчезали в заливе,
— Я собрала их для вас, — сказала Минна, вручая букет своему обожаемому существу. — Один из этих цветков, вот этот, — показала она, — похож на тот, что мы нашли на Фалберге.
Серафитус смотрел то на цветок, то на Минну.
— В твоих глазах вопрос[33]. Ты еще сомневаешься во мне?
— Нет, — ответила девушка, — мое доверие к вам безгранично. Вы для меня прекраснее этой необыкновенной природы и мудрее всего человечества. Когда я увидела вас, мне показалось, что Бог услышал мою молитву, я хотела...
— Что? — прервал ее Серафитус, и во взгляде его, обращенном к ней, девушка узрела разделявшую их непреодолимую пропасть.
— Я хотела бы принять на себя ваши муки...
«Она самое опасное из всех созданий, — подумал Серафитус, — не преступно ли было пожелать представить ее Тебе, Боже!»
Затем, обращаясь к девушке и указывая ей на вершину Боннэ-де-Глас, как отрезал:
— Вижу, ты забыла, что я сказал тебе там, наверху?
«Он снова становится ужасным», — отметила про себя Минна, трясясь от страха.
Гул Зига сопровождал мысли этих трех существ, соединенных на какое-то время на выступающей скальной площадке, но разделенных пропастями Духовного Мира.
— Ну что же, Серафитус, просветите меня, — сказала Минна голосом серебристым, как жемчуг, и нежным, как аромат мимозы. — Скажите, как же мне избавиться от любви к вам? И кто бы не восхищался вами? Ведь любовь — неутомимое восхищение.
— Бедное дитя! — Серафитус побледнел. — Так любить можно только одно существо.
— Кого? — спросила Минна.
— Ты узнаешь это, — ответил он слабеющим голосом человека, распростертого на земле перед смертью.
— На помощь, он умирает! — вскричала Минна.
Прибежал Вильфрид, увидел тело, изящно лежавшее на гнейсовом камне, на который время набросило свой бархатный плащ из лощеных лишайников и диких мхов, сверкающих под солнцем.
— Как она прекрасна!
— Теперь я могу бросить последний взгляд на возрождающуюся природу, — сказала Серафита, собрав все силы, чтобы подняться.
Она подошла к краю скалы, откуда могла охватить взглядом цветущие, зеленеющие, оживленные картины этого величественного и уникального пейзажа, лишь недавно скрытого под снежной туникой.
— Прощай, — сказала она, — очаг горячей любви, где все усердно движется от центра к краям, а те собираются в пучок, как волосы женщины, сплетаются в неведомую косу, которая связывает тебя через неуловимый эфир с божественной мыслью!
Видите ли вы того, кто, склонившись над политой потом нивой, на какое-то мгновение поднимает голову, вопрошая небо; ту, что собирает детей, чтобы накормить их своим молоком; того, кто вяжет узлы на снастях в разгар бури; ту, что затаилась в углублении скалы в ожидании Отца? Видите вы всех тех, кто нищенствует после жизни, заполненной неблагодарными трудами? Всем им желаю мира и отваги, всем говорю — прощайте!
Слышите ли вы смертный крик неизвестного солдата, ропот обманутого человека, плачущего в пустыне? Всем им — мира и отваги, всем им — прощайте. Прощайте и те, кто умирает за земных царей. Прощай и народ без родины; прощайте, земли без населения, вы так нуждаетесь друг в друге. Главное, прощай, Ты, не знающий, где преклонить голову, Ты — одинокий изгнанник. Прощайте, дорогие невинные, которых волокут за волосы — слишком любили! Прощайте, матери у изголовья умирающих сыновей! Прощайте, раненые святые женщины! Прощайте, Бедные! Прощайте, Малые, Слабые и Страждущие, все вы, чьи страдания я зачастую разделяла. Прощайте, все те, кто вращается в сфере Инстинкта, страдая в ней за других.
Прощайте, мореплаватели, разыскивающие Восток в густых потемках своих абстракций, необъятных, как принципы. Прощайте, жертвы мысли, которых она ведет к подлинному свету! Прощайте, сферы любознательности, в которых мне слышатся жалоба оскорбленного гения, вздох слишком поздно прозревшего ученого.
А вот ангельский хор, аромат духов, фимиам сердца, исходящий от тех, кто молится, утешает, распространяет божественный свет и небесный бальзам в опечаленных душах. Смелее, хор любви! Вам, к кому вопиют народы: «Утешьте нас, защитите нас!», говорю: дерзайте и прощайте!
Прощай, гранит, ты станешь цветком; прощай, цветок, ты станешь голубем; прощай, голубь, ты станешь женщиной; прощай, женщина, ты станешь болью; прощай, мужчина, ты станешь верой; прощайте все, вы станете любовью и молитвой!
Сраженное усталостью, это необъяснимое существо впервые оперлось на Вильфрида и Минну, чтобы с их помощью вернуться в свое жилище. Вильфрид и Минна ощутили на себе влияние неведомой силы. Едва они сделали несколько шагов, как появился плачущий Давид: «Она вот-вот умрет, зачем вы затащили ее сюда?»
Вновь обретя силы молодости, старик подхватил Серафиту и полетел к воротам «шведского замка», подобно орлу, уносящему белую овцу в свое гнездо.
VI. Дорога к небу
На следующий день после того, как Серафита, предчувствуя конец, распрощалась с Землей, подобно пленнику, бросающему последний взгляд на камеру, готовясь навсегда покинуть ее, она почувствовала невыносимую боль, полностью парализовавшую ее. Когда Вильфрид и Минна пришли навестить Серафиту, то застали ее лежащей на меховом диване. Душа Серафиты, еще прикрытая плотью, светилась через покровы, изо дня в день обесцвечивая их. Прогресс Духа, истончивший последний барьер, которым он был отделен от бесконечности, назывался болезнью, час жизни был назван Смертью. Давид рыдал, видя, как страдает его хозяйка, и не хотел слушать ее утешения, старик, как дитя, не поддавался увещеваниям. Господин Беккер хотел, чтобы Серафита приняла лекарства, но все было бесполезно.
Однажды она призвала к себе дорогих своих друзей, чтобы сказать им, что это был последний из ее трудных дней. Вильфрид и Минна, объятые страхом, явились, зная, что они вот-вот потеряют ее. Серафита улыбнулась им, как улыбаются уходящие в лучший из миров, склонила голову, как цветок, переполненный нектаром и обнажающий в последний раз свою чашечку, чтобы наполнить воздух своим нестойким ароматом. Настроение друзей передавалось Серафите. Она грустно смотрела на них, думая уже не о себе, и они чувствовали это, хотя и не могли объяснить свою боль, к которой примешивалась благодарность. Вильфрид застыл на месте, молчал, погрузившись в одно из тех глубоких созерцаний, позволяющих нам понять здесь, на земле, высшую безмерность. То ли беспомощность этого могущественного существа, то ли страх потерять его навсегда подтолкнули Минну произнести, склонившись над ним:
— Серафитус, позволь мне последовать за тобой.
— Могу ли я запретить тебе это?
— Но почему ты не любишь меня настолько, чтобы остаться?
— Я не могу ничего полюбить здесь.
— Что же ты любишь?
— Небо.
— Достоин ли ты Неба, коли так презираешь Божьи создания?
— Минна, разве можно любить два существа одновременно? Был бы возлюбленный возлюбленным, если бы не отдавал всецело сердце свое любви? Не должен ли он быть первым, последним, единственным? Та, что переполнена любовью, не покидает ли она мир ради своего возлюбленного? Вся ее семья становится воспоминанием, у нее лишь один родственник, Он! Отныне ее душа принадлежит не ей, а Ему! Если она сохраняет в себе что-то, не принадлежащее Ему, значит она не любит! Нет, не любит! Любить кое-как, разве это любить? Слово возлюбленного наполняет ее радостью и течет в ее венах, как пурпур краснее крови; Его взгляд — наполняющий ее свет, она растворяется в Нем; там, где Он — все прекрасно. Он приносит тепло в душу, Он освещает все; рядом с Ним никогда нет ни холода, ни ночи. Он никогда не исчезает, Он всегда в нас, мы думаем в Нем, о Нем, за Него. Вот Минна, как я люблю Его.
— Кого? — жгучая ревность охватила Минну.
— Бога! — ответил Серафитус, чей голос вспыхнул в душах, как огонь свободы, бегущий от одной горы к другой. — Бога, который никогда не изменяет нам! Бога, который не оставляет нас и неизменно удовлетворяет наши желания, который один способен постоянно наполнять свое создание бесконечной и чистой радостью! Бога, который никогда не устает, не теряет улыбку! Бога всегда нового, украшающего душу своими сокровищами, очищающего, в котором нет ничего горького, который весь гармония и пламя! Бога, который входит и расцветает в нас, исполняет все наши желания, не просто считается с нами, когда мы принадлежим ему, но отдается полностью; Он восхищает нас, расширяет, умножает нас в себе! Итак, Бог! Минна, я люблю тебя потому, что ты можешь принадлежать Ему! Я люблю тебя, потому что если ты придешь к Нему, то будешь моей.
— Ну что ж, веди меня! — решилась Минна, становясь на колени. — Возьми меня за руку, не хочу больше расставаться с тобой.
— Веди[34] нас, Серафита! — воскликнул Вильфрид, стремительно присоединившийся к Минне. — Да, ты пробудила наконец во мне жажду Света и Слова; я жажду любви, которую ты заронила в мое сердце, я сохраню твою душу в своей; вложи в нее свою волю, я сделаю все, что ты мне прикажешь. Если уж я не могу получить тебя, то хочу сохранить все чувства, которые ты возбудишь во мне! Если мой единственный шанс соединиться с тобой целиком зависит от меня, я цепляюсь за него, как огонь цепляется за то, что пожирает. Говори!
— Ангел! — воскликнуло это непонятное существо, окутывая обоих взглядом, схожим с лазоревым покровом. — Ангел, Небо будет твоим достоянием.
За этим восклицанием, громом отозвавшимся в душах Вильфрида и Минны, как первый аккорд небесной музыки, воцарилось общее и продолжительное молчание.
— Если хотите, чтобы ваши ноги привыкли к дороге, ведущей на Небо, имейте в виду, что особенно тяжко приходится вначале, — объяснила эта страждущая душа. — Бог хочет, чтобы Его искали ради Него самого. В этом смысле Он ревнив, вы нужны Ему целиком; но как только вы отдадитесь Ему, никогда больше Он не покинет вас. Я оставлю вам ключи от царства, в котором сверкает Его свет, где вы будете повсюду в лоне Отца, в сердце Супруга, подходы к Нему не преграждают часовые, вы можете войти туда с любой стороны; Его дворец, Его казна, Его скипетр — ничто не охраняется; Он сказал всем: «Возьмите их!» Но нужно захотеть отправиться туда. Точно так же, чтобы путешествовать, следует покинуть свое жилище, отказаться от своих планов, распрощаться со своими друзьями, отцом, матерью, с сестрой и даже с самым маленьким, плаксивым из братьев, и распрощаться навсегда, ибо вы не вернетесь уже, как не возвращались в свои жилища жертвы, отправленные на костер; наконец, вам нужно освободиться от чувств и вещей, которые дороги людям, иначе вы не будете еще готовы к тому, что задумали. Делайте для Бога то, что вы делали бы для своих амбициозных замыслов, то, что вы делаете, отдаваясь одному из искусств, то, что вы делали, когда любили какое-нибудь создание больше, чем Его, или когда постигали какую-нибудь загадку человеческой науки. Не есть ли сам Бог наука, любовь, источник любой поэзии? Не вызывают ли Его сокровища алчность? Его сокровищница неисчерпаема, Его поэзия бесконечна, Его любовь неизменна, Его наука безошибочна, и в ней нет тайн! Так не держитесь ни за что. Он даст вам все. Да, вы найдете в Его сердце блага, несравнимые с теми, что потеряете на земле. То, что я говорю вам, истинно: вы станете сильными и силу свою используете так же, как и то, что принадлежит вашему любовнику или вашей любовнице. Увы! Большинство людей сомневаются, им недостает веры, воли, упорства. Даже если некоторые из них выходят в путь, то тут же начинают оглядываться и... возвращаются. Мало кто умеет сделать выбор между двумя крайностями: остаться или уйти, топь или небо. Все колеблются. Слабость — начало заблуждения, страсть увлекает на плохой путь, порок, ставший привычкой, овладевает человеком, и тот не изменяется к лучшему. Все существа проводят первую жизнь в сфере Инстинктов, они трудятся в ней, чтобы в конце концов убедиться в бесполезности земных богатств, на собирание которых тратится столько сил. Сколько жизней нужно прожить в этом первом мире, прежде чем выйти из него готовым к новым испытаниям в сфере Абстракций, где мысль реализуется через ложные науки, где разум устает в конце концов от человеческого слова; и вот тогда на место исчерпавшей себя Материи приходит Дух. Сколько форм должно испробовать существо, предназначенное небу, чтобы понять наконец цену молчания и одиночества, чьи звездные степи служат папертью для Духовных Миров! Изведав пустоту и бездну, глаза находят истинный путь. С этого момента предстоит прожить другие жизни, чтобы добраться до тропы, где льется свет. Смерть — эстафета на этом пути. Опыт приобретается как бы в обратном порядке: зачастую требуется целая жизнь, чтобы обрести добродетели, противоположные ошибкам, уже совершенным человеком. Итак, сначала жизнь с ее страданиями, разжигающими жажду любви. Затем жизнь с любовью и преданностью созданию, порождающая преданность Создателю, с добродетелями любви, тысячами ее жертв, с ее ангельской надеждой, с ее радостью, сопровождаемой муками, с ее терпением и смирением, со всем тем, что разжигает потребность божественного. Затем приходит жизнь, в которой ищут в тишине следы Слова, становятся смиренными и милосердными. А потом и жизнь, наполненная желанием. И наконец — жизнь, в которой молятся. Именно в ней вечный полдень, именно в ней — цветы, в ней — урожай! И приобретенные качества, и те, что медленно развиваются в нас, — это невидимые нити, связывающие каждое из наших существований друг с другом, и лишь душа помнит о них, ибо материал не может помнить ни об одной из духовных вещей. Лишь мысль обладает традицией предшествования. Это вечное наследство, передаваемое прошлым настоящему и настоящим будущему, — секрет человеческих гениев: у одних дар Форм, другие владеют даром Чисел, третьи — даром Гармоний. Это — прогресс на пути к свету. Да, тот, кто владеет одним из этих даров, касается одной из точек бесконечности. Земля раздробила Слово, несколько образцов которого я привела вам, она превратила его в прах, посеяла в своих произведениях, в своих учениях, в своих стихах. Если какое-нибудь почти неосязаемое зернышко его засветится в каком-нибудь произведении, вы говорите: «Это — великое, это — верное, это — высокое!» Эта, казалось бы, мелочь вибрирует в вас и покушается на предчувствие неба. У одних это болезнь, отделяющая нас от мира, у других — одиночество, приближающее нас к Богу, у третьих — поэзия; наконец, все то, что заставляет вас сосредоточиться на своих мыслях, что поражает и уничтожает, поднимает или унижает вас, — есть отзвук Божественного Мира. Если какое-то существо проложило свою первую прямую борозду, оно сумеет убедить и всех остальных: единственная глубокая мысль, единственный услышанный голос, одно лишь острое страдание, единственный отзвук слова в вашей душе навсегда меняют вас самих. Все кончается Богом, поэтому много шансов найти Его, двигаясь прямым путем. О том, когда придет тот счастливый день, в который вы выйдете в дорогу и начнете свое паломничество, земле ничего не известно, она больше не понимает вас, вы больше не понимаете самих себя, она — ваша. Люди, постигающие эти истины и произносящие несколько изречений из Истинного слова, не знают, где преклонить главу, их преследуют, как диких животных, зачастую они погибают на эшафотах к великой радости собравшихся зевак, но в тот же миг Ангелы уже открывают перед ними врата неба. Следовательно, ваша судьба — это тайна между Богом и вами, как любовь — тайна двух сердец. Вы будете подобны закопанному кладу, по которому проходят люди, жаждущие злата, не зная, что вы рядом. Ваше существование становится в таком случае бесконечно активным; каждый из ваших поступков имеет свой смысл, связанный с Богом, так в любви ваши поступки и мысли переполнены любимым существом; но любовь, с ее радостями, ее удовольствиями, ограниченными чувствами, — несовершенный образ бесконечной любви, соединяющей вас с небесным суженым. Любая земная радость сопровождается страхами, разочарованиями; чтобы любовь не имела неприятного привкуса, смерть должна прервать ее в самом разгаре, тогда вы не увидите ее пепла; здесь же Бог превращает наши несчастья в удовольствия, и тогда радость умножается сама по себе, она растет, и нет у нее границ. Так, в Земной жизни мимолетная любовь неизменно заканчивается скорбью; в Духовной жизни скорбь одного дня заканчивается бесконечными радостями. Ваша душа неизменно радостна. Вы чувствуете Бога рядом с собой, в себе; Он придает всему привкус святости, Он сияет в вашей душе, Он наполняет вас своей нежностью, благодаря Ему вас уже не интересует земное существование ради вас самих, Он делает его привлекательным для вас ради Него самого, позволяя вам осуществлять Его власть. Во славу Его вы создаете творения, вдохновляемые Им: вы утешаете, вы работаете на Него, у вас уже нет ничего своего, как и Он, вы любите другие создания неугасимой любовью; вы хотели бы, чтобы все они шли к Нему, как настоящая любовница желала бы, чтобы все народы мира повиновались ее возлюбленному. Последняя жизнь, в которой собраны все остальные, к которой тянутся все силы и чьи достоинства должны распахнуть святые врата для совершенного существа, — это жизнь в Молитве. Кто же объяснит вам благородство, величие, силу Молитвы? Пусть мой голос звучит в ваших сердцах, пусть он их изменяет. Будьте тем, чем вы стали бы после испытаний! Есть привилегированные создания — Пророки, Ясновидящие, Вестники, Жертвы, — все, кто пострадал за Слово или утверждал, что пострадал; такие души мгновенно пересекают человеческие сферы и неожиданно возносятся к Молитве. Это те, кого сжигает огонь Веры. Будьте одной из таких смелых пар. Бог сносит дерзость, даже любит, когда к Нему прорываются силой[35], Он никогда не отбрасывает того, кто сумеет дойти до Него. Знайте это! Желание — поток воли — настолько сильно у человека, что достаточно лишь одного всплеска энергии, чтобы всего добиться, зачастую достаточно одного крика под воздействием Веры. Так будьте одним из этих существ, полных сил, воли и любви! Будьте сильнее земли. Пусть вас охватят Божьи жажда и голод! Бегите к Нему, как жаждущий олень бежит к источнику; Желание даст вам крылья; слезы, эти цветы Покаяния, будут небесной купелью, из которой выйдет ваша очищенная душа. Бросьтесь из этих волн в Молитву. Молчание и размышление — лучшее средство, чтобы идти по этому пути. Бог всегда открывается одинокому и сосредоточенному на духовном человеку. Так свершится необходимое разделение между Материей, долго окружавшей вас своими потемками, и Духом, рождающимся в вас и просвещающим вас, и от этого душа ваша воссияет. Свет вольется в ваше разбитое сердце и заполнит его. То, что вы ощутите в себе, это уже будут не доказательства, но глубочайшие убеждения. Поэт выражает, Мудрец размышляет, Праведник действует; но тот, кто располагается на берегу Божественных Миров, молится; и его молитва есть одновременно слово, мысль, действие!
Да, его молитва заключает в себе все, она содержит все, она довершает вашу природу, выявляя дух и движение. Белая и светящаяся дочь всех человеческих добродетелей, кивот завета между небом и землей, нежная подруга, воплощающая в себе льва и голубку, — молитва даст вам ключ от неба. Смелая и чистая, как невинность, сильная, как все, что едино и просто, эта непобедимая Прекрасная Королева опирается на материальный мир, она овладела им; подобная солнцу, она стягивает его световым обручем. Вселенная принадлежит тому, кто желает, умеет и может молиться; но нужно хотеть, уметь и мочь, короче, обладать силой, мудростью и верой. Таким образом, молитва, исходящая из стольких испытаний, является исполнением всех истин, всех сил и чувств. Плод старательного, последовательного, непрерывного развития всех естественных свойств, одухотворенного божественным дыханием Слова, молитва оказывает магическое воздействие, она — последний культ: не материальный, создающий образы, не духовный, оперирующий формулами, но культ божественного мира. Мы больше не читаем молитвы, молитва вспыхивает в нас, она — способность, которая реализуется сама по себе; она приобрела характер деятельности, ставящий ее выше форм; она связывает душу с Богом, с которым вы соединяетесь, как корни деревьев соединяются с землей; ваше расположение духа зависит от принципов вещей, и вы живете жизнью миров. Молитва дает внешнее убеждение, соединяя все ваши способности с элементарными субстанциями, она позволяет вам понять Материальный Мир; она же дает внутреннее убеждение, развивая вашу суть и совмещая ее с субстанцией Духовных Миров. Чтобы научиться так молиться, добейтесь полного освобождения от плоти, приобретите чистоту алмаза, прошедшего через огненное горнило, ведь такое полное слияние достигается лишь абсолютным покоем, умиротворением всех бурь. Да, молитва — подлинное желание души, полностью отделенной от тела, — требует приложения всех сил ради постоянного и беззаветного союза Видимого и Невидимого. Ваша способность молиться безустанно, любовно, упорно, убежденно, разумно делает вашу одухотворенность всемогущей. Подобно неумолимому ветру или грому, она преодолевает все и участвует во власти Бога. Ваш разум гибок, в мгновение ока вы оказываетесь в любых регионах, подобно самому Слову, вы переноситесь с одного края земли на другой. Существует определенная гармония, и вы — ее часть. Существует свет, и вы его видите! Существует мелодия, и она звучит в вас. В таком состоянии вы почувствуете, как развивается ваш разум, как он растет, распространяет свое видение на фантастические расстояния: в самом деле, для рассудка не существует ни времени, ни места. Пространства и течение времени — пропорции, созданные для материи, дух и материя не имеют ничего общего. Хотя молитвы совершаются в покое и тишине, без суеты, без внешнего движения, тем не менее в Молитве всё — действие, но это действие живое, лишенное всякого содержания, которое сводится к существованию, подобно движению Миров — силе невидимой и чистой. Она проливается повсюду, как свет, и дает жизнь душам, попадающим под ее лучи, как Природа — под лучи солнца. Она возрождает повсюду добродетель, очищает и освящает все поступки, заполняет собой пустоту одиночества, дает предвкушение вечного блаженства. Как только вы познали наслаждение божественного опьянения, вызванного внутренней работой, слова становятся излишними! Как только вы возьмете в руки систр[36], чтобы славить Господа, вы уже не оставите его. Отсюда одиночество, в котором живут Ангельские души, и их равнодушие к тому, что составляет человеческие удовольствия. Повторяю вам, эти души отделены от простых смертных; даже если они понимают их язык, то не понимают больше их мысли, они удивляются их движениям, тому, что называют политикой, материальными законами и обществами; для них больше нет загадок, существуют лишь истины. Для тех, кто достиг точки, откуда видны Святые врата, и, не бросив ни взгляда назад, не высказав ни единого сожаления, созерцает миры, постигая их судьбы, хранит молчание, выжидает и принимает свой последний бой, самое трудное дело — последнее, высшая добродетель — Смирение: быть в изгнании и не жаловаться, потерять вкус к земным вещам и улыбаться, принадлежать Богу и оставаться среди людей! Вы отчетливо слышите обращенный к вам голос: «Иди! Иди!» Часто в ваших видениях Ангелы спускаются с неба и обволакивают вас своими песнопениями! Нельзя рыдать и роптать, видя, как они возвращаются в улей. Жалобы означали бы падение с неба. Смирение — плод, который зреет у врат небесных. Как могучи и прекрасны улыбка и чистое лицо смиренного создания! Как светел луч, украшающий его чело! Живущий в его свете становится лучше! Его проникающий взгляд смягчает душу. Более красноречивое в своем молчании, чем пророк в своем слове, смиренное создание побеждает уже одним своим присутствием. Оно начеку, как верный пес, поджидающий хозяина. Сильнее любви, живее надежды, больше веры, оно подобно прелестной девушке, лежащей с завоеванной пальмовой ветвью на земле. Когда же это создание исчезает, оставляя на земле след своих белых и чистых ног, прибегает толпа людей, кричащих: «Смотрите!» Бог удерживает его там, как статую, у ног которой ползают Формы и Виды животного мира в поисках своего пути. Время от времени оно стряхивает свет, излучаемый его волосами, и это видно; оно говорит, и это слышно, и все восклицают: «Чудо!» Часто смиренное создание побеждает во имя Бога; но испуганные люди отрекаются от него и осуждают на смерть; оно же бросает свой меч и улыбается костру после того, как спасло народы. Сколько прощенных Ангелов попали на небо как мученики! Синай, Голгофа не разбросаны то здесь, то там; Ангел же распят повсюду, во всех сферах. Со всех сторон до Бога доходят вздохи. Земля наша — лишь один колос из урожая, человечество — одна из культур в необъятном поле, украшенном небесными цветами. Наконец, повсюду Бог похож на самого себя, и повсюду, молясь, легко приблизиться к Нему.
После этих слов, сорвавшихся с губ новой Агари[37] в пустыне и пронзивших душу, подобно стрелам, пущенным пламенным Глаголом Исайи, это существо неожиданно замолкло, собирая остатки сил. Вильфрид и Минна не осмелились произнести ни слова. Неожиданно Он[38] выпрямился, чтобы умереть.
— Душа всех вещей, Бог мой, я люблю Тебя ради Тебя самого! Только Ты, Судия и Отец, способен оценить страсть, равную лишь Твоей бесконечной доброте! Дай мне Твою сущность и Твои способности, чтобы лучше служить Тебе! Возьми меня, чтобы мне не быть больше самим собой. Если же я недостаточно чист, погрузи меня снова в горнило! Если же я изваян в виде косы, сотвори из меня Соху-кормилицу или Победоносный Меч! Назначь мне тяжкое испытание, чтобы я смог провозгласить Твое слово. Даже если отбросишь меня, я и тогда буду благословлять Твою справедливость. Если безмерная любовь позволяет в одно мгновение получить то, чего нельзя добиться тяжелым, упорным трудом, унеси меня в своей огненной колеснице! Дашь ли Ты мне победу или новые страдания, будь благословен! Но ведь и страдать за Тебя — тоже победа! Возьми, схвати, вырви, унеси меня! Если хочешь, оттолкни меня! Ты — любовь, Ты не можешь причинить боль.
— Ах! — вскрикнул он после паузы. — Оковы рвутся.
Чистые души, святая паства, выходите из бездны, летите по поверхности световых волн! Час настал, придите, соберитесь! Споем у врат Святилища наши гимны, они развеют последние тучи. Соединим наши голоса, чтобы приветствовать зарю Вечного Дня. Вот Заря Истинного Света! Почему не могу я взять с собой моих друзей? Прощай, бедная земля, прощай!
VII. Вознесение
Эти последние песнопения не были выражены ни словом, ни взглядом, ни жестом, ни одним из тех знаков, которыми люди пользуются, чтобы обмениваться мыслями, все было так, как будто душа разговаривала сама с собой; ибо в то мгновение, когда Серафита раскрылась, показав свою истинную суть, ее мысли уже не были рабами человеческих слов. Сила ее последней молитвы разбила оковы. Ее душа, подобно белой голубке, еще на какое-то мгновение задержалась в этом теле, усталые ткани которого должны были вот-вот исчезнуть.
Стремление Души к Небу настолько захватило Вильфрида и Минну, что они вовсе не заметили Смерти, завороженные сверкающими искорками Жизни.
В тот миг, когда Он вытянулся в сторону востока, они упали на колени, охваченные тем же исступлением.
Боязнь Всевышнего, воссоздавшего человека и отмывающего его от грязи, взорвала их сердца.
Их взоры закрылись для всего Земного и раскрылись сиянию Небес.
Охваченные божественным трепетом, подобно некоторым из Ясновидящих — Пророков, как называют их люди, — они застыли на месте в луче света, в котором блистала слава Духа.
Телесная оболочка, до сих пор скрывавшая Его от них, незаметно улетучивалась и открывала перед ними божественную субстанцию. Так и остались Вильфрид и Минна в сумерках Рождающейся Зари, чьи слабые проблески готовили их к тому, чтобы увидеть Истинный Свет, услышать Живое Слово и при этом сохранить жизнь.
В таком состоянии оба они начали воспринимать несовместимые различия, отделяющие Земные вещи от Небесных.
Жизнь, на берегу которой они стояли, прижавшись друг к другу, дрожащие и озаренные, как двое детей, прячущихся от пожара под деревом, — эта жизнь уже не господствовала над ними.
Мысли, в коих они нуждались, чтобы уяснить себе увиденное, служили по отношению к случившемуся тем, чем видимые чувства человека могут быть по отношению к его душе — материальной оболочкой божественной сути.
Дух парил над ними, Он распространял аромат без запаха, мелодию без звуков; там, где они находились, не было ни поверхности, ни углов, ни пространства.
Они не осмеливались более расспрашивать, разглядывать Его, держались в Его тени, так спасаются от горячих лучей тропического солнца, не решаясь поднять глаза из страха потерять зрение.
Они сознавали, что находятся рядом с Ним, но не могли понять, каким образом оказались, как будто во сне, на грани Видимого и Невидимого, почему не видели Видимого и видели Невидимое.
Они говорили себе: «Если Он коснется нас, мы сразу умрем!» Но Дух оставался в бесконечности, а они не знали, что ни время, ни пространство в бесконечности не существуют: отделенные от Него безднами, они оставались вроде бы рядом с Ним.
Поскольку их слабые души не моги полностью воспринимать свойства этой Жизни, то и представление о ней имели самое смутное.
Другими словами, если бы прозвучало Живое Слово, если бы его отдаленные звуки достигли их ушей, а смысл вошел в души, подобно тому как жизнь соединяется с телами, одного лишь звука этого Голоса было бы достаточно, чтобы поглотить их, как волна огня захватывает соломинку.
Таким образом, они узрели лишь то, что позволила им увидеть их природа, поддержанная силой Духа, и услышали лишь то, что могли услышать.
Несмотря на это, они вздрогнули, когда раздался Голос страждущей души, гимн Духа, ожидающего жизнь и громко призывающего ее.
Этот крик заставил их похолодеть от ужаса.
Дух стучал в Святые Врата.
— Что желаешь? — отозвался Хор, и вопрос его прогремел по мирам.
— Прийти к Богу.
— Ты победил?
— Я победил плоть воздержанием, ложное слово — молчанием, ложное знание — смирением, высокомерие — милосердием, землю — любовью, оплатил свой долг страданием, очистился, сгорев в вере, я вымолил себе жизнь, я жду, обожая, покорно.
Никакого ответа.
— Да будет благословен Бог, — смирился Дух, считая, что будет отринут.
Слезы Его пали небесной росой на двух коленопреклоненных свидетелей, дрожавших перед Божьим судом.
Вдруг прозвучали трубы Победы, которую Ангел одержал в этом последнем испытании, отзвуки их достигли космоса, как звук от эха, заполнили его и заставили вздрогнуть вселенную; Вильфрид и Минна почувствовали вдруг, как она уменьшилась под их ногами. Пугающее таинство того, что должно было свершиться, привело их в трепет.
И впрямь, свершилось великое движение, как если бы вечные легионы двинулись в поход, расположившись спиралью. Миры вращались, похожие на облака, уносимые яростным ветром. Все произошло мгновенно.
Неожиданно покрова прорвались, Вильфрид и Минна увидели в небе звезду, несравнимо более яркую, чем самые яркие звезды материального мира. Эта звезда отделилась от остальных, потом упала с громовым раскатом, непрерывно сверкая при этом как молния: пролетая, она заставила померкнуть все, что до сих пор они принимали за Свет.
Это Вестник спешил принести добрую весть, на шлеме его вместо султана билось пламя Жизни.
За собой он оставлял борозды, тотчас заполнявшиеся потоком особых лучей[39].
Вестник нес пальмовую ветвь и меч, ветвью он коснулся Духа. Дух преобразился, Его белые крылья бесшумно распахнулись.
Стремительный Свет, превращавший Духа в Серафима, поверхность Его славных небесных доспехов сияли так, что поразили двух Ясновидящих.
Подобно трем апостолам, которым явился Иисус, Вильфрид и Минна ощутили вес своих тел, сопротивлявшийся полной и безоблачной интуиции Слова и Истинной Жизни.
Они убедились в наготе своих душ и смогли осознать, как мало в них света по сравнению с ореолом Серафима, в нем они казались позорным пятном.
Их охватило страстное желание снова нырнуть в топь вселенной, выдержать там испытания и получить право произнести однажды у Врат Святых слова, сказанные лучезарным Серафимом.
Ангел преклонил колена перед Святилищем, которое Он мог наконец созерцать прямо перед собой, и сказал, указывая на Вильфрида и Минну: «Позвольте им увидеть свое будущее, тогда они возлюбят Господа и провозгласят Его слово».
При этой мольбе спали покрова. То ли неведомая сила, давившая на двух Ясновидящих, на какое-то время уничтожила их телесные формы, то ли высвободила их дух, но они ощутили в себе нечто вроде разделения между чистым и нечистым.
Стенанья Серафима поднялись вокруг Ясновидящих струями пара, скрывшими от них низшие миры, охватили и подхватили их, заставили забыть земные понятия, сообщили им способность понимать суть божественного.
Появился Истинный Свет, высветил создания, показавшиеся им безжизненными, но в этот же миг они увидели источник, из которого Земные, Духовные и Божественные миры черпали энергию движения.
Каждый мир имел свой центр, к нему тянулись все точки его сферы. В свою очередь сами эти миры были точками, которые тоже тянулись к центру им подобных. Каждый вид имел свой центр среди грандиозных небесных регионов, сообщавшихся с неиссякаемым и пламенеющим мотором всего сущего.
От самого большого до самого малого из миров и от самого малого из миров до самой малой толики составлявших его существ всё здесь было индивидуальным и тем не менее единым.
Что же замыслило это Существо, постоянное по своей сути и своим способностям, Существо, передавшее Вильфрида и Минну, не теряя, а продолжая проявлять их вне Себя, не отделяя при этом от Себя, ставившее вне Себя все подобные создания, неизменные по их сути и подвижные по формам? Оба допущенные на этот праздник могли видеть лишь порядок и расположение существ, восхищаться их непосредственной целью. Лишь Ангелам дано покидать свои сферы, они знают, как это делать и зачем.
Но то, что оба избранника могли созерцать и о чем они представили свое свидетельство, навсегда просветившее их души, было доказательством действия Миров и Существ, осознанием усилий, прилагаемых ими для достижения результата.
Они услышали, как различные части Бесконечности творили живую мелодию; и каждый раз, когда гармония ощущалась бесконечным дыханием, Миры, вовлеченные этим единым движением, склонялись к великому Существу, которое из своего недоступного центра все удаляло или вновь возвращало к себе.
Это бесконечное противопоставление голоса и тишины служило, казалось, ритмом для святого песнопения, гремевшего из века в век.
Именно сейчас Вильфрид и Минна поняли некоторые из таинственных слов Того, кто являлся каждому из них на Земле в соответствующем облике: ей в виде Серафитуса, ему — Серафиты; они убедились, что здесь все было однородно.
Свет порождал мелодию, мелодия — свет, краски были светом и мелодией, движение — Числом, наделенным даром Слова; наконец, все здесь было одновременно звучным, просвечивающим, подвижным; поэтому пространство, в котором все взаимопроникало, не имело препятствий, и Ангелы могли добраться до глубин бесконечности.
Вильфрид и Минна убедились в наивности человеческих наук, о чем Он когда-то говорил им.
Это пространство без линии горизонта казалось им пропастью, в которую их тянуло безудержное желание, даже оно не могло помочь им, беспомощным, освободиться от своих жалких тел.
Серафим слегка сложил крылья, чтобы взлететь, Он даже не посмотрел в их сторону: ничто уже не связывало Его с Землей.
И Он устремился ввысь: оказавшись в спасительной тени его широченных сверкающих крыльев, оба Ясновидящих смогли поднять глаза и увидеть, как Он уносится в ореоле славы, сопровождаемый радостным архангелом.
Подобно лучезарному солнцу, выходящему из глубины вод, Он взлетел, превосходя своим величием звезды, к своему прекраснейшему будущему; в отличие от низших созданий, Он не был скован более круговоротом жизни; Он следовал линией бесконечности и стремился прямо к единому центру, чтобы там погрузиться в вечную жизнь, обрести, соответственно своим способностям и своей сущности, дар блаженства в любви и понимания мудрости.
Зрелище, неожиданно открывшееся двум Ясновидящим, подавило их своей грандиозностью. Они почувствовали себя песчинками, чья ничтожность могла сравниться лишь с самой малой частью, которую бесконечность делимости позволяет представить человеку, открывшему для себя бесконечность Чисел. Только Бог может себе представить эту бесконечность, как представляет самого себя.
Какое смирение и какое величие выражали Любовь и Сила, представавшие по первому желанию Серафима в виде двух колец, символизируя единение необъятных низших и высших вселенных!
Вильфрид и Минна постигли невидимые связи, соединяющие материальные миры с духовными. Вспомнив замечательные примеры величайших гениев человечества, они обнаружили в небесных песнопениях принцип мелодий, порождавших цветовые ощущения, запах, мысли и напоминавших бесчисленные приметы всех созданий, подобно тому как песнопения земли воскрешают малейшие воспоминания о любви.
Достигнув, благодаря исключительному напряжению своих сил, некой безымянной точки, они сумели на какое-то мгновение бросить взгляд на Божественный Мир. И был праздник.
Мириады Ангелов прилетели стройными рядами, все одинаковые, все разные, простые, как полевая роза, громадные, как миры.
Ни их прилет, ни их исчезновение не были замечены Вильфридом и Минной: Ангелы неожиданно обнаружили бесконечность своего присутствия — так сверкают звезды в неразличимом эфире.
Их диадемы вспыхнули рядом в пространствах, как огни небесные в момент, когда день приходит в наши горы.
Их волосы излучали свет, вызывая волнение, схожее с волнами фосфоресцирующего моря.
Оба Ясновидящих заметили темного Серафима посреди легионов бессмертных, чьи крылья были похожи на необъятный шатер лесов, слегка раскачиваемый бризом.
И тотчас, как если бы все стрелы из колчана разом устремились вдаль, Духи одним дуновением разогнали остатки старой формы Серафима; поднимаясь, Он становился все чище и вскоре показался им тонким рисунком; в момент преображения Серафима они увидели огненные полосы без тени.
А Серафим все поднимался, получая — от кольца к кольцу — новый дар; потом Его знак — избранника Божьего — передавался высшей сфере, в которую Он возносился, все более очищаясь.
Не замолкал ни один из голосов, гимн звучал на все лады.
«Привет тому, кто возносится живым! Приди, цветок Миров! Алмаз, вышедший из пламени страданий! Жемчужина без пятнышка, желание без плоти, новая связь между небом и землей, будь светом! Победоносный дух, Королева мира, лети к своей короне! Триумфатор земли, прими свою диадему! Будь с нами!»
Добродетели Ангела вновь проявлялись во всей красе.
Его первое желание неба вновь обнаруживалось, прелестное, как наивное младенчество.
Подобно бесчисленным созвездиям, Ангел явился в блеске своих движений.
Его символы веры сверкали, как Небесный гиацинт цвета звездного огня.
Милосердие бросило Ему свои восточные жемчуга — прекрасные пролитые слезы!
Божественная любовь окружила Его своими розами, набожное Смирение своей белизной очистило Серафима от всего земного.
На глазах Вильфрида и Минны Он быстро превратился в огненную точку, она постоянно вспыхивала, ее движение растворялось в мелодичных радостных возгласах, приветствующих Его прибытие на небо.
Небесные мелодии заставили рыдать обоих изгнанников.
Неожиданно гробовая тишина темным покровом скрыла все — от первой до последней сферы, погрузила Вильфрида и Минну в томительное ожидание.
В этот момент Серафим скрылся в глубине Святилища, где получил дар бессмертия.
Волна глубокого обожания переполнила сердца двух Ясновидящих восторгом, смешанным с ужасом.
Они почувствовали, что все пало ниц в Божественных Сферах, в Сферах Духовных и в Мирах Теней.
Ангелы преклонили колена, чтобы славить Его, Духи преклонили колена, чтобы выразить свое нетерпение; и там, в безднах, все преклонили колена, дрожа от страха.
Громкий крик радости прорвался, подобно ожившему источнику, снова выкинувшему тысячи своих разноцветных струй, в которых играет солнце, рассыпая алмазы и жемчуга светящихся капель. В этот миг снова появился сверкающий Серафим и воскликнул:
— Превечный Бог! Всевышний! Всевышний!
Вселенные услышали и признали Серафима, Он пронзил их, как пронзает Бог, и овладел бесконечностью.
Семь божественных миров взволновались, услышав Его, и ответили Ему.
В этот момент все пришло в движение, как будто в вечность восходили ослепительно яркие и очищенные звезды.
А может быть, Серафиму уже была поручена первая миссия — призвать к Богу создания, проникшиеся словом?
Но тут зазвучала торжественная Аллилуйя; Вильфрид и Минна восприняли ее как последние звуки гармоничной музыки.
И вот уже небесные лучи начали исчезать, как отблески солнца, скрывающегося в свои пурпурные и золотые пенаты.
Нечистый и Смерть снова завладели своей добычей.
Вновь ощутив притяжение плоти, от которого их сознание на какое-то время освободил божественный сон, оба смертных почувствовали себя как на заре после ночи, заполненной фантастическими видениями, воспоминание о которых поет в душе, хотя телу не дано осознать их, а человеческому языку — выразить.
Они летели по преддверию рая, погруженному в беспросветную ночную темь — сферу, по которой движется солнце видимых миров.
— Спустимся вниз, — сказал Вильфрид Минне.
— Поступим так, как Он сказал, — ответила она. — Узрев, как миры движутся к Богу, мы узнали праведный путь. Наши звездные диадемы там, наверху.
Они полетели по безднам, вернулись в пыль низших миров, неожиданно увидели Землю в виде подземелья, озаренного светом, принесенным ими в своих душах и окружавшим их облаком, в котором гармонии неба неясно повторялись и рассыпались. Именно это зрелище поразило некогда внутренний взор Пророков. Священнослужители разных, но считавших только себя истинными конфессий, Цари, все коронованные силой и Террором, Воители и Великие, делящие между собой Народы, Ученые и Богатые, стоящие над ропщущей и страждущей толпой, которую они бесцеремонно попирали ногами, — все в сопровождении своих слуг и жен, все разодетые в золото, серебро, небесную лазурь, все в жемчугах, драгоценных камнях, вырванных у недр Земли, украденных со дна морей; Человечество потратило на них немало времени и усилий, обливаясь потом и богохульствуя. Но эти богатства и красоты, созданные на крови, казались двум Изгнанникам старыми лохмотьями.
— Что собрало вас здесь, в этих неподвижных рядах? — крикнул им Вильфрид.
Они не ответили. Тогда Вильфрид благословил их и повторил вопрос. Единым движением они приоткрыли одежды и показали свои высохшие тела, изъеденные червями, разрушенные развратом, превращенные в прах, пораженные ужасными болезнями.
— Вы ведете народы на смерть, — сказал им Вильфрид. — Вы изуродовали землю, извратили слово, сделали продажным суд. Пожрав траву пастбищ, вы убиваете теперь овец. Вы думаете, что раны оправдывают вас? Я предупрежу тех из моих братьев, кто способен еще услышать Голос, чтобы они смогли утолить жажду из скрытых вами источников.
— Сохраним силы для молитвы, — сказала ему Минна. — Тебе же не поручена миссия Пророка, Отмстителя или Вестника. Мы лишь на окраине первой сферы, пытаемся пересечь пространства на крыльях молитвы.
— Ты будешь моей любовью!
— Ты будешь моей силой!
— Нам дано было узреть Высокие Тайны, на земле только для нас с тобой будут понятны радость и печаль; помолимся, мы ведь знаем путь, идем же.
— Дай мне руку, — сказала Девушка, — если мы всегда будем идти вместе, дорога покажется мне не такой тяжелой и длинной.
— Только с Тобой, — ответил Мужчина, — я смогу преодолеть без единого стона великое одиночество.
— И мы отправимся вместе на небо, — сказала она.
Появились облака и образовали темный свод. Неожиданно влюбленные оказались на коленях перед телом, которое старый Давид защищал от постороннего любопытства и хотел сам предать земле.
А вокруг пылало во всем своем великолепии первое лето девятнадцатого века. Влюбленным показалось, что они слышат голос в лучах солнца. Они вдохнули небесный аромат новых цветов и, держась за руки, сказали себе: «Огромное море, сияющее там, внизу, — это образ того, что мы видели наверху».
— Куда вы направляетесь? — спросил господин Беккер.
— К Богу, — ответили они, — пойдете с нами, святой отец?
Женева и Париж, декабрь 1833 — ноябрь 1835 года.
Примечания
«Серафита» создавалась в 1833—1835 годах, практически одновременно с произведениями, составившими «Философские этюды». И в те же годы Бальзак уже писал «Отца Горио» — одну из вершин следующего, реалистического, цикла «Человеческой комедии». Вместе с «Луи Ламбером», с которым она составила бальзаковскую «Мистическую книгу», «Серафита» послужила своего рода философско-религиозным предисловием к «Человеческой комедии».
Своим рождением книга в значительной мере обязана ревностной, по крайней мере внешне, католичке Эвелине Ганской, будущей жене писателя. Переписка Бальзака с Ганской сохранила немало страниц, связанных с самым таинственным из творений Бальзака. В ноябре 1833 года он пишет Ганской: «В воскресенье я был у скульптора Бра. У него я обнаружил потрясающий шедевр... Марию с ребенком Христом, которому поклоняются два ангела. Там же я задумал прекраснейшую книгу — небольшой томик, для которого «Луи Ламбер» служил бы предисловием; возможно, я назову это сочинение «Серафита». В С. были бы заключены две личности сразу... что-то вроде ангела на пороге последнего превращения, разбивающего свою оболочку, чтобы вознестись на небеса...»
«Серафита», — позже признается Бальзак Ганской, — прибавляет мне немало седых волос, она требует такого вдохновения, которое дается лишь ценой жизни; но книга, принадлежащая Вам, должна быть лучшей из моих книг». 30 марта Бальзак сообщает Ганской: «Вот уже почти двадцать дней я постоянно работаю по двадцать часов над «С». Миру эта каторжная работа не видна, впрочем, он видит и должен видеть лишь результат». Только в декабре 1835 года, сменив издателя и объединив «Серафиту» с «Изгнанниками» и «Луи Ламбером», Бальзак публикует свою «Мистическую книгу».
Первые наброски «Серафиты» сделаны Бальзаком уже в восемнадцать-двадцать лет: это три десятка страниц того, что называют «Фалтюрн-Серафита». Годы спустя писатель пошлет их Эвелине Ганской вместе с рукописью «Серафиты».
Многие детали, связи, отношения в «Серафите» заимствованы из сочинений Сведенборга. Зачастую они несут определенную смысловую нагрузку. Так, особо подчеркиваются неограниченные духовные и физические возможности ангелов, что объясняет многое в поведении Серафиты. Значительное место у Сведенборга и в «Серафите» уделено гармонии между естественным и духовным мирами.
(обратно)1
Здесь и далее Серафитус-Серафита воспринимается другими персонажами в зависимости от их пола: то мужчиной, то женщиной. Серафитус — для Минны, Серафита — для мужских персонажей. Иногда, как в данном случае, автор сам ошибается (в тексте — спутница, дорогая). — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Внимательный читатель заметит неточность у автора: Серафитус-Серафита спит в верхней одежде (см. начало абзаца).
(обратно)3
В тексте: Doucha greka (!). Комментаторы видят в этой маленькой хитрости проявление нежных чувств Бальзака к Элеоноре Ганской.
(обратно)4
Териакисы — отшельники-созерцатели в Индии.
(обратно)5
Жан Виер (1515—1588) — знаменитый врач из Люксембурга, после длительных путешествий по Востоку попытался в этой книге подорвать веру в колдовство.
(обратно)6
Жорж Бюффон (1707—1788) — французский естествоиспытатель, автор «Естественной истории»; отстаивал идею изменяемости видов под влиянием среды.
(обратно)7
Франц Месмер (1734—1815) — врач, претендовавший на открытие «животного магнетизма», якобы позволяющего изменять состояние организма и служить универсальным средством от всех болезней.
(обратно)8
Королева Луиза-Ульрика — супруга шведского короля Адольфа Фредерика, дочь прусского короля Фридриха Вильгельма I и сестра Фридриха II.
(обратно)9
Урим и туммим — свет и совершенство (Исх. 28:30), посредством которых первосвященник в очень важных случаях вопрошал Бога (Чис. 27:31; Втор. 33:8).
(обратно)10
«Новый Иерусалим» — концепция «Новой Церкви» Сведенборга с ее собственными откровениями, передающими триумф света Христова над тьмой.
(обратно)11
Енакимы — потомки гиганта Енака. Предполагают, что Голиаф был одним из Енакимов.
(обратно)12
Армагеддон — место битвы нечистых духов с Богом (Откр., 16:16).
(обратно)13
Место Гефсимания на горе Елеонской, где Иисус молился перед своим арестом (Мф., 26:30—39).
(обратно)14
У автора ошибочная ссылка на Исайю (5:6).
(обратно)15
Якоб Бёме (1575—1624) по прозвищу «тевтонский философ» — немецкий философ-пантеист, автор ряда мистических произведений («О трех принципах божественной сути», «О трех формах жизни Человека», «Аврора, или Утренняя звезда в восхождении» и др.), в которых пытался показать генезис совершенного, божественного существа, формулировал принципы каббалистики, высказывал догадки о противоречивой природе мира.
(обратно)16
Хотя автор и в дальнейшем избегает слов «девочка», «дочь», использование имени «Серафита» зачастую ставит читателя в тупик, особенно когда речь идет о ее (его) восприятии Минной и окружающими женщинами.
(обратно)17
В конце XVI века ребенок из одного немецкого города объявил, что обнаружил у себя во рту золотой зуб. Появилось множество «научных» работ. Все кончилось конфузом. Очень напоминает известную современную киноисторию о 33-м зубе.
(обратно)18
Вертумн — в римской мифологии бог всяких перемен (во временах года, течении рек, настроениях людей, стадиях созревания плодов).
(обратно)19
В оригинале ошибочно «им».
(обратно)20
Долина воскрешения мертвых (Иоил., 3:2,12).
(обратно)21
Енак — сын основателя рода Арбы. В его честь названы Енакимы — остатки доисторического населения Палестины, воспринятые израильтянами как великаны. Посланцы Моисея сообщали: «Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их» (Чис, 13:14).
(обратно)22
Данте Алигьери.
(обратно)23
В Библии (Лк., 24:13) речь идет о двух путниках, к которым присоединился Иисус.
(обратно)24
Родословные языческих богов.
(обратно)25
По всей видимости, речь идет об Исааке Ньютоне (1643—1727), сформулировавшем основные законы классической механики, закон всемирного тяготения, основы небесной механики. Пространство и время Ньютон считал абсолютными.
(обратно)26
Легенда о Фритьофе и красавице Ингеборге — одна из самых известных скандинавских саг.
(обратно)27
См. Быт., 28:12.
(обратно)28
См. Дан., 4:1—34.
(обратно)29
См. Быт., 28:12.
(обратно)30
Нервюра (франц. nervure, от лат. nervus — «жила») — арка из тесаных, клинчатых камней, укрепляющая ребра свода.
(обратно)31
Аурангзеб (1618—1707) — правитель Могольской империи в Индии.
(обратно)32
Внимательный читатель заметит, что по воле автора Вильфрид и Серафита переходят на «ты».
(обратно)33
В оригинале: «К чему этот допрос?»
(обратно)34
В оригинале: «ведите».
(обратно)35
См. в Библии (Лк., 16:16): «...и всякий усилием входит в него».
(обратно)36
Античный ударный музыкальный инструмент (появился в Египте).
(обратно)37
См. Быт., 16, 21; Послание к Галатам, 4:24—30.
(обратно)38
Здесь и далее Серафита-Серафитус предстает как Дух и Ангел, поэтому «Он».
(обратно)39
У автора дословно: «которые он пересекал». Непонятно, каким образом можно пересечь то, что осталось позади.
(обратно)


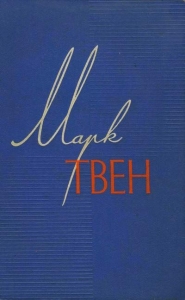
Комментарии к книге «Серафита», Оноре де Бальзак
Всего 0 комментариев