Марсель Пруст ГЕРМАНТ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Переезд во флигель особняка Германтов. Ложа бенуар принцессы Германтской. Жизнь в Донсьереу Сен-Лу. Телефонный разговор с бабушкой. Встреча с любовницей Сен-Лу. Прием у маркизы де Вильпаризи. Болезнь бабушки.
Утреннее щебетание птиц казалось несносным Франсуазе. Каждое слово «прислуги» заставляло ее вздрагивать; незнакомые шаги ее беспокоили, она осведомлялась о них; дело в том, что мы переехали. Конечно, и на шестом этаже нашей прежней квартиры слуги двигались не меньше; но она их знала; их ходьба взад и вперед сделалась для нее чем-то дружеским. Теперь же и к тишине она прислушивалась с болезненным напряжением. И так как наш новый квартал оказался настолько же тихим, насколько бульвар, на котором мы жили прежде, был шумным, то при звуках песенки, напеваемой каким-нибудь прохожим (подобно оркестровому мотиву различимой издали, если она негромкая), на глазах у Франсуазы-изгнанницы навертывались слезы. Вот почему, если я насмехался над нашей старой служанкой, глубоко опечаленной тем, что пришлось покинуть дом, где мы пользовались «таким всеобщим уважением» и где она с плачем, согласно ритуалу Комбре, укладывала свои вещи, объявляя, что нет на свете домов, которые были бы лучше нашего, — зато, столь же болезненно приспособляясь к новым вещам, сколь легко я расставался со старыми, я сблизился с Франсуазой, когда увидел, что водворение в доме, где она не получила от еще не знавшего нас консьержа знаков почтения, необходимых для ее хорошего душевного самочувствия, повергло ее в состояние, близкое к обмороку. Она одна могла меня понять; уж конечно не молодой ливрейный лакей был бы на это способен; для него, как нельзя более чуждого Комбре, переезд, поселение в другом квартале было чем-то вроде вакаций, когда новизна вещей дает тот же отдых, что и путешествие; ему казалось, что он в деревне; и насморк принес ему, подобно простуде от сквозняка в вагоне с плохо закрывающимся окном, восхитительное впечатление, будто он побывал на лоне природы; при каждом чихании он радовался, что нашел такое шикарное место, ибо давнишним его желанием были господа, которые много путешествуют. Вот почему, не думая о нем, я пошел прямо к Франсуазе; но если я посмеялся над ее слезами во время отъезда, оставившего меня равнодушным, то она проявила ледяное отношение к моей печали, потому что ее разделяла. Вместе с мнимой «чувствительностью» нервных людей увеличивается и их эгоизм; они неспособны выносить в других выставляемые на показ немощи, которым в себе самих уделяют все больше и больше внимания. Франсуаза, не подавлявшая и самого легкого своего недомогания, отворачивала голову, если страдал я, чтобы не дать мне удовольствия видеть, как меня жалеют и даже замечают мое страдание. Она вела себя точно так же и при моих попытках заговорить с ней о нашем новом жилище. Вдобавок, вынужденная через два дня сходить за платьями, забытыми в только что покинутой нами квартире, тогда как у меня была еще в результате переезда «температура» и я, подобно удаву, только что проглотившему быка, чувствовал себя тяжко помятым выпуклым профилем длинной каменной ограды, который зрению моему предстояло «переварить», Франсуаза, со свойственной женщинам неверностью, вернулась, заявляя, что она чуть не задохлась на нашем старом бульваре, что, идя туда, она совсем «заплуталась», что никогда она не видела таких неудобных лестниц, что она не вернется жить туда ни «за полцарства», ни за какие миллионы — гипотезы безосновательные — и что все (то есть все, касавшееся кухни и кастрюль) гораздо лучше «устроено» в нашей новой квартире. Пора, однако, сказать, что квартира эта, — мы в нее переехали, потому что бабушка, чувствовавшая себя нехорошо (причина, которую мы остерегались ей приводить), нуждалась в более чистом воздухе, — расположена была во флигеле особняка Германтов.
В возрасте, когда Имена, рисуя нам образ непознаваемого, который мы в них вложили, и являясь для нас при этом обозначением какого-нибудь реального места, тем самым заставляют нас отожествить то и другое в такой степени, что мы отправляемся искать в каком-нибудь городе душу, которая не может в нем заключаться, но которой мы больше не в силах изгнать из его имени, — не только городам и рекам придают они индивидуальность, как то делают аллегорические картины, не только материальную вселенную испещряют они различиями, населяют чудесами, но также вселенную социальную: тогда в каждом замке, в каждом знаменитом особняке или дворце живет своя дама или своя фея, как в лесах — свои духи и в водах — свои божества. Иногда таящаяся в глубине своего имени фея подвергается превращению по прихоти нашей фантазии, которая ее питает; вот таким-то способом атмосфера, в которой жила во мне герцогиня Германтская, являвшаяся долгие годы лишь отражением пластинки волшебного фонаря и расписного церковного окна, начала гасить свои краски, когда совсем иные грезы пропитали ее пенистой влагой потоков.
Однако фея увядает, если мы приближаемся к реальной женщине, носящей ее имя, ибо имя начинает тогда отражать эту женщину, а она не заключает в себе ничего от феи; фея может возродиться, если мы удаляемся от живой женщины; но если мы возле нее остаемся, фея умирает окончательно, а с нею и имя, как род Люзиньянов, обреченный на угасание в день, когда исчезнет фея Мелюзина. Тогда имя, под последовательными подмалевками которого мы в заключение может быть и открыли бы прекрасный портрет незнакомки, которой мы никогда не знали, представляет собою уже не больше, как фотографическую карточку, к которой мы обращаемся, чтобы удостовериться, знакомы ли мы с проходящей мимо особой и должны ли ей поклониться. Но стоит какому-нибудь ощущению из былых ушедших лет, — подобному граммофонным пластинкам, запечатлевающим звук и стиль игры различных артистов, — позволить нашей памяти произнести это имя тем особенным тембром, каким оно было окрашено тогда для нашего слуха, и мы чувствуем, сравнивая его с этим же именем, по внешности не изменившимся, расстояние, которое отделяет друг от друга грезы, последовательно рисовавшиеся нам его тожественными слогами. На мгновение из вновь услышанных звуков, которыми оно окрашивалось в одну из давно прошедших весен, мы можем извлечь, как из тюбиков, которыми пользуются живописцы, точный нюанс — забытый, таинственный и свежий — тех дней, которые мы будто бы припоминаем, когда, подобно плохим художникам, применяем для всего нашего прошлого, растянутого на одном и том же холсте, условные и все одинаковые тона волевой памяти. Между тем, напротив, каждый из отрезков времени, составивших это прошлое, пользовался, при подлинном творении, неповторимой гармонией тогдашних красок, которых мы больше не знаем и которые способны еще вдруг привести меня в восторг, если по какой-либо случайности имя Германт, вновь приобретя на мгновение по прошествии долгих лет звук — столь отличающийся от нынешнего — которым оно для меня окрашивалось в день свадьбы м-ль Перспье, возвращает мне ту лиловатость, такую мягкую, яркую и новую, которой бархатился пышный галстук молодой герцогини, и ее глаза, озаренные голубой улыбкой, подобно вновь расцветшему и не могущему быть сорванным барвинку. Имя Германт той поры подобно также баллону, наполненному кислородом или каким-нибудь другим газом: когда мне случается его разбить, выпустить из него его содержимое, я вдыхаю воздух Комбре того года, того дня, смешанный с запахом боярышника, колеблемого ветром с площади, предвестником дождя, который то сдувал солнце, то расстилал его на красном шерстяном ковре церковного придела, покрывая этот ковер ярким, почти розовым румянцем герани и как бы вагнеровской мягкостью ликования, придающей празднеству столько благородства. Но даже и помимо редких минут, вроде только что описанных, когда вдруг мы чувствуем трепет подлинной сущности, вновь возникающей в прежней своей форме и чеканке из недр теперь уже мертвых слогов, — если в головокружительном вихре повседневной жизни, где они находят лишь чисто практическое применение, имена утратили всякую окраску, как радужный волчок, при слишком быстром вращении кажущийся серым, зато когда, возвращаясь в мечтаниях к прошедшему, мы раздумываем, пытаемся замедлить, приостановить непрестанное движение, в которое мы вовлечены, мало-помалу перед взором нашим вновь появляются, одни возле другого, но в корне отличные друг от друга, тона, которые в течение нашей жизни последовательно показывало нам какое-нибудь имя.
Какая форма рисовалась моим глазам в имени Германт, когда моя кормилица, — которая наверное не знала, как и сам я не знаю сейчас, в честь кого она была сложена, — баюкала меня старинной песенкой: «Слава маркизе Германтской», или когда, через несколько лет, старый маршал Германт, преисполняя гордостью мою няню, останавливался на Елисейских Полях со словами: «Прекрасный ребенок!» и доставал из карманной бонбоньерки шоколадную конфету, — этого я конечно не знаю. Те годы моего раннего детства во мне уже не заключены, они для меня что-то внешнее, о них я могу узнать, как и о том, что происходило до нашего рождения, только из рассказов других людей. Но потом я нахожу в себе, в последовательном порядке, семь или восемь различных образов этого имени; первоначальные были самыми прекрасными: мало-помалу мечта моя, вынужденная действительностью покинуть безнадежную позицию, снова окапывалась немного подальше, пока ей не приходилось отступить еще. И в то самое время, как герцогиня Германтская меняла свое жилище, в свою очередь порожденное этим именем, которое оплодотворялось из года в год тем или иным услышанным мной словом, видоизменявшим мои мечты, — жилище ее отражало их каждым своим камнем, отсвечивающим словно поверхность облака или озера. Нематериальная замковая башня, являвшаяся лишь оранжевой световой полоской, с высоты которой сеньёр и его дама распоряжались жизнью и смертью своих вассалов, уступила место — на самом краю той самой «стороны Германта», где я столько раз в прекрасные послеполуденные часы гулял с моими родными по течению Вивоны, — изрезанной ручьями области, где герцогиня учила меня ловить форель и называла имена цветов, которые фиолетовыми и красноватыми гирляндами увивали низкие ограды окрестных садиков; затем то были наследственные земли, поэтические владения, где надменный род Германтов, подобно желтоватой изукрашенной орнаментом башне, прошедшей через века, уже возвышался над Францией в то время, как небо было еще пустое там, где впоследствии выросли соборы Парижской и Шартрской Богоматери, — в то время, как на вершине Ланского холма еще не остановился, как Ноев ковчег на вершине Арарата, корабль собора, наполненный патриархами и праведниками (с тревогой высовывавшимися из окон посмотреть, утих ли Божий гнев), захвативший с собой виды растений, которым предстояло размножиться на земле, набитый животными, которые из него вырываются даже через башни, где быки мирно разгуливают по крыше, посматривая с вышины на равнины Шампани, — в то время, как путешественник, покидавший Бове на склоне дня, не видел еще, как за ним следуют, кружась, распростертые на золотом экране закатного неба ветвистые черные крылья тамошнего собора. Германт этот, точно обстановка какого-нибудь романа, был воображаемым пейзажем, который я с трудом себе представлял и тем сильнее желал открыть в виде участка, вклиненного среди реальных полей и дорог, которые вдруг пропитались бы геральдическими особенностями, в двух лье от вокзала; я припоминал имена соседних местностей, как если бы они были расположены у подошвы Парнаса или Геликона, и они мне казались драгоценными материальными условиями — в смысле топографическом — для порождения таинственного феномена. Я вновь разглядывал гербы, изображенные под витражами комбрейской церкви, поле которых было заполнено, век за веком, всеми сеньёрами, которые при помощи браков или приобретений привлечены были этим знаменитым родом из всех уголков Германии, Италии и Франции: необъятные земли на севере, могущественные города на юге, соединившиеся и сочетавшиеся в Германт и аллегорически вписавшие свою зеленую башню или свой серебряный замок в его лазоревое поле. Я слышал разговоры о замечательных коврах Германта, я видел, как они, средневековые и голубые, немного тяжеловатые, выделялись подобно облаку над бархатисто-малиновым и легендарным именем, у опушки древнего леса, где так часто охотился Хильдебер, и мне казалось, что я проникну в загадочную глубину этих владений, в эту даль веков, разгадаю все их тайны не при помощи путешествия, а лишь соприкоснувшись на миг в Париже с герцогиней, сюзереном Германта и дамой озера, как если бы лицо ее и слова заключали очарование тамошних лесов и рек и те же стародавние особенности, какие запечатлены в древнем своде местных обычаев, хранящемся в ее архивах. Но тут я познакомился с Сен-Лу и узнал от него, что замок стал называться Германтом только с XVII века, когда был приобретен его предками. До тех пор Германты жили по соседству, и титул их не был связан с этой областью. Селение Германт получило свое имя от замка, возле которого оно раскинулось, и чтоб не портить вида на него, оставшийся в силе сервитут определял направление улиц и ограничивал высоту домов. Что касается ковров, то они были вытканы по рисункам Буше, куплены в XIX веке одним из Германтов, ценителем этого искусства, и висели рядом с посредственными картинами охоты, писанными им самим, в очень безвкусном салоне, обитом плюшем и дешевыми бумажными тканями. Вследствие этих откровений Сен-Лу ввел в замок элементы, чуждые имени Германт, которые мне больше не позволяли извлекать архитектуру замковых построек единственно из звука составлявших это имя слогов. Тогда на фоне его перестал рисоваться отраженный в озере замок, и взору моему предстал, в качестве жилища герцогини, ее парижский особняк, особняк Германтов, ясный, как ее имя, ибо ни одна вещественная и непроницаемая частица не засоряла и не помрачала его прозрачности. Как церковь означает не только храм, но и собрание верующих, этот особняк Германтов охватывал всех лиц, принимавших участие в жизни герцогини, но лица эти, которых я никогда не видел, были для меня не более чем именами, знаменитыми и поэтичными, и, водя знакомство только с лицами, которые тоже были не более, чем именами, лишь повышали и охраняли таинственность герцогини, окружая ее широким ореолом, который, самое большее, тускнел по краям.
Так как гости на устраиваемых ею празднествах были в моем воображении бестелесны, не носили усов и ботинок, не говорили банальных или даже остроумных в общепринятом рациональном смысле фраз, то этот вихрь имен — столь же невещественный, как ужин теней или бал привидений, — вокруг статуэтки из саксонского фарфора, каковой была герцогиня Германтская, сохранял прозрачность окон в ее стеклянном особняке. Потом, когда Сен-Лу рассказал мне анекдоты о капеллане и садовниках его кузины, особняк Германтов превратился в подобие замка, — каким мог быть некогда, скажем, Лувр, — окруженного, посреди Парижа, собственными землями, доставшимися герцогине по наследству в силу какого-то диковинным образом уцелевшего древнего права, на которых она до сих пор пользовалась феодальными привилегиями. Но и это последнее жилище в свою очередь разлетелось в прах, когда мы сделались соседями герцогини, поселившись во флигеле ее особняка рядом с г-жой де Вильпаризи. Это был один из тех старинных барских домов (такие, может быть, и теперь еще существуют), в которых по сторонам парадного двора, — осадки ли, принесенные поднявшимся валом демократии, или наследие более давних времен, когда вокруг сеньёра группировались различные ремесла, — часто можно увидеть закрытые лавочки, мастерские и даже ларек сапожника или портного (вроде тех, что лепятся у стен соборов, если они не оголены эстетикой инженеров), будку привратника, занимающегося починкой обуви, разводящего кур и выращивающего цветы, — а в глубине, в «барской» квартире, «графиню», которая, садясь в старую коляску, запряженную парой, в шляпе с настурциями, как будто сорванными в садике привратника (и с ливрейным лакеем, слезающим с козел у каждого барского особняка по соседству, чтобы загнуть визитную карточку), посылает улыбки и машет рукой детям привратника и проходящим в эту минуту буржуа, жильцам ее дома, которых она путает в своей пренебрежительной приветливости и уравнительном высокомерии.
В доме, куда мы переехали, великосветской дамой, занимавшей глубину двора, была герцогиня, элегантная и еще молодая. То была герцогиня Германтская, и благодаря Франсуазе я довольно скоро располагал сведениями о ее доме. Ибо Германты (которых Франсуаза часто обозначала словами: «те, что внизу», «нижние») составляли ее непрестанную заботу с самого утра, когда, причесывая маму, она украдкой бросала запретный и неодолимый взгляд во двор и приговаривала: «А, две сестрички, наверное снизу», или: «Отличные фазаны в окне на кухне, нечего и спрашивать, откуда они, видно, герцог был на охоте», и до вечера, когда, подавая мне ночное белье и услышав звуки рояля или отголоски шансонетки, она умозаключала: «Внизу у них гости, идет веселье»; на ее правильном лице, окаймленном седыми теперь волосами, появлялась тогда молодая улыбка, живая и пристойная, и на мгновение ставила все ее черты на свое место, сочетала их в жеманное и лукавое выражение, как перед кадрилью.
Но минутой из жизни Германтов, возбуждавшей во Франсуазе живейший интерес, дававшей ей наибольшее удовлетворение и причинявшей также наибольшее страдание, была минута, когда настежь раскрывались ворота и герцогиня садилась в коляску. Это случалось обыкновенно вскоре после того, как наши слуги кончали торжественное священнодействие, что-то вроде пасхального богослужения, называвшееся их завтраком, которого никто не смел прерывать и во время которого они были до такой степени «табу», что даже мой отец не позволил бы себе позвонить, зная, впрочем, что и при пятом звонке никто бы из них не пошевельнулся и что он таким образом учинил бы эту бестактность совершенно зря, да еще и не без ущерба для себя. Ибо Франсуаза (которая, сделавшись старухой, по любому поводу напускала на себя подобающий случаю вид) не преминула бы в течение целого дня мозолить ему глаза физиономией, покрытой красными клинообразными значками, предъявлявшими длинный, хотя и недостаточно разборчивый, список ее жалоб и затаенные причины ее недовольства. Впрочем, она их и излагала при помощи речей «в сторону», но так, что мы не могли разобрать ни слова. Она называла это, — считая для нас весьма обидным, «уязвляющим», — «править вполголоса обедню весь Божий день».
Закончив все обряды, Франсуаза, являвшаяся, как в ранней христианской церкви, одновременно и священнослужителем и одной из паствы, выпивала последнюю рюмку вина, снимала с шеи салфетку, складывала ее, вытирая остатки воды и кофе на губах, просовывала в кольцо, благодарила скорбным взглядом «своего» молоденького лакея, который в пылу усердия говорил: «Знаете, мадам, еще бы винца; оно отменное», — и сейчас же открывала окно под предлогом нестерпимой жары «в этой пакостной кухне». Поворачивая ручку оконного затвора и вдыхая свежий воздух, она в то же время проворно бросала равнодушный взгляд в глубину двора, украдкой удостоверялась, что герцогиня еще не готова, останавливала на миг свои презрительные и жгучие взоры на запряженной коляске и, уделив таким образом внимание вещам земным, воздевала глаза к небу, заранее уверенная в его безоблачности по мягкости воздуха и теплоте солнца; она долго рассматривала в углу крыши местечко, как раз над трубой моей комнаты, где каждую весну свивали гнездо голуби, похожие на тех, что ворковали в ее кухне, в Комбре.
— Ах, Комбре, Комбре! — восклицала она. (Певучий тон, которым делалось это восклицание, наряду с арльской правильностью лица Франсуазы, мог бы внушить мысль о ее южном происхождении и о том, что утраченная родина, которую она оплакивала, была лишь родиной, избранной ею впоследствии. Но, может быть, предположение это было ошибочно, ибо, кажется, нет такой провинции, в которой не было бы своего «юга»; и сколько встречается савойцев и бретонцев, у которых находишь все мягкие перемещения долгих и кратких звуков, характерные для южных говоров.) — Ах, Комбре, когда-то я тебя увижу, милый мой городок! Когда-то удастся мне провести весь Божий день под твоим боярышником и нашей бедной сиренью, слушая зябликов и Вивону, которая журчит, как человек, шепчущий вам на ухо, вместо того чтобы слышать пакостный звонок нашего молодого барина, который полчаса не может усидеть, не прогоняв меня взад и вперед по этому чортову коридору! Да еще считает, что я мешкаю, надо-де, чтоб его услышали раньше, чем он позвонит, и если вы на минуточку запоздали, он «впадает» в страшнейший гнев. Увы, бедненький Комбре, может быть я вновь тебя увижу только покойницей, когда меня бросят как камень в могильную яму. Тогда уж я не почувствую запаха твоего прекрасного боярышника, белого как снег. Но и в могильном сне я, верно, буду еще слышать эти три звонка, которые заживо погубят мою душу.
Но тут Франсуазу перебивали доносившиеся со двора возгласы жилетника — того самого, который так понравился когда-то бабушке во время ее визита к г-же де Вильпаризи и занимал не менее высокое место в симпатиях Франсуазы. Подняв голову на шум открываемого окна, он уже несколько мгновений пытался привлечь внимание своей соседки, чтобы с ней поздороваться. Кокетливость молодой девушки, каковой становилась Франсуаза, преображала тогда для г-на Жюпьена ворчливое лицо нашей старой кухарки, отяжелевшей от преклонного возраста, дурного расположения духа и жара плиты, и был очаровательным соединением сдержанности, непринужденности и стыдливости ее обращенный к жилетнику поклон, грациозный, но немой, ибо хотя она и нарушала предписания мамы, выглядывая из окна на двор, все же не осмелилась бы на такую браваду, как разговор через окно, который ей стоил бы, по выражению Франсуазы, здоровой «головомойки» со стороны барыни. Она глазами показывала жилетнику запряженную коляску с таким видом, точно говорила: «Славные лошадки, а?» — но бормотала при этом: «Старая рухлядь!» — хорошо зная, что он сейчас ей ответит, приставив ко рту руку, для того чтобы его услышали, несмотря на приглушенный голос:
— Вы тоже могли бы их иметь, если бы пожелали, и даже может быть побольше, чем они, но вы таких вещей не любите.
И Франсуаза скромным, уклончивым и восхищенным жестом, означавшим приблизительно: «У каждого свой вкус; мы любим простоту», закрывала окно, опасаясь, как бы не вошла мама. «Вы», которые могли бы иметь больше лошадей, чем Германты, были мы, но Жюпьен с полным правом говорил «вы», ибо, если не считать некоторых эгоистических удовольствий, испытываемых только ею, например, когда она не переставая кашляла, подвергая весь дом опасности заразиться от нее бронхитом, и с раздражающим смешком уверяла, что она не простужена, Франсуаза — подобно растениям, что сожительствуют с животным, снабжающим их пищей, которую оно для них ловит, ест и переваривает, давая им ее в форме усваиваемого без остатка экстракта, — жила в симбиозе с нами; именно мы, с нашими добродетелями, нашим состоянием, нашим образом жизни, нашим положением, должны были доставлять для нее те маленькие удовлетворения самолюбия (с прибавлением сюда признанного права свободно совершать обряд завтрака согласно древнему установлению, включавшему также легкое освежение у окна по окончании завтрака, фланирование по улицам, когда надо было идти за покупками, и воскресный отпуск, чтобы побывать в гостях у племянницы), из которых складывалась доля радостей, насущно необходимых ей в жизни. Отсюда понятно, что в первые дни в доме, где не были еще известны все почетные звания моего отца, Франсуаза способна была зачахнуть от болезни, которую сама она называла скукой, в том энергическом смысле этого слова, какой оно имеет у Корнеля или под пером солдат, кончающих самоубийством от невыносимой «скуки» по своей невесте, своей деревне. Скука Франсуазы скоро была вылечена как раз Жюпьеном, ибо он сразу же доставил ей удовольствие, столь же живое и более утонченное, чем удовольствие, которое она испытала бы, если бы мы решили завести экипаж. — «Из прекрасного они общества, эти Жюпьены, превосходные люди, на лице у них написано». Действительно, Жюпьен сумел понять и всем растолковать, что экипажа у нас нет только потому, что мы не желаем его иметь. Этот приятель Франсуазы мало бывал дома, так как получил место в каком-то министерстве. Первоначально он занимался шитьем жилетов вместе со своей «девчонкой», которую бабушка приняла за его дочку, но ремесло его потеряло всякую выгоду, когда его помощница, которая еще ребенком отлично умела перешивать юбки, уже во время давнишнего визита бабушки к г-же де Вильпаризи, занялась шитьем для дам и сделалась юбочницей. Сначала «подручная» у портнихи, которой поручались то вышивки, то оборки, то приставить пуговки, то обшить крючками талию, она скоро сделалась второй, а потом и первой помощницей и, составив себе клиентуру среди дам высшего общества, работала на дому, то есть в нашем дворе, чаще всего с одной или двумя товарками из мастерской, которые были ее ученицами. С тех пор присутствие Жюпьена сделалось менее полезным. Конечно, его племяннице, и после того как она выросла, нередко приходилось шить жилеты. Но ей помогали теперь приятельницы, и она больше ни в ком не нуждалась. Поэтому Жюпьен, ее дядя, выхлопотал себе место. Сначала он освобождался к двенадцати, а потом, заняв окончательно должность служащего, которому он только помогал, — не раньше обеденного часа. «Включение в штат» Жюпьена состоялось, к счастью, лишь через несколько недель после нашего переезда, так что он имел возможность довольно долго расточать свои любезности и таким образом помог Франсуазе сравнительно безболезненно преодолеть первое трудное время. Впрочем, не отрицая пользы, принесенной им Франсуазе в качестве «переходного лекарства», я должен признаться, что по началу Жюпьен мне не особенно понравился. На расстоянии нескольких шагов, совершенно уничтожая впечатление, которое произвели бы вблизи его толстые щеки и румянец, глаза Жюпьена, затопленные соболезнующим, скорбным и мечтательным взглядом, внушали мысль, что он тяжело болен или что его недавно постигло большое горе. Впечатление это без остатка рассеивалось, когда он начинал говорить, а говорил он превосходно, и тогда он казался скорее человеком холодным и насмешливым. От этой несогласованности взгляда и слов получалась какая-то фальшь, нечто несимпатичное, он имел такой вид, точно чувствует себя неловко, как гость, пришедший на званый вечер в пиджаке, тогда как остальные явились во фраках, или как человек, которому приходится ответить на вопрос высочайшей особы и он, не зная в точности, как ему надо говорить, обходит затруднение тем, что придумывает самые банальные фразы. Фразы Жюпьена — ибо это не более как сравнение — были, напротив, очаровательны. Действительно, я скоро подметил в нем редкий ум (находившийся, может быть, в какой-то связи с его глазами, затоплявшими лицо, — особенность, на которую вы переставали обращать внимание при ближайшем с ним знакомстве), один из самых литературных от природы умов, какой мне доводилось знавать, в том смысле, что, будучи, вероятно, человеком необразованным, он владел самыми замысловатыми оборотами речи, усвоив их исключительно с помощью нескольких наспех прочитанных книг. Наиболее одаренные люди, которых я знавал, умерли в ранней молодости. Поэтому я был убежден, что жизнь Жьюпена скоро оборвется. Он отличался добротой, жалостью, самыми утонченными и возвышенными чувствами. Его роль в жизни Франсуазы скоро перестала быть необходимой. Она научилась ее исполнять сама.
Даже когда нам заносил пакет какой-нибудь поставщик или лакей, Франсуаза с таким видом, точно она не обращает на вошедшего никакого внимания, только указывала ему равнодушным взглядом стул, не отрываясь от работы, но при этом так искусно пользовалась несколькими мгновениями, которые лакей проводил на кухне в ожидании ответа мамы, что лишь очень редко он уходил, не унося неизгладимо запечатлевшейся в нем уверенности, что «если у нас нет экипажа, то только потому, что мы не желаем». Впрочем, если она так дорожила тем, чтобы все знали, что у нас есть деньги, что мы богаты, то не потому, чтобы богатство без всего, богатство без добродетели, являлось в глазах Франсуазы высшим благом, однако и добродетель без богатства тоже не была ее идеалом. Богатство являлось для нее как бы необходимым условием добродетели, при отсутствии которого добродетель оказалась бы лишенной достоинств и прелести. Для Франсуазы они были настолько нераздельны, что в заключение она наделила добродетель качествами богатства и, наоборот, стала требовать от добродетели некоторого комфорта и находить в богатстве нечто назидательное.
Закрыв довольно поспешно окно, — иначе мама, казалось, «разбранила бы ее на чем свет стоит», — Франсуаза начинала со вздохами убирать с кухонного стола.
— Есть Германты, которые проживают на улице Ла Шез, — говорил камердинер, — один мой приятель у них работал: служил вторым кучером. И я знаю одного парня, — он мне не приятель, а зять моего приятеля, — который отбывал в полку службу с псарем барона Германтского. «И после этого, подите ж: это не мой отец!» — приговаривал камердинер, имевший обыкновение напевать модные мотивы и пересыпать свои речи свеженькими шутками.
Франсуаза, с ее усталыми глазами уже пожилой женщины, которая притом видела все из Комбре, в неясной дали, различила не шутку, заключавшуюся в этих словах, но то, что шутка должна была в них заключаться, так как они выпадали из связи речи и были брошены с особенной силой человеком, которого она знала за шутника. Вот почему она улыбнулась с видом благожелательным и ослепленным блеском остроумия, как бы говоря: «Ох, уж этот Виктор: неисправим!» Впрочем, она была счастлива, ибо знала, что выслушивание подобного рода острот отдаленным образом связано с теми благопристойными светскими удовольствиями, ради которых все торопятся приодеться и выходят из дому, рискуя простудиться. Наконец, она считала камердинера своим другом, ибо он беспрестанно с негодованием возвещал ей об ужасных мероприятиях против духовенства, затеваемых республикой. Франсуаза еще не поняла, что самыми жестокими нашими противниками являются не те, что нам противоречат и пробуют нас убедить, а те, что преувеличивают или измышляют известия, способные нас огорчить, старательно избегая давать им хотя бы видимость оправдания, которая уменьшила бы нашу боль и внушила бы, может быть, легкое уважение к политической партии, которую они непременно хотят изобразить нам, чтоб нас совсем доконать, одновременно и беспощадной и торжествующей.
— Герцогиня наверно в родстве с ними всеми, — сказала Франсуаза, возобновляя разговор о Германтах с улицы Ла Шез, как возобновляют музыкальную пьесу в andante. — He помню, кто-то мне говорил, что один из тех Германтов женился на кузине герцога. Во всяком случае, это из одной и той же «ветви». Великий это род Германты! — прибавила она с почтением, основывая величие этого рода одновременно на многочисленности его членов и на блеске его славы, как Паскаль основывал истину религии на разуме и на авторитете Писания. Ибо, зная одно слово «великий» для обозначения обоих качеств, Франсуаза воображала, что они составляют нечто единое; ее словарь, подобно некоторым драгоценным камням, имел кое-какие изъяны, затемнявшие также и мысли Франсуазы.
— Спрашиваю я себя, не будут ли они те самые, у которых есть замок в Германте, в десяти лье от Комбре? Тогда они должны быть тоже родственниками ихней алжирской кузине. — Я с матерью долго недоумевали, кто такая может быть эта алжирская кузина, но наконец поняли, что Франсуаза разумеет под Алжиром город Анжер. Отдаленное часто бывает нам лучше известно, чем находящееся вблизи. Франсуаза, знавшая по имени Алжир из надписей на коробках с отвратительными финиками, которые мы получали в Новый год, не подозревала о существовании Анжера. Ее язык, как и вообще французский язык, особенно что касается названий мест, был испещрен ошибками. — Я хотела об этом поговорить с их дворецким. Как же однако, к нему обращаются? — прерывала она себя, как бы ставя вопрос о правилах этикета, и тут же отвечала: — Ах, да, к нему обращаются Антуан, — как если бы Антуан был титул. — Он бы мог мне это сказать, но это настоящий вельможа, большой педант, точно ему язык отрезали или он разучился говорить. Он вам даже не дает ответа, когда с ним разговаривают, — продолжала Франсуаза, которая говорила: «давать ответ», как г-жа де Севинье. — Но, — заявляла она неискренно, — мне только бы знать, что варится в моем котелке, а до чужой посуды мне дела нет. Во всяком случае, совать туда нос не полагается. И потом, в этом человеке куражу нет. (Такая оценка может внушить мысль, что Франсуаза переменила мнение насчет храбрости, которая в Комбре низводила в ее глазах людей до хищных животных, но это неверно. Кураж в человеке означал для нее только то, что он труженик.) Говорят тоже, что он вороват как сорока, но не всегда же верить россказням. Здесь все служащие несут сплетни в швейцарскую, консьержи ревнивы и наговаривают герцогине. Но насчет Антуана смело можно сказать, что это настоящий бездельник, да и его «Антуанесса» не лучше будет, — добавляла Франсуаза, которая, подыскивая женский род к имени Антуан для обозначения жены дворецкого, наверное бессознательно вспоминала, в своем грамматическом творчестве, «chanoine» и «chanoinesse». Ее словопроизводство было неплохим. И до сих пор существует возле Нотр-Дам улица, называющаяся «Chanoinesse» — именем, которое когда-то было ей дано (потому что она вся заселена была канониками — chanoines) французами средневековья — подлинными современниками Франсуазы. Впрочем, сейчас же следовал новый пример этого метода образования женского рода, потому что Франсуаза продолжала: — Однакож вернее верного, что замок Германт принадлежит герцогине. И она там госпожа мэресса. А это не пустяки.
— Я понимаю, что это не пустяки, — с убеждением проговорил лакей, не заметив в ее словах иронии.
— Ты, мальчик, думаешь, что это не пустяки? Но ведь для таких людей быть мэром и мэрессой ровнешенько ничего не стоит. Ах, если бы замок Германт был мой, меня бы не часто видели в Париже. Надо же, чтобы господа, у которых есть на что жить, как барин и барыня, выдумали оставаться в этом пакостном городе, вместо того чтобы уехать в Комбре, ежели они вольны ехать и никто их не удерживает. Чего им еще надо, чтоб уйти на покой, чего не хватает? Смерти ждут? Ах, будь у меня черствый хлеб, чтобы кушать, да дрова, чтоб греться зимой, давно бы я поселилась в Комбре, в бедном домике брата. Там по крайней мере чувствуешь, что живешь, там нет перед тобой всех этих домов и такая тишина, что ночью за десять верст слышно пение лягушек.
— Как это должно быть хорошо, мадам! — восторженно воскликнул молодой лакей, точно лягушечий концерт был такой же особенностью Комбре, как гондолы являются особенностью Венеции.
Впрочем, поступив к нам на службу позже камердинера, он говорил Франсуазе веши, которые интересны были не ему самому, а ей. И Франсуаза, делавшая гримасу, когда ее называли кухаркой, питала к лакею, величавшему ее в разговоре «экономкой», особенное благоволение, каким принцы второго сорта дарят благонамеренных молодых людей, титулующих их «высочествами».
— По крайней мере, знаешь, что кругом делается и в какое время года живешь. Не то, что здесь, где и на Святую Пасху, как на Рождество, самого маленького лютика не увидишь, и я даже ангелюса не могу различить, когда поднимаю с постели мои старые кости. Там каждый час слышно, и это не только удары колокола на башне, но ты говоришь себе: «вот мой брат с поля возвращается», видишь, как на дворе темнеет, там звонят не попусту, и у тебя есть время повернуться, прежде чем зажигаешь лампу. А здесь, день ли, ночь ли, ложишься в постель и не можешь даже сказать, что кругом делалось, точно ты скотина бессловесная.
— Мезеглиз, говорят, тоже хорошенькое местечко, — перебил молодой лакей, на вкус которого разговор принимал немного отвлеченный характер; он случайно вспомнил, как мы говорили за столом о Мезеглизе.
— Ах, Мезеглиз! — подхватила Франсуаза, и губы ее расплылись в широкой улыбке, от которой она не могла удержаться, когда при ней произносили имена Мезеглиз, Комбре, Тансонвиль. Они составляли такую неотъемлемую часть ее собственного существования, что, встречая их вне себя, слыша в разговоре, она радостно оживлялась, как оживляется класс при упоминании преподавателем какого-нибудь современника, имя которого ученики никак не ожидали услышать с высоты кафедры. Ее удовольствие проистекало также от сознания, что места эти были для нее тем, чем они не были для других, — старыми товарищами, которые столько раз принимали участие в ее развлечениях; и она им улыбалась, как если бы находила их остроумными, потому что находила в них много себя самой.
— Да, сынок, ты не ошибся: Мезеглиз — хорошенькое местечко, — продолжала она, тонко усмехаясь. — Но откуда же, однако, мог ты слышать о Мезеглизе?
— Откуда мог я слышать о Мезеглизе? Но ведь это известное место; мне о нем рассказывали, и даже часто рассказывали, — отвечал он с той преступной неточностью информаторов, которые каждый раз, когда мы пытаемся объективно отдать себе отчет, насколько важной может быть для других вещь, которая нас касается, отнимают у нас возможность это сделать.
— О, ручаюсь вам, что в вишеннике там лучше, чем здесь у плиты! Даже о Евлалии она говорила с лакеем и камердинером как о доброй женщине. Ибо после смерти Евлалии Франсуаза совершенно забыла, что она ее недолюбливала при жизни, как недолюбливала всех, у кого дома нечего было есть, кто «околевал с голоду», а потом приходил «ломаться», этакий никудышник, живущий только по милости богачей. Она больше не страдала от того, что Евлалия каждую неделю умела так ловко «выклянчить монету» у моей тети. Что же касается самой тети, то Франсуаза не переставая ее славословила.
— Так вы служили тогда в самом Комбре, у барыниной родственницы? — спрашивал молодой лакей.
— Да, у госпожи Октав. Ах, что за святая женщина, детушки мои, и всего-то у нее было вдоволь, вот уж подлинно можно сказать, не жалела она ни куропатки, ни фазана, ничего, и вы могли прийти к ней обедать и в пять и в шесть, всегда за столом была говядина, да притом отменная, и белое вино, и красное, все, что надо. — (Франсуаза употребляла глагол «жалеть» в том смысле, как его употребляет Ла Брюйер.) — И все издержки всегда несла она, даже если родные гостили у нее месяцы и годы. — (Это рассуждение не заключало в себе ничего оскорбительного для нас, ибо Франсуаза принадлежала к той эпохе, когда слово «издержки» еще не сделалось чисто судебным термином и означало просто «расходы».) — Ручаюсь вам, что голодными от нее не уходили. Как господин кюре не раз нам разъяснял, если есть на свете женщина, которая может надеяться предстать пред Господом Богом, так уж без всякого сомнения это она. Бедняжка барыня, и до сих пор я слышу, как она мне говорит своим слабеньким голосом: «Франсуаза, вы знаете, я не кушаю, но я хочу, чтобы все было приготовлено так же хорошо, как для меня самой». Понятно, готовили не для нее. Вы бы ее видели, она весила не больше, чем кулек вишен; ее точно и не было. Она мне не хотела верить, ни за что не хотела сходить к доктору. Ах, вот уж у кого наскоро никогда не кушали. Она хотела, чтобы у нее слуги были хорошо накормлены. А здесь, хотя бы сегодня, нам не дали даже червяка заморить. Все наспех делается.
Особенно ее раздражали ломтики жареного хлеба, которые ел мой отец. Она была убеждена, что делал он это из жеманства и чтобы заставить ее «потанцевать». — «Могу сказать, — поддерживал ее молодой лакей, — что от роду этого не видывал!» Он так это говорил, как будто видел все, и данные тысячелетнего опыта простирались у него на все страны и их обычаи, среди которых нигде не практиковался обычай поджаривать хлеб. «Да, да, — брюзжал метрдотель, — но все это может перемениться, рабочие собираются устроить забастовку в Канаде, и третьего дня министр сказал барину, что он получил по этому случаю двести тысяч франков». Метрдотель ничуть его за это не порицал, не потому, что сам не был безукоризненно честен, а потому, что считал всех политических деятелей нечистоплотными и присвоение казенных денег казалось ему менее тяжелым преступлением, чем самая ничтожная кража. Он даже не задавался вопросом, точно ли он услышал эти исторические слова, и его не поражала невероятность того, что они могли быть сказаны моему отцу самим преступником и отец после этого не выгнал бы его вон. Однако философия Комбре совершенно не позволяла Франсуазе надеяться, чтобы забастовки в Канаде могли как-нибудь отразиться на обычае поджаривать хлеб. «Пока стоит свет, видите ли, — говорила она, — будут существовать господа, чтобы гонять нас взад и вперед, и слуги, чтобы исполнять их причуды». Наперекор этой теории беспрерывной беготни мать моя, пользовавшаяся, вероятно, не теми мерами, что Франсуаза, для определения продолжительности ее завтрака, уже в течение четверти часа говорила:
— Однако, что они могут там делать: вот уже два часа, как они сидят за столом!
И она робко звонила три или четыре раза. Франсуаза, ее лакей и метрдотель понимали звонок как зов, но не трогались с места: для них он был чем-то вроде звука инструментов, настраиваемых перед началом концерта, когда публика чувствует, что осталось всего несколько минут антракта. Вот почему, когда звонок начинал повторяться и делался все более настойчивым, слуги наши уже не могли с ним не считаться и, соображая, что времени у них теперь немного и что скоро надо снова приниматься за работу, во время особенно затяжного звонка вздыхали, и, подчинившись своей участи, лакей спускался выкурить папиросу за дверью, Франсуаза, отпустив на наш счет несколько замечаний, вроде: «Вот уж не сидится людям», поднималась в шестой этаж привести в порядок свои вещи, а метрдотель, взяв в моей комнате почтовой бумаги, торопливо принимался за свою частную переписку.
Несмотря на спесивый вид дворецкого герцогини, Франсуаза в первые же дни могла мне сообщить, что Германты занимали свой особняк не в силу незапамятного права, но наняли его сравнительно недавно, и что сад, в который он выходил неизвестной мне стороной, был довольно маленький и похожий на все смежные сады; и я узнал в конце концов, что там не видно было ни сеньёриальной виселицы, ни укрепленной мельницы, ни голубятни на столбах, ни печи для общественного пользования, ни риги в форме корабля, ни фортификаций, ни мостов, постоянных или подъемных, и даже переносных, равно как и застав или зубчатых стен. Но подобно тому как Эльстир, — когда бальбекская бухта, утратив свою таинственность, стала для меня лишь некоторым вместилищем соленой воды, заменимым другим таким же вместилищем где-нибудь на земном шаре, — разом вернул ей своеобразие, сказав, что это опаловый залив Вистлера, гармония серебристо-голубых тонов, точно так же и имя Германт увидело разрушение под ударами Франсуазы последнего источенного им жилища, — но вдруг один старый приятель моего отца сказал нам однажды, заведя речь о герцогине: «У нее самое блестящее положение в Сен-Жерменском предместьи, дом ее — первый в Сен-Жерменском предместьи». Разумеется, первый салон, первый дом в Сен-Жерменском предместьи был не бог весть что по сравнению с другими жилищами, которые я последовательно рисовал в своих грезах. Но в конце концов и он, — жилище на этот раз последнее, — обладал, хоть и в очень скромной степени, чем-то еще сверх составляющего его вещества, некоим сокровенным инобытием.
Отыскать в «салоне» герцогини Германтской и в ее друзьях тайну ее имени мне было тем более необходимо, что тайны этой я не находил в ней самой, видя ее по утрам выходящей из дому пешком или, выезжающей после полудня в коляске. Правда, уже в комбрейской церкви она мне явилась в свете некоей метаморфозы, со щеками, непроницаемыми для красок имени Германт и для послеполуденных часов на берегу Вивоны, на месте моей сраженной мечты, как лебедь или ива, в которых превратились бог или нимфа и которые теперь, подчинившись законам природы, спустятся в воду или будут колыхаемы ветром. Однако эти растаявшие блики, едва я с ними расстался, тотчас появились вновь, подобно розовым и зеленым бликам закатного солнца, после того как их разобьет весло, и в одиноких моих мечтаниях имя это скоро вобрало в себя запечатлевшееся в памяти лицо. Но теперь я часто видел ее у окна, во дворе, на улице; и тогда, по крайней мере если мне не удавалось включить в нее имя Германт, думать, что она и есть герцогиня Германтская, я объяснял это бессилием моего ума осуществить до конца акт, который я от него требовал; но и она, наша соседка, казалось, совершала ту же оплошность, и больше того — совершала ее спокойно, не ведая вовсе моих сомнений, не подозревая даже, чтобы тут была какая-нибудь оплошность. Так, герцогиня Германтская выказывала в своих платьях такую же заботливость о моде, как если бы, сделавшись в собственных глазах самой обыкновенной женщиной, она стремилась к той элегантности туалета, в которой с ней могли тягаться и даже превзойти ее другие женщины; я видывал ее на улице восхищенно глядящей на хорошо одетую актрису; а по утрам, когда она собиралась выйти из дому пешком, — как если бы мнение прохожих, вульгарность которых она так ярко подчеркивала, запросто прогуливая среди них свою недосягаемую жизнь, могло быть для нее верховным судом, — я замечал, как она совершенно серьезно, без всякой задней мысли и иронии, со страстью, волнуясь и раздражаясь, самолюбиво, подобно королеве, согласившейся представить на придворной сцене субретку, играла перед зеркалом столь для нее унизительную роль элегантной женщины, в мифологическом забвении природного своего величия она смотрела, хорошо ли расправлен ее вуаль, приглаживала рукава, приводила в порядок манто, вроде того как божественный лебедь совершает все движения, свойственные лебедю-птице, сохраняет глаза, нарисованные по обеим сторонам клюва, не одушевляя их взорами, и вдруг бросается на пуговицу или зонтик совсем по-лебединому, позабыв, что он бог. Но подобно разочарованному первым видом какого-нибудь города путешественнику, который думает, что, может быть, проникнет в его чары, посещая музеи, заводя знакомства с его населением, работая в библиотеках, я говорил себе, что если бы я был принят у герцогини Германтской, если бы я принадлежал к числу ее друзей, если бы я проник в ее жизнь, то я бы узнал, что в действительности, объективно, для других заключает под своей блестящей оранжевой оболочкой ее имя, поскольку ведь приятель моего отца сказал, что круг Германтов занимает особенное положение в Сен-Жерменском предместьи.
Жизнь, которую, по моим представлениям, там вели, имела истоком нечто отличное от опыта и казалась мне настолько своеобразной, что я бы не мог вообразить на вечерах герцогини людей, у которых я когда-то бывал, — людей реальных. Ведь если бы они не в силах были внезапно изменить свою природу, то вели бы разговоры, подобные тем, которые были мне известны; собеседники их, может быть, унижались бы до ответов им на таком же человеческом языке; и на вечере в первом салоне Сен-Жерменского предместья случались бы мгновения, тожественные тем, которые я уже переживал: вещь совершенно невозможная. Правда, ум мой смущен был некоторыми затруднениями, и присутствие тела Иисуса Христа в облатке казалось мне не более загадочной тайной, чем этот первый салон Сен-Жерменского предместья, расположенный на правом берегу Сены и так, что я мог по утрам слышать из моей комнаты, как в нем выбивают мебель. Но демаркационная черта, отделявшая меня от Сен-Жерменского предместья, несмотря на всю свою призрачность, казалась мне от этого лишь более реальной; я ясно чувствовал, что половик у дверей Германтов составлял уже предместье и лежал по другую сторону этого экватора, — тот самый половик, о котором моя мать, видевшая его подобно мне, осмелилась однажды сказать, что он в очень плохом состоянии. Впрочем, могли ли их столовая, их темная галерея с мебелью красного плюша, которую я мог видеть из окна нашей кухни, не обладать в моих глазах таинственными чарами Сен-Жерменского предместья, не составлять его существенной части, не помещаться в нем географически, если быть принятым в этой столовой означало бывать в Сен-Жерменском предместье, дышать его воздухом, если люди, сидевшие, перед тем как идти к столу, рядом с герцогиней Германтской на кожаном диване в галерее, все принадлежали к Сен-Жерменскому предместью. Правда, и за пределами Сен-Жерменского предместья можно было иногда видеть на некоторых вечерах величественно восседающим посреди элегантной черни кого-нибудь из этих людей, являвшихся лишь носителями имен и при попытке наглядно представить их принимавших вид то турнира, то сеньёриального леса. Но здесь, в первом салоне Сен-Жерменского предместья, в темной галерее, были одни лишь они. Они являлись колоннами из драгоценного вещества, на которых держался храм. Даже для интимных собраний лишь среди них герцогиня Германтская могла выбирать себе гостей, и за обеденным столом, сервированным на двенадцать персон, они были как золотые статуи апостолов в Сент-Шапель, как символические священные столбы перед престолом. Что же касается клочка сада за особняком, обнесенного высокой каменной оградой, где у герцогини Германтской летом подавались после обеда ликеры и оранжад, то мог ли я воспротивиться мысли, что сидеть между девятью и одиннадцатью часами вечера на железных стульях — наделенных теми же качествами, что и кожаный диван — и не вдыхать особенных веяний Сен-Жерменского предместья было столь же невозможно, как предаваться послеполуденному отдыху в оазисе Фигюиг, не находясь в то же время в Африке? Лишь воображение и вера способны обособить от прочих иные предметы, иные существа, и создать особенную атмосферу. Увы, несомненно мне никогда не дано будет попасть в эти живописные места, ступить своими ногами по этим естественным неровностям почвы, полюбоваться этими достопримечательностями, этими произведениями искусства Сен-Жерменского предместья! И я довольствовался трепетным созерцанием (без надежды когда-нибудь на него ступить), — точно передо мной был передовой минарет, береговая пальма, первые фабричные постройки или опушка экзотической растительности, — истоптанного половика у заветных дверей.
Но если особняк Германтов начинался для меня у дверей его вестибюля, то на взгляд герцога служебные постройки по-видимому тянулись гораздо дальше. В самом деле, принимая всех квартиронанимателей за фермеров, крестьян, скупивших национальное имущество, с которыми нечего считаться, он брился по утрам у окна в ночной сорочке, спускался во двор, смотря по погоде, в одном жилете, в пижаме, в шотландском пиджаке редкого цвета из мохнатой материи или в светлом пальто короче пиджака и приказывал своему доезжачему пускать перед ним рысью недавно купленную лошадь. При этом не раз лошадь разбивала витрину Жюпьена, который приводил герцога в негодование, требуя возмещения за убытки. «Даже если не принимать в расчет всего добра, которое делает герцогиня в доме и в приходе, — говорил герцог Германтский, — какая низость со стороны этого субъекта предъявлять нам требования». Но Жюпьен оставался непреклонен, делая вид, что ему совершенно неизвестно ни о каком «добре», делавшемся когда-нибудь герцогиней. Однако она его делала, но так как невозможно простирать его на всех, то память об одном облагодетельствованном есть основание воздерживаться от помощи другому, который тем сильнее проникается недовольством. Впрочем, не только с точки зрения благотворительности квартал казался герцогу — и на довольно большом расстоянии — лишь продолжением его двора, обширным манежем для его лошадей. Посмотрев, как новая лошадь бежит рысью одна, он приказывал ее запрячь и объехать все соседние улицы, причем доезжачий бежал рядом с экипажем, держа в руках вожжи и гоняя лошадь взад и вперед перед герцогом, который стоял на тротуаре, огромный, одетый в светлое, с сигарой во рту, с непокрытой головой, вперив в бегущую лошадь любознательный монокль, пока, наконец, не прыгал на козлы и не начинал править лошадью сам, чтобы ее испытать, после чего отправлялся с новой запряжкой к своей любовнице на Елисейские Поля. Герцог Германтский здоровался во дворе с двумя супружескими парами, более или менее принадлежавшими к его обществу: с четою его родственников, которая, подобно семьям рабочих, никогда не бывала дома, чтобы смотреть за детьми, так как жена с утра уходила в «schola» изучать контрапункт и фугу, а муж — в свою мастерскую заниматься резьбой по дереву и тиснением кожи; затем — с бароном и баронессой де Норпуа, одетыми всегда в черное, жена — сдатчицей стульев в садах, муж — факельщиком, и по несколько раз в день ходившими в церковь. Это были племянники старого посла, нашего знакомого, которого недавно встретил на лестнице мой отец, недоумевая, откуда он идет; ибо, по мнению отца, столь значительная персона, поддерживавшая сношения с самыми выдающимися людьми Европы и вероятно весьма равнодушная к суетным аристократическим связям, не должна была водиться с этими безвестными дворянами, ограниченными клерикалами. Они поселились в этом доме недавно; Жюпьен, подойдя однажды во дворе к мужу, здоровавшемуся с герцогом, назвал его «господином Норпуа», не зная в точности его имени.
— Ха, господин Норпуа, ха, остроумно придумано! Терпение! Скоро этот субъект будет вас называть гражданином Норпуа! — воскликнул, обращаясь к барону, герцог Германтский. Он нашел, наконец, случай излить свое негодование на Жюпьена, который обращался к нему «господин», а не «господин герцог».
Как-то раз герцог Германтский, нуждаясь в какой-то справке, котирую мог ему дать отец, сам представился отцу с большой учтивостью. С тех пор ему часто случалось обращаться к отцу за услугами, и всякий раз, замечая, как он спускается с лестницы, всецело поглощенный мыслью о какой-нибудь работе, а потому избегающий всяких встреч, герцог покидал своих конюхов, подходил во дворе к отцу, поправлял ему воротник пальто с услужливостью, унаследованной от старых камердинеров короля, брал его за руку и, держа ее в своей, даже лаская ее, чтобы доказать с бесцеремонностью царедворца, как охотно он готов дарить прикосновение своего драгоценного естества, вел таким образом моего раздраженного родителя, думавшего только о том, как бы удрать, до самых ворот. Он отвесил однажды широкий поклон, повстречавшись с нами в ту минуту, когда уезжал в экипаже с женой, и, должно быть, сказал ей мое имя, но велика ли была вероятность, что она его запомнит, запомнит мое лицо? И к тому же какая жалкая рекомендация быть названным лишь в качестве одного из жильцов! Рекомендацией более внушительной была бы встреча с герцогиней у г-жи де Вильпаризи, которая как раз передала мне через бабушку приглашение зайти к ней, причем, зная мое намерение посвятить себя литературной деятельности, сказала, что я встречу у нее писателей. Но отец находил, что я еще слишком молод, чтобы начинать светскую жизнь, и, так как состояние моего здоровья продолжало его беспокоить, считал нежелательным доставлять мне лишний повод выходить из дому.
Один из выездных лакеев герцогини Германтской часто вступал в разговоры с Франсуазой, и таким образом я мог услышать, какие салоны она посещала, но я их не представлял себе: с той минуты, как они становились частью ее жизни, жизни, которую я видел лишь в свете ее имени, разве не делались они непостижимыми?
— Сегодня большой вечер китайских теней у принцессы Пармской, — говорил лакей, — но мы там не будем, потому что в пять часов мадам садится в поезд и едет в Шантильи провести два дня у герцога Омальского, но она берет с собой горничную и камердинера. Я остаюсь здесь. Принцесса Пармская будет недовольна, она четыре раза писала герцогине.
— Так вы больше не поедете в замок Германт в этом году?
— Да, в этом году в первый раз мы туда не поедем: из-за ревматизма герцога; доктор запретил ему туда возвращаться, прежде чем устроят паровое отопление, но перед этим господа каждый год жили там до января. Если отопление не будет готово, мадам, может быть, поедет на несколько дней в Канн к герцогине де Гиз, но это еще не наверное.
— А в театре вы бываете?
— Мы бываем иногда в опере, иногда на абонементе принцессы Пармской, раз в неделю; говорят, это очень шикарно; там дают пьесы, оперу, все. Герцогиня не пожелала взять абонемент, но мы все же бываем один раз в ложе одной ее знакомой, другой раз — у другой, часто в бенуаре принцессы Германтской, жены кузена герцога. Это сестра герцога Баварского… Значит, стоит вам подняться, и вы у себя, — говорил лакей, для которого, несмотря на его отожествление с Германтами, были однако господа вообще — понятие дипломатическое, позволявшее ему обращаться с Франсуазой с таким почтением, как если бы она служила у герцогини. — У вас очень здоровый вид, мадам.
— Ах, не будь эти проклятые ноги! На равнине еще благополучно (на равнине означало: во дворе, на улице, где Франсуаза не гнушалась прогуливаться, словом, на плоском месте), но эти чортовы лестницы. До свидания, мосье, может быть еще увидимся сегодня вечером.
Она проявляла особенную охоту поговорить с выездным лакеем, когда узнала от него, что сыновья герцогов часто носят титул принца и сохраняют его до смерти отца. По всей вероятности культ знати, смешанный и сочетавшийся с известным духом возмущения против нее, еще очень силен во французском народе, поскольку из поколения в поколение он его черпал на господских землях Франции. Ибо Франсуаза, которой можно было говорить о гении Наполеона или о беспроволочном телеграфе, нисколько не привлекая ее внимания и ни на мгновение не вызывая замедления ее движений, при помощи которых она выгребала золу из камина или накрывала на стол, — Франсуаза, стоило ей только узнать эти подробности, или что младший сын герцога Германтского назывался обыкновенно принцем Олеронским, восклицала: «Как это хорошо!» — и стояла ослепленная, точно перед расписным окном в церкви.
Франсуаза узнала также от камердинера принца Агригентского, постоянно приносившего письма к герцогине и таким образом завязавшего с ней знакомство, что в свете действительно много говорили о женитьбе маркиза де Сен-Лу на мадмуазель д'Амбрезак и что это вопрос почти решенный.
Эта вилла, эта ложа бенуара, в которые герцогиня Германтская переливала свою жизнь, казались мне местами не менее волшебными, чем ее покои. Имена: Гизы, Парма, Германт-Бавария, обособляли от всего прочего сельские местности, куда ездила герцогиня, ежедневные празднества, которые след ее экипажа связывал с ее особняком. Если они мне говорили, что из этих разъездов, из этих праздников последовательно складывалась жизнь герцогини Германтской, они нисколько не проясняли мне ее личности. Каждая такая поездка, каждый праздник определяли по-разному жизнь герцогини, но они лишь окружали ее новой тайной, ничуть не рассеивая прежней, которая лишь перемещалась, охраняемая переборками, заключенная в сосуд, среди волн обыденной жизни. Герцогиня могла завтракать на побережьи Средиземного моря во время карнавала, но только на вилле герцогини де Гиз, где королева парижского общества, в своем белом пикейном платье, среди многочисленных принцесс, была лишь гостьей, подобной другим, и потому еще более меня волнующей, еще ярче утверждавшей себя при помощи этих обновлений, как балетная звезда, по прихоти какого-нибудь на последовательно занимающая место каждой из балерин, которыми она окружена; она могла смотреть китайские тени, но только на вечере у принцессы Пармской, могла слушать трагедию или оперу, но только из бенуара принцессы Германтской.
Мы обыкновенно приурочиваем к телу определенного человека все возможности его жизни, память о лицах, с которыми он знаком и которых только что покинул или сейчас увидит, — и если, узнав от Франсуазы, что герцогиня Германтская идет пешком завтракать к принцессе Пармской, я ее видел около полудня выходящей из дому в атласном платье телесного цвета, над которым лицо ее было такого оттенка, как облако при закатном солнце, то я тем самым видел перед собой все удовольствия Сен-Жерменского предместья, заключенные в этом небольшом геометрическом теле, как в раковине, между глянцевитыми створками из розового перламутра.
У моего отца был в министерстве один приятель, некто А. Ж. Моро, который, чтобы отличаться от других Моро, всегда старательно ставил перед своей фамилией указанные два инициала, так что его для краткости называли А. Ж. И вот, не знаю каким образом, этот А. Ж. оказался обладателем кресла на один парадный спектакль в опере; он прислал его отцу, и так как на этом спектакле должна была играть одно действие из «Федры» Берма, которой я не видел на сцене со времени моего первого разочарования, то бабушка упросила отца уступить билет мне.
По правде говоря, я не придавал никакой цены этой возможности услышать Берму, которая несколько лет тому назад повергла меня в такое волнение. Не без грусти констатировал я мое равнодушие к тому, что некогда предпочитал здоровью и покою. Не — то чтобы стало менее пылким, чем тогда, мое желание созерцать вблизи драгоценные частицы реальности, которую прозревало мое воображение. Но мое воображение уже не вкладывало их в дикцию великой актрисы; после посещении Эльстира я перенес на некоторые ковры, на некоторые картины новых художников то внутреннее доверие, которое питал когда-то к игре, к трагическому искусству Бермы; а когда моя вера и мое желание перестали творить непрерывный культ дикции и позам Бермы, то их «двойник», хранившийся в моем сердце захирел мало-помалу, как те «двойники» покойников древнего Египта, которых надо было постоянно кормить для поддержания их жизни. Искусство Бермы стало скудным и жалким. Его покинула обитавшая в его недрах душа.
Когда, воспользовавшись билетом, присланным отцу, я поднимался по главной лестнице оперы, мне бросился в глаза человек, которого я принял сперва за г-на де Шарлюса — настолько у него была похожая осанка; но он повернул голову, чтобы о чем-то спросить у театрального служащего, и я убедился в своей ошибке, однако без колебания отнес незнакомца к тому же общественному классу не только на основании его костюма, но и по его манере разговаривать с контролером и капельдинерами, которые заставляли его ждать. В самом деле, несмотря на индивидуальные особенности, в эту эпоху существовало еще весьма заметное различие между любым богатым хлыщом из этой части аристократии и любым богатым хлыщом из мира финансов и крупной промышленности. Там, где кто-либо из хлыщеватых финансистов вздумал бы проявить свой шик резким и высокомерным по отношению к низшему тоном, знатный барин, ласковый и улыбающийся, напускал на себя покорность и терпеливость, притворялся рядовым зрителем, почитая это привилегией хорошего воспитания. Весьма вероятно, что, видя его драпирующим добродушной улыбкой непереходимый порог особенного мирка, который он в себе носил, не один сынок богатого банкира, входивший в эту минуту в театр, принял бы этого знатного барина за человека ничтожного, если бы не обнаружил в нем поразительного сходства с недавно помещенным в иллюстрированных журналах портретом племянника австрийского императора, принца Саксонского, как раз в это время находившегося в Париже. Я знал, что принц — большой друг Германтов. Подойдя вслед за ним к контролеру, я услышал, как принц Саксонский, или господин, принимаемый мной за такового, говорил с улыбкой: «Не знаю номера ложи, мне ее кузина сказала, чтобы я просто спросил ее ложу».
Может быть то был принц Саксонский; может быть на герцогиню Германтскую (которую в таком случае я мог бы увидеть, в один из моментов ее непредставимой жизни — в момент, проводимый ею в бенуаре кузины) были мысленно направлены глаза его, когда он говорил: «Мне кузина сказала, чтобы я просто спросил ее ложу», — вследствие чего этот улыбающийся и такой особенный взгляд и эти столь простые слова ласкали мне сердце (гораздо больше, чем ласкала бы какая-нибудь отвлеченная мечта) нежным прикосновением то возможного счастья, то неверного очарования. По крайней мере, обращаясь с этой фразой к контролеру, незнакомец открывал на заурядном вечере моей будничной жизни неожиданный доступ в некий новый мир; коридор, который ему указали после того, как было произнесено слово «бенуар», и в который он углубился, был сырой и в трещинах и, казалось, вел в морские гроты, в мифологическое царство нимф водной стихии. Я видел впереди лишь удалявшегося господина во фраке; но я наводил на него, точно при помощи плохо прилаженного рефлектора, так что она не попадала прямо на него, мысль, что это принц Саксонский и что он сейчас увидит герцогиню Германтскую. И несмотря на то, что он был один, эта внешняя по отношению к нему мысль, неосязаемая, необъятная и скачущая, как световой блик, казалось, ему предшествовала и вела его, подобно тому невидимому для остальных людей божеству, что помещается возле греческого воина.
Я добрался до своего места, все время пытаясь припомнить один стих из «Федры», неточно удержавшийся в моей памяти. В том виде, как я его декламировал, он не имел нужного числа стоп, но так как я не пробовал их считать, то мне казалось, что между его развинченностью и классическим стихом не существует ничего общего. Я бы не удивился, если бы из моей чудовищной фразы понадобилось убрать больше шести стоп, чтобы получился двенадцатисложный стих. Но вдруг я его припомнил, не укладывающиеся в размер шероховатости какого-то неприютного мира исчезли как по мановению волшебного жезла; слоги стиха тотчас заполнили размер александрийской строки, все лишнее в нем отпало с такой легкостью и податливостью, точно пузырь, лопнувший на поверхности воды. В действительности громада, с которой я боролся, была всего только одной стопой.
Некоторое количество кресел партера было пущено в кассовую продажу и раскуплено снобами или любопытными, желавшими поглазеть на людей, которых они не могли бы иным способом увидеть вблизи. В самом деле, это был случай рассмотреть публично кусочек подлинной светской жизни, обыкновенно скрытой от глаз, ибо принцесса Пармская сама распределила между своими знакомыми ложи, балконы и бенуары, так что театральная зала оказалась как бы салоном, где все менялись местами, присаживались то здесь, то там возле знакомой дамы.
Рядом со мной сидели люди заурядные, которые, не будучи знакомы с обладателями абонементов, хотели показать, что знают их в лицо, и громко называли их имена. Они добавляли, что эти господа приходят сюда как в свою гостиную, желая этим сказать, что они не обращают внимания на то, что делается на сцене. Но в действительности происходило обратное. Какой-нибудь способный студент, взявший кресло, чтобы послушать Берма, думает лишь о том, как бы не запачкать своих перчаток, не побеспокоить и снискать к себе расположение соседа, посланного ему случаем, ответить прерывающейся улыбкой на беглый взгляд, невежливо отвернуться от встреченного взгляда знакомой дамы, которую он обнаружил в зале и к которой после тысячи колебаний решается подойти в ту минуту, когда три удара, раздавшись прежде, чем он до нее добрался, вынуждают его ринуться, как евреи в Чермное море, меж мятущихся валов зрителей и зрительниц, которых он заставляет вставать и которым рвет платья и отдавливает ноги. Наоборот, оттого что светские люди находились в своих ложах (за расположенным террасою балконом), точно в маленьких висячих салонах, в которых убрана одна стенка, или в маленьких кафе, куда ходят есть баварский крем, и их не смущали зеркала в золотых рамах и красные диваны заведения в неаполитанском вкусе; оттого что они равнодушно клали руку на золоченые стержни колонн, поддерживавших этот храм лирического искусства; оттого что их не трогали преувеличенные почести, которые, казалось, воздавали им две лепные фигуры, протягивавшие к ложам пальмы и лавры, — именно поэтому у одних только светских людей ум был бы достаточно свободен для того, чтобы слушать пьесу, если бы у них вообще был ум.
Сначала виднелся лишь неясный полумрак, в котором вы встречали вдруг, точно луч невидимого драгоценного камня, свечение пары прославленных глаз или, — точно медальон Генриха IV, выступающий на черном фоне, — наклонившийся профиль герцога Омальского, которому невидимая дама кричала: «Позвольте мне, ваше высочество, снять ваше пальто», между тем как принц отвечал: «Что вы, помилуйте, госпожа д'Амбрезак!» Но дама все же брала пальто, несмотря на этот нерешительный протест, и оказанная ей честь делала ее предметом всеобщей зависти.
Но почти во всех других ложах бенуара белые божества, обитательницы этих сумрачных убежищ, прижались к темным стенкам и оставались невидимыми. Однако, по мере развития действия, их человекоподобные формы мягко отделялись одна за другой из глубин укрывавшего их мрака, и они тянулись вперед, выводя наружу свои полуобнаженные тела и останавливаясь на рубеже, обозначенном вертикальной поверхностью светотени, где их сияющие лица показывались из-за игривого, пенистого и легкого колыхания пушистых вееров, увенчанные пурпурными прическами, перевитыми жемчугом и как будто изогнутыми волнистым движением прилива; далее начинались кресла партера, местопребывание смертных, навсегда отрезанных от сумрачно-прозрачного царства, которому там и здесь служила границей некая жидкая, но плотная поверхность — кристальные и лучепреломляющие глаза богинь водной стихии. Ибо откидные сиденья кресел и фигуры сидящих в них уродов рисовались в этих глазах единственно по законам оптики, соответственно углам падения световых лучей, как это бывает по отношению к двум областям внешней реальности, которым, зная, что в них нет, даже в самой зачаточной форме, души, похожей на нашу, мы сочли бы безрассудным посылать улыбку или взгляд: к минералам и незнакомым нам людям. Но по ту сторону, в пределах своих владений, лучистые дочери моря ежеминутно оборачивались с улыбкой к бородатым тритонам, повисшим во впадинах пропасти, или же к какому-нибудь морскому полубогу с черепом из полированного камня, на котором волной прибило лоснящуюся водоросль, и с диском из горного хрусталя вместо глаз. Они к ним наклонялись, предлагали им конфеты; иногда волна расступалась перед новой нереидой, и та, запоздавшая, улыбающаяся и смущенная, расцветала в глубине мрака; затем, по окончании действия, не надеясь больше услышать мелодических гулов суши, которые выманили их на поверхность, пестрые наяды все разом погружались во мрак и в нем пропадали. Но из всех этих затонов, на берега которых выводило любознательных богинь, не дававших к себе приблизиться, суетное желание взглянуть на произведения людей, самым прославленным был полутемный грот, известный под именем бенуара принцессы Германтской.
Словно верховная богиня, издали руководящая играми низших божеств, принцесса умышленно сидела немного в глубине на боковом диване, красном, как коралловый утес, возле широкого стекловидного мерцающего пятна, которое было по всей вероятности зеркалом и вызывало мысль о вертикальном, неявственном и текучем сечении, произведенном лучом света в ослепительном кристалле вод. Похожий сразу на перо и на венчик, как некоторые морские растения, со лба принцессы спускался большой белый цветок, пушистый как крыло, и тянулся вдоль ее щеки, с кокетливой, влюбленной и живой гибкостью следуя за ее извилинами и как будто наполовину заключая ее в себе, точно розовое яйцо в мягком гнезде зимородка. На волосах принцессы, спускаясь до самых бровей и потом повторяясь ниже на уровне шеи, была натянута сетка из тех белых раковинок, что вылавливаются в некоторых южных морях; перемешиваясь с жемчугом, они составляли морскую мозаику, едва выступающую из волн и по временам погружавшуюся в тень, но даже и тогда присутствие в ней человека выдавалось поблескиванием глаз принцессы. Красота, возвышавшая ее над другими сказочными девами полумрака, не была целиком, вещественно и исчерпывающе, вписана в ее шею, плечи, руки и талию. Но восхитительная и незаконченная линия последней являлась исходным пунктом, неизбежным началом невидимых линий, при помощи которых глаз не мог не продолжить дивные очертания всего ее тела, возникавшего в потемках как призрак совершенной женской фигуры.
— Это принцесса Германтская, — сказала моя соседка сидевшему рядом с ней господину, причем несколько раз повторила звук «п» в слове «принцесса», показывая, что находит это наименование смешным. — Она не поскупилась на жемчуга. Мне кажется, будь у меня столько камней, я бы не устраивала подобной выставки; по-моему, это неприлично.
И однако, заметив принцессу, все, желавшие знать, кто находится в зале, чувствовали, как в их сердце воздвигается законный престол красоты. В самом деле, что касается герцогини Люксембургской, г-жи де Мориенваль, г-жи де Сент-Эверт и многих других, то особенностью, позволявшей узнать их лица, было сходство толстого красного носа с заячьей губой или морщинистых щек с выхоленными усами. Впрочем, этого было достаточно, чтобы пленить, ибо, обладая лишь условным значением почерка, особенности эти позволяли прочитать известное имя, импонировавшее театральной публике; но в конце концов они внушали также мысль, что безобразие есть качество в некотором роде аристократическое и что лицу светской дамы, если оно отличается изысканностью, вовсе не надо быть красивым. Но как некоторые художники помещают внизу своих полотен, вместо подписи, какую-нибудь красивую фигурку: бабочку, ящерицу или цветок, — так и принцесса помещала в углу своей ложи очертание прелестного лица и тела, показывая тем, что красота может быть самой благородной подписью; ибо присутствие принцессы, привлекавшее в театр людей, которые в остальное время составляли часть ее интимного общества, было в глазах любителей аристократии наилучшим удостоверением подлинности картины, которую представлял ее бенуар, как бы волшебным появлением сцены из повседневной жизни принцессы в ее мюнхенском или парижском дворцах.
Наше воображение похоже на расстроенную шарманку, которая всегда играет что-то другое вместо показанной арии, и каждый раз, когда при мне говорили о принцессе Германт-Баварской, во мне начинало петь воспоминание о некоторых произведениях XVI века. Теперь, когда я видел ее предлагающею конфеты толстому господину во фраке, мне надо было отрешить ее от этого воспоминания. Разумеется, я был весьма далек от вывода, что она и ее гости являются существами, подобными всем прочим. Я хорошо понимал, что все их теперешние действия есть лишь игра и что в качестве прелюдии к их подлинной жизни (важнейшая часть которой, конечно, протекала не здесь) они условились совершить какой-то неведомый мне ритуал, в силу которого притворно предлагали друг другу конфеты и отказывались от них, — жест, лишенный обыкновенно присущего ему значения и наперед рассчитанный, как па танцовщицы, которая то поднимается на носки, то кружится с шарфом. Кто знает, может быть, предлагая конфеты, богиня говорила иронически (ибо я видел на лице ее улыбку): «Не хотите ли конфету?» Что мне было до того? Я бы нашел мило изысканной умышленную сухость, в духе Мериме или Мельяка, этих слов, обращенных богиней к полубогу, который отлично знал, какие возвышенные мысли оба они излагают (конечно для того времени, когда они вновь начнут жить настоящей жизнью), и, соглашаясь участвовать в этой игре, отвечал с тем же таинственным лукавством: «Да, я с удовольствием возьму вишню». И я слушал бы этот диалог с той же жадностью, как какую-нибудь сцену из «Мужа дебютантки», в которой отсутствие поэзии и значительных мыслей — вещей столь привычных для меня и которые, по-моему, Мельяк был бы вполне способен вложить в нее, — представлялось мне само по себе изяществом, изяществом условным, и потому тем более таинственным и поучительным.
— Этот толстяк — маркиз де Гананси, — сказал со сведущим видом мой сосед, плохо расслышав произнесенное шопотом за его спиной имя.
Маркиз де Паланси, вытянув шею, склонившись набок и прильнув глазом к стеклу монокля, медленно перемещался в прозрачной тени, по-видимому не замечая публики партера, как рыба, проплывающая за стеклянной стенкой аквариума, не замечает толпы любопытных посетителей. По временам он останавливался, осанистый, пыхтящий и покрытый мохом, и зрители не могли бы сказать, страдает ли он, спит, плывет, собирается снестись или только переводит дух. Никто не возбуждал во мне столько зависти, по причине видимой привычности для него этого бенуара и равнодушия, с которым он предоставлял принцессе угощать его конфетами; она тогда бросала на него взгляд своих прекрасных глаз, граненных в алмазе, которые в такие мгновения как будто расплавлялись умом и дружелюбием, но в состоянии покоя, сведенные к чисто материальной красоте, к единственно лишь минеральному блеску, если их слегка перемещал малейший рефлекс, зажигали глубину партера нечеловеческими, горизонтальными, роскошными огнями. Однако вскоре должно было начаться действие из «Федры», в котором играла Берма, и принцесса перешла в переднюю часть ложи; при этом, точно она сама была театральной дивой, я увидел, как в иначе окрашенной полосе света, которую она пересекла, изменился не только цвет, но и вещество ее уборов. И в высохшем, выступившем на поверхность бенуаре, уже не принадлежавшем к водной стихии, принцесса, перестав быть нереидой, явилась в белой с голубым чалме, словно какая-нибудь прекрасная трагическая актриса в костюме Заиры или, может быть, даже Оросмана; потом, когда она села у самого края ложи, я увидел, что уютное гнездо зимородка, нежно прикрывавшее розовый перламутр ее щек, было огромной райской птицей, мягкой, сверкающей и бархатистой.
Между тем мои взгляды были отвлечены от бенуара принцессы Германтской низенькой, дурно одетой и некрасивой женщиной, которая явилась в сопровождении двух молодых людей и заняла место недалеко от меня. Затем поднялся занавес. Я не мог без грусти констатировать, что во мне ничего не осталось от моих прежних наклонностей, когда, чтобы ничего не потерять из редкостного явления, смотреть которое я пошел бы на край света, я держал мой ум наготове, как те чувствительные пластинки, что устанавливаются астрономами в Африке или на Антильских островах с целью тщательнейшего наблюдения какой-нибудь кометы или солнечного затмения; когда я дрожал, как бы случайное облако (дурное расположение артистки, инцидент в публике) не помешало зрелищу развернуться с максимальной силой; когда я считал бы, что увижу его не в наилучших условиях, если пойду не в тот театр, который был ей посвящен как алтарь, где мне представлялись тогда неотъемлемой, хотя и второстепенной частью ее появления за маленьким красным занавесом контролеры с белой гвоздикой, ею самой назначенные, архитектура партера, наполненного плохо одетыми людьми, капельдинеры, продающие программу с ее портретом, каштаны в сквере перед театром, все эти спутники, наперсники моих тогдашних впечатлений, которые мне казались от них неотделимыми. «Федра», сцена признания, Берма обладали тогда для меня как бы абсолютным бытием. Расположенные в стороне от мира повседневного опыта, они существовали сами по себе, мне надо было подойти к ним, я бы проник в них насколько мог, а широко открыв глаза и душу, впитал бы еще немного из их сущности. Но какой приятной представлялась мне жизнь: ничтожество той, что я вел, не имело никакого значения, вроде тех минут, когда мы одеваемся, готовимся выйти, так как за ее пределами непреложно существовали реальности более подлинные, доброкачественные, трудно доступные, овладеть которыми целиком было невозможно, — «Федра», манера дикции Бермы. Насыщенный этими мечтами о совершенстве в драматическом искусстве до таких пределов, что их можно было бы добыть немалую дозу, если бы проанализировать в те времена мой ум в любую минуту дня и даже, может быть, ночи, я был похож тогда на вольтов столб, вырабатывающий электричество. И наступил такой момент, когда мне, больному, даже под угрозой смерти, во что бы то ни стало нужно было пойти послушать Берму. Но теперь, подобно холму, который издали кажется сделанным из лазури, а вблизи входит в поле нашего обычного зрения, все это покинуло мир абсолютного и сделалось вещью, подобной всем прочим, которую я воспринимал, потому что находился в театре, артисты оказались людьми той же сущности, что и мои знакомые, они старались как можно лучше произносить стихи из «Федры», которые в свою очередь уже не составляли некоей возвышенной и неповторимой сущности, от всего отделенной, но были просто более или менее удачными стихами, готовыми вернуться в необъятную сокровищницу французских стихов, с которыми они перемешивались. Я впал от этого в уныние тем более глубокое, что хотя предмет моего упорного и неугомонного желания уже не существовал, зато по-прежнему существовало мое расположение к постоянной мечтательности, которая меняла свой характер из года в год, но неизменно приводила меня к импульсивным решениям, парализовавшим всякое чувство опасности. День, когда я, больной, отправлялся в какой-нибудь замок посмотреть картину Эльстира или готический ковер, слишком напоминал день, когда я должен был отправиться в Венецию, день, когда я ходил послушать Берму или уехал в Бальбек, и я наперед чувствовал, что теперешний предмет моего самопожертвования через короткое время будет оставлять меня равнодушным, что я буду тогда спокойно проходить мимо этого замка, не испытывая никакого желания взглянуть на картину или ковер, ради которых я в настоящую минуту пренебрег бы столькими бессонными ночами, столькими приступами болезни. Благодаря этой неустойчивости предметов моего усилия я чувствовал всю тщету его и в то же время его огромное напряжение, о котором я не подозревал, как те неврастеники, усталость которых мы увеличиваем вдвое, обращая их внимание на то, что они устали. Тем временем моя мечтательность окружала обаянием все, что способно было пробудить ее. И даже в самых плотских моих желаниях, всегда направленных в определенную сторону, сосредоточенных вокруг определенного представления, я мог бы различить в качестве перводвигателя одну идею, — идею, ради которой я пожертвовал бы жизнью и самым центральным пунктом которой, как во время моих послеполуденных мечтаний за книгой в саду, в Комбре, была идея совершенства.
Я уже не относился с прежней снисходительностью к добросовестному намерению правильно передать нежность или гнев, подмеченному мной тогда в речах и игре Арисии, Исмены и Ипполита. Не потому, чтобы игравшие их артисты — те же самые — не пытались по-прежнему с таким же умом придать своим голосам ласковую интонацию или рассчитанную двусмысленность, а своим жестам — трагическую широту или молящую мягкость. Их интонации приказывали голосу: «Будь вкрадчивым, пой соловьем, ласкай», или напротив: «Будь яростным», и после этого набрасывались на него, пытаясь увлечь в свое исступление. Но тот, непокорный, оставался чуждым их манере говорить, оставался, несмотря ни на что, их естественным голосом, со свойственными ему недостатками или красотой, с повседневной пошлостью или деланностью, и представлял таким образом совокупность акустических или социальных явлений, которого не изменило чувство декламируемых стихов.
Точно так же и жест этих артистов говорил их рукам, их пеплуму: «Будьте величественны». Но непослушные члены позволяли бицепсу, совсем не знавшему роли, топорщиться между плечом и локтем; они по-прежнему выражали ничтожество будничной жизни и показывали не оттенки расиновских стихов, но сплетения мышц; а складки одежды, которую они поднимали, опускались по вертикальной линии, согласно законам падения тел, преодолевавшимся лишь прозаической гибкостью ткани. В эту минуту сидевшая возле меня низенькая дама воскликнула:
— Ни одного хлопка! И как вырядилась! Но она слишком стара, она больше не может, в таких случаях уходят со сцены.
Соседи зашикали, и двое молодых людей, спутников дамы, постарались ее угомонить, так что бешенство ее стало выражаться только в негодующих взглядах. Впрочем, предметом этого бешенства могли быть только успех, слава, ибо Берма, зарабатывавшая столько денег, была кругом в долгах. Всегда принимая деловые или дружеские свидания, на которые она не могла явиться, Берма имела на всех улицах посыльных, которые разносили ее извинения, заказывала в гостиницах комнаты, которые так никогда и не занимала, покупала моря духов, чтобы мыть своих собачек, платила неустойки всем антрепренерам. При отсутствии более крупных и менее изысканных расходов, чем расходы Клеопатры, она нашла бы способ промотать целые области и царства на пневматическую почту и на парижских извозчиков. Но низенькая дама была актриса, которой очень не повезло и которая воспылала смертельной ненавистью к Берме. Последняя только что вышла на сцену. И тогда, о чудо, — подобно урокам, заучивание которых совсем нас изнурило накануне вечером и которые мы, выспавшись, знаем наизусть, подобно лицам покойников, которые самые напряженные усилия нашей памяти тщетно пытаются восстановить, а когда мы перестаем о них думать, сами встают перед нашими глазами, совсем как живые, — талант Бермы, ускользнувший от меня, когда я так жадно пытался схватить его сущность, теперь, после долгих лет забвения, в эту минуту равнодушия, со всей очевидностью представал моим восхищенным взорам. Некогда, стараясь обособить этот талант, я как бы вычитал из того, что я слышал, самую роль, то есть часть, общую всем актрисам, которые играли «Федру», и наперед мною изученную, чтобы можно было от нее отвлечься и воспринять в качестве остатка единственно лишь талант Бермы. Но этот талант, который я старался подметить независимо от роли, составлял с ней одно целое. Так в игре большого музыканта (например, в игре Вентейля, когда он садился за рояль) сказывается такое искусство пианиста, что его вовсе даже не считаешь пианистом, так как (не заслоняясь сложным аппаратом мышечных усилий, то тут, то здесь увенчиваемых блестящими эффектами, обходясь без всех этих фейерверков звуков, внушающих слушателю, который не знает, за что ухватиться, будто они именно и являются материальным, осязательным воплощением таланта) игра его сделалась настолько прозрачной, настолько наполненной тем, что она передает, что ее больше не видишь, она превратилась в окошко, через которое открывается вид на произведение искусства. Я легко мог разглядеть все намерения, окружавшие то пышной, то тоненькой рамой голос и мимику Арисии, Исмены, Ипполита; но Федра их вобрала в себя, и уму моему не «удалось оторвать от ее дикции и поз, подметить в скупой простоте их гладкой поверхности эти находки, эти эффекты, которые не выступали наружу, — так глубоко они были в ней запрятаны. Голос Бермы, в котором не осталось более ни крошки косной и непокорной духу материи, не позволял различить вокруг себя избыток слез, которые так явственно струились по мраморному голосу Арисии или Исмены, неспособные в него впитаться, — он был удивительно гибок в малейших своих частицах, как инструмент большого скрипача, в котором, говоря, что он хорошо звучит, мы хотим похвалить не какую-нибудь физическую особенность, но благородство души; и как в античном пейзаже на месте исчезнувшей нимфы появляется безжизненный источник, так различимое и конкретное намерение превратилось здесь в определенное качество тембра, в необыкновенную прозрачность, ладную и холодную. Руки Бермы, приподнимаемые на груди ее, казалось, самими стихами — тем же импульсом, который выталкивал из губ ее голос, — и похожие на древесную листву, перемещаемую проточной водой; ее поза на сцене, медленно ею выработанная, еще подлежащая изменениям и составленная из рассуждений иной глубины, чем те, следы которых были заметны в жестах ее товарищей, но рассуждений, утративших умышленное свое происхождение, расплавленных в своего рода сиянии, разливавшем вокруг персонажа Федры трепет богатой и сложной жизни, в которой, однако, завороженный зритель видел не удачу артистки, но кусок живой действительности; даже белые покровы точно из живого вещества, изнеможенные и преданные, как бы сотканны страданием, полуязыческим-полуянсенистским, вокруг которого они обвивались как хрупкий и зябкий кокон; все это — голос, позы, жесты, покровы — были вокруг тела мысли, каковым является каждый стих (тело это, в противоположность телам человеческим, не заслоняет душу непроницаемой преградой, мешающей ее увидеть, но подобно просветленной и оживленной одежде, которую душа пронизывает и в которой ее узнаешь), лишь добавочными оболочками, которые не только ее не прятали, но, напротив, раскрывали во всем блеске эту пропитавшую их и разлитую по ним душу, — были лишь расплавленными кусками разнородных и ставших полупрозрачными веществ, наслоение которых лишь богаче преломляет срединный плененный луч, сквозь них проходящий, и делает более просторной, более драгоценной и более прекрасной насыщенную пламенем материю, его обволакивающую. Такой была игра Бермы; она окружала произведение искусства другим художественным произведением, которое тоже оживлено было гением; гением Расина?
Мое впечатление, более приятное, чем то, что я получил раньше, по правде говоря, не отличалось от прежнего. Только на этот раз я его не сравнивал с заранее составленной, отвлеченной и ложной идеей драматического искусства; я понимал, что это как раз и есть драматическое искусство. Я думал сейчас, что если в первый раз я не получил удовольствия от игры Бермы, то объяснялось это тем, что я, как в былое время, встречая Жильберту на Елисейских Полях, подходил к ней, одержимый слишком сильным желанием. Между двумя разочарованиями существовало, может быть, не только это сходство, а было еще и другое, более глубокое. Впечатление, оставляемое в нас человеком, произведением искусства (или его исполнением), если особенности их выражены с большой силой, своеобразно. Мы принесли с собой идеи «красоты», «широты стиля», «патетичности», иллюзию которых мы в лучшем случае могли бы встретить в банальном даровании, в правильных чертах лица, но перед нашим напряженным, вниманием настойчиво утверждается форма, интеллектуального эквивалента которой нет в нашем уме, так что ему надо раскрыть ее неизвестный смысл. Он слышит резкий звук, странную вопросительную интонацию. Он задает себе вопрос: «Хорошо ли то, что я чувствую? Восхищение ли это? Так это и есть богатство колорита благородство, мощь?» А в ответ он снова слышит резкий голос, курьезный вопросительный тон, ему деспотически навязывается впечатление совершенно незнакомого существа, насквозь материальное, в котором не оставлено ни кусочка свободного пространства для «благородной игры». По этой причине как раз произведения подлинно прекрасные, если слушать их не предвзято, должны больше всего нас разочаровывать, ибо в коллекции наших идей нет ни одной, которая отвечала бы нашему своеобразному впечатлению.
Именно такое впечатление производила на меня игра Бермы. Да, конечно, я видел перед собой благородство, слышал умную дикцию. Теперь я уяснил себе достоинства широкого, поэтического, мощного толкования, или, вернее, передо мной было то, за чем принято признавать эти достоинства, но вроде того, как имена Марса, Венеры, Сатурна дают звездам, не заключающим в себе ничего мифологического. Мы чувствуем в одном мире, но мыслим и даем названия в другом; мы можем установить соответствие между обоими мирами, но бессильны заполнить расстояние между ними. Это расстояние, этот разрыв мне едва ли следовало преодолевать, когда, увидев впервые игру Бермы и с напряженным вниманием прослушав каждое ее слово, я не без труда вернулся к моим представлениям о «благородной игре» и «оригинальности» и начал аплодировать не сразу, как будто мои аплодисменты рождались не из моего непосредственного впечатления, а были связаны с ранее сложившимися во мне представлениями, с удовольствием, которое я испытывал, говоря себе: «Наконец-то я слушаю Берму». Различие, существующее между своеобразной личностью или оригинальным произведением искусства и идеей красоты, в такой же степени наблюдается между впечатлениями, которые они в нас оставляют, и идеями любви или восхищения. Вот почему мы их не узнаем. Я не испытывал удовольствия, слушая Берму (как не испытывал его, видя Жильберту). Я говорил себе: «Итак, она не вызвала во мне восхищения». И однако все мои тогдашние помыслы были сосредоточены на углублении игры Бермы, я был этим всецело поглощен, я старался как можно шире открыть мой разум, чтобы воспринять все, что заключала в себе ее игра. Теперь я понимал, что это как раз и было восхищение.
Но этот гений, не просто лишь раскрываемый игрой Бермы, — был ли он только гением Расина?
Так я думал сначала. Мне пришлось в этом разубедиться по окончании действия из «Федры», после вызовов публики, во время которых старая обозленная актриса, выпрямившись во весь свой миниатюрный рост, ставши наискосок, привела в неподвижность лицевые мускулы и скрестила руки на груди, чтобы показать, что она не принимает участия в аплодисментах других, и ярче подчеркнуть протест, который она считала сенсационным, но который остался незамеченным. Следующая пьеса была одной из тех новинок, которые когда-то, по причине своей неизвестности, казались мне ничтожными, случайными, лишенными жизни за пределами вечера, когда их играли на сцене. Но зато я не испытывал, как в отношении классической пьесы, разочарования, овладевающего нами при виде вечного шедевра, когда он целиком укладывается на театральной сцене и длится лишь в течение спектакля, представляющего по отношению к нему что-то вроде публичного совершения молитвы. Затем к каждой тираде, которая, как я чувствовал, нравилась публике и сделается со временем знаменитой, я мысленно присоединял если не прошлую ее славу, которой она иметь не могла, то ее славу в будущем, — присоединял при помощи усилия ума, обратного тому, какое мы производим, желая представить себе великие произведения искусства в эпоху их неуверенного появления, когда их заглавие, еще ни разу не слышанное, кажется, никогда не займет места рядом с заглавиями других произведений того же автора, приобретя одинаковую с ними окраску. И эта роль Бермы войдет однажды в список лучших ее ролей, поместится рядом с ролью Федры. Не то чтобы сама по себе она была лишена всякой литературной ценности, — но Берма была в ней столь же прекрасна, как и в роли Федры. Я понял тогда, что произведение писателя служит трагической актрисе лишь материалом (по существу почти безразличным) для создания шедевра драматического искусства, вроде того как великий художник, с которым я познакомился в Бальбеке, Эльстир, нашел мотив для двух равноценных картин в заурядной школьной постройке и в готическом соборе, который и сам по себе являлся шедевром. И как художник растворяет дом, тележку, людей в своеобразном световом эффекте, делающем все это однородным, так и Берма прикрывала широкой пеленой ужаса или нежности одинаково окрашенные слова, все сглаженные или подчеркнутые, между тем как посредственная артистка отчеканивала бы их одно за другим. Конечно, каждое из них акцентировалось особенным образом, и дикция Бермы не мешала восприятию стихов. Разве не является первым признаком упорядоченной сложности, то есть красоты, то обстоятельство, что, слыша рифму, то есть нечто, сразу и подобное и отличное от предшествующей рифмы, ею мотивированное, но вводящее в нее некоторое новое представление, мы чувствуем две накладывающиеся друг на друга системы: систему мыслей и систему поэтического размера? Однако Берма вводила слова, даже стихи, даже целые «тирады» в более обширные ансамбли, и какое наслаждение было слушать, как, дойдя до их границы, все эти стихи и тирады останавливаются, умолкают; так поэт испытывает удовольствие, дойдя до рифмы, приостановиться на мгновение перед словом, которое у него сейчас вырвется, или композитор — соединяя различные слова либретто в одинаковом ритме, который их насилует и увлекает. Так и в фразы современного драматурга, не хуже, чем в стихи Расина, Берма умела ввести широкие образы скорби, благородства, страсти, которые были гениальными достижениями ее искусства и в которых все ее узнавали, как узнают художника в портретах, написанных им с различной натуры.
Теперь я не испытывал, как в прежнее время, желания закрепить в неподвижности позы Бермы красивые красочные эффекты, которые она на миг создавала в быстро менявшемся освещении и которые больше не возобновлялись, мне больше не хотелось заставить ее сто раз повторять какой-нибудь стих. Я понимал, что мое прежнее желание было более требовательно, чем воля поэта, трагической актрисы, талантливого художника-декоратора, ее режиссера, и что это на лету проливаемое на какой-нибудь стих очарование, эти неустойчивые, постоянно меняющиеся жесты, эти последовательные картины, — все это было мимолетным результатом, минутной целью, подвижным шедевром театрального искусства, который разрушило бы пожелавшее его фиксировать внимание слишком восторженного зрителя. Я даже не стремился снова пойти в театр, чтобы еще раз послушать Берму; я был ею удовлетворен; это в те времена, когда я слишком восхищался, чтобы не обмануться предметом моего восхищения, была ли им Жильберта или Берма, я заранее требовал от завтрашнего впечатления радости, в которой мне отказало впечатление вчерашнее. Не пытаясь углублять только что мной испытанное удовольствие, которым я, вероятно, мог бы воспользоваться плодотворнее, я говорил себе, как когда-то один из моих товарищей по колледжу: «Я без колебаний ставлю Берму на первое место», — впрочем, смутно чувствуя, что это мое предпочтение и отведенное ей первое место, может быть, далеко не точно выражают гений Бермы, хотя бы они и приносили мне некоторое успокоение.
Когда началась вторая пьеса, я посмотрел в сторону бенуара принцессы Германтской. Движением, родившим восхитительную линию, по которой мой ум следовал в пустоте, принцесса только что повернула голову в глубину бенуара, — гости ее стояли, тоже повернувшись в глубину, — и по образованному ими проходу с уверенностью и величественным видом богини, смягченными, однако, неожиданной кротостью во взгляде по случаю такого позднего приезда, поднявшего на ноги все это общество посреди действия, смешивая белый муслин, в который она была закутана, а также искусно разыгранные простодушие, робость и смущение со своей победоносной улыбкой, только что прибывшая герцогиня Германтская направилась к своей кузине, сделала глубокий реверанс сидевшему в первом ряду молодому блондину и, повернувшись к морским чудовищам, плававшим в глубине грота, поздоровалась с этими полубогами Жокей-Клуба, — на месте которых, особенно на месте г-на де Паланси, я больше всего на свете хотел бы быть в эту минуту, — кивком старой приятельницы, намекавшим на повседневные отношения с ними в течение пятнадцати лет. Я чувствовал тайну, но не мог разгадать загадку ее взгляда, улыбавшегося друзьям и загоравшегося голубоватым огнем, в то время как она предоставляла свою руку то одним, то другим, — взгляда, который, если бы я мог его разложить на составляющие его кристаллы, открыл бы мне, может быть, сущность неведомой жизни, светившейся в нем в эту минуту. Герцог Германтский следовал за женой, блестя моноклем, белыми зубами, гвоздикой в петлице и крахмальной грудью рубашки; чтобы дать больше места этому блеску, он приподнял брови, раздвинул губы, распахнул фрак; движением вытянутой руки, спустившейся на плечи младших чудовищ, которые уступали ему место, он приказал им садиться и отвесил низкий поклон молодому блондину. Очевидно предугадывая, что ее кузина, над «преувеличениями» которой герцогиня, говорят, подсмеивалась (а для ее чисто французского, сдержанного ума германская поэтичность и восторженность легко казались преувеличенными), выберет для этого вечера туалет, в котором она находила ее «костюмированной», герцогиня как будто пожелала дать ей урок хорошего вкуса. Вместо пышных мягких перьев, ниспадавших с головы принцессы до самой шеи, вместо сетки из раковин и жемчужин, герцогиня украсила свои волосы простой эгреткой, которая, возвышаясь над ее продолговатым носом и выпуклыми глазами, казалась хохолком диковинной птицы. Ее шея и плечи выступали из белоснежной волны муслина, над которой колыхался веер из лебяжьих перьев, но дальше единственным украшением на корсаже были бесчисленные блестки, частью металлические, в форме палочек и бусин, частью брильянтовые, и платье плотно, по-британски, облегало ее тело. Но, при всем различии обоих туалетов, принцесса и герцогиня стали любоваться друг на друга, после того как принцесса уступила кузине стул, на котором она сидела.
Может быть, на другой день герцогиня Германтская с улыбкой говорила о слишком затейливой прическе принцессы, но, конечно, от этого не меньше ее расхваливала и превозносила искусство, с которым она была сделана; а принцесса, в глубине души находя манеру одеваться кузины немножко холодной, суховатой, немножко «портновской», открывала в этой строгой сдержанности изысканную утонченность. Впрочем, гармония между ними и всестороннее тяготение, предустановленное воспитанием, смягчали контрасты не только туалета, но и манеры держать себя. У невидимых силовых линий, протянутых между кузинами элегантностью, природная общительность принцессы угасала, между тем как прямизна герцогини тянулась к ним, размягчалась, обращалась в ласковость и пленительность. Как в пьесе, которая шла в это время на сцене, чтобы оценить всю своеобразную поэзию, которой Берма насыщала свою роль, стоило только поручить эту роль, которую она одна способна была сыграть, любой другой актрисе, — так зритель, подняв глаза к двум ложам верхнего яруса, увидел бы, что наряд, по ее мнению напоминавший наряд принцессы Германтской, придавал баронессе де Мориенваль лишь эксцентрический и претенциозный вид дурно воспитанной особы, а упорное и дорого стоящее усилие подражать туалетам и шику герцогини делало г-жу де Камбремер похожей лишь на провинциальную пансионерку, прямую, сухую и мелочную, водрузившую на проволоке в волосах султан вроде тех, какими убирают катафалки. Г-жа де Камбремер была, пожалуй, неуместна в этом зале, где все ложи, наполненные сплошь самыми блестящими женщинами сезона (даже ложи самых верхних ярусов, снизу казавшиеся большими корзинами, набитыми цветами человеческой формы и привязанными к сводчатому потолку красными лентами бархатных перегородок), составляли непрочную панораму, которую каждый день готовы были изменить смерти, скандалы, болезни, ссоры, но которая в эту минуту была закреплена вниманием, духотой, головокружением, пылью, элегантностью и скукой в том бесконечном и трагическом мгновении бессознательного ожидания и тихого оцепенения, который ретроспективно кажется предваряющим взрыв бомбы или первое пламя пожара.
Г-жа де Камбремер находилась в театре по той причине, что принцесса Пармская, чуждая снобизма, как и большинство подлинных «высочеств», но зато снедаемая гордостью, жаждой благотворительности, равнявшейся у нее пристрастию к тому, что она считала «искусствами», уступила несколько лож женщинам вроде г-жи де Камбремер, которые не составляли части высшего аристократического общества, но находились с нею в сношениях по делам благотворительности. Г-жа де Камбремер не спускала глаз с герцогини и принцессы Германтских, не чувствуя при этом никакой неловкости, потому что, не будучи с ними по-настоящему знакомой, она не могла создать впечатление человека, который непременно хочет поздороваться. Быть принятой у этих знатных дам являлось, однако, целью, которую она преследовала в течение десяти лет с неутомимой настойчивостью. Она рассчитала, что непременно ее достигнет через пять лет. Но, пораженная болезнью, которая никому не дает пощады и неумолимый характер которой был хорошо известен этой даме, щеголявшей медицинскими познаниями, она боялась, что до тех пор не доживет. В этот вечер она была по крайней мере счастлива от мысли, что все эти незнакомые с ней дамы увидят возле нее человека своего круга, молодого маркиза де Босержана, брата г-жи д'Аржанкур, который одинаково бывал в обоих кругах, и женщины низшего круга очень любили кичиться его присутствием перед женщинами высшего круга. Он сидел за спиной г-жи де Камбремер на стуле, поставленном наискосок, чтобы можно было смотреть в чужие ложи. Маркиз был знаком со всеми и при каждом обворожительно элегантном поклоне красивой стройной талией и тонко очерченной белокурой головой он, с улыбкой на голубых глазах, почтительно и непринужденно приподнимал прямое туловище, поразительно напоминая таким образом своей сломанной под прямым углом фигурой в косой плоскости старинную гравюру, изображающую надменного и подобострастного вельможу. Маркиз часто принимал приглашения г-жи де Камбремер пойти с ней в театр; в зрительном зале и при разъезде, в вестибюле, он храбро оставался возле нее посреди толпы более блестящих дам, с которыми избегал разговаривать, не желая их смущать, как будто он находился в дурном обществе. Если в таких случаях мимо проходила принцесса Германтская, прекрасная и проворная, как Диана, волоча за собой бесподобное манто, заставляя оборачиваться все головы и привлекая к себе все взоры (взоры г-жи де Камбремер больше, чем чьи-либо), г. де Босержан погружался в разговор со своей спутницей и отвечал на ослепительную дружественную улыбку принцессы лишь принужденно и насильственно, с благовоспитанной сдержанностью и милосердной холодностью человека, любезность которого может иногда быть стеснительной.
Даже если бы г-жа де Камбремер не знала, что ложа бенуара принадлежит принцессе, она все же заметила бы, что герцогиня Германтская — гостья принцессы: ее преувеличенный интерес к зрелищу на сцене и в зале ясно говорил, что она хочет быть любезной по отношению к своей хозяйке. Но наряду с этой центробежной силой другая, центростремительная сила, порожденная тем же желанием проявить любезность, направляла внимание герцогини на ее собственный туалет, на эгретку, колье, корсаж, а также на туалет принцессы; кузина как бы объявляла себя ее подданной, рабыней, пришедшей сюда единственно для того, чтобы ее увидеть, готовой последовать за ней в другое место, если бы владелице ложи пришла фантазия куда-нибудь уйти, и рассматривавшей остальную публику в театре как сборище незнакомцев, на которых любопытно поглядеть, хотя среди них она могла бы насчитать немало друзей, в чьих ложах находилась в другие недели, не забывая тогда засвидетельствовать по отношению к ним такую же лояльность, исключительную, условную, сроком на одну неделю. Г-жа де Камбремер была удивлена, увидя герцогиню в этот вечер. Она знала, что та остается до глубокой осени в Германте, и предполагала, что герцогиня еще там. Но ей рассказали, что в иные дни, когда в Париже бывал спектакль, которым она интересовалась, герцогиня приказывала закладывать карету сейчас же после чаю, который она пила в обществе охотников, и на закате солнца, через сумеречный лес, а потом по шоссе, крупной рысью ехала в Комбре, чтобы сесть там в поезд и прибыть в тот же вечер в Париж. «Может быть, она нарочно приехала из Германта, чтобы послушать Берму», — думала с восхищением г-жа де Камбремер. И она припоминала, как Сван говорил на двусмысленном жаргоне, общем у него с г-ном де Шарлюсом: «Герцогиня — одно из благороднейших существ в Париже, она принадлежит к утонченнейшим и изысканнейшим верхушкам общества». Что же касается меня, выводившего образ жизни и мыслей обеих кузин из имен Германт, Бавария и Конде (я не мог больше выводить из этих имен их лица, потому что я их видел), то больше всего мне хотелось узнать их суждение о «Федре», я считал его более важным, чем суждение величайшего критика на свете. Ибо в суждении критика я нашел бы лишь ум, превосходивший, конечно, мой, но той же природы. Но то, что думали герцогиня и принцесса Германтские, их суждение, которое явилось бы для меня бесценным документом о природе этих двух поэтических созданий, я воображал себе с помощью их имен, я предполагал в нем иррациональную прелесть, я с лихорадочной жаждой требовал от них мнения о «Федре», чтобы оно передало мне прелесть летних послеполуденных часов, когда я ходил на прогулки в сторону Германта. Г-жа де Камбремер пробовала определить, какого рода туалет был на кузинах. Что же касается меня, то я ни минуты не сомневался, что эти туалеты являются их специфической особенностью не только в том смысле, в каком ливрея с красным воротником и синими отворотами была когда-то исключительной принадлежностью Германтов и Конде, но скорее как оперение у птиц, которое не просто их украшает, но служит продолжением их тела. Туалет этих двух женщин казался мне чем-то вроде белоснежной или пестрой материализации их внутренней жизни, и если я не сомневался, что виденные мной жесты принцессы Германтской соответствуют некоторой сокровенной мысли, то и перья, ниспадавшие со лба принцессы, а также ослепительный, покрытый блестками корсаж ее кузины, казалось мне, имели какое-то значение, были для каждой из этих женщин атрибутом, присущим только ей одной, и мне хотелось постигнуть его смысл: райская птица казалась мне столь же неотделимой от первой, как павлин от Юноны, и я считал, что ни одна женщина не вправе присвоить расшитый блестками корсаж второй, как никто не вправе вооружиться сверкающей и бахромчатой эгидой Минервы. Когда я устремлял глаза на эту ложу бенуара, то в гораздо большей степени, чем холодные аллегорические фигуры, которыми расписан был потолок зрительного зала, она создавала такое впечатление, точно я увидел, благодаря каким-то чудом разорвавшимся тучам, под красным навесом, в ярком просвете между двух столбов неба, собрание богов, занятых созерцанием зрелища людей. Я созерцал этот мимолетный апофеоз с тревогой, примешанной к моему спокойствию сознанием, что тебя не знают бессмертные; герцогиня, правда, однажды видела меня со своим мужем, но она, конечно, не могла об этом помнить, и я не допускал, чтобы с занимаемого ею места в бенуаре она способна была рассмотреть анонимных и собирательных моллюсков публики партера (ибо я с радостью ощущал существо мое растворившимся среди них), — как вдруг — в тот миг, когда в силу законов преломления лучей в бесстрастном взоре голубых глаз обрисовалась расплывчатая форма протоплазмы, лишенной индивидуального существования, каковой был я, — я увидел в них загоревшийся огонек: герцогиня, из божества превратившаяся в женщину и сразу показавшаяся мне в тысячу раз прекраснее, протянула по направлению ко мне руку в белой перчатке, которой она опиралась на край ложи, помахала ею в знак приветствия, мои взгляды почувствовали себя перекрещенными с непроизвольным пламенем, вспыхнувшим в глазах принцессы без ее ведома, только потому, что она ими пошевелила, желая увидеть, с кем поздоровалась ее кузина, и последняя, узнав меня, оросила меня сверкающим дождем своей небесной улыбки.
Теперь каждое утро, задолго до того, как она выходила из дому, я отправлялся длинным обходным путем к наблюдательному пункту на углу улицы, по которой она обыкновенно спускалась, и, когда минута ее появления мне казалась близкой, я шел ей навстречу с рассеянным видом, смотря в противоположную сторону, и поднимал на нее глаза, лишь поравнявшись с ней, но так, словно я никоим образом не ожидал ее увидеть. В первые дни, чтобы наверняка ее встретить, я даже поджидал ее у самого дома. И каждый раз как открывались ворота (пропуская последовательно множество людей, которых я не поджидал), сотрясение их отдавалось в моем сердце толчками, очень долго не утихавшими. Ибо никогда фанатический поклонник знаменитой актрисы (с которой он не знаком), отправляясь дежурить у артистического подъезда, никогда ожесточенная или восторженная толпа, собравшаяся, чтобы надругаться над осужденным преступником или приветствовать ликующими возгласами великого человека, и при каждом шуме, доносящемся из внутренних частей тюрьмы или дворца, уверенная, что вот он сейчас появится, не были столь взволнованы, как я, поджидая выхода этой знатной дамы, так просто одетой, которая благодаря грациозности своей походки (совсем непохожей на ее движения, когда она входила в салон или в ложу) умела сделать из своей утренней прогулки, — для меня не существовало других гуляющих, кроме нее, — целую поэму элегантности и самое изысканное украшение, самый редкостный цветок хорошей погоды. Но через три дня, чтобы консьерж не разгадал моей уловки, я уходил гораздо дальше, выбирая какое-нибудь место на обычном пути следования герцогини. До этого спектакля с участием Бермы я часто делал такие прогулки перед завтраком, когда была хорошая погода; если шел дождь, то с первым же проблеском солнца я спускался на улицу, чтобы сделать несколько шагов, и вдруг на еще мокром тротуаре, превращенном освещением в золотистый лак, в сиянии перекрестка, подернутого мелкой пылью тумана, который румянило и озаряло солнце, я замечал пансионерку в сопровождении воспитательницы или молочницу с белыми рукавами, я замирал без движения, приложив руку к сердцу, уже устремлявшемуся к незнакомой жизни; я старался запомнить улицу, час, ворота, в которых девочка (иногда я шел за ней следом) скрывалась и больше не выходила. К счастью, мимолетность этих ласкающих образов, которые мне так хотелось увидеть снова, мешала им прочно запечатлеться в моей памяти. Что за беда! Я меньше опечален был моей болезнью и тем, что все еще не мог найти в себе мужество засесть за работу, начать книгу, земля представлялась мне более приятной для жизни на ней, жизнь более интересной, после того как я убеждался, что парижские улицы, подобно бальбекским дорогам, расцвечены неведомыми красавицами, которых я так часто пытался вызвать на свет из лесов Мезеглиза и каждая из которых возбуждала во мне сладострастное желание и, казалось, одна только способна была его удовлетворить.
Вернувшись из Комической оперы, я назавтра прибавил к образам, которые уже несколько дней желал найти вновь, образ герцогини Германтской, рослой женщины, с мягкими светлыми волосами, сложенными в высокую прическу, — с обещанием любви в улыбке, которую она мне послала из бенуара своей кузины. Я охотно пошел бы по дороге, которую, по словам Франсуазы, выбирала для своих прогулок герцогиня, постаравшись, однако, не пропустить выхода из школы или с урока катехизиса двух девушек, встреченных мной позавчера. Но тем временем мне то и дело вспоминались лучистая улыбка герцогини Германтской и ощущение ласки, которое она во мне оставила. И, не сознавая хорошенько, что я делаю, я пытался их сопоставить (как женщина рассматривает, хорошо ли подойдут к ее платью только что ей подаренные пуговицы из драгоценных камней) с давнишними моими романическими представлениями, теперь рассеянными холодностью Альбертины, преждевременным отъездом Жизели и, еще раньше, умышленной и слишком продолжительной разлукой с Жильбертой (например, представлением, что меня может полюбить женщина, что я буду вести с ней совместную жизнь); потом я сопоставлял с этими представлениями образы то одной, то другой встреченной мной девушки, и сейчас же после этого старался соединить с ними воспоминание о герцогине. Рядом с этими представлениями воспоминание о герцогине Германтской в Комической опере было безделицей, маленькой звездочкой возле длинного хвоста сверкающей кометы; больше того, я сроднился с этими представлениями задолго до моего знакомства с герцогиней Германтской; воспоминание о ней, напротив, я удерживал с трудом; временами оно от меня ускользало; в часы, когда оно, перестав быть расплывчатым, подобно образам других хорошеньких женщин, смыкалось мало-помалу единственной в своем роде и окончательной ассоциацией — исключающей всякий другой женский образ — с моими романическими представлениями, гораздо более давними, — в эти немногие часы, когда оно рисовалось мне наиболее отчетливо, мне бы и следовало догадаться точно исследовать его природу; но я не знал тогда, насколько важным сделается оно для меня; оно лишь приносило отраду, как первое свидание с герцогиней Германтской в моем сердце, оно было первым наброском, единственно верным, единственным, сделанным с натуры, единственным, изображавшим подлинную герцогиню; лишь в течение нескольких часов я наслаждался им, не умея сосредоточить на нем внимание, однако оно, должно быть, было пленительным, это воспоминание, ибо неизменно к нему, тогда еще свободно, не спеша, не надрываясь, не в силу мучительной непреложности возвращались мои представления о любви; потом, по мере того как эти представления закрепляли его прочнее, оно заимствовало от них больше силы, но само сделалось более расплывчатым; вскоре я уже не мог его воспроизвести; предаваясь мечтаниям, я, очевидно, искажал его до неузнаваемости, потому что при каждой встрече с герцогиней я констатировал расхождение, притом каждый раз иное, между тем, что я воображал, и тем, что я видел. Каждый день теперь, в то мгновение, когда герцогиня Германтская показывалась на верхнем конце улицы, я замечал, правда, ее рослую фигуру, ее светлые глаза под шапкой мягких волос, все то, ради чего я приходил сюда; но зато, несколько секунд спустя, после того как, отвернувшись в другую сторону, чтобы создать впечатление, будто эта встреча, которой я так искал, является для меня неожиданностью, я вдруг поднимал глаза на герцогиню в тот миг, когда равнялся с нею, — то, что я видел тогда, были красные пятна (причиной которых являлся, может быть, свежий воздух, а, может быть, воспаление кожи) на хмуром лице, и герцогиня очень сухим и весьма далеким от недавней любезности кивком отвечала на мой поклон, которым я ежедневно с удивленным видом ее приветствовал и который, по-видимому, ей не нравился. Все-таки по прошествии нескольких дней, в течение которых образ двух девушек вел неравную борьбу за господство над моими любовными мечтаниями с образом герцогини Германтской, последний как бы сам собою стал появляться все чаше и чаще, между тем как его соперники мало-помалу изглаживались; на него перенес я в заключение все мои мечты о любви, перенес в общем добровольно и с удовольствием, как бы по свободному выбору. Я больше не думал о девушках, берущих уроки катехизиса, не думал и о молочнице; и все-таки я уже не надеялся найти на улице то, чего я искал, — не надеялся найти ни любви, обещанной мне в театре улыбкой, ни силуэта, ни светлых волос и белого лица, которые были знакомы только издали. Теперь я не мог бы даже сказать, какой была герцогиня Германтская и по каким признакам я ее узнавал, потому что каждый день весь облик ее менялся, лицо ее, так же как платье и шляпа, были другими.
Почему в такой-то день, видя приближавшееся спереди ласковое и гладкое лицо в лиловой шляпе, с очаровательными чертами, симметрично расположенными вокруг голубых глаз, и с линией носа, как бы втянутой внутрь, узнавал я по радостному волнению, что я не вернусь домой, не встретившись с герцогиней Германтской, — почему испытывал я ту же тревогу, напускал на себя то же равнодушие, отводил в сторону глаза с тем же рассеянным видом, что и накануне, при появлении из-за угла профиля в синей шапочке и похожего на птичий клюв носа на красной щеке, перегороженной зорким глазом, как у какого-нибудь египетского божества? Один раз я увидел даже не просто женщину с птичьим клювом, но настоящую птицу: все платье и шапочка герцогини Германтской были меховые, нигде не видно было ни кусочка материи, так что она казалась от природы покрытой мехом, как некоторые виды ястребов, рыжеватое оперение которых, густое, ровное и мягкое, имеет сходство с шерстью. В этом естественном оперении на маленькой голове изгибался птичий клюв, а глаза навыкате были голубые и зоркие.
Однажды я часами прогуливался взад и вперед по улице, не видя герцогини Германтской, как вдруг в глубине лавочки молочника, запрятанной между двумя особняками в этом аристократическом и простонародном квартале, неясно обрисовалось новое для меня лицо элегантной женщины, покупавшей в это время сладкие сырки, и, прежде чем я успел ее разглядеть, меня поразил, как луч света, которому потребовалось бы меньше времени, чтобы дойти до меня, чем остальным частям ее образа, взгляд герцогини; в другой раз, не встретив ее и слыша, что уже бьет полдень, я решил, что не стоит больше ждать, и печально побрел домой; поглощенный постигшим меня разочарованием, я смотрел невидящими глазами на удалявшуюся карету и вдруг понял, что кивок, сделанный дамой у дверцы, был обращен ко мне и что эта дама, черты которой, вялые и бледные или же, напротив, живые и напряженные, складывались под круглой шляпой с высокой эгреткой в лицо какой-то незнакомой женщины, была герцогиня Германтская, которой я даже не ответил на поклон. Иногда я заставал ее, возвращаясь домой, в будке у ворот, где противный консьерж, которого я ненавидел за его пытливые взгляды, отвешивал низкие поклоны и, вероятно, делал ей «донесения». Ибо вся прислуга Германтов, спрятавшись за оконными занавесками, напряженно следила за разговором, которого не могла слышать и в результате которого герцогиня неизменно лишала прогулки кого-нибудь из слуг, преданного консьержем. По причине этой последовательной смены различных лиц, являемых герцогиней Германтской, — лиц, занимавших то больше места, то меньше, то узеньких, то широких, в зависимости от ее туалета, — любовь моя не была прикована к тому или другому из этих переменчивых кусков тела и тканей, каждый день вытеснявших друг друга, которые она могла менять и обновлять почти начисто, нисколько не уменьшая моего волнения, потому что сквозь них, сквозь новый воротник и незнакомую щеку, я чувствовал, что передо мной неизменно была герцогиня Германтская. Предметом моей любви была невидимая женщина, которая все это приводила в движение, женщина, чья враждебность меня огорчала, а приближение потрясало, чьей жизнью я хотел бы завладеть, прогнав ее друзей. Она могла воткнуть синее перо или показать воспаленные щеки, — от этого ее действия не утрачивали для меня своей важности.
Если бы даже сам я не почувствовал, что герцогиня Германтская недовольна ежедневными встречами со мной, я узнал бы о ее недовольстве косвенным образом по холодности, неодобрению и жалости, изображавшимся на лице Франсуазы, когда она помогала мне наряжаться для этих утренних прогулок. С той минуты, как я спрашивал у нее мои вещи, я чувствовал противный ветер, поднимавшийся в стянутых и изможденных чертах ее лица. Я даже не пытался снискать доверие Франсуазы, чувствуя, что ничего у меня не выйдет. Все неприятное, что могло с нами случиться, с моими родными и со мной, она узнавала немедленно, обладая для этого способностью, природа которой для меня всегда оставалась темной. Может быть, в ней не было ничего сверхъестественного, и объяснялась она особенными способами осведомления, которыми располагала Франсуаза; именно этими способами дикие народы узнают иные новости на несколько дней раньше, чем почта приносит их европейской колонии; в действительности новости эти передаются им не телепатически, но с холма на холм, при помощи сигнальных огней. Так и в данном случае, в отношении моих прогулок, может быть слуги герцогини слышали, как госпожа их досадует на эти неуклонные встречи со мной, и передали ее жалобы Франсуазе. Мои родители, правда, могли бы определить ко мне на службу кого-нибудь другого вместо Франсуазы, но я бы ничего от этого не выиграл. В известном смысле Франсуаза была менее служанкой, чем прочие слуги. По своей манере чувствовать, быть доброй и жалостливой, быть лукавой и ограниченной, обладать белой кожей и красными руками она была сельской барышней, родители которой, когда-то люди с достатком, разорились и были вынуждены отдать ее в прислуги. Ее присутствие в нашем доме было как бы деревенским воздухом и бытовым укладом фермы, пятьдесят лет тому назад перенесенным к нам; горожанин ездит в деревню, но тут деревня сама переезжала к горожанам. Как витрина областного музея бывает украшена редкостными басонными изделиями, которые местами еще изготовляют крестьяне, так наша парижская квартира убрана была словами Франсуазы, внушенными ей традициями ее родной провинции и подчиненными весьма старинным правилам. Она умела ими изобразить, как цветными нитками, вишневые деревья и птиц, виденных в детстве, постель, на которой умерла ее мать и которая до сих пор стояла у ней перед глазами. Но, несмотря на все это, поступив в Париже к нам на службу, она — и тем более всякая другая на ее месте — тотчас же начала разделять убеждения и взгляд на вещи слуг из других этажей, вознаграждая себя таким образом за почтение, которое обязана была нам свидетельствовать, передавая нам все грубые замечания кухарки из четвертого этажа о своей госпоже, и с таким удовлетворением слуги, что первый раз в нашей жизни, почувствовав нечто вроде солидарности с отвратительной квартиронанимательницей из четвертого этажа, мы подумали, что, пожалуй, и впрямь мы являемся господами. Эта порча характера Франсуазы была, пожалуй, неизбежной. Иной образ жизни настолько ненормален, что фатально порождает известные пороки; так жизнь французского короля в Версале, окруженного придворными, своею странностью напоминает образ жизни фараона или дожа, и еще более странна жизнь придворных. Но, конечно, жизнь слуг все затмевает своей уродливостью, которую мешает нам видеть единственно привычка. Однако, даже если бы я отказал Франсуазе, я был обречен иметь совершенно таких же слуг, вплоть до еще более мелких особенностей их характера. В самом деле, разные люди служили у меня впоследствии; наделенные недостатками, свойственными слугам вообще, они вдобавок подвергались у меня быстрому превращению. Как законы нападения определяют законы ответного удара, все они, чтобы не оцарапаться о шероховатости моего характера, создавали в своем как бы углубление, всегда тожественное и на том же месте; зато они пользовались во мне всяким провалом, чтобы расположить там выдвинутые вперед отряды своих вооруженных сил. Этих провалов я в себе не замечал (равно как и выступов, образуемых промежутками между ними) именно потому, что это были провалы. Но мои слуги, развращаясь мало-помалу, мне их открыли. Через их недостатки, неизменно ими приобретаемые, я открыл мои собственные недостатки, природные и неизменные, характер моих слуг представил мне нечто вроде негативного оттиска моего собственного характера. Я и мать когда-то очень смеялись над г-жой Сазра, которая говорила о слугах: «Это племя, эта порода». Но я должен признаться, что причина, отбившая у меня всякую охоту заменить Франсуазу кем-нибудь другим, заключалась в том, что этот другой совершенно так же и неизбежно принадлежал бы к общему племени слуг и к особой породе моих слуг.
Возвращаясь к Франсуазе, замечу, что всякий раз, когда мне доводилось испытать какое-нибудь унижение, я неизменно находил на лице Франсуазы готовые соболезнования; и если, в гневе, что она меня жалеет, я пытался, напротив, принять вид человека, которому улыбнулся успех, то все мое притворство понапрасну разбивалось о ее почтительное, но очевидное недоверие ко мне и твердое убеждение, что она не ошибается. Ибо она знала правду; она ее замалчивала и делала только легкое движение губами, точно рот у нее был набит и она доедала вкусный кусок. Она ее замалчивала, по крайней мере я так думал долгое время, потому что в ту эпоху я еще воображал, будто правда сообщается другим при помощи слов. Больше того: слова, которые мне говорили, так прочно укладывали свой неизменный смысл в мой восприимчивый ум, что я столь же мало допускал возможность, чтобы человек, заверивший меня в своей любви, меня не любил, как сама Франсуаза не могла бы усомниться, прочитав об этом в газете, что священник или все равно кто способен был, по требованию, отправленному по почте, прислать нам бесплатно лекарство, действующее против всех болезней, или способ увеличить в сто раз наши доходы. (Зато если доктор давал ей самую простую мазь против насморка, Франсуаза, такая выносливая по отношению к самой сильной боли, стонала, что ей приходится фыркать, так как от этой мази у ней «нос воротит», и что она места себе не находит.) Но та же Франсуаза первая дала мне пример (хотя я по-настоящему понял его лишь позже, когда аналогичный пример был дан мне снова и в более мучительной форме, как читатель увидит в последних томах этого сочинения, особой, которая мне была дороже, чем Франсуаза), что истина не нуждается в словах для того, чтобы проявиться, и что ее можно, пожалуй, вернее уловить, не дожидаясь слов, и даже совсем не считаясь с ними, в тысяче внешних признаков, даже в некоторых невидимых явлениях, аналогичных в душевной области тому, чем бывают в мире физическом атмосферные изменения. Я бы мог, пожалуй, об этом догадаться, потому что и мне самому часто случалось в те времена говорить вещи, в которых не содержалось ни слова правды, между тем как она обнаруживалась посредством множества невольных признаний моего тела и моих поступков (которые прекрасно истолковывала Франсуаза), — я бы мог, пожалуй, об этом догадаться, но для этого мне необходимо было знать в ту пору, что я бываю иногда лжецом и обманщиком. Однако ложь и обман предписывались у меня, как и у всех людей, каким-нибудь частным интересом, для его защиты, настолько внезапно и непредвиденно, что ум мой, устремленный к высоким идеалам, предоставлял мне совершать исподтишка эти мелкие неотложные дела, не удосуживаясь их заметить. Когда Франсуаза по вечерам бывала мила со мной, просила у меня позволения посидеть в моей комнате, мне казалось, что лицо ее становится прозрачным и что я замечаю в нем доброту и чистосердечие. Но Жюпьен, отличавшийся некоторой болтливостью, о чем я узнал лишь впоследствии, сделал мне однажды признание: Франсуаза ему говорила, что я не стою веревки, на которой меня надо повесить, и что я старался сделать ей как можно больше зла. Эти слова Жюпьена тотчас же нарисовали передо мною незнакомыми красками картину моих отношений с Франсуазой, резко отличную от той, на которой я часто любил покоить взоры и где Франсуаза без малейшего колебания боготворила меня, не пропуская ни одного случая осыпать меня похвалами, — так что я понял, что не один только материальный мир разнится от его отображения в наших глазах; что всякая реальность, быть может, столь же не похожа на ту, которую, нам кажется, мы воспринимаем непосредственно, как деревья, солнце и небо были бы совсем не такими, как мы их видим, если бы их познавали существа с иначе, чем у нас, устроенными глазами или же обладающие для этой цели не глазами, а другими органами, которые давали бы не зрительные, а иные эквиваленты деревьев, неба и солнца. Так или иначе, этот неожиданный просвет на реальный мир, открытый мне однажды Жюпьеном, привел меня в ужас. Правда, речь шла только о Франсуазе, которая мало меня заботила. Неужели это распространялось на все отношения между людьми? До какого же отчаяния это способно будет довести меня в один прекрасный день, если так обстоит дело и с любовью? Это была тайна будущего. В то время речь шла еще только о Франсуазе. Искренно ли она думала так, как сказала Жюпьену? Или, может быть, она сказала это только для того, чтобы поссорить со мной Жюпьена, чтобы мы не взяли взамен ее дочери Жюпьена? Во всяком случае, для меня ясной стала невозможность узнать прямым и достоверным способом, любит ли меня Франсуаза или же ненавидит. Она первая также заронила во мне мысль, что другие люди не являются для нас, как я думал, чем-то ясным и неподвижным со своими достоинствами и недостатками, своими планами и намерениями по отношению к нам (как сад со всеми его клумбами, на который мы смотрим сквозь решетчатые ворота), но представляют как бы тень, в которую мы никогда не можем проникнуть, прямого познания которой не существует, относительно которой мы сочиняем различные верования с помощью слов и даже действий, причем и те и другие дают нам сведения недостаточные и вдобавок противоречивые, — тень, которую мы можем с одинаковым правдоподобием вообразить себе озаренной то ненавистью, то любовью.
Я подлинно любил герцогиню Германтскую. Величайшим для меня счастьем было бы, если бы над ней разразились все бедствия и если бы, разоренная, потерявшая уважение со стороны окружающих, лишенная всех привилегий, которые меня разлучали с ней, не имеющая больше ни крова, ни людей, которые согласились бы с ней здороваться, она пришла попросить у меня пристанища. Я воображал ее себе такою. И даже в те вечера, когда изменение атмосферного давления или моего здоровья вводило в мое сознание забытый свиток, на котором начертаны были давнишние впечатления, — вместо того, чтобы воспользоваться обновленными силами, которые рождались во мне, вместо того, чтобы употребить их на расшифровку мыслей, которые обыкновенно от меня ускользали, вместо того, чтобы засесть, наконец, за работу, — я предпочитал говорить вслух, выражал свои мысли бурно, внешним образом, в форме бесполезных рассуждений и жестикуляций, сочинял чисто авантюрный роман, бесплодный и не содержащий в себе ни капли правды, в котором герцогиня, впавшая в нищету, приходила молить меня о помощи, меня, сделавшегося, напротив, богачом и влиятельным человеком. И в то время, как я проводил таким образом часы, выдумывая несуществующую обстановку, произнося фразы, которые я сказал бы герцогине, принимая ее под свой кров, положение оставалось прежним; в действительности, увы, я избрал предметом своей любви женщину, соединявшую, может быть, наибольшее число всевозможных преимуществ, вследствие чего я не мог надеяться ни на какое обаяние в ее глазах: ведь она была так же богата, как любой богач, не обладавший ее знатностью; не говоря уже о личных чарах, делавших ее модной женщиной, обращавших ее в своего рода королеву.
Я чувствовал, что герцогине не нравятся мои каждодневные выходы навстречу ей; но если бы даже я имел мужество остаться дома два или три дня, герцогиня Германтская, может быть, и не заметила бы этого воздержания, представлявшего для меня такую жертву, или же приписала бы его какой-нибудь помехе, независимой от моей воли. Действительно, я мог бы перестать выходить ей навстречу, только если бы натолкнулся на какое-нибудь непреодолимое препятствие, ибо постоянно обновляющаяся потребность встречаться с ней, быть на миг предметом ее внимания, быть человеком, с которым она здоровалась, — эта потребность пересиливала во мне огорчение, что я причиняю ей неприятность. Мне бы следовало уехать на некоторое время; у меня не хватало на это мужества. Я об этом подумывал. Я приказывал иногда Франсуазе собрать мои чемоданы, но сейчас же после этого отменял свое распоряжение. И из страсти к подражанию, которая искажает наиболее естественный и несомненный образ человека, а также чтобы не казаться старомодной, Франсуаза, заимствуя из словаря своей дочери, говорила, что я свихнулся. Она этого не любила, говорила, что я вечно «колеблюсь», ибо она пользовалась, когда не хотела состязаться с людьми нового времени, языком Сен-Симона. Правда, ей еще меньше нравилось, когда я веду себя с ней по-барски. Она знала, что это ненатурально и мне не к лицу, передавая это словами: «властность вам не идет». Если бы я и нашел мужество уехать, то только в направлении, которое меня бы приближало к герцогине Германтской. Это не было вещью невозможной, В самом деле, разве я бы не оказался ближе к ней, чем бывал по утрам на улице, одинокий, униженный, сознающий, что ни одна из мыслей, которые я хотел бы ей высказать, никогда не дойдет до нее, во время этого топтанья на месте на моих прогулках, которые, продолжайся они до бесконечности, ни на шаг не подвинули бы меня вперед, — разве не оказался бы я ближе к герцогине Германтской, если бы уехал за много лье от нее, но к человеку, которого она бы знала и знала бы его требовательность по части выбора знакомств, который меня бы ценил, который мог бы ей сказать обо мне, и если и не добиться от нее того, чего я хотел, то по крайней мере ей об этом сообщить, — к человеку, благодаря которому, во всяком случае, только потому, что я завел бы с ним разговор, может ли он взяться передать ей то или иное мое поручение, я придал бы моим уединенным и немым мечтам новую форму, звуковую, деятельную, которая показалась бы мне прогрессом, почти что осуществлением. Проникнуть в ее таинственную жизнь, предмет заветного моего желания, в жизнь «Германта», к которому она принадлежала, проникнуть хотя бы даже не прямо, а как бы с помощью рычага, пустив в ход человека, которому не были запрещены доступ в особняк герцогини, на ее вечера, продолжительные разговоры с нею, — разве не было это общением, с нею, правда, на расстоянии, но более действенным, чем мое созерцание на улице каждое утро?
Дружба Сен-Лу, его восхищение мной казались мне незаслуженными, и я оставался к ним равнодушен. Вдруг я их оценил, мне захотелось, чтобы он поведал о них герцогине Германтской, я был способен попросить его об этом. Когда мы влюблены, нам непременно хочется довести до сведения любимой женщины все маленькие безвестные привилегии, которыми мы владеем, вроде того, как о них обыкновенно разглашают люди обездоленные и докучные. Мы страдаем от мысли, что эти привилегии ей неизвестны, мы пробуем утешиться, говоря себе, что именно по причине их невидимости она, может быть, прибавляет к своему представлению о нас эту возможность преимуществ, о которых никто не знает.
Уже долгое время Сен-Лу не мог приехать в Париж, потому что, как он говорил, ему не позволяла служба, или, скорее, вследствие огорчений, причиняемых ему любовницей, с которой он уже два раза чуть было не порвал. Он часто мне говорил, каким благотворным будет для него мой приезд в тот гарнизонный город, имя которого доставило мне столько радости на другой день после отъезда Сен-Лу из Бальбека, когда я его прочитал на конверте первого письма, полученного от моего друга. То был расположенный ближе от Бальбека, чем можно было подумать по чисто сухопутному пейзажу, один из тех маленьких аристократических и военных городков, окруженных широкой равниной, где в погожие дни часто колышется вдали своего рода дымка, гулкая и прерывчатая, которая, — как завеса тополей своими излучинами рисует течение невидимой реки, — выдает перемещения полка на занятиях, так что самая атмосфера улиц, бульваров и площадей приобрела способность непрерывно вибрировать, музыкально и по-военному, и самый прозаический грохот телеги или трамвая находит там продолжение в сигналах рожка, которые бесконечно повторяются в галлюцинирующих ушах мертвенной тишиной. Городок этот был не настолько далеко от Парижа, чтобы я не мог, сойдя с курьерского поезда, вернуться в тот же день домой, в общество моей матери и бабушки, и уснуть на моей постели. Едва только я это сообразил, волнуемый мучительным желанием, я нашел в себе слишком мало воли для того, чтобы решиться не возвращаться в Париж и остаться в этом городе, но также и для того, чтобы помешать носильщику снести мой чемодан на извозчика и не пойти вслед за ним с видом беспомощного пассажира, который присматривает за своими вещами и которого не ждет никакая бабушка; чтобы не сесть в экипаж с непринужденностью человека, который, перестав думать о том, чего он хочет, имеет вид, будто ему известно, чего он хочет, и чтобы не дать кучеру адреса кавалерийских казарм. Я думал, что Сен-Лу придет сегодня ночевать в гостиницу, где я остановлюсь, чтобы сделать для меня менее мучительным первое соприкосновение с этим незнакомым городом. Караульный отправился его разыскивать, а я стал ждать у ворот казармы, перед этим громадным кораблем, оглашаемым гулом ноябрьского ветра, откуда каждую минуту — так как было шесть часов вечера — люди выходили по двое на улицу, пошатываясь, точно они сходили на землю в каком-нибудь экзотическом порту, где была сделана кратковременная остановка.
Показался Сен-Лу, вертевшийся во все стороны, с летающим перед ним моноклем; я не велел говорить ему мое имя, мне страстно хотелось насладиться его удивлением и его радостью.
— Ах, какая досада, — воскликнул он, вдруг заметив меня и покраснев до ушей, — я только что начал дежурство и не смогу отлучиться раньше, чем через неделю!
И, озабоченный мыслью, что мне придется провести эту первую ночь в одиночестве, ибо ему лучше, чем кому-нибудь, была известна моя вечерняя мучительная тоска, которую часто он замечал и облегчал в Бальбеке, Сен-Лу прерывал свои жалобы, чтобы обернуться ко мне и послать мне улыбки и нежные взгляды — не одинаковые: одни, исходившие прямо из его глаз, а другие сквозь монокль, — и все намекавшие на его волнение по случаю встречи со мной, а также на ту важную вещь, которую я не всегда понимал, но которая теперь была для меня важной, — на нашу дружбу.
— Боже мой, где же вы будете ночевать? Право, я вам не посоветую гостиницу, в которой мы столуемся, это рядом с выставкой, где вскоре начинаются гулянья, там бы вы попали в буйную компанию. Нет, вам больше подойдет Фламандская гостиница, это маленький дворец XVIII века, отделанный старинными коврами. Они «создают» довольно «древнее историческое жилище».
Сен-Лу употреблял по всякому поводу слово «создавать» вместо «иметь вид», потому что разговорный язык, подобно языку письменному, время от времени испытывает потребность в изменении смысла слов, в изощрении выражения. И как журналисты часто не знают, от какой литературной школы идут «изысканности», которыми они пользуются, так словарь и даже дикция Сен-Лу были подражанием трем разным эстетам, ни с одним из которых он не был знаком, но языковые особенности которых были в него внедрены косвенным образом. «К тому же, — заключил он, — гостиница эта хорошо приспособлена к повышенной чувствительности вашего слуха. У вас не будет соседей. Я согласен, что преимущество это ничтожное, и так как завтра в этой гостинице может остановиться другой приезжий, то не стоило бы выбирать ее ради такого ненадежного удобства. Нет, я вам ее рекомендую ради ее общего вида. Комнаты в ней очень располагают к себе, вся мебель старинная и удобная, в этом есть нечто успокоительное». Но для меня, натуры менее художественной, чем Сен-Лу, удовольствие, которое может доставить красивая обстановка, было поверхностным, почти невесомым, и не могло бы унять начинающуюся тоску, столь же тягостную, как та, что я испытывал мальчиком в Комбре, когда моя мать не приходила прощаться со мной, или та, что я почувствовал в день моего приезда в Бальбек в слишком высокой комнате, пахнувшей ветиверией. Сен-Лу это понял по моему неподвижному взгляду.
— Но для вас этому дворцу грош цена, мой мальчик, вы весь бледный; а я, животное, — я говорю о коврах, на которые вам не захочется даже взглянуть. Я знаю комнату, которую вам отведут, лично я нахожу ее очень веселой, но я прекрасно понимаю, что для вас, с вашей чувствительностью, она не будет веселой. Не думайте, что я вас не понимаю, — сам я, правда, подобных вещей не испытываю, но умею поставить себя на ваше место.
Во дворе казармы пробовал лошадь унтер-офицер, желавший во что бы то ни стало пустить ее вскачь; не отвечая на козырянье солдат, но осыпая градом ругательств тех, что попадались ему на пути, он в эту минуту улыбнулся Сен-Лу и, заметив, что тот не один, отдал честь. Но его лошадь поднялась на дыбы, вся в мыле. Сен-Лу бросился к ней, схватил ее под уздцы, успокоил и вернулся ко мне.
— Да, — сказал он, — уверяю вас, я отлично вас понимаю и страдаю от того, что вы переживаете. Мне очень больно, — продолжал он, дружески кладя руку мне на плечо, — думать, что, будь у меня возможность остаться с вами, я, может быть, сидя возле вас, разговаривая с вами до утра, немного рассеял бы вашу печаль. Я дам вам книг, но вы не сможете читать, если будете в таком состоянии. И мне никак не удастся подыскать себе заместителя: уже два раза подряд я пользовался услугами моих товарищей, так как ко мне приезжала моя пташка.
И он нахмурил брови от досады, а также от напряженного усилия придумать, точно доктор, какое лекарство годилось бы для моей болезни.
— Сбегай-ка, растопи огонь в моей комнате, — сказал он проходившему мимо солдату. — Да живо, пошевеливайся!
Потом он снова обернулся ко мне, и в его монокле и в близоруком взгляде светился намек на нашу большую дружбу.
— Нет! Вы здесь, в этой казарме, где я столько думал о вас, я глазам своим не верю, мне кажется, что я во сне! Ну, а как здоровье, лучше все-таки? Сейчас вы обо всем этом расскажете. Поднимемся ко мне, не будем долго оставаться на дворе, здесь чертовский ветер, я-то его даже не чувствую, но вы не привыкли, боюсь, что простудитесь. Ну, а работа, — принялись вы за нее? Нет? Какой вы чудак! Будь у меня ваши способности, так я бы, кажется, писал с утра до вечера. Вам больше нравится бездельничать. Какая жалость, что только такие посредственности, как я, всегда готовы работать, а те, кто могли бы, не желают. Я до сих пор не спросил вас, как поживает ваша бабушка. Ее Прудон со мной не расстается.
Высокий офицер, красивый и величественный, медленными и торжественными шагами спустился с лестницы. Сен-Лу отдал ему честь и привел в неподвижность свое непрестанно дергавшееся тело на время, пока держал руку у козырька кепи. Но он взмахнул ею с такой силой, вытянувшись таким сухим движением, а по отдании чести уронил ее, так резко оторвав от виска и круто переменив положение плеча, ноги и монокля, что та минута была не столько минутой неподвижности, сколько минутой трепетной напряженности, в течение которой нейтрализовались избыточные движения — те, что только что были произведены, и те, что сейчас готовы были начаться. Между тем офицер, не подходя к Сен-Лу, спокойный, благожелательный, полный достоинства, живое воплощение времен империи, в общем полная противоположность Сен-Лу, в свою очередь, но не спеша, поднес руку к кепи.
— Мне надо сказать несколько слов капитану, — шепнул Сен-Лу, — будьте так добры подождать меня в моей комнате, вторая направо, в четвертом этаже, через минуту я к вам приду.
И ускоренным шагом, предшествуемый своим моноклем, который летал по всем направлениям, он двинулся прямо к достойному и медлительному капитану, которому в эту минуту подводили лошадь и который, перед тем как на нее взлезть, отдавал приказания с разученным благородством жестов, словно заимствованных с какой-нибудь исторической картины, как если бы он отправлялся на сражение времен Первой империи, тогда как на самом деле он лишь возвращался к себе в дом, нанятый им на время пребывания в Донсьере и стоявший на площади, которая, точно в насмешку над этим наполеонидом, называлась площадью Республики! Я начал подниматься по лестнице, ежесекундно рискуя поскользнуться на обитых гвоздями ступеньках; я видел комнаты с голыми стенами, с двумя рядами кроватей и предметов солдатского снаряжения. Мне указали комнату Сен-Лу. На мгновение я остановился перед закрытой дверью, потому что услышал возню; там что-то передвигали, что-то роняли; я чувствовал, что комната не пустая, что в ней кто-то есть. Но то был всего только затопленный в камине огонь. Он не мог гореть спокойно, он перемещал поленья, очень неловко. Я вошел; огонь уронил одно полено, другое задымилось. И даже когда он не шевелился, он все время, подобно невоспитанным людям, производил шум, который, после того как я увидел поднимавшееся пламя, стал для меня шумом огня, но если бы я находился за стеной, мне бы показалось, что кто-то сморкается и шагает по комнате. Наконец я уселся. Матерчатые обои и старинные немецкие ткани XVIII века предохраняли комнату Сен-Лу от запаха, наполнявшего все здание, тяжелого, приторного, кислого, как запах черного хлеба. Здесь, в этой прелестной комнате, я бы с радостью спокойно пообедал и уснул. Сен-Лу в ней почти присутствовал благодаря рабочим книгам, лежавшим на столе возле фотографических карточек, среди которых я узнал мою и герцогини Германтской, — благодаря огню, который в заключение освоился и, подобно животному, лежащему в пылком, молчаливом и преданном ожидании, только ронял время от времени горящие угли, при падении рассыпавшиеся, или лизал пламенем стенки камина. Я слышал тиканье часов Сен-Лу, которые, по-видимому, находились где-то недалеко от меня. Это тиканье ежеминутно меняло место, потому что я не видел часов; мне казалось, что оно доносится из-за спины, спереди, справа, слева, иногда затихает, как если бы оно шло откуда-то издалека. Вдруг я заметил часы на столе. Тогда я стал слышать тиканье на определенном месте, которого оно больше не покидало. По крайней мере я думал, что слышу его в этом месте; я его там не слышал, — я видел его там; звуки не имеют места. Во всяком случае, мы их связываем с движениями, и таким образом они полезны тем, что предупреждают нас об этих движениях, как бы делают их необходимыми и естественными. Конечно, случается иногда, что больной, которому герметически заткнули уши, не слышит больше шума огня, подобного тому, который полыхал сейчас в камине Сен-Лу, неустанно изготовляя головешки и золу и затем роняя их в ящик, — не слышит также проходящих трамваев, музыка которых взлетала через правильные промежутки времени над главной площадью Донсьера. Тогда пусть больной читает, и страницы будут переворачиваться бесшумно, точно перелистываемые каким-то богом. Глухой гул ванны, которую ему готовят, смягчается, делается более легким и отдаляется, как небесное журчанье. Это удаление шума, его ослабление, отнимает у него всякую агрессивность по отношению к нам; минуту назад доведенные до исступления ударами молотка, от которых, казалось, вот-вот обрушится потолок на голову, мы с удовольствием подбираем их теперь — легкие, ласкающие, далекие, как топот листьев, играющих с придорожным ветерком. Мы гадаем на картах, которых не слышим, так что нам кажется, будто не мы их пошевелили, а они сами двигаются и, упреждая наше желание поиграть с ними, затеяли игру с нами. В этой связи можно поставить вопрос, не следует ли нам беречься от любви (под любовью мы разумеем и любовь к жизни, любовь к славе, потому что есть, кажется, люди, которым известны и два последние чувства) так же, как иные оберегают себя от шума: вместо того, чтобы молить о его прекращении, затыкают себе уши, — не следует ли, в подражание им, перенести наше внимание, нашу оборону внутрь себя, дать им в качестве предмета, подлежащего усмирению, не вне нас находящееся существо, которое мы любим, а нашу способность страдать от него.
Но возвратимся к звуку. Уплотните еще более тампоны, закрывающие слуховой проход, и они приведут к пианиссимо девицу, игравшую над вашей головой бурную арию; покройте один из этих тампонов каким-нибудь жирным веществом, и тотчас его деспотической власти подчинится весь дом, законы его распространятся и дальше. Пианиссимо уже недостаточно, тампон мгновенно закрывает рояль, и урок музыки внезапно кончается; господин, шагавший над нашей головой, разом прекращает свой дозор; движение экипажей и трамваев прерывается, как если бы ожидался проезд главы государства. Это приглушение звуков иногда даже тревожит сон, вместо того чтобы его охранять. Еще вчера неумолкающие шумы, непрерывно рисуя нам движения на улице и в доме, в заключение нас усыпляли как скучная книга; сегодня толчок на поверхности тишины, простершейся над нашим сном, более сильный, чем остальные, доходит до нашего слуха, легкий, как вздох, не связанный ни с каким другим звуком, таинственный; и требование объяснения, им источаемое, бывает достаточно, чтобы нас разбудить. Выньте на мгновение у больного вату, положенную ему в уши, и вдруг свет, яркое солнце звука снова показывается в ослепительном блеске, возрождается во вселенной; с молниеносной скоростью людям возвращаются изгнанные шумы; больной присутствует при воскресении голосов, как если бы он слышал славословие ангелов-музыкантов. Пустые улицы снова вмиг наполнились быстрыми крыльями сменяющих друг друга трамваев-певцов. И в самой комнате больной создал не огонь, как Прометей, но шум огня. Словом, плотнее затыкая или ослабляя тампоны из ваты, мы как бы нажимаем попеременно то одну, то другую из тех двух педалей, которыми окрашивается звучание внешнего мира.
Однако шумы прекращаются иногда не только на короткий срок. Человек совершенно оглохший не может даже вскипятить кастрюльку молока, не следя глазами за крышкой, где белый гиперборейский отблеск, подобный отблеску снежного вихря, служит предостерегающим знаком, которому благоразумно повиноваться, выдернув, подобно спасителю, останавливающему волны, штепсель электрического провода; ибо судорожно вздымающееся яйцо кипящего молока в несколько приемов достигает косыми движениями уровня кастрюли, раздувает и округляет полуобвисшие паруса, складками лежавшие на сливках, и бросает в бурю иные из них, перламутровые, которые перерыв тока, если электрический вихрь вовремя подвергнуть заклятию, закружит и предоставит на волю волн, превратив их в лепестки магнолий. Но если больной не принял достаточно быстро необходимых предосторожностей, тотчас после этого молочного водоворота его книги и часы будут почти доверху затоплены белым морем, и ему придется звать на помощь свою старую служанку, которая, будь он даже знаменитым политическим деятелем или великим писателем, скажет ему, что разума у него не больше, чем у пятилетнего ребенка. Другой раз в волшебной комнате, перед закрытой дверью, появляется человек, которого несколько мгновений назад там не было, — это гость, вошедший неслышно для больного и только жестикулирующий, как в театрах марионеток, действующих так успокоительно на тех, кому опротивели звуки человеческого слова. И так как утрата какого-нибудь чувства вносит в мир больше красоты, чем ее внесло бы приобретение нового чувства, то совершенно оглохший человек с наслаждением прогуливается по земле, обратившейся в эдем, когда еще не был создан звук. Самые высокие водопады развертывают свою кристальную скатерть единственно для его глаз; как водопады рая, они спокойнее, чем неподвижное море. Так как до глухоты шум был для него формой восприятия причин движения, то предметы, движущиеся бесшумно, кажутся ему движущимися без причины; лишенные всякого звукового качества, они проявляют самопроизвольную активность, кажутся живыми; они приходят в движение, останавливаются, воспламеняются сами собой. И улетают они сами собой, как доисторические крылатые чудовища. В уединенном, без соседей, доме глухого обслуживание, уже до наступления полной глухоты показывавшее больше сдержанности, совершавшееся молчаливо, теперь производится точно украдкой, немыми людьми, как это бывает у королей в феериях. И, тоже как на сцене, здание, которое глухой видит из окна, — казарма, церковь, ратуша — не более, чем декорация. Если оно однажды обрушится, над ним поднимется облако пыли и видна будет груда мусора; но, еще менее материальное, чем театральный дворец, хотя и обладающее тремя измерениями, оно упадет в волшебном мире, так что падение его тяжелых тесаных камней не помрачит ни единым грубым шумом целомудрия тишины.
Тишина гораздо более относительная, царившая в небольшой солдатской комнате, где я находился несколько минут, была нарушена. Открылась дверь, и быстрым шагом, роняя свой монокль, вошел Сен-Лу.
— Ах, Робер, как у вас хорошо! — сказал я ему. — Если бы мне было позволено здесь пообедать и переночевать!
Действительно, если бы это не было запрещено, какой беспечальный покой отведал бы я здесь, охраняемый этой атмосферой безмятежности, бдительности и веселости, которая поддерживалась сотнями дисциплинированных и уравновешенных воль, сотнями беспечных умов в этом большом общежитии, каковым является казарма, где время приобретало деятельную форму и печальный бой часов заменялся все той же радостной фанфарой сигнальных рожков, раскрошенные и распыленные звуки которых непрерывно держались на мостовых городка, — голосом, уверенным в том, что его будут слушать, и музыкальным, потому что он был не только командой начальства, требующей повиновения, но и велением мудрости, сулящим счастье.
— Вот как! Вы предпочли бы переночевать здесь, возле меня, вместо того чтобы идти одному в гостиницу! — со смехом сказал Сен-Лу.
— Ах, Робер, жестоко с вашей стороны относиться к этому с иронией, — проговорил я, — ведь вы знаете, что это невозможно и что я буду очень страдать в гостинице.
— Вы мне льстите, — отвечал он, — я как раз сам подумал, что вы предпочли бы остаться сегодня вечером здесь. И именно об этом я ходил просить капитана.
— И он позволил? — воскликнул я.
— Без всякого затруднения.
— Я обожаю его!
— Нет, это слишком. Теперь разрешите мне позвать денщика, чтобы он занялся нашим обедом, — прибавил Сен-Лу в то время, как я отвернулся, чтобы скрыть слезы.
Несколько раз в комнату заходили то один, то другой из товарищей Сен-Лу. Он гнал их в шею:
— Убирайся вон!
Я просил Сен-Лу позволить им остаться.
— Нет, нет, они нагонят на вас скуку! Это люди совершенно некультурные, они способны говорить только о скачках да о чистке лошадей. Кроме того, и мне бы они испортили эти драгоценные минуты, о которых я столько мечтал. Заметьте, что если я говорю о посредственности моих товарищей, то отсюда не следует, что всякий военный чужд умственных интересов. Ничуть не бывало. У нас есть один майор, достойный всяческого удивления. Он читал курс военной истории, в котором трактовал предмет как систему доказательств, как вид алгебры. Даже эстетически это такая красота — чередование индукций и дедукций, вы бы не остались к ней равнодушны.
— Это не капитан, разрешивший мне здесь остаться?
— Нет, слава богу, ибо человек, которого вы «обожаете» за пустяк, — величайший остолоп, какого когда-нибудь носила земля. Он как нельзя лучше подходит для того, чтобы заниматься кухней и обмундированием своих людей; он проводит часы в обществе вахмистра и старшего портного. Вот его умственный уровень. При этом он глубоко презирает, как и все, изумительного майора, о котором я вам говорил. Никто у него не бывает, потому что он масон и не ходит к исповеди. Никогда князь Бородинский не примет у себя этого мелкого буржуа. И все же это отъявленная наглость со стороны человека, прадед которого был простым фермером и который, если бы не войны Наполеона, вероятно, тоже был бы фермером. Впрочем, он отдает себе некоторый отчет в положении ни рыба ни мясо, занимаемом им в обществе. Он почти не ходит в Жокей-Клуб, до такой степени он чувствует себя там неловко, этот так называемый князь, — прибавил Робер, который, одинаково усвоив и социальные теории своих учителей, и светские предрассудки своих родных, безотчетно соединял в себе любовь к демократии и презрение к знати эпохи Империи.
Я смотрел на фотографическую карточку его тетки, и мысль, что Сен-Лу, владелец этой фотографии, может мне ее подарить, еще больше наполнила меня любовью к нему и внушила желание оказать ему тысячу услуг, которые казались мне пустяком по сравнению с этой карточкой. Ибо она была как бы лишней встречей, прибавленной к прежним моим встречам с герцогиней Германтской, больше того — встречей продолжительной, как если бы, вследствие внезапного сближения между нами, герцогиня остановилась возле меня в садовой шляпе и впервые позволила мне рассмотреть на досуге эту полную щеку, этот поворот затылка, этот угол бровей (до этих пор скрытые от моих взоров краткостью наших встреч, растерянностью моих впечатлений, шаткостью воспоминания); созерцание всего этого, а также груди и рук женщины, которой я никогда не видел иначе, как в закрытом платье, было для меня сладострастным открытием, знаком благосклонности. Эти линии, на которые мне почти запрещено было смотреть, я мог теперь изучать на карточке, как в трактате единственной геометрии, имевшей для меня цену. Впоследствии, рассматривая Сен-Лу, я заметил, что он тоже был как бы фотографией своей тетки, — тут была тайна, почти столь же волнующая для меня, потом) что лицо его хотя и не было прямо порождено ее лицом, однако оба они имели одно общее происхождение. Черты герцогини Германтской, пришпиленные к ее образу, сохранившемуся у меня от времен Комбре, — нос в виде соколиного клюва, зоркие глаза, — казалось, послужили моделью и при лепке — в другом аналогичном и тонком экземпляре, с очень нежной кожей, — лица Робера, почти что накладывавшегося на лицо его тетки. Я с завистью видел на нем эти характерные черты Германтов — породы, оставшейся столь своеобразной посреди общества, в котором она не теряется и сохраняет свою обособленность, окруженная божественно-орнитологическим блеском, ибо кажется происшедшей в мифологическую эпоху от союза богини с птицей.
Робер был тронут моим умилением, хотя и не знал его причины. Ему способствовало и приятное самочувствие, вызванное теплом камина и шампанским, от которого у меня одновременно выступили капли пота на лбу и слезы на глазах; мы запивали шампанским куропаток; я ел их с изумлением профана, когда он находит в неизвестном ему образе жизни особенности, которые, по его мнению, с ним несовместимы (например, когда вольнодумец угощается изысканным обедом в доме священника). Проснувшись на другой день утром, я подошел к окну комнаты Сен-Лу, откуда открывался широкий вид, чтобы окинуть любопытным взглядом окрестную равнину, которой я не мог рассмотреть накануне, потому что приехал слишком поздно, в час, когда она уже спала в темноте. Но как ни рано она пробудилась, все же, открыв окно, я, как это бывает, если смотреть из замка в направлении пруда, увидел ее еще закутанной в мягкий белый утренний халат из тумана, который почти ничего не позволял мне различить. Но я знал, что, прежде чем солдаты, занятые лошадьми во дворе, кончат уборку, она его скинет. А покамест мне был виден только жиденький холм, выставивший против казармы свою спину, уже обнаженную от тени, тощую и шершавую. Я не спускал глаз с этого незнакомца, который впервые смотрел на меня сквозь ажурные занавески инея. Но, когда я усвоил привычку приходить в казарму, сознание, что холм торчит за окном и, следовательно, более реален, даже когда я его не видел, чем бальбекская гостиница и чем наш дом в Париже, о которых я думал как об отсутствующих, как о покойниках, то есть не веря больше в их существование, — это сознание привело к тому, что его озаренная форма всегда обрисовывалась, даже когда я не отдавал себе в этом отчета, на малейших моих впечатлениях от Донсьера, например, — чтобы начать с этого утра, — на приятном впечатлении теплоты, которое оставил во мне шоколад, приготовленный денщиком Сен-Лу в этой уютной комнате, имевшей вид оптического центра для созерцания холма, — мысль же заняться чем-то еще помимо его созерцания и прогуляться по нему была неосуществима по причине этого самого тумана, нависшего над ним. Впитав форму холма, ассоциировавшись со вкусом шоколада и со всей нитью моих тогдашних мыслей, туман этот, даже когда я о нем совершенно не думал, смачивал все мои мысли того времени, вроде того как некое чистое и нетускнеющее золото осталось связанным с моими бальбекскими впечатлениями, или же как внешние лестницы соседних домов из черноватого песчаника придавали сероватость впечатлениям, оставшимся у меня от Комбре. Туман, впрочем, долго не удержался; солнце, сначала тщетно направив против него несколько стрел, которые расшили его алмазами, в заключение одержало победу. Холм мог теперь подставить серое свое туловище его лучам, которые через час, когда я спускался в город, сообщали красным тонам осенних листьев, красным и синим тонам расклеенных по стенам избирательных афиш радостную восторженность, заразившую и меня, так что я стал праздно бродить по улицам, напевая песенки и едва удерживаясь, чтобы не запрыгать от радости.
Но на другой день мне надо было идти ночевать в гостиницу. И я наперед знал, что роковым образом окажусь там во власти печали. Она подобна была удушливому запаху, который с самого рождения источала для меня каждая новая комната, иными словами — каждая комната: в той, которую я занимал обыкновенно, я не присутствовал, моя мысль витала в другом месте и посылала вместо себя одну только привычку. Но я не мог поручить этой менее чувствительной служанке заняться моим устройством в новом краю, где я ее опережал, куда приезжал один, где мне надо было заставить войти в соприкосновение с вещами это «я», с которым я встречался лишь после долгих лет разлуки, но всегда находил его одинаковым, не выросшим со времени Комбре, со времени моего первого приезда в Бальбек, безутешно плачущим на уголке распакованного сундука.
Но я ошибся. Я не имел времени погрузиться в печаль, так как ни одного мгновения я не был один. Дело в том, что от старинного дворца остался избыток роскоши, которая не находила применения в современной гостинице и, отрешенная от всякого практического назначения, жила теперь в своей праздности как бы самостоятельной жизнью: коридоры, возвращающиеся к исходному пункту, бесцельные извилины которых вы пересекали каждую минуту, — длинные, подобные галереям, вестибюли, отделанные как салоны, которые скорее имели вид жильцов, чем части жилища, — их, правда, нельзя было ввести ни в одну комнату, но они слонялись вокруг моей и сейчас же предложили развлечь меня своим обществом, — что-то вроде праздных, но не шумных соседей, второсортных фантомов прошлого, которым предоставили жить втихомолку у дверей отдаваемых в наем комнат и которые, при каждой встрече со мной на пути, молчаливо выказывали мне предупредительность. В общем, представление о жилье как о простом вместилище нашей жизни, предохраняющем нас лишь от холода и от чужих глаз, было совершенно неприложимо к этому помещению, этой совокупности комнат, столь же реальных, как общество живых людей, правда, молчаливых, но которых волей-неволей приходилось встречать, обходить, приветствовать при возвращении домой. Я старался не потревожить и не мог созерцать без уважения большой салон, еще с XVIII века привыкший раскидываться между колоннами в старой позолоте, под облаками расписного плафона. И я относился с более дружеским любопытством к маленьким комнатам, которые обегали его, нисколько не заботясь о симметрии, бесчисленные, удивленные, беспорядочно устремляясь к саду, куда они так легко спускались по трем выщербленным ступенькам.
Если я хотел выйти или вернуться, не прибегая к услугам лифта и не желая показываться на парадной лестнице, то другая, внутренняя, которой больше не пользовались, предлагала к моим услугам ступеньки, так искусно положенные одна на другую, что в их последовательности существовала, казалось, совершенная пропорция, вроде тех, что в красках, в запахах, во вкусах так своеобразно ласкают наши чувства. Но чтобы изведать чувственную ласку подъемов и спусков, мне понадобилось приехать сюда, как некогда на альпийскую станцию, для того чтобы узнать, что акт дыхания, обычно не воспринимаемый, может доставлять острое наслаждение. Я испытал ту свободу от усилий, которая дается нам единственно вещами, долго находившимися в нашем пользовании, когда впервые поставил ногу на эти ступеньки близкие мне еще до знакомства с ними, как если бы они заранее обладали вложенной, заключенной в них, может быть, старыми хозяевами ежедневно на них ступавшими, приятностью привычек, еще не успевших у меня сложиться, которая могла бы лишь ослабеть, если бы я сам к ней привык. Я вошел в одну из комнат, двойная дверь затворилась за мной, драпировка ввела тишину, над которой я почувствовал себя облеченным упоительной властью; было бы неправильно думать, что мраморный камин, украшенный резной медью, умеет только представлять искусство Директории, он давал мне также тепло, и низенькое креслице на ножках позволяло мне согреться с такими же удобствами, как если бы я сидел на ковре. Стены сжимали в своих объятиях эту комнату, отделяя ее от остального мира, и, чтобы дать в ней место, заключить в ней то, что сообщало ей полноту, расступались перед книжным шкафом и приберегали углубление для кровати, по обеим сторонам которой колонки легко поддерживали очень высокий потолок алькова. И комната продолжалась в глубину в виде двух уборных такой же ширины, как и она, причем в задней были подвешены на стене, чтобы напоить благоуханием сосредоточенность, ради которой туда приходят, упоительные четки из зерен ириса; если я оставлял двери открытыми, уединяясь в этой комнатке, они не только ее утраивали, не лишая, однако, гармоничности, и не только позволяли моему взору насладиться широким пространством, после того как я насладился сосредоточенностью, но еще прибавляли к моему удовольствию от одиночества, которое оставалось ненарушимым и лишь утрачивало замкнутость, чувство свободы. Этот укромный уголок выходил на двор, похожий на красивую отшельницу, соседству которой я обрадовался, когда на другое утро обнаружил ее заключенной между высокими стенами, где не было ни одного окна, и располагавшей только двумя пожелтелыми деревьями, которые придавали мягкую лиловатость чистому небу.
Перед тем как лечь, я пожелал выйти из моей комнаты, чтобы обозреть все мои сказочные владения. Я направился по длинной галерее, которая последовательно преподносила мне все, чем она могла бы меня порадовать, если бы мне не хотелось спать: кресло, стоявшее в уголке, спинет на консоли, голубой фаянсовый горшок, наполненный зольником, и в старинной рамке призрак дамы былых времен в пудреной прическе, украшенной голубыми цветами, и с букетом гвоздик в руке. Когда я дошел до конца, глухая стена, в которой не видно было ни одной двери, простодушно сказала мне: «Теперь надо вернуться, но ты видишь — ты у себя», а пушистый ковер, чтобы не оставаться в долгу, прибавил, что если я не усну в эту ночь, то могу прекрасно пройтись босиком, и окна без ставен, смотревшие на поле, уверяли, что они всю ночь не сомкнут глаз и я могу смело выходить, когда мне будет угодно, не опасаясь, что кого-нибудь разбужу. А за портьерой я обнаружил только чуланчик; остановленный стеной и лишенный возможности убежать, он спрятался там, совсем сконфуженный, и испуганно смотрел на меня своим круглым окошком, окрашенным луною в голубой цвет. Я лег, но наличие пухового одеяла, колонок небольшого камина, привлекая мое внимание к предметам, которых не было в Париже, мешало мне отдаться привычному течению моих сонных грез. И так как это особенное состояние внимания окутывает наш сон и действует на него, его видоизменяет, ставит в уровень с тем или другим рядом наших воспоминаний, то образы, наполнившие мои сновидения в эту первую ночь, были заимствованы у памяти, в корне отличной от той, из которой обыкновенно черпал мой сон. Если бы я попробовал, засыпая, дать себя увлечь привычной моей памяти, то постель, к которой я не привык, и внимание, которое мне приходилось уделять положениям моего тела, когда я ворочался, позаботились бы о том, чтобы выпрямить или укрепить новую нить моих сновидений. Со снами дело обстоит так же, как с восприятием внешнего мира. Достаточно какого-нибудь изменения в наших привычках, чтобы сделать сон поэтическим, достаточно нам, раздеваясь, уснуть против желания в нашей постели, чтобы изменились пропорции нашего сна и стала ощутимой его красота. Мы просыпаемся, мы видим, что наши часы показывают четыре, это только четыре часа утра, но нам кажется, что прошел целый день, настолько этот сон, длившийся несколько минут и посетивший нас неожиданно, представляется нам нисшедшим с неба, божественным даром, чем-то огромным и полным, как золотая держава императора. Утром, раздосадованный мыслью, что дедушка уже готов и что меня ждут, чтобы пойти гулять в сторону Мезеглиза, я был разбужен фанфарой полка, ежедневно проходившего под моими окнами. Но два или три раза, — я об этом упоминаю, потому что нельзя хорошо описать человеческую жизнь, если не окунуть ее в сон, в который она погружается и который, ночь за ночью, ее окружает, как море обступает полуостров, — завеса сна была во мне настолько плотной, что выдержала удар музыки, и я ничего не слышал. В другие дни он на мгновение поддавался; но мое еще сонное сознание, подобно тем предварительно анестезированным органам, которые воспринимают прижигание, сначала для них нечувствительное, лишь под самый конец, в виде легкого ожога, было лишь едва задето тоненькими голосами дудок, ласкавшими его как смутное и свежее утреннее щебетанье; и после этого коротенького перерыва, на время которого тишина становилась музыкой, она возобновлялась вместе со сном, прежде даже чем успевали пройти драгуны, похищая от меня последние цветущие пучки брызжущего звуками букета. И зона моего сознания, задетая этими брызжущими стеблями, была такая узенькая, так плотно окружалась сном, что впоследствии, когда Сен-Лу спрашивал, слышал ли я музыку, я не чувствовал уверенности: может быть, звук фанфары был столь же воображаемым, как тот, что днем после малейшего шума поднимался над мостовыми городка. Может быть, я слышал его только во сне, боясь, как бы он меня не разбудил, или же, напротив, боясь, что он меня не разбудит и я не увижу проходящего полка. Ибо часто, продолжая спать в ту минуту, когда я думал, напротив, что шум разбудил меня, я еще в течение часа считал себя проснувшимся, будучи все время погружен в дремоту и разыгрывая перед самим собою с помощью тусклых теней на экране моего сна различные спектакли, на которых он мешал мне присутствовать, но создавал иллюзию, будто я на них присутствую.
Иногда то, что мы сделали бы днем, мы в действительности, засыпая, совершаем лишь в сновидениях, то есть следуя другим путем в царстве сна, чем тот, по которому мы бы пошли наяву. Разыгрывается та же история, но она имеет другой конец. Несмотря ни на что, мир, в котором мы живем в течение сна, настолько своеобразен, что люди, засыпающие с трудом, пытаются прежде всего выйти из обычного нашего мира. Пролежав с закрытыми глазами несколько часов и тщетно ворочая мысли, подобные тем, которыми мы бываем заняты с открытыми глазами, люди эти вновь наполняются надеждой, если замечают, что протекшая минута вся была занята рассуждением, явно противоречащим законам логики и очевидности настоящего, это краткое «помрачение» означает, что дверь открыта и через нее они, может быть, сейчас ускользнут от восприятия действительности и сделают привал где-нибудь в отдалении от нее, что даст им более или менее «хороший» сон. Но сделан уже большой шаг, когда мы поворачиваемся спиной к действительности, достигнув первых пещер, где «самовнушения», подобно колдуньям, стряпают адское варево воображаемых недугов или обострения нервных болезней и подстерегают минуту, когда припадки, набравшись сил во время бессознательного сна, прорвутся так бурно, что положат ему конец.
Недалеко оттуда находится заповедный сад, где растут, подобно неведомым цветам, такие непохожие друг на друга сны: сон, вызванный дурманом, индийской коноплей, многочисленными экстрактами эфира, сон, навеянный белладонной, опиумом, валерианой, — цветами, которые остаются нераскрытыми, пока не придет предназначенный день, когда незнакомец прикоснется к ним, их раскроет и на долгие часы будет источать аромат их диковинных грез в каком-нибудь восхищенном и удивленном существе. В глубине сада стоит монастырь с открытыми окнами, и через них слышно повторение разученных перед сном уроков, которые мы будем знать лишь после пробуждения; между тем как, его предвестник, в нас тикает внутренний будильник, так точно поставленный нашим беспокойством, что, когда хозяйка придет нам сказать: «семь часов», она застанет нас уже вставшими. На темных стенах той комнаты, которая выходит в сновидения и где беспрерывно работает забвение любовных огорчений (правда, иногда работу его прерывают и разрушают наполненные воспоминаниями кошмары, но она тотчас возобновляется), висят, даже после нашего пробуждения, воспоминания снов, но настолько погруженные во мрак, что часто мы их замечаем впервые лишь в разгар дня, когда их случайно коснется луч схожей с ними мысли; некоторые из них, гармонично ясные во время нашего сна, подверглись такому изменению, что, не узнавая их, мы стараемся как можно скорее предать их земле, как слишком быстро разложившихся покойников или как предметы, настолько попорченные и в таком жалком состоянии, что самый искусный реставратор не мог бы придать им форму и что-нибудь из них извлечь. Возле ограды есть каменоломня, откуда глубокие сны добывают вещества, так крепко цементирующие голову, что для пробуждения спящего его собственная воля бывает вынуждена, даже в золотое утро, ударять изо всей силы топором, подобно юному Зигфриду. Еще дальше ютятся кошмары, относительно которых существует нелепое утверждение врачей, будто они утомляют больше, чем бессонница, тогда как, напротив, они позволяют нашему мыслящему «я» ускользнуть от нашего внимания; кошмары с фантастическими альбомами, где наши покойные родные стали жертвой несчастного случая, не исключающего скорого выздоровления. А до тех пор мы их держим в маленькой клетке для крыс, где они, миниатюрные как белые мыши, покрытые большими красными прыщами и украшенные каждый пером, держат перед нами цицероновские речи. Рядом с этим альбомом помещается вращающийся диск будильника, благодаря которому мы подчиняемся на мгновение докучной обязанности вернуться сейчас в дом, уже пятьдесят лет как разрушенный и образ которого, по мере удаления сна, затмевается рядом других, перед тем как мы прибываем в тот, что появляется, когда диск остановился, и совпадает с домом, который мы увидим, открыв глаза.
Иногда я ничего не слышал, находясь во власти одного из тех снов, в который мы валимся как в яму, и так счастливы бываем, когда из нее выходим, отяжелевшие, перекормленные, переваривая все, что нам проворно доставили, подобно нимфам, кормившим Геракла, вегетативные производительные силы, работающие с удвоенной энергией, когда мы спим.
Такой сон называют свинцовым; когда он кончился, нам в течение нескольких мгновений кажется, будто мы сами превратились в бездушную свинцовую куклу. Личности у нас больше нет. Каким образом случается, что, отыскивая свои мысли, свою личность, как ищут потерянную вещь, мы в заключение находим собственное наше «я» скорее, чем чье-либо чужое? Почему, когда к нам возвратилось сознание, в нас не воплощается другая личность, — не та, что была прежде? Непонятно, что определяет выбор и почему из миллионов человеческих существ, которыми мы могли бы быть, выбор этот пал как раз на то, которым мы были накануне? Что нами руководит, если связь начисто оборвалась (оттого, что сон был мертвым, или же оттого, что сновидения были совершенно чужды нам)? Была подлинная смерть, как в тех случаях, когда сердце перестало биться и нас оживляют ритмическим потягиванием за язык. Разумеется, комната, хотя бы мы ее видели только один раз, пробуждает воспоминания, за которые цепляются другие, более старые. Где некоторые из них спали в нас, — те, что мы осознаем? Воскресение при пробуждении — после благодетельного припадка сумасшествия, которым является сон, — должно в основном походить на то, что происходит, когда мы вспоминаем имя, стих, позабытый напев. И, может быть, воскресение души после смерти следует рассматривать как феномен памяти.
Когда я окончательно просыпался, меня влекло залитое солнечными лучами небо, но останавливала свежесть, свойственная этим ярким и холодным утрам начала зимы; чтобы посмотреть деревья, на которых листья были теперь намечены лишь несколькими пятнышками золота или розовой краски, казалось, повисшими в воздухе, на невидимой основе, я поднимал голову и вытягивал шею, держа при этом тело наполовину закутанным в одеяло; как куколка в стадии превращения в бабочку, я был существом двойным, разные части которого нуждались в различной среде; для моего взгляда довольно было красок, без тепла; грудь моя, напротив, нуждалась в тепле, а не в красках. Я вставал лишь после того, как растапливали камин, и смотрел на прозрачную и мягкую картину золотисто-лилового утра, к которой искусственно прибавлял недостававшие ей части тепла, помешивая камин, пылавший и дымивший, как добрая трубка, и, подобно трубке, доставлявший мне удовольствие одновременно и грубое, потому что основанное на материальном комфорте, и тонкое, потому что за ним рисовались чистые зрительные образы. Моя туалетная была оклеена ярко-красными обоями, усеянными черными и белыми цветами, к которым, казалось бы, мне будет трудновато привыкнуть. Но они имели лишь то действие, что казались мне новыми, что принуждали меня вступать не в столкновение, но в соприкосновение с ними, что умеряли веселость и песни моего вставания, — они имели лишь то действие, что насильно вкладывали мне в сердце цветок вроде мака, чтобы смотреть на мир, который выглядел здесь совсем иначе, чем в Париже, ограждали меня веселенькими ширмами, которыми был этот новый для меня дом, иначе поставленный, чем дом моих родителей, открытый для притока чистого воздуха. В иные дни я волновался, охваченный желанием увидеть бабушку или страхом, что она заболела; или же вспоминал о каком-нибудь деле, оставленном мной в Париже, которое приостановилось, а иногда — о каком-нибудь затруднении, в которое я умудрялся попасть даже здесь. Та или иная из этих забот мешала мне уснуть, и я был бессилен против моей печали, мгновенно наполнявшей все мое существование. Тогда я посылал кого-нибудь из гостиницы в казарму с запиской для Сен-Лу: я писал, что если для него физически возможно, — я знал, что это очень трудно, — то не будет ли он настолько добр, чтобы зайти ко мне на минутку. Через час он являлся; услышав его звонок, я уже чувствовал себя освобожденным от моих тревог. Я знал, что если они были сильнее меня, то он был сильнее, чем они, и мое внимание отвлекалось от них и обращалось к нему, который должен был положить им конец. Не успевал он войти, как уже окружал меня свежим воздухом, на котором с утра занят был кипучей деятельностью, погружал меня в жизненную среду, в корне отличную от моей комнаты, но к которой я немедленно приспособлялся при помощи соответствующих реакций.
— Надеюсь, вы на меня не сердитесь за то, что я вас потревожил, меня очень мучит одна вещь, вы, вероятно, догадались какая.
— Нет, я просто подумал, что вы желаете меня видеть, и нашел, что это очень мило. Я в восторге, что вы послали за мной. Что же, дела не клеятся? Чем могу вам помочь?
Он выслушивал мои объяснения и давал мне точные ответы; но еще прежде, чем он заговаривал, я становился похожим на него; рядом с важными занятиями, делавшими его таким подвижным, таким проворным, таким довольным, заботы, сейчас только ни на минуту не дававшие мне передышки от страданий, казались мне, как и ему, не стоящими никакого внимания; я был подобен человеку, который в течение нескольких дней не может открыть глаза, зовет доктора, и тот ловко и безболезненно приподымает у него веко, удаляет и показывает ему песчинку; больной выздоровел и успокоился. Все мои тревоги разрешались телеграммой, которую брался отправить Сен-Лу. Жизнь казалась мне настолько иной, настолько прекрасной, я настолько переполнялся энергией, что не хотел оставаться бездеятельным.
— Что вы теперь делаете? — спрашивал я Сен-Лу.
— Я сейчас оставлю вас, потому что через три четверти часа полк выступает и во мне нуждаются.
— Так вам было очень трудно зайти ко мне?
— Нет, нисколько, капитан был очень мил, он сказал, что раз это для вас, то мне надо пойти, однако я не хочу злоупотреблять его любезностью.
— А что если я скоренько оденусь и тоже пойду на то место, где вы собираетесь производить учение? Оно меня интересует, и мне, может быть, удастся разговаривать с вами в перерыве между занятиями.
— Не советую вам: вы не спали, вы все время находились в тревоге относительно вещи, которая, уверяю вас, не имеет никакого значения, но теперь, когда она вас больше не беспокоит, возвращайтесь на свою подушку и поспите: сон — великолепное средство против деминерализации ваших нервных клеток; но не засыпайте слишком скоро, потому что наша поганая музыка будет проходить у вас под окнами; а когда она пройдет, я думаю, вы насладитесь покоем, и вечером мы увидимся за обедом.
Но впоследствии я часто ходил смотреть на полевые занятия полка, — я начал интересоваться военными теориями, которые развивали за обедом приятели Сен-Лу, и моим заветным желанием стало рассмотреть поближе их начальников, вроде того как человек, избравший главным своим занятием музыку и проводящий все свое время в концертах, с удовольствием посещает кофейни, где вступает в общение с музыкантами оркестра. Чтобы дойти до места занятий полка, мне надо было совершить длинный путь. По вечерам, после обеда, от желания спать голова у меня клонилась вниз, как во время головокружения. На другой день я замечал, что не слышал фанфары, так же как в Бальбеке я не слышал концертов на пляже на другой день после обедов с Сен-Лу в Ривбеле. И, собираясь встать, я испытывал восхитительное чувство неспособности это сделать; меня точно привязывало к невидимой и глубокой почве сцепление крепких питающих корешков, которое моя усталость делала для меня ощутимым. Я чувствовал себя полным сил, более долгая жизнь простиралась передо мной: дело в том, что я бывал отброшен к поре моего детства в Комбре, когда я испытывал такую приятную усталость на другой день после наших прогулок в сторону Германта. Поэты утверждают, будто мы обретаем на миг то, чем мы были когда-то, если нам случается попасть в дом или в сад, где мы жили в молодости. Однако паломничества эти очень рискованны, и они приносят нам столько же разочарований, сколько удач. Надежные места, свидетелей различных эпох нашей жизни, нам лучше искать в самих себе. Для этой цели нам могут в известной степени пригодиться большая усталость, за которой последовала спокойная ночь. По крайней мере они, — спуская нас в самые глубокие подземные галереи сна, где ни один отсвет яви, ни один проблеск памяти не озаряет больше внутреннего монолога, если верно, что он никогда не прекращается, — так основательно перекапывают верхние и подпочвенные слои нашего тела, что мы вдруг снова оказываемся в саду, по которому мы гуляли детьми, мы находим его в той области, куда погружены концевые разветвления наших мускулов и откуда они набираются новой жизни. Чтобы увидеть этот сад, нет надобности предпринимать путешествие, а стоит лишь опуститься на некоторую глубину. То, что покрывало землю, не находится больше на ее поверхности, но лежит глубже; для посещения мертвого города недостаточно совершить экскурсию, необходимо еще заняться раскопками. В дальнейшем будет видно, как некоторые беглые и случайные впечатления еще лучше уводят к прошлому, чем эти органические процессы, — с большей точностью, полетом более легким, более невещественным, более головокружительным, более безошибочным, более бессмертным.
Иногда меня одолевала еще большая усталость: я, не ложась, следил за полевыми занятиями несколько дней. Каким благословенным бывало тогда возвращение в гостиницу! Укладываясь в постель, я испытывал такое чувство, точно наконец удалось мне ускользнуть от волшебников, от чародеев, вроде тех, что наводняют любимые французские романы XVII века. Мой сон и мое утреннее лежание в постели на другой день обращались в прелестную волшебную сказку. Прелестную, — может быть также и благодетельную. Я говорил себе, что и от жесточайших страданий есть прибежище, что всегда можно, за недостатком лучшего, найти покой. Эти мысли меня заводили очень далеко.
В дни отдыха от занятий, когда Сен-Лу не мог, однако, отлучиться, я часто ходил повидать его в казармы. Путь был далекий; надо было выйти из города и перейти виадук, по обеим сторонам которого открывались необъятные виды. На этих возвышенных местах почти всегда дул сильный ветер, наполняя все постройки казарм, которые неумолчно гудели, как пещера ветров. В ожидании Робера, если он занят был каким-нибудь служебным делом, я разговаривал у дверей его комнаты или в столовой с теми его приятелями, которым он меня представил (и которых я потом несколько раз навещал даже в те дни, когда Робер бывал в отлучке), или же смотрел в окно на раскинувшиеся в ста метрах подо мной уже убранные поля, но на которых там и сям новые всходы, часто еще влажные от дождя и освещенные солнцем, расстилали зеленые ленты, блестящие и глянцовитые, как эмаль; из доносившихся до меня разговоров я скоро понял, какой любовью и популярностью пользуется мой друг. У многих вольноопределяющихся из других эскадронов, молодых богатых буржуа, видевших высшее аристократическое общество только со стороны, не проникая в него, симпатия, возбуждавшаяся в них тем, что они знали о характере Сен-Лу, еще больше подогревалась обаянием, окружавшим в их глазах молодого человека, которого по субботам вечером, приезжая в отпуск в Париж, они часто видели ужинающим в Café de la Paix с герцогом Юзесским и принцем Орлеанским. По этой причине его красивая фигура, его развинченная походка и манера отдавать честь, непрестанное швырянье монокля, своеобразный фасон его слишком высоких кепи, его панталоны из слишком тонкого и слишком розового сукна связывались у них с представлением «шика», недостававшего, с их точки зрения, самым элегантным офицерам полка, даже величественному капитану, которому я обязан был разрешением переночевать в казарме, — по сравнению с Сен-Лу он казался слишком торжественным и почти вульгарным.
Один говорил, что капитан купил новую лошадь. Он может покупать всех лошадей, каких ему угодно. Я встретил Сен-Лу в воскресенье утром на аллее Акаций, он ездит верхом с настоящим шиком! — отвечал другой, со знанием дела, потому что эти молодые люди принадлежали к классу, который хотя и не посещает великосветского общества, однако, благодаря деньгам и досугу, не отличается от аристократии в опытности по части изысканных вещей, которые можно купить за деньги. Их изысканность, например, в том, что касается одежды, отличалась разве что несколько большей старательностью, большей безупречностью, чем свободная и небрежная изысканность Сен-Лу, которая так нравилась бабушке. Эти сынки крупных банкиров и биржевых маклеров испытывали легкое волнение, увидев за соседним столиком унтер-офицера Сен-Лу, когда они после театра ели устриц. И сколько бывало рассказов в казарме по понедельникам, после возвращения из отпуска: с одним из этих молодых людей из эскадрона Сен-Лу последний «очень мило» поздоровался; другой, не из того эскадрона, был уверен, что все-таки Сен-Лу его узнал, потому что два или три раза направлял монокль в его сторону.
— Да, мой брат заметил его в «la Paix», — говорил третий, проводивший отпуск у любовницы, — кажется даже, фрак на нем был слишком широкий и сидел нехорошо!
— А какой был жилет?
— Нет, не белый, а лиловый, расшитый пальмовыми веточками, умопомрачительно!
Для старослужащих (людей из народа, не имевших представления о Жокей-Клубе и относивших Сен-Лу лишь к категории очень богатых унтер-офицеров, в которую они включали всех тех, кто, разоренные или нет, вели широкий образ жизни, имели достаточно высокую цифру доходов или долгов и были обходительны с солдатами) походка, монокль, панталоны, кепи Сен-Лу представляли не меньше интереса и значения, хотя они не видели в них ничего аристократического. Они признавали в этих особенностях характерные черты, раз навсегда отнесенные ими к этому наиболее популярному из унтер-офицеров полка, манеры, подобных которым не было ни у кого, презрение к мнениям начальства, казавшееся им естественным следствием его доброго отношения к солдату. Утренний кофе в общих комнатах или послеполуденный отдых на койках казались более сладкими, когда кто-нибудь из старослужащих угощал лакомую и ленивую компанию пикантной подробностью насчет кепи, которое носил Сен-Лу.
— Вышиной с мою укладку.
— Ну, старина, ты хочешь втереть нам очки, его кепи не могло быть вышиной в твою укладку, — возражал молодой лиценциат, который, прибегая к этому жаргону, хотел казаться как можно меньше похожим на новобранца и, отваживаясь на противоречие, добивался лишь услышать подтверждение факта, который приводил его в восхищение.
— Ах, так ты не веришь, что оно вышиной с мою укладку! Ты, может быть, его смерил? Я тебе говорю, что подполковник так на него уставился, точно хотел посадить его под арест. И лихой наш Сен-Лу ничуть не обалдел, он ходил взад и вперед, опускал голову, поднимал ее и все время швырялся моноклем. Надо бы видеть, что наш ротный скажет. Может статься, что ничего не скажет, но уж, верно, это ему не придется по нутру. Но это кепи еще пустяки. Говорят, у него в городе есть их еще десятка три.
— Каким лешим ты это знаешь, старина? От нашего пройдохи капрала? — спросил молодой лиценциат, педантически применяя новые грамматические формы, только недавно им усвоенные, которыми он с гордостью украшал свою речь.
— Откуда я знаю? Да от его денщика!
— Вот уж кто на судьбу свою не может пожаловаться!
— Я думаю! Деньжат у него, я чай, больше, чем у меня! И кроме того он дарит денщику все свои вещи и всякую всячину. Столовой порции тому было мало. Вот наш Сен-Лу является на кухню и говорит — кашевар его слышал: «Хочу, чтоб его кормили досыта, сколько б это ни стоило».
И старослужащий возмещал ничтожность этих слов выразительным их произнесением; его посредственная имитация имела шумный успех.
Выйдя из казарм, я немного прогуливался, а потом, в ожидании часа, когда я ежедневно ходил обедать с Сен-Лу в гостиницу, где столовались он и его приятели, отправлялся к себе домой после захода солнца, чтобы в течение двух часов отдохнуть и почитать. На площади вечер прикладывал к крышам замка, имевшим форму песочницы, маленькие розовые облака под цвет кирпичных стен и довершал гармонию, смягчая последние световым отблеском. К моим нервам приливал такой мощный ток жизни, что его не могло исчерпать ни одно из моих движений; при каждом шаге нога моя, прикоснувшись к мостовой, тотчас же отскакивала, мне чудилось, что у моих пяток выросли крылья Меркурия. Один из водоемов был полон алого блеска, а в другом лунный свет уже окрасил воду опалом. Между ними играли мальчишки; они оглашали воздух криками и описывали круги, повинуясь какой-то продиктованной часом необходимости, как это делают стрижи или летучие мыши. Рядом с гостиницей старинные дверцы и оранжерея в стиле Людовика XVI, в которых помещались теперь сберегательная касса и штаб армейского корпуса, были освещены изнутри бледно-золотистыми языками уже зажженного газа, который при еще ярком дневном свете шел к этим высоким и широким окнам XVIII века, на которых еще не померк последний отблеск заката, как желтый черепаховый убор идет к лицу, оживленному румянцем, он манил меня к моему камину и моей лампе, которая на том фасаде гостиницы, где я занимал комнату, одна только боролась с сумерками, и я с удовольствием к ней возвращался перед наступлением темноты, как мы возвращаемся к завтраку. Эту полноту ощущений я сохранял и в моей комнате. Она настолько вздувала поверхности предметов, которые так часто бывают для нас плоскими и пустыми: желтое пламя камина, небесно-голубые обои, на которых вечер, как школьник, нацарапал красным карандашом винтообразные линии, скатерть с причудливым узором на круглом столе, где меня ожидали стопка бумаги и чернильница вместе с романом Бергота, — что с тех пор эти предметы продолжали мне казаться обогащенными особого рода бытием, которое я мог бы извлечь из них, если бы мне дано было обрести их вновь. Я с радостью думал о только что покинутой казарме, на которой флюгер вращался во все стороны от ветра. Как водолаз, который дышит через трубу, выходящую на поверхность воды, я чувствовал себя соединенным с здоровой жизнью, с вольным воздухом при помощи этой казармы, этой высокой обсерватории, которая господствовала над равниной, изборожденной каналами зеленой эмали, и я считал драгоценной привилегией, которой желал бы наслаждаться подольше, возможность ходить под ее кровлю, когда мне вздумается, всегда уверенный, что встречу там радушный прием.
В семь часов я одевался и отправлялся обедать с Сен-Лу в гостиницу, где он получал стол. Я любил ходить туда пешком. На улицах стояла темь и, начиная с третьего дня моего пребывания в Донсьере, при наступлении ночи сейчас же поднимался холодный ветер, казавшийся предвестником снега. Казалось бы, по дороге я должен был все время думать о герцогине Германтской; ведь только для того, чтобы постараться приблизиться к ней, я и приехал в гарнизон Робера. Но всякое воспоминание, всякая печаль подвижны. Бывают дни, когда они уходят так далеко, что мы едва их замечаем, мы считаем, что они нас покинули. Тогда мы уделяем внимание другим вещам. А улицы этого города не сделались еще для меня, как в городах, где мы обыкновенно живем, простыми средствами ходить из одного места в другое. Жизнь, которую вели обитатели этого неведомого мира, мне представлялась чудесной, и часто освещенные окна какого-нибудь дома надолго останавливали меня в темноте, предлагая моим взорам правдивые, и таинственные сцены жизни, в которую я не проникал. Здесь гений огня показывал мне на картине в красных тонах кабачок торговца каштанами, где два унтер-офицера, сложив портупеи на стулья, играли в карты, не подозревая, что некий волшебник извлекает их из мрака точно какую-нибудь театральную сцену и показывает остановившемуся прохожему, которого они не могли видеть, такими, как они действительно были в эту минуту. Полусгоревшая свеча в лавке старьевщика, бросая красный свет на гравюру, превращала ее в сангвину, в то время как свет большой лампы, боровшейся с тенью, превращал кусок грубой кожи в сафьян, зажигал старый кинжал сверкающими блестками, покрывал дрянные кожи драгоценной позолотой, точно патиной старины или лаком знаменитого художника, словом, обращал эту лачугу, наполненную лишь подделками и мазней, в бесценное произведение Рембрандта. Иногда я поднимал голову и смотрел в просторные комнаты какого-нибудь старого дома, окна которого не были закрыты ставнями; там мужчины и женщины — амфибии, приспособляясь каждый вечер для жизни в иной стихии чем днем, медленно плавали в маслянистой жидкости, которая с наступлением ночи непрестанно струится из резервуара ламп и до верху наполняет комнаты, огражденные стенами из камня и стекла, и в недрах которой перемещение их тел создавало золотистые и густые водовороты. Я продолжал путь, и часто в темном переулке у собора, как некогда по дороге в Мезеглиз, меня останавливала сила моего желания; мне казалось, что вот сейчас появится женщина и его удовлетворит; если я вдруг чувствовал, что в темноте проходит платье, то неистовая сила наслаждения, мной испытываемого, исключала всякую мысль о случайности этого шороха, и я пытался заключить в объятия испуганную прохожую. Этот готический переулок обладал для меня чем-то столь реальным, что если бы я мог подобрать на нем женщину и овладеть ею, для меня было бы невозможно не поверить, что нас соединяет античное сладострастие, хотя бы эта женщина была просто уличной проституткой, стоявшей там каждый вечер, но которой передавали бы свою таинственность зима, новизна обстановки, темнота и средневековье. Я думал о будущем: попытка забыть герцогиню Германтскую казалась мне ужасной, но разу мной и теперь впервые возможной, может быть даже легкой. В полнейшей тишине этого квартала я слышал впереди слова и смех; должно быть, возвращались домой подвыпившие гуляки. Я остановился, чтобы их увидеть, и посмотрел в сторону, откуда слышал шум. Но мне пришлось ждать долго, ибо безмолвие кругом было таким глубоким, что самые далекие шумы доносились с необыкновенной четкостью и силой. Наконец подгулявшая компания приблизилась, но не спереди, как я думал, а сзади и очень издалека. Скрещение ли улиц и стоявшие в промежутках дома создали эту акустическую ошибку преломлением звука, или вообще очень трудно локализовать звук, место которого нам неизвестно, во всяком случае я обманулся как относительно его расстояния, так и относительно направления.
Ветер крепчал. Он был весь щетинистый и шершавый от приближения снега; я вернулся на главную улицу и прыгнул в трамвай, с площадки которого офицер, как будто и не смотревший в ту сторону, отвечал на козырянье туповатых солдат, которые проходили по тротуару с размалеванными холодом лицами; здесь, в этом городе, как будто передвинутом дальше на север резким скачком осени в начало зимы, они приводили на мысль те красные лица, которыми Брейгель наделяет своих зазябших крестьян, веселых и разгульных.
И как раз в гостинице, где я встречался с Сен-Лу и его приятелями и куда начинавшиеся праздники привлекали много народу из окрестных мест и издалека, как раз в этой гостинице, — когда я пересекал по прямой линии двор, выходивший на алеющие кухни, где поворачивались насаженные на вертела цыплята, где жарилась свинина, где еще живые омары ввергались в то, что трактирщик называл «огнь вечный», — стечение приезжих достойно было какой-нибудь «Всенародной переписи в Вифлееме», как ее изображали старые фламандские мастера; на дворе люди собирались кучками и спрашивали хозяина или кого-нибудь из его помощников (которые указывали им предпочтительно помещение в городе, если находили их недостаточно чисто одетыми), могут ли они получить стол и квартиру, а в это время проходил официант, держа за шею какую-нибудь барахтавшуюся птицу. Большая столовая, которую надо было миновать, чтобы попасть в маленькую комнату, где меня ждал мой друг, тоже приводила на ум евангельский пир, представленный с простодушием старых времен и фламандской необузданностью: такое несметное число рыб, пулярдок, глухарей, вальдшнепов и голубей, разукрашенных и дымящихся, приносили запыхавшиеся официанты, которые для скорости скользили по паркету и ставили все эти яства на огромный стол, где их тотчас нарезали, но где, — многие обеды подходили уже к концу, когда я являлся, — они накоплялись нетронутые, как если бы их изобилие и стремительность приносивших их официантов отвечали не столько требованиям обедающих, но гораздо больше почтению к священному тексту, добросовестно воспроизведенному с буквальной точностью и наивно иллюстрированному реальными подробностями, взятыми из местной жизни, а также эстетической и религиозной потребности показать блеск праздника при помощи изобилия снеди и усердия слуг. На конце столовой один из них неподвижно мечтал о чем-то у постанца; так как он один казался достаточно спокойным, чтобы ответить, в какой комнате приготовлен для нас стол, то я, двинувшись между керосинками, зажженными там и сям, чтобы не дать остынуть кушаньям для запоздавших (что не мешало огромному изваянию в середине столовой держать в руках сладкие блюда и помешаться иногда на крыльях утки — из хрусталя, как казалось, но в действительности из льда, ежедневно обтесываемого поваром-скульптором в чисто фламандском вкусе при помощи каленого железа), направился прямо к этому слуге, рискуя каждую минуту быть опрокинутым другими; в нем я узнавал персонаж, традиционно помещавшийся на подобных священных картинах: так тщательно воспроизводил он его курносое, простодушное и плохо нарисованное лицо с мечтательным выражением, уже почувствовавшее присутствие божества, о котором другие еще не подозревают. Добавим, что, вероятно ввиду приближавшихся праздников, картина эта снабжена была небесным восполнением, набранным исключительно из персонала херувимов и серафимов. Юный ангел-музыкант с белокурыми волосами, обрамлявшими четырнадцатилетнее лицо, по правде говоря, не играл ни на каком инструменте, но размечтался перед гонгом или грудой тарелок, в то время как ангелы более взрослые хлопотливо носились по необъятным просторам зала, колебля воздух непрестанно развевающимися салфетками, которые ниспадали за их туловищами в форме остроконечных крыльев, как они изображаются на примитивах. Минуя эти области с расплывчатыми границами, прикрытыми завесой пальм, так что небесные служители издали казались выходящими точно из эмпирея, я прокладывал себе дорогу до отдельного кабинета, где был приготовлен стол для Сен-Лу. Я заставал там нескольких его приятелей, всегда с ним обедавших; все это были люди знатные, за исключением двух-трех разночинцев, но таких, в которых знатные со школьной скамьи почувствовали друзей и с которыми они охотно сближались, показывая таким образом, что они не были принципиально враждебны буржуа, хотя бы даже республиканцам, лишь бы те держали в чистоте руки и ходили к мессе. В первый мой приход сюда я, прежде чем садиться за стол, отвел Сен-Лу в угол столовой и в присутствии его приятелей, но так, что они нас не слышали, сказал:
— Робер, время и место мало подходят для нашего разговора, но я задержу вас только на одну секунду. Я все забывал спросить у вас в казармах: не герцогини ли Германтской карточка у вас на столе?
— Да, это моя милейшая тетушка.
— Ну, конечно же, какой я бестолковый, ведь я это знал, — как это у меня из головы вылетело, боже мой! Ваши приятели теряют терпение, давайте поговорим скоренько, они на нас смотрят, или же в другой раз, это совсем не существенно.
— Ничего, ничего, говорите, они подождут.
— Нет, зачем же? Я не хочу быть невежливым: они такие милые; к тому же, повторяю, это для меня неважно.
— Так вы знаете мою славную Ориану?
Выражение «славная Ориана», все равно как если бы он сказал «добрейшая Ориана», не означало, что Сен-Лу приписывал герцогине Германтской какую-нибудь особенную доброту. В подобных случаях эпитеты «добрая», «превосходная», «славная» являются простым усилением собственного имени, обозначая особу, которая известна обоим собеседникам и о которой вы не знаете хорошенько, что сказать человеку, не принадлежащему к вашему интимному кругу. «Добрая» служит чем-то вроде закуски и позволяет выиграть минутку, прежде чем сказать: «Вы часто ее видите?» или «Уже несколько месяцев, как я ее не видел», или «Я видел ее в среду», или «Она теперь уже не первой молодости».
— Вы не можете себе представить, как меня занимает, что это ее карточка: ведь мы живем теперь в ее доме, и я узнал о ней необыкновенные вещи (я бы очень затруднился сказать, какие именно), благодаря которым она меня страшно интересует, с литературной, так сказать, — вы меня понимаете, — с бальзаковской точки зрения, — вы такой умный, вы поймете это с полуслова, — но давайте кончим скорей: что должны подумать ваши приятели о моем воспитании!
— Да они ровно ничего не думают; я им сказал, что вы умнейший человек, и вы внушаете им гораздо больше робости, чем они вам.
— Вы очень любезны. Так дело вот в чем: герцогиня Германтская не знает, что я с вами знаком?
— Мне ничего об этом не известно; я с лета ее не видел, так как ни разу не ездил в отпуск после ее возвращения в Париж.
— Представьте себе, меня уверяли, что она считает меня совершеннейшим идиотом.
— Ну, нет, не думаю: Ориана звезд с неба не хватает, но она все же не дура.
— Вы знаете, что, вообще говоря, я совсем не добиваюсь, чтобы вы рассказывали о добрых чувствах, которые вы ко мне питаете, — я не честолюбив. Поэтому я сожалею, что вы говорили обо мне любезные вещи вашим приятелям (к которым мы вернемся через две секунды). Но что касается герцогини Германтской, если бы вы могли передать ей, даже с некоторыми преувеличениями, то, что вы обо мне думаете, вы бы мне доставили большое удовольствие.
— Помилуйте, очень охотно! Если в этом вся ваша просьба, то исполнить ее совсем не трудно, но какое может иметь значение то, что она о вас думает? Я полагаю, что вам это совершенно все равно; во всяком случае, если речь идет только об этом, то мы можем говорить при всех или когда будем одни, потому что, боюсь, вам утомительно столько времени стоять, да еще в такой неудобной обстановке, между тем как у нас есть столько случаев остаться с глазу на глаз.
Однако как раз эта неудобная обстановка придала мне храбрости заговорить с Робером; присутствие его приятелей было для меня поводом, оправдывавшим отрывочность и бессвязность моих речей, вследствие чего я мог легче замаскировать ложь, заключенную в утверждении, будто я забыл о родстве моего друга с герцогиней; оно также не давало ему времени задать мне вопросы о причинах, почему мне так желательно, чтобы герцогиня Германтская знала о моей близости с ним, о моем уме и т. п., — вопросы, которые меня тем больше смутили бы, что я не мог бы на них ответить.
— Робер, меня удивляет, как вы, такой умный, не понимаете, что не надо обсуждать то, что доставляет удовольствие друзьям, а надо это сделать. Я, если бы вы меня попросили о чем угодно, и мне даже очень бы хотелось, чтобы вы меня о чем-нибудь попросили, я, уверяю вас, не стал бы спрашивать у вас объяснений. Я иду дальше того, что я желаю; я равнодушен к знакомству с герцогиней Германтской, но мне бы следовало, чтобы вас испытать, сказать вам, что я желал бы пообедать с герцогиней Германтской, и я знаю, что вы бы мне этого не устроили.
— Не только устроил бы, но и устрою.
— Когда же?
— Как только приеду в Париж, вероятно недели через три.
— Посмотрим, впрочем, она не пожелает. Не могу выразить, как я вам благодарен.
— Помилуйте, какие пустяки.
— Не говорите так, это огромное одолжение: из него я вижу, что вы настоящий друг. О важной ли вещи я вас прошу или о неважной, приятной или неприятной, действительно ли я дорожу ею или только хочу вас испытать, — это все равно: вы говорите, что исполните мою просьбу и тем показываете проницательность вашего ума и благородство вашего сердца. Глупый друг начал бы спорить.
Он это как раз и делал; но, может быть, я хотел задеть его самолюбие; а может быть также, я был искренен, поскольку единственным пробным камнем дружбы казалась мне польза, которую мог принести мне друг по отношению к единственно важной для меня вещи — моей любви. Затем я прибавил — может быть, из двоедушия, а может быть, от подлинного прилива нежности, вызванного признательностью, корыстными расчетами и просто чертами герцогини Германтской, которыми природа наделила ее племянника Робера:
— Однако пора возвращаться к нашим друзьям, а я успел изложить только одну свою просьбу, менее важную, другая имеет гораздо большее значение для меня, но боюсь, вы мне откажете: вам не будет неприятно, если мы начнем говорить друг другу «ты»?
— Неприятно? Что вы, помилуйте! О радость! Слезы радости! Невиданное блаженство!
— Как я вам благодарен… тебе благодарен. Когда же вы начнете? Это для меня такое удовольствие, что вы можете ничего не говорить герцогине Германтской, если угодно, мне достаточно вашего «ты».
— Будет сделано и то и другое.
— Ах, Робер! Послушайте, — обратился я снова к Сен-Лу во время обеда, — ужасно комичен этот разговор из каких-то обрывочных фраз, не понимаю, почему это так выходит, — вы знаете даму, о которой я только что вам говорил?
— Да.
— Вы действительно знаете, кого я имею в виду?
— Помилуйте, вы меня принимаете за валлийского кретина, за остолопа.
— Вы бы не согласились дать мне ее карточку?
Я собирался попросить ее у Сен-Лу только на время. Но, заговорив о карточке, я почувствовал робость, я нашел мою просьбу нескромной и, чтобы этого не обнаружить, формулировал ее более грубо, усилил ее, как если бы она была вполне естественной.
— Нет, мне надо будет сначала попросить ее разрешения, — отвечал он.
Сказав это, он покраснел. Я понял, что у него есть какая-то задняя мысль, что он приписывает заднюю мысль мне, что он готов служить моей любви не безоговорочно, а придерживаясь некоторых моральных принципов, и я его возненавидел.
И все-таки я был тронут, видя, насколько иначе вел себя по отношению ко мне Сен-Лу, когда я был не наедине с ним, а в обществе его друзей. Его преувеличенная любезность оставила бы меня равнодушным, если бы я считал ее напускной; но я чувствовал ее непроизвольность, чувствовал, что она состоит из того, что он, вероятно, говорил обо мне в мое отсутствие и о чем молчал, когда я бывал с ним наедине. Во время наших встреч с глазу на глаз я догадывался, конечно, об удовольствии, которое доставлял ему разговор со мной, но удовольствие это оставалось почти всегда невыраженным. Теперь, слушая те же замечания, которые он обыкновенно смаковал, не подавая виду, Сен-Лу украдкой наблюдал, производят ли они на его приятелей впечатление, на которое он рассчитывал и которое должно было соответствовать тому, что он им сообщил. Мать дебютантки с меньшим напряжением следит за репликами своей дочери и отношением к ней публики. Если я произносил фразу, которая вызвала бы у него, самое большее, улыбку, находись он со мной один, Сен-Лу, опасаясь, что она пройдет незамеченной, переспрашивал: «Как, как?» — чтобы заставить меня повторить ее, чтобы привлечь к ней внимание; оборачиваясь сейчас же к другим, смотря на них с веселым смехом и смехом этим неумышленно их заражая, он впервые давал мне почувствовать свои мысли обо мне, которые он наверное не раз высказывал своим приятелям. И я вдруг видел себя со стороны, как человек, который читает свое имя в газетах или замечает себя в зеркале.
На одном из таких вечеров мне захотелось рассказать одну довольно комичную историю о г-же Бланде, но я сразу же остановился, так как вспомнил, что Сен-Лу ее уже знает и что, когда я пожелал рассказать ее на другой день после моего приезда, он меня прервал замечанием: «Вы мне это уже рассказывали в Бальбеке». Поэтому я был удивлен, когда Сен-Лу пригласил меня продолжать, уверяя, что не знает этой истории и что она его очень позабавит. Я возразил: «На вас нашло затмение, но вы сейчас ее вспомните». — «Нет, клянусь тебе, ты путаешь. Ты мне никогда ее не рассказывал. Продолжай». И все время, пока я рассказывал, он лихорадочно приковывал восхищенные взгляды то ко мне, то к своим товарищам. И только когда я кончил, награжденный общим смехом, мне стало понятно, что при помощи этой истории Сен-Лу рассчитывал дать моим слушателям выгодное представление о моем уме и потому притворился, будто ее не знает. Вот что такое дружба.
На третьем вечере один из приятелей Сен-Лу, с которым мне не случилось разговаривать в два первые вечера, очень долго со мной беседовал, и я слышал, как он вполголоса говорил Сен-Лу об удовольствии, которое доставляла ему эта беседа. И в самом деле, мы разговаривали целый вечер перед рюмками сотерна, к которым едва прикасались, отделенные и огражденные от прочей публики великолепными завесами одной из тех симпатий между людьми, которые, когда они основаны не на физической привлекательности, являются единственным чувством, проникнутым тайной. Таким загадочным показалось мне в Бальбеке чувство, которое я возбудил в Сен-Лу; оно не смешивалось с интересом, возбуждаемым нашими разговорами, было отрешено от всего материального, невидимо, неосязаемо, а между тем он ощущал в себе его присутствие как род флогистона, род газа, достаточно явственно, чтобы говорить о нем с улыбкой. И, может быть, было нечто еще более удивительное в симпатии, родившейся здесь в течение одного вечера, подобно цветку, который распустился бы в несколько минут в тепле этой маленькой комнаты. Я не мог удержаться, чтобы не спросить у Робера, действительно ли решено, как мне говорили в Бальбеке, что он женится на мадмуазель д'Амбрезак. Он мне заявил, что не только это не решено, но что об этом никогда и вопроса не было, что он никогда ее не видел, что он не знает, кто это такая. Если бы я встретил в эту минуту тех людей, которые мне сообщили об этом браке, они бы мне сообщили о помолвке мадмуазель д'Амбрезак не с Сен-Лу, а с другим молодым человеком, и о женитьбе Сен-Лу не на мадмуазель д'Амбрезак, а на другой женщине. Я бы их очень удивил, напомнив об их еще столь недавних противоположных предсказаниях. Чтобы эта светская игра могла продолжаться и размножать ложные известия, последовательно нагромождая их в несметном количестве на каждое имя, природа наделила этого рода игроков памятью тем более короткой, чем сильнее их легковерие.
Сен-Лу говорил мне о другом своем товарище, тоже принадлежавшем к нашей компании, с которым он особенно легко находил общий язык, потому что в этой среде только они двое были сторонниками пересмотра дела Дрейфуса.
— О, это не то, что Сен-Лу, это фанатик, — сказал мне мой новый приятель, — он поступает даже недобросовестно. Сначала он говорил: «Надо только подождать, там есть один человек, которого я хорошо знаю, проницательный, добрый — генерал де Буадефр; можно будет без колебаний принять его мнение». Но, когда он узнал, что Буадефр объявил Дрейфуса виновным, Буадефр потерял всякое значение; клерикализм, предубеждения главного штаба помешали ему судить непредвзято, хотя нет на свете, или по крайней мере не было до дела Дрейфуса, более завзятого клерикала, чем наш друг. Тогда он нам сказал, что во всяком случае истина станет известна, потому что дело переходит теперь в руки Сосье и что этот последний, солдат-республиканец (наш друг из ультрамонархической семьи), — железный человек и не пойдет ни на какие сделки со своей совестью. Но, когда Сосье объявил Эстергази невиновным, он нашел для этого вердикта новые объяснения, неблагоприятные не для Дрейфуса, а для генерала Сосье. Сосье был ослеплен милитаристским духом (и заметьте, что наш друг милитарист не в меньшей степени, чем клерикал, или по крайней мере был им, ибо теперь я не знаю, что о нем думать). Его семья в глубоком огорчении от всех этих его идей.
— Видите ли, — сказал я, полуобернувшись к Сен-Лу, чтобы не создавать впечатления, будто я уединяюсь, и чтобы пригласить его принять участие в разговоре, — все дело в том, что влияние, которое приписывают среде, особенно сильно в среде интеллектуальной. Допустим, вы человек известной идеи; но идей гораздо меньше, чем людей, так что все люди одной и той же идеи одинаковы. Так как идея не содержит ничего материального, то люди, лишь материально окружающие человека какой-нибудь идеи, ни в чем ее не изменяют.
Сен-Лу не удовольствовался этим сопоставлением. В порыве радости, еще более усиленном радостью, которую он испытывал, показывая меня во всем блеске своем приятелям, он с необыкновенной быстротой повторял, гладя меня как лошадь, первой пришедшую к старту: «Ты — самый умный человек, какого я знаю, да, да!» Он поправился, прибавив: «Вместе с Эльстиром. Тебя это не огорчает, не правда ли? Понимаешь, добросовестность. Сравнение: я говорю тебе это, как сказали бы Бальзаку: вы величайший романист нашего времени, вместе со Стендалем. Избыток добросовестности, понимаешь, — в сущности безграничное восхищение. Нет? Ты не согласен насчет Стендаля? — прибавил он с наивным доверием к моему уму, которое выражалось в прелестном, почти детском взгляде его улыбающихся зеленых глаз. — О, я вижу, что ты моего мнения! Блок терпеть не может Стендаля, я нахожу это идиотизмом с его стороны. Ведь все же «Пармский монастырь» нечто огромное? Я доволен, что ты разделяешь мое мнение. Что тебе больше всего нравится в «Пармском монастыре», отвечай, — говорил он с юношеской горячностью. И его грозная физическая сила придавала его вопросу нечто почти пугающее: — Моска? Фабриций? — Я робко отвечал, что в Моска есть кое-что похожее на г-на де Норпуа. Слова мои вызвали бурю смеха в юном Зигфриде-Сен-Лу. А едва только я добавил: «Но Моска гораздо умнее, он не такой педант», как услышал «браво» Робера, который исступленно хлопал в ладоши, захлебывался от смеха и восклицал: «Точка в точку! Великолепно! Ты бесподобен».
Тут Сен-Лу прервал меня, потому что один из молодых военных проговорил, с улыбкой указывая ему на меня:
— Дюрок, вылитый Дюрок! — Я не знал что это должно было означать, но я чувствовал, что робкое выражение его было более чем благожелательным. Когда я говорил, одобрение других казалось Сен-Лу излишним, он требовал молчания. И как дирижер останавливает музыкантов, стуча смычком по пюпитру, когда кто-нибудь зашумит, он сделал замечание нарушителю порядка:
— Жиберг, надо молчать, когда другие говорят. Вы скажете это после. Продолжайте, — обратился он ко мне.
Я облегченно вздохнул, так как боялся, что он заставит меня повторить все сначала.
— И так как идея, — продолжал я, — не может быть причастна человеческим интересам и не могла бы воспользоваться их выгодами, то люди идеи не подвержены влиянию материальных интересов.
— Ну, что, теперь вы разинули рты от удивления? — воскликнул Сен-Лу, после того как я кончил; он следил за мной с таким тревожным вниманием, как если бы я шел по канату. — Что вы хотели сказать, Жиберг?
— Я сказал, что мосье мне очень напоминает майора Дюрока. Мне казалось, что я его слышу.
— Да, и я часто об этом думал, — отвечал Сен-Лу, — между ними много общего, но вы увидите, что у моего друга есть тысяча качеств, которых нет у Дюрока.
Как мнения брата этого приятеля Сен-Лу, ученика Schola Canto-rum, о новых музыкальных произведениях были ничуть не похожи на мнения о них его отца, матери, кузенов и товарищей по клубу, а, напротив, совершенно совпадали с мнениями прочих учеников Schola, так и образ мыслей унтер-офицера аристократа (о котором Блок составил себе самое странное представление, когда я ему о нем рассказал, так как, тронутый тем, что он его единомышленник, мой приятель воображал его, однако, по причине аристократического происхождения, а также религиозного и военного воспитания, своей полной противоположностью, наделяя его диковинными качествами туземца какой-нибудь экзотической страны) похож был на образ мыслей всех дрейфусаров вообще и Блока в частности, и на него неспособны были оказать никакого действия ни семейные традиции, ни интересы карьеры. Нечто подобное было с молодой восточной принцессой, на которой женился один родственник Сен-Лу: говорили, что она сочиняет столь же прекрасные стихи, как Виктор Гюго или Альфред де Виньи, но, несмотря на это, ей приписывали совсем не тот склад ума, какой вытекал из этих стихов, а склад ума восточной принцессы, заточенной во дворце из «Тысячи и одной ночи». Писатели, удостоившиеся получить к ней доступ, бывали немало разочарованы или, скорей, обрадованы, услышав разговор, который внушал представление не о Шехеразаде, но о существе с дарованиями Альфреда де Виньи или Виктора Гюго.
Мне особенно нравилось беседовать с этим молодым человеком, как, впрочем, и с другими приятелями Робера, да и с самим Робером, о казармах, об офицерах гарнизона и вообще об армии. Благодаря чрезвычайно увеличенным размерам, которые приобретают в наших глазах даже самые мелкие веши, если мы посреди них едим, разговариваем, проводим нашу реальную жизнь, благодаря огромной переоценке, которой они подвергаются в такой степени, что весь остальной отсутствующий мир не в силах бороться с ними и, поставленный рядом, кажется чем-то зыбким, как сон, я начал интересоваться разнообразными лицами, населявшими казармы, офицерами, которых я замечал во дворе, когда приходил к Сен-Лу, или видел из моих окон, если бывал разбужен проходившим мимо полком. Мне хотелось получить подробные сведения о майоре, которым так восхищался Сен-Лу, и о курсе военной истории, который «привел бы меня в восторг даже эстетически». Я знал, что Роберу свойственно увлечение словами, часто довольно-таки бессодержательными, но иногда оно свидетельствовало об усвоении им глубоких мыслей, понимать которые он был вполне способен. К несчастью, Робер в то время был почти всецело поглощен делом Дрейфуса. Он говорил о нем мало, потому что только он один за столом был дрейфусаром; все другие были резко враждебны к пересмотру дела, за исключением моего соседа по столу, моего нового приятеля, мнения которого были, однако, довольно неустойчивыми. Убежденный почитатель полковника, образцового офицера, который клеймил агитацию против армии в своих приказах по войскам, создавших ему славу антидрейфусара, сосед мой узнал, что его начальник обронил несколько замечаний, позволявших заключить, что он питает некоторые сомнения насчет виновности Дрейфуса и сохраняет уважение к Пикару. Что касается этого последнего пункта, то слух относительно дрейфусарства полковника был, во всяком случае, плохо обоснован, как и вообще все идущие неизвестно откуда слухи, которые создаются вокруг каждого крупного процесса. Действительно, через некоторое время этот полковник, которому поручено было допросить бывшего начальника разведочного бюро, обращался с ним с совершенно беспримерной грубостью и пренебрежением. Как бы то ни было, хотя сосед мой не позволил себе обратиться с вопросом к самому полковнику, все же он вежливо сказал Сен-Лу — тем тоном, каким дама-католичка сообщает даме-еврейке, что ее приходский священник порицает еврейские погромы в России и восхищается щедростью некоторых евреев, — что полковник не является фанатическим и ограниченным противником дрейфусарства, как его изображают, по крайней мере известного вида дрейфусарства.
— Это меня не удивляет, — отвечал Сен-Лу, — ведь он человек интеллигентный. Но все-таки аристократические предрассудки и особенно клерикализм ослепляют его. Иное дело, — обратился он ко мне, — майор Дюрок, профессор военной истории, о котором я тебе говорил, — вот это человек, который, по-видимому, вполне разделяет наши идеи. Впрочем, если бы оно было не так, я немало бы удивился, потому что он не только величайший умница, но также радикал-социалист и масон.
Столько же из вежливости к приятелям Сен-Лу, которым его дрейфусарские убеждения были неприятны, сколько потому, что меня больше интересовала другая тема, я спросил у моего соседа, правда ли, что майор превратил военную историю в нечто эстетическое, в систему, которой присуща подлинная красота.
— Это совершенная правда.
— Но что вы под этим понимаете?
— Да вот, например, все, что вы читаете в рассказе военного повествователя, самые мелкие факты, самые ничтожные события, являются только знаками некоторой идеи, которую надо вскрыть и под которой часто таятся другие идеи, как на палимпсесте. В результате вы имеете столь же продуманное во всех своих частях целое, как любая наука или любое искусство, и столь же удовлетворяющее наш ум.
— Пожалуйста, приведите примеры, если вас не затруднит.
— Это не так легко тебе объяснить, — перебил моего соседа Сен-Лу. — Ты читаешь, что такой-то корпус сделал попытку… Прежде всего, самое наименование корпуса, его состав, не лишены значения. Если операция предпринимается не в первый раз, если мы видим, что для той же самой операции пускается в ход другой корпус, это может быть знак, что прежние корпуса уничтожены или потерпели большой урон в упомянутой операции, что они больше не в состоянии хорошо ее выполнить. Далее, надо собрать сведения, что это был за корпус, в настоящее время уничтоженный; если это были ударные части, оставленные в резерве для крупных штурмовых операций, то новый корпус низшего качества имеет мало шансов на успех там, где они потерпели неудачу. Больше того, если операция производится не в начале кампании, то этот новый корпус сам может быть набран с бору да с сосенки, — обстоятельство, способное дать ценные указания относительно сил, еще находящихся в распоряжении воюющей стороны, и относительно близости момента, когда они начнут уступать силам противника, вследствие чего приобретает иное значение самая операция, затеваемая этим корпусом: ведь если он больше не в состоянии восполнять свои потери, то самые его успехи лишь приведут его, с математической неизбежностью, к конечному уничтожению. Кроме того порядковый номер противостоящего ему корпуса имеет не меньшее значение. Если, например, это единица гораздо более слабая и уже поглотившая несколько важных единиц противника, то меняется самый характер операции, ибо пусть даже она закончится потерей позиции, удерживаемой обороняющимся, сохранение этой позиции в течение некоторого времени может означать большой успех, если очень слабых сил оказалось достаточно для уничтожения крупных сил противника. Но если уже анализ введенных в дело корпусов приводит к открытию таких важных вещей, то, само собою разумеется, еще более существенные результаты даст изучение самой позиции, грунтовых и железных дорог, которыми она командует, а также путей снабжения, которые она прикрывает. Надо изучить то, что я бы назвал всем географическим контекстом, — прибавил он со смехом. (И, действительно, он был так доволен этим выражением, что, употребляя его впоследствии, даже через несколько месяцев, он каждый раз смеялся этим самым смехом.) — Если ты прочтешь, что в период подготовки операции одною из воюющих сторон какой-нибудь ее патруль уничтожен в окрестностях позиции другой воюющей стороной, то одним из заключений, которые ты можешь отсюда сделать, будет то, что первая сторона пыталась выяснить оборонительные работы, при помощи которых вторая сторона намерена отразить ее атаку. Особенно горячее дело в каком-нибудь пункте может означать желание его захватить, но также и желание удержать в нем противника, не отвечать ему там, где он атаковал, или, наконец, оно может быть только хитростью и маскировать при помощи усиленного натиска увод войск из этого места. (Это классическая уловка в наполеоновских войнах.) С другой стороны, чтобы понять значение маневра, его вероятную цель, а через это и другие цели, которые ему сопутствуют или будут из него вытекать, небезразлично обратиться за указаниями не столько к донесениям о нем командования, которые могут быть продиктованы желанием обмануть противника, замаскировать возможную неудачу, сколько к военным уставам данной страны. Всегда следует предположить, что маневр, затеянный какой-нибудь армией, есть маневр, предписываемый действующим уставом в аналогичных обстоятельствах. Если, например, устав предписывает сопровождать лобовую атаку атакой фланговой, то в случаях, когда командование, при неудаче этой второй атаки, изображает дело так, что она не была связана с первой и являлась лишь диверсией, есть шансы отыскать истину в уставе, а не в утверждениях командования. И у каждой армии есть не только свои уставы, но и свои традиции, свои привычки, свои доктрины. Изучением дипломатических шагов, всегда находящихся в тесной связи с военными действиями, тоже не следует пренебрегать. Происшествия с виду незначительные, плохо понятые в свое время, объяснят тебе, что неприятель, рассчитывавший на помощь, которая, однако, как показывают эти происшествия, ему не была оказана, выполнил в действительности лишь часть своего стратегического плана. Таким образом, если ты умеешь читать военную историю, то повествование, представляющееся туманным для рядовых читателей, будет для тебя таким же рациональным построением, как картина для знатока, который умеет рассмотреть, что несет, держит в руках изображенный на картине персонаж, между тем как у ошалелого посетителя музеев неясные краски вызывают только головокружение и мигрень. Но как для некоторых картин недостаточно бывает заметить, что персонаж держит чашу, но надо еще знать, почему художник вложил ему в руки чашу, что она символизирует, так и эти военные операции имеют не только непосредственную цель, но обыкновенно калькируются в уме генерала, руководящего кампанией, на более старые сражения, которые, если тебе угодно, являются чем-то вроде прошлого, вроде библиотеки, вроде эрудиции, вроде этимологии, вроде аристократий сражений новых. Заметь, что я не говорю сейчас о локальном, если можно так выразиться, пространственном тождестве сражений. Оно также существует. Какое-нибудь поле сражения было или по прошествии веков будет полем не только одного сражения. Если оно было полем сражения, значит оно соединяло известные условия географического положения, геологических особенностей, и даже недостатки, способные затруднить противника (реку, например, пересекающую его пополам), которые сделали из него хорошее поле сражения. Поэтому оно им было, оно им будет… Нельзя устроить мастерскую художника из любой комнаты, нельзя создать поле сражения из любого участка земной поверхности. Для этого есть предопределенные места. Но, повторяю, я говорил не об этом, а о типе сражения, которому подражают, о своего рода стратегическом слепке, тактическом образце, если тебе угодно: Ульме, Лоди, Лейпциге, Каннах. Не знаю, будут ли еще войны и между какими народами; но если они будут, то можешь быть уверен, что в них будут (и притом сознательно, по воле военачальника) и Канны, и Аустерлиц, и Росбах, и Ватерлоо, причем иные военные без стеснения об этом заявляют. Маршал фон Шлиффен и генерал фон Фалькенгаузен загодя подготовили против Франции сражение под Каннами в духе Ганнибала, с закреплением позиции по всему фронту и наступлением на обоих флангах, особенно на правом, через Бельгию, между тем как Бернгарди предпочитает уступный порядок Фридриха Великого, скорее Лейтен, чем Канны. Другие высказывают свои намерения не так прямолинейно, но ручаюсь тебе, старина, что Боконсейль — тот командир дивизиона, с которым я тебя на днях познакомил, офицер с самым блестящим будущим, — проштудировал атаку под Праценом, знает ее назубок, держит про запас, и если когда-нибудь представится случай ее осуществить, он не промахнется и преподнесет нам ее в широких масштабах. Прорыв центра под Риволи, поверь, повторится не раз, если будут еще войны. Такие вещи неувядаемы, как «Илиада». Прибавлю, что мы почти осуждены на фронтальные атаки, ибо мы не хотим повторять ошибки семидесятого года, нам остается наступление, одно только наступление. Единственно, что меня смущает, так это то, что хотя противниками этой великолепной теории являются лишь косные умы, однако один из самых молодых моих наставников, человек выдающихся способностей, Манжен, желал бы оставить место — временно, разумеется — также и для оборонительной тактики. И возражать ему очень трудно, когда он приводит в пример Аустерлиц, где оборона была лишь прелюдией к атаке и победе.
Эти теории Сен-Лу наполняли меня радостью. Они внушали мне надежду, что, живя здесь, в Донсьере, в обществе офицеров и слушая их разговоры за бокалами сотерна, бросавшего на них очаровательный отблеск, я, может быть, не грешил тем преувеличением, которое во время моего пребывания в Бальбеке придавало такие огромные размеры королю и королеве Океании, кружку четырех гастрономов, молодому игроку и зятю Леграндена, ставшими теперь в моих глазах совсем микроскопическими, почти несуществующими. То, что мне нравилось в настоящую минуту, не сделается, может быть, завтра безразличным, как это до сих пор всегда со мной случалось, — существо, которым я был в эту минуту, не обрекалось, может быть, в ближайшее время на разрушение, так как овладевшая мной в эти несколько вечеров пылкая и мимолетная страсть ко всему, что касалось военной жизни, находила в рассуждениях Сен-Лу относительно искусства войны солидное логическое обоснование, способное убедить меня настолько, чтобы я, не впадая в самообман, продолжал и после отъезда интересоваться работами моих донсьерских приятелей и искренно думал, что не замедлю к ним вернуться. Между тем, чтобы приобрести еще большую уверенность в том, что это искусство войны было действительно искусством в высоком смысле этого слова, я сказал Сен-Лу:
— Вы меня очень… извини, ты меня очень заинтересовал, но тут есть один пункт, который вызывает во мне недоумение. Я чувствую, что мог бы увлечься военным искусством, но для этого мне надо считать его не настолько отличным от прочих искусств, надо, чтобы в нем не все определялось усвоенным образцом. Ты говоришь о точном воспроизведении сражений. Действительно, есть нечто эстетическое, как ты говоришь, открывать под современным сражением сражение более старое, — не могу выразить, как эта мысль мне нравится. Но в таком случае неужели гений полководца ничего не значит? Неужели весь он сводится к тому, чтобы следовать образцам? Или же, возьмем аналогичную науку, — неужели нет выдающихся генералов, подобных выдающимся хирургам, которые, имея дело с двумя тожественными с материальной точки зрения болезненными состояниями, чувствуют, однако, на основании какой-нибудь мелочи, может быть подмеченной из собственного опыта, но осмысленной, что в одном случае им следует делать скорее то-то, а в другом случае скорее то-то, что в одном случае хорошо бы было оперировать, а в другом — воздержаться от операции?
— Еще бы! Разумеется, есть. Сплошь и рядом ты видишь, что Наполеон не предпринимает атаки, когда согласно всем правилам он должен бы атаковать, но какое-то смутное прозрение его удерживает. Возьмем для примера Аустерлиц или же его инструкции Ланну в 1806 году. Зато сколько генералов схоластически подражало тому или иному маневру Наполеона и достигало диаметрально противоположного результата. Десятки таких примеров дает кампания 1870 года. Но даже для уяснения того, что может предпринять противник, то, что он предпринимает, есть лишь симптом, могущий означать множество различных вещей. Каждая из этих вещей имеет одинаково шансов быть истинной, если ограничиваться логическими рассуждениями и научными данными, подобно тому как в некоторых сложных случаях всей медицинской науки мира недостаточно, чтобы решить, волокнистое ли строение у невидимой опухоли или же нет, следует ли делать операцию или не следует. Чутье, прозрение в духе г-жи де Теб (ты меня понимаешь) — вот что является решающим у выдающегося генерала, как и у выдающегося врача. Итак, я тебе приводил в качестве примера, что может означать разведка в начале сражения. Но она может означать десяток других вещей, например, внушить неприятелю мысль, что его собираются атаковать в определенном пункте, тогда как атака готовится в другом пункте, она может служить завесой, которая помешает ему увидеть приготовления к действительной операции, принудит его увести войска, приковать их к другому месту, а не к тому, где они необходимы, может дать представление о силах, которыми неприятель располагает, прощупать его, заставить его открыть карты. Иногда даже тот факт, что в дело введены огромные силы, не является доказательством серьезности операции: она может быть осуществлена всерьез, хотя бы и была только уловкой, для того, чтобы эта уловка имела больше шансов обмануть противника. Если бы я имел время изложить тебе с этой точки зрения войны Наполеона, то, уверяю тебя, эти простые классические движения, которые мы изучаем на полевой службе и которые ты увидишь, прогуливаясь ради удовольствия, поросенок… прости, я знаю, что ты болен… так вот, на войне, когда чувствуешь за ними бдительность, логику и глубокие изыскания высшего командования, они, эти простые движения, тебя волнуют, как огни маяка, чисто физический свет, за которым, однако, кроется разум и который обшаривает пространство, чтобы извещать суда об опасности. Я даже, может быть, делаю ошибку, говоря тебе только о военной литературе. В действительности, подобно тому как состав почвы, направление ветра и света указывают, в какую сторону будет расти дерево, условия, в которых протекает кампания, особенности страны, являющейся театром военных действий, предписывают в известном смысле и ограничивают планы, между которыми может выбирать генерал. Так что движение армий по горам, по определенного типа долинам или равнинам ты можешь предсказать, в его величавой красоте, почти с такой же точностью, как движение лавин.
— Теперь ты отрицаешь свободу у полководца и догадливость у противника, желающего прочитать его планы, хотя сейчас только наделил их этими качествами.
— Да ничуть! Припомни-ка ту книгу по философии, что мы с тобой читали в Бальбеке, где речь шла о богатстве мира возможностей по сравнению с действительным миром. Так вот, дело обстоит таким же образом с военным искусством. В данной ситуации напрашивается, скажем, четыре плана, между которыми генерал мог сделать выбор, подобно тому как болезнь может развиваться различными способами, каждый из которых врач должен встретить во всеоружии. И тут опять-таки человеческая слабость и величие являются причинами неизвестности. В самом деле, допустим, что случайные соображения (например, достижение побочных целей, недостаток времени или малочисленность и дурное снабжение личного состава) заставляют генерала предпочесть из этих четырех планов первый, менее совершенный, но который можно выполнить скорее и с меньшими затратами на территории, более богатой продовольствием. Начав с этого первого плана, который неприятель, сначала озадаченный, скоро разгадает, генерал может оказаться не в силах его осуществить, встретив слишком большие препятствия, — это то, что я называю риском, рожденным человеческой слабостью, — он может его оставить и попробовать второй, третий или четвертый план. Но может случиться, что он попробует первый, — и это я называю человеческим величием, — лишь в качестве уловки, чтобы связать силы противника и напасть на него врасплох там, где он не ожидает атаки. Этот маневр был осуществлен под Ульмом: Мак, ждавший неприятеля с запада, был охвачен с севера, где он считал себя в полной безопасности. Пример мой, впрочем, не очень удачен. Ульм является лучшим образцом сражения с охватом, и он не раз еще будет повторен, потому что является не только классическим примером, которым будут вдохновляться генералы, но как бы необходимой формой (необходимой в числе других, что позволяет выбор, разнообразие), чем-то вроде типа кристаллизации. Но все это ничего не значит, потому что подобные условия все же искусственны. Возвращаясь к нашей книге по философии, скажу, что они подобны логическим принципам или научным законам: действительность с ними сообразуется, почти совпадает, но вспомни великого математика Пуанкаре, он не уверен, что даже математика — наука совершенно точная. Что же касается уставов самих по себе, о которых я тебе говорил, то они, в общем, имеют второстепенное значение и, кроме того, время от времени подвергаются изменениям. Так, что касается нас, кавалеристов, то мы живем уставом полевой службы 1895 года, который, можно сказать, отжил свое время, потому что основан на устарелой и непригодной теории, согласно которой кавалерийский бой имеет лишь чисто моральное значение благодаря устрашающему действию кавалерийской атаки на противника. Между тем самые умные из наших учителей, всё, что есть лучшего в кавалерии, и особенно майор, о котором я тебе говорил, полагают, напротив, что исход сражения будет решаться рукопашной схваткой в настоящем смысле слова, где пойдут в ход сабли и пики и где более стойкая сторона окажется победительницей не только морально, благодаря устрашающему впечатлению, но и материально.
— Сен-Лу прав, и весьма вероятно, что ближайший устав полевой службы будет носить черты этой эволюции, — сказал мой сосед.
— Я не досадую на твое одобрение, так как твои суждения, видимо, действуют сильнее на моего друга, чем мои, — со смехом сказал Сен-Лу, оттого ли, что зарождающаяся симпатия между его товарищем и мной немного раздражала его, или же оттого, что он считал долгом вежливости ее санкционировать этим официальным признанием. — Кроме того я, может быть, преуменьшил значение уставов. Их подвергают изменениям, это верно. Но пока что они руководят военной обстановкой, планами кампании и концентрации вооруженных сил. Если они отражают неправильную стратегическую концепцию, то могут оказаться исходным моментом поражения. Все это вещи, пожалуй, чересчур технические для тебя, — заметил он, обращаясь ко мне. — Главное, уясни себе хорошенько, что фактором, наиболее содействующим развитию военного искусства, являются сами войны. В течение кампании, если она сколько-нибудь продолжительна, одна из воюющих сторон сплошь и рядом пользуется уроками, которые ей дают успехи и промахи противника, совершенствует его методы, причем и противник, в свою очередь, не отстает. Но все это дело прошлое. Вместе с ужасающим прогрессом артиллерии будущие войны, если только они будут, окажутся настолько короткими, что, прежде чем воюющие стороны успеют извлечь из них урок, уже будет заключен мир.
— Не будь таким обидчивым, — сказал я Сен-Лу в ответ на то, что он говорил перед этими заключительными словами. — Я тебя слушал во все уши!
— Если ты обещаешь впредь не сердиться по пустякам и мне разрешишь, — сказал приятель Сен-Лу, — то я добавлю к сказанному тобой, что если сражения подражают друг другу и друг на друга накладываются, то происходит это не только вследствие планов военачальника. Может случиться, что какая-нибудь его ошибка (например, недооценка сил противника) заставляет его требовать от своих войск чрезмерных жертв, которые иначе части принесут с такой безграничной самоотверженностью, что роль их станет от того аналогичной роли такой-то другой части в таком-то другом сражении, и их будут приводить в истории в качестве равнозначных призеров; если держаться в рамках 1870 года, то такими примерами будут: прусская гвардия у Сен-Прива, тюркосы у Фрешвилера и у Виссенбурга.
— Вот именно: равнозначных, — совершенно точно, великолепно! Ты умница, — воскликнул Сен-Лу.
Я не остался равнодушен к этим последним примерам, как вообще не был равнодушен, когда мне в частном вскрывали общее. Однако в данную минуту меня интересовал гений полководца, мне хотелось отдать себе отчет, в чем он заключается, как взялся бы за дело гениальный полководец, чтобы восстановить скомпрометированное положение в такой обстановке, в которой полководец бездарный не мог бы сопротивляться, что, по словам Сен-Лу, было вещью вполне возможной и делалось Наполеоном неоднократно. И, чтобы уяснить, что представляют собой военные способности, я просил сравнений между генералами, известными мне по именам, просил сказать, кто из них по своим качествам наиболее подходит для роли полководца, кто из них наилучший тактик, рискуя надоесть моим новым приятелям, которые, впрочем, не подавали и виду, что это им докучает, и отвечали мне с неиссякаемой добротой.
Я чувствовал себя огражденным (не только от простиравшейся кругом темной холодной ночи, из которой к нам время от времени доносился свисток поезда, лишь ярче оттенявший удовольствие находиться здесь, среди друзей, или бой часов, к счастью, еще далекий от той минуты, когда эти молодые люди должны будут снова надеть сабли и вернуться домой, но и от всех внешних забот, даже от воспоминаний о герцогине Германтской) добротой Сен-Лу, которой доброта его приятелей, с ней соединявшаяся, придавала как бы большую плотность, а также теплом этой маленькой столовой и изысканностью подававшихся нам кушаний. Они столько же тешили мое воображение, сколько ублажали мой желудок; иногда на них можно было видеть кусочки природы, из которой они были извлечены — шероховатую чашу устрицы, с остававшимися на ней каплями соленой воды, узловатую ветку винограда с пожелтевшими листьями — несъедобные, поэтичные и далекие, как пейзаж, вызывавшие в течение обеда представления о полуденном отдыхе под виноградным кустом и прогулке по морю. В другие вечера это природное своеобразие кушаний подчеркивалось только поваром, который выкладывал их на блюдо в естественном обрамлении, точно произведения искусства; так, вареная рыба подавалась на длинном фаянсовом блюде, где, рельефно выделяясь на пучках синеватых трав, нетронутая, но скрюченная, оттого что живой была брошена в кипяток, окруженная каймой раковин крохотных своих спутников: крабов, креветок и улиток, она как будто являлась керамическим изделием Бернара Палисси.
— Я ревную, я взбешен, — полушутливо, полусерьезно говорил мне Сен-Лу, намекая на бесконечные мои разговоры в сторонке с его приятелем. — Значит, вы находите его умнее меня, значит, вы его любите больше меня? Значит, только он для вас и существует? — Мужчины, безумно влюбленные в какую-нибудь женщину и живущие в обществе мужчин, увлекающихся женщинами, позволяют себе шутки, на которые другие, считающие их не столь невинными, никогда бы не решились.
Когда разговор делался общим, приятели избегали заводить речь о Дрейфусе из боязни задеть Сен-Лу. Однако через неделю двое его товарищей обратили внимание на то, как странно, что, живя в военной среде, он является таким убежденным дрейфусаром, почти антимилитаристом. «Это оттого, — сказал я, не желая углубляться в подробности, — что влияние среды вовсе не имеет такого значения, как принято думать…» Я рассчитывал этим и ограничиться, не повторяя мыслей, которые я развивал Сен-Лу несколько дней тому назад. Все же, так как и эти слова были уже мной сказаны почти буквально, собирался извиниться, прибавив: «Это то самое, что несколько дней тому назад…» Но я не учел оборотной стороны восхищения, с которым Робер относился ко мне и некоторым другим лицам. Это восхищение дополнялось таким основательным усвоением их мыслей, что через двое суток он забывал, что мысли эти не его. Таким образом Сен-Лу счел своим долгом горячо меня приветствовать и поддержать мой скромный тезис с таким выражением, как если бы он всегда сидел у него в голове и я только охотился в его владениях.
— Ну, да! Среда не имеет значения.
И продолжал с такой энергией, как будто опасался, что я его прерву или не пойму.
— Подлинное влияние оказывает среда интеллектуальная! Мы люди идеи.
Он остановился на мгновение с улыбкой человека, хорошо обдумавшего свои мысли, уронил монокль и вонзился в меня глазами, точно буравчиками:
— Все люди одной идеи одинаковы, — произнес он с вызывающим видом. По всей вероятности, Сен-Лу совершенно забыл, что несколько дней тому назад я ему сказал эти самые слова, которые он зато так хорошо запомнил. Не все вечера приходил я в ресторан Сен-Лу в одинаковом расположении духа. Если какое-нибудь воспоминание, какое-нибудь огорчение способны нас покинуть, так что мы больше их не замечаем, то бывает, что они возвращаются и иногда долго с нами не расстаются. Случались вечера, когда, идя через город в ресторан, я до такой степени тосковал по герцогине Германтской, что у меня дух захватывало: казалось, будто часть моей грудной клетки вырезана искусным анатомом, удалена и заменена равной частью нематериального страдания, эквивалентом тоски и любви. Как бы ловко ни были пригнаны швы, нам очень не по себе, когда тоска по каком-нибудь существе заменила в нас внутренние органы; нам кажется, что она занимает больше места, чем эти органы, мы непрестанно ее ощущаем, и кроме того какая тягостная раздвоенность быть вынужденным сознавать часть своего тела. Но, кажется, мы способны на большее. При малейшем ветерке тяжело вздыхаешь от стеснения в груди, а также от истомы. Я смотрел на небо. Если оно было чистое, я говорил себе: «Может быть, она в деревне и смотрит на те же звезды», и, кто знает, вернувшись в ресторан, не услышу ли я от Робера: «Приятная весть, тетушка пишет, что хотела бы тебя видеть, она приезжает сюда». Не только на небесный свод помещал я мысль о герцогине Германтской. Малейшее нежное дуновение, казалось, приносило мне весть о ней, как некогда о Жильберте среди волнующихся полей Мезеглиза: мы не меняемся, мы вкладываем в чувство, которое относим к какому-нибудь существу, множество уснувших элементов, им пробуждаемых, но ему чуждых. И кроме того что-то такое в нас всегда старается привести эти частные чувства к более высокой истине, то есть связать их с чувством более общим, присущим всему человечеству, так что отдельные люди и страдания, ими причиняемые, служат нам только поводом приобщиться к нему. Если к муке моей примешивалось некоторое наслаждение, так это оттого, что я сознавал ее крохотной частицей вселенской любви. Конечно, узнавая, как мне казалось, в переживаемом мной страдании муки, которые я испытывал по поводу Жильберты или в те вечера, в Комбре, когда мама не оставалась в моей комнате, а также запомнившиеся мне некоторые страницы Бергота, — страдании, с которым герцогиня Германтская, ее холодность, ее отсутствие, не были связаны так отчетливо, как причина связывается с действием в уме ученого, — я не заключал отсюда, что герцогиня не является этой причиной. Разве не бывает, что неопределенная физическая боль распространяется лучеобразно из больной части на соседние области, которые она, однако, покидает и окончательно рассеивается, если врач нащупывает точку, откуда она исходит? И все же перед этим ее протяжение придавало ей в наших глазах такую безграничность и фатальность, что бессильные ее объяснить и даже локализовать, мы считали невозможным от нее вылечиться. Продолжая идти к ресторану, я думал: «Уже четырнадцать дней, как я не видел герцогини Германтской». Четырнадцать дней казались огромным сроком, конечно, лишь мне, потому что, когда дело касалось герцогини Германтской, я считал время минутами. Для меня не только звезды и ветерок, но даже арифметические деления времени приобретали нечто мучительное и поэтическое. Каждый день был подобен теперь подвижному гребню текучего холма: по одной стороне его я мог, чувствовал я, спуститься в забвение, а по другой меня уносила потребность увидеться вновь с герцогиней. И я переваливался с одной стороны на другую, лишенный устойчивого равновесия. Однажды я подумал: «Может быть, сегодня вечером будет письмо», и, придя обедать, я набрался храбрости и спросил Сен-Лу:
— Не получил ли ты случайно известий из Парижа?
— Получил, — мрачно ответил он, — скверные известия.
Я вздохнул с облегчением, поняв, что огорчения касались только моего друга и что известия были от его любовницы. Но я тотчас сообразил, что они первым делом надолго помешают Роберу свести меня к своей тетке.
Я узнал, что между ним и его любовницей разыгралась ссора — в письмах или же во время ее кратковременного посещения Робера от поезда до поезда. А все ссоры, даже менее серьезные, какие у них бывали до сих пор, казались непоправимыми. Ибо она бывала не в духе, топала ногами, плакала по столь же непонятным причинам, как дети, которые забираются в чулан, не приходят к обеду, отказываясь от всяких объяснений, и только громче ревут, когда, исчерпав все доводы, им дают шлепка, Сен-Лу ужасно страдал от этой размолвки, но сказать так значит слишком упростить дело и тем исказить правильное представление об этом страдании. Когда он очутился один и ему не оставалось больше ничего, как только думать о своей любовнице, уехавшей с чувством уважения к нему, которым она прониклась, видя его таким энергичным, то его терзаниям в первые часы после разлуки положила конец мысль о непоправимости происшедшего, а прекращение тревоги вещь настолько отрадная, что эта решительная ссора приобрела в его глазах в некоторой степени ту же прелесть, какую имело бы примирение. То, от чего он начал страдать немного позже, были, так сказать, вторичные тягостные чувства, непрестанно притекавшие из него самого при мысли, что она, может быть, искренно хотела бы примириться, что нет ничего невозможного, что она ждала только слова от него, что в ожидании она в отместку сделает, может быть, в такой-то вечер, в таком-то месте такую-то вещь, и что для того, чтобы ее удержать, ему стоило бы только ей телеграфировать о своем приезде, что, может быть, другие пользуются упускаемым им временем и что через несколько дней будет уже слишком поздно обращаться к ней, потому что она будет уже занята. О всех этих возможностях он ничего не знал, его любовница хранила молчание, которое в конце концов довело его до такого исступления, что он начал спрашивать себя, не скрывается ли она где-нибудь в Донсьере, или не уехала ли в Индию.
Говорят, что молчание — сила; в совсем другом смысле оно — страшная сила, находясь в распоряжении тех, кого мы любим. Оно увеличивает тревогу любовника, который ждет. Ничто так не манит приблизиться к какому-нибудь существу, как то, что нас с ним разлучает, а есть ли более непреодолимая преграда, чем молчание? Говорят также, что молчание — пытка и что оно способно помутить рассудок у того, кто бывает обречен на него в тюрьмах. Но какая пытка — куда более сильная, чем хранить молчание — сносить его от человека, которого любишь! Робер говорил себе: «Что же она делает, почему так молчит?» Он говорил также: «Что же я сделал, что она так молчит? Она, может быть, меня возненавидела, и навсегда». И он винил себя. Таким образом молчание действительно мутило его рассудок благодаря ревности и угрызениям совести. Кроме того, более жестокое, чем молчание тюрем, молчание это само является тюрьмой. Промежуточный слой пустоты, непроницаемый, однако, для взоров покинутого, стоит перед ним невещественной, правда, но непреодолимой стеной. Нет более ужасного освещения, чем молчание, которое нам показывает не одну отсутствующую, но тысячи, и каждая из них совершает измену по-своему. Иногда, в минуту внезапного успокоения, Робер считал, что это молчание сейчас нарушится и что придет долгожданное письмо. Он его видел, оно было в пути, он прислушивался к каждому шуму, он был уже утолен, он бормотал: «Письмо! Письмо!» Но воображаемый оазис нежности, мелькнув, исчезал, и он снова беспомощно брел по незыблемой пустыне бесконечного молчания.
Он заранее переживал все без исключения виды мучительного разрыва, хотя временами считал, что разрыва можно избежать, подобно тем людям, которые приводят в порядок все свои дела, готовясь к мнимому переселению, и мысль которых, не знающая, где ей придется остановиться на другой день, в иные мгновения мечется, отделившись от них, подобно изъятому сердцу больного, которое продолжает биться, оторванное от остального тела. Во всяком случае, надежда, что любовница вернется, давала ему силы мужественно переносить разрыв, вроде того как надежда, что удастся вернуться живым с поля сражения, помогает солдату безбоязненно встретить смерть. И так как привычка из всех человеческих растений меньше всего нуждается в питающей почве для того, чтобы жить, и первой показывается на самой голой с виду скале, то, может быть, переживая заранее притворную разлуку, он в заключение искренно свыкся бы с ней. Но неизвестность поддерживала в нем состояние, которое, будучи связано с воспоминанием об этой женщине, походило на любовь. Он принуждал себя, однако, не писать ей, думая, может быть, что при некоторых условиях менее мучительно жить без любовницы, чем вместе с нею, и что после сцены их разлуки необходимо подождать ее извинений, так как иначе она не сохранила бы к нему того, что он считал если не любовью, то по крайней мере хорошим мнением и уважением. Он ограничивался тем, что ходил на телефон, который только что провели в Донсьере, и спрашивал новостей или давал предписания горничной, которую приставил к своей приятельнице. Эти переговоры были, однако, делом довольно сложным и отнимали у него много времени, потому что, сообразуясь с мнением своих литературных друзей, считавших столицу безобразной, но особенно ради своих животных: собак, обезьян, канареек и попугая, непрестанный крик которых сделался невыносимым хозяину ее парижского дома, любовница Робера незадолго перед этим сняла небольшую усадьбу в окрестностях Версаля. Теперь Сен-Лу в Донсьере ни минуты не спал по ночам. Однажды, сидя у меня, он немного вздремнул, сраженный усталостью. Но вдруг он заговорил, хотел бежать, хотел чему-то воспрепятствовать и произносил: «Я слышу, вы не… вы не…» — и проснулся. Он объяснил мне, что только что ему снилось, будто он в деревне у вахмистра. Этот вахмистр старался не допустить его к одной части дома. Сен-Лу догадался, что вахмистр скрывает у себя очень богатого и очень развратного лейтенанта, который, как ему было известно, усердно добивался благосклонности его приятельницы. И вдруг он во сне явственно услышал повторяющиеся через правильные промежутки крики, какие обыкновенно испускала его любовница в минуты сладострастия. Он хотел силою заставить вахмистра провести его в эту комнату. Но тот удерживал Робера, не давая ему войти, с укоризненным видом, которого Робер, по его словам, никогда не мог бы забыть.
— Дурацкий сон, — закончил он свой рассказ, все еще не в силах отдышаться.
Но я отлично видел, что в течение часа после этого он несколько раз порывался телефонировать любовнице, чтобы попросить ее помириться. Недавно завел телефон мой отец, но не знаю, могло ли это принести какую-нибудь пользу Сен-Лу. К тому же мне казалось не очень удобным поручать моим родителям, или даже аппарату, поставленному у них, посредническую роль между Сен-Лу и его любовницей, несмотря на всю изысканность и благородство ее чувств. Кошмар, душивший Сен-Лу, понемногу изгладился из его сознания. С рассеянным и неподвижным взором он заходил ко мне все эти ужасные дни, которые, следуя один за другим, начертали для меня великолепную дугу вроде грубо сколоченной рампы, откуда Робер не переставая спрашивал себя, какое решение собирается принять его приятельница.
Наконец, она обратилась к Сен-Лу с вопросом, согласится ли он ее простить. Поняв, что разрыва удалось избежать, он тотчас увидел все неудобные стороны примирения. К тому же он страдал теперь меньше и почти примирился со своим горем, которое при возобновлении связи грозило через несколько месяцев снова обостриться. Он недолго колебался. И если вообще колебался, то лишь потому, что получил, наконец, уверенность, что может вернуть свою любовницу, — может вернуть, а следовательно и вернет. Но она его просила пощадить ее покой и не приезжать в Париж первого января. А у Сен-Лу недоставало мужества, будучи в Париже, не повидать ее. Зато она соглашалась поехать с ним в путешествие, но для этого ему надобен был продолжительный отпуск, которого капитан, князь Бородинский, не хотел ему давать.
— Мне очень досадно, так как из-за этого откладывается наш визит к моей тетушке. Но я непременно приеду в Париж на Пасху.
— В это время мы не сможем пойти к герцогине Германтской, потому что я буду уже в Бальбеке. Но это не имеет решительно никакого значения.
— В Бальбеке? Но ведь вы приезжали туда только в августе.
— Да, но в этом году по состоянию здоровья мне придется поехать раньше.
Больше всего он боялся, чтобы после его рассказов у меня не составилось плохого суждения о его любовнице. «Она несдержанна только потому, что слишком прямодушна, слишком во власти своих чувств. Но это женщина возвышенная. Ты не можешь себе представить, какая поэтическая у ней душа. Ежегодно она проводит День поминовения всех усопших в Брюгге. Это хорошо, не правда ли? Если когда-нибудь ты с ней познакомишься, ты увидишь, какое благородство…» И так как Сен-Лу пропитан был языком, которым говорили возле этой женщины в литературных кругах, то он закончил: «В ней есть нечто астральное, нечто пророческое, ты понимаешь, что я хочу сказать: нечто от поэта, который является почти жрецом».
В продолжение всего обеда я искал предлога, который позволил бы Сен-Лу попросить тетку принять меня, не дожидаясь его приезда в Париж. Такой предлог я наконец нашел: то было мое желание вновь посмотреть картины Эльстира, великого художника, с которым Сен-Лу и я познакомились в Бальбеке. Желание это к тому же было искреннее, ибо если во время моих посещений Эльстира я требовал от его живописи научить меня любви и пониманию вещей лучших, чем сама она: настоящей оттепели, подлинной провинциальной рыночной площади, живых женщин на пляже (самое большее, я бы заказал ему портрет реальностей, которые я не умел углубить, например, дороги, обсаженной боярышником, не с тем, чтобы он сохранил для меня их красоту, а с тем, чтобы он мне ее открыл), то теперь, напротив, желание мое возбуждала оригинальность, прелесть его картин, и больше всего я хотел увидеть другие картины Эльстира.
Мне казалось вдобавок, что самые ничтожные его картины были чем-то непохожим на шедевры даже прославленных художников. Произведения его составляли как бы замкнутое царство с непереходимыми границами, не имеющее себе равных. Жадно коллекционируя редкие журналы, в которых печатались статьи о нем, я узнал из них, что он начал лишь недавно писать пейзажи и натюрморты, а дебютировал мифологическими картинами (фотографии двух таких картин я видел в его мастерской), после чего долгое время был под впечатлением японского искусства.
Некоторые самые характерные произведения его различных манер находились в провинции. Какой-нибудь дом в Андели, хранивший один из лучших его пейзажей, казался мне столь же драгоценным, внушал мне столь же живое желание путешествовать, как та мельница в окрестностях Шартра, в жерновой камень которой вправлен знаменитый витраж; и к владельцу этого шедевра, к этому человеку, — который, запершись как астролог в глубине своего неуклюжего дома на главной улице, вопрошал это зеркало мира — картину Эльстира, купленную им, может быть, за несколько тысяч франков, — я чувствовал себя влекомым той симпатией, что объединяет — вплоть до сердец, до характеров — людей, мыслящих одинаково с нами по какому-нибудь существенному вопросу. Между тем три значительных произведения моего любимого художника значились в одном из этих журналов собственностью герцогини Германтской. Таким образом, в тот вечер, когда Сен-Лу сообщил мне о поездке своей приятельницы в Брюгге, я мог в общем искренно бросить ему, как бы невзначай, за обедом, в присутствии его друзей:
— Да; относительно последней нашей беседы по поводу дамы, о которой мы говорили. Ты помнишь Эльстира, художника, с которым я познакомился в Бальбеке?
— Ну, разумеется.
— Ты помнишь мое восхищение им?
— Отлично помню, помню и письмо, которое мы велели ему передать.
— Так вот, одна из причин, отнюдь не самая важная, причина довольно второстепенная, по которой я желал бы познакомиться с упомянутой дамой, ты знаешь, конечно, какая.
— Боже, какое предисловие!
— Причина эта та, что у нее есть по крайней мере одна прекрасная картина Эльстира.
— Вот как! Я не знал.
— Эльстир будет, вероятно, в Бальбеке на Пасху, вы знаете, что он проводит теперь почти весь год на этом побережье. Мне бы очень хотелось посмотреть его картину до отъезда. Не знаю, в достаточно ли коротких отношениях вы с вашей теткой: вы не могли бы, представив ей вашего покорного слугу в достаточно выгодном свете, чтобы она не отказала, попросить у нее для меня разрешения посмотреть картину Эльстира без вас, если вы не приедете?
— Разумеется, я ручаюсь за нее, берусь вам это устроить.
— Робер, как я вас люблю.
— Это очень мило, но хорошо было бы также, если бы вы мне говорили «ты», как вы обещали и как ты начал было говорить.
— Надеюсь, вы не замышляете уехать, — сказал мне один из приятелей Сен-Лу. — Вы знаете, если Сен-Лу возьмет отпуск, от этого ничто не изменится, мы остаемся здесь по-прежнему. Может быть, это будет для вас не так занятно, но мы приложим все усилия, чтобы заставить вас забыть об его отсутствии. — Действительно, когда уже все считали, что приятельница Робера поедет одна в Брюгге, пришло известие, что капитан, князь Бородинский, до сих пор отказывавший, вдруг согласился дать унтер-офицеру Сен-Лу продолжительный отпуск для поездки в Брюгге. Вот как это произошло. Князь, очень гордившийся своей пышной шевелюрой, был постоянным клиентом лучшего парикмахера в городе, когда-то работавшего подмастерьем у придворного парикмахера Наполеона III. Капитан был в наилучших отношениях с парикмахером, потому что, несмотря на свою величественность, обращался запросто с маленькими людьми. Однако парикмахер, который уже лет пять не мог получить по счету с князя и которого флаконы «португаля» и «оде-суверен», щипцы, бритвы и ремни для их правки наполняли гордостью не меньше, чем шампунь, стрижка волос и т. п., ставил выше Сен-Лу, аккуратного плательщика и собственника нескольких экипажей и верховых лошадей. Узнав об огорчении Сен-Лу, лишенного возможности уехать вместе с любовницей, он с жаром заговорил об этом с князем, облаченным в белый стихарь, в ту минуту, когда, запрокинув ему голову, угрожал бритвой княжескому горлу. Рассказ о галантных приключениях молодого человека вызвал у капитана-князя снисходительную бонапартовскую улыбку. Маловероятно, чтобы он вспомнил о своем неоплаченном счете, однако ходатайство парикмахера было принято им благосклонно, хотя и с княжеским высокомерием. Еще подбородок его утопал в мыле, когда был обещан отпуск, подписанный в тот же вечер. Что же касается парикмахера, имевшего обыкновение беспрестанно хвастаться и потому приписывавшего себе, с виртуозной способностью лгуна, всевозможные вымышленные достоинства, то на этот раз, когда им было оказано Сен-Лу существенное одолжение, он не только не стал звонить о своей заслуге, но — как если бы тщеславие нуждалось в лжи, а когда ее невозможно пустить в ход, уступало место скромности — никогда не заикнулся о ней Роберу.
И все они мне говорили, что, сколько бы я ни пожелал остаться в Донсьере и когда бы ни вернулся сюда, их экипажи, их лошади, их дома, их часы досуга — в моем распоряжении, и я чувствовал, с какой готовностью эти молодые люди предлагали к услугам моей слабости свою роскошь, свою молодость и свою силу.
— Почему бы вам, — уговаривали меня приятели Сен-Лу после горячих просьб остаться, — почему бы вам не приезжать сюда каждый год, вы увидите, как эта скромная жизнь вам понравится! Ведь вы, вдобавок, интересуетесь всем, что происходит в полку, как старый солдат.
Действительно, я горячо просил их разместить известных мне по именам офицеров в порядке большего или меньшего восхищения, которого они, по их мнению, заслуживают, как когда-то в колледже заставлял моих товарищей проделывать это по отношению к актерам Французского театра. Если кто-нибудь из приятелей Сен-Лу говорил о генералах, которых мне обыкновенно хвалили больше всех прочих, о Галифе или о Негрье: «Да ведь Негрье — генерал из самых посредственных», — и бросал новое имя, незапятнанное и сочное, По или Жеслен де Бургонь, я испытывал то же радостное удивление, как в былое время, когда исчерпанные имена Тирона или Февра вдруг затмевались расцветом непривычного имени Амори. «Выше даже, чем Негрье? Но в чем же его преимущества? Приведите мне пример». Я хотел, чтобы существовали глубокие различия даже между второстепенными офицерами полка, и надеялся на этих различиях постичь сущность военного дарования. Одним из офицеров, о котором мне было особенно интересно услышать это, потому что его я больше всего мог наблюдать, был князь Бородинский. Но ни Сен-Лу, ни его приятели, хотя они отдавали ему справедливость как прекрасному офицеру, добившемуся от своего эскадрона образцовой выправки, не любили его как человека. Они, правда, не говорили о нем тем же тоном, как о некоторых офицерах, выслужившихся из нижних чинов, и масонах, которые чуждались общества других офицеров и сохраняли рядом с ними неотесанный вид фельдфебелей, однако они, по-видимому, не относили князя Бородинского к числу других знатных офицеров, от которых, по правде сказать, даже по отношению к Сен-Лу, он сильно отличался своим поведением. Эти офицеры-аристократы, пользуясь тем, что Робер был только нижним чином и что таким образом его влиятельная родня может быть рада, что его приглашают начальники, к которым она, не будь этого, относилась бы пренебрежительно, не упускали ни одного случая принимать его за своим столом, когда с ними обедала какая-нибудь важная персона, способная быть полезной молодому вахмистру. Один только князь Бородинский не имел с Робером иных отношений, кроме служебных, впрочем, превосходных. Объяснялось это тем, что князь, дедушка которого был произведен в маршалы и пожалован в князья императором, с которым он затем породнился при помощи брака, а отец женился на кузине Наполеона III и был дважды министром после государственного переворота, — князь чувствовал, что, несмотря на все это, он не пользовался престижем в глазах Сен-Лу и общества Германтов, которые, в свою очередь, не много значили для него, человека, державшегося иной точки зрения на вещи. Он сильно подозревал, что для Сен-Лу, родственника Гогенцоллернов, он был не настоящим аристократом, а внуком фермера, но зато смотрел на Сен-Лу как на сына человека, графский титул которого был подтвержден императором, — в Сен-Жерменском предместье таких людей называли подновленными графами, — и который добивался от него префектуры, а потом и других маленьких постов, подчиненных его высочеству князю Бородинскому, министру, которого в письмах титуловали «монсеньором» и который был племянником монарха.
Может быть даже больше, чем племянником. Первая княгиня Бородинская была, как говорили, благосклонна к Наполеону I, за которым последовала на остров Эльбу, а вторая — к Наполеону III. И если на благодушном лице капитана можно было подметить хоть и не черты, то, во всяком случае, разученную величественность маски Наполеона I, то его меланхоличный и добрый взгляд и повисшие усы заключали в себе нечто, чрезвычайно напоминавшее Наполеона III, до такой степени, что, когда, после Седана, князь попросил разрешения встретиться с императором и получил у Бисмарка, к которому его привели, отказ, то последний, подняв случайно глаза на молодого человека, собравшегося уходить, был вдруг поражен этим сходством, передумал, вернул его и выдал ему разрешение, в котором, как и всем прочим, только что ему отказал.
Если князь Бородинский не хотел быть предупредительным по отношению к Сен-Лу и другим членам общества Сен-Жерменского предместья, служившим в полку (между тем как часто приглашал двух лейтенантов-разночинцев, людей очень приятных), то объяснялось это тем, что, взирая на всех подчиненных с высоты своего императорского величия, он делал между ними то различие, что одни из них были подчиненными, сознававшими свое подчиненное положение, и он с удовольствием с ними общался, будучи, несмотря на свои величественные манеры, человеком простым и веселым, другие же подчиненные считали себя выше его стоящими, чего он не допускал. Вот почему, в то время как все офицеры полка радушно принимали Сен-Лу, князь Бородинский, которому он был рекомендован маршалом де X…, ограничился предупредительным отношением к нему по службе, которую, впрочем, Сен-Лу нес образцово, но он никогда не принимал его у себя, за одним только исключением, когда капитан был в некотором роде вынужден его пригласить, и так как это случилось во время моего пребывания в Донсьере, попросил его привести и меня. Наблюдая в тот вечер Сен-Лу за столом капитана, я мог легко подметить, вплоть до самых мелких особенностей, различие в манерах и элегантности между двумя аристократиями: старой и императорской. Отпрыск касты, недостатки которой, даже если он всячески подавлял их усилиями ума, перешли в его кровь, касты, которая, утратив уже более столетия подлинную власть, не видит больше в покровительственной любезности, этой составной части ее воспитания, ничего, кроме спорта (вроде верховой езды или фехтования), культивируемого — без серьезной цели, только для развлечения — по отношению к буржуазии, которую эта знать слишком презирает, чтобы считать непринужденность в обращении для нее лестной, а бесцеремонность — делающей ей честь, — Сен-Лу дружески пожимал руку любого представляемого ему буржуа, даже, может быть, не расслышав его имени, и в разговоре с ним (все время закидывая ногу на ногу, небрежно развалившись и ухватив рукой башмак) называл его «мой дорогой». Напротив, князь Бородинский, принадлежавший к знати, титулы которой сохраняли еще свое значение, подкрепленные богатыми майоратами, которые пожалованы были в воздаяние за блестящие заслуги и напоминали о высоких должностях, связанных с властью над массами людей и предполагающих знание людей, — князь Бородинский, — если не отчетливо, с полным и ясным сознанием, то, во всяком случае, телом своим, выдававшим это позами и движениями, — рассматривал свой титул как действительную прерогативу. К тем самым разночинцам, которых Сен-Лу хлопал по плечу и брал под руку, он обращался с величественной приветливостью, умеряя свойственное ему от природы добродушие исполненной благородства сдержанностью, тоном, выражавшим одновременно и искреннюю благожелательность и деланое высокомерие. Вероятно, это обусловлено было тем, что он помнил еще обстановку посольств и двора, при котором отец его занимал самые высокие должности и где манеры Сен-Лу, сидевшего облокотясь на стол и схватившись рукой за ногу, были бы приняты плохо, но главным образом тем, что князь меньше презирал буржуазию, этот огромный резервуар, из которого первый император черпал своих маршалов и свою знать и в котором второй отыскал Фульда и Руэра.
Конечно, заботы, поглощавшие его венценосного отца и деда, не могли, за отсутствием подходящего применения, остаться живыми в мыслях князя Бородинского, которому приходилось ограничиться скромной ролью командира эскадрона. Но как дух художника и через много лет после того, как он угас, продолжает отражаться в вылепленной им статуе, они приняли в нем осязательную форму, материализовались, это они отражались на его лице. Резким голосом первого императора распекал он унтер-офицеров, с мечтательной меланхолией второго пускал дым, куря папиросу. Когда он проходил в штатском по улицам Донсьера, его поблескивавшие из-под котелка глаза создавали впечатление скрывающегося инкогнито монарха; все трепетали, когда он входил в канцелярию вахмистра, сопровождаемый унтером и писарем, точно это были Бертье и Массена. Выбирая сукно на панталоны для своего эскадрона, он вперял в полкового портного взор, способный расстроить замысел Талейрана и обмануть Александра, а иногда, производя осмотр обмундирования и снаряжения, он останавливался, мечтательно вскидывая свои удивительные голубые глаза, и крутил усы с таким видом, точно он перекраивает карту Пруссии и Италии. Но сейчас же, вновь обратившись из Наполеона III в Наполеона I, ставил на вид, что снаряжение плохо вычищено, и изъявлял желание отведать солдатского довольствия. А у себя, в домашней обстановке, он подавал для жен офицеров-буржуа (при условии, что они не масоны) не только посуду из старого севрского голубого фарфора, достойную посла (которая подарена была отцу его Наполеоном и казалась еще более драгоценной в занимаемом им провинциальном доме на бульваре, как тот редкий фарфор, которым туристы особенно восхищаются в шкафу старой деревенской усадьбы, превращенной в богатую и цветущую ферму), но и другие подарки императора: благородные и обаятельные манеры, которые тоже были бы великолепны на какой-нибудь представительной должности, если бы для иных это не означало быть обреченным на всю жизнь на самый несправедливый из остракизмов — остракизм «благородного» происхождения, — непринужденные жесты, доброту, любезность и уцелевшую в неприкосновенности таинственную и блестящую реликвию взора, заключающую под голубой, тоже старинной эмалью славные образы. А по поводу буржуазных знакомств, которые были у князя в Донсьере, следует сказать вот что. Подполковник великолепно играл на рояле, жена главного врача пела так, точно она получила первую награду в консерватории. Эта дама с мужем и полковник с женой обедали каждую неделю у князя Бородинского. Они были, конечно, польщены, зная, что во время своих поездок в Париж князь обедает у г-жи де Пурталес, у Мюратов и т. п. Но они думали: он всего только капитан, он очень рад, что мы к нему ходим. Впрочем, он наш верный друг. Но когда князь Бородинский, давно уже хлопотавший о переводе поближе к Парижу, назначен был в Бове, то при переезде он так же основательно забыл об обеих музыкальных супружеских парах, как о донсьерском театре и ресторанчике, из которого ему часто приносили завтрак, и к великому их негодованию ни подполковник, ни главный врач, так часто у него обедавшие, не получили от него за всю свою жизнь ни одного известия.
Однажды утром Сен-Лу признался, что он написал моей бабушке о моем здоровье и подал ей мысль воспользоваться телефонной связью между Донсьером и Парижем и поговорить со мной. Словом, в этот же день бабушка должна была вызвать меня к аппарату, и он посоветовал мне быть в четыре без четверти на телефонной станции. В то время телефон не был еще в таком широком употреблении, как сейчас. И все же привычка требует так мало времени для совлечения тайны со священных форм, с которыми мы соприкасаемся, что, не получив соединения немедленно, я подумал только о том, как это все долго, неудобно, и уже готов был обратиться с жалобой. Как все мы в настоящее время, я находил недостаточно быстрыми молниеносные изменения чудесной феерии, в которой достаточно нескольких мгновений, чтобы появилось подле нас невидимое, но реально присутствующее существо, с которым мы хотели говорить и которое, оставаясь за своим столом, в далеком городе (для бабушки это был Париж), под отличным от нашего небом, при погоде не обязательно такой же, в неизвестной нам обстановке событий и забот, о которых мы ожидаем от него услышать, оказывается вдруг перенесенным из-за сотен миль (само оно и все его окружение) к нашему уху в ту минуту, когда этого потребовала наша прихоть. И мы подобны персонажу из сказки, которому какая-то волшебница, по выраженному им желанию, являет в сверхъестественном блеске его бабушку или невесту, сидящих за книгой, проливающих слезы или рвущих цветы, совсем близко от зрителя и однако очень далеко, в том самом месте, где они действительно находятся. Для того, чтобы совершилось это чудо, нам стоит только приблизить губы к волшебной пластинке и вызвать, — на это, я согласен, уходит иногда немало времени, — Бдительных Дев, чей голос мы слышим ежедневно, но лица которых не видим никогда, наших ангелов-хранителей в головокружительных пучинах мрака, врата которых они ревностно стерегут; Всемогущих, силою которых отсутствующие возникают перед нами, хотя нам и не дозволено на них взглянуть; Данаид незримого, беспрестанно опорожняющих, наполняющих и передающих друг другу урны звуков; насмешливых Фурий, которые в то мгновение, когда мы лепечем признание любимой, в надежде, что никто нас не слышит, безжалостно кричат: «Я слушаю»; вечно разгневанных служительниц Таинства, недоверчивых жриц незримого, — телефонных барышень!
И едва только раздался наш призыв, как из мрака, полного видений, отверстого только для наших ушей, легкий шорох — бесформенный шум — шум упраздненного расстояния — и голос дорогого существа обращается к нам.
Это оно, это его голос нам говорит, около нас звучит. Но какой он далекий! Сколько раз я не мог его слышать без тревоги, как если бы перед этой невозможностью видеть, без затраты долгих часов на путешествие, ту, чей голос был так близко от моего уха, я яснее чувствовал, сколь обманчива эта видимость сближения, даже самого нежного, и каким огромным расстоянием можем мы быть отделены от любимых существ в то мгновение, когда кажется, что, стоит нам только протянуть руку, и мы их удержим. Он явственно говорит, этот столь близкий голос, об их реальном присутствии — в реальной разлуке. Но он предвосхищает также разлуку вечную. Как часто, когда я слушал таким образом невидимку, которая со мной говорила издалека, мне чудилось, что голос ее взывает из глубин, откуда нет возврата, и я постиг мучительное чувство, которое охватит меня в тот день, когда милый мне голос (один, не связанный больше с телом, которое мне уже никогда не суждено будет увидеть вновь) прошепчет мне на ухо слова, которые мне так хотелось бы поцеловать на устах, навсегда превратившихся в прах.
Но тогда, в Донсьере, чудо, увы, не совершилось. Явившись на станцию, я узнал, что бабушка меня уже вызывала; я вошел в кабинку, но провод был занят, кто-то говорил, не зная, очевидно, что отвечать некому, ибо, когда я поднес к уху трубку, этот кусок дерева принялся тараторить как полишинель; я заставил его замолчать, как в кукольном театре, водворив его на место, но, подобно полишинелю, как только я снова поднес его к уху, он возобновил свою болтовню. Отчаявшись, я окончательно повесил трубку, чтобы прекратить судороги этой неуемной деревяшки, стрекотавшей до последней секунды, и обратился за помощью к служащему, который попросил меня минуточку подождать; потом я снова заговорил и после нескольких мгновений молчания вдруг услышал голос, который напрасно считал хорошо знакомым, потому что до сих пор каждый раз, когда бабушка разговаривала со мной, я всегда следил за тем, что она говорила, по раскрытой партитуре ее лица, где много места занимали ее глаза, но самый ее голос я слышал теперь впервые. И оттого, что голос этот предстал мне измененным в своих пропорциях с той минуты, как он был всем и доходил ко мне таким образом один, не сопровождаемый чертами лица, я обнаружил, до какой степени был он нежен; впрочем, может быть, никогда до сей поры он таким не был, ибо бабушка, чувствуя меня далеким и несчастным, сочла возможным отдаться приливу нежности, которую из педагогических «принципов» она обыкновенно сдерживала и скрывала. Голос ее был нежен, но сколько в нем было также печали, прежде всего по причине самой его нежности, почти вовсе очищенной, как немногие человеческие голоса когда-нибудь бывали, от всякой жесткости, от малейшей частицы сопротивления другим, от всякого эгоизма; хрупкий вследствие чрезмерной деликатности, он, казалось, каждое мгновение готов был разбиться, истощиться в потоке слез; имея возле себя один только этот голос, увидев его без маски лица, я впервые заметил, какой он надтреснутый от огорчений, испытанных бабушкой за свою жизнь.
Впрочем, только ли голос, оттого что он был одинок, давал мне это новое, раздирающее душу впечатление? Конечно, нет; скорее одиночество голоса было как бы символом, образом, прямым действием другого одиночества, одиночества бабушки, впервые разлучавшейся со мной. Приказания и запрещения, с которыми она каждую минуту обращалась ко мне в повседневной жизни, скука послушания или лихорадка возмущения, нейтрализовавшие мою нежную любовь к ней, в эту минуту, а может быть и на будущее время, были вытеснены из моего сознания (так как бабушка не требовала больше, чтобы я находился возле нее под ее надзором, и готова была выразить надежду, что я совсем останусь в Донсьере или, во всяком случае, затяну мое пребывание здесь как можно дольше, поскольку это могло хорошо отозваться на моем здоровье и моей работе); таким образом в этой маленькой трубке, приставленной к моему уху, заключена была наша взаимная любовь, освобожденная от пригнетавших ее каждый день противовесов и потому неудержимо возносившая все мое существо. Советуя мне остаться, бабушка порождала во мне томительную, безумную потребность вернуться. Свобода, которую она мне предоставляла в то время, как я вовсе не рассчитывал, чтобы она могла на нее согласиться, мне показалась вдруг столь же постылой, как та свобода, что будет мне предоставлена после ее смерти (когда я буду еще любить ее, а она навсегда от меня откажется). Я кричал: «Бабушка, бабушка», — и страстно хотел ее поцеловать; но возле меня был только ее голос, призрачный, столь же неосязаемый, как тот, который мне доведется, может быть, услышать после смерти бабушки. «Говори со мной», — но тут голос снова оставил меня в одиночестве, я вдруг перестал его воспринимать. Бабушка уже не слышала меня, она не была больше соединена со мной, мы перестали находиться друг возле друга, перестали быть слышны друг другу, я продолжал обращаться к ней с вопросами наугад, во мраке, чувствуя, что и ее призывы теряются где-то в пространстве. Меня охватила та самая тревога, которую я испытал давно-давно, когда однажды ребенком потерял бабушку в толпе, тревога не столько от страха, что я ее не найду, сколько от сознания, что она меня ищет, от сознания, что она беспокоится, что я ее ищу; тревога очень похожая на ту, что меня охватит в день, когда мы обращаемся к существам, которые уже не могут отвечать и которым мы, по крайней мере, хотели бы сказать столько вещей, которых мы им не говорили, и уверить их, что мы не страдаем. Мне казалось, что дорогое существо, которое я только что упустил, дав ему затеряться среди теней, само уже стало тенью, и тщетно я продолжал, стоя перед аппаратом, повторять: «Бабушка, бабушка», — как Орфей, оставшийся в одиночестве, повторяет имя умершей. Я решил покинуть станцию и пойти в ресторан, чтобы отыскать там Робера и сказать ему, что в ожидании телеграммы, которая, может быть, заставит меня вернуться в Париж, мне хотелось бы знать, на всякий случай, расписание поездов. Однако, прежде чем принять это решение, я вздумал в последний раз обратиться с призывом к Девам Ночи, Вестницам слова, безликим богиням; но своенравные Стражницы больше не пожелали открыть чудесные ворота или, может быть, были не в силах; напрасно вызывали они, со свойственной им неутомимостью, почтенного изобретателя книгопечатания и молодого князя, любителя импрессионистской живописи и шофера (это был племянник капитана), Гутенберг и Ваграм оставили их мольбы без ответа, и я ушел, чувствуя, что вопрошаемая бездна останется глухой.
Придя к Роберу и его приятелям, я не признался, что сердце мое уже не с ними, что мой отъезд решен бесповоротно. Робер сделал вид, что мне верит, но впоследствии я узнал, что он с первого же взгляда понял, что моя неуверенность притворна и что завтра он меня больше не увидит. В то время, как его приятели, позабыв о стынущих возле них кушаньях, искали в указателе поезд, на котором я мог бы вернуться в Париж, а в звездной и холодной ночи слышались свистки паровозов, я, разумеется, не ощущал уже того мира, который давали мне здесь столько вечеров дружба первых и далекое движение вторых. В них, однако, не было недостатка в этот вечер, хотя они приняли другую форму. Отъезд мой угнетал меня меньше, когда мне уже не надо было думать о нем одному, когда я чувствовал, что в совершающемся участвует более нормальная и более здоровая деятельность моих энергичных приятелей, товарищей Сен-Лу, и других сильных существ — поездов, движение которых в ту и другую сторону, утром и вечером, из Донсьера в Париж, дробило ретроспективно все, что было слишком плотного и невыносимого в моей разлуке с бабушкой, на ежедневные возможности возвращения.
— Я не сомневаюсь в искренности твоих слов и думаю, что ты еще не собираешься уезжать, — сказал со смехом Сен-Лу, — но веди себя так, как если бы ты уезжал, и приходи ко мне попрощаться завтра утром, пораньше, иначе я, пожалуй, тебя не увижу; я завтракаю в городе, капитан дал мне разрешение; к двум часам необходимо вернуться в казарму, потому что наш полк выступает на целый день. Я рассчитываю, что особа, у которой я завтракаю в трех километрах отсюда, меня вовремя привезет в казарму.
Едва он произнес эти слова, как из гостиницы пришли сказать, что меня вызывают на телефонную станцию. Я помчался со всех ног, потому что близилось время ее закрытия. В ответах, которые мне давали служащие, то и дело повторялось слово «междугородный». Я был до крайности встревожен, потому что это был вызов бабушки. Станция вот-вот должна была закрыться. Наконец я получил соединение. «Бабушка, это ты?» Женский голос с сильным английским акцентом отвечал: «Да, но я не узнаю вашего голоса». Я тоже не узнавал голоса, который ко мне обращался, а кроме того бабушка никогда не говорила мне «вы». Наконец, все разъяснилось. Молодой человек, которого его бабушка вызывала к телефону, носил фамилию почти тождественную с моей и жил в смежном корпусе гостиницы. Будучи вызван в тот самый день, когда я хотел телефонировать бабушке, я ни секунды не сомневался, что именно она меня просит к телефону. Таким образом простое совпадение было причиной двойной ошибки и на станции, и в гостинице.
На другой день я опоздал и не застал Сен-Лу, уже уехавшего завтракать в соседний замок. К половине второго я собирался на всякий случай зайти в казарму, чтобы встретить Робера сразу по его возвращении, как вдруг, переходя по пути один из бульваров, я увидел мчавшийся в том же направлении тильбюри, который, проезжая мимо, заставил меня посторониться; правивший им унтер-офицер в монокле был не кто иной, как Сен-Лу. Рядом с ним сидел его приятель, у которого он завтракал и которого я уже встречал однажды в гостинице, где обедал Сен-Лу. Я не решился окликнуть Робера, так как он был не один, но, желая, чтобы он остановился и подвез меня, я привлек его внимание низким поклоном, который можно было объяснить присутствием незнакомого. Я знал, что Робер близорук, однако был уверен, что если он меня заметит, то непременно меня узнает; между тем он заметил мой поклон и отдал его, но не остановил лошадей; тильбюри промчался мимо, а он даже не улыбнулся, на лице его не дрогнул ни один мускул, и только рука поднялась к козырьку кепи, продержавшись в таком положении минуты две, как если бы он отвечал какому-нибудь незнакомому солдату. Я бегом пустился в казарму, но до нее было еще далеко; когда я пришел, полк строился во дворе, где мне не позволили оставаться, и в огорчении, что не удалось попрощаться с Сен-Лу, я поднялся в его комнату, но его там уже не было; я мог спросить о нем только у кучки больных солдат, новобранцев, освобожденных от маршировки, да у юного бакалавра и старослужащего, которые смотрели на строившийся полк.
— Вы не видели вахмистра Сен-Лу? — спросил я.
— Он уже сошел вниз, сударь, — отвечал старослужащий.
— Я его не видел, — сказал бакалавр.
— Ты его не видел? — удивился старослужащий, перестав заниматься мной. — Не видел нашего лихого Сен-Лу, как он щеголяет в своих новых штанах! Не дай бог, увидит капитан, — из офицерского сукна.
— Ну, ты наскажешь: из офицерского сукна! — возразил юный бакалавр, который по болезни не был в строю и пытался, не без некоторой тревоги, держаться развязно со старослужащими солдатами. — Какое это офицерское сукно! Так себе сукно.
— Сударь? — гневно оборвал его старослужащий, который говорил о штанах.
Он был возмущен сомнением молодого бакалавра насчет того, что штаны Сен-Лу из офицерского сукна, но, бретонец по происхождению, родившийся в деревне, которая называлась Пангерн-Стереден, он изучил французский язык с таким трудом, как если бы это был английский или немецкий, и когда чувствовал себя взволнованным, то произносил два или три раза «сударь», чтобы за это время подыскать нужные слова, после чего пускался в красноречие, ограничиваясь повторением нескольких слов, известных ему лучше, чем другие, но говорил не спеша, принимая предосторожности против своей непривычки к правильному произношению.
— Вот что! Так себе сукно? — произнес он, наконец, с гневом, сила которого все нарастала по мере замедления его речи. — Вот что! По-твоему, сукно так себе, когда я тебе говорю, что это офицерское сукно, когда я те-бе го-во-рю, что о-фи-церское, раз я те-бе так го-во-рю, значит, я знаю, надо думать.
— Ну, что ж, — отвечал молодой бакалавр, сраженный этой аргументацией. — Нам не пристало распинаться здесь по-уличному.
— Гляди-ка, вот и наш капитан! Но каков, однако, Сен-Лу! Ногами так и швыряет; и голову задрал. Ну, можно ли сказать, что это унтер? И монокль: так во все стороны и летает!
Я попросил у этих солдат, которых мое присутствие не смущало, позволить и мне смотреть в окно. Они не воспрепятствовали, но и не подвинулись. Я увидел князя Бородинского, величественно восседавшего на лошади, которую он пустил рысью, и должно быть воображавшего себя на поле Аустерлица. Несколько прохожих собрались у ворот казарм посмотреть на выступающий полк. Вытянувшийся в струнку, светлоглазый, немного тучный, с округлым, как у императора, лицом, князь, очевидно, был во власти какой-то галлюцинации, как бывал я сам каждый раз, когда тишина, наступавшая после грохота промчавшегося трамвая, казалась мне изборожденной и пронизанной каким-то смутным музыкальным трепетанием. Я был крайне огорчен, что так и не удалось попрощаться с Сен-Лу, но все-таки уехал, ибо единственной моей заботой было вернуться к бабушке; до сих пор, когда я думал в этом городке о том, что делает в одиночестве бабушка, я ее представлял себе такой, какой она была со мной, но, устраняя себя, я не учитывал действия, которое на нее произведет это устранение; теперь мне необходимо было как можно скорее освободиться в ее объятиях от призрака, о котором до сей поры я и не догадывался и который вызван был голосом бабушки, реально разлученной со мной, покорившейся своей участи, отягченной — о чем я еще никогда не думал — годами и только что получившей письмо от меня в пустой квартире, где я воображал себе маму, когда уехал в Бальбек. Увы, именно этот призрак увидел я, когда, вошед в гостиную без предупреждения, я застал бабушку за чтением. Я был в гостиной, или, вернее, меня там еще не было, потому что она о том не знала и, подобно женщине, застигнутой за работой, которую она спрячет, если к ней войдут, предавалась мыслям, которые никогда бы не обнаружила передо мной. От моего лица — в силу недолгой привилегии, наделяющей нас в миг возвращения способностью присутствовать вдруг при нашем собственном отсутствии, — от моего лица в гостиной находился только свидетель, наблюдатель, в дорожном пальто и шляпе, посторонний в доме человек, фотограф, являющийся снять места, которых больше нельзя будет увидеть. То, что совершилось механически в моих глазах, когда я увидел бабушку, было подлинным фотографическим снимком! Мы никогда не видим любимых существ иначе, как в живой системе, в безостановочном движении нашей неиссякающей нежности, которая, прежде чем дать образам, рождаемым их лицом, до нас достигнуть, вовлекает их в свой вихрь, накладывает их на представление, издавна сложившееся в нас, спаивает их с ним, сливает воедино. Каким образом, если щеки и лоб бабушки означали для меня все, что было самого деликатного и самого постоянного в моем уме, каким образом, если всякий привычный взгляд есть некромантия и каждое любимое лицо — зеркало прошлого, каким образом мог бы я не проглядеть все, что в нем отяжелело и изменилось, когда даже в самых безразличных зрелищах жизни глаз наш, отягченный мыслью, пренебрегает, подобно классической трагедии, всеми образами, не относящимися к действию, и удерживает только те, что могут сделать понятной его цель? Но пусть вместо нашего глаза смотрит чисто материальный объектив, фотографическая пластинка, и тогда во дворе Института, например, мы увидим не идущего с заседания академика, который хочет кликнуть фиакр, а его нетвердый шаг, предосторожности, принимаемые им, чтобы не опрокинуться, параболу его падения, как если бы он был пьян или двор был покрыт льдом. То же самое происходит, когда какая-нибудь жестокая игра случая мешает умной и благоговейной нашей любви подоспеть вовремя, чтобы скрыть от наших взоров то, чего они никогда не должны видеть, когда она упреждается этими взорами, которые, прибыв первые на место и предоставленные самим себе, функционируют механически, подобно пленке, и показывают нам вместо любимого существа, которого давно уже не существует, но смерть которого любовь наша тщательно скрывала, существо новое, которому сотню раз в день она придает дорогое и ложное сходство. И — как больной, который давно на себя не смотрел, и измышляя каждую минуту фигуру, которой он не видит, соответственно идеальному образу, который он носит в своем сознании, отшатывается, заметив в зеркале посреди иссохшего и пустынного лица косую розовую возвышенность огромного, как египетская пирамида, носа, — я, для которого бабушка была частью меня самого, я, видевший ее только в своей душе, всегда на одном и том же месте прошлого, сквозь прозрачные смежные и наложенные одно на другое воспоминания, — вдруг в нашей гостиной, составлявшей часть некоего нового мира, мира времени, мира, населенного чужими людьми, о которых мы говорим: «и постарел же он», — я впервые и лишь на мгновение, потому что она очень скоро исчезла, увидел на диване, в свете лампы, красную, грузную, заурядную, больную, замечтавшуюся, водившую поверх книги немного дикими глазами, озабоченную старуху, которой я не знал.
На мою просьбу пойти посмотреть картины Эльстира, принадлежавшие герцогине Германтской, Сен-Лу мне сказал: «Ручаюсь за нее». К несчастью, действительно, за нее поручился только он. Мы легко ручаемся за других, когда, располагая в сознании образами, их представляющими, мы маневрируем ими по собственному усмотрению. Конечно, даже в этом случае мы считаемся с затруднениями, проистекающими от чужого характера, непохожего на наш, и мы не упускаем случая прибегать к тому или иному могущественному средству воздействия: выгоде, убеждению, смущению, которое нейтрализует противоположные наклонности. Но эти различия с нами воображаем все же мы сами и мы же устраняем эти затруднения; не кто иной, как мы, дозируем эти радикальные меры воздействия. И когда движения, которые мы в своем сознании заставили проделать другого и которые заставляют его поступить по-нашему, мы желаем предписать ему в жизни, все меняется, мы наталкиваемся на непредвиденное сопротивление, которое может оказаться непреодолимым. Одним из самых сильных является, несомненно, сопротивление, вырабатывающееся в женщине, которая не любит, под влиянием непобедимого и гадливого отвращения к человеку, который ее любит: в течение долгих недель, что Сен-Лу оставался в Донсьере, не приезжая в Париж, тетка его, которой, я был уверен, он написал, умоляя ее это сделать, ни разу не попросила меня зайти к ней посмотреть картины Эльстира.
Я встретил холодный прием также и у другого обитателя нашего дома. То был Жюпьен. Не полагал ли он, что мне следовало бы зайти к нему поздороваться по возвращении из Донсьера, прежде даже чем подняться к себе? Моя мать сказала, что нет, что не надо этому удивляться. По словам Франсуазы, говорила она, такой уж у него характер, он способен вдруг надуться ни с того ни с сего. Через некоторое время все это проходит.
Между тем зима кончалась. Однажды утром, после нескольких недель дождей с градом и бурь, я услышал у себя в камине, — вместо нескладного, упругого и мрачного ветра, который наполнял меня желанием пойти на берег моря, — воркование голубей, свивших себе гнездо в наружной стене: радужное, непредвиденное, как первый гиацинт, тихонько разрывающий питающее его сердце, чтобы из него брызнул звонкий цветок, нежно-лиловый и атласный; подобно открытому окну, оно вводило в мою еще закупоренную и темную комнату истому, ослепительность, усталость первого погожего дня. В то утро я неожиданно для себя стал напевать шансонетку, которую предал забвению еще с того года, как должен был поехать во Флоренцию и в Венецию. Такое глубокое действие оказывает на организм наш атмосфера: случайный весенний день извлекает из темных недр, где мы их позабыли, запечатлевшиеся в нас мелодии, которых не могла прочитать наша память. Вскоре к музыканту, которого я слушал в себе, не сразу даже узнавая, что он играет, присоединился лучше разбирающийся в своих впечатлениях мечтатель.
Я ясно сознавал, что причины, благодаря которым я по приезде в Бальбек не нашел в тамошней церкви прелести, окружавшей ее перед тем, как я ее увидел, не были причинами, свойственными одному Бальбеку; я сознавал, что во Флоренции, в Парме или Венеции воображение мое также не могло бы заменить мне глаза, созерцавшие действительность. Я это сознавал. Подобным же образом в один новогодний вечер, при наступлении темноты, я вдруг понял, стоя у колонки с афишами, всю иллюзорность мнения, будто некоторые праздничные дни существенно отличаются от дней будничных. И тем не менее, вопреки моей воле, воспоминание о времени, когда я думал провести во Флоренции Святую неделю, по-прежнему окружало особенной атмосферой город Цветов, по-прежнему придавало дню Пасхи нечто флорентийское, а Флоренции — нечто пасхальное. До пасхальной недели было еще далеко; но в веренице дней, тянувшихся передо мной, пасхальные дни выделялись светлым пятном на краю дней будничных. Озаренные точно лучом, как некоторые дома городка, видимого вдали в эффекте светотени, они сосредоточивали на себе весь солнечный свет.
Погода сделалась более мягкой. Даже мои родные, советуя мне прогуляться, приводили в качестве предлога мое обыкновение выходить по утрам. Я же хотел прекратить эти утренние прогулки, потому что на них я встречал герцогиню Германтскую. Но именно поэтому я все время о них думал, что побуждало меня каждую минуту находить для них новый повод, не имевший никакого отношения к герцогине Германтской и легко меня убеждавший, что, если бы даже ее не было на свете, я тем не менее пошел бы прогуляться именно в этот час.
Увы, если для меня всякая встреча, кроме встречи с ней, была бы безразличной, то я чувствовал, что для нее была бы выносимой какая угодно встреча, только не встреча со мной. На утренних прогулках ей случалось здороваться со множеством дураков, которых и сама она считала дураками. Но хотя появление их не сулило ей удовольствия, она, по крайней мере, видела в нем простую случайность. И она порой их останавливала, потому что бывают минуты, когда чувствуешь потребность выйти за пределы своей личности и побывать в гостях у чужой души, самой скромной и угодливой, лишь бы только душа эта была действительно чужой, между тем как она с раздражением чувствовала, что в моем сердце она нашла бы только себя самое. Вот почему, даже когда я избирал привычную для нее дорогу не с целью ее увидеть, а по иным соображениям, я дрожал как виноватый при встрече с ней; и чтобы несколько сгладить впечатление назойливости, я иногда едва отвечал на ее поклон или пристально на нее смотрел, не снимая шляпы, и тем только еще больше ее раздражал, так что в довершение всего она начала находить меня дурно воспитанным и нахалом.
Герцогиня носила теперь платья более легкие, или по крайней мере более светлые, и на улице, по которой она проходила, — перед узенькими лавочками, втиснутыми между широкими фасадами старых аристократических особняков, у навеса торговки маслом, фруктами, овощами, — как если бы наступила уже весна, — были спущены шторы от солнца. Я говорил себе, что женщина, которую я видел вдали гуляющей, открывающей зонтик, переходящей улицу, была в глазах знатоков величайшей артисткой современности в искусстве совершать движения и делать из них нечто пленительное. Тем временем она шествовала, ничего не зная об этой своей репутации, — узкая ее талия, своенравная и ничего в себя не вбиравшая, грациозно изгибалась под шарфом из лилового сюра; ее светлые хмурые глаза рассеянно глядели вперед и, может быть, замечали меня; она прикусывала уголок губ; я наблюдал, как она расправляла муфту, подавала милостыню нищему, покупала букет фиалок у торговки, с тем же любопытством, с каким смотрел бы на мазки кистью великого художника. И когда, поравнявшись со мной, она мне кланялась, сопровождая иногда поклон легкой улыбкой, это похоже было на то, как если бы она написала для меня лависом шедевр, снабдив его посвящением. Каждое из ее платьев представлялось мне ее естественным, необходимым окружением, проекцией одной из сторон ее души. Однажды утром в середине поста я ее встретил, когда она шла на званый завтрак, в светло-красном бархатном платье с легким вырезом на шее. Лицо герцогини Германтской, окаймленное светлыми волосами, казалось мечтательным. Я был опечален меньше, чем обыкновенно, потому что меланхолическое ее выражение и созданная яркостью краски своего рода отчужденность между нею и остальным миром придавали ей вид несчастной, одинокой женщины, и это действовало на меня успокоительно. Платье это как бы материализовало вокруг нее пунцовые лучи, источаемые сердцем, которого я у нее не знал и которое, может быть, способен был бы утешить; укрывшаяся в мистическом свете мягких складок платья, она мне напоминала святую первых веков христианства. Тогда мне делалось стыдно, что своим видом я оскорблю эту мученицу. «Но ведь улица доступна для всех».
Улица доступна для всех, повторял я, придавая этим словам иной смысл и восхищаясь, что в самом деле на этой людной улице, часто поливаемой дождем и уподоблявшейся драгоценным улицам в иных старинных городах Италии, герцогиня Германтская примешивала к жизни публичной мгновения своей сокровенной жизни, показывая себя таким образом каждому, — таинственная, задеваемая всеми встречными, — совершенно даром, наподобие великих произведений искусства. Отправляясь на эти утренние прогулки, я обыкновенно всю ночь не смыкал глаз, и мои родные советовали мне прилечь немного днем и попробовать соснуть. Чтобы уметь найти сон, не требуется много размышления, для этого очень полезна бывает привычка и даже полное отсутствие размышления. Между тем в эти часы я не удовлетворял ни тому ни другому условию. Перед тем как уснуть, я так долго думал, что не усну, что, даже уснув, я не вполне освобождался от мыслей. То был лишь тусклый проблеск в наступившей темноте, но даже и он отражал в моем сне, во-первых, мысль, что я не смогу уснуть, затем отражение этого отражения, мысль, что, уже уснув, я думал, что не сплю, наконец, путем нового преломления сознания, — мое пробуждение… в новый сон, в котором я хотел рассказать друзьям, вошедшим в мою комнату, что сейчас, заснув, я думал, что не сплю. Тени эти были едва различимы; понадобилась большая и довольно мелочная тонкость восприятия, чтобы их схватить. Подобным образом впоследствии, долго спустя после захода солнца, когда кажется, что уже совсем стемнело, я увидел в Венеции, — благодаря отзвуку, впрочем, невидимому, последней ноты света, бесконечно выдержанной на каналах как бы некоей оптической педалью, — отражения дворцов, застывших словно навсегда черными бархатными силуэтами на сумеречно-серой воде. Мне снился иногда синтез, который нередко пробовало осуществить наяву мое воображение, — синтез одного морского пейзажа и его средневекового прошлого. Я видел во сне готический город среди моря с застывшими, как на витраже, волнами. Рукав моря делил этот город на две части; зеленая вода расстилалась у моих ног; она омывала на противоположном берегу церковь в восточном стиле, а далее дома, существовавшие еще в XIV веке, так что подойти к ним было бы все равно, что подняться вверх по течению веков. Сон этот, в котором природа постигла искусство, в котором море сделалось готическим, сон этот, в котором я желал коснуться невозможного и верил, что его касаюсь, — этот сон, как мне казалось, я видел уже не раз. Но так как тому, что видишь во сне, свойственно многократно проецироваться в прошлое и представляться, несмотря на свою новизну, чем-то давно знакомым, то я счел это заблуждением. Однако я подметил, что, действительно, мне часто снился этот сон.
Даже расплывчатость, характерная для каждого сновидения, находила свое отражение и в этом случае, но отражение символическое: в темноте я не мог различить лица друзей, находившихся, возле меня, — ведь мы спим с закрытыми глазами; без конца рассуждая сам с собою во сне, я чувствовал, при попытке заговорить с этими друзьями, что звук застревает у меня в горле, — никто ведь внятно не говорит во сне; я хотел подойти к ним и не мог пошевельнуть ногами, — ведь никто и не ходит во сне; и вдруг мне стало стыдно в их присутствии, — ведь мы спим раздетые. Так, проецированная моим же сном фигура спящего — со слепыми глазами, с сомкнутыми губами, со связанными ногами, обнаженного — имела вид одной из тех больших аллегорических фигур, подаренных мне Сваном, на которых Джотто изобразил зависть со змеей во рту.
Сен-Лу приехал в Париж только на несколько часов. Утверждая, что не имел случая поговорить обо мне с кузиной, он заявил мне, простодушно выдавая себя: «Она вовсе не любезна, моя Ориана, это уже не прежняя Ориана, мне ее подменили. Уверяю тебя, что она вовсе не стоит, чтобы ты ею занимался. Ты ей делаешь слишком много чести. Не хочешь ли, я тебя познакомлю с моей кузиной Пуактье? — прибавил он, не отдавая себе отчета, что это не могло бы доставить мне никакого удовольствия. — Вот это умная, молодая женщина, и она тебе понравится. Она вышла замуж за моего кузена, герцога де Пуактье, он славный парень, но немного простоват для нее. Я ей говорил о тебе. Она просила тебя привести. Она гораздо красивее Орианы и моложе ее. Это, знаешь, особа любезная, милая особа». Выражения эти были усвоены Робером недавно — но с тем большею пылкостью — и выдавали в нем натуру деликатную. «Не скажу, чтобы она была дрейфусаркой, надо ведь считаться с ее средой, но все же она говорит: «Если он невиновен, то каким было бы ужасом его заключение на Чортовом острове». Понятно, не правда ли? И наконец, это — особа, которая много делает для своих бывших воспитательниц, она запретила, чтобы их приводили к ней по черной лестнице. Уверяю тебя, это особа очень милая. В глубине души Ориана ее не любит, так как чувствует, что Пуактье умнее ее».
Хотя и преисполненная жалости к одному лакею Германтов, — который не мог ходить в гости к своей невесте, даже когда герцогини не было дома, так как швейцар немедленно донес бы об этом, — Франсуаза была глубоко огорчена своим отсутствием во время визита Сен-Лу, но так случилось потому, что она теперь тоже делала визиты. Она неукоснительно отлучалась в дни, когда я в ней нуждался. Целью ее отлучек всегда бывало посещение брата, племянницы и особенно родной дочери, недавно приехавшей в Париж. Уже семейный характер этих визитов Франсуазы увеличивал мое раздражение, причиняемое необходимостью лишиться ее услуг, ибо я предвидел, что она будет говорить о каждом из них, как о вещи без которой нельзя обойтись, согласно законам, предписанным в Сент-Андре-де-Шан. Вот почему, выслушивая ее извинения, я не мог подавить в себе неприязненное чувство (я был к ней очень несправедлив), которое достигало крайних пределов, когда Франсуаза говорила: я посетила брата, я заглянула по пути к племяннице (или к моей племяннице, у которой мясная торговля) поздороваться с ней, — вместо того чтобы сказать просто: я заходила к брату, я заходила к племяннице. Что касается дочери, то Франсуазе хотелось, чтобы она вернулась в Комбре. Однако новая парижанка, употреблявшая, подобно элегантным женщинам, сокращенные слова, правда, заурядные, говорила, что неделя, которую она должна будет провести в Комбре, ей покажется очень долгой без «Энтран». Еще меньше хотелось ей съездить к сестре Франсуазы, проживавшей в гористой области, так как «горы, — говорила дочь Франсуазы, придавая слову «интересный» новое, ужасное значение, — это малоинтересно». Она не могла решиться на возвращение в Мезеглиз, где «все такие глупые», где на рынке кумушки, «деревенщина», чего доброго откроют родство с ней и будут говорить: «Да ведь это дочка покойного Базиро!» Она скорее умрет, чем согласится снова поселиться там, «теперь, когда она вкусила парижской жизни», а приверженная к традициям Франсуаза снисходительно улыбалась духу новшеств, воплощавшемуся в новой парижанке, когда та говорила: «Ладно, мамаша, если у тебя нет выходного дня, тебе стоит только послать мне пнев».
Стало снова холодно. «Выходить? Зачем? Чтобы схватить какую-нибудь гадость и околеть?» — говорила Франсуаза, предпочитавшая сидеть дома в течение недели, которую ее дочь, брат и торговка мясом проводили в Комбре. Последняя сектантка, в которой еще смутно жило вероучение моей тети Леонии, Франсуаза, знавшая ученые термины, прибавляла, говоря об этой погоде не по сезону: «Это остаток гнева Божия!» Но на ее жалобы я отвечал томной улыбкой, тем более равнодушный к этим предсказаниям, что для меня во всяком случае уготована была хорошая погода; уже я видел сияние утреннего солнца на холме Фиезоле, я грелся в его лучах; сила их заставляла меня открывать и полузакрывать веки; с улыбкой наполнялись они, подобно алебастровым лампадам, слабым розовым светом. Не только колокола возвращались из Италии, Италия пришла с ним. Мои верные руки не будут испытывать недостатка в цветах, чтобы почтить годовщину путешествия, которое некогда я должен был совершить, ибо когда в Париже снова похолодало, как в тот год во время наших приготовлений к отъезду в конце поста, в жидком и леденящем воздухе, омывавшем каштаны и платаны бульваров, а также дерево во дворе нашего дома, приоткрывали уже лепестки, точно в чаше с чистой водой, нарциссы, жонкили и анемоны Понте-Веккио.
Отец сказал нам, что знает теперь от А. Ж., куда ходит г. де Норпуа, когда он его встречает в нашем доме.
— К госпоже де Вильпаризи, он хорошо с ней знаком, а я и не знал об этом. Она, по-видимому, прелестная особа, выдающегося ума женщина. Тебе следовало бы навестить ее, — обратился он ко мне. — Впрочем, я был очень удивлен. Он мне говорил о герцоге Германтском как о человеке вполне благовоспитанном, а я всегда принимал его за грубого невежду. По-видимому, он знает множество вещей и обладает безукоризненным вкусом, он только чересчур чванится своим именем и родственными связями. Но, впрочем, по словам Норпуа, положение его блестящее, и не только здесь, но везде в Европе. По-видимому, австрийский и русский императоры обращаются с ним по-приятельски. Папаша Норпуа сказал, что госпожа де Вильпаризи тебя очень любит и что в ее салоне ты познакомишься с интересными людьми. Он очень расхвалил тебя, ты с ним встретишься у нее, и он может дать тебе полезные советы, даже если ты станешь писателем. Ведь я вижу, что ты все равно не будешь заниматься ничем другим. С известной точки зрения это неплохая карьера; я бы, правда, не выбрал ее для тебя, но ты скоро станешь взрослым, мы не вечно будем возле тебя, и нам не годится мешать тебе следовать твоему призванию.
Если бы, по крайней мере, я мог начать писать! Но в каких бы условиях я ни приступал к осуществлению этого намерения (а равным образом, увы, намерения воздержаться от употребления алкоголя, рано ложиться спать, выработать хорошее самочувствие): с увлечением, методически, с удовольствием, лишая себя прогулки, откладывая ее и приберегая как награду, пользуясь часом здоровья или вынужденной бездеятельностью во время болезни, — плодом моих усилий неизменно оказывалась чистая страница, незапятнанная никакими письменами, неотвратимая, подобно той обязательной карте, которую фатально вытягиваешь в некоторых фокусах, как ни перетасовать предварительно колоду. Я был лишь орудием привычек не работать, не ложиться во время, не спать, которые должны были функционировать во что бы то ни стало; если я им не противился, если я довольствовался предлогом, который они заимствовали из первого попавшегося в этот день обстоятельства, предоставлявшего им действовать по-своему, то я выпутывался сравнительно благополучно, мне удавалось отдохнуть несколько часов под конец ночи и немного почитать, я не слишком переутомлялся, но если я хотел им перечить, если я намеревался ложиться рано, пить только воду, работать, они раздражались, они прибегали к сильным средствам, они делали меня совершенно больным, я принужден был удваивать дозу алкоголя, я два дня не ложился в постель, я не мог даже читать, и я давал зарок быть в другой раз более рассудительным, то есть менее благоразумным, подобно жертве грабителей, которая дает себя обобрать из страха, что ее убьют, если она окажет сопротивление.
В это время отец встретился раза два с герцогом Германтским, и теперь, после того как г. де Норпуа сказал ему, что герцог — человек замечательный, он отнесся с большим вниманием к его словам. Они завели разговор во дворе как раз о г-же де Вильпаризи. «Он мне сказал, что это его тетка; он произносит Випаризи. Он мне сказал, что она необыкновенно умна. Он даже прибавил, что она держит бюро остроумия», — доложил отец, очарованный неопределенностью этого выражения; он, правда, встречал его раза два в мемуарах, однако не связывал с ним четкого смысла. Мать питала к отцу такое почтение, что, заметя его неравнодушие к тому, что г-жа де Вильпаризи держала бюро остроумия, сочла это обстоятельство немаловажным. Хотя она давно уже знала от бабушки, чем является в сущности маркиза, она немедленно составила себе о ней более выгодное представление. Бабушка, которая в это время прихварывала, отнеслась сначала неблагожелательно к моему визиту, но затем перестала им интересоваться. После нашего переселения в эту новую квартиру г-жа де Вильпаризи неоднократно просила ее зайти к ней. И бабушка неизменно отвечала, что она сейчас не выходит, в письмах, которые по новой своей привычке, для нас непонятной, она никогда больше не запечатывала сама, предоставляя позаботиться об этом Франсуазе. Что касается меня, то, не представляя себе хорошенько этого «бюро остроумия», я бы не очень был удивлен, если бы застал старую даму из Бальбека сидящей за «бюро», что, впрочем, и случилось.
Отцу, сверх того, очень хотелось узнать, много ли голосов обеспечит ему поддержка посла при выборах в Институт, куда он хотел выставить свою кандидатуру в качестве нештатного члена. По правде говоря, не осмеливаясь усомниться в поддержке г-на де Норпуа, он не был, однако, в ней вполне уверен. Он полагал, что имеет дело со злыми языками, когда ему сказали в министерстве, что г-н де Норпуа желает быть там единственным представителем Института и будет чинить всевозможные препятствия его кандидатуре, которая вдобавок была бы особенно неприятна послу в настоящий момент, когда он поддерживает другую кандидатуру. Однако, когда г. Леруа-Болье посоветовал отцу выступить соискателем и подсчитал шансы, то отец был крайне удивлен, увидя, что в числе коллег, на которых он мог рассчитывать при выборах, наш выдающийся экономист не назвал г-на де Норпуа. Отец не решался прямо спросить об этом бывшего посла, но надеялся, что я возвращусь от г-жи де Вильпаризи с готовым его избранием. Визит этот был неминуем. Пропаганда г-на де Норпуа, способная, действительно, обеспечить отцу две трети Академии, ему казалась к тому же тем более вероятной, что любезность посла была общеизвестна, и даже крайние его недоброжелатели признавали, что никто так не любит оказывать услуги, как маркиз. С другой стороны, его покровительство отцу в министерстве простиралось гораздо дальше и было выражено гораздо отчетливее, чем покровительство какому-нибудь другому чиновнику.
У отца была еще одна встреча, но встреча эта его удивила, а потом привела в крайнее негодование. Он столкнулся на улице с г-жой Сазра, которая благодаря своей бедности могла лишь изредка бывать в Париже в гостях у одной приятельницы. Никто из наших знакомых не казался отцу таким скучным, как г-жа Сазра, так что маме приходилось обращаться к нему ласковым, умоляющим голосом: «Друг мой, надо будет непременно пригласить как-нибудь г-жу Сазра, она у нас не засидится», и даже: «Послушай, дружок, я хочу попросить тебя о большом одолжении: сходи на минутку к г-же Сазра. Ты знаешь, я не люблю тебе докучать, но это было бы так мило с твоей стороны». Отец смеялся, немного сердился и собирался сделать этот визит. Итак, хотя г-жа Сазра не доставляла ему удовольствия, отец при встрече направился к ней, сняв шляпу, но, к его глубокому изумлению, г-жа Сазра ограничилась, ледяным поклоном, который только правила вежливости требуют сделать человеку, провинившемуся в каком-нибудь неблаговидном поступке или приговоренному жить впредь в другом полушарии. Отец пришел домой рассерженный, озадаченный. На другой день мать встретила г-жу Сазра у одних знакомых. Последняя не подала ей руки и улыбнулась с видом неопределенным и печальным, как женщина, с которой вы играли в детстве, но потом порвали с ней всякие отношения, потому что она вела распутную жизнь и вышла замуж за каторжника или, что еще хуже, за разведенного. Между тем все время мои родители оказывали и внушали г-же Сазра глубочайшее уважение. Но (обстоятельство, о котором моя мать не знала) г-жа Сазра, единственная из обитательниц Комбре, была дрейфусарка. Отец же, приятель г-на Мелина, был убежден в виновности Дрейфуса. Он с неприязненным чувством выпроводил коллег, просивших его подписать ходатайство о пересмотре дела. Он не разговаривал со мной в течение недели, когда узнал, что я держусь другой точки зрения. Убеждения отца были известны. Было недалеко от истины считать его националистом. Что касается бабушки, которая, кажется, одна только во всей семье одушевлена была благородным сомнением, то каждый раз, когда ей говорили о возможной невинности Дрейфуса, она делала кивок, смысла которого мы тогда не понимали: он похож был на движение человека, потревоженного во время серьезных размышлений. Мать, раздваивавшаяся между любовью к отцу и надеждой на мой ум, пребывала в нерешительности, которая выражалась у нее молчанием. Наконец дедушка, обожавший армию (хотя его служба в национальной гвардии была для него кошмаром в зрелые годы), никогда не забывал при виде полка, маршировавшего перед воротами, обнажить голову, когда проходили полковник и знамя. Этого было достаточно для того, чтобы г-жа Сазра, отлично знавшая все бескорыстие и благородство моего отца и дедушки, рассматривала их как пособников Несправедливости. Преступления индивидуальные прощаются, непростительна причастность к коллективному преступлению. Едва только узнав, что отец мой антидрейфусар, она отгородилась от него материками и столетиями. Неудивительно, что на таком расстоянии во времени и в пространстве поклон г-жи Сазра показался моему отцу незаметным, и что она пренебрегла рукопожатием и любезными словами, которые не могли бы преодолеть миров, их разделявших.
Сен-Лу, собиравшийся приехать в Париж, обещал свести меня к г-же де Вильпаризи, у которой я надеялся, не сказав ему об этом, встретиться с герцогиней Германтской. Он предложил мне позавтракать в ресторане со своей любовницей и потом вместе проводить ее на репетицию. Мы должны были отправиться за ней утром в окрестности Парижа, где она жила.
Я предложил Сен-Лу позавтракать (в жизни знатной молодежи, тратящей много денег, ресторан играет такую же важную роль, как тюки материй в арабских сказках) в том ресторане, куда должен был поступить метрдотелем Эме в ожидании начала сезона в Бальбеке. Для меня, так много мечтавшего о путешествиях и так мало путешествовавшего, было очень заманчиво вновь увидеть человека, составлявшего часть даже не воспоминаний моих о Бальбеке, а самого Бальбека, ездившего туда каждый год, человека, который, когда усталость или учебные занятия принуждали меня оставаться в Париже, все так же мог видеть в длинные июльские вечера, поджидая к обеду постояльцев отеля, опускающееся и заходящее в море солнце и наблюдать сквозь стеклянные стены большого столового зала недвижные крылья далеких синеватых судов, которые в час, когда гасло солнце, похожи были на экзотических ночных бабочек под стеклами музейной витрины. Намагниченный через соприкосновение с мощным магнитом Бальбека, этот метрдотель сам, в свою очередь, становился магнитом для меня. Разговаривая с ним, я надеялся тоже соприкоснуться с Бальбеком, испытать, не трогаясь с места, некоторую долю чар путешествия.
Я вышел из дому утром, оставив Франсуазу сокрушаться о том, что лакей-жених снова не мог вчера вечером навестить свою нареченную. Франсуаза застала его в слезах, он готов был надавать оплеух консьержу, но удержался, потому что дорожил своим местом.
По дороге к Сен-Лу, который условился ожидать меня у дверей своего дома, я встретил Леграндена, которого мы потеряли из виду со времен Комбре. Теперь он весь поседел, но сохранил открытый вид юноши. Он остановился.
— А, вот вы где, — обратился он ко мне, — шикарный мужчина, да еще в сюртуке! Вот ливрея, к которой не могла бы приспособиться моя независимость. Впрочем, вам нужно быть светским, делать визиты! Чтобы пойти помечтать, как я это делаю, перед какой-нибудь полуразрушенной могилой, мой лавальер и пиджак подходят как нельзя лучше. Вы знаете, я очень ценю прекрасные качества вашей души, и как жаль, что вы собираетесь их заглушить в обществе любезников. Будучи способны оставаться в тошнотворной и для меня удушающей атмосфере салонов, вы подвергаете ваше будущее осуждению, навлекаете на него проклятие пророка. Я вижу ясно: вы усердно посещаете общество «легковесных сердец», общество феодалов; таков уж порок нынешней буржуазии. Ах, эти аристократы! Террор виноват, что не отрубил им головы всем без исключения. Все это гнусная сволочь или же беспросветные идиоты. Ну что ж, дитя мое, если это вас забавляет! Когда вы отправитесь на какой-нибудь файв-о'клок, ваш старый приятель будет счастливее вас, потому что, одинокий, где-нибудь в предместьи, будет он наблюдать восход розовой луны на фиолетовом небе. Ведь я почти не принадлежу этой земле, где чувствую себя таким изгнанником; требуется вся сила закона тяготения, чтобы меня на ней удержать и чтобы я не умчался в другую сферу. Я житель другой планеты. Прощайте, не истолкуйте дурно старой откровенности крестьянина с Вивоны, оставшегося неотесанным. Желая доказать, что я дорожу вашим мнением, я пришлю вам мой последний роман. Но вам это не понравится; это недостаточно упадочно, недостаточно fin de siecle для вас, это слишком простосердечно, слишком честно; вам надо Бергота, вы сами мне признались, надо протухшей пищи для пресыщенного вкуса утонченных лакомок. Меня, должно быть, считают в вашем кружке простоватым; я виноват, что вкладываю сердце в то, что пишу, это больше не в моде: к тому же жизнь простого народа вещь недостаточно изысканная, чтобы заинтересовать ваших снобов. Постарайтесь, однако, вспоминать иногда слова Христа: «Делайте так и вы будете живы». Прощайте, друг.
Я расстался с Легранденом без неприязненного чувства. Некоторые воспоминания подобны общим друзьям: они умеют вносить примирение; перекинутый посреди усеянных лютиками полей, на которых громоздились феодальные руины, Леграндена и меня, как два берега Вивоны, соединял сельский деревянный мостик.
Покинув Париж, где, несмотря на начало весны, деревья бульваров были едва расцвечены первыми листьями, и выйдя из поезда круговой железной дороги в деревне, где жила любовница Сен-Лу, мы были восхищены при виде огромных белых букетов из фруктовых деревьев в цвету, которыми разубран был каждый садик. Похоже было на один из тех своеобразных поэтических однодневных местных праздников, на которые приходят посмотреть издалека в определенное время, но праздник, устроенный природой. Цветы вишни были так густо насажены на ветви, точно белые футляры, что издали, среди деревьев, еще почти без цветов и без листьев, их можно было принять в этот солнечный и еще такой холодный день за снег, в других местах растаявший, который еще уцелел в кустах. Но большие грушевые деревья окутывали каждый дом, каждый скромный дворик белизной более массивной, более ровной, более ослепительной, и казалось, будто все постройки и все усадьбы этой деревни приготовились в один и тот же день к первому своему причастию.
Эти поселки в окрестностях Парижа сохраняют еще у своих ворот парки XVII и XVIII веков, некогда бывшие причудой интендантов и фавориток. Какой-то садовод воспользовался одним из них, расположенным ниже дороги, для культуры фруктовых деревьев (или, может быть, просто сохранил рисунок огромного фруктового сада того времени). Рассаженные в шахматном порядке на большем расстоянии друг от друга и дальше от дороги, чем те, что я увидел раньше, груши эти составляли большие — отделенные низенькими оградами — четырехугольники белых цветов, каждая сторона которых была освещена по-разному, так что все эти комнаты без крыши и на открытом воздухе походили на комнаты дворца солнца, который можно было бы найти где-нибудь на Крите; они напоминали также камеры водоема или части моря, перегороженного человеком для какого-нибудь рыбного промысла или для разведения устриц, когда вы видели игру света на различно обращенных к нему шпалерах, точно на весенней воде, в которой то здесь, то там взбивал он сверкавшую посреди трельяжа из лазоревых ветвей беловатую пену залитого солнцем искристого цветка.
То было старое селение с ветхим зданием мэрии, обожженным и золотистым, перед которым, вместо шестов с призами и флагов, стояли три большие груши, искусно разубранные, точно для местного гражданского праздника, белым атласом. Никогда Робер не говорил мне с такой нежностью о своей приятельнице, как во время этой прогулки.
Единственно она пустила корни в его сердце; военная карьера, положение в свете, семья, — ко всему этому он не был, правда, равнодушен, но это ничего не значило по сравнению с самыми ничтожными мелочами, касавшимися его любовницы. Она была единственной вещью, обладавшей для него обаянием, бесконечно большим обаянием, чем Германты и все короли на свете. Мне неизвестно, был ли он внутренно убежден, что существо ее выше всего на свете, но я знаю, что все его помыслы и все заботы были направлены лишь на то, что касалось его любовницы. Благодаря ей он способен был страдать, быть счастливым, может быть, убить. Для него не было ничего подлинно интересного, ничего захватывающего за пределами того, что хотела, что будет делать его любовница, за пределами того, что происходило, насколько, по крайней мере, об этом можно было судить по беглым выражениям в тесном пространстве ее лица и под ее привилегированным лбом. Такой деликатный во всех остальных отношениях, он серьезно считался с перспективой блестящего брака, единственно ради возможности по-прежнему содержать ее, сохранить ее. Если бы задаться вопросом, как высоко он ее оценивал, то, я думаю, невозможно вообразить цифру, которая была бы достаточно крупной. Если он не женился на ней, то оттого, что практический инстинкт ему подсказывал, что, едва только ей больше нечего будет ждать от него, она его покинет или, во всяком случае, будет жить на свой лад и что надо ее удерживать ожиданием завтрашнего дня. Ибо он предполагал, что она его, может быть, не любит. Конечно, общая привязанность, называемая любовью, должно быть по временам заставляла его думать, — как она заставляет думать всех мужчин, — что она его любит. Но на практике он чувствовал, что эта любовь ее к нему не мешает ей оставаться с ним только ради его денег и что в день, когда ей больше нечего будет ждать от него, она поторопится (жертва теорий своих литературных друзей и продолжая его любить, думал он) его покинуть.
— Если она мила, я ей сделаю сегодня, — сказал он мне, — подарок, который доставит ей удовольствие. Колье, которое она видела у Бушерона. Правда, тридцать тысяч франков для меня сейчас дороговато. Но, бедный волчонок, в жизни у ней не так уж много удовольствий. Она будет страшно рада. Она мне говорила об этом колье и сказала, что знает человека, который ей его, может быть, подарит. Не думаю, чтобы это была правда, но на всякий случай я сговорился с Бушероном, поставщиком моей семьи, чтобы он оставил его за мной. Меня радует мысль, что ты ее увидишь; по внешности она не представляет собой ничего необыкновенного (я ясно видел, что он думает как раз обратное и не говорит этого только затем, чтобы сильнее поразить меня при встрече), но у нее удивительно тонкие суждения; при тебе она, может быть, не решится много говорить, но я заранее наслаждаюсь тем, что она потом скажет о тебе; она, знаешь, говорит веши, которые можно бесконечно углублять, в ней подлинно есть что-то пифийское.
Дорога к ее дому шла мимо садиков, и я невольно остановился, потому что вишни и груши были в цвету; вероятно, вчера еще пустые и необитаемые, подобно не сданной в наем квартире, они внезапно населились и украсились только что прибывшими гостьями, красивые белые платья которых виднелись сквозь решетки в углах аллей.
— Послушай, я вижу, ты хочешь полюбоваться всем этим, быть поэтичным, — сказал мне Робер, — так подожди меня здесь, моя приятельница живет поблизости, я схожу за ней.
В ожидании я сделал несколько шагов, прошелся перед скромными садиками. Поднимая голову, я видел иногда молоденьких девушек в окнах, но даже на открытом воздухе и на высоте второго этажа, там и здесь, гибкие и легкие, в свежих лиловых платьях, подвешенные в листве, пучки молодой сирени покачивались при ветерке, не обращая внимания на прохожего, который вскидывал глаза на их зеленые антресоли. Я узнавал в них фиолетовые отряды, которые размешались при входе в парк г-на Свана за низенькой белой оградой в теплые весенние послеполуденные часы, образуя восхитительный провинциальный узор. Я направился по тропинке, выходившей на лужок. Там дул ветер, холодный и резкий, как в Комбре, но на глинистой, влажной и деревенской почве, которая могла быть и на берегу Вивоны, тем не менее поднималась, пунктуально явившаяся на место сбора, как и вся кучка ее товарок, большая белая груша, которая колыхала, улыбаясь, и выставляла на солнце, подобно занавесу из овеществленного и осязаемого света, свои взъерошенные ветром, но приглаженные и вылощенные лучами цветы.
Вдруг появился Сен-Лу в сопровождении своей любовницы, — и тогда в этой женщине, которая представляла для него всю любовь, все мыслимые услады жизни, личность которой, таинственно заключенная в ее теле, как скинии, была предметом, над которым неустанно трудилось воображение моего друга, причем он чувствовал, что никогда ее не познает, и беспрерывно спрашивал себя, что же такое была она сама по себе, за покровом взглядов и покровом тела, — в этой женщине я мгновенно узнал «Рахиль, ты мне дана…» — ту самую, которая несколько лет назад, — женщины так скоро меняют положение на этом свете, когда они его меняют, — говорила сводне:
— Значит, завтра вечером, если я вам понадоблюсь для кого-нибудь, вы пошлете за мной?
И когда за ней действительно присылали и она оказывалась одна в комнате с этим «кем-нибудь», то она так хорошо знала, чего от нее хотят, что, запершись на ключ из предосторожности, свойственной женщине благоразумной, она ритуальными движениями начинала снимать с себя все свои одежды, как мы делаем это перед доктором, который собирается нас выслушать, и останавливалась по пути лишь в том случае, если «кто-нибудь», не любящий наготы, говорил ей, что она может не снимать рубашку, подобно иным врачам, которые, обладая тонким слухом и боясь простудить пациента, довольствуются исследованием дыхания и деятельности сердца через белье. И с этой женщиной, жизнь которой, мысли, прошлое, мужчины, в чьих объятиях она побывала, мне были настолько неинтересны, что если бы она стала мне об этом рассказывать, я бы ее слушал только из вежливости и краем уха, — с этой женщиной, я чувствовал, до такой степени слились тревоги, терзания и любовь Сен-Лу, что простая для меня игрушка обратилась для него в предмет бесконечных страданий, стала ценой его жизни. При виде двух этих разобщенных существ (потому что я знал «Рахиль, ты мне дана» в доме свиданий) я думал, что, пожалуй, многие женщины, ради которых мужчины живут, страдают, лишают себя жизни, в существе своем или для других являются тем, чем Рахиль была для меня. Мысль, что можно чувствовать мучительный интерес к ее жизни, мне казалась дикой. Я мог бы сообщить Роберу о многих ее связях, не представлявших для меня ни малейшего интереса. А какую боль причинили бы они ему! И чего бы он не дал, чтобы о них разузнать, хотя его попытки остались бы безуспешными. Я отдавал себе отчет, какие богатства человеческое воображение может поместить за небольшим куском лица, лица какой-нибудь женщины, если оно, это воображение, первое познакомилось с ней; и, наоборот, на какие жалкие материальные составные части, лишенные всякого значения, всякой цены, может разложиться то, что было целью стольких мечтаний, если наше знакомство началось с другого конца, самым тривиальным образом. Я понимал, что вещь, которая показалась мне не стоящей двадцати франков, когда мне ее предложили за двадцать франков в доме свиданий, где она была для меня лишь женщиной, желавшей заработать двадцать франков, может оказаться дороже миллиона, дороже семьи, дороже самого видного положения в обществе, если мы сначала вообразили в ней существо неведомое, заманчивое, которое трудно взять и трудно удержать. Конечно, Робер и я видели одно и то же невзрачное лицо. Но мы пришли к нему двумя противоположными путями, которые никогда не сойдутся, и никогда мы не могли бы увидеть в нем один и тот же предмет. Лицо это, с его взглядами, его улыбками, движениями его рта, я узнал извне, как лицо некоей фигуры, которая за двадцать франков сделает все, что я пожелаю. Таким образом взгляды, улыбки, движения рта мне показались только знаками каких-то общих чувств, не содержащих ничего индивидуального, а при этих условиях у меня не было никакой охоты искать личность. Но это соглашающееся лицо, которое мне предложено было как бы в качестве исходного пункта, являлось для Робера конечной целью, к которой он устремлялся, баюкаемый надеждами и сладкими мечтами, терзаемый сомнениями и подозрениями. Он давал больше миллиона, чтобы получить, чтобы не досталось другим то, что мне, как и каждому, предложено было за двадцать франков. Что помешало ему получить желаемое за эту цену, это могло зависеть от случайности мгновения, — мгновения, в течение которого та, что, казалось, готова была отдаться, увиливает, отправляясь, может быть, на свидание или по другим соображениям, делающим ее в тот день более привередливой. Если такая женщина имеет дело с мужчиной сентиментальным, то — если даже она этого не замечает, а особенно если заметила — начинается страшная игра. Неспособный совладать со своим разочарованием, обойтись без этой женщины, такой мужчина преследует ее своими домогательствами, она от него убегает, так что какая-нибудь улыбка, на которую он не смел больше надеяться, оплачивается в тысячу раз больше того, во что должна была бы обойтись ее высшая благосклонность. В таком положении порой случается даже, — когда, благодаря сочетанию наивности суждения и трусости перед страданием, поклонник возымел безрассудную мысль обратить публичную девку в неприступный кумир, — что этой высшей благосклонности, и даже первого поцелуя, он никогда не добьется, он даже не смеет больше о них просить, чтобы не опорочить своих уверений в платонической любви. И так мучительно жалко бывает тогда покинуть жизнь, никогда не изведав, чем может быть поцелуй женщины, которую вы любили больше всего на свете; Сен-Лу, впрочем, удалось добиться от Рахили всех знаков благосклонности. Несомненно, если бы он узнал теперь, что ласки ее предлагались каждому за луидор, то мучительно бы от этого страдал, но тем не менее отдал бы миллион, чтобы их сохранить, ибо все, что он узнал бы, не могло бы заставить его (это выше сил человека и случается только вопреки нашей воле под действием какого-нибудь неотвратимого закона природы) свернуть с пути, по которому он пошел и на котором это прельстившее его лицо могло рисоваться ему лишь сквозь призму его мечтаний, — пути, на котором эти взгляды, эти улыбки, эти движения губ были для него единственным проявлением женщины, чье истинное существо ему так хотелось познать и чьими желаниями владеть единолично. Неподвижность этого невзрачного лица, подобно неподвижности листа бумаги, подвергнувшегося колоссальному давлению двух атмосфер, казалась мне равновесием двух бесконечностей, прикоснувшихся к ней, но не встретившихся, потому что она их разделяла. И, действительно, глядя на нее вдвоем, мы с Робером видели разные стороны тайны.
Не «Рахиль, ты мне дана», которая казалась мне ничтожеством, а могущество человеческого воображения, обман чувств, из которого проистекали муки любви, находил я значительными. Робер видел, что я взволнован. Я отвел глаза на груши и вишни ближайшего сада, чтобы он подумал, будто их красота причина моей растроганности. Она действительно наполняла меня волнением почти того же порядка, являя мне вещи, которые видишь не только глазами, но ощущаешь в своем сердце. Принимая эти деревца в саду за неведомых богов, разве не впадал я в обман, подобный обману Магдалины, когда в день, годовщина которого вскоре наступала, она увидела человеческую форму и «подумала, что это садовник»? Хранители воспоминаний о золотом веке, порука, что действительность не есть то, чем она кажется, что поэзия и невинность могут засверкать в ней пышным блеском и быть воздаянием, которое мы постараемся заслужить, — большие белые создания, дивно склоненные над тенью, благоприятной для отдыха, для рыбной ловли, для чтения, разве не были скорее ангелами? Я обменялся несколькими словами с любовницей Сен-Лу. Мы пошли через деревню. Дома в ней были гнусные. Но возле самых жалких, возле тех, что казались сожженными серным дождем, виден был таинственный путник, остановившийся на один день в проклятом городе, блистающий ангел, широко простерший над ним пышные свои крылья невинности: груша в цвету. Сен-Лу увел меня на несколько шагов вперед:
— Я рад бы был побыть с тобой вместе, я бы даже предпочел позавтракать наедине с тобой и наедине поболтать, пока не наступит время идти с визитом к моей тетке. Но это доставит столько удовольствия моей пташечке, и она, знаешь, так мила со мной, что я не мог ей отказать. Впрочем, она тебе понравится, это женщина литературная, откликающаяся, и с ней так приятно позавтракать в ресторане, она такая милая, такая простая, всегда всем довольна.
Я думаю, однако, что именно в то утро, и, вероятно, впервые, Робер отвлекся на мгновение от женщины, которую, ласка за лаской, он медленно сочинил, и заметил вдруг на некотором расстоянии от себя другую Рахиль, ее двойник, но совершенно на нее непохожий, двойник, представлявший обыкновенную проститутку. Покинув красивые фруктовые сады, мы направились к поезду, чтобы вернуться в Париж, как вдруг на вокзале Рахиль, отделившаяся на несколько шагов от нас, была замечена и остановлена заурядными «девицами», подобными ей самой, которые, считая, что она одна, крикнули ей: «Послушай, Рахиль, поезжай с нами, Люсьена и Жермена уже в вагоне, и возле нас есть как раз одно свободное местечко, ну же, мы пойдем вместе на скетинг», — и уже собирались познакомить ее с двумя приказчиками, своими кавалерами, которые их сопровождали, но, заметив некоторое замешательство на лице Рахили, с любопытством подняли глаза, увидели нас, извинились и попрощались с ней, получив от нее прощальное приветствие, немного смущенное, но дружеское. Это были две бедные проституточки в пальто с воротниками из поддельного котика, имевшие почти такой же вид какой был у Рахили, когда ее впервые встретил Сен-Лу. Он не знал ни их самих ни их имен и, заметив их близость со своей подругой, подумал, что у ней было, может быть, — и есть даже сейчас — место в жизни, о которой он не подозревал, весьма отличной от той, которую он с нею вел, жизни, в которой женщину можно получить за луидор, между тем как он давал Рахили более ста тысяч франков в год. Перед ним лишь на мгновение приоткрылась эта жизнь, но в ее обстановке и Рахиль была совсем иная, чем та, которую он знал, Рахиль, похожая на тех двух проституточек, Рахиль за двадцать франков. Словом, Рахиль на мгновение раздвоилась для него, он заметил на некотором расстоянии от своей Рахили Рахиль-проститутку, реальную Рахиль, если предположить, что Рахиль-проститутка была более реальна, чем Рахиль — его подруга. Может быть у Робера тогда мелькнула мысль, что из ада, в котором он жил, с неизбежной перспективой богатого брака, продажи своего имени, чтобы иметь возможность по-прежнему давать Рахили сто тысяч франков в год, — что из этого ада он, пожалуй, мог бы без труда вырваться и получить ласки своей любовницы, как эти приказчики ласки своих подружек, за какую-нибудь безделицу. Но что поделать. Она ни в чем не провинилась. Меньше задаренная, она была бы менее любезна, не говорила бы ему и не писала бы вещей, которые его так трогали и которыми он немного хвастался перед товарищами, заботливо отмечая, как это мило с ее стороны, но умалчивая о том, что он роскошно ее содержит и даже вообще что-нибудь ей дарит, что эти надписи на фотографической карточке или эти заключительные слова телеграммы являются претворением ста тысяч франков в форму более сжатую и более драгоценную. Хотя он остерегался говорить, что эти редкие любезности Рахили были им оплачены, однако было бы неправильно утверждать (несмотря на то, что при упрошенном ходе мысли это утверждение нелепо применяется ко всем любовникам, которые тратят много денег, и к стольким мужьям), что он делал это из самолюбия, из тщеславия. Сен-Лу был достаточно умен, чтобы отдавать себе отчет в том, что все удовольствия тщеславия он мог бы легко и безвозмездно найти в свете, благодаря своему громкому имени, благодаря своему красивому лицу, и что связь его с Рахилью была, напротив, обстоятельством, до некоторой степени выключавшим его из света, приводившим к более низкой его котировке. Нет, это самолюбивое желание казаться человеком, безвозмездно получающим явные знаки расположения той, которую любишь, есть простое следствие любви, потребность выставлять себя в собственных и чужих глазах любимым тою, — которую так сильно любишь. Рахиль подошла к нам, оставив своих подружек, садившихся в купе вагона; однако не в меньшей степени, чем их поддельный котик и напыщенный вид приказчиков, имена Люсьена и Жермена на мгновение пересоздали Рахиль. На мгновение Сен-Лу вообразил жизнь на площади Пигаль, с неведомыми приятелями, грязными любовными похождениями, наивными развлечениями после полудня, прогулкой или увеселительной поездкой в этом Париже, где солнечное освещение улиц, начиная с бульвара Клиши, показалось ему не тем, что освещение, в котором он гулял со своей любовницей, но совершенно другим, ибо любовь и страдание, составляющее одно с ней, обладают, подобно опьянению, силой менять в наших глазах предметы. Он почуял Париж почти неведомый посреди знакомого Парижа, его связь с Рахилью показалась ему как бы путешествием в чужую страну, ибо хотя Рахиль была в его обществе до некоторой степени похожа на него, однако она все же жила с ним частью своей подлинной жизни, и даже частью наиболее драгоценной, благодаря бешеным деньгам, которые он ей дарил, — частью, которая возбуждала такую зависть к ней ее подруг и позволит ей со временем удалиться в деревню или выступать в больших театрах, когда будут поднакоплены денежки. Роберу хотелось спросить у своей подруги, кто такие Люсьена и Жермена и о чем бы они стали говорить, если бы она села в их купе; каким образом она провела бы вместе с ними день, который, может быть, закончился бы, после катанья на скетинге, грандиозным кутежом в ресторане «Олимпия», если бы с ней не было Робера и меня. На мгновение окрестности «Олимпии», которые до сих пор казались ему убийственно скучными, разожгли в нем мучительное любопытство, а солнце этого весеннего дня, озарявшее улицу Комартен, куда Рахиль, может быть, пошла бы сейчас, не будь она знакома с Робером, и заработала бы луидор, наполнило его неопределенной грустью. Но к чему задавать Рахили вопросы, — ведь он наперед знал, что ответом будет или просто молчание, или ложь, или что-нибудь очень тягостное для него, хотя и ничего не описывающее. Кондуктора закрывали дверцы, мы поспешно вошли в вагон первого класса, изумительные жемчуга Рахили напомнили Роберу, что она женщина очень дорогая, он приласкал ее, вернул в свое сердце и принялся ее созерцать заключенной в нем, как всегда делал до сих пор, — исключая краткого мгновения, когда он ее видел на площади Пигаль, написанной художником-импрессионистом, — и поезд тронулся.
Впрочем, Рахиль действительно была «литературна». Она все время говорила мне о книгах, о новом искусстве, о толстовстве и прерывала свою речь только для упреков Сен-Лу, что он пьет слишком много вина.
— Ах, если бы ты мог пожить год со мной, я бы тебя поила водой, и ты бы чувствовал себя гораздо лучше.
— Решено, уедем.
— Но ведь ты хорошо знаешь, что мне надо много работать (она всерьез взялась за драматическое искусство), — к тому же что скажет твоя семья?
И, обратившись ко мне, она принялась осыпать его семью упреками, которые показались мне, впрочем, совершенно справедливыми и к которым Сен-Лу, не слушавшийся Рахили в отношении шампанского, всецело присоединился. Я же, боявшийся вредного действия вина на Сен-Лу и чувствовавший благотворное влияние его любовницы, готов был посоветовать ему послать семью к чорту. Слезы выступили на глазах молодой женщины, потому что я имел неосторожность заговорить о Дрейфусе.
— Бедный мученик, — сказала она, сдерживая рыдание, — они его там уморят.
— Успокойся, Зезета, он вернется, будет оправдан, ошибка будет признана.
— Но до этого он успеет умереть! По крайней мере хоть его дети будут носить незапятнанное имя. Но подумать только, как он должен страдать, мысль эта прямо убивает, меня! И представьте, мать Робера, женщина набожная, говорит, что ему надо остаться на Чортовом острове, даже если он невинен, — какой ужас, не правда ли?
— Да, совершенно верно, она это говорит, — подтвердил Робер, — я не могу возразить, но, правда, мать моя не так чувствительна, как Зезета.
В действительности эти завтраки, «такие приятные», всегда протекали очень бурно. Ибо едва только Сен-Лу оказывался со своей любовницей в публичном месте, как воображал, что она смотрит на всех присутствующих мужчин, и делался мрачным, она замечала его дурное настроение и, может быть, забавлялась, поддразнивая его, но, вернее, из глупого самолюбия, задетая его тоном, не желала делать попыток его успокоить; она притворялась, что не спускает глаз с того или иного мужчины, что, впрочем, не всегда бывало простой шуткой. Действительно, достаточно было какому-нибудь господину оказаться их соседом в театре или в кафе и даже просто кучеру взятого ими фиакра иметь что-нибудь привлекательное, и Робер, мигом осведомленный ревностью, указывал на это своей любовнице; он немедленно усматривал в таком мужчине одно из тех гнусных существ, которые, как он мне признавался в Бальбеке, для своей забавы развращают и бесчестят женщин, он умолял свою подругу отвернуться и тем самым привлекал к соблазнителю ее внимание. А иногда она находила, что Робер обнаруживает столько вкуса в своих подозрениях, что в заключение даже переставала его поддразнивать, чтобы он успокоился и согласился пойти прогуляться и тем дал ей время поговорить с незнакомцем, условиться о свидании, а иногда даже вступить с ним в мимолетную связь. Я ясно видел, что не успели мы войти в ресторан, как Робер принял озабоченный вид. Дело в том, что он тотчас же заметил ускользнувшее от нас в Бальбеке обстоятельство, а именно, что посреди своих вульгарных товарищей Эме, державшийся скромно, но с блеском, невольно окружал себя романической стихией, которая источается в течение некоторого количества лет из пушистых волос и греческого носа, вследствие чего он выделялся из толпы прочих слуг. Слуги эти, почти все довольно пожилые, представляли коллекцию необыкновенно уродливых и ярко выраженных типов кюре-ханжей, лицемерных духовников, а еще чаще — комических актеров старого времени, лбы которых в форме сахарной головы можно найти теперь, пожалуй, только в собраниях портретов, выставленных в скромных фойе маленьких, вышедших из моды театров, где они изображены в роли лакеев или прелатов; благодаря тщательному отбору прислуги при найме, а может быть, обычаю передавать должности по наследству, ресторан этот, казалось, сохранил их торжественные фигуры в виде некоей жреческой коллегии. К несчастью, Эме нас узнал и сам подошел взять от нас заказ, в то время как процессия опереточных жрецов направлялась к другим столикам. Эме осведомился о здоровьи моей бабушки, а я спросил его, как поживают его жена и дети. Он ответил мне с жаром, потому что был хороший семьянин. Вид у него был умный, энергичный, но почтительный. Любовница Робера принялась глядеть на него как-то чересчур внимательно. Но впалые глаза Эме, которым легкая близорукость придавала скрытую глубину, остались совершенно бесстрастными посреди его неподвижного лица. В провинциальной гостинице, где он служил много лет до перехода в Бальбек, красивый рисунок его лица, теперь немного пожелтевшего и усталого, которое, подобно гравюре, изображающей принца Евгения, годами можно было видеть все на том же месте в глубине почти всегда пустой столовой, вряд ли привлекал к себе много любопытных взглядов. Таким образом, — вероятно за отсутствием знатоков, — ему долго оставалась неведомой художественная ценность собственного лица, к которой, вдобавок, он не склонен был привлекать внимание, потому что отличался холодным темпераментом. Самое большее, проезжая парижанка, остановившись однажды в этом городе, подняла глаза на него, попросила его, может быть, прийти прислуживать ей в номере, перед тем как снова сесть в поезд, и запрятала в прозрачную, однообразную и глубокую пустоту существования этого примерного мужа и провинциального слуги тайну мимолетного каприза, который никто никогда не стал бы разоблачать. Однако Эме, должно быть, заметил настойчивость, с которой глаза молодой актрисы оставались прикованными к нему. Во всяком случае настойчивость эта не ускользнула от Робера, на лице которого я видел сгущение румянца, не яркого, как тот, что заливал его в минуты внезапного возбуждения, но слабого, пятнами.
— Интересный метрдотель, Зезета? — обратился он к своей подруге, после того как довольно резко спровадил Эме. — Можно подумать, что ты хочешь его зарисовать.
— Ну, начинается, я так и знала!
— Что такое начинается, голубушка? Если я провинился, изволь: я ничего не сказал. Но все же я в праве предостеречь тебя против этого лакея, которого я знаю с Бальбека (в противном случае мне бы на него начихать), это такой гад, каких мало на свете сыщешь.
Рахиль сделала вид, что послушалась Робера, и завязала ее мной литературный разговор, в котором принял участие и ее поклонник. Я не скучал, разговаривая с ней, потому что она прекрасно знала произведения, которыми я восхищался, и была почти согласна со мной в своих суждениях; но так как я слышал от г-жи де Вильпаризи, что она бесталанная, то не придавал большого значения этой культуре. Она тонко подшучивала над тысячью вещей и была бы по-настоящему мила, если бы не раздражала постоянным употреблением жаргона литературных кружков и художественных мастерских. Она распространяла его на все, так что, усвоив, например, привычку говорить: «Ах, это хорошо», о картинах, если они были импрессионистические, или об операх, если они были вагнеровские, — она однажды сказала молодому человеку, который поцеловал ее в ухо и, тронутый ее притворной дрожью, напустил на себя вид скромника: «Нет, как ощущение, я нахожу, что это хорошо». Но больше всего меня удивляло то, что она при Робере и Робер при ней постоянно употребляли излюбленные выражения моего друга (впрочем, они были, может быть, позаимствованы им у литераторов, с которыми она его познакомила), точно без этого языка невозможно было обойтись и не отдавая себе отчета в ничтожестве оригинальности, являющейся общим достоянием.
За едой Рахиль так неловко действовала руками, что невольно внушала мысль, что и на сцене, играя в комедии, она такая же неуклюжая. Она обретала ловкость только в любви, благодаря трогательному предвидению женщин, которые так любят мужское тело, что сразу же угадывают все, что доставит ему наибольшее удовольствие, несмотря на полное его несходство с их собственным телом.
Я перестал принимать участие в разговоре, когда речь зашла о театре, потому что в этой области Рахиль была очень недоброжелательна. Правда, она соболезнующим тоном выступила на защиту Бермы — против Сен-Лу, показывая тем, что она часто на нее нападала при нем, — говоря: «О, нет, это женщина замечательная. Понятно, то, что она делает, нас больше не трогает, это совершенно не соответствует больше тому, чего мы ищем, но ее надо помещать в эпохе, когда она начала выступать, театр ей многим обязан. Она хорошо работала, не спорь. К тому же это такая славная женщина, у нее такое доброе сердце, она, понятно, не любит вещей, которые нас интересуют, но наряду с волнующим лицом она обладала также прекрасными качествами ума». (Пальцы по-разному сопровождают разные эстетические суждения. Если дело идет о живописи, то, чтобы показать, что картина хороша, написана сочно, довольно выставить большой палец. Но «прекрасные качества ума» более требовательны. Они нуждаются в двух пальцах или, вернее, в двух ногтях, как если бы вы собирались скинуть пылинку.) Но — за этим исключением — любовница Сен-Лу говорила о самых известных артистах тоном иронии и превосходства, который меня раздражал, так как я ставил ее — совершая в этом ошибку — напротив, ниже их. Рахиль отлично заметила, что я считаю ее посредственностью и, наоборот, отношусь с большим почтением к тем, кого она презирала. Но она не обижалась, потому что большому, еще не признанному таланту, вроде таланта самой Рахили, как бы ни был он уверен в себе, свойственна некоторая скромность, и мы требуем уважения к себе в соответствии не с нашими скрытыми дарованиями, а с приобретенным нами положением. (Час спустя, в театре, я убедился, что любовница Сен-Лу относится гораздо почтительнее к тем самым артистам, которых так сурово критиковала.) Вот почему, как ни мало сомнений должно было оставить в ней мое молчание, она громко настаивала, чтобы мы пообедали вечером вместе, уверяя, что ей ни с кем еще не было так приятно разговаривать, как со мной. Хотя мы и не были еще в театре, куда должны были пойти после завтрака, но было такое впечатление, будто мы находимся в «фойе», украшенном старинными портретами труппы: так много было сходства (В метрдотелях с как будто исчезнувшими теперь фигурами целого поколения замечательных актеров Пале-Рояля; они похожи были также на академиков, когда кто-нибудь из них останавливался перед буфетом и осматривал груши с пытливым и бесстрастным лицом г-на де Жюсье, а другие, рядом с ним, окидывали зал теми любопытными и холодными взглядами, какими уже приехавшие члены Института окидывают публику, обмениваясь короткими, не долетающими до нее фразами. То были фигуры, давно известные завсегдатаям. Однако среди них указывали на новичка с изрытым носом и с губами ханжи, имевшего вид церковника и сегодня в первый раз вступившего в должность, так что каждый с интересом смотрел на него. Вскоре, может быть, для того, чтобы спровадить Робера и остаться наедине с Эме, Рахиль начала строить глазки молодому биржевику, завтракавшему с приятелем за соседним столиком.
— Зезета, я тебя попрошу не смотреть так на этого молодого человека, — сказал Сен-Лу, на лице которого бесформенные пятна давешнего румянца сгустились в кровавое облако, заливавшее и омрачавшее вытянувшиеся черты моего друга, — если ты желаешь сделать нас предметом всеобщего внимания, то я предпочитаю завтракать отдельно и подождать тебя в театре.
В этот момент Эме доложили, что какой-то господин просит его выйти поговорить с ним у дверцы его кареты. Сен-Лу, всегда беспокоившийся и опасавшийся передачи какого-нибудь любовного послания своей подруге, выглянул в окно и увидел г-на де Шарлюса, сидевшего в глубине кареты со сложенными руками в полосатых перчатках и с цветком в петлице.
— Ты видишь, — сказал он мне шопотом, — родные преследуют меня и здесь. Прошу тебя, — сам я не могу это сделать, но ты ведь хорошо знаешь метрдотеля, который наверное нас выдаст, так попроси его, пожалуйста, не выходить к карете. Пусть выйдет какой-нибудь официант, который меня не знает. Если моему дяде скажут, что меня не знают, то, я уверен, он не зайдет сам в кафе, он терпеть не может такие места. Все-таки разве не противно, что этакой старый волокита, и до сих пор не остепенившийся, постоянно читает мне наставления и приезжает шпионить за мной!
Получив от меня инструкции, Эме послал одного из своих подручных, который должен был передать, что сам Эме не может отлучиться; а если спросят маркиза де Сен-Лу, так пусть он скажет, что его здесь не знают. Карета тотчас уехала. Но любовница Сен-Лу, не слышавшая нашего разговора шопотом и вообразившая, что речь идет о молодом человеке, которому, как упрекал ее Робер, она строила глазки, разразилась бранью:
— Ну, вот! Теперь этот молодой человек? Хорошо, что ты меня предупредил. Ах, как восхитительно завтракать в таких условиях! Не обращайте внимания на то, что он говорит, он чувствует себя задетым, а главное, — прибавила она, повернувшись ко мне, — он так говорит в уверенности, что это элегантно, что ревность придает ему вид большого барина.
И, разнервничавшись, она застучала кулаками и затопала ногами.
— Но ведь, Зезета, это мне неприятно. Ты нас делаешь смешными в глазах этого господина, который будет убежден, что ты с ним заигрываешь; он мне кажется ужасно противным.
— А мне, напротив, он очень нравится. Прежде всего у него очаровательные глаза, и по его манере смотреть на женщин чувствуется, что он должен их любить.
— Помолчи, по крайней мере, пока я уйду, если ты сошла с ума, — воскликнул Робер. — Человек, пальто!
Я не знал, надо ли мне уйти вслед за ним.
— Нет, я чувствую потребность побыть один, — сказал он мне тем же тоном, каким только что разговаривал со своей любовницей, точно он был сердит на меня. Гнев его похож был на оперную музыкальную фразу, на мотив которой поется несколько реплик, совершенно различных по смыслу и характеру, но объединяемых ею в одинаковом чувстве. Когда Робер ушел, подруга его подозвала Эме и принялась его расспрашивать. Потом она пожелала узнать мое мнение о нем.
— У него забавный взгляд, не правда ли? Чего мне хочется, так это знать, о чем он может думать, часто пользоваться его услугами, взять его с собой в путешествие. Но не больше. Если бы приходилось любить всех людей, которые вам нравятся, то, в сущности, это было бы ужасно. Робер зря строит всякие предположения. Все это у меня только в голове, Робер может быть покоен. — Она не отрываясь смотрела на Эме. — Поглядите-ка на его черные глаза: хотелось бы мне знать, что под ними кроется.
Вскоре пришли сказать, что Робер просит ее в отдельный кабинет, куда он отправился кончать завтрак через другой вход, минуя залу ресторана. Я оказался таким образом в одиночестве, пока наконец Робер не прислал и за мной. Я застал его любовницу лежавшей на софе и смеявшейся, в то время как он осыпал ее ласками и поцелуями. Они пили шампанское. «Здравствуйте, вы!» — говорила она ему, потому что усвоила недавно эту формулу, казавшуюся ей последним словом нежности и остроумия. Я плохо позавтракал, плохо себя чувствовал и, совершенно независимо от слов Леграндена, жалел, что начинаю в кабинете ресторана и кончу за кулисами театра эту вторую половину первого весеннего дня. Взглянув предварительно на часы, чтобы удостовериться, не опоздает ли она, Рахиль налила мне шампанского, предложила «восточную папиросу и отколола для меня розу от своего корсажа. Я сказал себе тогда: мне нечего слишком жалеть о неудачном дне; часы, проведенные возле этой молодой женщины, для меня не потеряны, потому что благодаря ей у меня есть вещи очаровательные, за которые нельзя заплатить слишком дорого: роза, душистая папироса, бокал шампанского. Я говорил себе это, так как мне казалось, что, придавая этим часам скуки эстетическую окраску, я их оправдываю и спасаю. Но, может быть, мне следовало подумать, что уже одна моя потребность найти обстоятельство, которое меня бы утешило в моей скуке, достаточно доказывала, что я не ощущал ничего эстетического. Что касается Робера и его любовницы, то у них как будто не осталось и воспоминания о только что происшедшей между ними размолвке и о том, что я был ее свидетелем. Они не делали на нее ни малейшего намека, не искали никаких извинений ни для нее ни для теперешнего своего поведения, составлявшего такой резкий контраст с нею. Благодаря выпитому с ними шампанскому я начал ощущать то опьянение, которое испытывал в Ривбеле, впрочем, едва ли точно такое же. Не только каждый вид опьянения, начиная с опьянения солнцем или путешествием и кончая опьянением усталостью или вином, но и каждая степень опьянения, которые следовало бы отмечать различными цифрами вроде тех, что показывают глубины моря, обнажает в нас особенного человека как раз на той глубине, где он находится. Кабинет, в котором мы сидели, был маленький, но единственное украшавшее его зеркало стояло так, что в нем отражалось десятка три других зеркал, уходивших в бесконечную даль; и электрическая лампочка над рамой этого зеркала, сопровождаемая по вечерам, когда ее зажигали, процессией тридцати подобных ей отражений, должна была внушать даже одинокому пьянице мысль, что окружающее его пространство раздвигается одновременно с нарастанием его возбужденных вином ощущений и что, несмотря на одиночное пребывание в этой комнатке, он царит над чем-то уходящим куда глубже в бесконечные светозарные дали, чем самая длинная аллея парижского Ботанического сада. И вот, будучи в ту минуту этим пьяницей, я вдруг заметил его в зеркале: безобразный, незнакомый, он смотрел на меня. Приятное чувство хмеля было сильнее отвращения: от радости или из бравады я ему улыбнулся, и в это же самое время на его лице тоже появилась улыбка. И я до такой степени чувствовал себя в мимолетной и мощной власти минуты, когда ощущения достигают необыкновенной силы, что, пожалуй, единственной моей печалью была мысль, не доживает ли последнего дня это замеченное мной мое ужасное «я», так что я никогда больше на своем веку не встречу этого незнакомца.
Робера сердило только, что я не хочу блеснуть перед его любовницей.
— Ну-ка, расскажи ей про того господина, которого ты встретил сегодня утром, расскажи, как у него снобизм сочетается с астрономией, я хорошенько не помню, — и он искоса посмотрел на Рахиль.
— Но ведь, голубчик, о нем нечего больше сказать сверх только что сказанного тобой.
— Ты несносен. Тогда расскажи о Франсуазе на Елисейских Полях, это ей страшно понравится.
— Да, да! Бобби мне столько говорил о Франсуазе. — И, взяв Сен-Лу за подбородок и повернув его к свету, она повторила вследствие недостатка изобретательности: «Здравствуйте, вы!»
С тех пор как актеры перестали быть для меня исключительными хранителями в своей дикции и игре некоей художественной истины, они начали меня интересовать сами по себе; воображая, что передо мной персонажи старого комического романа, я забавлялся при виде того, как с появлением в зале нового лица, только что вошедшего молодого барина, инженю рассеянно слушала признание первого любовника в пьесе, между тем как этот последний в разгар страстной тирады украдкой бросал пламенные взгляды на пожилую даму в соседней ложе, великолепные жемчуга которой поразили его воображение; таким образом, особенно благодаря сведениям о частной жизни актеров, которые мне давал Сен-Лу, я видел другую, немую и выразительную пьесу, разыгрывавшуюся на фоне пьесы театральной, которая, впрочем, несмотря на невысокое ее качество, меня интересовала; ибо я чувствовал, как растут и распускаются на час при свете рампы в душе актера слова роли, рожденные налепленным на его лицо другим лицом из румян и картона.
Эти эфемерные и живучие индивидуальности — персонажи пьесы, тоже пленительной, — которых мы любим, которыми мы восхищаемся, которых мы жалеем и которых нам хотелось бы увидеть вновь, после того как мы покинули театр, но которые уже распались на актеров, утративших положение, занимаемое ими в пьесе, на текст, не показывающий больше лица актеров, на цветную пудру, удаляемую носовым платком, которые, словом, обратились в элементы, не имеющие больше ничего общего с ними вследствие этого распада, наступающего сейчас же по окончании спектакля, — индивидуальности эти, подобно индивидуальности любимого существа, внушают сомнение в реальности человеческого «я» и заставляют задумываться о тайне смерти.
Один номер программы оставил во мне крайне тяжелое впечатление. Должна была дебютировать исполнением старинных романсов одна молодая женщина, возлагавшая на этот дебют все свои надежды. Женщину эту терпеть не могла Рахиль и некоторые ее подруги. У нее был слишком выпуклый зад, почти до смешного, и красивый, но тоненький голос, который еще более ослабел от волнения и находился в резком контрасте с ее мощной мускулатурой. Рахиль рассадила в зале несколько своих приятелей и приятельниц, которым поручено было смущать саркастическими замечаниями и без того робкую дебютантку, лишить ее самообладания, так чтобы она потерпела полное фиаско, после которого директор не согласился бы заключить с ней договор. После первых же нот несчастной некоторые навербованные с этой целью зрители со смехом начали поворачиваться к ней спиной, некоторые женщины, находившиеся с ними в сговоре, громко рассмеялись, каждая тоненькая нота увеличивала шумное веселье, которое обращалось в скандал. Несчастная дебютантка, мучительно потевшая под румянами, попробовала одно мгновение бороться, потом окинула публику страдальческим, негодующим взглядом, который только удвоил шиканье. Инстинкт подражания, желание показаться остроумными и смешными увлекли хорошеньких актрис, не участвовавших в сговоре, но поглядывавших на зачинщиков с видом сообщниц и корчившихся от смеха, так что по окончании второго романса, несмотря на наличие в программе еще пяти номеров, режиссер приказал опустить занавес. Я прилагал все усилия не думать об этом инциденте, как в свое время отгонял мысль о страданиях бабушки, когда мой двоюродный дядя, чтобы ее подразнить, заставлял дедушку пить коньяк, — зрелище человеческой злобы всегда было для меня чрезвычайно мучительным. И все же, подобно тому как жалость к несчастью не является, пожалуй, вполне адекватной, ибо мы воссоздаем воображением все муки, которыми несчастному, вынужденному с ним бороться, некогда бывает растрогаться, злоба тоже лишена, вероятно, в душе злого человека той чистой и сладострастной жестокости, которую нам так мучительно воображать. Его одушевляет ненависть, гнев наполняет его горячностью и возбуждением, в которых не содержится ничего слишком радостного; понадобился бы садизм, чтобы извлечь отсюда удовольствие; злой думает, что страдание он причиняет злому. Рахиль наверно воображала, что актриса, которую она изводила, была далеко не интересна и что, во всяком случае, подняв ее насмех, она выступала на защиту хорошего вкуса и давала урок плохой товарке. Тем не менее я предпочел не заговаривать об этом инциденте, потому что не имел ни мужества ни силы ему помешать, и мне было бы неприятно, отзываясь хорошо о жертве, уподоблять злорадству жестокости чувства, одушевлявшие палачей этой дебютантки.
Но начало этого представления заинтересовало меня и в другом отношении. Оно мне отчасти уяснило природу иллюзии, жертвой которой стал Сен-Лу по отношению к Рахили и которая воздвигла пропасть между моим и его образами этой женщины, когда мы ее видели сегодня утром под цветущими грушами. Рахиль играла роль чуть ли не простой статистки в маленькой пьесе. Но со сцены она казалась другой женщиной. Рахиль обладала одним их тех женских лиц, которые издали — и не обязательно с театральных подмостков, ведь весь мир в этом отношении есть лишь большой театр — рисуются рельефно, а на близком расстоянии рассыпаются в прах. Поместившись рядом с ней, вы видели лишь туманность, млечный путь веснушек и маленьких прыщиков — и больше ничего. На приличном расстоянии все это переставало быть видимым, и над тусклыми, обесцвеченными щеками поднимался как лунный серп такой тонкий и чистый нос, что хотелось привлечь к себе внимание Рахили, вновь видеть ее, когда вздумается, завладеть ею и держать возле себя, если иначе ее нельзя было бы видеть и притом вблизи! Я говорю не о собственных чувствах, а о чувствах Сен-Лу, когда он увидел ее игру в первый раз. Тогда он задался вопросом, как к ней подойти, как с ней познакомиться, ему открылось дивное царство, в котором жила она, откуда текли сладостные излучения, но куда ему не было доступа. Он покинул театр, говоря себе, что было бы безумием ей написать, что она ему не ответит, готовый без колебания отдать свое состояние и свое имя ради существа, жившего в нем в мире, бесконечно возвышавшемся над хорошо известной ему действительностью, мире, украшенном желанием и мечтами, и тут увидел выходившую через артистический подъезд театра — маленького старинного здания, которое само имело вид театральной декорации, — веселую, нарядную кучку игравших в пьесе актрис. Знакомые с ними молодые люди стояли невдалеке, поджидая их. Число пешек-людей меньше числа сочетаний, которые из них могут образоваться, так что в каком-нибудь зале, где нет ни одной знакомой женщины, оказывается та, которую мы отчаялись когда-нибудь увидеть вновь и которая приходит так кстати, что случай кажется нам провиденциальным, между тем как его мог бы, вероятно, заменить другой случай, если бы мы находились не в этом, а в другом месте, где у нас родились бы другие желания и где нам повстречалась бы какая-нибудь другая старая знакомая, к которой мы бы подошли. Золотые врата мира грез затворились за Рахилью, прежде чем Сен-Лу увидел ее выход из театра, так что веснушки и прыщи имели мало значения. Они ему однако не понравились, тем более что, будучи на этот раз не один, он не обладал той силой воображения, как в театре. Но Рахиль театральная, хотя он не мог больше ее увидеть, продолжала управлять его поступками, подобно светилам, которые правят нами силою своего притяжения даже в часы, когда остаются невидимыми для наших глаз. Вот почему желание, возбужденное в нем актрисой с тонкими чертами, которые даже не сохранились в воспоминании Робера, привело к тому, что, натолкнувшись на случайно присутствовавшего старого товарища, он заставил представить себя веснущатой особе с расплывчатыми чертами, так как это была та самая, что пленила его на сцене, и отложил на будущее время попытку выяснить, которой же из двух была она в действительности. Она торопилась, так что даже не сказала Сен-Лу ни слова, и лишь через несколько дней он мог, наконец добившись, чтобы она покинула своих товарищей, проводить ее домой. Он уже любил ее. Потребность отдаться мечте, желание быть осчастливленным той, о которой мы мечтали, обладают такой силой, что не надо много времени для того, чтобы доверить все свои шансы счастья женщине, которая несколькими днями ранее была всего лишь безразличной нам незнакомкой, неожиданным видением на театральных подмостках.
Когда занавес опустился, мы пошли на сцену; чувствуя робость на этой возвышенной площадке, я решил начать оживлений разговор с Сен-Лу; при этом условии мое поведение — ибо я не знал, как мне следует держаться в этих новых для меня местах, — всецело определялось бы нашей беседой, и со стороны можно было бы подумать, что я так ею поглощен и так рассеян, что на лице моем естественно нельзя увидеть выражения, подобающего для этого места: ведь, судя по тому, что я говорил, я почти не сознавал, где я. Ухватившись за первую попавшуюся тему, я с жаром начал:
— Ты, знаешь, Робер, я заходил к тебе попрощаться в день моего отъезда, у нас еще не было случая об этом поговорить. Я тебе поклонился на улице.
— Ах, не говори мне об этом, — отвечал Робер, — я так был огорчен; мы встретились возле самых казарм, но я не мог остановиться, потому что уже сильно запаздывал. Уверяю тебя, я был глубоко опечален.
Так, значит, он меня узнал! Я отчетливо помнил совершенно безличное приветствие, которое он адресовал мне, подняв руку к козырьку кепи и не сопроводив его ни взглядом, свидетельствовавшим, что он меня узнал, ни жестом, выражавшим сожаление, что он не может остановиться. По-видимому, притворившись тогда, будто он меня не узнал, Робер упрощал себе множество вещей. Но я был ошеломлен молниеносностью, с которой он принял свое решение, так что ни один мускул не успел выдать его первое впечатление. Уже в Бальбеке я заметил, что наряду с простодушной искренностью его лица, прозрачная кожа которого позволяла видеть внезапное зарождение многих эмоций, тело его было изумительно выдрессировано воспитанием для некоторых видов притворства, требуемых правилами приличия, и, подобно искусному актеру, он мог в своей полковой жизни и в жизни светской играть одну за другой различные роли. В одной из этих ролей он меня беззаветно любил, он вел себя по отношению ко мне как родной брат; да, он был моим братом и снова им стал, но на мгновение превратился в человека постороннего, незнакомого со мной, который, вставив в глаз монокль и держа вожжи, с каменным лицом поднес руку к козырьку кепи, чтобы корректно поздороваться со мной по-военному!
Еще не убранные декорации, между которыми я проходил, лишенные вблизи всего эффекта, придаваемого им расстоянием и освещением и точно рассчитанного написавшим их большим художником, имели вид жалкий, и действие силы разрушения не в меньшей степени сказалось и на Рахили, когда я подошел к ней. Точь-в-точь как рельефность декораций, очертания ее прелестного носа остались где-то в пространстве между зрительным залом и сценой. Это была не она, я ее узнал лишь по глазам, в которых укрылось ее тожество. Исчезли форма и блеск этого юного светила, недавно еще столь яркого. Зато, как если бы мы приблизились к луне и она перестала нам казаться розовой и золотой, на этом только что столь гладком лице я различал теперь одни лишь протуберанцы, пятна, рытвины. Но, несмотря на бесформенность, в которую превращались вблизи не только женское лицо, но и раскрашенные полотна, я рад был очутиться на сцене, бродить между декораций, в этой обстановке, которую некогда из любви к природе я нашел бы скучной и искусственной, но которой описание Гете в «Вильгельме Мейстере» придало в моих глазах известную красоту; и я был уже пленен, заметив посреди журналистов, светских людей и приятелей актрис, которые здоровались, разговаривали, курили, как где-нибудь в гостиной, молодого человека в черной бархатной шапочке, в юбочке цвета гортензии, с нарумяненными щеками, точно страница из альбома Ватто; растянув рот в улыбку, устремив глаза в небо, делая ладонями грациозные движения и слегка подпрыгивая, он казался существом настолько инородным этим рассудительным людям в пиджаках и сюртуках, между которыми он носился как безумец, увлеченный своей восторженной мечтой, настолько чуждым их заботам, настолько незнакомым с привычками их цивилизации, настолько неподвластным законам природы, что следить глазами за непринужденными узорами, которые вычерчивались среди крашеных холстов крылатыми, причудливыми, гримированными прыжками, было так же успокоительно и отрадно, как видеть мотылька, заблудившегося в людской толпе. Но в это самое мгновение Сен-Лу вообразил, что его любовница слишком засмотрелась на танцора, в последний раз повторявшего фигуру дивертисмента, в котором он готовился выступить, и лицо его потемнело.
— Ты могла бы смотреть в другую сторону, — сказал он ей с мрачным видом. — Ты знаешь, эти плясуны не стоят каната, на который хорошо если бы они поднимались, чтобы сломать себе шею, и они пойдут потом хвастаться, что ты на них засматривалась. Кроме того ты ведь слышишь, тебе велят идти в уборную одеваться. Ты опоздаешь.
Трое мужчин — журналисты — увидев возбужденное лицо Сен-Лу, подошли с любопытством, чтобы послушать, что он говорит. Так как на другой стороне устанавливали декорацию, то мы оказались прижатыми к ним.
— Но ведь я его знаю, это мой приятель, — воскликнула любовница Сен-Лу, глядя на танцора. — Вот кто прекрасно сложен, вы только посмотрите на эти маленькие руки, которые танцуют, как и все остальное в нем!
Танцор повернул к ней голову, и его человеческая личность проглянула из-под сильфа, роль которого он разучивал: серое студенистое вещество его глаз дрогнуло и заблестело между накрашенными ресницами, и улыбка растянула в обе стороны его рот на красном, размалеванном пастелью лице; затем, чтобы занять молодую женщину, подобно певице, из любезности напевающей вам арию, за которую вы ее расхваливаете, он принялся воспроизводить движение ладонями, передразнивая самого себя с тонкостью пастишера и шаловливостью ребенка.
— Ах, как это мило, эта идея копировать себя! — воскликнула Рахиль, хлопая в ладоши.
— Умоляю тебя, милочка, — сказал Сен-Лу страдальческим голосом, — не выставляй себя на посмешище, ты меня убиваешь; клянусь, что, если ты скажешь еще хоть слово, я тебя не провожу в твою уборную и ухожу; ну, пожалуйста, не будь злою.
— Не стой в сигарном дыме, тебе будет худо, — обратился ко мне Сен-Лу с заботливостью, которую проявлял еще с пребывания в Бальбеке.
— Ах, какое счастье, если ты уйдешь!
— Предупреждаю тебя, что я больше не вернусь.
— Не смею на это надеяться.
— Послушай, я пообещал тебе колье, если ты будешь милой, но раз ты так со мной обращаешься…
— Ничего другого я от тебя и не ожидала. Ты пообещал мне, значит, я могла быть уверена, что ты не исполнишь обещания. Ты хочешь раструбить, что у тебя есть деньги, но я не такая корыстная, как ты. Плевать мне на твое колье. Найдется другой, кто мне его подарит.
— Никто другой не сможет его тебе подарить, потому что я оставил его за собой у Бушерона и взял с него слово, что он никому его не продаст, кроме меня.
— Ну, конечно, ты хотел меня пошантажировать и заранее принял все предосторожности. Это и есть то, что называется Марсант, Mater Semita, как в этом хорошо чувствуется твоя порода, — отвечала Рахиль, повторяя этимологию, которая покоилась на грубом извращении смысла (ибо «semita» означает «тропинка», а не «семитка»), но прилагалась к Сен-Лу националистами за его дрейфусарские взгляды, впрочем, заимствованные им у актрисы. Ей меньше, чем кому-либо, подходило обзывать еврейкой г-жу де Марсант, у которой великосветские этнографы не могли найти ничего еврейского, кроме ее родства с Леви-Мирпуа. — Но все это еще вилами по воде писано, будь уверен. Слово, данное при таких условиях, ничего не стоит. Ты поступил со мной предательски. Бушерон об этом узнает, и ему заплатят вдвое за его колье. Скоро ты обо мне услышишь, будь спокоен.
Робер был сто раз прав. Но конкретная обстановка всегда бывает так запутана, что человек сто раз правый может один раз впасть в ошибку. И я невольно припоминал неприятные, но, впрочем, совершенно невинные слова, сказанные им в Бальбеке: «Поступая так, я имею преимущество над ней».
— Ты плохо поняла то, что я тебе говорил о колье. Я не обещал его тебе безоговорочно. Теперь, когда ты все делаешь, чтобы я тебя покинул, вполне естественно, я его тебе не подарю, — не понимаю, где ты видишь здесь предательство или корысть. Никто не может сказать, что я звоню о моих деньгах, я ведь всегда тебе говорил, что я бедняк и гроша за душой не имею. Напрасно ты так смотришь на вещи, милочка. Почему я корыстен, в чем я заинтересован? Ты отлично знаешь, что единственный мой интерес — это ты.
— Да, да, рассказывай! — проговорила иронически Рахиль, делая жест человека, который вас бреет. И она повернулась к танцору:
— Правда, он чудеса делает своими руками! Я женщина, а не могла бы сделать того, что он делает. — И, показывая ему на перекошенное лицо Робера: — Гляди, он страдает! — прошептала она в мимолетном порыве садической жестокости, которая, впрочем, не шла ни в какое сравнение с ее подлинной привязанностью к Сен-Лу.
— В последний раз говорю тебе! Клянусь, что бы ты ни делала, как бы ни жалела через неделю, я не вернусь, чаша переполнена; имей в виду, это бесповоротно; когда-нибудь ты пожалеешь, да будет поздно.
Может быть он был искренен, и разлука с любовницей казалась ему менее жестокой, чем продолжение связи при таких условиях.
— А ты, мой милый, — прибавил он, обращаясь ко мне, — не оставайся здесь, повторяю тебе, ты раскашляешься.
Я показал ему на декорацию, мешавшую мне сдвинуться с места. Он поднес руку к шляпе и сказал журналисту:
— Мосье, не соблаговолите ли вы бросить вашу сигару: мой друг не переносит дыма.
Не дожидаясь его, Рахиль направилась к своей уборной и по пути обернулась.
— Они и с женщинами так обращаются, эти маленькие руки? — бросила она танцору из глубины театра деланно мелодическим и простодушным голосом инженю: «Ты сам похож на женщину, я думаю, можно отлично столковаться с тобой и с одной моей приятельницей».
— Здесь не запрещается курить, насколько мне известно; а если кто болен, так пусть сидит дома, — сказал журналист.
Танцор таинственно улыбнулся актрисе.
— Молчи, ты меня с ума сводишь, — крикнула она ему, — это нам поставят в счет!
— Во всяком случае, мосье, вы не очень любезны, — сказал Сен-Лу журналисту все тем же вежливым и мягким тоном, с видом человека, ретроспективно констатирующего, что инцидент исчерпан.
В это мгновение я увидел, что Сен-Лу вертикально поднимает руку над головой, как если бы он делал знак кому-то мне невидимому или дирижировал оркестром, — и действительно, — без всякого перехода, вроде того как в симфонии или в балете грациозное анданте по взмаху смычка сменяется бешеными ритмами, — после только что сказанных вежливых слов он раскатистой оплеухой обрушил свою руку на щеку журналиста.
Теперь, когда размеренные речи дипломатов и ласкающие взор мирные искусства сменились яростным вихрем войны, я бы не слишком удивился, — удар вызывает удар, — если бы увидел противников, плавающих в луже крови. Но я совершенно не мог понять (подобно людям, которые находят, что война между двумя странами, когда речь идет еще только об исправлении границы, или смерть больного, когда речь шла лишь об опухоли печени, противны всяким правилам), каким образом слова, окрашенные любезностью, Сен-Лу способен был заключить жестом, который нисколько не вытекал из них, которого они не предвещали, — жестом руки, поднявшейся не только вопреки всякому праву, но и в нарушение закона причинности, как самопроизвольное порождение гнева, — жестом, созданным ex nihilo. К счастью, журналист, пошатнувшийся от жестокого удара, несколько мгновений пребывал в нерешительности и не дал отпора. Что же касается его приятелей, то один тотчас отвернул голову и начал внимательно смотреть в направлении кулис на кого-то, явно не существующего, второй притворился, будто ему в глаз попала соринка, и принялся со страдальческими гримасами тереть себе веко, а третий бросился прочь, восклицая:
— Боже мой, сейчас поднимут занавес, мы потеряем наши места!
Я хотел заговорить с Сен-Лу, но негодование на танцора настолько его переполняло, что подошло вплотную к поверхности зрачков; точно некий костяк, оно распирало ему щеки, так что его внутреннее возбуждение выражалось полной внешней неподвижностью; в нем не было свободного местечка даже для того, чтобы воспринять мои слова и на них ответить. Приятели журналиста, увидя, что все окончено, вернулись к нему, еще дрожащие. Но, стыдясь своего дезертирства, они изо всех сил старались уверить его, будто решительно ничего не заметили. Поэтому они много говорили, один — о попавшей ему в глаз соринке, другой — об овладевшей им тревоге по случаю воображаемого поднятия занавеса, третий — о необыкновенном сходстве прошедшего мимо господина с его братом. Они даже выразили некоторую досаду при виде его безучастия к их волнениям.
— Как, неужели это тебя не поразило? У тебя, значит, плохое зрение?
— Ох, и трусы же вы, господа, — проворчал получивший пощечину журналист.
Забыв, что это не вяжется с выдуманными ими историями, так как в противном случае им следовало бы сделать вид, будто они не понимают, что он хочет сказать, все трое произнесли традиционную при таких обстоятельствах фразу: «Вот ты и рассердился, не горячись по пустякам, ишь, как удила закусил!»
Утром у цветущих груш я разгадал иллюзию, на которой покоилась любовь Сен-Лу к «Рахиль, ты мне дана», теперь я убедился также в подлинной реальности проистекавших из этой любви страданий. Мало-помалу то, которое он испытывал вот уже в течение часа, не то что прекратилось, а сжалось, вошло внутрь его, незанятая, подвижная зона появилась в его глазах. Мы покинули вдвоем театр и решили немного побродить. На мгновение я задержался на углу авеню Габриэль, откуда часто видел когда-то появление Жильберты. В течение нескольких секунд я пробовал припомнить те далекие впечатления и намеревался догнать Сен-Лу беглым шагом, как вдруг заметил, что с ним заговаривает какой-то господин, довольно плохо одетый. Я решил, что это кто-нибудь из приятелей Робера; тем временем они как будто еще ближе подошли друг к другу; вдруг я увидел, подобно астральному явлению на небе, мелькание каких-то яйцевидных тел, которые с головокружительной быстротой занимали перед Сен-Лу все мыслимые положения в пределах некоего неустойчивого созвездия. Казалось, что они пущены пращой, и я насчитывал их не менее семи. То были, однако, всего лишь два кулака Сен-Лу, умноженные быстротою перемещения в этом декоративном и с виду совершенном созвездии. Словом, вся эта хитрая штука была не чем иным, как градом ударов, которые сыпал Сен-Лу, и агрессивный, а не эстетический характер которых мне открылся впервые после того, как я обратил внимание на вид неважно одетого господина, потерявшего сразу все свое достоинство, челюсть и много крови. Он дал какие-то ложные объяснения подошедшим к нему людям, обернулся и, увидев, что Сен-Лу окончательно уходит по направлению ко мне, принялся глядеть на него с видом подавленным и обозленным, но ничуть не свирепым. Сен-Лу, напротив, рассвирепел, хотя и не получил ни одного удара, и глаза его еще сверкали от гнева, когда он подошел ко мне. Инцидент этот не находился ни в какой связи, как я было подумал, с театральными пощечинами. Просто пылкий прохожий, увидев красивого военного, стал делать ему гнусные предложения. Приятель мой не мог опомниться от наглости этой «шайки», которая не дожидалась даже ночной темноты для своих похождений; он говорил о сделанных ему предложениях с тем негодованием, с каким газеты пишут о грабежах среди бела дня в центральных кварталах Парижа. Однако избитого субъекта можно было извинить, поскольку наклонная плоскость с большой быстротой приближает желание к наслаждению, так что одно наличие красоты уже представляется согласием. А Сен-Лу бесспорно был красавцем. Удары кулаком, вроде только что им отпущенных, приносят людям типа прохожего, приставшего к нему на улице, ту пользу, что наводят их на серьезные размышления, правда, довольно кратковременные для того, чтобы они могли исправиться и избежать таким образом судебных наказаний. Таким образом, хотя Сен-Лу задал взбучку без долгих размышлений, все подобные уроки, даже если они приходят на помощь законам, не ведут к гомогенизации нравов.
Эти происшествия, в особенности то, о котором он думал больше всего, внушили, должно быть, Роберу желание побыть немного в одиночестве. Через несколько минут он предложил мне расстаться и пойти одному к г-же де Вильпаризи, сказав, что он меня там встретит, но предпочитает не входить со мной в одно время, желая иметь вид человека, только что прибывшего в Париж, и не давать повода для предположения, что мы уже провели часть дня вместе.
Как я и догадывался, еще до знакомства с г-жой де Вильпаризи в Бальбеке, существовало большое различие между окружавшей ее средой и средой герцогини Германтской. Г-жа де Вильпаризи была одной из тех женщин, которые, несмотря на знатность своего происхождения и не меньшую знатность своих мужей, не занимают все же высокого положения в свете и, если исключить нескольких герцогинь, их племянниц или невесток, и даже одну или две коронованные головы, старых знакомых их семьи, видят в своем салоне только публику третьего сорта, буржуазию да провинциальную или подмоченную знать, присутствие которой давно удалило оттуда людей элегантных и снобов, не обязанных приходить по долгу родства или давнишней близости. Уже через несколько мгновений я без труда понял, почему г-жа де Вильпаризи оказалась в Бальбеке так хорошо осведомленной, гораздо лучше нас самих, о малейших подробностях путешествия моего отца в Испанию, которое он совершал тогда в обществе г-на де Норпуа. Но все же трудно было допустить, что эта более чем двадцатилетняя связь г-жи де Вильпаризи с послом могла быть причиной разжалования маркизы в свете, где самые блестящие женщины выставляли напоказ куда менее достойных уважения любовников, чем г. де Норпуа, который вдобавок давно уже, вероятно, был для маркизы не более чем старым другом. Но, может быть, у г-жи де Вильпаризи были некогда другие приключения? Отличаясь тогда темпераментом более пылким, чем теперь, в пору умиротворенной и набожной старости, окраска которой, впрочем, отчасти обусловливалась теми бурно проведенными годами, не принуждена ли была маркиза в провинции, где она долго жила, замять кое-какие скандалы, неизвестные новому поколению, констатировавшему лишь их следствие на смешанном и неудовлетворительном составе ее салона, который в противном случае не заключал бы в себе никакой дешевой примеси? Может быть ей создал врагов в те времена «злой язык», приписываемый ей племянником? Не пускала ли она его в ход, пользуясь своим успехом у мужчин, чтобы отомстить некоторым женщинам? Все это было возможно; мягкая и изысканная — так деликатно выбирающая не только выражения, но и самую интонацию — манера г-жи де Вильпаризи говорить о стыдливости, о доброте неспособна была подорвать эти предположения; ибо люди, не только хорошо говорящие о некоторых добродетелях, но также чувствующие их прелесть и чудесно их понимающие (способные нарисовать в своих мемуарах достойную их картину), часто лишь произошли от практиковавшего их безгласного, тусклого и чуждого искусства поколения, но сами к нему не принадлежали. Поколение это в них отражается, но не продолжается. Вместо отличавшего его твердого характера мы находим восприимчивость и ум, которые не служат практическим целям. Были ли в жизни г-жи де Вильпаризи скандалы, помрачившие блеск ее имени, или же их не было, — во всяком случае причиной ее разжалования в большом свете был несомненно ее ум, ум скорее писателя второго сорта, чем светской женщины.
Да, конечно, г-жа де Вильпаризи восхваляла по преимуществу качества рассудочные, вроде уравновешенности и меры; но, если говорить о мере вполне адекватно, одного этого качества недостаточно, и писатели нуждаются в других достоинствах, предполагающих некоторую экзальтированность, мало размеренную; я заметил в Бальбеке, что гений некоторых больших художников оставался непонятным г-же де Вильпаризи и что она умела лишь тонко подсмеиваться над ними, придавая своему непониманию остроумную и грациозную форму. Но этот ум и эта грация на той степени, которой они у нее достигали, сами становились, — в другой плоскости, хотя бы, развертываясь, они приводили к непризнанию самых возвышенных произведений, — подлинными художественными качествами. А такие качества имеют тенденцию оказывать на всякое положение в свете болезнетворное действие, настолько разрушительное, что и самые солидные репутации с трудом могут сопротивляться несколько лет. То, что художники называют умом, кажется в свете чистой рисовкой; не будучи способны сталь на единственную точку зрения, определяющую суждение художников, понять специфическое удовольствие, испытываемое ими при выборе определенного выражения или сопоставления, светские люди чувствуют в их обществе усталость, раздражение, из которых очень скоро рождается антипатия. Однако в разговоре, а также в своих мемуарах, опубликованных впоследствии, г-жа де Вильпаризи обнаруживала изящество чисто светское. Проходя мимо значительных явлений, она не углубляла их, иногда даже вовсе не различала, и из прожитых ею лет, которые, впрочем, она описывала очень верно и занятно, удержала в памяти лишь вещи самые суетные. Но литературное произведение, даже если оно касается вещей, не принадлежащих к области умственной, все-таки является произведением ума, и чтобы дать в книге или в разговоре, который от книги мало отличается, законченное впечатление суетности, необходима известная доза серьезности, которая особе насквозь суетной недоступна. В одних мемуарах, написанных женщиной и считающихся шедевром, есть фразы, которые цитируются в качестве образца легкой грации; я думаю, что легкость эта досталась писательнице лишь ценой довольно тяжеловесных познаний и суровой культуры и что, будучи молодой девушкой, она, вероятно, казалась подругам невыносимым синим чулком. Связь между некоторой литературной одаренностью и неуспехом в свете настолько неизбежна, что достаточно нынешнему читателю вдуматься в какой-нибудь меткий эпитет или удачную метафору из мемуаров г-жи де Вильпаризи, и с их помощью он ясно представит глубокий, но ледяной поклон, отвешиваемый старой маркизе на лестнице какого-нибудь посольства такой снобкой, как г-жа Леруа, которая, может быть, оставляла у г-жи де Вильпаризи визитную карточку по дороге к Германтам, но никогда не переступала порога ее салона из страха деклассироваться среди всех этих жен врачей или нотариусов. Может быть г-жа де Вильпаризи была синим чулком в ранней молодости и, опьяненная своими знаниями, не сумела удержаться от колких замечаний по адресу не столь умных и не столь образованных, как она, светских людей, которые таких вещей не забывают.
Далее, талант не есть посторонний придаток, искусственно пристегиваемый к тем разнообразным качествам, которые обеспечивают успех в обществе, чтобы таким образом получилась так называемая «законченная женщина». Он живое порождение определенного душевного склада, где многих качеств обыкновенно недостает и где преобладает восприимчивость, другие проявления которой, в книгах нами не замечаемые, могут довольно живо дать себя почувствовать в жизни, например, любознательность в той или иной области, те или иные прихоти, желание пойти в то или иное место для собственного удовольствия, а не с целью умножения, поддержания или простого функционирования светских отношений. Мне случалось видеть в Бальбеке, как г-жа де Вильпаризи, окруженная своими людьми, не бросала ни единого взгляда на публику, сидевшую в вестибюле отеля. Но у меня было смутное чувство, что это воздержание не означает равнодушия, и она, по-видимому, не всегда в нем замыкалась. Некогда она во что бы то ни стало желала познакомиться с человеком, не имевшим никакого права быть принятым у нее, иногда потому, что она нашла его красивым, или просто потому, что ей его рекомендовали как человека интересного, или же потому, что он ей показался непохожим на людей ей знакомых, которые в те времена, когда она их еще не ценила, так как была уверена, что они никогда ее не покинут, все принадлежали к сливкам Сен-Жерменского предместья. Этой богеме, этим мелким буржуа, удостоившимся ее внимания, ей приходилось посылать приглашения, ценности которых они не могли ясно себе представить, с настойчивостью, которая постепенно обесценивала ее в глазах снобов, привыкших котировать салон по людям, исключенным из него хозяйкой дома, а не по тем, кого она принимает. Но если в определенный период молодости г-жу де Вильпаризи, пресыщенную сознанием своей принадлежности к верхушке аристократии, до известной степени забавляло скандализировать людей, среди которых она жила, и бесстрашно разрушать свое положение в свете, то она начала им дорожить, после того как его потеряла. В свое время она желала показать герцогиням, что она больше их, говоря и делая все, что герцогини говорить и делать не осмеливались. Но теперь, когда они, за исключением самых близких родственниц, перестали приходить к ней, она почувствовала себя умаленной и желала еще царствовать, но уже не с помощью ума. Она захотела привлечь всех тех, кого с такой заботливостью отстранила. У скольких женщин жизнь, — впрочем, жизнь мало известная широкой публике (ибо у каждого из нас, в зависимости от нашего возраста, есть как бы свой особый мир, и сдержанность стариков препятствует молодежи составить себе представление о прошлом и охватить в своем сознании крупный период времени), — оказалась разделенной таким образом на резко противоположные периоды, причем последний весь посвящен на отвоевание того, что в предыдущем было так беззаботно выброшено на ветер. Выброшено на ветер каким образом? Молодежь представляет это себе тем хуже, что видит перед собой старую почтенную маркизу де Вильпаризи и не думает о том, что нынешняя степенная мемориалистка, имеющая такой достойный вид в белом парике, могла быть когда-то веселой посетительницей ночных ресторанов, сводившей с ума и промотавшей целое состояние мужчин, теперь уже лежащих в гробу; но то, что она с настойчивым и непринужденным усердием разрушила высокое положение, доставшееся ей по наследству, нисколько, впрочем, не означает, чтобы даже в ту отдаленную эпоху г-жа де Вильпаризи не придавала ему большой цены. Ведь уединение и бездеятельность, которые плетет себе с утра до вечера неврастеник, тоже могут представляться ему невыносимыми, и, торопясь прибавить новую петлю к сети, которая его держит в плену, он, возможно, только и мечтает, что о балах, охотах и путешествиях. Мы каждое мгновение трудимся над лепкой нашей жизни, но помимо нашей воли копируем при этом черты той личности, которой мы являемся, а не той, которой нам было бы приятно быть. Презрительные поклоны г-жи Леруа могли в какой-то степени выражать подлинную природу г-жи де Вильпаризи, однако они ни в малейшей степени не отвечали ее желаниям.
Конечно, в ту самую минуту, когда г-жа Леруа, согласно любимому выражению г-жи Сван, «осаживала» маркизу, последняя могла искать утешения в словах, когда-то сказанных ей королевой Марией-Амелией: «Я вас люблю как дочь». Но подобные королевские ласки, сокровенные и никому неведомые, существовали только для маркизы, покрытые пылью, как старый диплом консерватории о присуждении первой премии. Единственные подлинные светские преимущества — это те, что создают жизнь, те, что могут исчезнуть, а тому, кто получал от них выгоду, незачем пытаться их удерживать или трубить о них, потому что в тот же день их сменяет сотня других. Вспоминая милостивые слова королевы, г-жа де Вильпаризи все же охотно бы их променяла на постоянное право быть приглашенной в блестящие салоны, которым обладала г-жа Леруа, вроде того как большой неизвестный художник, талант которого не написан ни на чертах его робкого лица, ни на старомодном покрое его поношенного пиджака, хотел бы оказаться в ресторане даже на месте молодого биржевого зайца из самых подонков общества, завтракающего за соседним столиком с двумя актрисами и к которому непрерывно подходят с подобострастными лицами хозяин, метрдотель, официанты, рассыльные мальчики и даже поварята, с поклонами дефилирующие перед ним, точно в феериях, между тем как выступает вперед смотритель винного погреба, покрытый пылью не меньше, чем его бутылки, ослепленный ярким светом и хромающий, как если бы, выходя из погреба, он вывихнул себе ногу.
Надо сказать, однако, что отсутствие г-жи Леруа хотя и огорчало г-жу де Вильпаризи, хозяйку дома, однако проходило в ее салоне незамеченным со стороны большей части ее гостей. Им было совершенно неизвестно особенное положение г-жи Леруа, о котором знал только самый высший свет, и они не сомневались, что приемы г-жи де Вильпаризи, как в этом убеждены в настоящее время читатели ее мемуаров, были самыми блестящими в Париже.
В этот первый визит к г-же де Вильпаризи, сделанный мною по совету г-на де Норпуа, я ее застал в салоне, обтянутом желтым шелком, на котором выделялись розовыми, почти фиолетовыми пятнами зрелой малины диваны и изумительные ковровые кресла Бове. Рядом с портретами Германтов и Вильпаризи там можно было видеть — подаренные самой натурой — портреты королевы Марии-Амелии, бельгийской королевы, принца Жуанвильского и австрийской императрицы. Г-жа де Вильпаризи, в старинном чепчике из черных кружев (она его сохраняла, руководясь тем же тонким инстинктом местного или исторического колорита, что и содержатели гостиниц в Бретани, которые, несмотря на чисто парижскую свою клиентуру, считают более целесообразным сохранять у женской прислуги своеобразный головной убор и широкие рукава), сидела за небольшим бюро, где рядом с кистями, палитрой и начатой акварелью цветов перед ней были расставлены в стаканах, блюдечках и чашках моховые розы, цинии, венерин волос, которые благодаря приливу гостей она в эту минуту перестала писать, так что казалось, будто вы видите прилавок цветочницы, как на гравюре XVIII века. В этом слегка натопленном салоне (маркиза простудилась, возвращаясь из своего замка) среди присутствующих находились, когда я вошел, архивариус, с которым г-жа де Вильпаризи утром разбирала адресованные ей письма исторических деятелей, собираясь поместить их факсимиле, как оправдательные документы, в сочинявшихся ею в то время мемуарах, а также торжественный, но оробевший историк, который, узнав, что у нее есть полученный по наследству портрет герцогини Де Монморанси, пришел просить позволения воспроизвести его в своей работе о Фронде. К этим посетителям вскоре присоединился мой прежний товарищ Блок, теперь начинающий драматург, через которого маркиза рассчитывала достать даром артистов для ближайших своих утренников. Правда, общественный калейдоскоп менял тогда свое положение, и дело Дрейфуса готово было сбросить евреев на последнюю ступеньку социальной лестницы. Но, с одной стороны, как бы ни свирепствовал дрейфусарский циклон, волны достигают наибольшей ярости не в начале бури. Кроме того г-жа де Вильпаризи, предоставляя своей родине метать громы против евреев, держалась до сих пор совершенно в стороне от этого дела и не интересовалась им. Наконец, молодой человек, подобный Блоку, которого никто не знал, мог пройти незамеченным, тогда как видные фигуры среди евреев, сторонников пересмотра дела, находились уже под угрозой. У моего приятеля появилась теперь козлиная бородка, он носил пенсне и длинный сюртук и держал в руке, подобно свитку папируса, перчатки. Пусть румыны, египтяне и турки ненавидят евреев. Однако во французском салоне различия между этими народами не так уж ощутительны, и если какой-нибудь израэлит появляется в нем точно выходец из пустыни, нагнув туловище, как гиена, склонив набок шею и расточая «селямы», то он вполне удовлетворяет ориентальному вкусу. Только для этого надо, чтобы еврей не принадлежал к «свету», иначе он легко принимает вид лорда, и манеры его до такой степени офранцуживаются, что строптивый его нос, растущий как настурция в самых неожиданных направлениях, напоминает скорее нос Маскариля, чем нос Соломона. Но Блок, не выдрессированный гимнастикой Сен-Жерменского предместья и не облагороженный скрещеньем с Англией или с Испанией, оставался для любителей экзотики такой же своеобразной и пряной фигурой, несмотря на свой европейский костюм, как евреи на картинах Декана. Изумительная мощь расы, бросившей из глубины веков в современный Париж, в коридоры наших театров, за окошечки наших канцелярий, на похоронные процессии и на улицы нетронутую фалангу, которая, стилизуя современные головные уборы, поглощая, заставляя забыть, дисциплинируя наш сюртук, остается в общем в точности похожей на фалангу ассирийских писцов в церемониальных костюмах, изображенных на фризе монумента в Сузах, охраняющего ворота дворца Дария. (Час спустя Блок вообразил было, что г. де Шарлюс осведомляется, еврейское ли у него имя, по антисемитическим побуждениям, между тем как последним руководило лишь эстетическое любопытство и любовь к местному колориту.) Но, впрочем, говорить об устойчивости рас значит неточно передавать впечатление, получаемое нами от евреев, греков и персов, всех этих народов, которым лучше оставить их разнообразие. Мы знаем из античной живописи лица древних греков, мы видели ассирийцев на фронтоне дворца в Сузах. И вот нам кажется, когда мы встречаемся с представителями восточных народов, будто перед нами существа, вызванные на свет спиритической силой. Мы знали лишь плоскостное изображение; вот оно приобрело глубину, простирается в трех измерениях, двигается. Молодая дама гречанка, дочь богатого банкира, которая очень в моде в данную минуту, имеет вид одной из тех фигуранток, что символизируют в художественно-исторических балетах эллинское искусство в конкретном воплощении; однако в театре сценические аксессуары опошляют эти образы; напротив, зрелище, на котором мы присутствуем, наблюдая появление в салоне турчанки или еврея, оживляет их лица и придает им больше необычайности, как если бы, действительно, мы имели дело с существами, вызванными медиумической силой. Нам кажется, что вся эта смущающая нас мимика выполняется душой (или, вернее, тем пустяком, к которому сводится, или сводилась до сих пор, душа в подобных материализациях), наблюдавшейся нами раньше только в музеях, — душой древних греков, древних евреев, призванной к некоей незначительной трансцендентальной жизни. Что нам тщетно хочется схватить в ускользающей молодой даме гречанке, так это фигуру, некогда восхищавшую нас на стенках вазы. Мне казалось, что если бы я сделал ряд снимков с Блока в освещении салона г-жи де Вильпаризи, то они дали бы то изображение Израиля, — столь волнующее, так как нам представляется, что оно исходит не от человека, и столь обманчивое, так как оно все же слишком похоже на человека, — какое мы видим на спиритических фотографиях. Ставя вопрос шире, нет такой вещи, вплоть до ничтожных замечаний, высказываемых кругом нас обывателями, которая не давала бы нам впечатления чего-то сверхъестественного в нашем жалком повседневном мире, где даже гений, от которого мы ждем, собравшись возле него как вокруг вращающегося столика, откровения тайны бесконечности, произносит лишь такую фразу — ту самую, которая только что сорвалась у Блока: «Осторожнее! Здесь мой цилиндр».
— Боже мой, министры, дорогой мой, — говорила г-жа де Вильпаризи, обращаясь по преимуществу к моему прежнему товарищу и восстанавливая нить разговора, прерванного моим появлением, — да их никто не желал видеть. Я была маленькая, но и до сих пор помню, как король просил моего дедушку пригласить господина Деказа на бал, где мой отец должен был танцевать с герцогиней Беррийской. «Вы мне доставите «удовольствие, Флоримон», — говорил король. Моему дедушке, который был немного глуховат, послышалось, что король говорит о господине де Кастри, и он нашел просьбу вполне естественной. Когда он понял, что речь идет о господине Деказе, он пришел было в негодование, но поклонился и в тот же вечер написал господину Деказу, прося его почтить своим присутствием бал, который должен был состояться на следующей неделе. Ведь в те времена люди были вежливы, мосье, и хозяйка дома не могла бы ограничиться посылкой своей карточки с припиской: «чашка чаю», или «чай с танцами», или «чай с музыкой». Но если тогда умели быть вежливыми, то умели также нахальничать. Господин Деказ принял приглашение, но накануне бала стало известно, что мой дедушка, чувствуя себя нездоровым, отменил прием. Он повиновался королю, но господин Деказ не был у него на балу… Да, мосье, я прекрасно помню господина Моле, остроумный был человек, он это доказал, принимая в Академию господина де Виньи, но он держался очень торжественно, и я до сих пор вижу его спускающимся обедать у себя дома с цилиндром в руке.
— Прямо-таки ошеломительная картина эпохи, страдавшей злокачественным филистерством, — ведь это было, вероятно, всеми принято держать в руке шляпу у себя дома? — сказал Блок, жаждавший воспользоваться этим столь редким случаем и разузнать от очевидца подробности аристократической жизни былых времен, между тем как архивариус, состоявший чем-то вроде спорадического секретаря при маркизе, бросал на нее умиленные взоры и, казалось, говорил: «Вот она какова, она все знает, со всеми была знакома, вы можете расспросить ее о чем вам угодно, исключительная женщина».
— Ну, нет, — отвечала г-жа де Вильпаризи, придвигая поближе к себе стакан с венериным волосом с намерением возобновить свою работу, — это была привычка одного только господина Моле. Я никогда не видела, чтобы мой отец бывал со шляпой у себя дома, исключая, понятно, тех случаев, когда приезжал король, так как король везде у себя, и хозяин дома при нем только гость в собственном салоне.
— Аристотель говорит нам в главе второй… — отважился вставить слово г. Пьер, историк Фронды, но так робко, что никто не обратил на него внимания. Уже несколько недель он страдал нервной бессонницей, не поддававшейся никакому лечению, и вовсе перестал ложиться, так что, разбитый усталостью, выходил из дому только в тех случаях, когда к этому принуждала его работа. Неспособный часто возобновлять эти столь простые для других экспедиции, которые, однако, обходились ему так дорого, как если бы каждый раз он спускался с луны, г. Пьер нередко с удивлением обнаруживал, что жизнь других не была приспособлена к удовлетворению с максимальной пользой его внезапных вылазок. Иногда оказывалась закрытой библиотека, которую он собрался посетить, лишь искусственно поставив себя на ноги и нарядившись в сюртук, подобно персонажу Уэллса. К счастью, он застал г-жу де Вильпаризи дома и намеревался посмотреть портрет. Блок прервал его.
— Право же, — сказал он, отвечая на замечание г-жи де Вильпаризи по поводу этикета, соблюдавшегося при королевских визитах, — я абсолютно этого не знал, — как если бы в его незнании подобных вещей было что-нибудь странное.
— Кстати относительно таких визитов, — вы знаете, какую глупую шутку сыграл со мной вчера утром мой племянник Базен? — спросила архивариуса г-жа де Вильпаризи. — Вместо того, чтобы доложить о себе, он велел передать, что меня спрашивает шведская королева.
— Вот как! Преспокойно велел передать вам такую вещь! И шутник же он! — воскликнул Блок, расхохотавшись, между тем как историк улыбался с величественной робостью.
— Я была порядком удивлена, потому что лишь несколько дней как вернулась из деревни. Желая пожить некоторое время спокойно, я просила никому не говорить, что я в Париже, и недоумевала, каким образом шведская королева уже знает об этом, — продолжала г-жа де Вильпаризи, предоставляя своим гостям дивиться, что визит шведской королевы был для их хозяйки вещью заурядной.
Если утром г-жа де Вильпаризи занималась с архивариусом документальной проверкой своих мемуаров, то в эту минуту бессознательно пробовала их механизм и обаяние на средней публике, — той, из которой наберутся со временем ее читатели. Пусть салон г-жи де Вильпаризи отличался от подлинно элегантного салона, в котором отсутствовали бы многие буржуа, ею принимаемые, и где можно было бы увидеть зато ряд блестящих дам, в заключение привлеченных г-жой Леруа, однако нюанс этот не ощущается в ее мемуарах, так как в них исчезли серенькие знакомые автора, упомянуть о которых не представилось случая; отсутствие же некоторых элегантных дам не наносит мемуарам ущерба, так как на их поневоле ограниченном пространстве могут фигурировать лишь немногие действующие лица, и если эти лица — особы коронованные или исторические деятели, то впечатление максимальной элегантности, какое могут дать публике мемуары, оказывается достигнутым. С точки зрения г-жи Леруа салон г-жи де Вильпаризи был салоном третьего сорта, а г-жа де Вильпаризи болезненно воспринимала суждение г-жи Леруа. Но в настоящее время никто больше не знает, кто такая была г-жа Леруа, суждения ее позабылись, а салон г-жи де Вильпаризи, который посещали шведская королева, герцог Омальский, герцог де Бройль, Тьер, Монталамбер, монсеньер Дюпанлу, будет рассматриваться потомством как один из самых блестящих салонов XIX века, — потомством, которое не изменилось со времен Гомера и Пиндара и для которого завидным положением является высокое происхождение, королевское или почти королевское, дружба королей, глав народа, знаменитых людей.
Ни одного из этих качеств не лишен был салон г-жи де Вильпаризи как в его теперешнем состоянии, так и в ее воспоминаниях, иногда слегка прикрашенных, с помощью которых она продолжала его в прошлое. Кроме того, г. де Норпуа, хотя он не способен был создать своей приятельнице настоящее положение, приводил ей зато иностранных или французских государственных деятелей, которые в нем нуждались и знали, что единственный верный способ угодить ему — это посещать салон г-жи де Вильпаризи. Может быть и г-жа Леруа тоже была знакома с этими выдающимися европейскими деятелями. Но, как женщина приятная и избегающая тона синих чулков, она остерегалась говорить о восточном вопросе с первыми министрами и о сущности любви с романистами и философами: «Любовь? — ответила она раз одной даме с большими претензиями, которая ее спросила: «Что вы думаете о любви?» — Любовь? Я часто ею занимаюсь, но не говорю о ней никогда». Когда у нее бывали литературные или политические знаменитости, она довольствовалась, подобно герцогине Германтской, тем, что усаживала их играть в покер. И они часто предпочитали покер серьезным разговорам на общие темы, к которым их принуждала г-жа де Вильпаризи. Но разговоры эти, может быть смешные в обстановке светского салона, дали г-же де Вильпаризи материал для тех превосходных пассажей, тех политических диссертаций, которые так же хороши в мемуарах, как и в трагедиях Корнеля. Впрочем, только такие салоны, какой был у г-жи де Вильпаризи, могут перейти в потомство, потому что г-жи Леруа не умеют писать, да если бы и умели, у них не нашлось бы для этого времени. И если литературные склонности г-жи де Вильпаризи являются причиной презрения к ней дам вроде г-жи Леруа, то в свою очередь презрение г-жи Леруа идет только на пользу литературным склонностям таких дам, как г-жа де Вильпаризи, доставляя этим синим чулкам досуг, необходимый для литературной карьеры. Бог, желающий, чтобы было несколько хорошо написанных книг, с этой именно целью вкладывает презрение в сердца дам типа г-жи Леруа, ибо он знает, что если бы они приглашали обедать г-жу де Вильпаризи, то последняя немедленно забросила бы свои письменные принадлежности и велела бы закладывать лошадей к восьми часам.
Через несколько мгновений вошла медленным и торжественным шагом высокая старуха, из-под соломенной шляпы которой видна была монументальная седая прическа в стиле Марии-Антуанеты. Я не знал тогда, что она была одной из трех еще уцелевших в парижском обществе женщин, которые, при всей своей знатности, по причинам, терявшимся во тьме времен (о них нам мог бы поведать разве только какой-нибудь старый щеголь той эпохи), принуждены были довольствоваться в своих салонах подонками общества, которых нигде больше не принимали. Каждая из этих дам имела свою «герцогиню Германтскую», блестящую племянницу, приходившую к ней по долгу родственницы, но бессильную затащить к ней «герцогиню Германтскую» двух других дам. Г-жа де Вильпаризи была в тесных отношениях с этими тремя дамами, но не любила их. Может быть их положение, очень напоминавшее ее собственное, рисовало маркизе картину, которая была ей не по душе. Вдобавок эти озлобленные синие чулки, пытавшиеся при помощи шуточных пьесок создать себе иллюзию салона, соперничали друг с другом, и так как средства, порядочно расстроенные в течение их не совсем тихой жизни, заставляли их быть расчетливыми, выгадывать на даровом сотрудничестве артистов, то это соперничество похоже было на борьбу за существование. И дама с прической Марии-Антуанеты при каждом посещении г-жи де Вильпаризи не могла отделаться от мысли, что герцогиня Германтская не посещает ее пятниц. К ее утешению пятниц этих никогда не пропускала, по долгу родственницы, принцесса де Пуа, ее собственная герцогиня Германтская, которая зато никогда не бывала у г-жи де Вильпаризи, хотя была интимной приятельницей герцогини.
Тем не менее цепь, протянутая от особняка на набережной Малаке к салонам на улицах Турнон, Шез и Сент-Оноре, цепь столь же прочная, сколь и ненавистная, соединяла трех падших богинь, и мне так хотелось узнать, перелистывая мифологический словарь большого света, какая галантная история, какая кощунственная дерзость навлекла на них кару. Одинаково блестящее происхождение и одинаково постигшая их немилость являлись, вероятно, немаловажной частью той силы, что побуждала их одновременно и ненавидеть и посещать друг друга. Кроме того каждая из них находила в других удобное средство поднять свой салон в глазах гостей. Как последним было не думать, что они проникли в самый замкнутый аристократический круг, когда их представляли титулованной даме, сестра которой была замужем за герцогом де Саганом или принцем де Линьем? Тем более, что в газетах писали несравненно больше об этих мнимых салонах, чем о салонах настоящих. Даже щеголеватые племянники, к которым товарищи обращались с просьбой ввести их в свет (Сен-Лу первый), говорили: «Я сведу вас к моей тетке Вильпаризи или к моей тетке X…, это интересный салон». Они знали прежде всего, что это им будет стоить меньше труда, чем ввести упомянутых приятелей к элегантным племянницам или невесткам этих дам. Мужчины преклонного возраста и молодые женщины, узнавшие об этом от них, говорили мне, что если этих старых дам не принимают, то по причине крайне беспорядочного их поведения, и когда я возражал, что это ведь не препятствие для элегантности, изображали мне его как нечто перешедшее все признанные нынче границы. Беспутство этих величественных дам, которые сидя держались совершенно прямо, приобретало в устах говоривших о нем людей нечто превосходившее мое воображение, нечто равнявшееся по грандиозности доисторическим эпохам, веку мамонта. Словом, три эти парки с белыми, голубыми или розовыми волосами спряли черную участь несчетному числу мужчин. Я думаю, что люди нашего времени преувеличивают пороки тех легендарных времен, подобно грекам, сложившим Икара, Тезея или Геракла из людей, которые мало отличались от тех, что много времени спустя их обожествляли. Но мы обыкновенно подсчитываем грехи человека лишь после того, как он не в состоянии больше грешить, и по размерам общественной кары, которая начинает осуществляться и которую мы только и можем констатировать, мы исчисляем, мы выдумываем, мы преувеличиваем размеры совершенного преступления. В галерее символических фигур, каковой является «свет», подлинно легкомысленные женщины, законченные Мессалины, всегда предстают в торжественном облике какой-нибудь надменной дамы, по меньшей мере семидесятилетней, которая принимает не тех, кого она хочет, а тех, кого она может принимать, которую не согласны посещать женщины немножко двусмысленного поведения, которой папа всегда преподносит «золотую розу» и которая иногда пишет о юности Ламартина книгу, премируемую Французской академией. «Здравствуйте, Алиса», — сказала г-жа де Вильпаризи, обращаясь к даме в белой прическе Марии-Антуанеты, между тем как та окидывала собрание зорким взглядом, высматривая, нет ли в этом салоне куска, которой мог бы пригодиться и для нее; ей приходилось делать это самой, ибо она не сомневалась, что г-жа де Вильпаризи приложит все старания похитрее скрыть это от нее. Вот почему г-жа де Вильпаризи ни за что не желала представить старой даме Блока, опасаясь, как бы он не организовал того же спектакля, что и у нее, в доме на набережной Малаке. Это, впрочем, была только отместка. Ибо старой даме вчера удалось залучить г-жу Ристори, которая читала у нее стихи, и она приняла меры, чтобы г-жа де Вильпаризи, у которой она перехватила итальянскую артистку, не проведала о событии, прежде чем оно совершится. А чтобы маркиза не узнала о нем из газет и не обиделась, она сама ей все рассказала, как бы не чувствуя за собой никакой вины. Считая, что знакомство со мной не будет иметь таких неудобств, как знакомство с Блоком, г-жа де Вильпаризи представила меня Марии-Антуанете с набережной. Последняя, пытаясь при помощи минимальной затраты движений сохранить и в старости ту линию богини Куазевокса, которая много лет тому назад пленяла элегантную молодежь и которую псевдописатели прославляли теперь в дешевеньких буриме, — а также благодаря привычке к надменному каменному выражению, как бы вознаграждающему людей, впавших в немилость, за постоянную предупредительность, на которую они обречены, — с ледяным величием слегка опустила голову и, тотчас повернув ее в другую сторону, перестала заниматься мной, как если бы я вовсе не существовал. Ее имевшая двойной смысл поза как бы говорила г-же де Вильпаризи; «Вы видите, что в знакомствах я не нуждаюсь и что мальчики — ни с какой точки зрения, злоязычная женщина, — меня не интересуют». Но когда через четверть часа она удалилась, воспользовавшись суматохой, то шепнула мне на ухо, чтобы я приходил в следующую пятницу к ней в ложу, где она будет с одной из троицы, громкое имя которой, — она была, к тому же, урожденная Шуазель, — произвело на меня потрясающее впечатление.
— Мосье, я полагаю, вы хотите что-то писать о герцогине де Монморанси, — обратилась г-жа де Вильпаризи к историку Фронды с ворчливым видом, который, благодаря затаенному недовольству, физиологической досаде старости, а также желанию подражать почти крестьянскому тону старой аристократии, помимо ее воли окрашивал в хмурые тона ее весьма любезное обхождение. — Сейчас покажу вам ее портрет, оригинал той копии, что висит в Лувре.
Она встала, положив свои кисти возле цветов, и обнаружившийся тогда небольшой передник, который она носила, чтобы не запачкаться красками, усилил впечатление деревенской жительницы, придававшееся ей чепчиком и большими очками и составлявшее такой контраст с нарядностью ее прислуги, дворецкого, подававшего чай и пирожные, и ливрейного лакея, вызванного маркизой, чтобы осветить портрет герцогини де Монморанси, аббатиссы в одном из знаменитейших капитулов восточной Франции. Все встали. «Забавнее всего, — сказала маркиза, — что в эти капитулы, где наши прабабки были аббатиссами, не допускались дочери французского короля. Это были очень замкнутые организации». — «Не допускались дочери короля, почему же?» — спросил озадаченный Блок. — «Да потому, что французский королевский дом испортил свою родословную, унизив себя неравным браком». — Изумление Блока все возрастало. — «Французский королевский дом унизил себя неравным браком? Как так?» — «Да сочетавшись с Медичи, — отвечала г-жа де Вильпаризи самым естественным тоном. — Хорош портрет, не правда ли? И в прекрасной сохранности», — прибавила она.
— Дорогая моя, — сказала дама, причесанная под Марию-Антуанету, — вы помните, что, когда я к вам привела Листа, он сказал, что это копия.
— Я склоняюсь перед мнениями Листа в области музыки, но не в области живописи! Впрочем, он уже впал в детство, и я не помню, чтобы он когда-нибудь это говорил. Да и не вы привели его ко мне. Я двадцать раз обедала с ним у княгини де Сейн-Витгенштейн.
Удар Алисы не попал в цель, она замолчала и застыла в неподвижности. Слои пудры, покрывавшие ее лицо, делали его похожим на каменное изваяние. Профиль у нее был благородный, и она казалась облупившейся парковой богиней на треугольном поросшем мхом цоколе, прикрытом накидкой.
— А вот еще один прекрасный портрет, — сказал историк. Отворились двери, и вошла герцогиня Германтская.
— А, здравствуй, — сказала г-жа де Вильпаризи, вынув руку из кармана передника и подавая ее новой гостье; она не стала ею заниматься и снова обратилась к историку: — Это портрет герцогини де Ла Рошфуко…
В эту минуту вошел с карточкой на подносе молодой лакей наглого вида, но с прелестным лицом такой безукоризненно правильной формы, что красноватый его нос и слегка воспаленная кожа, казалось, хранили еще следы резца скульптора, недавно закончившего свою работу.
— Это тот господин, что приходил уже несколько раз, желая видеть госпожу маркизу.
— Разве вы ему сказали, что я принимаю?
— Он услышал, что здесь разговаривают.
— Ну, хорошо, пригласите его. Этого господина мне где-то представили, — сказала г-жа де Вильпаризи. — Он мне говорил, что очень желает быть здесь принятым. Никогда не давала ему права приходить ко мне. Но вот уже пять раз он причиняет себе беспокойство; не надо оскорблять людей. Мосье, — обратилась она ко мне, — и вы, мосье, — прибавила она, указывая на историка Фронды, — представляю вам мою племянницу, герцогиню Германтскую.
Историк, как и я, низко поклонился и, предполагая, по-видимому, что за этим поклоном должны последовать какие-нибудь теплые слова, оживился и приготовился открыть рот, но его расхолодил вид герцогини Германтской, которая воспользовалась независимостью своего туловища, чтобы с преувеличенной вежливостью кинуть его вперед и с безукоризненной точностью поставить на прежнее место, причем лицо ее и взгляд как будто даже не заметили, что перед ними есть живые существа; тихонько вздохнув, она дала почувствовать ничтожество впечатления, произведенного на нее видом историка и меня, при помощи легкого движения ноздрей, которое она проделала с четкостью, свидетельствовавшей о полнейшей пассивности ее праздного внимания.
Вошедший в салон навязчивый визитер устремился прямо к г-же де Вильпаризи, с простодушным видом пылкого почитателя; то был Легранден.
— Премного вам благодарен за то, что вы меня приняли, мадам, — сказал он, подчеркивая слово «премного», — какое редкое и утонченное удовольствие доставляете вы старому отшельнику, уверяю вас, что отзвук в его…
Он вдруг осекся, заметив меня.
— Я показывала этому господину прекрасный портрет герцогини де Ла Рошфуко, жены автора «Изречений», он достался мне по наследству.
Герцогиня Германтская поздоровалась с Алисой, извинившись, что не могла в этом году, как и в прошлые годы, навестить ее. «Я получала о вас известия от Мадлен», — прибавила она.
— Она у меня завтракала сегодня утром, — отвечала маркиза с набережной Малаке, очень довольная, что г-жа де Вильпаризи никогда не сможет этим похвастать.
Тем временем я разговаривал с Блоком; он мне недавно жаловался на перемену к нему его отца, и, боясь, чтобы он не позавидовал моей жизни, я ему сказал, что он, наверное, счастливее меня. Слова эти были с моей стороны простым выражением любезности. Но людьми очень самолюбивыми такая любезность легко принимается за чистую монету или же внушает им желание убедить других, что так и есть на самом деле. «Да, жизнь моя восхитительна, — проговорил Блок с блаженным видом. — У меня три превосходных друга, ни одного больше я бы и не хотел иметь, очаровательная любовница, я бесконечно счастлив. Редкому смертному папаша Зевс дарует столько благ». Я полагаю, что главной его целью было похвастаться и возбудить к себе зависть. А может быть, оптимизм его заключал в себе также желание пооригинальничать. Было очевидно, что он не хочет отвечать банальностями, которые можно услышать от всякого: «О, ничего особенного и т. д.», когда на мой вопрос: «Хорошо было?», заданный по поводу одного утренника с танцами у него на квартире, на который я не мог пойти, он ответил равнодушным, спокойным тоном, точно речь шла о ком-то постороннем: «Ну да, превосходно, праздник удался на славу. Было прелестно, очаровательно».
— То, что вы нам сообщаете, меня бесконечно интересует, — говорил Легранден г-же де Вильпаризи, — я был совершенно прав, думая на днях, что вы очень на него походите четкостью и живостью речи, чем-то, что я обозначу двумя противоречащими выражениями: лапидарной стремительностью и увековечением мгновенного. Мне бы хотелось записать сегодня вечером все, что вы говорите; но я и так запомню. Все сказанное вами, по выражению, кажется, Жубера, дружественно памяти. Вы никогда не читали Жубера? О, вы бы ему так понравились! Я позволю себе сегодня же вечером прислать вам его произведения и буду очень гордиться выпавшей мне честью познакомить вас с этим умом. У него не было вашей силы, но он отличался большой грацией.
Я хотел сразу же подойти поздороваться с Легранденом, но он все время держался как можно дальше от меня, вероятно боясь, чтобы я не услышал неумеренных похвал, которые он в самых изысканных выражениях неустанно расточал г-же де Вильпаризи по всякому поводу.
Она с улыбкой пожала плечами, точно приняв это за насмешку, и обратилась к историку.
— А вот это пресловутая Мария де Роган, герцогиня де Шеврез, которая в первом браке была за г-ном де Люин.
— Дорогая моя, г-жа де Люин напомнила мне об Иоланте; она приходила ко мне вчера; если бы я знала, что вечер у вас свободен, я бы послала за вами: г-жа Ристори, явившаяся неожиданно, читала перед автором стихи королевы Кармен Сильвы, это была красота!
«Какое вероломство! — подумала г-жа де Вильпаризи. — Об этом она наверное и шепталась третьего дня с г-жой де Боленкур и с г-жой Шапоне».
— Я была свободна, но я бы не пришла, — ответила она. — Я слышала г-жу Ристори в расцвете ее сил, теперь это только развалина. И кроме того я терпеть не могу стихов Кармен Сильвы. Однажды герцогиня д'Аоста приводила мне сюда г-жу Ристори, она читала одну песнь из «Ада» Данте. Вот где она бесподобна.
Алиса выдержала удар, не поморщившись. Она была все такая же мраморная. Взгляд ее оставался зорким и пустым, линия носа благородно изгибалась. Но одна щека облупилась. Странная легкая растительность, зеленая и розовая, покрывала подбородок. Еще одной зимы она бы, пожалуй, не выдержала.
— Вот что, мосье, если вы любите живопись, посмотрите портрет г-жи де Монморанси, — сказала г-жа де Вильпаризи Леграндену, чтобы прервать возобновившиеся комплименты.
Воспользовавшись тем, что Легранден отошел, герцогиня Германтская указала на него тетке ироническим и вопросительным взглядом.
— Это господин Легранден, — сказала вполголоса г-жа де Вильпаризи, — у него есть сестра, которую зовут госпожа де Камбремер, но это имя говорит тебе, вероятно, не больше, чем мне.
— Помилуйте, я отлично ее знаю, — проговорила герцогиня Германтская, прикрыв рот рукой. — Или, вернее, я ее не знаю, но Базену, который бог знает где встречается с ее мужем, вдруг пришло в голову сказать этой толстухе, чтобы она пришла ко мне. Я вам не в силах передать, что это был за визит. Она мне рассказала о своей поездке в Лондон, перечислила все картины в British. Вот сейчас, выйдя от вас, я всучу карточку этому чудовищу. И не думайте, что это легкое дело: под предлогом, что она умирает, эта особа всегда сидит дома, и зайдете ли вы к ней в семь вечера или в девять утра, она всегда готова угостить вас тортом с земляникой.
— Да, разумеется, это чудовище, — продолжала герцогиня в ответ на вопросительный взгляд своей тетки. — Невозможная особа. Она говорит «plumitif» и тому подобные вещи. — «А что это значит «plumitif»?» — спросила племянницу г-жа де Вильпаризи. — «Да почем же я знаю! — воскликнула в притворном, негодовании герцогиня. — И не желаю знать. На таком французском языке я не говорю. — И, увидев, что ее тетка и впрямь не понимает значения слова «plumitif», герцогиня решила показать, что она женщина образованная, а не только пуристка, и в то же время поиздеваться над теткой, как она уже поиздевалась над г-жой де Камбремер: — Ах, боже мой, — проговорила она со смешком, подавляемым остатками деланного раздражения, — всякий это знает: plumitif значит писатель, человек, который держит перо — une plume. Но это ужасное слово. От него у вас могут выпасть зубы мудрости. Никогда меня не заставят говорить подобные вещи».
— Как, это ее брат! Я еще этого не усвоила. Но в сущности тут нет ничего непонятного. И она так же пресмыкается и обладает такими же ресурсами вращающейся книжной этажерки. Такая же подхалимка и такая же надоедливая. Постепенно я начинаю свыкаться с мыслью об этом родстве.
— Садись, пожалуйста, сейчас принесут чай, — сказала герцогине г-жа де Вильпаризи, — поухаживай за собой сама, тебе не к чему смотреть портреты твоих прабабушек, они тебе известны не хуже, чем мне.
Г-жа де Вильпаризи вернулась за свой стол и возобновила работу над цветами. Все приблизились к ней, а я воспользовался этим, чтобы подойти к Леграндену, и, не видя ничего преступного в том, что он находится у г-жи де Вильпаризи, сказал ему, не сообразив, насколько это его оскорбит и покажется ему в то же время оскорблением умышленным: «О, теперь, я могу со спокойной совестью находиться в салоне, раз я и вас здесь встречаю». Г. Легранден заключил из этих слов (по крайней мере он высказал такое суждение обо мне несколько дней спустя), что я прескверный мальчишка, способный находить удовольствие только в причинении людям зла.
— Вы могли бы из вежливости сначала со мной поздороваться, — отвечал он, не подавая мне руки, озлобленным, грубым тоном, которого я в нем не подозревал и который, не находясь ни в какой логической связи с тем, что он обыкновенно говорил, был гораздо непосредственнее и теснее связан с чем-то, что он чувствовал. Дело в том, что, решив навсегда скрывать некоторые свои чувства, мы вовсе не думаем о том, как бы мы их выразили. И вдруг поганый неведомый зверь начинает реветь в нас иногда так дико, что повергает того, кому доводится слышать это невольное, бессвязное и почти непреодолимое признание вашего недостатка или вашего порока, в такой же ужас, в какой повергло бы нас внезапное сознание преступника, которое он делает в косвенной и необычайной форме, неспособный хранить в себе тайну убийства, доселе никем не подозреваемую. Конечно, я прекрасно знал, что идеализм, даже субъективный, не мешает большим философам оставаться лакомками или же настойчиво добиваться избрания в Академию. Но, право же, Леграндену не было надобности так часто напоминать, что он принадлежит другой планете, когда все инстинктивные его движения гнева или любезности управлялись желанием занимать хорошее положение на нашей земле.
— Понятное дело, когда меня преследуют двадцатикратными приглашениями прийти куда-нибудь, — продолжал он вполголоса, — то хотя я и в праве распоряжаться собой по своему усмотрению, однако же, не могу вести себя как мужик.
Герцогиня Германтская уселась. Имя ее, сопровождаемое титулом, прибавляло к ее физической личности герцогство, которое как бы осеняло ее и распространяло золотую тенистую свежесть лесов Германта посреди этого салона, вокруг пуфа, на котором она сидела. Но я удивлялся, почему сходство между ними не читается явственнее на лице герцогини, в котором не было ничего растительного и где, самое большее, красноватые пятна на щеках, — на которых следовало бы, казалось, красоваться гербу Германта, — были результатом, но не образом продолжительных прогулок верхом на свежем воздухе. Впоследствии, когда она сделалась мне безразличной, я изучил множество особенностей герцогини, в частности (чтобы ограничиться сейчас вещами, чары которых я испытывал уже тогда, не умея их различить) ее глаза, в которых пленено было, как на картине, голубое небо французского полудня, широко отверстое и залитое светом, даже когда они не блестели, — и голос, который по первым его хриплым звукам можно было счесть почти плебейским, но по которому текло, как по ступенькам комбрейской церкви или по кондитерской на площади, жирное и ленивое золото провинциального солнца. Но в этот первый день я ничего не различал, жгучее мое внимание тотчас же превращало в пар крупицы, которые я способен был собрать и в которых мог бы обрести что-нибудь из имени Германт. Во всяком случае, я говорил себе, что передо мной именно та женщина, которую все называли герцогиней Германтской: находившееся передо мной тело заключало в себе непостижимую жизнь, обозначавшуюся этим именем; оно только что ввело ее в среду иных существ, в этот окружавший ее со всех сторон салон, от которого жизнь ее была так резко обособлена, что там, где она кончалась, мне чудилась точно некая оторочка, намечавшая ее границы: на окружности, очерченной на ковре раструбом голубой шелковой юбки, и в светлых зрачках герцогини, на месте пересечения ее предубеждений, воспоминаний, непонятных мыслей — презрительных, забавных и любознательных — с внешними образами, которые в них отражались. Может быть, я был бы немного взволнован, если бы встретил ее у г-жи де Вильпаризи на вечере, а не так, как теперь — на одном из «дней» маркизы, на одном из тех приемов, которые являются для женщин лишь коротким привалом посреди их выхода и на которые, не снимая шляпы, прямо с улицы, они приносят в анфиладу салонов наружный воздух и открывают более широкий вид на предвечерний Париж, чем распахнутые настежь окна, откуда доносится шум подъезжающих викторий. На герцогине Германтской была маленькая соломенная шляпа, увитая васильками; и они вызвали в моем представлении не солнце далеких лет, заливавшее поля у Комбре, где так часто я срывал их на косогоре, примыкавшем к изгороди тансонвильского парка, а запах и пыль сумерек, стоявших сейчас на улице Мира, когда по ним проходила герцогиня Германтская. С улыбающимся, недоступным и рассеянным видом, сложив губы в гримаску, она кончиком зонтика, точно крайним ответвлением своей таинственной жизни, чертила круги на ковре, потом с тем равнодушным вниманием, при котором отсутствует всякое соприкосновение с рассматриваемым предметом, взгляд ее останавливался на каждом из нас по очереди, потом обозревал диваны и кресла, зажигаясь тогда той теплой симпатией, которую пробуждает в нас вид даже ничтожной знакомой вещи, — вещи, являющейся для нас почти что живым лицом; мебель эта была не то, что мы, она в какой-то степени принадлежала к ее миру, она была связана с жизнью ее тетки; потом с мебели Бове взгляд этот возвращался к сидевшим на ней людям и приобретал тогда ту пристальность и то выражение неодобрения, которое герцогиня Германтская хотя и не высказала бы вслух из уважения к тетке, но все-таки почувствовала бы, если бы заметила на креслах вместо нас жирное пятно или слой пыли.
Вошел превосходный писатель Г.; он смотрел на свой визит к г-же де Вильпаризи как на повинность. Герцогиня была в восторге от его появления, но не подозвала его взглядом; было вполне естественно, что он сам подошел к ней: обаяние, такт, простота герцогини заставляли его считать ее женщиной умной. Впрочем, подойти к ней от него требовала простая вежливость: так как он был приятен в обхождении и знаменит, то герцогиня Германтская часто приглашала его завтракать даже втроем с нею и с ее мужем, или осенью в Германт, и пользовалась этой близостью, чтобы иногда звать его на обеды с высочествами, искавшими с ним встречи. Герцогиня вообще любила принимать избранные умы, однако при условии, чтобы они были холостяками, — условии, которое они всегда выполняли для нее, даже будучи женатыми, ведь их жены, всегда более или менее заурядные, составляли бы пятно в салоне, куда допускались только самые элегантные красавицы Парижа; таким образом их всегда приглашали без жен. А чтобы предотвратить всякие обиды, герцог объяснял этим вдовцам поневоле, что герцогиня не принимает женщин не выносит женского общества почти что по предписанию врача, и он говорил это таким тоном, каким сказал бы, что она не может оставаться в надушенной комнате, кушать соленое, сидеть в экипаже спиной к лошадям или носить корсет. Правда, эти знаменитости видели у Германтов принцессу Пармскую, принцессу де Саган (которую Франсуаза, слыша постоянные разговоры о ней, в заключение стала называть Саганшей, полагая, что этот женский род требуется грамматикой) и многих других женщин, но присутствие их оправдывалось ссылкой на то, что они родственницы или подруги детства, устранить которых нельзя. Убеждали ли их или нет эти объяснения герцога Германтского насчет своеобразной болезни герцогини, не позволявшей ей водиться с женщинами, но знаменитости передавали их своим супругам. Некоторые из этих дам полагали, что странная болезнь есть лишь предлог замаскировать свою ревность, ибо герцогиня желала безраздельно царить над сонмом поклонников. Более наивные думали, что, может быть, у герцогини своеобразные вкусы и даже скандальное прошлое, что женщины не желают ходить к ней и что она называет своей прихотью то, что на самом деле продиктовано необходимостью. Наконец, лучшие, наслышавшись от своих мужей чудес об уме герцогини, считали, что она слишком возвышается над прочими женщинами и скучала бы в их обществе, так как они ни о чем не умеют говорить. И, действительно, герцогиня скучала с женщинами, если титулы не придавали им какого-нибудь специфического интереса. Но отстраненные супруги ошибались, воображая, будто она не желает принимать никого, кроме мужчин, чтобы иметь возможность поговорить о литературе, науке и философии. Ибо герцогиня никогда не разговаривала на эти темы, по крайней мере с выдающимися писателями и учеными. Если в силу той же семейной традиции, по которой дочери выдающихся полководцев сохраняют среди самых суетных своих забот почтение к вещам, связанным с военным делом, герцогиня Германтская, внучка женщин, поддерживавших близкие отношения с Тьером, Мериме и Ожье, полагала, что прежде всего надо сохранять в своем салоне место для людей острого ума, то, с другой стороны, помня благосклонную и интимную манеру принимать этих знаменитостей в Германте, она сохранила также привычку смотреть на талантливых людей как на близких знакомых, талант которых вас не ослепляет и которым не говорят об их произведениях, что, впрочем, их и не интересовало бы. Кроме того характер ума Мериме, Мельяка и Галеви, свойственный и ее уму, склонял ее, по контрасту со словесной сентиментальностью предшествующей эпохи, к разговорам, исключающим всякого рода громкие фразы и выражение возвышенных чувств, и она считала даже своего рода элегантностью, находясь в обществе поэта или композитора, говорить только о качестве подаваемых блюд или о затеваемой карточной игре. Такое направление разговора несколько смущало людей мало знакомых с ней и даже заключало в себе нечто таинственное. Если герцогиня Германтская спрашивала одного из таких людей, доставит ли ему удовольствие быть приглашенным вместе с знаменитым поэтом, то, пожираемый любопытством, он являлся в назначенный час. Герцогиня говорила поэту о погоде. Переходили к столу. «Любите вы яйца, сваренные этим способом?» — спрашивала она поэта. В ответ на его одобрение, разделявшееся ею, потому что все в доме ей представлялось изысканным, вплоть до отвратительного сидра, выписывавшегося ею из Германта, она приказывала метрдотелю: «Положите еще яиц этому господину», а мало знакомый гость все с нетерпением ждал того, что несомненно входило в намерения герцогини, так как для устройства этой встречи перед отъездом поэта и ему и герцогине понадобилось преодолеть тысячу затруднений. Но завтрак продолжался, блюда убирались одно за другим, подчас доставляя, правда, герцогине случай остроумно пошутить или рассказать остроумный анекдот. А поэт все кушал да кушал, не возбуждая по-видимому ни в герцоге, ни в герцогине никакого желания вспомнить, что он поэт. Вскоре завтрак кончался, и сотрапезники прощались, так и не сказав ни слова о поэзии, которую, однако, все они любили, но о которой, в силу сдержанности, похожей на уже известную мне сдержанность Свана, никто не говорил. Сдержанность эта была просто хорошим тоном. Но для постороннего, если он немного задумывался над ней, она заключала в себе нечто весьма меланхоличное, и завтраки у Германтов напоминали тогда часы свидания робких влюбленных, которые часто проводят их в банальнейших разговорах вплоть до минуты расставания, так что от робости ли, от стыда или от неумелости, великая тайна, которую они были бы счастливы поведать друг другу, не может найти у них дороги от сердца к устам. Впрочем, надо прибавить, что молчание, соблюдавшееся в отношении глубоких тем и неизменно разочаровывавшее всякого, кто стал бы ожидать, когда же наконец их затронут, хотя и можно было считать характерной особенностью герцогини, все же не было у нее абсолютным. Герцогиня Германтская провела молодость в несколько иной среде, тоже аристократической, но высоко культурной, хотя менее блестящей и в особенности менее пустой, чем та, в которой она жила теперь. Среда эта оставила под ее теперешней фривольностью некоторую богатую и невидимо питавшую ее почву, откуда герцогиня извлекала иногда (очень редко, впрочем, потому что она терпеть не могла педантизма) цитату из Виктора Гюго или из Ламартина; хорошо ею усвоенные, произнесенные с прочувствованным выражением ее прекрасных глаз, цитаты эти неизменно поражали и пленяли слушателей. Порой даже она непритязательно, просто и очень кстати давала драматургу-академику какой-нибудь разумный совет, указывала на необходимость смягчить то или иное положение или переделать развязку.
Если в салоне г-жи де Вильпаризи, так же как в свое время в комбрейской церкви, на венчании м-ль Перспье, я с трудом обретал на красивом, но слишком человеческом лице герцогини Германтской неведомые черты ее имени, то думал по крайней мере, что, когда она заговорит, речи ее, глубокие и таинственные, будут отличаться необычайностью средневековых стенных ковров и расписных церковных окон. Но, чтобы не разочаровать меня, слова, которые я услышал бы из уст особы, называвшейся герцогиней Германтской, должны бы были, если бы даже я не любил ее, не только отличаться изысканностью, красотой и глубиной, но еще и отливать амарантовым цветом последнего слога ее имени, цветом, которого я, к удивлению, не нашел в ней, увидев ее впервые; я решил, что он укрывается в ее мыслях. Конечно, мне не раз уже приходилось слышать, как г-жа де Вильпаризи, Сен-Лу и другие люди, ум которых не имел ничего необыкновенного, произносят без всяких предосторожностей это имя Германт, просто как имя человека, который сейчас придет с визитом или с которым они будут обедать, по-видимому вовсе не чувствуя в этом имени панорам желтеющих лесов и окруженного таинственностью провинциального уголка. Но это наверное было притворством с их стороны, вроде того как классические поэты не объявляют нам глубоких намерений, которые, у них, однако, были, — притворством, которому и я пытался подражать, произнося самым естественным тоном «герцогиня Германтская», точно имя, похожее на другие имена. Впрочем, все уверяли, что это женщина очень умная, блестящая собеседница, живущая в маленьком кружке, одном из наиболее интересных: слова, лишь подогревавшие мои мечты. Ибо, когда я слышал: умный кружок, блестящий разговор, я воображал себе ум, совсем не похожий на умы мне известные, будь то даже умы выдающихся людей, я мысленно составлял этот кружок совсем не из таких людей, как Бергот. Нет, под умом понимал я некую неизъяснимую способность — золотистую, пропитанную лесной свежестью. Произнося даже самые умные речи (умные в том смысле, в каком я понимал это слово, когда речь шла о каком-нибудь философе или критике), герцогиня Германтская, может быть, еще сильнее обманула бы мое ожидание столь своеобразной способности, чем разговаривая о самых ничтожных вещах, например, о рецептах кушаний и обстановке замка, или называя имена своих соседей и родственников, по которым я мог бы представить ее жизнь.
— Я думала встретить здесь Базена, он собирался зайти к вам, — сказала герцогиня тетке.
— Я уже несколько дней не видела твоего мужа, — отвечала г-жа де Вильпаризи обидчивым и сердитым тоном. — Не видела или, может быть, видела не больше одного раза после этой его прелестной шутки, когда он велел доложить о себе как о королеве шведской.
Вместо улыбки герцогиня Германтская стиснула уголок губ, словно прикусила свой вуаль.
— Мы вчера обедали с ней у Бланш Леруа, вы бы не узнали ее, она стала огромная, я уверена, что она больна.
— Я как раз только что говорила моим гостям, что ты ее находишь похожей на лягушку.
Герцогиня Германтская издала что-то вроде хриплого шума, который означал, что она усмехается для очистки совести.
— Я не помню, чтобы я сделала это милое сравнение, но в таком случае теперь это лягушка, которой удалось сравняться с волом. Или, пожалуй, не совсем так, потому что вся ее величина скопилась в животе, это скорее лягушка в интересном положении.
— Ха-ха, я нахожу твой образ забавным, — сказала г-жа де Вильпаризи, которая втайне гордилась перед своими гостями остроумием племянницы.
— Но в особенности она самовластна, — отвечала герцогиня Германтская, иронически отчеканивая этот эпитет, как сделал бы Сван, — так как, признаюсь, никогда не видела рожающей лягушки. Во всяком случае, эта лягушка, которая, впрочем, не просит себе короля, ибо я никогда не видела ее такой шаловливой, как после смерти своего супруга, должна приехать к нам обедать на будущей неделе. Я сказала, что вас предупрежу, на всякий случай.
Г-жа де Вильпаризи издала какое-то неясное ворчание.
— Я знаю, что она обедала позавчера у герцогини Мекленбургской, — проговорила она. — Там был Аннибал де Бреоте. Он приезжал ко мне и все рассказал, довольно забавно, должна сказать.
— На этом обеде был человек куда более остроумный, чем Бабал, — сказала герцогиня, которая этим уменьшительным хотела показать свою близость с г-ном де Бреоте-Консальви. — Это господин Бергот.
Я никогда не думал, что Бергота можно рассматривать как человека остроумного; больше того, он мне казался принадлежащим к числу умных людей, то есть бесконечно удаленным от таинственного царства, подмеченного мной за пурпурными занавесками одной ложи бенуара, в которой г. де Бреоте смешил герцогиню и вел с ней на языке богов вещь, недоступную воображению: разговор между людьми Сен-Жерменского предместья. Я был глубоко опечален этим нарушением равновесия, возобладанием Бергота над г-ном де Бреоте. В особенности же сожалел о том, что избегал Бергота на представлении «Федры» и не подошел к нему.
— Это единственный человек, с которым мне хотелось бы познакомиться, — прибавила герцогиня, в которой всегда можно было, точно в минуту душевного прилива, различить, как приток любопытства по отношению к знаменитым писателям и ученым встречается на пути суетливом аристократического снобизма. — Это мне доставило бы удовольствие!
Если бы возле меня находился Бергот, что мне было бы так легко устроить, то его присутствие не только не внушило бы герцогине Германтской, как я опасался, неблагоприятного представления обо мне, но, напротив, вероятно побудило бы ее пригласить меня знаком к себе в ложу и попросить меня привести когда-нибудь к завтраку великого писателя.
— По-видимому, он был не очень любезен, его представили герцогу Кобургскому, и он не сказал ему ни слова, — продолжала герцогиня, отмечая эту любопытную черту так, как если бы она рассказывала о китайце, сморкавшемся в бумагу. — Он ни разу не сказал ему «монсеньер», — прибавила она, позабавленная этой подробностью, которая имела для нее такое же важное значение, как отказ протестанта во время аудиенции у паны стать на колени перед его святейшеством.
Заинтересованная этими особенностями Бергота, она однако не находила в них, по-видимому, ничего заслуживающего порицания и скорее как будто ставила их ему в заслугу, хотя и не могла бы сказать в точности, в чем она заключается. Несмотря на это странное понимание оригинальности Бергота, мне случилось впоследствии признать некоторую ценность суждения герцогини Германтской, находившей Бергота, к великому изумлению многих, более остроумным, чем г-на де Бреоте. Так эти ниспровергающие, обособленные и тем не менее верные суждения выносятся в свете редкими его представителями, возвышающимися над остальными. Они делают первоначальный набросок той иерархии ценностей, которую установит следующее поколение, не желая вечно придерживаться прежней.
Вошел прихрамывая граф д'Аржанкур, поверенный в делах Бельгии и свойственник г-жи де Вильпаризи, и сейчас же вслед за ним двое молодых людей, барон Германтский и е. в. герцог де Шательро, которому герцогиня Германтская сказала: «Здравствуйте, голубчик Шательро», с рассеянным видом и не тронувшись со своего пуфа, ибо она была большой приятельницей матери молодого герцога, который по этой причине питал к ней с детства великое почтение. Высокие, тонкие, с золотистой кожей и волосами, совершенное воплощение типа Германтов, эти молодые люди производили впечатление сгустков весеннего вечернего света, заливавшего большой салон. Следуя обыкновению, входившему тогда в моду, они поставили свои цилиндры возле себя на пол. Историк Фронды вообразил, что они испытывают замешательство, как крестьянин, вошедший в мэрию и не знающий, что делать со шляпой. Почтя долгом милосердия прийти на помощь неловкости и робости, которые он в них предполагал:
— Нет, нет, — обратился он к ним, — не кладите на пол, вы их попортите.
Барон Германтский, скосив плоскость зрачков, вдруг окрасил их в яркий и резкий синий тон, который парализовал благожелательного историка.
— Как зовут этого господина, которого только что представила мне госпожа де Вильпаризи? — обратился ко мне барон.
— Господин Пьер, — отвечал я вполголоса.
— Пьер… а дальше?
— Пьер его фамилия, это выдающийся историк.
— А-а… скажите, пожалуйста!
— Нет, теперь вошло в моду новое обыкновение класть шляпы на пол, как делают эти господа, — пояснила г-жа де Вильпаризи, — я, как и вы, не могу к этому привыкнуть. Но я его предпочитаю привычке моего племянника Робера, который всегда оставляет шляпу в передней. Я ему говорю, когда вижу его входящим таким образом, что он похож на часовщика, и спрашиваю, не собирается ли он завести мои часы.
— Вы говорили только что, маркиза, о шляпе г-на Моле, скоро мы дойдем до того, что будем, как Аристотель в главе о шляпах… — проговорил историк Фронды, немного ободрившийся после вмешательства г-жи де Вильпаризи, но все еще таким слабым голосом, что, за исключением меня, его никто не слышал.
— Она, право, поразительна, наша милая герцогиня, — сказал г. д'Аржанкур, показывая на герцогиню Германтскую, которая разговаривала с Г. — Когда в салоне есть какой-нибудь видный человек, он всегда оказывается рядом с ней. Не иначе, как важная птица, занимает место возле нее. Конечно, нельзя, чтоб каждый день это были гг. де Борелли, Шленберже или д'Авенель. Но тогда окажется, что это г. Пьер Лоти или г. Эдмон Ростан. Вчера вечером, у Дудовилей, где, говоря в скобках, она была великолепна в изумрудной диадеме, в розовом платье со шлейфом, по одну сторону ее сидел г. Дешанель, а по другую — немецкий посол: она давала им отпор насчет Китая; большая публика, находившаяся на почтительном расстоянии и не слышавшая, о чем они говорят, спрашивала, не война ли готовится. Положительно она похожа была на королеву в кругу своих приближенных.
Все подошли поближе к г-же де Вильпаризи, чтобы посмотреть, как она пишет цветы.
— Розовый тон этих цветов поистине небесный, — сказал Легранден, — я хочу сказать, что они тона розового неба. Ведь есть небо розовое, как есть небо голубое. Однако, — прошептал он, стараясь, чтобы его не слышал никто, кроме маркизы, — пожалуй, мне еще больше нравится шелковистость, живые алые тона копии, которую вы с них делаете. О, вы оставляете далеко позади Пизанелло и Ван-Гейсума, их мелочно выписанный и мертвый гербарий.
И самый скромный художник всегда принимает как должное почтение, оказываемое ему перед соперниками, и старается только быть к ним справедливым.
— У вас такое впечатление, оттого что они писали цветы старого времени, которых мы больше не знаем, но у них были очень большие знания.
— Ах, цветы старого времени, — как это остроумно сказано! — воскликнул Легранден.
— Вы, точно, пишете прекрасные цветы вишни… или майские розы, — проговорил историк Фронды не без некоторого колебания насчет цветов, но с уверенностью в голосе, потому что начинал уже забывать инцидент со шляпами.
— Нет, это цветы яблони, — сказала герцогиня Германтская, обращаясь к тетке.
— О, да я вижу, что ты деревенская жительница; как и я, ты умеешь различать цветы.
— Ах, да, верно! Но я думал, что яблони уже отцвели, — сказал наудачу историк Фронды, чтобы оправдаться.
— Что вы, напротив, они еще не зацвели и зацветут не раньше, чем через две, а то и три недели, — заметил архивариус, который принимал некоторое участие в управлении имениями г-жи де Вильпаризи и поэтому был больше в курсе явлений сельской природы.
— Да, и это еще в окрестностях Парижа, где яблони цветут значительно раньше. В Нормандии, например, у его отца, — сказала маркиза, показывая на герцога де Шательро, — который владеет великолепными яблоневыми садами на берегу моря, как на японской ширме, они по-настоящему розовеют только после двадцатого мая.
— Никогда их не видел, — сказал юный герцог, — потому что от цветов яблони у меня делается сенная лихорадка, удивительно!
— Сенная лихорадка? Никогда о такой не слышал, — удивился историк.
— Это модная болезнь, — заметил архивариус.
— Смотря по обстоятельствам; вы можете отделаться благополучно в те годы, когда урожай яблок. Вы знаете поговорку нормандца: в те годы, когда урожай яблок, — сказал г. д'Аржанкур, который, не будучи чистокровным французом, пытался придать себе вид парижанина.
— Ты права, — отвечала г-жа де Вильпаризи племяннице, — это яблони с юга. Мне прислала эти ветки одна цветочница, прося их принять. Вас удивляет, г. Вальмер, что цветочница присылает мне ветви яблони? — обратилась она к архивариусу. — Да, несмотря на то, что я старуха, я со многими знакома, у меня есть несколько друзей, — прибавила она с простодушной, как всем показалось, улыбкой, хотя, по-моему, она скорее находила пикантным похвастаться дружбой с цветочницей при наличии таких важных знакомств.
Поднялся и Блок, чтобы в свою очередь полюбоваться цветами, которые писала г-жа де Вильпаризи.
— Нужды нет, маркиза, — сказал историк, снова садясь на свой стул, — даже если повторится одна из тех революций, которые так часто заливали кровью историю Франции, — а, боже мой, в нынешнее время ничего нельзя знать, — прибавил он, бросая кругом опасливый взгляд, как бы желая удостовериться, нет ли в салоне людей «неблагонадежных», хотя он в этом не сомневался, — вы, с вашим талантом и знанием пяти языков, можете быть спокойны: вы всегда выпутаетесь. — Историк Фронды наслаждался покоем, потому что позабыл о своих бессонницах. Но вдруг он вспомнил, что не спал шесть суток, и тогда тяжелая усталость, рожденная его сознанием, завладела его ногами, искривила ему плечи, и печальное его лицо осунулось, как у старика.
Желая сделать жест, выражающий восхищение, Блок локтем опрокинул вазу с веткой яблони, и вся вода разлилась по ковру.
— У вас, право, пальцы феи, — сказал маркизе историк, который, повернувшись ко мне спиной в это мгновение, не заметил неуклюжего движения Блока.
Но последний вообразил, что слова эти относятся к нему, и чтобы прикрыть развязностью стыд за свою оплошность, проговорил:
— Это не имеет никакого значения, я не замочился.
Г-жа де Вильпаризи позвонила, и вошедший лакей принялся вытирать ковер и подбирать осколки вазы. Маркиза пригласила на свой утренник двух молодых людей, а также герцогиню Германтскую, наказав ей:
— Не забудь передать Жизели и Берте (герцогиням д'Обержон и де Портефен), чтобы они пришли до двух часов, они мне будут помогать, — таким тоном, как сказала бы взятым на подмогу метрдотелям прибыть пораньше, чтобы приготовить вазы с фруктами.
Со своими титулованными родственниками, а также с г-ном де Норпуа она вовсе не была так любезна, как с историком, с Котаром, с Блоком, со мной, и они, казалось, интересовали ее лишь постольку, поскольку она могла предложить их в пищу нашему любопытству. Ибо маркиза знала, что ей нечего церемониться с людьми, для которых она была не более или менее блестящей женщиной, но обидчивой сестрой их отца или дяди, требовавшей бережного отношения. Не было никакого смысла пытаться блеснуть перед людьми, которых это не могло обмануть насчет ее истинного положения и которые лучше, чем кто-нибудь, знали ее биографию и чтили в ней знаменитый род, к которому она принадлежала. Но, главное, они были теперь для нее не более, чем истощившейся почвой, которая уже не в состоянии приносить плоды, они не познакомили бы ее с новыми своими друзьями, не предложили бы ей разделить их удовольствия. Самое большее, она могла добиться их присутствия или говорить о них на своих пятичасовых приемах, как впоследствии она говорила в своих мемуарах, для которых эти приемы были только своего рода репетицией, первой читкой вслух перед небольшой аудиторией. А общество, которое она желала заинтересовать, обольстить, приковать этими знатными родичами, общество всякого рода, Котаров, Блоков, популярных драматургов, историков Фронды, оно-то и заключало в себе для г-жи де Вильпаризи — за отсутствием высшего света, который к ней не ходил, — движение, новизну, развлечения и жизнь; именно из этих людей могла извлекать она выгоды, для своего салона (которые вполне стоили того, чтобы дать им иногда возможность встречаться с герцогиней Германтской, хотя она никогда никого не знакомила с ней): устраивать обеды с замечательными людьми, работы которых ее интересовали, ставить комические оперы или пантомимы под руководством самого автора, доставать ложи на интересные спектакли. Блок встал с намерением уйти. Он громко сказал, что инцидент с опрокинутой вазой не имеет никакого значения, но вполголоса он говорил другое и совсем другое думал. «Когда у тебя нет достаточно вышколенных слуг, которые умели бы так поставить вазу, чтобы она не окатила водой и не поранила гостей, так нечего и заводить всей это роскоши», — ворчал он сквозь зубы. Он был из тех обидчивых и «нервных» людей, которые не выносят совершенной ими оплошности (не признавая себя, впрочем, виноватыми), которым она портит весь день. Взбешенный, он был охвачен черными мыслями, не хотел больше ходить в свет. Была минута, когда требуется немного разрядить атмосферу. К счастью, г-жа де Вильпаризи намеревалась его удержать. Оттого ли, что она знала настроение своих друзей, увлеченных поднимавшейся волной антисемитизма, или же просто по рассеянности, она не представила Блока своим гостям. Между тем Блок, мало знакомый с обычаями света, вообразил, что уходя он должен из приличия раскланяться со всеми, но холодно; он несколько раз кивнул головой и, уткнув бороду в воротничок, оглядел через пенсне одного за другим всех присутствующих, с неприветливым и недовольным видом. Но г-жа де Вильпаризи его остановила; ей надо было еще поговорить с ним о маленькой пьесе, которая должна была пойти у нее, и, с другой стороны, она не хотела отпускать его, не познакомив с г-ном де Норпуа (она удивлялась, однако, что посла до сих пор нет), хотя это лестное, как ей казалось, знакомство было излишним: Блок и без того решил уговорить двух знакомых артисток в интересах своей славы спеть даром у маркизы, ибо на приемах у нее бывает цвет европейского общества. Он даже предложил привести кроме того одну трагедийную актрису «с ясными глазами, прекрасную, как Гера», которая читает лирические отрывки с чувством пластической красоты. Но, узнав ее имя, г-жа де Вильпаризи отклонила это предложение, потому что то была приятельница Сен-Лу.
— Я имею прекрасные известия, — сказала она мне на ухо, — я думаю, что у них это на ладан дышит и они скоро разойдутся, несмотря на одного офицера, который сыграл во всем этом гнусную роль, — прибавила она. Ибо родные Робера смертельно возненавидели князя Бородинского, предоставившего Сен-Лу отпуск в Брюгге по настоятельным просьбам парикмахера, и обвинили его в покровительстве позорной связи. — Это очень дурной человек, — сказала мне г-жа де Вильпаризи добродетельным тоном Германтов, который был свойствен даже самым развращенным представителям этого рода. — Очччень, очччень дурной, — повторила она, утраивая букву «ч» в слове очень. Чувствовалось, что она не сомневается в его участии во всех кутежах племянника. Но так как любезность была преобладающей привычкой маркизы, то выражение нахмуренной суровости по отношению к скверному капитану, которого она иронически приподнятым тоном называла «князь Бородинский», — тоном женщины, ставящей империю ни во что, — разрешилось нежной улыбкой по моему адресу и механическим подмигиванием, точно мы были сообщниками.
— Я очень люблю де Сен-Луп-ан-Бре, — сказал Блок, — хоть он и порядочная свинья, люблю за то, что он превосходно воспитан. Я очень люблю не его, но людей превосходно воспитанных, это такая редкость, — продолжал он, не отдавая себе отчета, потому что сам он был очень дурно воспитан, насколько неприятны его слова. — Приведу вам один пример его безукоризненного воспитания, по-моему, очень показательный. Я раз встретил его с одним молодым человеком, когда он собирался взойти в свою колесницу с прекрасными ободьями, после того как собственноручно надел сверкающую сбрую на пару коней, упитанных овсом и ячменем, которых ему не было надобности подстегивать гремящим бичом. Он нас познакомил, но я не расслышал имени молодого человека, ведь мы никогда не слышим имени людей, которых нам представляют, — прибавил он со смехом, потому что это была шутка его отца. — Де Сен-Луп-ан-Бре держался просто, не выказывал чрезмерной предупредительности к молодому человеку и как будто не чувствовал ни малейшего стеснения. А между тем я через несколько дней случайно узнал, что молодой человек — сын сэра Руфуса Израэльса!
Конец этой истории оказался менее шокирующим, чем ее начало, потому что она осталась непонятой слушателям. Действительно, сэр Руфус Израэльс, казавшийся Блоку и отцу его особой почти королевского ранга, перед которым Сен-Лу должен был трепетать, в глазах Германтов был, напротив, не более, чем выскочкой, только терпимым в свете, и дружбой с ним никому бы и в голову не пришло гордиться, скорее наоборот.
— Я узнал это, — сказал Блок, — от уполномоченного сэра Руфуса Израэльса, приятеля моего отца и человека совершенно необыкновенного. Ах, и прелюбопытнейший субъект! — прибавил он с той решительностью и тем восторженным тоном, каким мы выражаем только заимствованные, а не собственные наши убеждения.
Блок был в восторге от предстоящего знакомства с г-ном де Норпуа.
— Вот кого хотелось бы, — говорил он, — заставить высказаться о деле Дрейфуса. Склад ума таких людей я плохо себе представляю, и было бы пикантно получить интервью с этим выдающимся дипломатом, — сказал он саркастическим тоном, чтобы не создалось впечатления, будто он ставит себя ниже посла.
— Скажи, пожалуйста, — обратился ко мне Блок вполголоса, — какое состояние может быть у Сен-Лу? Понимаешь ли, если я тебя об этом спрашиваю, то вовсе не потому, чтобы я придавал этому какое-нибудь значение, а с бальзаковской точки зрения, понимаешь. И не знаешь ли ты также, в какие ценности оно помещено, есть ли у него французские или иностранные бумаги, земельные владения?
Я не мог удовлетворить его любопытство. Перестав говорить вполголоса, Блок громко попросил позволения открыть окна и, не дожидаясь ответа, направился к одному из окон. Г-жа де Вильпаризи сказала, что это невозможно, что она простужена. «Ах, вы боитесь простуды, — разочарованно проговорил Блок. — Но ведь на дворе тепло!» И, рассмеявшись, он обвел глазами присутствующих, как бы требуя от них поддержки против г-жи де Вильпаризи. Он ее не встретил у этих хорошо воспитанных людей. Его загоревшиеся глаза, которым никого не удалось соблазнить, безропотно приняли снова серьезное выражение; он объявил, констатируя свое поражение: «Ведь тут по крайней мере двадцать два градуса, а то и всех двадцать пять. Это меня не удивляет. С меня пот градом льется. И я лишен возможности погрузиться, как мудрый Антенор, сын реки Алфея, в родительские волны, чтобы остановить потоизлияние, перед тем как я сяду в лоснящуюся купель и умащусь благовонным маслом. — И, удовлетворяя потребности развить перед другими медицинские теории, применение которых было бы благотворно для его собственного самочувствия, так заключил свою речь: — Ну, что же, раз вы считаете, что для вас это хорошо! Я держусь обратного мнения. Как раз от этой духоты мы простужаемся».
Г-жа де Вильпаризи сожалела, что он сказал это тоже во всеуслышание, но не придала факту большого значения, когда увидела, что архивариус, националистические убеждения которого держали ее так сказать на цепи, находится слишком далеко, для того чтобы услышать Блока. Она была больше шокирована, когда Блок, увлеченный демоном своего дурного воспитания, который сначала сделал его слепым, спросил ее, смеясь отцовской шутке:
— Не его ли ученое исследование читал я, в котором он доказывает при помощи неопровержимых доводов, что русско-японская война должна кончиться победой русских и поражением японцев? Не впал ли он немного в детство? Кажется, это его я видел целившимся на кресло, прежде чем подойти, шаркая ногами, и сесть в него.
— Никогда в жизни! Подождите минутку, — прибавила маркиза, — не могу понять, почему он так замешкался.
Она позвонила и сказала вошедшему лакею, так как нисколько не скрывала и даже любила показать, что ее старый друг проводит большую часть времени у нее:
— Ступайте скажите господину де Норпуа, чтобы он пришел; он раскладывает бумаги в моем кабинете. Сказал, что придет через двадцать минут, и вот уже час и три четверти, как я его жду. Он вам изложит свою точку зрения на дело Дрейфуса и на все, что вы пожелаете, — обратилась она к Блоку недовольным тоном, — он не очень одобряет то, что у нас делается.
Действительно г. де Норпуа был в дурных отношениях со стоявшим у власти министерством; хотя он не позволил бы себе привести к маркизе членов правительства (она все же сохранила достоинство старой аристократии и оставалась в стороне от деловых сношений, которые ему приходилось поддерживать), однако г-жа де Вильпаризи была через него в курсе всех событий. Равным образом и эти республиканские политические деятели не дерзнули бы попросить г-на де Норпуа представить их г-же де Вильпаризи. Но некоторые из них ездили к нему в ее поместье, когда в трудных обстоятельствах нуждались в содействии бывшего посла. Узнавали адрес. Отправлялись в замок. Владелицы его не видели. Но за обедом она говорила:
— Мосье, я знаю, что приходили вас беспокоить. Дела идут лучше?
— Вы не очень торопитесь? — спросила Блока г-жа де Вильпаризи.
— Нет, нет, я хотел уходить, потому что не очень хорошо себя чувствую, встает даже вопрос, не следует ли мне полечить в Виши мой желчный пузырек, — проговорил он, отчеканивая эти слова с сатанинской иронией.
— Да? Как раз мой внучатный племянник Шательро должен туда ехать, вам надо сговориться и ехать вместе. Он еще здесь? Он, знаете, милый, — сказала г-жа де Вильпаризи, чистосердечно, может быть, полагая, что если оба молодых человека — ее знакомые, то у них нет никаких оснований не подружиться.
— О, не знаю, доставит ли это ему удовольствие, я с ним знаком… очень мало, вот он там, подальше, — проговорил Блок, сконфуженный и восхищенный.
Метрдотелю не пришлось исполнить в точности только что данное ему поручение относительно г-на де Норпуа. Ибо последний, чтобы создать впечатление, будто он только сию минуту приехал и еще не виделся с хозяйкой дома, взял на удачу чью-то шляпу в передней, направился к г-же Вильпаризи и церемонно поцеловал у ней руку, спрашивая, как она поживает, с таким интересом, точно увидел ее после долгой разлуки. Он не знал, что слова маркизы де Вильпаризи перед его приходом лишили всякого правдоподобия эту комедию, которую она, впрочем, и прервала, пригласив г-на де Норпуа и Блока в соседнюю комнату. Блок, увидя любезности, расточавшиеся вошедшему (он не знал еще, что это г. де Норпуа), а также размеренные грациозные и глубокие поклоны, которыми посол отвечал на них, — Блок почувствовал себя приниженным всем этим церемониалом и в досаде, что он будет наверное обойден, сказал мне, желая показать свою непринужденность: «Что это за остолоп?» Впрочем, может быть, расшаркиванья г-на де Норпуа оскорбляли лучшее, что было в Блоке, большую прямоту тех кругов общества, к которым он принадлежал, и он отчасти искренно находил поклоны маркиза смешными. Во всяком случае, они перестали казаться ему такими и даже привели его в восхищение в тот миг, когда оказались обращенными к нему, Блоку.
— Господин посол, — сказала г-жа де Вильпаризи, — я хотела бы познакомить вас с этим господином. Господин Блок, маркиз де Норпуа. — Она считала своим долгом, несмотря на грубоватое обращение с г-ном де Норпуа, называть его «господин посол» вследствие учтивости, вследствие преувеличенного почтения к посту посла, — почтения, привитого ей маркизом, — и, наконец, чтобы конкретно применить те менее фамильярные, более церемонные манеры, которые в салоне благовоспитанной женщины, резко отличаясь от привычной для нее в отношениях с другими гостями вольности, тотчас выдают ее любовника.
Г. де Норпуа потопил свой синий взгляд в седой бороде, низко опустил свое крупное туловище, как бы преклоняясь перед достоинствами, заключенными для него в имени Блок, и пробормотал: «Очень рад», — между тем как его юный собеседник, растрогавшись, но считая, что знаменитый дипломат заходит слишком далеко, поспешил его поправить, сказав: «Помилуйте, напротив, это я очень рад!» Но эта церемония, которую г. де Норпуа из дружеских чувств к г-же де Вильпаризи повторял с каждым новым лицом, представляемым ему старой его приятельницей, показалась последней недостаточной, и она решила простереть любезность к Блоку еще дальше:
— Спросите его обо всем, что вы хотите знать, отведите его в сторону, если это вам удобнее; он будет очень рад побеседовать с вами, ведь вы, кажется, хотели поговорить с ним о деле Дрейфуса, — прибавила маркиза, столь же мало заботясь, доставит ли это удовольствие г-ну де Норпуа, как она не думала спрашивать своих гостей, приятно ли им будет смотреть портрет герцогини де Монморанси, когда велела осветить его для историка, или пить чай, когда приказывала обносить их этим напитком.
— Говорите с ним громко, — сказала она Блоку, — он глуховат, но он вам скажет все, что вам будет угодно, он был хорошо знаком с Бисмарком, с Кавуром. Не правда ли, мосье, — возвысила она голос, — вы хорошо знали Бисмарка?
— Работаете над чем-нибудь? — спросил г. де Норпуа, сочувственно взглянув на меня и сердечно пожимая мне руку. Я воспользовался этим, чтобы предупредительно освободить его от шляпы, которую он счел долгом принести с собой для парада, ибо в эту минуту я заметил, что им была захвачена моя шляпа. — Вы мне показывали одну немного затейливую вещицу, в которой вы чересчур мудрите. Я вам откровенно высказал мое мнение; то, что вы сделали, не стоит потраченного вами труда. Готовите вы нам что-нибудь? Вы слишком увлекаетесь Берготом, если память мне не изменяет.
— Ах, не говорите дурно о Берготе, — воскликнула герцогиня.
— Я не оспариваю в нем таланта живописца, никто бы это не посмел сделать, герцогиня. Он умеет владеть резцом и травить офорты, хотя и неспособен писать широкие полотна, подобно г-ну Шербюлье. Но мне кажется, что в нынешнее время происходит смешение жанров и что задача романиста скорее завязывать интригу и облагораживать сердца, чем замысловато выводить гравировальной иглой фронтисписы и концевые виньетки. Я увижусь с вашим отцом в воскресенье у нашего славного А. Ж., — прибавил он, обращаясь ко мне.
Видя, как он заговаривает с герцогиней Германтской, я исполнился было надежды, что он поможет мне быть принятым у герцогини, окажет ту услугу, в которой отказал, когда я просил его ввести меня в дом г-на Свана. «Другой предмет моего восхищения, — сказал я ему, — это Эльстир. Кажется, у герцогини Германтской есть чудесные его картины, в частности изумительный пучок редиски, который я заметил на выставке и так хотел бы увидеть снова; какой шедевр эта картина!» Действительно, если бы я был человеком влиятельным и меня спросили бы, какое произведение живописи я предпочитаю, то я не задумываясь назвал бы этот пучок редиски. «Шедевр? — воскликнул г. де Норпуа удивленно и неодобрительно. — Да ведь это даже не картина, это простой эскиз (он был прав). Если вы называете шедевром этот живой набросок, то что же вы скажете о «Деве» Эбера или Даньян-Бувере?
— Я слышала, как вы отказали приятельнице Робера, — сказала герцогиня Германтская тетке, после того как Блок отвел в сторону посла, — думаю, что жалеть вам не придется, ведь это ужас что такое, у ней нет и тени таланта, и вдобавок она смешная кривляка.
— Откуда же вы ее знаете, герцогиня? — спросил г. д'Аржанкур.
— Как, неужели вы не знаете, что она публично выступала у меня, но я этим не горжусь, — сказала смеясь герцогиня Германтская, однако с удовольствием показывая, что ей первой довелось увидеть смешную игру актрисы, о которой заговорили. — Ну, теперь мне остается только уйти, — прибавила она, не трогаясь с места.
Она увидела в эту минуту входящего мужа, и последние слова ее намекали на комизм этого совместного посещения, напоминавшего визит новобрачных, но отнюдь не на трудные часто отношения между нею и этим огромным стареющим весельчаком, который, однако, все еще вел жизнь молодого человека. Окидывая собравшихся в большом числе вокруг чайного стола гостей приветливыми, лукавыми и немного ослепленными от лучей закатного солнца взглядами маленьких круглых зрачков, помещенных в глазу точь в точь как те «мушки», в которые умел бесподобно целить и попадать такой великолепный стрелок, герцог двигался с восхищенной и осторожной медленностью, как если бы, оробев в столь блестящем собрании, он боялся наступить на платье или помешать разговорам. Не сходившая у него с губ немного пьяная улыбка доброго короля Ивето и полуразжатая рука, плывшая около его груди как плавниковое перо акулы, которую он без разбора давал пожимать и старым своим друзьям и незнакомым людям, когда их ему представляли, позволяли герцогу, не утруждая себя ни одним телодвижением и не прерывая своей благодушной, ленивой и царственной прогулки, обласкать всех толпившихся возле него людей единственно лишь бросаемыми вполголоса фразами: «Добрый вечер, милый; добрый вечер, дорогой друг; я восхищен, мосье Блок, добрый вечер, Аржанкур», — или же, когда он поровнялся со мной и услышал мое имя: «Добрый вечер, миленький сосед! Как поживает ваш отец? Какой он славный человек». Он церемонно поздоровался с одной только г-жой де Вильпаризи, которая в ответ кивнула ему, вынув из передника руку.
Баснословный богач в мире, где богатых встречается все меньше и меньше, и насквозь пропитанный сознанием этого огромного богатства, герцог сочетал в себе тщеславие большого барина и самомнение денежного туза, удерживаемое, впрочем, в должных границах утонченным аристократическим воспитанием. Однако видно было, что своими успехами у женщин, причинявшими столько огорчений его жене, он обязан был не только своему имени и своему состоянию, так как и до сих пор еще сохранил большую красоту, и профиль его напоминал чистотой и смелостью очертаний профиль какого-нибудь греческого бога.
— Неужели она действительно выступала у вас? — спросил герцогиню д'Аржанкур.
— Ну да, она явилась читать роль с букетом лилий в руке и другими лилиями на платье. (Герцогиня Германтская, подобно г-же де Вильпаризи, умышленно произносила некоторые слова на крестьянский лад, без концевых согласных, хотя, в противоположность тетке, всегда грассировала звук «р».)
Перед тем как г. де Норпуа, подчинясь желанию маркизы, увел Блока в уголок, где они могли поговорить, я вернулся на минуту к старому дипломату, чтобы замолвить перед ним словечко об академическом кресле для моего отца. Он хотел сначала отложить этот разговор. Но я возразил, что собираюсь уехать в Бальбек. «Как, вы снова едете в Бальбек! Да вы настоящий globe-trotter!» Потом он меня выслушал. Когда я назвал имя Леруа-Болье, г. де Норпуа подозрительно на меня посмотрел. У меня создалось впечатление, что он сказал г-ну Леруа-Болье что-то неприятное для моего отца и опасается, не передал ли ему экономист этих слов. Мигом он загорелся самым горячим расположением к отцу. После одного из тех замедлений речи, когда у говорящего вдруг вырывается слово как бы вопреки его воле, так что кажется, будто несокрушимое убеждение взяло в нем верх над неловкими усилиями заставить себя замолчать: «Нет, нет, — с волнением проговорил он, — вашему отцу не надо выставлять свою кандидатуру. Не надо в его же собственных интересах, из уважения к его большому научному весу, который он рискует скомпрометировать подобной авантюрой. Он стоит большего. Окажись он избранным, ему грозила бы опасность все потерять и ничего не выиграть. Слава богу, он не оратор. А это единственная вещь, которая имеет значение у дорогих моих коллег, хотя бы говорились совершеннейшие пустяки. У вашего отца есть серьезная цель в жизни; он должен идти к ней прямой дорогой, не позволяя себе уклоняться в сторону и шарить в кустах, хотя бы то были кусты, покрытые, впрочем, больше шипами, чем цветами сада Академа. К тому же он собрал бы лишь несколько голосов. Академия любит устраивать стаж кандидату, прежде чем допустить его в свое лоно. В настоящее время ничего не следует предпринимать». Потом — другое дело. Но надо, чтобы сама коллегия остановила на нем свое внимание. Скорее фетишистски, чем с успехом, следует она правилу «Fara da se» наших соседей по ту сторону Альп. То, что говорил мне обо всем этом Леруа-Болье, мне не понравилось. Мне, впрочем, показалось, что он почти заодно с вашим отцом. Я, может быть, немного резко дал ему почувствовать, что, привыкнув заниматься колониями и металлами, он недооценивает роли невесомых факторов, как говорил Бисмарк. Чего прежде всего надо избегать вашему отцу, так это выставления своей кандидатуры: «Principiis obsta». Его друзья оказались бы в щекотливом положении, если бы он поставил их перед совершившимся фактом. Вот что, — сказал вдруг посол с прямодушным видом, уставившись в меня своими голубыми глазами, — я скажу вам одну вещь, которая удивит вас в моих устах, в устах человека, горячо любящего вашего отца. Но именно потому что я его люблю, именно (мы с ним двое неразлучных, Arcades ambo) потому что я знаю, какие услуги может он оказать своему отечеству, мимо каких подводных камней может благополучно провести его, если останется у руля, из расположения к нему, из уважения, из патриотизма я не буду за него голосовать. Впрочем, мне кажется, я довольно ясно дал ему это понять. (Мне показалось, что я заметил в его глазах суровый ассирийский профиль Леруа-Болье.) Так что отдать ему мой голос было бы с моей стороны отречением от собственных слов». Несколько раз г. де Норпуа обозвал своих коллег ископаемыми. Помимо других соображений, каждый член какого-нибудь клуба или академии любит наделять своих коллег характером, прямо противоположным его собственному, не столько для того, чтобы обеспечить за собой право сказать: «Ах, если бы это зависело только от меня!», сколько для того, чтобы похвастаться своим званием, как вещью тем более лестной и трудно достающейся. «Скажу вам, — заключил г. де Норпуа, — что в интересах всех вас я предпочитаю для вашего отца триумфальное избрание через десять или пятнадцать лет». Слова эти показались мне продиктованными если не завистью, то по крайней мере полнейшим отсутствием желания услужить, но впоследствии, как это выяснилось из самого события, они приобрели иной смысл.
— Вы не намереваетесь побеседовать в Институте о ценах на хлеб во времена Фронды? — робко спросил г-на де Норпуа историк Фронды. — Вы бы могли иметь там значительный успех (что означало: колоссальную рекламу), — прибавил он, робко, но в то же время с нежностью улыбаясь послу; веки его при этом приподнялись и открыли глаза, большие как небо. Мне показалось, что я уже видел этот взгляд, хотя я познакомился с историком только сегодня. Вдруг я вспомнил: этот самый взгляд я подметил в глазах одного бразильского врача, который брался вылечить меня от припадков удушья, вызванных нелепыми вдыханиями растительных эссенций. Когда, желая добиться от него большего внимания, я сказал, что знаком с профессором Котаром, то услышал в ответ: «Это лечение, если бы вы о нем рассказывали ему, дало бы ему материал для блестящего доклада в Академии медицины!» — точно врач этот заботился прежде всего об интересах Котара. Он не решился настаивать, но посмотрел на меня тем самым робко-вопросительным, корыстным и умоляющим взглядом, которым я только что восхищался у историка Фронды. Эти два человека наверное не знали друг друга и были, мало похожи, но психологические законы, подобно законам физическим, отличаются известной общностью. При одинаковости необходимых условий один и тот же взгляд светится в различных, человеческих особях, как одно и то же утреннее небо освещает места на земной поверхности, расположенные далеко друг от друга и никогда друг друга не видевшие. Я не слышал ответа посла, потому что все гости, шумно разговаривая, подошли к г-же де Вильпаризи посмотреть, как она рисует.
— Вы знаете, о ком мы говорили, Базен? — спросила герцогиня мужа.
— Разумеется, догадываюсь, — отвечал герцог.
— О, она не принадлежит к плеяде великих артисток!
— Ни в коем случае, — сказала герцогиня Германтская, обращаясь к г-ну д'Аржанкуру, — невозможно себе представить ничего более смешного.
— Было даже потешно, — вставил герцог Германтский, причудливый словарь которого давал повод людям светским говорить, что он не глуп, и в то же время людям причастным литературе находить его отъявленным дураком.
— Не могу понять, — продолжала герцогиня, — как Робер мог в нее влюбиться. О, я отлично знаю, что о таких вещах никогда не надо спорить, — прибавила она с милой гримаской философа и разочаровавшегося романтика. — Я знаю, что кто угодно может полюбить кого угодно. Может быть даже, — прибавила она, ибо, несмотря на ее насмешки над новой литературой, литература эта все же в какой-то степени просочилась в нее через популярные статьи газет и некоторые разговоры, — это самое прекрасное в любви, потому что как раз это делает ее «таинственной».
— Таинственной! Признаюсь, это немного сильно для меня, кузина, — сказал граф д'Аржанкур.
— Да, да, любовь вещь очень таинственная, — продолжала герцогиня с мягкой улыбкой светской женщины, но также с не терпящей возражений убежденностью вагнерианки, которая доказывает человеку своего круга, что «Валькирия» — это не только шум. — Ведь, в сущности, неизвестно, почему одно лицо любит другое, может быть совсем не по той причине, что мы думаем, — прибавила она с улыбкой, отвергая вдруг своим толкованием только что высказанную мысль. — Ведь, в сущности, мы никогда ничего не знаем, — заключила она с усталым и скептическим видом. — Итак, вы видите, это будет «разумнее»: никогда не надо спорить о выборе, сделанном любовниками.
Но, выставив это положение, она тотчас от него отступила, подвергнув критике выбор Сен-Лу.
— Все ж таки я нахожу удивительным, что можно увлечься смешной особой.
Блок, услышав, что мы завели речь о Сен-Лу, и поняв, что он в Париже, принялся говорить о нем такие гадости, что все возмутились. Он начал озлобляться, и чувствовалось, что для утоления своей злобы он ни перед чем не остановится. Исходя из положения, что он, Блок, обладает высокой моральной ценностью и что порода людей, посещающих Були (спортивный кружок, казавшийся ему элегантным), заслуживает каторги, он считал любой удар, который он мог им нанести, делом похвальным. Однажды он дошел до того, что заговорил о намерении подать в суд на одного из своих приятелей из Були. В суде он собирался давать ложные показания, причем так, что обвиняемый не мог бы доказать их ложность. Этим способом Блок, — он, впрочем, так и не привел в исполнение свой план, — рассчитывал больнее задеть приятеля и довести его до исступления. Что ж тут было дурного, если тот, кого он хотел покарать таким образом, был человек, думавший только о шике, член Були, и если против таких людей позволительно пускать в ход всякое оружие, особенно святому, каковым был он, Блок.
— А вот, например, Сван, — возразил г. д'Аржанкур, который, поняв наконец смысл слов, произнесенных его кузиной, был поражен их верностью и искал в памяти примера людей, любивших женщин, которые ему бы не понравились.
— Нет, Сван — это совсем другое дело, — запротестовала герцогиня. — Все же это очень удивительно, потому что она только разряженная дура, но она не смешная и была хорошенькая.
— Гу, гу, — проворчала г-жа де Вильпаризи.
— Вы не находили ее хорошенькой? Что вы! В ней было много прелести: прекрасные глаза, красивые волосы, она одевалась и до сих пор одевается чудесно. Теперь, я согласна, она невозможна, но в свое время была очаровательной женщиной. Несмотря на это я была очень огорчена, когда Сван женился на ней, потому что это было совершенно ни к чему. — Герцогиня не видела в этой фразе ничего замечательного, но когда г. д'Аржанкур рассмеялся, повторила ее, потому ли, что нашла ее забавной, или же только потому, что нашла милым смех г-на д'Аржанкура, которого она обласкала взглядом, прибавив таким образом к чарам остроумия чары нежности. Она продолжала: — Не правда ли, этого делать не стоило, но в конце концов она не лишена была прелести, и я отлично понимаю, что в такую можно влюбиться, между тем как красотка Робера, уверяю вас, способна уморить со смеху. Я прекрасно знаю, что мне возразят старой банальностью Ожье: «Что за важность бутылка, мне лишь бы опьянеть!» Что же, Робер, может быть, опьянел, но он не обнаружил большого вкуса в выборе бутылки! Прежде всего, вообразите, она изъявила нелепое желание, чтобы я поставила лестницу по самой средине моего салона. Пустяки, не правда ли, и она мне возвестила, что ляжет ничком на ступеньках. И если бы вы слышали, что она говорила! Я знаю одну только сцену, но нечто совершенно невообразимое; называется «Семь принцесс».
— «Семь принцесс», хо-хо-хо, какой снобизм! — воскликнул г. д'Аржанкур. — Но постойте, я знаю эту пьесу. Это творение одного из моих соотечественников. Он послал ее королю, который ничего в ней не понял и попросил меня объяснить.
— Это, случайно, не Сар-Пеладан? — спросил историк Фронды с намерением показать свою утонченность и интерес к современности, но так тихо, что вопрос его остался незамеченным.
— Вот как, вы знаете «Семь принцесс»? — отвечала герцогиня г-ну д'Аржанкуру. — От души вас поздравляю! Я знаю только одну из них, но это отбило у меня охоту знакомиться с шестью остальными. Вдруг они все похожи на ту, что я видела!
«Какая дура, — думал я, раздраженный ледяным приемом, который она мне оказала. Я испытывал особого рода желчное удовольствие, констатируя, что она совершенно не понимает Метерлинка. — И ради подобной женщины я проделывал каждое утро столько километров, — нет, это слишком. Теперь я знать ее не хочу». Такие слова говорил я себе; они находились в полном противоречии с моими мыслями; это были чисто разговорные слова — те, что мы произносим про себя в минуты сильного возбуждения, когда не можем вынести одиночества и испытываем потребность, за отсутствием другого собеседника, поговорить с самим собой, неискренно, как с чужим человеком.
— Я не в силах дать вам представление, — продолжала герцогиня, — можно было надорваться со смеху. Ну, и посмеялись все всласть, чересчур даже; актрисе моей это не понравилось, и Робер очень на меня рассердился. Я, однако, не жалею, потому что, если бы все сошло хорошо, эта особа чего доброго вернулась бы, и могу себе представить, в каком восторге была бы от этого Мари-Энар.
Так называли в семье мать Робера, г-жу де Марсант, вдову Энара де Сен-Лу, в отличие от ее кузины, принцессы Германт-Баварской, тоже Мари, к имени которой ее племянник, кузены и зятья прибавляли, чтоб избежать смешения, либо имя ее мужа, либо другое ее имя, что давало или Мари-Жильбер, или Мари-Эдвиж.
— Начать с того, что накануне был устроен род репетиции, тоже, доложу я вам, развлечение! — продолжала герцогиня. — Вообразите, что она произносила фразу, даже четверть фразы, и потом останавливалась; она больше ничего не говорила, я не преувеличиваю, в течение пяти минут.
— Хо-хо-хо! — рассмеялся г. д'Аржанкур.
— Со всей вежливостью я позволила себе заметить, что это вызовет, может быть, некоторое удивление. Она мне ответила буквально следующее: «Надо всегда говорить со сцены так, как если бы вы сами сочиняли то, что вы говорите». Если поразмыслить, так он монументален, этот ответ!
— А я нахожу, что она не плохо читала стихи, — сказал один из молодых людей.
— Она понятия не имеет, что такое стихи, — отвечала герцогиня. — Впрочем, мне не было надобности ее слушать. С меня довольно было увидеть ее появление с лилиями! Я сразу поняла, что она бездарна, когда увидела лилии!
Все засмеялись.
— Тетушка, вы на меня не рассердились за мою шутку с шведской королевой? Я пришел просить у вас амана.
— Нет, не сержусь; разрешаю тебе даже покушать, если ты голоден.
— Ну-ка, господин Вальмер, исполните роль девушки, — сказала г-жа де Вильпаризи архивариусу, употребляя ходячее шутливое выражение.
Герцог Германтский поднялся с кресла, на которое он уселся, Положив шляпу рядом на ковер, и с удовлетворением осмотрел предложенные ему тарелки с птифурами.
— Охотно, маркиза, теперь, когда я начинаю осваиваться в этом блестящем обществе, я возьму вот эту бабу, она, кажется, превосходна.
— Мосье чудесно исполняет роль девушки, — сказал г. д'Аржанкур, который, из духа подражания, подхватил шутку г-жи де Вильпаризи.
Архивариус предложил тарелку с птифурами историку Фронды.
— Вы чудесно справляетесь с вашими обязанностями, — сказал историк из робости и в целях завоевания общей симпатии.
И он бросил украдкой взгляд соумышленника на тех, кто уже поступил так, как он.
— Скажите мне, добрейшая тетушка, — обратился герцог к г-же де Вильпаризи, — что это за господин, очень приличного вида, который выходил в то время, как я входил? Должно быть я с ним знаком, потому что он мне торжественно поклонился, но я его не узнал, вы знаете, я не умею хранить в памяти имена, что очень неприятно, — сказал он с довольным видом.
— Господин Легранден.
— А-а! Ведь у Орианы есть кузина, мать которой, если не ошибаюсь, урожденная Гранден. Да, я очень хорошо знаю, это Гранден де л'Эпревье.
— Нет, — отвечала г-жа де Вильпаризи, — он не имеет с ними ничего общего. Это просто Грандены. Грандены и ничего больше. Но они только и ждут, чтобы быть всем, чего ты пожелаешь. Сестра вот этого зовется госпожой де Камбремер.
— Ну, полно, Базен, вы прекрасно знаете, о ком говорит тетушка, — воскликнула герцогиня с возмущением, — ведь это брат того огромного травоядного, которое вы возымели странную мысль прислать на днях ко мне с визитом. Она сидела час: я думала, что сойду с ума. Но сначала я приняла ее за сумасшедшую, когда увидела входившую ко мне незнакомую особу, похожую на корову.
— Послушайте, Ориана, она попросила меня сказать ваши приемные дни; не мог же я ответить ей грубостью; кроме того вы, право, преувеличиваете, она не похожа на корову, — прибавил он с жалобным видом, бросив, однако, украдкой улыбающийся взгляд на присутствующих.
Он знал, что остроумие жены нуждается в подстегивании при помощи противоречия, противоречия здравого смысла, утверждающего, например, что нельзя принять женщину за корову (именно таким путем герцогиня, подбавляя красок к первоначальному образу, часто создавала самые крылатые свои словечки). И герцог, не подавая вида, простодушно помогал ей ловчее выполнить свой фокус, как это делает в вагоне тайный подручный игрока в боннето.
— Я готова признать, что она не похожа на корову, потому что у нее вид множества коров, — воскликнула герцогиня. — Клянусь, что я почувствовала замешательство, увидя входившее ко мне в шляпе стадо коров, которое спросило, как я поживаю. С одной стороны, мне очень хотелось ему ответить: «Однако, стадо коров, ты путаешь, у тебя не может быть никаких отношений со мной, потому что ты — стадо коров», а, с другой стороны, поискав в памяти, я пришла к мысли, что ваша Камбремер — инфанта Доротея, которая сказала раз, что придет ко мне, и которая тоже достаточно быкообразна, так что я чуть было не проговорила: «ваше королевское высочество» и не обратилась к стаду коров в третьем лице. У нее есть также нечто вроде зоба шведской королевы. Вдобавок, эта атака живой силой была подготовлена обстрелом на расстоянии, по всем правилам искусства. Не помню уж, сколько времени назад она начала бомбардировать меня своими карточками, я их находила повсюду, на каждом кресле и диване, точно объявления. Я не понимала цели этой рекламы. Куда ни взглянешь, везде в моем доме можно было увидеть «маркиз и маркиза де Камбремер», с адресом, которого я не помню и которым, к тому же, никогда не воспользуюсь.
— Но ведь это так лестно походить на королеву, — сказал историк Фронды.
— Ах, боже мой, мосье, короли и королевы в наше время не велика штука! — воскликнул герцог, так как он мнил себя человеком свободомыслящим и передовым, а кроме того не желал показывать, будто он придает значение знакомствам с коронованными особами, которыми в действительности очень дорожил.
Блок и г. де Норпуа, выйдя из своего уголка, приблизились к нам.
— Мосье, — спросила г-жа де Вильпаризи, — говорили вы с ним о деле Дрейфуса?
Г. де Норпуа с улыбкой воздел глаза к небу, точно призывая его в свидетели, каким нелепым капризам своей Дульцинеи приходится ему повиноваться. Тем не менее он очень любезно говорил с Блоком об ужасных, может быть даже роковых годах, которые переживает Франция. Так как это, вероятно, означало, что г. де Норпуа (которому Блок выразил, однако, убеждение в невинности Дрейфуса) был ярый антидрейфусар, то любезность посла, его готовность признать правоту своего собеседника, сделать вид, будто он не сомневается, что они единомышленники, и заодно с ним обрушиться на правительство, льстили тщеславию Блока и возбуждали его любопытство. Каковы же были те существенные пункты, которых г. де Норпуа не уточнял, но относительно которых как будто подразумевал свое согласие с Блоком, каково было, словом, его мнение о процессе, способное их объединить? Блок был тем более поражен таинственным единомыслием, как будто существовавшим между ним и г-ном де Норпуа, что единомыслие это распространялось не только на область политики: г-жа де Вильпаризи довольно подробно рассказывала г-ну де Норпуа о литературных работах Блока.
— Вы человек не нынешнего времени, — сказал ему бывший посол, — и я могу только приветствовать, что вы чужды эпохе, когда бескорыстных исследований не существует, когда публике продают только непристойности и нелепости. Усилия, подобные вашим, должны бы были поощряться, если бы у нас было правительство.
Блок был польщен тем, что уцелел один среди всеобщего крушения. Но ему все же хотелось большей точности и определенности, хотелось знать, какие нелепости имеет в виду г. де Норпуа. У Блока было чувство, что он работает в том же направлении, что и многие, он не не считал себя сколько-нибудь исключительным. Он снова перевел разговор на дело Дрейфуса, но так и не добился от г-на де Норпуа отчетливой формулировки его мнения. Он попытался заставить посла высказаться об офицерах, которые часто упоминались тогда в газетах и сильнее возбуждали любопытство, чем политические деятели, замешанные в этом процессе, потому что, в противоположность последним, все это были люди неизвестные, которые вдруг вышли в особенном костюме из недр какой-то жизни и заговорили, нарушив свято хранимое молчание, подобно Лоэнгрину, спустившемуся из челнока, влекомого лебедем. Благодаря содействию одного знакомого адвоката-националиста Блоку удалось несколько раз побывать в суде на процессе Золя. Он являлся с самого утра и уходил только вечером, запасшись сандвичами и бутылкой кофе, как на конкурсный экзамен или на письменные испытания для получения степени бакалавра; непривычный порядок дня приводил его в нервное возбуждение, достигавшее апогея после выпитого кофе и сильных впечатлений, и он покидал зал суда, настолько влюбленный во все, что там происходило, что поздно вечером, вернувшись домой, желал снова погрузиться в прекрасный сон и мчался в кафе, посещавшееся обеими партиями, чтобы, встретившись там с товарищами, начать нескончаемый разговор о том, что происходило в течение дня, и возместить ужином, который он заказывал повелительным тоном, дававшим ему иллюзию власти, пост и тягость дня, начатого так рано и проведенного без завтрака. Человеку, постоянно пребывающему между двумя плоскостями опыта и воображения, хочется вникнуть в идеальную жизнь людей, с которыми он знаком, и познакомиться с существами, жизнь которых ему пришлось рисовать воображением. На вопросы Блока г. де Норпуа отвечал:
— О двух офицерах, замешанных в интересующее вас дело, мне довелось слышать когда-то суждение человека, внушавшего мне большое доверие; человек этот (г. де Мирибель) очень высоко ставил упомянутых двух офицеров: подполковника Анри и полковника Пикара.
— Но божественная Афина, дочь Зевса, — воскликнул Блок, — вложила в ум каждого мнение противоположное тому, что заключено в уме другого. И они борются между собой аки львы. Полковник Пикар занимал высокое положение в армии, но его Мойра привела его на сторону, ему чуждую. Шпага националистов пронзит его тщедушное тело, и он послужит кормом хищным животным и птицам, питающимся жиром мертвецов.
Г. де Норпуа ничего не ответил.
— О чем это они разглагольствуют в уголке? — спросил герцог г-жу де Вильпаризи, показывая на г-на де Норпуа и Блока.
— О деле Дрейфуса.
— К чорту! Кстати, знаете ли вы, кто стал яростным приверженцем Дрейфуса? Ставлю тысячу против одного, что не отгадаете. Мой племянник Робер! Скажу вам даже, что в Жокей-Клубе, когда узнали о его выходках, это вызвало целое восстание, раздался рев негодования. А так как его баллотируют через неделю…
— Очевидно, — перебила его герцогиня, — если все они как Жильбер, который всегда утверждал, что надо всех евреев выслать в Иерусалим…
— О, в таком случае принц Германтский — мой единомышленник, — отозвался г. д'Аржанкур.
Герцог щеголял своей женой, но не любил ее. Человек очень самонадеянный, он терпеть не мог, чтобы его перебивали, и вдобавок имел обыкновение у себя дома грубо обращаться с женой. Воспылав негодованием и как дурной муж, которому что-то говорят, и как краснобай, которого не слушают, он круто оборвал и метнул на герцогиню взгляд, смутивший всех присутствующих.
— Что это вас дернуло заговорить о Жильбере и о Иерусалиме? — проговорил он наконец. — Речь идет не об этом. Однако, — прибавил он смягчившимся тоном, — вы согласитесь, надеюсь, что если одного из членов нашей семьи откажутся принять в Жокей-Клуб, особенно Робера, отец которого десять лет был там старшиной, то выйдет большой скандал. Что поделаешь, дорогая моя, эти люди были ошеломлены, они широко раскрыли глаза. Я не могу их обвинять; лично я, вы знаете, свободен от всяких расовых предрассудков, я нахожу, что это несовременно, а я желаю идти в ногу с временем, но, чорт возьми, когда зовешься маркизом де Сен-Лу, то не подобает быть дрейфусаром, ничего не поделаешь!
Герцог произнес слова: «когда зовешься маркизом де Сен-Лу» приподнятым тоном. Однако он, хорошо знал, что еще внушительнее называться «герцогом Германтским». Но если его самолюбие склонно было скорее преувеличивать превосходство титула «герцог Германтский» над всеми прочими, то его побуждали умалять этот титул не столько, пожалуй, правила хорошего вкуса, сколько законы воображения. Всем нам рисуется в лучшем счете то, что мы видим на расстоянии, то, что мы видим у других. Ведь общие законы, управляющие перспективой воображения, распространяются на герцогов, как и на остальных людей. Не только законы воображения, но и законы языка. А в данном случае приложимы два его закона. Один из них требует, чтобы герцоги говорили, как люди одинакового с ними умственного уровня, а не так, как говорят люди их касты. Вот почему в своих выражениях герцог Германтский, даже когда он желал говорить о знати, мог оказаться в зависимости от самых мелких буржуа, которые сказали бы: «Когда зовешься герцогом Германтским», — выражение, которого не употребил бы человек образованный, вроде Свана или Леграндена. Герцог может писать романы как лавочник, даже о нравах высшего света, дворянские фа-моты не окажут ему в этом деле никакой помощи, и эпитет «аристократический» может быть заслужен произведениями плебея. Кто был в данном случае тот буржуа, от которого герцог Германтский услышал: «когда зовешься», — этого он, вероятно, не знал. Ибо, согласно другому закону языка, время от времени, вроде того как появляются и исчезают некоторые болезни, о которых потом ничего не слышно, рождается, — неизвестно каким образом, может быть, самопроизвольно, а может быть, по воле случая, похожего на тот, что насадил во Франции одну американскую сорную траву, семя которой, привезенное в ворсе дорожного одеяла, упало на откос железнодорожного полотна, — тьма выражений, которые можно услышать в течение одной декады от людей, совсем не сговаривавшихся друг с другом. И вот, если несколько лет назад я слышал Блока, так говорившего о себе: «Люди самые обаятельные, самые блестящие, самые солидные, самые разборчивые убедились, что есть на свете одно только существо, которое они находят умным и приятным, без которого они не могут обойтись, а именно — Блок», и эту же фразу в устах многих других молодых людей, которые его не знали и только заменяли в ней слово «Блок» своей собственной фамилией, — то мне точно так же нередко приходилось слышать: «когда зовешься…»
— Ничего не поделаешь, — продолжал герцог, — там царит такой дух, что это вполне понятно.
— Это особенно комично, — отвечала герцогиня, — если принять во внимание идеи его матери, которая морит нас с утра до вечера французским отечеством.
— Да, но тут не только его мать, полно пустяки говорить. Есть одна мамзель, любительница игривых похождений самого худшего сорта, которая имеет больше влияния на него и является как раз соотечественницей милостивого государя Дрейфуса. Она передала Роберу свой образ мыслей.
— Вам, может быть, неизвестно, господин герцог, что существует новое слово для обозначения этого понятия, — сказал архивариус, который был секретарем антиревизионистских комитетов. — Теперь говорят «mentalité». Это означает в точности то же самое, но по крайней мере никто не знает, что этим желают сказать. Это предел пределов, как говорится, «последний крик». — Между тем, услышав имя Блока, он с беспокойством наблюдал его разговор с г-ном де Норпуа, что пробудило, иное правда, но столь же сильное беспокойство в маркизе. Трепеща перед архивариусом и притворяясь перед ним антидрейфусаркой, г-жа де Вильпаризи боялась его упреков, если он обнаружит, что она приняла еврея, более или менее связанного с «синдикатом».
— A, mentalité, запишу себе это слово, я им воспользуюсь, — сказал герцог. (Это не было образное выражение, герцог имел записную книжку, наполненную «цитатами», которые он перечитывал перед парадными обедами.) — Mentalité мне нравится. Есть вот такие новые слова, которые пускают в оборот, но они не прививаются. Недавно я прочитал о каком-то писателе, что он «talentueux». Понимай, как знаешь. Потом я больше нигде не встречал этого слова.
— «Mentalité» слово более употребительное, чем «talentueux», — заметил историк Фронды, желая принять участие в разговоре. — Мне неоднократно приходилось его слышать в одной комиссии при министерстве народного просвещения, членом которой я состою, а также в моем клубе, клубе Вольне, и даже на обеде у г-на Эмиля Олливье.
— Не имею чести быть причастным министерству народного просвещения, — отвечал герцог с притворным уничижением, но с таким беспредельным тщеславием, что губы его не могли удержаться от улыбки, а глаза — от искрящихся весельем взглядов, ироничность которых вызвала краску на лице бедного историка, — не имею чести быть причастным министерству народного просвещения, — повторил он, любуясь своими словами, — а также состоять членом клуба Вольне (я состою только в клубах Юнион и Жокей), а вы не состоите членом Жокей-Клуба, мосье? — спросил он историка, который покраснел еще больше и, чувствуя, что в словах заключена какая-то непонятная ему дерзость, начал дрожать всем телом. — Я даже не обедаю у г-на Эмиля Олливье, и потому, признаюсь, не знал слова «mentalité». Уверен, что и вы в моем положении, Аржанкур. Вы знаете, почему невозможно привести доказательства измены Дрейфуса? По-видимому, потому что он любовник жены военного министра, как говорят втихомолку.
— А я думал — жены председателя совета министров, — сказал г. д'Аржанкур.
— Я нахожу, что все вы одинаково несносны с этим делом, — проговорила герцогиня Германтская, которая в свете всегда стремилась показать, что никому не даст провести себя. — Оно не может иметь важности для меня с точки зрения евреев по той простой причине, что я с ними не знаюсь и рассчитываю всегда оставаться в этом счастливом неведении. Но, с другой стороны, я нахожу невыносимым, чтобы, под предлогом благонамеренности некоторых дам, их отказа от покупок в еврейских магазинах и украшения зонтиков надписью «Смерть евреям», нам навязаны были любезными Мари-Энар или Виктюрньен разные Дюран или Дюбуа, с которыми мы никогда бы не завели знакомства. Я была у Мари-Энар позавчера. Когда-то у нее было прелестно. Теперь там полно особ, которых вы всю жизнь избегали, о которых вы не имеете представления, кто они такие, все под предлогом, что они против Дрейфуса.
— Нет, жены военного министра. По крайней мере, такой слух ходит по альковам, — продолжал герцог, любивший употреблять выражения, которые он считал свойственными старому режиму. — Во всяком случае, я лично, как известно, не разделяю убеждений моего кузена Жильбера. В противоположность ему я не феодал, я не отказался бы прогуляться с негром, если бы он принадлежал к числу моих друзей, я бы в грош не поставил мнения N. и М., но все-таки, согласитесь, когда зовешься Сен-Лу, не надо забавляться выворачиванием наизнанку мнений света, который остроумнее Вольтера и даже моего племянника. И особенно не надо заниматься тем, что я называю акробатикой чувствительности, за неделю до баллотировки в члены клуба! Это, пожалуй, чересчур! Нет, тут наверное его красотка задурманила ему мозги. Она его убедила, что место его среди «интеллигенции». Интеллигенция — «сливочный пирог» этих господ. Вдобавок, это дало повод к довольно остроумной игре слов, хотя и очень злой. И герцог шопотом передал герцогине и г-ну д'Аржанкуру шутку, о «Mater semita», которую действительно уже повторяли в Жокей-Клубе, потому что шутка является тем прелестным семенем, которое снабжено самыми крепкими крылышками, позволяющими ему дальше всего унестись от места, где оно выросло.
— Мы могли бы попросить разъяснений у господина, который имеет вид эрудита, — продолжал он, указывая на историка. — Но предпочтительнее не говорить об этом, тем более, что это совершенная ложь. Я не так тщеславен, как моя кузина Мирпуа, которая утверждает, что может довести свою родословную до самого колена Левиина, и я берусь доказать, что в нашем роду никогда не было ни капли еврейской крови. Но все же не надо строить себе иллюзий, очаровательные мнения господина моего племянника несомненно могут вызвать переполох в муравейнике. Тем более, что Фезенсак нездоров, и всем будет руководить Дюрас, а вы знаете, какой он мастер осложнять всякое дело.
Блок пытался навести г-на де Норпуа на разговор о полковнике Пикаре.
— Бесспорно, — отвечал г. де Норпуа, — показания его были необходимы. Я знаю, что, поддерживая это мнение, я переполошил не одного из моих коллег, но, по-моему, правительство обязано было дать слово полковнику. При помощи одних уверток не выйдешь из подобного тупика, или же рискуешь попасть в скверное положение. Что касается самого офицера, то его показания произвели при первом допросе самое благоприятное впечатление. Когда увидели его стройную фигуру в красивой форме стрелка, когда он начал самым простым и чистосердечным тоном рассказывать, что он видел и что он думает, когда он произнес: «Даю честное слово солдата (тут в голосе г-на де Норпуа послышалось легкое патриотическое тремоло), — таково мое убеждение», то, нельзя отрицать, впечатление было сильное.
«Право, он дрейфусар, — подумал Блок, — теперь уже не остается и тени сомнения».
— Но что совершенно отвратило от него симпатии, которые он мог сначала снискать, так это его очная ставка с архивариусом Гриб-леном, — минута, когда раздался голос этого старого служаки, этого человека, который верен своему слову, — (и г. де Норпуа с силою искреннего убеждения подчеркнул дальнейшие свои слова), — когда раздался его голос, когда он посмотрел в глаза своему начальнику, не побоявшись потомить его и сказать ему тоном, не допускающим возражения: «Полноте, полковник, вы хорошо знаете, что я никогда не лгал, вы хорошо знаете, что в эту минуту я, как всегда, говорю правду». Ветер переменился, г. Пикар напрасно пускал в ход все средства на следующих заседаниях, он потерпел полнейшее фиаско.
«Нет, положительно он антидрейфусар, дело ясное, — сказал себе Блок. — Но если он считает Пикара предателем, который лжет, то как может он придавать значение его разоблачениям и рассказывать о них так, как если бы он находил в них прелесть и считал искренними? Если же, напротив, он видит в нем праведника, который говорит по совести, то как может он предполагать в устах его ложь на очной ставке с Грибленом?»
— Во всяком случае, если этот Дрейфус невиновен, — сказала герцогиня, — он плохо это доказывает. Какие дурацкие, выспренние письма пишет он со своего острова! Не знаю, стоит ли г. Эстергази большего, чем он, но у него больше шика в построении фраз, больше красок. Вероятно, это не доставляет удовольствия сторонникам г-на Дрейфуса. Какое несчастье для них, что они не могут подменить невинного! — Все разразились хохотом. — «Вы слышали, что сказала Ориана?» с жадностью спросил герцог г-жу де Вильпаризи. — «Да, я нахожу это очень забавным». Этого было недостаточно герцогу. «Ну, а я не нахожу. Или, вернее, мне совершенно все равно, забавно это или нет. Я не придаю никакого значения остроумию». Г-н д'Аржанкур запротестовал: «Не верьте ни одному слову из того, что он говорит», — прошептала герцогиня. «Вероятно потому, что я был членом палаты депутатов, где слышал блестящие речи, которые ничего не означали. Я научился там ценить прежде всего логику. Вероятно этому обязан я тем, что меня не переизбрали. К забавным вещам я равнодушен». — «Базен, не корчите Жозефа Прюдома, голубчик, вы отлично знаете, что никто так не любит остроумия, как вы». — «Дайте мне кончить. Именно потому, что я нечувствителен к забавным шуткам известного рода, я часто ценю остроумие моей жены. Ибо оно обыкновенно отправляется от какого-нибудь верного наблюдения. Она рассуждает как мужчина, она выражает свои мысли как писатель».
Может быть, причина, по которой г. де Норпуа говорил с Блоком словно единомышленник, заключалась в том, что он был крайним антидрейфусаром и, находя правительство недостаточно решительным, относился к нему столь же враждебно, как и дрейфусары. А, может быть, его интересы в области политики были направлены на нечто более глубокое, расположенное в иной плоскости, откуда дело Дрейфуса представлялось вещью несущественной, не заслуживающей того, чтобы отвлекать рачительного патриота от больших государственных вопросов. Но, вернее всего, принципы его политической мудрости прилагались лишь к вопросам формы, процедуры, своевременности, и были столь же бессильны разрешить вопросы существенные, как в области философии чистая логика бессильна разрешить вопросы бытия, или же сама эта мудрость заставляла его относиться с опаской к обсуждению подобных тем, и он из благоразумия касался в своем разговоре одних только второстепенных обстоятельств. Но Блок ошибался, думая, что г. де Норпуа, даже будучи менее осторожным и наделенный умом не столь исключительно формальным, мог бы, если бы пожелал, сказать ему правду о роли Анри, Пикара, дю Пати де Клама, о всех существенных моментах дела. А в том, что г. де Норпуа знает истину о всех этих вещах, Блок не мог сомневаться. Как дипломату было не знать ее, если он знаком был с министрами? Разумеется, Блок считал, что истина в вопросах политики может быть приблизительно восстановлена людьми ясного ума, но он воображал, как и большинство широкой публики, что она всегда пребывает, как нечто вещественное и неоспоримое, в секретной папке президента республики и премьера, которые знакомят с нею министров. Между тем, даже когда политическая истина допускает документальное выражение, это последнее редко имеет большую цену, чем рентгеновский снимок, на котором, по мнению профанов, болезнь пациента запечатлена во всех подробностях, тогда как на самом деле снимок этот представляет лишь одно из данных, и его надо присоединить к многочисленным другим данным, на основании которых врач сделает заключение о болезни и поставит свой диагноз. Вот почему политическая истина ускользает, когда мы заводим о ней речь с осведомленными людьми, считая их ее обладателями. Даже впоследствии, если держаться дела Дрейфуса, когда произошло такое сенсационное событие, как признание Анри и последовавшее за ним его самоубийство, событие это тотчас же было истолковано противоположным образом министрами-дрейфусарами и Кавеньяком и Кюинье, которые сами открыли подлог и производили допрос; больше того: среди самих министров-дрейфусаров одного и того же толка, имевших дело с одними и теми же документами и судивших о них в одном и том же духе, о роли Анри высказывались диаметрально противоположные суждения: одни видели в нем сообщника Эстергази, а другие, наоборот, приписывали эту роль дю Пати де Кламу, присоединяясь таким образом к мнению своего противника Кюинье и совершенно расходясь со своим единомышленником Рейнаком. Блоку удалось выудить у г-на де Норпуа только то, что если правда, что начальник главного штаба г. де Буадефр распорядился передать секретное сообщение г-ну Рошфору, то факт этот несомненно представляет нечто исключительно прискорбное.
— Можете не сомневаться, что военный министр должен был, in petto по крайней мере, послать своего начальника главного штаба к богам преисподней. Официальное опровержение не было бы, на мой взгляд, излишним. Но военный министр говорит об этом очень резко inter pocula. Есть, впрочем, темы, вокруг которых крайне неблагоразумно создавать возбуждение, если потом утрачиваешь власть над ним.
— Но ведь документы эти явно подложные, — сказал Блок.
Г. де Норпуа, не отвечая, заметил, что не одобряет заявлений принца Генриха Орлеанского.
— К тому же они способны только нарушить спокойный ход процесса и поощрить возбуждение, которое и для одной и для другой стороны было бы нежелательно. Конечно, надо положить конец антимилитаристским проискам, но не к чему также поощрять шум, поднятый теми элементами правой, которые, вместо того, чтобы служить патриотической идее, мечтают взять ее себе на службу. Франция, слава богу, не южноамериканская республика, и у нас не ощущается потребности в генеральском пронунциаменто.
Блоку так и не удалось заставить его высказаться по вопросу о виновности Дрейфуса и дать прогноз решения, которое будет вынесено по рассматривавшемуся в то время гражданскому делу. Зато г. де Норпуа, по-видимому, с большим удовольствием подробно распространился о следствиях этого решения.
— Если оно окажется обвинительным, — сказал он, — то оно будет, вероятно, кассировано, так как редко бывает, чтобы в процессе, где давалось столько свидетельских показаний, не нашлось формальных погрешностей, на которые могли бы сослаться адвокаты. А что касается выпада принца Генриха Орлеанского, то я сильно сомневаюсь, чтобы он пришелся по вкусу его отцу.
— Вы думаете, что герцог Шартрский за Дрейфуса? — с улыбкой спросила герцогиня, круглоглазая, краснощекая, уткнув нос в тарелку с птифурами. Вид у нее был шокированный.
— Ничуть, я хотел только сказать, что все Орлеаны отличаются в этом отношении здравым политическим смыслом, который можно было видеть, например, у несравненной принцессы Клементины, пес plus ultra, и который сын ее, князь Фердинанд, сохранил как драгоценное наследство. Нет, князь болгарский не заключил бы майора Эстергази в свои объятия.
— Он предпочел бы простого солдата, — прошептала герцогиня Германтская, которая часто обедала в обществе князя у принца Жуанвильского и однажды ответила на его вопрос, не ревнива ли она: «Да, ваше высочество, я ревную к вашим браслетам».
— Вы не пойдете сегодня вечером на бал к г-же де Саган? — обратился г. де Норпуа к г-же де Вильпаризи, чтобы покончить разговор с Блоком. Блок не оставил неприятного впечатления у посла, который не без простодушия сказал нам впоследствии, должно быть на основании кое-каких еще сохранившихся в языке Блока следов ново-гомеровской моды, теперь однако им оставленной: «Он довольно забавен со своей манерой говорить — немного устарелой, немного торжественной. Он чуть что не сказал: «ученые сестры», как Ламартин или Жан-Батист Руссо. У теперешней молодежи это встречается довольно редко и было даже роскошью у молодежи предшествующего поколения. Только мы, старики, были немного романтиками». — Но, как ни любопытен показался ему собеседник, г. де Норпуа все же находил, что разговор с ним слишком затянулся.
— Нет, мосье, я не хожу больше на балы, — отвечала маркиза с милой улыбкой старой женщины. — А вы, господа, вы туда ходите? Это для вашего возраста, — прибавила она, охватывая в одном взгляде г-на де Шательро, своего друга и Блока. — Я тоже получила приглашение, — сказала она, притворяясь в шутку, что она этим польщена. — Меня даже лично приходили приглашать. (Приходили означало: приходила принцесса де Саган.)
— У меня нет пригласительного билета, — сказал Блок, думая, что г-жа де Вильпаризи собирается предложить ему билет и что г-жа де Саган рада будет принять друга женщины, которую она лично приходила приглашать.
Маркиза ничего не ответила, и Блок не настаивал, потому что у него было более серьезное дело к ней, ради которого он только что просил у нее свидания на послезавтра. Услышав, как двое молодых людей говорили, что ими подано заявление о выходе из клуба улицы Рояль, куда входит всякий, кто хочет, он желал попросить г-жу де Вильпаризи, чтобы она оказала содействие его приему в этот клуб.
— Ведь эти Саганы, кажется, не бог весть что, дутый шик, просто снобы? — сказал он саркастически.
— Что вы, помилуйте, это лучшее, что мы изготовляем в этом роде, — отвечал г. д'Аржанкур, усвоивший все парижские остроты.
— В таком случае, — сказал полуиронически Блок, — вечера у них можно назвать торжествами, большими светскими конгрессами сезона!
Г-жа де Вильпаризи весело сказала герцогине:
— Скажи, пожалуйста, бал у г-жи де Саган — это большое светское торжество?
— Не ко мне надо обращаться с таким вопросом, — иронически отвечала герцогиня, — я еще не научилась понимать, что такое светское торжество. Да и вообще я не сильна в том, что касается светской жизни.
— А я думал наоборот! — воскликнул Блок, воображавший, что герцогиня говорит искренно.
Он продолжал, к великому отчаянию г-на де Норпуа, задавать ему кучу вопросов об офицерах, имена которых чаще всего назывались в связи с делом Дрейфуса; посол объявил, что «с виду» полковник дю Пати де Клам производит на него впечатление человека сумбурного, который был, пожалуй, не очень удачно выбран, чтобы руководить такой деликатной и требующей столько хладнокровия и здравого рассудка вещью, как следствие.
— Я знаю, что социалистическая партия неистово требует его головы, так же как и немедленного освобождения осужденного с Чортова острова. Но я думаю, что мы еще не поставлены перед необходимостью идти через Кавдинские ущелья гг. Жеро-Ришара и компании. Дело это до сих пор чрезвычайно темное. Я не говорю, чтобы как одной, так и другой стороне проходилось скрывать какие-нибудь низкие гнусности. Может быть даже некоторые более или менее бескорыстные покровители вашего клиента преисполнены благих намерений, я не утверждаю обратного, но вы ведь знаете, что благими намерениями ад вымощен, — прибавил он, лукаво поглядывая на своего собеседника. — Для правительства очень существенно не создавать впечатления, что оно находится в руках левых клик или принуждено сдаться со связанными руками и ногами по требованию какой-то преторианской армии, которая, поверьте, не является армией. Само собой разумеется, если обнаружится какой-нибудь новый факт, то дело это будет подвергнуто пересмотру. Такое следствие самоочевидно. Требовать этого значит ломиться в открытую дверь. В этот день правительство сумеет заговорить громко и ясно, иначе оно выпустит из рук то, что является его существенной прерогативой. Нескладной болтовни тогда уже будет недостаточно. Придется дать судей Дрейфусу. И это будет нетрудно, ибо хотя в нашей милой Франции, где люди так любят клеветать на себя, все привыкли верить и уверять, что для уразумения слов истины и справедливости необходимо переправиться через Ламанш, что очень часто является лишь кружным путем на Шпре, все-таки судьи есть не только в Берлине. Но, когда правительство приступит к осуществлению своих мероприятий, найдете ли вы в себе мужество ему повиноваться? Когда оно пригласит вас исполнить ваш гражданский долг, найдете ли вы в себе мужество ему повиноваться, сгрудитесь ли вы вокруг него? На его патриотический призыв найдете ли вы в себе мужество не остаться глухими и ответить: «Есть!»?
Г. де Норпуа задавал Блоку эти вопросы с горячностью, которая устрашала, но в то же время и льстила моему товарищу, ибо посол как будто обращался к целой партии, представленной в его лице, он допрашивал Блока так, если бы тот получил секретные полномочия от этой партии и мог взять на себя ответственность за последующие решения.
— Если вы не разоружитесь, — продолжал г. де Норпуа, не дожидаясь коллективного ответа Блока, — если, еще до того как просохнут чернила декрета, устанавливающего процедуру пересмотра дела, вы, повинуясь не знаю уж какому предательскому лозунгу, не разоружитесь, но замкнетесь в бесплодной оппозиции, которая представляется иным ultima ratio политики, если вы удалитесь в свою палатку и сожжете свои корабли, то это причинит вам большой вред. Разве вы находитесь в плену у зачинщиков беспорядка? Дали им обязательства? — Блок был слишком сбит с толку, чтобы ответить. Г. де Норпуа не дал ему времени прийти в себя. — Если отрицание вины правильно, как я хочу верить, и если у вас есть капелька того, чего, по-моему, к несчастью, нехватает некоторым вашим руководителям и вашим друзьям, — капелька политического смысла, — то уже в день, когда дело будет передано в отделение уголовного суда, вы будете торжествовать, если не дадите увлечь себя любителям ловить рыбу в мутной воде. Я не ручаюсь, что весь генеральный штаб сумеет благополучно выпутаться из неприятного дела, но хорошо уже, если хотя бы часть его могла спасти свое лицо, не заваривая каши и не бросая искры в порох.
— Впрочем, само собой разумеется, дело правительства блюсти закон и положить конец слишком длинному списку безнаказанных преступлений, и притом по собственному почину, а не под напором социалистов или не знаю уж какой солдатчины, — прибавил посол, смотря Блоку в глаза и руководясь, может быть, присущим каждому консерватору инстинктом подготовлять себе опору в лагере противника. — Правительственное выступление должно быть совершено без всяких давлений, откуда бы они ни исходили. Наше правительство не состоит, слава богу, на службе ни у полковника Дриана ни — на другом полюсе — у г-на Клемансо. Надо обуздывать профессиональных агитаторов и не давать им поднимать голову. Франция в подавляющем большинстве желает работать и иметь порядок! На этот счет убеждения мои незыблемы. Но не надо бояться просвещать общественное мнение; и если иные бараны из числа тех, которых так хорошо знал наш Рабле, начнут, опустив голову, бросаться в воду, то уместно будет показать им, что вода эта мутная и что она умышленно была замутнена людьми нам чуждыми, чтобы замаскировать опасные рифы. Правительству не подобает также иметь такой вид, будто оно выходит из пассивности против воли, когда оно собирается осуществлять право, только ему и принадлежащее, я разумею — приводить в движение госпожу Юстицию. Правительство примет во внимание все ваши указания. Если оно убедится, что произошла судебная ошибка, оно будет уверено в подавляющем большинстве, которое позволит ему развязать себе руки.
— Вы, мосье, — сказал Блок, обращаясь к г-ну д'Аржанкуру, которому его представили вместе с другими гостями, — вы, наверное, дрейфусар: за границей все дрейфусары.
— Дело это касается одних только французов, не правда ли? — отвечал г. д'Аржанкур с той особенной наглостью, которая состоит в приписывании противнику мнения, явно им не разделяемого, ибо он только что высказал мнение противоположное.
Блок покраснел; г. д'Аржанкур улыбнулся, оглядываясь кругом, и если эта улыбка, покуда он обращал ее к другим гостям, была недоброжелательна для Блока, то он смягчил ее сердечностью, когда в заключение остановил свой взгляд на моем приятеле, чтобы отнять у него повод сердиться за только что услышанные слова, которые тем не менее оставались жестокими. Герцогиня Германтская прошептала что-то на ухо г-ну д'Аржанкуру; слов ее я не расслышал, но они, вероятно, имели отношение к религии Блока, потому что в этот момент по лицу герцогини пробежало выражение, появляющееся у нас, когда боязнь привлечь внимание лица, о котором мы говорим, сообщает нам какую-то нерешительность и неестественность и когда веселое любопытство смешивается у нас с недоброжелательством к разряду людей, нам в корне чуждому. Чтобы выйти из неловкого положения, Блок обратился к герцогу де Шательро: «Вы — француз, мосье, и вы наверное знаете, что за границей все за Дрейфуса, хотя и принято думать, что во Франции никогда не знают о том, что происходит за границей. Впрочем, я знаю, что с вами можно разговаривать, Сен-Лу мне это сказал». Но юный герцог, который чувствовал, что все настроены против Блока, и к тому же был труслив, как мы часто бываем в свете, ответил фразой, в несколько вычурном и язвительном стиле, который, должно быть, в силу атавизма, он перенял от г-на де Шарлюса: «Извините меня, мосье, но я не стану спорить с вами о Дрейфусе: о делах такого рода я принципиально говорю только с яфетидами». Все улыбнулись, за исключением Блока, — не потому, чтобы у него не было привычки произносить иронические фразы насчет своего еврейского происхождения, насчет своих истоков, расположенных недалеко от Синая. Но вместо одной из таких фраз, которые, вероятно, не были готовы, зубчик внутренней машины подал на язык Блока другую. И воспринять можно было лишь: «Каким образом вы это узнали? Кто вам сказал?» — точно он был сын каторжника. С другой стороны, если принять во внимание фамилию, которая звучала не по-христиански, и его лицо, то удивление моего приятеля не лишено было некоторой наивности.
Высказывания г-на де Норпуа его не вполне удовлетворили, поэтому он подошел к архивариусу и спросил, не бывают ли иногда у г-жи де Вильпаризи г. дю Пати де Клам или г. Жозеф Рейнак. Архивариус ничего не ответил; он был националист и неустанно твердил маркизе, что вскоре начнется гражданская война и что ей следует быть более осторожной в выборе своих знакомых. У него возникло подозрение, не является ли Блок секретным эмиссаром синдиката, подосланным для осведомительных целей, почему он тотчас же подошел к г-же де Вильпаризи и передал ей вопросы Блока. Маркиза нашла, что мой приятель по меньшей мере дурно воспитан и, пожалуй, может быть опасен для положения г-на де Норпуа. Кроме того она желала сделать приятное архивариусу, единственному человеку, внушавшему маркизе некоторый страх и прививавшему ей политические убеждения, правда, без большого успеха (каждое утро он читал ей статью г-на Жюде в «Petit Journal»). Она решила поэтому дать понять Блоку, что он не должен больше приходить к ней, и без труда нашла в своем светском репертуаре сцену, как важная дама выпроваживает гостя, сцену, которая, вопреки ходячему представлению, вовсе не предполагает повелительно вытянутого перста и сверкающих взоров. Когда Блок подошел к ней попрощаться, г-жа де Вильпаризи сидела, глубоко зарывшись в кресле и как будто не вполне очнувшись от легкой дремоты. Затуманенные глаза ее едва светились матовым блеском жемчужин. Прощание Блока, чуть-чуть растянув лицо маркизы в немощную улыбку, не извлекло из нее ни слова, и она не подала ему руки. Сцена эта повергла Блока в крайнее изумление, но так как она происходила на глазах множества свидетелей, то мой товарищ счел конфузным для себя ее затягивать и, чтобы вывести маркизу из оцепенения, сам протянул ей руку. Г-жа де Вильпаризи была шокирована. Но, должно быть, по-прежнему считая нужным немедленно дать удовлетворение архивариусу и группе антидрейфусаров, она все же не желала связывать себя на будущее время, и потому ограничилась тем, что опустила веки и полузакрыла глаза.
— По-видимому, она спит, — сказал Блок архивариусу, который, чувствуя, что встретил поддержку у маркизы, принял негодующий вид. — До свидания, мадам, — крикнул он.
Маркиза сделала легкое движение губами, как умирающая, которая хотела бы открыть рот, но взгляд которой уже никого не узнает. После этого она повернулась к графу д'Аржанкуру, брызжущая вдруг вернувшейся к ней жизнью, между тем как Блок уходил в убеждении, что имеет дело с впавшей в идиотизм старухой. Сгорая от любопытства и желания пролить свет на столь странное происшествие, он через несколько дней снова зашел к г-же де Вильпаризи. Она приняла его очень хорошо, потому что была женщина добрая, потому что архивариус отсутствовал, потому что она дорожила пьесой, которую должен был поставить у нее Блок, и, наконец, потому что удачно сыграла роль великосветской дамы, возбудив всеобщее восхищение и вызвав в тот же вечер оживленные толки в различных салонах, хотя пущенная в ход версия не имела уже никакого отношения к истине.
— Вы говорили о «Семи принцессах», герцогиня, вы знаете (хотя это и не прибавляет во мне гордости), что автор этого… как бы это сказать, этого памфлета — мой соотечественник, — сказал г. д'Аржанкур; в ироническом его тоне слышалось удовлетворение, что он лучше прочих знает автора произведения, о котором здесь только что говорилось. — Да, он бельгиец по происхождению, — прибавил он.
— Неужели? Нет, мы вас не обвиняем в причастности к «Семи принцессам». К счастью для вас и для ваших соотечественников, вы не похожи на автора этой нелепости. Я знаю очень милых бельгийцев — вас, вашего короля, он немного робок, но полон остроумия, моих кузенов Линь и многих других, но, к счастью, вы не говорите языком автора «Семи принцесс». Впрочем, если вы хотите знать мое мнение, так о них не стоит и говорить, потому что это безделка. Люди эти стараются напустить туману и при случае не прочь прослыть смешными, лишь бы только скрыть, что у них нет мыслей. Будь у них действительно что-нибудь, я бы не возражала, ведь дерзновения меня не пугают, — прибавила герцогиня серьезным тоном, — если только у автора есть мысли. Не знаю, видели ли вы пьесу Борелли. Есть люди, которых она шокировала: ну, а я, даже если бы меня закидали камнями, — продолжала она, не отдавая себе отчета, что она не подвергается большому риску, — я признаюсь, что нашла ее чрезвычайно любопытной. Но «Семь принцесс»! Одна из них напрасно расточает милости моему племяннику, я не могу доводить семейные чувства…
Герцогиня вдруг замолчала, потому что в салон вошла дама, которая была не кто иная, как виконтесса де Марсант, мать Робера. Г-жа де Марсант почиталась в Сен-Жерменском предместье существом высшего порядка, женщиной, одаренной ангельской добротой и кротостью. Мне об этом говорили, и я не имел особенных оснований удивляться, не зная в то время, что она родная сестра герцога Германтского. Впоследствии я всегда поражался, когда мне приходилось слышать, как женщины меланхолические, чистые, жертвующие собой, чтимые точно идеальные святые церковных витражей, цвели в этом обществе на том же родословном дереве, что и грубые, развратные, пошлые их братья. Мне казалось, что братья и сестры, когда они до такой степени похожи друг на друга, как герцог Германтский и г-жа де Марсант, должны обладать одинаковым умом и одинаковым сердцем, как если бы они были одним существом, которое может, конечно, поступать иногда хорошо, а иногда дурно, но от которого все же нельзя ожидать широких взглядов, если ум у него ограниченный, и героического самоотречения, если сердце у него черствое.
Г-жа де Марсант слушала лекции Брюнетьера. Она приводила в восторг Сен-Жерменское предместье, а также, благодаря своей святой жизни, служила для него назиданием. Но морфологическое родство красивого носа и проницательного взгляда побуждали все же отнести г-жу де Марсант к тому же интеллектуальному и моральному семейству, что и ее брата герцога. Я не мог поверить, чтобы то единственное обстоятельство, что она была женщина, может быть испытавшая много горя и всеми уважаемая, способно было сделать ее резко отличной от ее родных, точно во французских героических поэмах, где все добродетели и прелести соединены в сестре свирепых братьев. Мне казалось, что природа, не располагающая такой свободой, как старые поэты, вынуждена почти исключительно пользоваться общими у всей семьи элементами, и я не мог приписать ей такой творческой мощи, чтобы она способна была создать великий ум без всякой примеси глупости или же совершенно незапятнанную грубыми инстинктами святую из материала, во всем сходного с тем, что образует дурака или неотесанного мужлана. На г-же де Марсант было шелковое белое платье в больших пальмах, на которых выделялись черные матерчатые цветы. Три недели тому назад она потеряла своего родственника, г-на де Монморанси, что не мешало ей делать визиты, ходить на обеды, но в трауре. Это была знатная дама. В силу атавизма душа ее была полна суетных мелочей придворной жизни со всем, что у нее есть поверхностного и строго пунктуального. Г-жа де Марсант неспособна была долго оплакивать своих отца и мать, но ни за что на свете не надела бы цветного платья в течение нескольких месяцев после смерти какого-нибудь родственника. Она была более чем любезна со мной, потому что я был другом Робера и не принадлежал к его кругу. Эта доброта сопровождалась у нее притворной робостью, своего рода вбиранием в себя голоса, взглядов и мыслей, как некоторые женщины подбирают пышную юбку, чтобы не занимать слишком много места, чтобы держаться совершенно прямо, даже сохраняя гибкость, как того требует хорошее воспитание. Хорошее воспитание, которое, впрочем, не следует понимать слишком буквально, ибо многие из этих дам очень легко впадают в распущенность, никогда не утрачивая почти детской безупречности манер. Г-жа де Марсант немного раздражала в разговоре, потому что каждый раз, когда речь заходила о каком-нибудь разночинце, например, о Берготе или об Эльстире, она говорила, выделяя слова, подчеркивая их и произнося нараспев в двух разных тонах, при помощи характерного для Германтов перелива: «Я имела честь, большую честь встретить господина Бергота, познакомиться с господином Эльстиром», — потому ли, что она хотела пленить своим смирением, или же вследствие свойственной также и герцогу Германтскому любви к устарелым формам в знак протеста против нынешнего дурного воспитания, когда люди считают, что их недостаточно «чествуют». Так или иначе, но вы чувствовали, что когда г-жа де Марсант говорила: «Я имела честь, болъ-шую честь», то она выполняла в собственных глазах важную роль и показывала свое уменье принимать имена выдающихся людей так же, как она приняла бы их самих в своем замке, если бы они находились по соседству. С другой стороны, так как родня г-жи де Марсант была многочисленна, так как она ее очень любила, так как, отличаясь медлительностью речи и склонностью к объяснениям, она желала растолковать степени родства, то она способна была (без всякого желания удивлять и любя по-настоящему говорить только о трогательных крестьянах и возвышенных лесных сторожах) каждую минуту приводить медиатизированные владетельные роды Европы, чего люди, занимавшие не столь блестящее положение, ей не прощали и над чем смеялись, как над глупостью, если были хоть немного образованными.
В деревне г-жу де Марсант обожали за добро, которое она делала, но особенно потому, что чистота крови, которая в течение нескольких поколений заимствовалась только от самых значительных в истории Франции родов, устранила из ее манеры держаться все, что простой народ называет кривляньем, и сообщила ей совершенную простоту. Она не боялась поцеловать бедную женщину, которую постигло горе, и приказывала ей прийти в замок и получить воз дров. Она была, как говорили, примерная христианка. Она непременно хотела сосватать Роберу баснословно богатую невесту. Быть знатной дамой значит играть роль знатной дамы, то есть, между прочим, играть простоту. Игра эта стоит безумно дорого, тем более, что простота способна восхищать только при условии, если другие знают, что вы могли бы не быть простым, то есть когда вы очень богаты. Когда я рассказал, что видел г-жу де Марсант, мне сказали: «Вы, конечно, обратили внимание, как она восхитительна». Однако подлинная красота есть нечто столь своеобразное, столь новое, что мы не признаем ее красотой. Я только сказал себе в тот день, что у нее совсем маленький нос, очень голубые глаза, длинная шея и печальное лицо.
— Послушай, — сказала г-жа де Вильпаризи герцогине Германтской, — я думаю, что ко мне сейчас придет женщина, с которой ты не хочешь знакомиться; предпочитаю тебя предупредить, чтобы тебе не было неприятно. Впрочем, можешь быть спокойна, в будущем я ее никогда не стану принимать, но она должна прийти один раз сегодня. Это жена Свана.
Г-жа Сван, увидя размеры, которые принимало дело Дрейфуса, и боясь, чтобы происхождение мужа не повредило ей, умоляла его никогда больше не говорить о невиновности осужденного. Когда Свана возле нее не было, она шла еще дальше и превозносила самый крайний национализм: впрочем, она только подражала в этом г-же Вердюрен, у которой проснулся скрытый буржуазный антисемитизм и принял самые ожесточенные формы. Благодаря этой позиции г-же Сван удалось вступить в некоторые антисемитские женские Лиги, начавшие тогда возникать, и завязать знакомство с некоторыми представительницами аристократии. Может показаться странным, что герцогиня Германтская, так дружественно настроенная к Свану, не только не подражала этим дамам, а, наоборот, всегда противилась не раз выраженному Сваном желанию представить ей свою жену. Но в дальнейшем видно будет, что это обусловлено было своеобразным характером герцогини, считавшей, что ей «не следует» делать того-то и того-то, и деспотически осуществлявшей все постановления своей светской воли, очень самовластной.
— Спасибо, что предупредили, — отвечала герцогиня. — Мне, действительно, это было бы очень неприятно. Но так как я знаю ее в лицо, то успею уйти во-время.
— Уверяю тебя, Ориана, она очень мила, это превосходная женщина, — сказала г-жа де Марсант.
— Я не сомневаюсь, но не ощущаю никакой потребности удостоверяться в этом лично.
— Ты получила приглашение к леди Израэльс? — спросила герцогиню г-жа де Вильпаризи, чтобы переменить разговор.
— Я, слава богу, с ней незнакома, — отвечала герцогиня. — Об этом надо спросить Мари-Энар. Она с ней знакома, и я всегда недоумевала, зачем.
— Я, действительно, была с ней знакома, — сказала г-жа де Марсант, — признаю свои ошибки. Но я решила больше с ней не знаться. Кажется, это одна из худших, и она этого не скрывает. Впрочем, все мы были слишком доверчивы, слишком гостеприимны. Я больше не буду бывать ни у кого из этой нации. В то время, как мы закрывали двери перед нашими старыми родственниками из провинции, людьми, в которых течет наша кровь, мы пускали к себе евреев. Мы видим теперь, как они нас отблагодарили. Увы, мне нечего сказать, у меня есть горячо любимый сын, мальчик прямо с ума сошел, такие говорит нелепости, — прибавила она, услышав намек г-на д'Аржанкура на Робера. — Кстати, о Робере, — вы его не видели? — спросила она г-жу де Вильпаризи. — Так как сегодня суббота, то я думаю, что он мог бы провести двадцать четыре часа в Париже; в таком случае он наверное зайдет вас навестить.
В действительности г-жа де Марсант думала, что сын ее не получит отпуска; но так как она знала, что если бы даже он его получил, так все равно не зашел бы к г-же де Вильпаризи, то надеялась, сделав вид, будто она рассчитывает застать его здесь, заслужить прощение сыну у его обидчивой тетки за все не сделанные им ей визиты.
— Робер здесь! Но я не имела от него даже двух слов; я, кажется, ни разу не видела его после возвращения из Бальбека.
— Он так занят, у него столько дела, — сказала г-жа де Марсант.
Едва уловимая улыбка пробежала по ресницам герцогини Германтской, устремившей глаза на круг, который она чертила на ковре кончиком зонтика. Каждый раз, когда герцог слишком открыто покидал свою жену, г-жа де Марсант с шумом брала против брата сторону невестки. Та хранила благодарное и недоброе воспоминание об этом заступничестве и была не очень огорчена проказами Робера. В эту минуту двери снова распахнулись, и вошел Сен-Лу.
— Глядите: про волка речь… — проговорила герцогиня.
Г-жа де Марсант, сидевшая спиной к двери, не видела, как вошел ее сын. Когда эта любящая мать заметила его, она вся всколыхнулась от радости, похоже было на птицу, взмахнувшую крыльями; туловище г-жи де Марсант приподнялось, лицо затрепетало, она приковала
Роберу восхищенные взоры:
— Как, ты пришел! Какое счастье! Какой подарок!
— А-а, про волка речь…, понимаю, — сказал бельгийский дипломат, громко расхохотавшись.
— Это прелестно, — сухо проговорила герцогиня, которая терпеть не могла каламбуров, и если позволила себе скаламбурить, то только как бы в насмешку над собой.
— Здравствуй, Робер, — сказала она, — вот как забывают свою тетку» Они минуточку о чем-то поговорили — очевидно обо мне, потому
что, когда Сен-Лу подошел к своей матери, герцогиня повернулась ко
мне.
— Здравствуйте, как вы поживаете? — сказала она.
Она пролила на меня свет своего голубого взора, поколебалась одно мгновение, разогнула и протянула мне стебель своей руки и наклонила вперед туловище, которое тотчас же откинулось назад, как прибитый к земле куст, который, когда вы его отпустили, снова занимает свое нормальное положение. Она совершила эти движения под огнем взглядов Сен-Лу, который наблюдал за ней и делал на расстоянии отчаянные усилия, чтобы добиться как можно большей благосклонности от своей тетки. Боясь, чтобы разговор не замер, он поддержал его и ответил вместо меня:
— Он чувствует себя неважно, он немного утомлен; впрочем, ему было бы лучше, если бы он видел тебя чаще, так как, не скрою от тебя, ему доставляет большое удовольствие тебя видеть.
— А, это очень любезно, — сказала герцогиня самым обыкновенным тоном, как если бы я подал ей пальто. — Я очень польщена.
— Теперь я пойду поздороваюсь с моей матерью, уступаю тебе мой стул, — сказал Сен-Лу, заставив меня таким образом сесть возле его тетки.
Мы оба замолчали.
— Я вас иногда вижу по утрам, — сказала герцогиня, как будто сообщая мне какую-то новость и как будто сам я ее при этом не видел. — Это очень полезно для здоровья.
— Ориана, — сказала вполголоса г-жа де Марсант, — вы говорили, что собираетесь зайти к г-же де Сен-Фереоль, — не будете ли вы так любезны сказать ей, чтобы она меня не ждала к обеду, я останусь дома ради Робера. Осмелюсь даже попросить вас распорядиться во дороге, чтобы купили сейчас же сигар, которые любит Робер, называются «Корона», они у меня все вышли.
Подошел Робер; он расслышал только имя г-жи де Сен-Фереоль.
— Что это еще такое г-жа де Сен-Фереоль? — спросил он удивленным и решительным тоном, так как напускал на себя вид, что не знает света и не интересуется им.
— Помилуй, голубчик, ты отлично знаешь, это сестра Вермандуа; она еще подарила тебе прекрасный бильярд, который тебе так нравился.
— Как, сестра Вермандуа? — я не имел об этом ни малейшего представления! Поразительная у меня мамаша, — сказал он, полуобернувшись ко мне и бессознательно подражая интонациям Блока, так же как он заимствовал его мысли, — она знает неслыханных людей, которые зовутся ни больше, ни меньше как Сен-Фереоль, — (и, отчеканивая согласные в каждом слове), — она ездит на балы, она катается в виктории, она ведет баснословный образ жизни. Это потрясающе!
Герцогиня Германтская издала горлом легкий отрывистый шум, похожий на проглоченный принужденный смех, который предназначался для того, чтобы показать, что она ценит остроумие племянника в той степени, в какой этого требует долг родственницы. Лакей доложил, что князь фон Фаффенгейм-Мюнстербург-Вейнинген просит сказать г-ну де Норпуа, что он здесь.
— Попросите его сюда, мосье, — сказала г-жа де Вильпаризи бывшему послу, который пошел навстречу немецкому премьер-министру.
Маркиза остановила его:
— Подождите, мосье: надо ли мне показать ему миниатюру императрицы Шарлотты?
— О, я думаю, что он будет в восторге, — отвечал посол прочувствованным тоном, как если бы он завидовал милости, ждавшей осчастливленного министра.
— О, я знаю, что это человек очень благомыслящий, — сказала г-жа де Марсант, — а это так редко у иностранцев. Но я имею точные сведения. Это воплощение антисемитизма.
В бойкости, с которой были «взяты» — как говорится в музыке — его первые слоги, и в косноязычном их повторении имя князя хранило порыв, вычурную наивность, тяжеловесные германские «изящества», напущенные как зеленоватые сучья на темно-синюю эмаль слога «гейм», светившуюся мистичностью расписного церковного окна за тусклыми узорчатыми позолотами немецкого XVIII века. Имя это заключало в числе различных имен, из которых оно было составлено, имя одного немецкого городка-курорта, где я был с бабушкой совсем маленьким, у подошвы горы, прославленной прогулками Гете и виноградниками, дававшими знаменитые вина со сложным и звучным названием, похожим на эпитеты, которыми Гомер наделяет своих героев. Вот почему, как только я услышал имя князя, то еще прежде, чем мне вспомнилась бальнеологическая станция, оно как-то уменьшилось, пропиталось человечностью, нашло достаточно просторным для себя местечко в моей памяти, с которым оно срослось, — оно показалось мне родным, будничным, живописным, отрадным, легким, содержащим в себе что-то дозволенное, прописанное. Больше того: когда герцог Германтский, объясняя, кто такой был князь, перечислил несколько его титулов, то я узнал среди них имя деревни, пересеченной речкой, по которой каждый вечер, по окончании лечебных процедур, я катался в лодке, осаждаемый комарами, — а также имя довольно далекого леса, куда доктор не позволял мне ходить на прогулки. В самом деле, ничего не было удивительного в том, что ленные права сеньора простирались на окрестные места и вновь соединяли в перечне его титулов имена, которые можно было прочесть одно возле другого на карте. Таким образом под забралом князя священной Римской империи и стольника Франконии я видел лицо любимой земли, на которой часто останавливались для меня лучи шестичасового солнца, — по крайней мере до того, как вошел князь, рейнграф и курфюрст пфальцский. Ибо через несколько мгновений я узнал, что доходы, которые приносили ему лес и река, населенные гномами и ундинами, и волшебная гора со старым бургом, хранящим память о Лютере и Людовике Немецком, князь тратил на приобретение пяти автомобилей Шаррон, двух особняков, в Париже и в Лондоне, ложи по понедельникам в Оперу и по средам во Французскую комедию. На мой взгляд, да и в глубине собственной души он не считал себя отличным от людей с такими же средствами и такого же возраста, но менее поэтического происхождения. Он был человек той же культуры и тех же идеалов, он ценил свое высокое положение единственно за те преимущества, которые оно ему давало, и имел одно только честолюбивое желание в жизни, — желание быть избранным в члены-корреспонденты Академии моральных и политических наук, что и послужило причиной его визита к г-же де Вильпаризи. Если князь, жена которого возглавляла самый замкнутый светский кружок Берлина, домогался быть принятым у маркизы, то вовсе не потому, что ему этого хотелось. Снедаемый уже много лет желанием проникнуть в Институт, он, к несчастью, никогда не мог завербовать более пяти академиков, которые изъявили бы готовность голосовать за него. Он знал, что г. де Норпуа располагает один по крайней мере десятью голосами, к которым может при помощи искусных маневров прибавить еще некоторое количество. Вот почему князь, познакомившийся с ним в России, где они оба были послами, навестил г-на де Норпуа, чтобы снискать его благоволение. Но напрасно умножал он свои любезности, выхлопотал маркизу русские ордена, ссылался на него в своих статьях по иностранной политике, — князь имел дело с неблагодарным, с человеком, как будто вовсе не считавшимся со всей этой предупредительностью, не подвинувшим его кандидатуру ни на шаг и даже не пообещавшим ему своего голоса! Конечно, г. де Норпуа принимал князя с чрезвычайной вежливостью, пожелал даже избавить его от беспокойства, причиняемого поездками к нему, сам явился в особняк князя, и когда тевтонский рыцарь обронил: «Мне бы очень хотелось быть вашим коллегой», — ответил ему прочувствованным тоном: «Ах, я был бы очень счастлив!» Какой-нибудь простак вроде доктора Котара подумал бы: «Ну, вот, он у меня, — это он изъявил настойчивое желание зайти ко мне, потому что он считает меня лицом более важным, чем он, — он говорит, что будет счастлив видеть меня в Академии, — слова его имеют же, чорт возьми, какой-то смысл, — и если он не предлагает голосовать за меня, так конечно потому, что не придает этому значения. Он много говорит о моем большом влиянии: должно быть он думает, что жаворонки валятся мне в рот уже изжаренные, что у меня столько голосов, сколько я пожелаю, и поэтому не предлагает мне своего, но мне стоит только припереть его к стене и сказать ему с глазу на глаз: «Вот что: голосуйте за меня», — и он обязан будет голосовать».
Но князь фон Фаффенгейм не был простаком; он был тем, кого доктор Котар назвал бы «тонким дипломатом», и он знал, что г. де Норпуа дипломат не менее тонкий и что он отлично видит, что доставит кандидату в Академию удовольствие, если будет голосовать за него. В должности посла и на посту министра иностранных дел князь вел в интересах своей страны — как он вел их теперь в своих собственных интересах — те разговоры, в которых мы знаем заранее, до каких пределов мы в них дойдем и чего наши собеседники никогда не заставят нас сказать. Ему было отлично известно, что разговаривать на дипломатическом языке значит предлагать. Для этого он и выхлопотал г-ну де Норпуа андреевскую ленту. Но если бы ему надо было дать отчет своему правительству о беседе, которая у него была после этого с г-ном де Норпуа, то он мог бы так резюмировать ее в телеграмме: «Я понял, что пошел ложным путем». Ибо едва только он возобновил разговор об Институте, как г. де Норпуа повторил ему:
— Я бы очень, очень желал этого для моих коллег. Они должны, я думаю, чувствовать себя глубоко польщенными тем, что вы о них подумали. Это необыкновенно интересная кандидатура, но она немного вне наших привычек. Вы знаете, Академия — большая рутинерка, она страшится всего, что дает сколько-нибудь новый звук. Я лично порицаю ее за это. Сколько раз случалось мне давать это понять моим коллегам. Кажется даже, прости Господи, с моего языка сорвалось однажды слово заскорузлые, — прибавил он с притворным возмущением, вполголоса, почти в сторону, как это делается в театре, и бросив искоса на князя беглый взгляд голубых глаз, точно старый актер, который желает убедиться в произведенном им эффекте. — Вы понимаете, князь, что мне не хотелось бы вовлекать такого выдающегося человека, как вы, в заранее проигранную партию. Пока идеи моих коллег будут оставаться столь ретроградными, я считаю, что благоразумие велит воздержаться. Впрочем, будьте уверены, что как только я замечу веяние сколько-нибудь нового, сколько-нибудь живого духа в этой коллегии, которая готова превратиться в некрополь, как только я почувствую вероятность каких-нибудь шансов для вас, я первый вас извещу об этом.
«Андреевская лента — ошибка, — подумал князь, — переговоры не подвинулись ни на шаг; не этого он хотел. Я вложил в замок не тот ключ, что надо».
Это был тип рассуждения, привычный и для г-на де Норпуа, ум которого образовался в той же школе, что и ум князя. Можно высмеивать педантическую нелепость восторгов дипломатов вроде г-на де Норпуа перед официальными выражениями, почти лишенными смысла. Но в ребячестве этих людей есть и серьезная сторона: дипломаты знают, что в системе отношений, обеспечивающих европейское и другое равновесие, называемое миром, добрые чувства, красивые речи, упрашивания весят очень мало, и что настоящий тяжелый груз, решения, заключается в другой веши, в том, обладает ли противник, если он достаточно силен, или не обладает возможностью удовлетворить путем обмена какое-нибудь желание. Вот с такого рода истинами — непонятными для людей совершенно бескорыстных, например, для моей бабушки — г-ну де Норпуа и князю фон *** часто приходилось иметь дело. Состоя представителем Франции в странах, с которыми нам случалось бывать на вершок от войны, г. де Норпуа научился внимательно присматриваться к различным оборотам событий и прекрасно знал, что о них бы его известили не посредством слова «мир» или слова «война», а посредством других грозных или ласковых слов, с виду самых банальных, которые дипломат сумел бы немедленно прочитать при помощи своего шифра и на которые, для защиты достоинства Франции, он ответил бы другими столь же банальными словами, однако не оставляющими сомнения для министра враждебной нации, что они означают: война. И даже, по старинному обычаю, напоминающему обычай буржуазных семей устраивать первое свидание «нареченных» в форме случайной встречи на каком-нибудь представлении в театре Жимназ, диалог, на котором судьба продиктует слово «война» или слово «мир», происходил обыкновенно не в кабинете министра, но на скамейке в каком-нибудь «кургартене», куда министр и г. де Норпуа ходили оба к минеральному источнику выпить по стаканчику целебной воды. Точно по молчаливому уговору, они встречались в час лечения, делали сначала маленькую совместную прогулку, зная, что под своей мирной внешностью она таит столь же трагический смысл, как приказ о мобилизации. И вот, в таком частном деле, как выставление своей кандидатуры в Институт, князь пользовался той же системой индукции, которую он выработал в течение своей дипломатической карьеры, тем же методом чтения сквозь наложенные друг на друга символы.
Разумеется, нельзя утверждать, что моя бабушка и немногие ей подобные были единственными людьми, ничего не знавшими о подобного рода расчетах. Добрая половина человечества, занимаясь профессиями, в которых все предначертано заранее, отличается, вследствие недостатка интуиции, тем же невежеством, которым бабушка обязана была своему высочайшему бескорыстию. Часто нужно бывает низойти до существ, живущих на содержании, мужчин или женщин, чтобы обнаружить, что мотивом с виду самых невинных поступков или слов являются материальные интересы, жизненные потребности. Какой мужчина не знает, что если женщина, которой он собирается заплатить, говорит ему: «Не будем говорить о деньгах», то на слова эти надо смотреть, как в музыке на «такт, который не идет в счет», и что если она ему впоследствии объявляет: «Ты меня очень огорчил, ты часто скрывал от меня правду, я дошла до крайности», то он должен это истолковать: «Другой покровитель ей предлагает больше». И заметьте, что так говорят только кокотки, мало отличающиеся от светских женщин. Апаши дают еще более поразительные примеры. Но если апаши были неизвестны г-ну де Норпуа и немецкому князю, то дипломаты привыкли жить в той же плоскости, что и народы, которые тоже, несмотря на свою величину, существа эгоистические и хитрые, которых укрощают только силой, только соблюдением их интересов, чем можно довести их до убийства, убийства часто тоже символического, поскольку простая нерешительность или отказ сражаться может означать для народа: «погибнуть». Но так как ни о чем этом не говорится в желтых и других цветных книгах, то народ охотно бывает пацифистом; если он бывает воинственным, то инстинктивно, воодушевляемый ненавистью или злобой, а не по тем причинам, которые определяли решения глав государства, осведомляемых людьми вроде Норпуа.
В следующую зиму князь сильно хворал; он выздоровел, но сердце его осталось неизлечимо пораженным.
«Чорт возьми! — подумал он, — не следовало бы терять времени с Институтом: ведь если я буду слишком тянуть, то рискую умереть раньше, чем меня выберут. Это было бы крайне неприятно».
Он написал для «Revue des Deux Mondes» статью о политике последних двадцати лет и несколько раз упомянул в ней в самых лестных выражениях о г-не де Норпуа. Последний сделал визит князю и поблагодарил его. Он прибавил, что не знает, как выразить ему свою благодарность. Князь сказал себе, как человек, попробовавший отпереть замок другим ключом: «Нет, и этот не годится», — и, почувствовав некоторую одышку, когда провожал г-на де Норпуа, подумал: «Тьфу, пропасть, эти пройдохи вгонят меня в гроб раньше, чем выберут. Надо поторопиться».
В тот же вечер он встретил г-на де Норпуа в опере.
— Дорогой посол, — сказал он, — вы мне говорили сегодня утром, что не знаете, как доказать мне вашу признательность; это чересчур сильно сказано, потому что вы мне ничем не обязаны, но я буду неделикатным и ловлю вас на слове.
Г. де Норпуа ценил такт князя не меньше, чем князь ценил его собственный такт. Он мгновенно понял, что князь фон Фаффенгейм собирается обратиться к нему не с просьбой, а с предложением, и счел своим долгом с любезной предупредительностью его выслушать.
— Да, сейчас вы убедитесь, насколько я нескромен. Есть две особы, к которым я очень привязан, но совсем по-разному, как это сейчас станет вам ясно; обе эти особы недавно переселились в Париж и собираются здесь жить, это — жена моя и великая герцогиня Иоанна. Они намерены дать несколько обедов в честь английских короля и королевы, и заветная их мечта — представить своим гостям особу, к которой обе они, не будучи с нею знакомыми, питают самое глубокое уважение. Признаюсь, я недоумевал, каким образом удовлетворить их желание, как вдруг совершенно случайно узнаю сейчас, что вы знакомы с этой особой; я знаю, что она живет очень уединенно, соглашается принимать очень немногих, любит домашний очаг; но если вы с вашей обычной благожелательностью окажете мне поддержку, то я уверен, что она разрешит вам ввести меня к ней, разрешит мне передать ей желание великой герцогини и княгини. Может быть, она согласится даже выйти из дому и пообедать с английской королевой, и, кто знает, может быть, это не так уж ее побеспокоит, если она проведет с нами пасхальные вакации в Болье, у великой герцогини Иоанны. Особа эта называется маркизой де Вильпаризи. Признаюсь, что надежда стать одним из завсегдатаев подобного общества умных людей меня бы утешила, позволила бы перенести без огорчения неудачу на выборах в Институт. Ведь и у нее вы входите в общение с выдающимися умами и можете слышать самые остроумные разговоры.
С чувством невыразимого удовольствия князь увидел, что замок уступает и что этот ключ, наконец, подошел.
— Производить такой выбор вовсе не нужно, дорогой князь, — отвечал г. де Норпуа: — ничто лучше не сочетается с Институтом, чем салон, о котором вы говорите и который является настоящим питомником академиков. Я передам вашу просьбу госпоже маркизе де Вильпаризи: она наверное будет польщена. Что же касается обеда, на который вы хотите ее пригласить, то она очень мало выходит, и это, пожалуй, труднее будет устроить. Но я вас представлю, и вы уж сами будете ее убеждать. Главное, не надо отказываться от Академии; ровно через две недели я завтракаю у Леруа-Болье, без которого не могут состояться ни одни выборы, а после завтрака иду с ним на одно важное заседание; я уже упомянул в разговоре с ним ваше имя, которое он, понятно, превосходно знает. Он привел некоторые возражения. Но, оказывается, он нуждается в поддержке моей группы для ближайших выборов, и я намерен возобновить попытку; я самым откровенным образом скажу ему о сердечных узах, нас соединяющих, я не скрою от него, что если вы выставите вашу кандидатуру, то я буду просить всех моих друзей голосовать за вас, — (князь испустил глубокий вздох облегчения), — а он знает, что у меня есть друзья. Я полагаю, что если мне удастся обеспечить его содействие, то шансы ваши станут весьма серьезными. Приходите в тот день вечером, в шесть часов, к г-же де Вильпаризи, я вас введу к ней и дам отчет о моем утреннем разговоре.
Вот каким образом князь фон Фаффенгейм вынужден был сделать визит г-же де Вильпаризи. Я испытал глубокое разочарование, когда он заговорил. Я никогда не думал, что если известная эпоха бывает выражена некоторыми специфическими и общими чертами сильнее, чем национальность, так что в иллюстрированном словаре, где можно найти даже достоверный портрет Минервы, Лейбниц в своем парике и брыжжах мало отличается от Мариво или Самюэля Бернара, то национальность, в свою очередь, обладает более резкими особенностями, чем каста. И вот, эти особенности сказались теперь не в виде речи, в которой я ожидал услышать порханье эльфов и танец кобольдов, но в транспонировке, которая не менее явственно выдавала поэтическое происхождение вошедшего в том, как, отвешивая г-же де Вильпаризи поклон, маленький, красный и пузатый рейнграф сказал ей: «Поншур, матам», с акцентом какого-нибудь эльзасского консьержа.
— Не желаете ли, я вам дам чашку чаю или кусочек торта, он очень хороший, — обратилась ко мне герцогиня Германтская, желая быть как можно более любезной. — Я потчую гостей в этом доме, как в моем собственном, — прибавила она ироническим тоном, придававшим ее голосу несколько гортанный тембр, как если бы ее душил хриплый смех.
— Мосье, — обратилась г-жа де Вильпаризи к г-ну де Норпуа, — помните, вы хотели что-то сказать князю по поводу Академии?
Герцогиня Германтская опустила глаза, повернула на четверть оборота руку и взглянула на часы.
— Ах, боже мой, пора прощаться с тетушкой, ведь я должна еще зайти к г-же де Сен-Фереоль и кроме того я обедаю у г-жи Леруа.
И она встала, не попрощавшись со мной. Она только что заметила г-жу Сван, как будто смущенную встречей со мной. Должно быть она помнила, что раньше высказывала мне свое убеждение в невиновности Дрейфуса.
— Я не хочу, чтобы моя мать представляла меня г-же Сван, — сказал мне Сен-Лу. — Это бывшая потаскуха. Муж ее еврей, а она выдает его нам за националиста. О, да вот и мой дядя Паламед.
Присутствие г-жи Сван представляло для меня особенный интерес благодаря одному происшествию, случившемуся несколько дней тому назад; о нем необходимо рассказать, потому что много времени спустя происшествие это имело последствия, которые будут подробно изложены, когда до них дойдет речь. Итак, за несколько дней до моего визита к г-же де Вильпаризи я сам удостоился неожиданного визита — визита Шарля Мореля, незнакомого мне сына бывшего камердинера моего двоюродного дяди. Дядя этот (тот самый, у которого я встретил даму в розовом) умер в прошлом году. Его камердинер несколько раз объявлял о своем намерении зайти ко мне; цель его визита была мне неизвестна, но я с удовольствием повидал бы старика, так как узнал от Франсуазы, что он хранит настоящий культ памяти моего дяди и по каждому случаю совершает паломничество на кладбище. Но теперь он принужден был поехать на родину лечиться и, не рассчитывая скоро вернуться в Париж, делегировал ко мне своего сына. Я был поражен, увидя вошедшего ко мне красивого восемнадцатилетнего юношу, одетого скорее богато, чем со вкусом, но все же имевшего вид кого угодно, только не камердинера. Впрочем, он с самого начала заботливо подчеркнул свой разрыв с лакейской средой, из которой он вышел, сообщив мне с самодовольной улыбкой, что он удостоен первой премии в консерватории. Цель его визита была такова: отец его отложил некоторые из вещей, оставшихся после покойного дяди Адольфа, считая неудобным посылать их моим родителям, хотя, по его мнению, они могли бы представить интерес для молодого человека моего возраста. То были фотографии знаменитых актрис и видных кокоток, которых знал дядя, — последние образы той жизни старого вивера, которую он отделял непроницаемой перегородкой от своей семейной жизни. Когда Морель мне их показывал, я понял, что он непременно хочет разговаривать со мной, как с равным. Говоря мне «вы» и старательно избегая слова «мосье», он испытывал удовольствие человека, отец которого никогда не обращался к моим родителям иначе, как в третьем лице. На всех почти фотографиях были надписи, вроде: «Моему лучшему другу». Одна более неблагодарная и более смышленая актриса написала: «Лучшему из друзей»; это позволяло ей, как меня уверяли, говорить, что дядя вовсе не был, далеко не был ее лучшим другом, а только другом, который оказывал ей множество мелких услуг, другом, которым она пользовалась, превосходным человеком, чуть ли не старым дураком. Но тщетно юный Морель пытался увильнуть от своего происхождения, чувствовалось, что тень дяди Адольфа, почтенная и огромная в глазах старого камердинера, непрестанно парила, как нечто священное, над детством и отрочеством его сына. Пока я рассматривал фотографии, Шарль Морель оглядывал мою комнату. Я раздумывал, куда бы мне их спрятать. «Но как это вышло, — сказал он мне (тоном, в который не было надобности вкладывать упрек, настолько явственно выражали его самые слова), — что я не вижу у вас в комнате ни одного портрета вашего дяди?» Я почувствовал, что лицо мое заливает краска, и пробормотал: «Кажется, его у меня нет». — «Как, у вас нет ни одного портрета вашего дяди Адольфа, который вас так любил! Я вам пришлю из запаса моего родителя и надеюсь, что вы его повесите на почетном месте, вот над этим комодом, который ведь тоже перешел к вам от вашего дяди». Правда, так как у меня в комнате не было даже портретов моих отца и матери, то отсутствие портрета дяди Адольфа не заключало в себе ничего зазорного. Но не трудно было угадать, что для старика Мореля, который привил этот взгляд на вещи своему сыну, дядя был самым важным лицом в семье и блеск его только в ослабленной степени падал на моих родителей. Я был у него в большей милости, ибо дядя ежедневно твердил, что из меня выйдет другой Расин или Волабель, и Морель смотрел на меня почти как на приемного сына, как на любимца дяди. Я очень быстро заметил, что сын Мореля большой карьерист. Так, уже в тот день он спросил меня, — он был немного композитором и умел перекладывать на музыку стихи, — не знаю ли я поэта с влиятельным положением в «аристократическом» мире. Я назвал ему одного. Морель не знал произведений этого поэта и никогда не слышал его имени, которое он записал. И вот я узнал, что через некоторое время он обратился к этому поэту с посланием, в котором говорил, что, будучи восторженным почитателем его произведений, он написал музыку на один его сонет и был бы счастлив, если бы автор сонета похлопотал о публичном исполнении его музыки у графини ***. Шаг Мореля был немного поспешен и чересчур явно разоблачал его план. Оскорбленный поэт ничего не ответил.
Впрочем, наряду с честолюбием, Шарль Морель имея, по-видимому, живое влечение к реальностям более конкретным. Он заметил во дворе племянницу Жюпьена, занятую шитьем жилета, и, хотя он сказал мне только, что ему нужен жилет «фантази», я почувствовал, что молодая девушка произвела на него сильное впечатление. Он не постеснялся попросить меня спуститься и представить его: «Не упоминайте только о моем отношении к вашей семье, — вы понимаете, — я рассчитываю на вашу скромность в отношении моего отца, скажите только: ваш друг знаменитый артист, — вы понимаете, надо произвести хорошее впечатление на этих коммерсантов». Хотя Морель дал понять, что, правда, он не ожидает от меня обращения «дорогой друг», — я с ним недостаточно знаком для этого, — однако я мог бы говорить ему при молодой девушке что-нибудь вроде «ну, не: дорогой мэтр, понятно, хотя… а, скажем: дорогой артист», — все нее в лавочке жилетника я избегал «величать» его, как говорит Сен-Симон, и в ответ на его «вы» ограничивался таким же «вы». Перебрав несколько бархатных жилетов, он остановился на одном ярко-красном, настолько кричащем, что, несмотря на свой дурной вкус, он ни разу не решился надеть его. Молодая девушка продолжала работать с двумя своими мастерицами, но мне показалось, что впечатление было обоюдным и что Шарль Морель, которого она считала человеком «своего общества» (более элегантного, правда, и более богатого), ей чрезвычайно понравился. Так как я был очень удивлен, найдя среди фотографий, присланных мне его отцом, портрет мисс Сакрипант (то есть Одетты) работы Эльстира, то сказал Шарлю Морелю, провожая его до ворот: «Боюсь, что вы не сможете удовлетворить мое любопытство. Дядя, мой был близко знаком с этой дамой? Я затрудняюсь, к какому периоду жизни моего дяди можно отнести это знакомство; меня интересует это в связи с г-ном Сваном…» — «Ах, я совсем забыл вам сказать, что отец поручил мне обратить ваше внимание на эту даму. Да, эта демимонденка завтракала у вашего дяди, когда вы в последний раз были у него. Мой отец не знал, можно ли вас впустить. Кажется, вы очень понравились этой легкомысленной женщине, и она надеялась снова встретиться с вами. Но как раз в это время в семье у вас произошла ссора, как говорил мой отец, и вы после этого уже ни разу не видели вашего дядю». Тут он улыбнулся племяннице Жюпьена, издали посылая ей приветствие. Она, должно быть, с восхищением смотрела на его худое, правильное лицо, на его пушистые волосы и веселые глаза. А я, пожимая ему руку, думал о г-же Сван и с удивлением говорил себе — настолько они были обособлены и различны в моем воспоминании, — что впредь мне придется отожествлять ее с «дамой в розовом».
Г. де Шарлюс вскоре уселся возле г-жи Сван. Во всех собраниях, где он бывал, человек этот, высокомерный с мужчинами и окруженный поклонением дам, быстро подсаживался к самой элегантной из них, как бы драпируясь в ее туалет. Сюртук или фрак барона делали его похожим на портреты мужчины в черном, возле которого, по прихоти художника-колориста, лежит на стуле чрезвычайно яркий плащ для какого-нибудь костюмированного бала. Это tête-à-tête, обыкновенно с каким-нибудь высочеством, давало г-ну де Шарлюсу преимущества, которые он так любил. Следствием его бывало, например, то, что на больших приемах хозяйки дома оставляли одному только барону стул в переднем ряду среди дам, между тем как другие мужчины толкались в глубине. Больше того: весь поглощенный, по-видимому, забавными историями, которые он очень громко рассказывал восхищенной даме, г. де Шарлюс бывал таким образом избавлен от обязанности здороваться с другими и, значит, свидетельствовать свое почтение. За надушенным барьером, которым ему служила избранная красавица, он был обособлен посреди салона, как зритель, сидящий в ложе, бывает обособлен от театрального зала, и когда подходили к нему здороваться, так сказать, через голову его красавицы-соседки, ему было простительно давать самый отрывистый ответ, не прерывая разговора со своей дамой. Правда, г-жа Сван не принадлежала к числу женщин, с которыми барон любил таким образом красоваться. Но из дружбы к Свану он всячески подчеркивал свое преклонение перед ней, зная, что она будет польщена его услужливостью, да и самому ему льстило быть скомпрометированным самой хорошенькой женщиной из находившихся в салоне. Впрочем, г-жа де Вильпаризи была не слишком довольна визитом г-на де Шарлюса. Последний, находя в своей тетке большие недостатки, очень любил ее. Но по временам, в порыве гнева, под влиянием воображаемых обид, он отправлял ей, не сопротивляясь прихотям своего нрава, чрезвычайно резкие письма, в которых рассчитывался за разные мелочи, до тех пор как будто им даже не замеченные. В качестве примера могу привести следующую историю, о которой я узнал во время моего пребывания в Бальбеке. Г-жа де Вильпаризи, боясь, что ей нехватит взятых с собой денег на жизнь в Бальбеке, и не желая, вследствие скупости и страха перед лишними расходами, требовать денег из Парижа, взяла в долг у г-на де Шарлюса три тысячи франков. Через месяц последний, рассердившись на тетку за какой-то пустяк, потребовал телеграммой возвращения долга. Он получил две тысячи девятьсот девяносто с чем-то франков. Увидевшись с теткой через несколько дней в Париже, он в дружеском разговоре очень деликатно обратил ее внимание на ошибку, допущенную банком, через который был сделан перевод. «Никакой ошибки не было, — отвечала г-жа де Вильпаризи, — телеграфный перевод стоит шесть франков семьдесят пять сантимов». — «Так это было сделано умышленно? Превосходно! — воскликнул г. де Шарлюс. — Я сказал вам это, думая, что вы ничего не знаете, потому что в таком случае, если бы банк поступил подобным же образом с людьми менее вам близкими, чем я, это, может быть, было бы вам неприятно». — «Нет, нет, никакой ошибки не произошло». — «По существу вы совершенно правы», — со смехом заключил г. де Шарлюс, нежно целуя руку тетки. Он в самом деле нисколько на нее не рассердился и только потешался над этой мелкой скаредностью. Но спустя некоторое время, вообразив, что в одном семейном деле тетка хотела провести его и «создать против него целый заговор», так как г-жа де Вильпаризи довольно глупо укрылась за деловыми людьми, в сговоре с которыми против него он как раз ее подозревал, барон написал ей крайне дерзкое письмо, вылив в него все свое бешенство. «Я не ограничусь местью, — прибавлял он в постскриптуме, — я подниму вас насмех. Завтра же я пойду рассказывать всем и каждому историю с телеграфным переводом, как вы удержали из взятых у меня в долг трех тысяч франков шесть франков семьдесят пять сантимов, я вас обесчещу». Вместо этого он пошел на другой день извиняться перед теткой Вильпаризи, раскаиваясь, что написал письмо, в котором содержались совершенно недопустимые фразы. Впрочем, кому бы он мог рассказать историю с телеграфным переводом? Желая не мести, а искреннего примирения, он теперь охотно замолчал бы эту историю. Но он повсюду рассказывал ее, когда был в отличных отношениях с теткой, рассказывал без всякой злобы, чтобы посмеяться и потому что был живым воплощением болтливости. Он рассказывал эту историю, но г-жа де Вильпаризи ничего об этом не знала. Таким образом, узнав из письма племянника, что он собирается ее обесчестить, предав огласке случай, в котором, по его собственному заявлению, она поступила правильно, маркиза подумала, что он обманул ее тогда и лжет, притворяясь, будто ее любит. Все это уладилось, но ни тетка ни племянник не знали теперь в точности, что они друг о друге думают. Правда, мы имеем здесь довольно особенный случай периодически повторявшихся ссор. Иного рода были ссоры Блока со своими приятелями. И еще иного, как читатель увидит, ссоры г-на де Шарлюса с другими людьми, непохожими на г-жу де Вильпаризи. Несмотря на это, надо помнить, что наше мнение друг о друге, дружественные и родственные отношения только с виду кажутся устойчивыми, а в действительности они так же вечно изменчивы, как море. Отсюда столько шума по случаю развода супругов, которые казались такими согласными между собой и которые вскоре после развода с нежностью говорят друг о друге; столько гнусностей, распространяемых одним приятелем о другом, с которым мы считали его неразлучным и с которым найдем его помирившимся, прежде чем мы успели опомниться от нашего изумления; столько расстраивающихся в короткое время союзов между народами.
— Боже мой, у дядюшки с г-жой Сван дело горячее, — сказал мне Сен-Лу. — А мама, по простоте душевной, им мешает. Для чистых все чисто.
Я смотрел на г-на де Шарлюса. Шапка его седых волос, улыбающийся глаз с приподнятой моноклем бровью и бутоньерка из розовых цветов образовывали как бы три подвижные вершины странного дергавшегося треугольника. Я не решился поклониться ему, потому что он не подал мне никакого знака. Между тем, хотя он не оборачивался в мою сторону, я убежден был, что он меня видел; пока он рассказывал какую-то историю г-же Сван, великолепное манто которой темно-фиолетового цвета, распахнувшись, покрыло одно колено барона, блуждающие глаза г-на де Шарлюса, подобно глазам уличного торговца, который боится появления «фараона», наверное исследовали каждый уголок салона и обнаружили всех, кто в нем находился. Г. де Шательро подошел к нему поздороваться, но ни одна черточка на лице г-на де Шарлюса не выдала, что он заметил юного герцога до того, как последний оказался перед ним. Держась таким образом на всех сколько-нибудь многолюдных собраниях, вроде нынешнего, г. де Шарлюс почти неизменно хранил на лице неопределенную и ни для кого специально не предназначенную улыбку, которая, предваряя поклоны приближавшихся к нему людей, не содержала, когда они входили в ее зону, никакой любезности, обращенной лично к ним. Тем не менее мне непременно надо было подойти поздороваться с г-жой Сван. Но так как она не знала, знаком ли я с г-жой де Марсант и г-ном де Шарлюсом, то была довольно холодна, боясь, должно быть, что я попрошу ее представить меня. Тогда я повернулся к г-ну де Шарлюсу и сейчас же раскаялся, потому что, хотя он не мог меня не видеть, однако ничем этого не показывал. Но когда я ему кланялся, то обнаружил перед собой отставленный от его тела, к которому он не допускал меня подойти, на всю длину вытянутой руки, палец, лишившийся, так сказать, епископского перстня, священное место которого г. де Шарлюс как бы подставлял для поцелуя; казалось, будто без ведома барона и точно посредством взлома, ответственность за который он возлагал на меня до конца дней моих, я проник в незанятую сферу анонимного излучения его улыбки. Холодность эта была плохим поощрением для г-жи Сван к тому, чтобы сбросить собственную холодность.
— Какой у тебя усталый и возбужденный вид, — сказала г-жа де Марсант сыну, подошедшему поздороваться с г-ном де Шарлюсом.
Действительно, взгляды Робера временами как будто достигали глубины, которую тотчас покидали, как пловец, коснувшийся дна. Дно это, причинявшее Роберу, когда он к нему прикасался, такую боль, что он сейчас же покидал его, чтобы через мгновение снова к нему вернуться, было мыслью, что он порвал со своей любовницей.
— Это пустяки, — прибавила его мать, лаская ему щеку, — это пустяки, мне так приятно видеть моего мальчика.
Но ее нежность по-видимому раздражала Робера, и г-жа де Марсант увлекла сына в глубину салона, где в «фонаре», обтянутом желтым шелком, несколько кресел Бове выделялись светло-лиловой обивкой, как красноватые ирисы посреди поля лютиков. Г-жа Сван, оставшись одна и поняв, что я нахожусь в близких отношениях с Сен-Лу, знаком пригласила меня подойти. Я так давно с ней не виделся, что не знал, о чем мне говорить. Я не терял из поля зрения моего цилиндра, стоявшего на ковре посреди других цилиндров, но с любопытством спрашивал себя, кому мог принадлежать цилиндр, на подкладке которого буква Г была увенчана герцогской короной, хотя это не был цилиндр герцога Германтского. Я знал всех гостей, находившихся в салоне, но ни один из них, по-моему, не мог быть владельцем этого цилиндра.
— Какой симпатичный человек г. де Норпуа, — сказал я г-же Сван, показывая на посла. — Правда, Робер де Сен-Лу называл мне его язвой, но…
— Господин де Сен-Лу совершенно прав, — отвечала г-жа Сван. Видя, что взгляд ее сосредоточен на какой-то мысли, которую она
от меня скрывала, я пристал к ней с расспросами. Довольная создавшимся впечатлением, что ею кто-то очень интересуется в этом салоне, где она почти никого не знала, г-жа Сван увела меня в уголок.
— Вот что, вероятно, хотел сказать вам г. де Сен-Лу, — отвечала она, — только вы ему не передавайте, потому что он сочтет меня нескромной, а я очень дорожу его мнением, ведь, вы знаете, я очень «порядочный человек». Недавно Шарлюс обедал у принцессы Германтской; не знаю почему, разговор зашел о вас. Г. де Норпуа сказал тогда, — это, конечно, вздор, вы не расстраивайтесь, никто не придал этому никакого значения, кому же не известно, что за язычок у этого господина, — что вы полуистерический льстец.
Я уже рассказывал в свое время, как глубоко меня поразило, что г. де Норпуа, приятель моего отца, мог допустить такое выражение, говоря обо мне. Я был поражен еще больше, узнав, что мое глубокое волнение, которым я был охвачен когда-то, заговорив о г-же Сван и о Жильберте, стало известно принцессе Германтской, в то время как я был уверен, что она ничего обо мне не знает. Все наши поступки, все наши слова, все наши позы отделены от «света», от людей, прямо их не воспринимавших, средой, проницаемость которой меняется до бесконечности и остается нам неизвестной; узнав из опыта, что важные наши заявления, которые нам очень хотелось бы сделать достоянием как можно более широкой гласности (вроде восторженных суждений о г-же Сван, которые я когда-то по всякому поводу высказывал всем и каждому, полагая, что из такого количества брошенных семян хоть одно да даст росток), сразу же «кладутся под спуд», часто по причине именно нашего горячего желания передать их дальше, мы тем более далеки бываем от мысли, что какое-нибудь ничтожное наше словечко, давно нами забытое, и даже никогда не сказанное, а только внушенное несовершенным преломлением в мозгу собеседника другого нашего слова, окажется перенесенным, нигде не задерживаясь по пути, на огромные расстояния — дойдет, например, до ушей принцессы Германтской — и послужит потехой на пире богов. То, что мы помним из наших поступков, остается неизвестным самым близким нам людям; зато забытые и даже никогда нами не сказанные слова вызывают безудержное веселье чуть ли не на другой планете, и образ, составляемый другими о наших поступках и повадках так же мало похож на то, как мы их сами себе представляем, как какой-нибудь рисунок на неудачный его оттиск, где черному штриху соответствует пустое пространство, а белым местам — совершенно необъяснимые линии. Впрочем, то, что не получилось на оттиске, является, может статься, несуществующей чертой, которую мы видим в себе только из снисходительности, а то, что нам кажется прибавленным, напротив, нам принадлежит, но составляет такую глубинную часть нашего существа, что мы ее не замечаем. Таким образом этот странный оттиск, который кажется нам так мало похожим, отличается иногда той верностью, правда, мало для нас лестной, но глубокой и полезной, которая свойственна рентгеновским снимкам. Но это не основание для того, чтобы мы себя на нем узнали. Иной человек, привыкший улыбаться в зеркало своему красивому лицу и статной фигуре, если показать ему рентгеновский снимок, где виднеются какие-то четки из костей, выдаваемые ему за изображение его самого, заподозрит такую же ошибку, как посетитель картинной выставки, читающий в каталоге под номером портрета молодой женщины: «Лежащий верблюд». В этом расхождении между нашим образом, нарисованным нами самими, и тем, что нарисовали другие, мне впоследствии пришлось убедиться на людях, спокойно живших среди коллекции сделанных ими с себя снимков, тогда как кругом кривлялись безобразные рожи, обыкновенно остававшиеся для них невидимыми, но повергавшие их в изумление, если случай показывал им этих уродов, говоря: «Это вы».
Несколько лет тому назад я с большим удовольствием сказал бы г-же Сван, «по какому поводу» я проявил такую нежность к г-ну де Норпуа, ибо «поводом» этим было желание с нею познакомиться. Но я уже не ощущал этого желания, я больше не любил Жильберту. С другой стороны, мне не удавалось отожествить г-жу Сван с «дамой в розовом» моего детства. Вот почему я заговорил о женщине, которая меня интересовала в настоящую минуту.
— Вы видели сейчас герцогиню Германтскую? — спросил я г-жу Сван.
Но так как герцогиня не кланялась г-же Сван, то Одетта желала сделать вид, что смотрит на нее, как на особу неинтересную, присутствие которой даже не замечается.
— Не знаю, я не реализовала, — отвечала она с неприятным выражением, употребив слово, заимствованное с английского.
Мне хотелось, однако, иметь сведения не только о герцогине Германтской, но и о всех соприкасавшихся с ней людях, и, совсем как Блок, проявив отсутствие такта, свойственное людям, которые стараются в разговоре не о том, чтобы понравиться другим, а о том, чтобы эгоистически выяснить интересующие их вопросы, я начал расспрашивать г-жу де Вильпаризи о г-же Леруа, желая в точности представить себе жизнь герцогини Германтской.
— Да, знаю, — отвечала маркиза с деланным пренебрежением, — дочь крупных лесоторговцев. Я знаю, что теперь она бывает в свете, но я, видите ли, слишком стара, чтобы заводить новые знакомства. Я знала таких интересных и таких любезных людей, что, право, г-жа Леруа ничего мне не прибавит. — Г-жа де Марсант, исполнявшая обязанности статс-дамы маркизы, представила меня князю фон Фаффенгейму, и не успела она это сделать, как г. де Норпуа тоже представил меня в самых прочувствованных выражениях. Может быть, он находил удобным сделать мне любезность, которая ни к чему его не обязывала, так как я только что уже был представлен; может быть он сделал ее, полагая, что иностранец, даже знатный, плохо знаком с французскими салонами и мог подумать, что ему представили молодого человека из высшего общества, — а может быть, г. де Норпуа вздумал проявить одну из своих прерогатив, подкрепив случившееся авторитетом посла, или пожелал, из пристрастия к архаизмам, оживить в честь князя лестный для его сиятельства обычай, требовавший при представлении таким важным особам по крайней мере двух поручителей.
Испытывая потребность в том, чтобы и посол подтвердил мне, как мало должна она жалеть о незнакомстве с г-жой Леруа, г-жа де Вильпаризи обратилась к г-ну де Норпуа:
— Не правда ли, господин посол, г-жа Леруа — особа неинтересная, стоящая гораздо ниже всех, кто здесь находится, и я была права, не пригласив ее?
Из желания ли сохранить независимость, или потому что он устал, г. де Норпуа вместо ответа ограничился поклоном — глубоким и почтительным, но бессодержательным.
— Мосье, — со смехом сказала ему г-жа де Вильпаризи, — какие уморительные бывают люди. Представьте, сегодня был у меня с визитом господин, который уверял, что мою руку ему приятнее целовать, чем руку молодой женщины.
Я сейчас же догадался, что маркиза говорит о Леграндене. Г. де Норпуа улыбнулся, чуть-чуть подмигнув, как если бы речь шла о вожделении столь естественном, что нельзя сердиться на того, кто его испытывает, почти что о завязке романа, который он готов был простить и даже поощрить с извращенной снисходительностью Вуазенона или Кребильона Младшего.
— Немногие руки молодых женщин способны были бы сделать то, что я вижу перед собой, — сказал князь, показывая на начатые акварели г-жи де Вильпаризи.
И он спросил, видела ли маркиза цветы Фантен-Латура, только что появившиеся на выставке.
— Первоклассные цветы, это работа, как говорят сейчас, дивного художника, одного из мастеров кисти, — заявил г. де Норпуа, — однако я нахожу, что они не могут выдержать сравнения с цветами г-жи де Вильпаризи, в которых я лучше узнаю окраску цветка.
Даже если предположить, что слова эти были продиктованы бывшему послу пристрастием старого любовника, привычкой к лести и общепринятыми в его кругу взглядами, все же они показывали, на каком отсутствии подлинного вкуса покоится художественная оценка светских людей, настолько произвольная, что самое ничтожное обстоятельство может довести ее до крайних нелепостей, на пути к которым она не встречает ни одного подлинно испытанного впечатления, способного ей помешать.
— Я не вижу никакой заслуги в том, что я знаю цветы, ведь я всегда жила среди полей, — скромно отвечала г-жа де Вильпаризи. — Но, — прибавила она с изысканной вежливостью, обращаясь к князю, — если я еще совсем молоденькой получила о них немного более серьезные познания, чем другие деревенские дети, то этим я обязана одному из благороднейших ваших соотечественников, г-ну фон Шлегелю. Я его встретила у Бройлей, к которым привела меня тетка Корделия (жена маршала де Кастеллана). Очень хорошо помню, как гг. Лебрен, де Сальванди и Дудан навели его на разговор о цветах. Я была совсем маленькая и не могла хорошо понимать того, что он говорил. Но он с удовольствием играл со мной и, вернувшись к себе на родину, прислал мне прекрасный гербарий на память об одной нашей совместной прогулке в фаэтоне, во время которой я заснула у него на коленях. Я постоянно хранила этот гербарий, и он научил меня замечать такие особенности цветов, на которые без него я бы не обратила внимания. Когда г-жа де Барант опубликовала несколько писем г-жи де Бройль, красивых и манерных, как сама она, то я надеялась найти в них некоторые из разговоров г-на фон Шлегеля. Но эта женщина искала в природе только доводов в защиту религии.
Робер подозвал меня в глубину салона, где он был с матерью.
— Какой ты милый, — сказал я ему, — как тебя отблагодарить? Может быть завтра мы вместе пообедаем?
— Завтра, изволь, но в таком случае с Блоком; я его встретил возле дверей; после минутной холодности, — ведь я неумышленно оставил без ответа два его письма (он не сказал мне, что это его задело, но я и без того понял), — он был со мной так ласков, что я не мог проявить неблагодарность к столь преданному другу. Я ясно чувствую, что между нами, по крайней мере с его стороны, это навеки. — Не думаю, чтобы Робер совершенно заблуждался. Яростное поношение часто бывало у Блока следствием живой симпатии, когда он почему-либо считал, что ему не отплачивают той же монетой. И так как он плохо представлял себе жизнь других и совсем не думал о том, что можно быть больным, путешествовать и т. д., то восьмидневное молчание тотчас же представлялось ему результатом преднамеренной холодности. Вот почему я никогда не верил, что все его неистовства в качестве друга, а впоследствии, в качестве писателя, коренятся в нем сколько-нибудь глубоко. Они достигали крайних пределов, если ответом на них был вид, исполненный ледяного достоинства, или какая-нибудь пошлость, еще пуще его раззадоривавшая, но часто смягчались, когда мой приятель встречал теплую симпатию. — Не говори, что я милый, — продолжал Сен-Лу, — это твоя фантазия, с моей стороны тут нет никакой заслуги, тетушка сказала, что это ты от нее бегаешь, не говоришь с ней ни слова. Она думает, что ты имеешь что-нибудь против нее.
К счастью для меня, если бы я был одурачен этими словами, то близкий наш отъезд в Бальбек помешал бы всякой попытке вновь увидеться с герцогиней Германтской, уверить ее, что я ничего против нее не имею, и заставить ее таким образом показать, что это она за что-то недовольна мной. Но мне стоило только вспомнить, что она даже не предложила мне пойти посмотреть на картины Эльстира. Впрочем, тут не было разочарования; я вовсе и не ожидал, что она со мной заговорит об этом; я знал, что я ей не нравлюсь, что мне нечего надеяться на то, чтобы она полюбила меня; самое большее, я мог желать, чтобы благодаря доброте герцогини во мне осталось от нее, — ведь я виделся с ней последний раз перед отъездом из Парижа, — милое во всех своих подробностях впечатление, которое я увез бы с собой в Бальбек продолженным до бесконечности, нетронутым, вместо воспоминания, составленного из тоски и грусти.
Г-жа де Марсант то и дело прерывала беседу с Робером, чтобы сказать мне, как часто он говорил ей обо мне и как он меня любит; ее обходительность была мне почти тягостна, ибо я чувствовал, что она продиктована боязнью прогневить своего сына, которого эта любящая мать еще не видела сегодня и с которым жаждала остаться наедине; очевидно, в глазах виконтессы, ее власть над сыном уступала моей, и это заставляло ее так внимательно относиться ко мне. Слыша, как я однажды спрашивал Блока о г-не Ниссим Бернаре, его дяде, г-жа де Марсант осведомилась, не тот ли это, который жил в Ницце.
— В таком случае он знал г-на де Марсанта еще до его женитьбы на мне, — отвечала г-жа де Марсант. — Муж часто превосходно отзывался о нем, считал его человеком очень чутким и благородным.
«Единственный раз в жизни он не солгал, это невероятно», — подумал бы Блок.
Все время мне хотелось сказать г-же де Марсант, что Робер питает к ней бесконечно большую привязанность, чем ко мне, и что если бы даже она относилась ко мне враждебно, все равно я не стал бы настраивать Робера против нее, не пытался бы оторвать его от нее. Но после ухода герцогини Германтской я мог более спокойно наблюдать Робера, и только тогда я заметил, что к окаменелому и мрачному лицу моего друга как будто снова подступает закипевший в нем гнев. Я боялся, не подействовало ли на него воспоминание о сегодняшней сцене в ресторане и не почувствовал ли он себя униженным тем, что безропотно позволил своей любовнице так грубо обращаться с собой в моем присутствии.
Вдруг он высвободился от г-жи де Марсант, которая обняла его за шею, подошел ко мне, увлек меня за конторку с цветами, у которой снова уселась г-жа де Вильпаризи, и пригласил следовать за собой в маленький салон. Я направился туда довольно быстрым шагом, как вдруг г. де Шарлюс, может быть подумавший, что я собираюсь уходить, оставил г-на фон Фаффенгейма, с которым он разговаривал, и сделал крутой поворот, очутившись прямо передо мной. Я с беспокойством увидел, что он берет шляпу с вензелем «Г» и герцогской короной. У двери в маленький салон он сказал, не глядя на меня:
— Так как я вижу, что вы теперь бываете в свете, то доставьте мне удовольствие: зайдите навестить меня. Но это довольно сложно, — прибавил он с невнимательным и озабоченным видом, как если бы речь шла об удовольствии, которое он боялся потерять навсегда, если упустит случай сговориться со мной, как его осуществить. — Я редко бываю дома, вам надо будет мне написать. Но я предпочел бы объяснить вам это в более спокойной обстановке. Сейчас я ухожу. Хотите сделать несколько шагов со мной? Я задержу вас только на одну минуту.
— Вам бы следовало быть более внимательным, мосье, — сказал я. — Вы захватили по ошибке чужую шляпу.
— Вы хотите помешать мне взять мою шляпу? — Я вообразил, так как подобный случай произошел недавно со мной, что кто-нибудь унес шляпу барона и он завладел первой попавшейся, чтобы не выйти на улицу с непокрытой головой, и что теперь, разоблачив его хитрость, я поставил его в неловкое положение. Я сказал, что сначала мне надо обменяться несколькими словами с Сен-Лу. «Сейчас он разговаривает с этим идиотом герцогом Германтским», — прибавил я. «Ах, это прелестно, я передам моему брату!» — «Вот как, вы думаете, что это может быть интересно г-ну де Шарлюсу?» (Я воображал, что если у него есть брат, то брат этот должен называться тоже Шарлюсом. Правда, Сен-Лу давал мне какие-то объяснения на этот счет, но я их забыл.) «Кто вам говорит о г-не де Шарлюсе? — прикрикнул на меня барон. — Ступайте к Роберу!.. Я знаю, что сегодня утром вы принимали участие в одном из завтраков-оргий, которые он устраивает с позорящей его женщиной. Вам бы следовало употребить все ваше влияние, чтобы растолковать ему, как он огорчает свою бедную мать и всех нас, таская в грязи наше имя».
Я хотел было ответить, что на этом скандальном завтраке говорилось только об Эмерсоне, Ибсене, Толстом, и что молодая женщина уговаривала Робера пить только воду; желая пролить немного бальзама на уязвленную, казалось мне, гордость Робера, я попробовал оправдать его любовницу. Я не знал, что в эту минуту, несмотря на весь свой гнев на нее, Сен-Лу упрекал только себя. Даже в ссорах добряка со злюкой, когда вся правота на одной стороне, всегда найдется мелочь, которая может дать злюке видимость правоты в одном каком-нибудь пункте. И так как всеми прочими пунктами злюка пренебрегает, то стоит только добряку почувствовать потребность в ней, быть угнетенным разлукой, как упадок сил сделает его щепетильным, он припомнит сделанные ему нелепые упреки и начнет думать, что они, пожалуй, не лишены некоторого основания.
— Я считаю, что я был не прав в этой истории с колье, — сказал мне Робер. — Разумеется, у меня не было никакого дурного намерения, но я прекрасно знаю, что у других своя точка зрения и они плохо нас понимают. У бедняжки было суровое детство. Для нее я все-таки богач, который считает, что он все может получить за деньги, и с которым бедняк не в состоянии бороться, идет ли речь о том, чтобы повлиять на Бушерона, или же о том, чтобы выиграть в суде какое-нибудь дело. Конечно, она была жестока со мной — человеком, который всегда заботился только о ее благе. Но я отлично понимаю: она думает, будто я хотел дать ей почувствовать, что ее можно удержать деньгами, хотя это неправда. Она так меня любит, могу себе представить, что она сейчас говорит! Бедняжечка, — если бы ты знал, какая она деликатная, я не в силах этого тебе передать, она часто делала для меня очаровательные вещи. Как она, должно быть, несчастна в эту минуту! Во всяком случае, что бы там ни произошло, я не хочу, чтобы она принимала меня за хама, я сейчас же бегу к Бушерону и беру колье. Кто знает, может быть, увидев этот мой поступок, она согласится, что была неправа. Видишь ли, для меня совершенно невыносима мысль, что она страдает в эту минуту. Собственные страдания мы знаем, это пустяки. Но она, — думать, что она страдает, и быть бессильным представить себе это, я с ума сойду, я предпочел бы навсегда лишиться ее, только бы не покидать ее страдающей. Пусть она будет счастлива без меня, если так надо, — это все, чего я прошу. Послушай, ты знаешь, все, что ее касается, для меня огромно, принимает космические размеры, я сейчас же бегу к ювелиру и потом буду просить у нее прощения. Пока я не буду у нее, чего только она обо мне не подумает! Ах, если бы она знала, что я сейчас к ней приду! На всякий случай ты, может быть, сходил бы к ней? Кто знает, все, может быть, устроится. Может быть, — сказал он с улыбкой, как бы не смея верить в такое счастье, — мы поедем втроем обедать за город. Но сейчас еще ничего неизвестно, я так плохо умею к ней подойти; бедняжка, мой шаг, может быть, оскорбит ее. Кроме того ее решение, может быть, бесповоротно.
Робер вдруг потащил меня к своей матери.
— Прощайте, — сказал он ей. — мне непременно надо уезжать. Не знаю, когда получу отпуск, должно быть, не раньше, чем через месяц. Как только я узнаю, я вам напишу.
Конечно, Робер не принадлежал к числу тех сыновей, которые, бывая в свете с матерью, считают, что раздражительное отношение к ней должно служить противовесом улыбкам и поклонам, которые они расточают другим. Нет ничего распространеннее этой гнусной мстительности людей, по-видимому думающих, что грубое обращение с родными является естественным дополнением к фрачной паре. Что бы ни сказала бедная мать, сын ее, точно его взяли в гости насильно и он желает заставить дорого заплатить за свое присутствие, немедленно обрывает все ее робкие фразы ироническими, резкими и жестокими возражениями; мать мигом присоединяется (хотя этим она его не обезоруживает) к мнению этого высшего существа, которое она по-прежнему будет каждому расхваливать в его отсутствие, как восхитительный характер, но которое не пощадит ее все же ни от одного из своих колких словечек. Сен-Лу был совсем другой, но его огорчение разрывом с Рахилью приводило к тому же результату, и он был не менее резок с матерью, чем только что описанные сыновья. И когда он произнес свои слова, я снова увидел, что то же движение, подобное взмаху крыла, от которого г-жа де Марсант не в силах была удержаться при появлении сына, еще раз всю ее всколыхнуло; но теперь она приковала к нему свое встревоженное лицо и опечаленные глаза.
— Как, Робер, ты уходишь, ты серьезно говоришь? Бедный мальчик! Единственный день, когда я могла с тобой побыть!
И совсем тихо, самым натуральным тоном, в котором она старательно истребила всякую печальную нотку, чтобы не внушить сыну жалости, которая, может быть, была бы жестокой для него или бесполезной, способной только привести его в раздражение, прибавила, точно довод простого здравого смысла:
— Ты знаешь, что это не любезно — то, что ты делаешь.
Но в эту простоту она вкладывала столько робости, желая показать сыну, что она не покушается на его свободу, столько нежности, чтобы не создать впечатления, будто она мешает его удовольствиям, что Сен-Лу не мог не подметить в себе как бы возможности расчувствоваться, то есть препятствия провести вечер со своей приятельницей. Поэтому он рассердился:
— Очень жаль, но любезно ли это, или нет, я ничего не могу поделать.
И он осыпал мать упреками, которых, как ему, вероятно, ясно было, он заслуживал сам; так за эгоистами всегда остается последнее слово; когда они принимают непреклонные решения, то чем трогательнее чувство, к которому обращаются в них, чтобы они образумились, тем более заслуживают в их глазах осуждения — не сами они, упорствующие, а те, кто вынуждает их упорствовать, так что их твердость может дойти до крайней жестокости, но это только отягчает с их точки зрения вину существа, которое имеет неделикатность мучиться, быть правым, и тем малодушно ставит их в тягостное положение людей, действующих наперекор разбуженной в них жалости. Впрочем, г-жа де Марсант и сама перестала настаивать, ибо она чувствовала, что все равно ей не удержать Робера.
— Я оставлю тебя, — сказал он мне, — но, пожалуйста, мама, не задерживайте его, потому что ему надо сейчас сделать один визит.
Я ясно чувствовал, что не могу доставить никакого удовольствия г-же де Марсант, но был доволен тем, что не ушел с Робером, иначе она сочла бы меня участником удовольствий, которые отнимали у нее сына. Мне хотелось найти какое-нибудь оправдание поведению ее сына, не столько из расположения к нему, сколько из сострадания к ней. Но первой заговорила она:
— Бедный мальчик, я уверена, что огорчила его. Видите ли, мосье, матери большие эгоистки, а между тем у него немного удовольствий: он так редко приезжает в Париж. Боже мой, если он еще не ушел, то я хотела бы вернуть его, не для того, чтобы его удержать, понятно, а чтобы сказать ему, что я на него не сержусь, что я считаю его правым. Вы ничего не будете иметь против, если я пойду посмотрю на лестницу?
Мы вышли из салона:
— Робер, Робер! — окликнула она. — Нет; ушел; слишком поздно.
Теперь я бы столь же охотно взялся помогать разрыву Робера с его любовницей, как несколько часов назад помог бы ему уехать с нею вместе. В одном случае Сен-Лу счел бы меня вероломным другом, в другом — родные Сен-Лу назвали бы меня его злым гением. Я был, однако, одним и тем же человеком на протяжении этих нескольких часов.
Мы вернулись в салон. Не видя с нами Сен-Лу, г-жа де Вильпаризи обменялась с г-ном де Норпуа тем подозрительным, насмешливым и не очень сострадательным взглядом, какой у нас бывает, когда мы показываем на слишком ревнивую жену или слишком нежную мать (которые часто смешат других); взгляд этот означает: «Э, да никак была гроза!»
Робер отправился к любовнице, захватив великолепное колье, которое, согласно условиям между ними, он бы не должен был ей дарить. Впрочем, это дела не изменило, потому что она отказалась от подарка; ему и впоследствии не удалось убедить Рахиль принять это колье. Некоторые приятели Робера думали, что проявленная ею бескорыстность была только расчетом, что она хотела таким образом крепче привязать к себе Робера. Однако она не дорожила деньгами, и если брала их, то, может быть, только для того, чтобы иметь возможность тратить их не считая. Мне случалось видеть, как она без толку задаривала людей, которые казались ей бедными. «В настоящее время, — говорили Роберу его друзья, чтобы парализовать ядовитым замечанием впечатление от какого-нибудь бескорыстного поступка Рахили, — в настоящее время она, должно быть, слоняется в променуаре Фоли-Бержер. О, она — загадка, эта Рахиль, настоящий сфинкс». Впрочем, сколько мы видим своекорыстных, — потому что они живут на содержании, — женщин, которые из деликатности, зацветающей среди этой жизни, ставят по собственному почину тысячу маленьких границ щедрости своего любовника!
Робер почти ничего не знал об изменах своей любовницы, и мысль его работала над ничтожными пустяками по сравнению с действительной жизнью Рахили, жизнью, которая начиналась каждый день лишь после того, как он ее покидал. Робер почти ничего не знал о всех этих изменах. Но если бы он и узнал о них, это не поколебало бы его доверия к Рахили. Ибо существует очаровательный закон природы, действующий в самых сложных обществах, согласно которому мы живем, ровно ничего не зная о существе, которое мы любим. По одну сторону зеркала влюбленный говорит себе: «Это ангел, никогда она не будет моей, мне остается только умереть, однако она меня любит; она так меня любит, что, может быть… но нет, это невозможно». И, доведенный до неистовства желанием, истомленный ожиданием, сколько драгоценностей кладет он у ног этой женщины, как усердно занимает он деньги, чтобы избавить ее от забот. Однако по другую сторону перегородки, через которую слова так же не долетают до него, как те реплики, которыми обмениваются гуляющие перед аквариумом, публика говорит: «Вы с ней незнакомы? Рад за вас: она обворовала, разорила тьму мужчин, худшей девки на свете нет. Это просто мошенница. И продувная!» Может быть публика не так уж неправа, прилагая к ней этот последний эпитет, ибо даже скептик, не влюбленный по-настоящему в эту женщину, а которому она только нравится, говорит своим приятелям: «Нет, нет, дорогой мой, это вовсе не кокотка; я не говорю, что в жизни у нее не было двух или трех капризов, но это не продажная женщина, или если она и продается, то очень дорого. Или пятьдесят тысяч франков, или ни одного сантима». Между тем он истратил на нее пятьдесят тысяч франков, он обладал ею один раз, но она, найдя, впрочем, сообщника в нем самом, в лице его самолюбия, — она сумела его убедить, что он из числа тех, которые обладали ею даром. Таково наше общество, где каждое существо двойственно, где даже особы наиболее разоблаченные, пользующиеся самой дурной славой, всегда воспринимаются нами в глубине некоторой раковины, мягкого кокона, под покровом какой-нибудь восхитительной диковинки природы. В Париже было два безупречных человека, которым Сен-Лу перестал кланяться и о которых не мог говорить без дрожи в голосе, называя их эксплуататорами женщин: оба они были вконец разорены Рахилью.
— Я упрекаю себя только в одном, — сказала мне вполголоса г-жа де Марсант: — в том, что я назвала его нелюбезным. Сказать ему, моему обожаемому сыну, совершенно исключительному мальчику, при единственной нашей встрече, сказать ему, что он нелюбезен, — да я бы предпочла, чтобы меня ударили палкой, ибо я уверена, что, как бы ни развлекался сегодня вечером мой мальчик, которому выпадает так мало удовольствий, весь вечер у него будет испорчен этими несправедливыми словами. Однако, мосье, я вас не удерживаю, ведь вы торопитесь.
Г-жа де Марсант простилась со мной с огорчением. Чувство это относилось к Роберу, она была искренна. Но тут перестала быть искренней и вновь сделалась знатной дамой.
— Я была так заинтересована, так счастлива разговором с вами. Мерси! Мерси!
И с униженным видом она устремила на меня признательные упоенные взоры, как если бы разговор со мной был одним из величайших удовольствий, которые она знала в жизни. Прелестные эти взоры великолепно гармонировали с черными цветами на ее белом платье в разводах; то были взоры знатной дамы, знающей свое ремесло.
— Да я совсем не тороплюсь, мадам, — отвечал я, — к тому же я поджидаю г-на де Шарлюса, с которым мы условились уйти вместе.
Г-жа де Вильпаризи услышала эти слова. Мне показалось, что они ей не понравились. Если бы речь шла не о вещи, которая не могла вызвать чувства этого рода, то я бы подумал, что в г-же де Вильпаризи была потревожена стыдливость. Но подобное предположение даже не возникло в моем уме. Я был доволен герцогиней Германтской, Сен-Лу, г-жой де Марсант, г-ном де Шарлюсом, г-жой де Вильпаризи. Я не размышлял и весело говорил все, что случайно приходило мне в голову.
— Вы собираетесь уходить с моим племянником Паламедом? — спросила маркиза.
Думая, что г-же де Вильпаризи будет очень приятно узнать, что я нахожусь в близких отношениях с ее племянником, которого она так ценила, я весело ей отвечал:
— Он мне предложил выйти вместе с ним. Я в восторге. Впрочем, мы в более близких отношениях друг с другом, чем вы думаете, мадам, и я твердо решил сойтись с ним еще ближе.
Недовольство г-жи де Вильпаризи перешло в тревогу.
— Не ждите его, — сказала она мне с озабоченным видом, — он занят разговором с г-ном фон Фаффенгеймом. Он уже позабыл о том, что вам сказал. Ну, ступайте, пользуйтесь случаем, пока он стоит к вам спиной.
Первое чувство г-жи де Вильпаризи было бы похоже на стыд, если бы обстановка давала для этого какой-нибудь повод. Ее настойчивость, ее сопротивление, если судить только по ее лицу, могли показаться продиктованными целомудрием. Что касается меня, то я не торопился встретиться с Робером и его любовницей. Но г-жа де Вильпаризи придавала, по-видимому, большое значение моему уходу, и я откланялся, решив, что ей, может быть, нужно поговорить с племянником о каком-нибудь важном деле. Рядом с маркизой грузно восседал олимпийски-величественный герцог Германтский. Сквозившее из каждой части герцогского тела представление об огромных богатствах как будто придавало ему особенную плотность, точно для создания этого человека, стоившего так дорого, все его составные элементы переплавлены были в один человекообразный слиток. Когда я подошел к нему прощаться, он вежливо встал со своего седалища, и я ощутил косную тридцатимиллионную массу, которую привело в движение, подняло и поставило передо мной старое французское воспитание. Мне казалось, что я вижу перед собой ту статую Зевса Олимпийского, которую Фидий, говорят, вылил из чистого золота. Так могущественна была власть хорошего воспитания над герцогом Германтским, по крайней мере над его телом, ибо она не подчиняла себе так деспотически герцогский ум. Герцог Германтский смеялся собственным остротам, но оставался совершенно безучастным к остротам других.
На лестнице я услышал окликнувший меня сзади голос:
— Вот как вы ожидаете меня, мосье! Это был г. де Шарлюс.
— Вы ничего не имеете против того, чтобы пройтись немного пешком? — сухо сказал он мне, когда мы спустились во двор. — Мы пройдем до первого подходящего для меня фиакра.
— Вы желали о чем-нибудь со мной поговорить, мосье?
— Совершенно верно. Я собирался кое-что вам сказать, но, право, не знаю, скажу ли. Конечно, это могло бы послужить вам отправной точкой для получения бесценных выгод. Но я предвижу также, что в моем возрасте, когда начинаешь ценить спокойствие, это внесет в мою жизнь много хлопот, приведет к большой потере времени. Я спрашиваю себя, стоите ли вы того, чтобы мне брать на себя ради вас все эти хлопоты, но я не имею удовольствия знать вас настолько, чтобы прийти к определенному решению. Может быть, впрочем, у вас и нет особенного желания иметь то, что я мог бы сделать для вас, и мне не стоит подвергаться всем этим неприятностям, ибо, со всей откровенностью повторяю вам, мосье, мне это ничего не может дать, кроме неприятностей.
Я заявил, что в таком случае не надо и думать об этом. Такой разрыв переговоров пришелся по-видимому не по вкусу моему собеседнику.
— Ваша вежливость ничего не значит, — сказал он резким тоном, — нет ничего приятнее хлопот, которые берешь на себя ради человека, их стоящего. Для лучших из нас занятие искусствами, пристрастие к старью, к коллекциям, к садам — это только эрзац, суррогат, алиби. В глубине нашей бочки мы, как Диоген, желаем человека. Мы разводим бегонии и подстригаем тисовые деревья только за неимением лучшего, потому что тисы и бегонии податливы. Но мы предпочли бы отдавать свое время выращиванию человеческого куста, если бы были уверены, что он стоит потраченного труда. Весь вопрос в этом. Вы должны немного знать себя. Стоите вы труда, или нет?
— Мне ни за что на свете не хотелось бы, мосье, причинять вам какое-нибудь беспокойство, — отвечал я, — но что касается моего удовольствия, то, поверьте, все исходящее от вас будет мне чрезвычайно приятно. Я глубоко тронут тем, что вы удостоили меня вашим вниманием и выразили желание быть мне полезным.
К моему большому удивлению барон почти восторженно поблагодарил меня за эти слова, взяв меня под-руку во внезапном порыве фамильярности, которая поражала меня уже в Бальбеке своим контрастом с резкостью его тона.
— При опрометчивости вашего возраста, — сказал он, — вам ничего не стоит обронить иногда слова, способные вырыть непроходимую пропасть между нами. Но те, что вы только что произнесли, напротив, принадлежат к числу таких, которые способны меня тронуть и побудить сделать многое для вас.
Идя таким образом со мною под-руку и говоря эти слова, которые, несмотря на примешанное к ним высокомерие, были очень сердечными, г. де Шарлюс то останавливал свои взгляды на мне с той крайней пристальностью, даже пронзительностью, которая так меня поразила в первое утро моей встречи с ним у бальбекского казино и даже задолго до того — у розового терновника, в тансонвильском парке, рядом с г-жой Сван, которую я считал тогда его любовницей, то водил ими кругом, осматривая с такой настойчивостью многочисленные в этот час смены фиакры, что некоторые из них останавливались, так как кучера были уверены, что он хочет их подозвать. Но г. де Шарлюс тотчас же кричал, чтобы они ехали прочь.
— Ни один мне не подходит, — говорил он мне, — все дело тут в фонарях, в квартале, куда они возвращаются. Мне бы хотелось, мосье, — продолжал он, — чтобы вы не истолковали превратно совершенно бескорыстного и дружеского предложения, которое я собираюсь вам сделать.
Еще больше, чем в Бальбеке, меня поразило, до какой степени его дикция похожа на дикцию Свана.
— Вы настолько умны, я полагаю, что не вздумаете, будто я обращаюсь к вам вследствие «недостатка знакомств», из боязни одиночества и скуки. Я не очень люблю говорить о себе, мосье, но, может быть, вы сами это знаете, — намек на это был в одной довольно нашумевшей статье «Таймса», — австрийский император, всегда относившийся ко мне благосклонно и изволивший поддерживать со мной родственные отношения, объявил недавно в одном разговоре, сделавшемся достоянием гласности, что если бы возле графа Шамборского находился человек, посвященный так же хорошо, как я, в тайные пружины европейской политики, то граф был бы в настоящее время королем Франции. Я часто думал, мосье, что в моем распоряжении есть сокровищница опыта, — я обязан ею не моим слабым дарованиям, но обстоятельствам, о которых вы, может быть, когда-нибудь узнаете, — род бесценного секретного досье, которым я лично не считал себя в праве пользоваться, но которое окажется кладом для молодого человека, если через несколько месяцев я передам ему то, что я собирал более тридцати лет и чем, может быть, обладаю только я один на свете. Я не говорю о наслаждениях интеллектуальных, которые вы получите, узнав кое-какие тайны, хотя Мишле наших дней отдали бы полжизни, чтобы проникнуть в эти тайны, способные в корне изменить установившийся взгляд на некоторые события. И я говорю не только о совершившихся событиях, но о сцеплении обстоятельств (это было одно из любимых выражений г-на де Шарлюса, и, произнося его, он часто складывал руки точно на молитве, но оставлял пальцы несогнутыми, как бы изображая их переплетом обстоятельства, которые он не определял более точно, и их сцепление). Я вам дам совершенно новое объяснение не только прошлого, но и будущего.
Г. де Шарлюс прервал свою речь, чтобы задать мне несколько вопросов о Блоке, имя которого упоминалось в салоне г-жи де Вильпаризи, хотя у барона был тогда такой вид, точно он ничего не слышит. Г. де Шарлюс умел настолько отвлекать тон своего голоса от того, что он говорил, что казалось, будто он думает о чем-то совсем другом и говорит машинально; как будто из простой вежливости спросил он меня, молод ли мой товарищ, красив ли и т. д. Если бы его слышал Блок, то еще сильнее, чем в отношении г-на де Норпуа, но по совсем другим причинам, загорелся бы желанием узнать, за или против Дрейфуса г. де Шарлюс. «Если вы желаете расширить свой кругозор, — сказал г. де Шарлюс, кончив расспрашивать о Блоке, — то совсем не худо иметь в числе своих приятелей нескольких иностранцев». Я ответил, что Блок — француз. «Вот как! — удивился г. де Шарлюс, — а я думал, что он еврей». Заявление об этой несовместимости склонило меня к мысли, что г. де Шарлюс настроен против Дрейфуса еще сильнее, чем все антидрейфусары, которых мне приходилось встречать. Однако он высказался против обвинения в государственной измене, предъявленного Дрейфусу. Но сделано это было в такой форме: «Кажется, газеты пишут, что Дрейфус совершил преступление против своей родины, — кажется, что так, я не уделяю внимания газетам, — я читаю их, когда мою руки, и не нахожу, чтобы ими стоило интересоваться. Во всяком случае, никакого преступления тут нет, соотечественник вашего приятеля совершил бы преступление против своей родины, если бы предал Иудею, но какое он может иметь отношение к Франции?» Я возразил, что если случится когда-нибудь война, то евреи будут мобилизованы наравне со всеми прочими. «Может быть, хотя я не уверен, чтобы это было благоразумно. Ведь если призовут сенегальцев и мадагаскарцев, то не думаю, чтобы они с большим рвением защищали Францию, и это вполне естественно. Вашего Дрейфуса скорее можно было бы осудить за нарушение правил гостеприимства. Но оставим это. Вы не могли бы попросить вашего приятеля, чтобы он пригласил меня на какое-нибудь красивое торжество в своем храме, например, на обрезание, с еврейским пением? Может быть он согласился бы нанять зал и дать мне какое-нибудь библейское представление, вроде того как девицы из Сен-Сира играли для развлечения Людовика XIV сцены, заимствованные Расином из псалмов. Можно было бы даже поставить какие-нибудь комические номера. Например, борьбу между вашим приятелем и его отцом, в которой он бы его ранил, как Давид Голиафа. Получился бы очень забавный фарс. Хорошо было бы также, если бы он отдубасил на сцене свою ведьму или, как говорит моя старуха-горничная, свою хрычовку-мать. Это было бы знатно, и мы провели бы время не без удовольствия, не правда ли, дружочек, ведь мы любим экзотические зрелища, а отдубасить эту заморскую тварь значило бы дать заслуженный урок старой потаскухе». Произнося эту чудовищную и почти безумную речь, г. де Шарлюс до боли сжимал мне руку. Я вспомнил слышанные мною не раз от родных г-на де Шарлюса рассказы об удивительной доброте барона по отношению к этой старой горничной, мольеровскому говору которой он только что подражал, и я думал, как было бы интересно установить столь разнообразные и мало изученные до сих пор, как мне казалось, отношения между добротой и злобой в одном и том же сердце.
Я сказал барону, что, во всяком случае, г-жи Блок больше не существует, а что касается г-на Блока, то я не уверен, насколько ему понравится игра, в которой он рисковал бы лишиться глаз. Г. де Шарлюс остался по-видимому недоволен. «Какую большую оплошность совершила эта женщина, отправившись на тот свет! Что же касается потери зрения, то синагога вообще слепа, она не видит истин Евангелия. Во всяком случае, вы только подумайте, в настоящее время, когда все эти несчастные евреи трепещут перед бессмысленной яростью христиан, какой было бы честью для них увидеть человека моего положения, который снисходит до их забав и развлекается вместе с ними». В это мгновение я заметил г-на Блока-отца, который вероятно шел встречать своего сына. Он нас не видел, но я предложил г-ну де Шарлюсу представить ему старика. Я не подозревал, какой гнев вызовет это предложение в моем спутнике: «Представить его мне! Видно, что у вас очень слабое представление о ценностях! Со мной так легко не знакомятся. Неуместность вашей затеи усугубляется в данном случае юностью представляющего и недостойностью представляемого. Самое большее, — если мне устроят когда-нибудь нарисованное мной азиатское зрелище, — я соглашусь, может быть, обратиться к этому ужасному субъекту с несколькими приветливыми словами. Но при условии, что он даст своему сыну основательно поколотить себя. Может быть даже я соглашусь выразить свое удовлетворение». Впрочем, г. Блок не обращал на нас никакого внимания. Он занят был отвешиванием г-же Сазра низких поклонов, очень благосклонно принятых этой дамой. Меня это удивило, потому что некогда, в Комбре, она негодовала на моих родителей за то, что они принимали молодого Блока: до такой степени она была антисемитка. Но дрейфусарство, подобно воздушному току, несколько дней тому назад домчало до нее г-на Блока. Отец моего приятеля нашел г-жу Сазра очаровательной и был особенно польщен антисемитизмом этой дамы, находя в нем доказательство искренности ее убеждений и правильности ее дрейфусарских взглядов и считая поэтому тем более драгоценным полученное от г-жи Сазра разрешение сделать ей визит. Он даже не обиделся, когда она необдуманно сказала при нем: «Г. Дрюмон обещает посадить ревизионистов в один мешок с протестантами и евреями. Очаровательное смешение!» — «Бернар, — с гордостью сказал он г-ну Ниссиму Бернару, вернувшись домой, — знаешь, у нее есть этот предрассудок!» Но г. Ниссим Бернар ничего не ответил, а только воздел к небу глаза ангела. Опечаленный бедствиями евреев, храня теплую память о своих друзьях христианах и делаясь с годами все более манерным и жеманным по причинам, которые видны будут дальше, он имел теперь вид прерафаэлитского привидения с плохо посаженной растительностью, похожей на волоски в опалах. — «Все это дело Дрейфуса, — продолжал барон, все время державший меня под руку, — имеет одну только неприятную сторону: оно разрушает общество (я не говорю хорошее общество, давно уже наше общество не заслуживает этого хвалебного эпитета) путем притока в него господ и дам, неведомо откуда появившихся, которых я встречаю даже у моих кузин, на том основании, что они входят в какую-то антиеврейскую лигу французских патриотов, точно политические убеждения дают право на общественное положение». Эта светская щепетильность роднила г-на де Шарлюса с герцогиней Германтской. Я указал барону на это сходство. Так как он по-видимому думал, что я не знаком с герцогиней, то я напомнил ему вечер в опере, на котором он как будто хотел спрятаться от меня. Барон так энергично заявил, что он меня не видел, что я в заключение ему бы поверил, если бы вскоре одно маленькое приключение не навело меня на мысль, что г. де Шарлюс, человек вероятно очень гордый, не любит, чтобы его видели со мной.
— Возвратимся, однако, к вам, — сказал г. де Шарлюс, — и к моим планам относительно вас. В известных кругах, мосье, существует своего рода масонская организация, о которой я не могу сказать вам подробнее, но которая в настоящее время насчитывает в своих рядах четырех европейских монархов. И вот окружающие одного из этих монархов желают его излечить от его химеры. Это дело очень серьезное и может привести к войне. Да, мосье, именно так. Вы знаете историю человека, воображавшего, будто он держит в бутылке китайскую принцессу. Это было безумие. Его вылечили. Но, перестав быть безумным, он стал дураком. Есть болезни, от которых не следует лечить, потому что они одни ограждают нас от других, более тяжелых болезней. Один мой родственник страдал болезнью желудка, он не мог переваривать никакой пищи. Самые видные специалисты по желудку лечили его, но безрезультатно. Я свел его к одному врачу (еще одно крайне любопытное существо, замечу в скобках, о котором можно было бы многое порассказать). Врач тотчас отгадал, что болезнь нервная, убедил в этом своего пациента и велел ему есть смело все, что захочется: желудок его справится с любой пищей. Но у родственника моего было также воспаление почек. То, что желудок отлично переваривал, почки в заключение не могли больше удалять, и мой родственник, вместо того чтобы дожить до старости с воображаемой болезнью желудка, которая заставляла его соблюдать режим, умер в сорок лет, вылечив желудок, но погубив почки. Имея огромное преимущество над окружающими, кто знает, вы будете, может быть, тем, чем мог бы быть выдающийся человек прошлого, если бы какой-нибудь благодетельный гений открыл ему в эпоху, когда об этом никто ничего не знал, законы пара и электричества. Не будьте глупцом, не отказывайтесь из скромности. Поймите, что если я вам оказываю большую услугу, то надеюсь, что и вы мне окажете не меньшую. Давно уже светские люди перестали меня интересовать, у меня осталось одно только горячее желание — попытаться искупить ошибки моей жизни, предоставив воспользоваться моими знаниями душе, еще девственной и способной воспламеняться добродетелью. Я испытал немало горя, мосье, когда-нибудь я, может быть, расскажу вам об этом, я потерял жену, которая была прекраснейшим, благороднейшим, совершеннейшим существом, какое только можно вообразить. У меня есть молодые родственники, которые не то что не достойны, но не способны получить моральное наследство, о котором я вам говорю. Кто знает, может быть, вы и есть тот, в чьи руки оно может перейти, тот, чью жизнь я смогу взять под свое руководство и неизмеримо возвысить. От этого выиграла бы и моя жизнь. Может быть, посвятив вас в важные дипломатические дела, и сам я вновь приобрету вкус к ним и примусь, наконец, за интересные вещи, в которых вы будете моим сотрудником. Но для того, чтобы это знать, мне надо будет часто видеть вас, очень часто, каждый день. Я хотел воспользоваться этим неожиданным благорасположением г-на де Шарлюса, чтобы попросить его, не может ли он устроить мне встречу со своей невесткой, но в это мгновение рука моя получила резкий толчок, как бы от электрического тока. Произошло это потому, что г. де Шарлюс стремительно выдернул из-под нее свою руку. Несмотря на то, что, разговаривая, барон все время водил глазами по сторонам, он только сейчас заметил г-на д'Аржанкура, который показался из поперечной улицы. Увидев нас, г. д'Аржанкур как будто остался этим недоволен, бросил на меня недоверчивый взгляд, почти как на существо другой породы, тот взгляд, каким герцогиня Германтская смотрела на Блока, и хотел пройти мимо. Но г. де Шарлюс как будто непременно желал показать ему, что он нисколько не старается остаться незамеченным, так как подозвал г-на д'Аржанкура, чтобы сказать ему какой-то пустяк. И, опасаясь, может быть, что г. д'Аржанкур меня не узнал, г. де Шарлюс сказал ему, что я большой друг г-жи де Вильпаризи, герцогини Германтской, Робера де Сен-Лу и что сам он, Шарлюс, — старый друг моей бабушки и очень счастлив перенести на ее внука немного симпатии, которую он к ней питает. Тем не менее я заметил, что г. д'Аржанкур, которому, однако, лишь вскользь называли мое имя у г-жи де Вильпаризи и которому г. де Шарлюс теперь подробно рассказал о моей семье, был более холоден со мной, чем час назад, и долго еще сохранял эту холодность при встречах со мной. Он наблюдал меня с любопытством, но без всякой симпатии, и как будто даже принужден был преодолеть внутреннее сопротивление, когда, расставаясь с нами, нерешительно протянул мне руку, которую тотчас отдернул.
— Мне неприятна эта встреча, — сказал г. де Шарлюс. — Этот Аржанкур, человек хорошего рода, но дурно воспитанный, дипломат более чем посредственный, отвратительный муж, бегающий за юбками, тип фарсового плута, совершенно не способен понять, но весьма способен погубить вещи действительно ценные. Надеюсь, что наша дружба, если она когда-нибудь завяжется, будет ценной вещью, и надеюсь также, что вы окажете мне честь и будете ограждать ее, как и я, от ляганий подобных ослов, которые от безделья, по неуклюжести, из злобы топчут вещи, созданные для того, чтобы их лелеять. К несчастью, по этой форме отлито большинство светских людей.
— Герцогиня Германтская, должно быть, женщина очень умная. Мы только что разговаривали о возможности одной войны. У нее есть, кажется, особые сведения на этот счет.
— У нее нет никаких сведений, — сухо отвечал г. де Шарлюс. — Женщины, как, впрочем, и многие мужчины, ничего не смыслят в вещах, о которых я хотел говорить. Моя невестка очаровательная женщина, но она воображает себя живущей во времена романов Бальзака, когда женщины влияли на политику. Частые встречи с ней могли бы оказать на вас только пагубное влияние, как, впрочем, и всякие ваши посещения света. Я как раз собирался сказать вам это, когда этот дурак прервал меня. Первая жертва, которую вам надо будет принести для меня, — а я потребую от вас столько же жертв, сколько я сделаю вам одолжений, — отказ от посещений света. Мне было больно видеть вас на этом нелепом собрании. Вы мне скажете, что и я там был, но для меня это не светское собрание, а семейный визит. Впоследствии, когда вы будете сложившимся человеком, вы можете, если вам захочется, развлечься посещением светской гостиной без всякого вреда для себя. Мне нечего и говорить, какую я могу принести вам тогда пользу. «Сезам» особняка Германтов и всех домов, стоящих того, чтобы двери их широко отворились перед вами, — Сезам этот в моем распоряжении. Я буду судьей, и я сумею остаться господином положения.
Я захотел воспользоваться тем, что г. де Шарлюс заговорил о визите к г-же де Вильпаризи, чтобы узнать в точности, кто такая была маркиза, но вопрос вылился у меня не в той форме, как мне хотелось, и я спросил, что представляет собой род Вильпаризи.
— Это совершенно все равно, как если бы вы меня спросили, что такое род «ноль», — отвечал г. де Шарлюс. — Тетка моя вышла по любви за некоего г-на Тириона, впрочем, страшного богача, сестры которого были очень удачно выданы замуж и который, начиная с этого времени, стал называться маркизом де Вильпаризи. Зла это никому не причинило, разве что ему самому, да и то очень мало! Что касается оснований, то мне они неизвестны; полагаю, что это был действительно господин из Вильпаризи, господин, родившийся в Вильпаризи: вы знаете, есть такое местечко близ Парижа. Тетка настаивала, что такой маркизат существует в роду, она пожелала соблюсти все формальности, я не знаю зачем. Когда присваиваешь себе имя, на которое не имеешь права, лучше не прибегать к установленным формам.
Г-жа де Вильпаризи, оказавшись всего только г-жой Тирион, завершила в моем уме падение, которое началось, когда я увидел смешанный состав ее салона. Я находил несправедливым, чтобы женщина, даже титул и имя которой были свежеиспеченными, вводила в заблуждение современников и оставила в заблуждении потомство, благодаря дружеским отношениям с коронованными особами. Г-жа де Вильпаризи, вновь сделавшись такой, как она мне казалась в детстве, то есть особой, у которой не было ничего аристократического, утратила в моих глазах всякое право на близость к окружавшим ее титулованным родственникам. Она и впоследствии продолжала быть очаровательной по отношению к нам. Я заходил иногда к ней, и она часто присылала мне в подарок какую-нибудь вещицу. Но у меня вовсе не было впечатления, что она принадлежит к Сен-Жерменскому предместью, и если бы мне понадобилось получить какое-нибудь сведение о нем, то я обратился бы к ней в самую последнюю очередь.
— В настоящее время, — продолжал г. де Шарлюс, — посещая свет, вы бы только повредили себе, изуродовав ваш ум и ваш характер. Впрочем, вам следует также быть осмотрительным, чрезвычайно осмотрительным в выборе товарищей. Заводите себе любовниц, если семья ваша не видит в этом неудобства, это меня не касается, я бы даже стал вас тут поощрять, плутишка, плутишка, которому скоро понадобится бритва, — сказал он, потрепав меня по подбородку. — Но выбор друзей-мужчин вещь куда более важная. На десяток молодых людей приходится восемь хулиганов, восемь негодяев, способных причинить вам непоправимое зло. Мой племянник Сен-Лу в сущности хороший товарищ для вас. С точки зрения вашего будущего он ни в чем не может быть вам полезен, но в этом отношении для вас будет достаточно меня. В общем, чтобы выходить с вами, когда вы пресытитесь моим обществом, он как будто не представляет никаких серьезных неудобств, насколько я его знаю. По крайней мере он — мужчина, он не принадлежит к числу тех изнеженных мальчишек, которых столько встречаешь в настоящее время, мальчишек, которые имеют вид маленьких трюкачей и которые способны довести до эшафота свои невинные жертвы. — Я не понимал смысла, который придает арго словечку «трюкач». Узнав его, всякий поразился бы так же, как я. Светские люди с удовольствием употребляют в разговоре арго, и люди, которых можно упрекнуть в некоторых вещах, любят показывать, что они нисколько не боятся говорить о них. Доказательство невинности в их глазах. Но они утратили масштаб, они больше не отдают себе отчета, что, начиная с известной точки; некоторые шутки приобретают слишком специальное, слишком неприличное значение и служат доказательством скорее развращенности, чем наивности. — Он не таков, как другие, он очень мил, очень серьезен.
Я не мог удержаться от улыбки, услышав из уст г-на де Шарлюса эпитет «серьезный», который он произнес так, точно вкладывал в него значение «добродетельный», «порядочный», вроде того, как о молоденькой работнице говорят, что она серьезна. В это мгновение с нами поровнялся фиакр, делавший по улице странные зигзаги; молодой кучер, покинув козлы, правил из глубины экипажа, где он уселся на подушках в полупьяной позе. Г. де Шарлюс мигом остановил его. Кучер начал переговоры.
— В какую сторону вы идете?
— В вашу. (Это меня удивило, потому что г. де Шарлюс уже отпустил несколько фиакров с фонарями того же цвета.)
— Но я не желаю садиться на козлы. Вы ничего не будете иметь, если я останусь на сиденье?
— Ладно, только опустите верх. Словом, подумайте о моем предложении, — сказал мне на прощанье г. де Шарлюс, — я даю вам несколько дней на размышление, напишите мне. Повторяю, мне надо будет видеться с вами каждый день и получить от вас гарантии прямодушия, скромности, которые, впрочем, должен вам сказать, дает уже ваш вид. Но в течение моей жизни я так часто бывал обманут внешностью, что не хочу больше доверяться ей. Чорт возьми, расставаясь с таким сокровищем, должен же я знать, в какие руки оно попадет! Словом, хорошенько запомните то, что я вам предлагаю, вы теперь как Геркулес на распутьи, только, к несчастью, вряд ли можете похвастать его мускулатурой. Постарайтесь устроить так, чтобы вам не пришлось потом жалеть всю жизнь, что вы не выбрали путь, ведущий к добродетели. Как, — обратился он к кучеру, — вы не опустили верх? Я сейчас сам расправлю рычаги. Я думаю, что мне придется также взять вожжи, — смотрите, в каком вы состоянии.
И он сел рядом с кучером вглубь фиакра и поехал крупной рысью.
Я же, вернувшись домой, услышал как бы повторение разговора, который незадолго перед этим вели Блок и г. де Норпуа, но повторение в сжатой, извращенной и резкой форме. То был диспут между нашим метрдотелем — дрейфусаром — и метрдотелем Германтов — антидрейфусаром. Истины и контр-истины, противополагавшиеся друг другу на верхах, в руководящих кругах Французской патриотической лиги и Лиги прав человека, распространились до самых глубин народа. Г. Рейнак действовал, опираясь на чувство людей, никогда его не видевших, тогда как для него дело Дрейфуса ставилось только в плане умственном, как неопровержимая теорема, которую он действительно доказал при помощи совершенно невиданного успеха рациональной политики (успеха не в интересах Франции, скажут некоторые). В два года он заменил министерство Бийо министерством Клемансо, произвел полный переворот общественного мнения, освободил из тюрьмы Пикара, чтобы посадить его, неблагодарного, в военное министерство. Может быть этот рационалист, двигавший толпою, сам движим был своим происхождением. Если даже философские системы, в которых содержатся столько истин, диктуются их авторам в конечном счете доводами чувства, то как не предположить, что и в обыкновенном политическом деле, вроде дела Дрейфуса, доводы этого рода управляют, помимо его ведома, разумом человека, рассуждающего логически. Блок считал, что его дрейфусарство определено логикой, и однако знал, что его нос, волосы и кожа переданы ему по наследству. Конечно, разум более свободен; он повинуется, однако, некоторым законам, которые не сам себе дал. Спор нашего метрдотеля с метрдотелем Германтов был своеобразен. Волны двух течений — дрейфусарства и антидрейфусарства, сверху донизу разделявшие Францию, были довольно бесшумны, но редкие отголоски, рождаемые ими, звучали искренно. Услышав, как один из собеседников посреди разговора, намеренно далекого от дела Дрейфуса, робко сообщает какую-нибудь политическую новость, обыкновенно ложную, но всегда для него приятную, вы могли вывести из предмета его предсказаний направление его желаний. Так сталкивались на некоторых пунктах, с одной стороны, робкая апостольская проповедь, а с другой — святое негодование. Два метрдотеля, которых я услышал, возвращаясь домой, составляли исключение из правила. Наш давал понять, что Дрейфус виновен, метрдотель Германтов намекал, что он невинен. Делали они это не для того, чтобы замаскировать свои убеждения, но в злобном азарте игры. Наш метрдотель, неуверенный в том, что дело будет пересмотрено, хотел заранее, на случай провала, отнять у метрдотеля Германтов удовольствие считать правое дело проигранным. А метрдотель Германтов думал, что в случае отказа в пересмотре наш метрдотель будет сильнее раздосадован, зная, что на Чертовом острове держат невинного.
Я поднялся наверх и увидел, что бабушке стало хуже. С некоторого времени, не зная хорошенько, что у нее такое, она жаловалась на свое здоровье. Только захворав, мы отдаем себе отчет, что живем не одни, но прикованные к существу из иного царства, отделенному от нас целыми безднами, к существу, которое нас не знает и открыться которому невозможно: к нашему телу. Встретившись на большой дороге с самым свирепым разбойником, мы на худой конец можем тронуть его если не нашей бедой, то обращением к его личной выгоде. Но просить жалости у нашего тела это все равно, что держать речь перед осьминогом, для которого слова наши имеют не больше смысла, чем шум воды, и перспектива жить с которым была бы для нас кошмаром. Недомогания бабушки часто ускользали от ее внимания, всегда обращенного на нас. Когда же ей приходилось слишком от них страдать, то, желая излечиться, она тщетно пыталась их понять, Если болезненные явления, театром которых было ее тело, оставались темными и недоступными разуму бабушки, то они были ясными и прозрачными для существ, принадлежащих к тому же царству природы, что и они, существ, к которым ум человеческий в заключение стал обращаться, чтобы понять то, что говорит ему его тело, вроде того как, желая понять слова иностранца, мы приглашаем в переводчики кого-нибудь из его соотечественников. Существа эти могут разговаривать с нашим телом, сказать нам, опасен ли его гнев или он скоро утихнет. Котар, которого пригласили к бабушке и который привел нас в раздражение, спросив с тонкой улыбкой, когда мы ему сказали, что бабушка больна: «Больна? Надеюсь, болезнь не дипломатическая?» — Котар попробовал, чтобы успокоить возбуждение больной, назначить молочный режим. Но бесконечные молочные супы не оказали действия, потому что бабушка клала в них много соли (Видаль еще не сделал тогда своих открытий), вредное действие которой не было известно в то время. Ибо медицина есть компендий последовательных ошибок и противоречий врачей, так что, приглашая к себе лучших из них, мы имеем много шансов вымолить истину, которая спустя несколько лет будет признана ложной. Поэтому вера в медицину была бы величайшим безумием, если бы неверие в нее не было безумием еще большим, так как из этого нагромождения ошибок выработалось с течением времени несколько истин. Котар посоветовал измерить температуру больной. Отправились за термометром. Канал его почти во всю длину был свободен от ртути. Едва-едва можно было различить серебряную саламандру, забившуюся на дно своей кадочки. Она казалась мертвой. Стеклянную дудочку вложили бабушке в рот. Нам не понадобилось долго оставлять ее там; маленькая колдунья не очень замешкалась, ставя свой гороскоп. Мы нашли ее неподвижной, взобравшейся на половину высоты своей башни и больше не шевелившейся; она с точностью показывала нам цифру, которую мы у нее спрашивали и которую все размышления бабушкиной души над собой совершенно неспособны были бы ей дать: 38,3°. Впервые почувствовали мы некоторое беспокойство. Мы сильно встряхнули термометр, чтобы стереть вещий знак, как если бы можно было сбавить таким образом вместе с отмеченной температурой также и жар. Увы, было совершенно ясно, что маленькая, лишенная разума сивилла дала этот ответ не по прихоти своей, ибо на другой день, едва только термометр снова вложен был бабушке в рот, как почти тотчас же, одним прыжком, с полной уверенностью и ясной интуицией невидимого для нас факта маленькая прорицательница достигла той же точки, на которой и остановилась в неумолимой неподвижности, еще раз показав нам блестящим своим прутиком цифру 38,3°. Больше ничего она не говорила, и сколько мы ни желали, ни просили, ни молили, она оставалась глухой; казалось, это было ее последнее слово, предостерегающее и угрожающее. Тогда, чтобы принудить ее изменить свей ответ, мы обратились к другому созданию, принадлежащему к тому же царству, но более могущественному, которое не довольствуется тем, что вопрошает тело, но может им повелевать, — к жаропонижающему того же порядка, что и аспирин, которого тогда еще не употребляли. Мы не стряхивали ртуть в термометре ниже 37,1° в надежде, что при таком положении она не будет больше подниматься. Мы дали бабушке это жаропонижающее и снова поставили ей термометр. Как непреклонный сторож, которому мы предъявляем пропуск высшего начальства, оказавшего нам протекцию, и который, найдя бумагу в порядке, отвечает: «Хорошо, ничего не могу возразить, раз у вас есть эта бумага, проходите», — неусыпная привратница на этот раз не шевельнулась. Но сумрачным своим видом она как бы говорила: «Какая вам польза от этого? Если вы знакомы с хиной, она даст мне приказание не шевелиться — один раз, десять раз, двадцать раз. А потом ей надоест, я знаю ее, ступайте. Долго это не протянется. Немногого вы добьетесь!» Тогда бабушка почувствовала в себе присутствие создания, лучше бабушки знавшего человеческое тело, присутствие современника исчезнувших видов, присутствие первого существа на земле, появившегося задолго до создания мыслящего человека; она почувствовала тысячелетнего союзника, который у нее ощупывал, даже немного грубо, голову, сердце, локоть, узнавал места, делал все приготовления для доисторического сражения, которое вскоре и разыгралось. В одно мгновение лихорадка, растоптанный Пифон, побеждена была могущественным химическим элементом, который бабушке хотелось от души поблагодарить, обратившись к нему через все царства природы, минуя всех животных и все растения. Она была взволнована этим свиданием, в котором преодолела столько веков, со стихией, существовавшей до появления даже растений. С своей стороны, термометр, словно Парка, на мгновение побежденная богом более древним, держал неподвижно серебряное свое веретено. Увы, другие низшие создания, которых человек обучил охотиться за таинственной дичью, живущей в его недрах и для него недосягаемой, безжалостно приносили нам каждый день некоторую цифру белка, ничтожную, правда, но достаточно неподвижную для того, чтобы и она казалась зависимой от какого-то устойчивого состояния, для нас незаметного. Бергот потревожил во мне инстинкт добросовестности, побуждавший меня отводить подчиненное место моему уму, когда он сказал о докторе дю Бульбоне как о враче, который не вызовет во мне неприятного чувства, который найдет для меня лечение, с виду, может быть, и странное, но хорошо приспособленное к особенностям моего ума. Но идеи преображаются в нас, они преодолевают воздвигавшиеся нами первоначально препятствия и питаются богатыми интеллектуальными запасами, которые мы приготовили, не зная, каково будет их назначение. Теперь, как это всегда случается, когда услышанное нами где-нибудь замечание о незнакомом лице способно было пробудить в нас мысль о большом таланте, почти гении, — теперь я в глубине души награждал доктора дю Бульбона тем безграничным доверием, которое внушает нам человек, глубже других прозревающий истину. Я знал, конечно, что он скорее специалист по нервным болезням, которому Шарко перед смертью предсказал руководящее положение в невропатологии и психиатрии. «Ох, не знаю, очень может быть», — говорила Франсуаза, находившаяся с нами и слышавшая имена Шарко и дю Бульбона в первый раз. Но это нисколько не мешало ей сказать: «Возможно». Ее «возможно», ее «может быть», «не знаю» чрезвычайно раздражали в подобных случаях. Так и хотелось ей ответить: «Разумеется, вы этого не знаете, потому что вы ничего не смыслите в вещах, о которых идет речь; как можете вы даже говорить «возможно» или нет, ведь вы ровно ничего не знаете. Во всяком случае, теперь вы не можете сказать, будто вы не знаете, что Шарко сказал дю Бульбону и т. д., вы это знаете, так как мы вам это сказали, и ваши «может быть», ваши «возможно» неуместны, так как это достоверно».
Хотя доктор дю Бульбон был специалистом главным образом в области мозга и нервов, однако, зная, что он первоклассный врач и выдающийся человек глубокого и творческого ума, я упросил маму пригласить его, и надежда, что благодаря правильному диагнозу болезни он ее, может быть, вылечит, в заключение взяла верх над нашей боязнью напугать бабушку приглашением консультанта. Мама решилась окончательно, когда бабушка, бессознательно поощряемая Котаром, перестала выходить, перестала вставать с постели. Напрасно отвечала она нам цитатой из письма г-жи де Севинье о г-же де Лафайет: «Говорили, что она поступает безрассудно, не желая выходить из дому. Я отвечала этим столь стремительным в своих суждениях особам: «Г-жа де Лафайет не безрассудна», и на этом настаивала. Ей понадобилось умереть, чтобы стало ясно, насколько она была права, никуда не выходя». Явившийся по нашему приглашению дю Буль-бон признал неправой если не г-жу де Севинье, которой ему не цитировали, то, во всяком случае, бабушку. Вместо того, чтобы заняться ее выслушиванием, доктор дю Бульбон, остановив на ней свои удивительные глаза и создавая себе таким образом иллюзию глубокого проникновения в больную, а может быть, желая внушить ей эту иллюзию, которая казалась непроизвольной, но была, вероятно, машинальной, или не дать ей заметить, что он думает совсем о другом, или подчинить ее своей власти, — доктор дю Бульбон начал говорить о Берготе:
— Ах, это удивительный писатель, мадам, как вы глубоко правы, любя его. Какую же из его книг вы предпочитаете? Вот как! Неужели? Боже мой, это, пожалуй, действительно лучшая. Это, во всяком случае, наилучше построенный его роман. Клара в нем прелестна; а из действующих лиц кто, как человек, вам наиболее симпатичен?
Сначала я подумал, что он завел с бабушкой этот литературный разговор, оттого что ему надоела медицина, а может быть также, чтобы щегольнуть широтой своего ума и даже, в целях более терапевтических, чтобы придать больной уверенность, показать ей, что он не испытывает беспокойства, отвлечь ее от мыслей о своем состоянии. Но потом я понял, что, будучи главным образом замечательным психиатром и знатоком мозга, он хотел своими вопросами выяснить, насколько хорошо работает память бабушки. Как бы против воли он задал также бабушке несколько вопросов о ее состоянии, угрюмо и пристально смотря на нее. Потом вдруг, как бы увидев истину и решившись достигнуть ее какой угодно ценой, он сделал такое движение, точно с трудом отфыркивался, выкарабкиваясь из потока последних своих колебаний и всех возражений, какие мы могли бы ему представить, и, взглянув на бабушку ясным взором, непринужденно и словно наконец нащупав твердую почву, отчеканивая слова мягким и проникновенным голосом, все интонации которого окрашены были умом (впрочем, голос его в течение всего визита оставался таким, каков он был от природы, — ласкающим, и иронические его глаза, выглядывавшие из-под густых бровей, полны были доброты), сказал:
— Рано или поздно, мадам, вы поправитесь, и от вас зависит уяснить уже сегодня, что у вас ничего нет, и возобновить обычный образ жизни. Вы мне сказали, что вы ничего не кушаете, никуда не выходите.
— Да, ведь, мосье, меня немного лихорадит. Он прикоснулся к ее руке.
— Во всяком случае, не сейчас. И что это за оправдание! Разве вы не знаете, что мы оставляем на открытом воздухе и усиленно питаем туберкулезных с температурой до 39°?
— Но у меня также белок.
— Вы не должны были об этом знать. У вас можно наблюдать то, что я описал под названием психического белка. У всех нас во время какого-нибудь недомогания бывает небольшое выделение белка, которое врачи наши торопятся сделать затяжным, доводя о нем до нашего сведения. Взамен болезни, которую врачи вылечивают лекарствами (по крайней мере, уверяют, что это иногда случается), они вызывают у совершенно здоровых людей десяток других, прививая им болезнетворный агент, в тысячу раз более вирулентный, чем все микробы, — мысль, что они больны. Такое убеждение, могущественно влияющее на каждого, действует с особенной силой на нервных. Скажите им, что за их спиной отворено закрытое окно, они начинают чихать, уверьте их, что вы всыпали в суп магнезии, у них начнутся колики, намекните, что им подан кофе более крепкий, чем обыкновенно, они всю ночь не сомкнут глаз. Поверьте, мадам, что мне достаточно было увидеть ваши глаза, услышать, как вы выражаете ваши мысли, да что я говорю, — достаточно было увидеть вашу дочь и вашего внука, который так на вас похож, чтобы узнать, с кем я имею дело. — «Твоя бабушка, пожалуй, могла бы пойти посидеть, если доктор ей позволит, в спокойной аллее Елисейских Полей, у того массива, перед которым ты когда-то играл», — сказала мне мать, косвенно советуясь таким образом с дю Бульбоном, отчего голос ее приобрел известную робость и почтительность, которых в нем не было бы, если бы она обратилась ко мне с глазу на глаз. Доктор повернулся к бабушке и, будучи человеком не только ученым, но и образованным, сказал: «Пойдите на Елисейские Поля, к массиву лавров, который любит ваш внук. Лавр будет вам целебен. Он очищает. Истребив змея Пифона, Аполлон совершил вступление в Дельфы с веткой лавра в руке. Он желал предохранить себя таким образом от смертоносного семени ядовитого животного. Вы видите, что лавр самое древнее, самое почтенное и, добавлю я, — что имеет большое, значение как в терапии, так и в профилактике, — самое прекрасное антисептическое средство».
Так как большая часть того, что знают врачи, почерпнута ими у больных, то они легко склоняются к мысли, что эти познания пациентов одинаковы у них всех, и воображают, что те, у кого врач находится, будут поражены каким-нибудь замечанием, услышанным им у прежних его пациентов. Вот почему доктор дю Бульбон сказал бабушке с тонкой улыбкой парижанина, который, разговаривая с жителем деревни, понадеялся бы удивить его каким-нибудь словечком из народного говора: «Вероятно, ветреная погода скорее даст вам хороший сон, чем самые сильные усыпляющие средства». — «Напротив, мосье, ветер совершенно не позволяет мне заснуть». Однако врачи обидчивы. «Вот как!» — прошептал дю Бульбон, нахмурив брови, точно ему наступили на ногу и бессонницы бабушки в бурные ночи были для него личным оскорблением. Все же он был не очень самолюбив, и так как стоял выше предрассудков и считал своей обязанностью не верить в медицину, то скоро вновь исполнился философской невозмутимости.
Горячо желая получить одобрение со стороны друга Бергота, мать моя прибавила в поддержку сказанного им, что двоюродная сестра бабушки, страдавшая нервной болезнью, провела семь лет взаперти в своей спальне в Комбре, поднимаясь с кровати лишь один или два раза в неделю.
— Вот видите, мадам, я этого не знал, но я мог бы вам это сказать.
— Но я ничуть не похожа на нее, мосье, напротив, мой врач не может заставить меня лежать в постели, — возразила бабушка, оттого ли, что была немного раздражена теориями доктора, или же желая привести ему возможные возражения в надежде, что он их опровергнет и, когда уйдет, у нее не останется больше никаких сомнений насчет его благоприятного диагноза.
— Ну, понятно, мадам, нельзя страдать, простите мне выражение, всеми видами помешательства, у вас другие, этого у вас нет. Вчера я посетил санаторий для неврастеников. В саду стоял на скамейке какой-то субъект, неподвижный как факир, нагнув шею под таким углом, что ему, наверное, было очень больно. На мой вопрос, что он там делает, он отвечал, не двигаясь с места и не поворачивая головы: «Доктор, я — ревматик и крайне подвержен простуде, я только что сделал по глупости большой моцион и сильно разгорячился, а мою шею в это время плотно облегала фуфайка. Если я теперь повернусь и фуфайка от нее отстанет, прежде чем я успею остыть, то я, наверное, схвачу тортиколис, а может быть и бронхит». И, действительно, он схватил бы. «Вы просто-напросто неврастеник», — сказал я ему. Знаете, какой он привел мне довод в доказательство того, что я не прав? Он сказал, что все больные этой санатории страдают манией взвешивания, так что пришлось даже запереть весы на замок, чтобы они не проводили на них целый день, между тем как его надо силой гнать на весы, так мало у него охоты подвергаться этой процедуре. Он ликовал, что не страдает манией других больных, забывая, что у него есть своя и что она-то и предохраняла его от мании других. Пусть вас не обижает, мадам, это сравнение, ибо человек, не решавшийся повернуть шею из боязни простудиться, — величайший поэт нашего времени. Этот несчастный маньяк — самый замечательный ум, какой я знаю. Примиритесь с тем, что вас будут называть нервной. Вы принадлежите к блестящему и достойному жалости семейству, которое составляет соль земли. Все, что мы знаем великого, досталось нам от людей нервных. Это они, а не здоровые, были основателями религий и творцами шедевров. Никогда мир не узнает всего, чем он им обязан, и в особенности сколько они выстрадали, чтобы ему это дать. Мы наслаждаемся изысканной музыкой, прекрасными картинами, тысячей тонких лакомств, но мы не знаем, скольких они стоили своим создателям бессонниц, слез, судорожного смеха, нервных лихорадок, астм, эпилепсии, смертной тоски, которая хуже всего этого и которая вам, может быть, знакома, мадам, — прибавил он, улыбаясь бабушке, — ибо, признайтесь, когда я вошел, вы чувствовали себя не очень уверенно. Вы считали себя больной, может быть, опасно больной. Бог знает, симптомы какой тяжелой болезни вы в себе открыли. И вы не обманывались, они у вас были. Нервность — гениальный имитатор. Нет такой болезни, которую нельзя было бы в совершенстве подделать. Нервы в точности воспроизводят вздутие живота, как при запорах, тошноту, сопровождающую беременность, аритмию сердечных больных, повышение температуры туберкулезных. Если они способны обмануть врача, то как им не обмануть больного? Пожалуйста, не думайте, что я смеюсь над вашими недугами, — я бы не взялся их лечить, если бы я не умел их понять. И, знаете, хороша только взаимная исповедь. Я сказал, что без нервной болезни не бывает великих художников, больше того, — прибавил он, многозначительно подняв указательный палец, — не бывает великих ученых. Добавлю, что если врач сам никогда не страдал нервами, то он не может быть хорошим врачом, хорошего врача из него не выйдет, — выйдет разве только удовлетворительный врач по нервным болезням. В нервной патологии не говорят глупостей только врачи, наполовину вылечившиеся от нервов, как хорошие критики — это поэты, переставшие писать стихи, хорошие полицейские — это воры, переставшие заниматься своим промыслом. В противоположность вам, мадам, я не считаю себя пораженным альбуминурией, у меня нет нервной боязни пищи и свежего воздуха, но я не могу уснуть, не поднявшись двадцать раз проверить, заперта ли дверь в мою комнату. И в этот санаторий, где я нашел вчера поэта, не желавшего повернуть шею, я ходил заказать себе комнату, ибо, пусть это останется между нами, я там отдыхаю и лечусь, когда устаю от лечения чужих недугов, которое обостряет мои собственные.
— Неужели и мне придется подвергнуться такому лечению? — испуганно спросила бабушка.
— Это лишнее, мадам. Симптомы, о которых вы мне сказали, подчинятся моему слову. Кроме того возле вас есть очень могущественное существо, которому отныне я поручаю быть вашим врачом. Это ваша болезнь, ваша повышенная нервность. Я бы мог вас от нее вылечить, но я умышленно воздержусь от этого. Мне достаточно ею повелевать. Я вижу у вас на столе книгу Бергота. Вылечившись от нервов, вы больше не будете его любить. Но разве вправе я обменять радости, которые он доставляет, на здоровые нервы, которые, конечно, не способны будут вам их дать. Ведь сами эти радости являются могущественным лекарством, может быть самым могущественным из всех. Нет, я не покушаюсь на вашу нервную энергию. Я хочу только, чтобы она меня слушалась; я поручаю вас ей. Пусть она даст задний ход машине. Силу, которую она применяла, чтобы помешать вам гулять, принимать достаточное количество пищи, пусть употребит она на то, чтобы заставить вас кушать, читать, выходить и развлекаться всевозможными способами. Не говорите, что вы устали. Усталость есть осуществление организмом предвзятой мысли. Начните с того, что не думайте о ней. И если когда-нибудь у вас будет небольшое недомогание, что может случиться с каждым, то окажется, что его у вас как бы и нет, ибо ваша нервная энергия сделает из вас, согласно глубокому изречению г-на де Талейрана, мнимую здоровую. О, да она уже начала вас лечить, вы меня слушаете, сидя совершенно прямо и ни разу не прислонившись к спинке, глаза у вас живые, вид здоровый, и это продолжается уже полчаса, а вы и не заметили. Мадам, имею честь кланяться.
Когда, проводив доктора дю Бульбона, я вернулся в комнату, где моя мать была одна, печаль, угнетавшая меня уже несколько недель, рассеялась, я почувствовал, что мама сейчас даст прорваться своей радости и увидит мою, я испытал ту невозмутимость, с какой мы ожидаем мгновения, когда возле нас кто-нибудь разрыдается, — невозмутимость, которая, в другой связи событий, немного похожа на ужас, охватывающий нас, когда мы знаем, что сейчас кто-то страшный войдет к нам через закрытую еще дверь, — я хотел обратиться к маме с какими-то словами, но голос мой пресекся, я залился слезами и уткнулся головой в мамино плечо, оплакивая, смакуя, принимая, лелея скорбь, теперь, когда я знал, что она ушла из моей жизни, вроде того как мы любим восторгаться добродетельными планами, которые обстоятельства не позволяют нам привести в исполнение. Меня раздражала Франсуаза, не принимавшая участия в нашей радости. Она была очень взволнована бурной сценой, разыгравшейся между молодым лакеем и консьержем-доносчиком. Понадобилось вмешательство герцогини, которая восстановила подобие мира и простила лакея. Ибо она была женщина добрая, и служба у нее была бы идеальной, если бы она не прислушивалась к «россказням».
Уже несколько дней, как разнеслась весть о болезни бабушки, и многие начали осведомляться, как она себя чувствует. Сен-Лу написал мне: «Я не хочу пользоваться этими часами, когда твоей дорогой бабушке нехорошо, чтобы осыпать тебя градом упреков по поводу одной вещи, в которой твоя бабушка не при чем. Но я бы солгал, сказав тебе, хотя бы путем умолчания, что никогда не забуду твоего вероломного поведения и не прощу твоего предательства и обмана». Однако мои приятели, считая болезнь бабушки несерьезной (иные даже вовсе не знали, что она больна), просили зайти за ними завтра на Елисейские Поля, чтобы потом сделать вместе один визит и ехать за город обедать в приятном обществе. У меня не было больше никаких оснований отказаться от этих двух удовольствий. Когда бабушке сказали, что ей надо будет теперь, следуя советам доктора дю Бульбона, много гулять, то она сейчас же заговорила об Елисейских Полях. Мне было бы очень удобно проводить ее туда; пока она сидела бы, занятая чтением, я мог бы столковаться с приятелями о месте, где нам встретиться, и я успел бы еще, если бы поторопился, сесть с ними на поезд в Виль-д'Авре. В условленный час бабушка не пожелала выходить, так как чувствовала себя усталой. Но мама, получившая указания от дю Бульбона, нашла в себе силу рассердиться и заставить бабушку послушаться. Она чуть не плакала при мысли, что бабушка снова поддастся нервной слабости и больше уже от нее не оправится. Прекрасная теплая погода была как нельзя более благоприятна для прогулки бабушки. Солнце, меняя место, вправляло там и сям в расколотую поверхность балкона куски непрочного муслина и обтягивало каменные плиты теплой кожицей, обволакивало их тусклым золотым сиянием. Так как у Франсуазы не было времени послать дочери «тюб», то она нас покинула вскоре после завтрака. С ее стороны было уже большим одолжением то, что она согласилась зайти предварительно к Жюпьену и снести ему для починки накидку, в которой бабушка собиралась выйти. Как раз в это время я возвращался с утренней прогулки и присоединился к Франсуазе. «Это ваш молодой господин привел вас сюда, — сказал Жюпьен Франсуазе, — или вы его приводите, или же вас обоих привели попутный ветер и счастливая судьба?» Хотя Жюпьен не учился в школе, однако соблюдение правил синтаксиса было для него так же естественно, как для герцога Германтского, несмотря на все усилия, их нарушение. Франсуаза ушла, накидка была приведена в порядок, и бабушке нужно было одеваться. Наотрез отказавшись от помощи мамы, она сама занялась своим туалетом, употребив на это уйму времени. Теперь, когда я знал, что она здорова, я с тем странным равнодушием к нашим родным, пока они живы, которое побуждает нас ставить их на самое последнее место, находил ее крайней эгоисткой за то, что она так копается и задерживает меня, хотя ей известно, что у меня назначено свидание с приятелями и я должен обедать в Виль-д'Авре. От нетерпения я спустился с лестницы один, после того как мне дважды сказали, что бабушка сейчас будет готова. Наконец, она меня догнала, не извинившись за опоздание, как делала обыкновенно в подобных случаях, красная и рассеянная, точно особа, которая позабыла второпях половину своих вещей; я был уже у полуотворенных стеклянных дверей, сквозь которые, нисколько не согреваясь от этого, втекал жидкий, журчащий и прохладный воздух, как если бы открыли водоем, образованный между охлажденными внутренними стенами нашего дома.
— Боже мой, ты ведь хочешь встретиться с приятелями, мне бы следовало надеть другую накидку. В этой у меня слишком жалкий вид.
Я был поражен, до какой степени она раскраснелась, и понял, что, запоздавши, она вынуждена была сильно торопиться. Едва только мы сошли с фиакра в том месте, где авеню Габриэль выходит на Елисейские Поля, как бабушка, не сказав мне ни слова, повернула в сторону и направилась к тому старому павильончику, обнесенному зеленой решеткой, где когда-то я поджидал Франсуазу. Тот же садовый сторож, что был там в те времена, находился и теперь возле «маркизы», когда, следуя за бабушкой, которая, почувствовав должно быть тошноту, держала руку у рта, я поднимался по ступенькам маленького сельского театра, воздвигнутого среди садов. У контроля, как в ярмарочных цирках, где клоун, приготовившийся к выходу на сцену и уже весь набеленный, сам получает у дверей деньги за билеты, «маркиза», принимавшая входную плату, по-прежнему сидела на своем месте, являя посетителям свое огромное неправильное лицо, покрытое грубыми белилами, и чепчик из красных цветов и черного кружева, насаженный на рыжий парик. Но не думаю, чтобы она меня узнала. Сторож, оставив надзор за зеленью, под цвет которой подобрано было его форменное платье, подсел к ней, и разговаривал.
— Значит, — говорил он, — вы по-прежнему здесь. Не думаете уходить в отставку?
— Зачем же мне уходить, мосье? Вы, может быть, укажете такое место, где мне было бы лучше, чем здесь, где бы я имела больше удобств и комфорта? Кроме того здесь постоянно люди, постоянно развлечение; я это называю моим маленьким Парижем: клиенты мои держат меня в курсе всего, что происходит. Вот, например, мосье, есть у меня один, который вышел минут пять тому назад, это очень важный чиновник. Извольте же знать, мосье, — с жаром воскликнула она, точно готовая поддержать свое утверждение силой, если бы представитель власти вздумал ее оспаривать, — что вот уже восемь лет, вникните хорошенько, каждый божий день, только пробьет три часа, как он уже здесь, всегда вежливый, никогда голоса не возвысит, никогда ничего не запачкает, и сидит целых полчаса, читая газеты за отправлением своих маленьких надобностей. Однажды он не пришел. Сразу я не обратила на это внимания, но вечером вдруг подумала: «Э, да клиент мой не приходил, пожалуй, он умер». Это мне было неприятно, потому что я привязываюсь к людям, когда они со мною хороши. Вот почему я очень обрадовалась, когда снова увидела его на другой день, я ему сказала: «Мосье, с вами ничего вчера не случилось?» Тогда он мне сказал, вот как я вам говорю, что с ним самим ничего не случилось, а что умерла его жена и он настолько переволновался, что не мог прийти. Вид у него, конечно, был печальный, сами понимаете, люди прожили вместе больше двадцати пяти лет, а все-таки он был доволен, что вернулся. Чувствовалось, что он совсем расстроен нарушением своих маленьких привычек. Я старалась подбодрить его, я сказала ему: «Не надо распускаться. Приходите, как раньше, это будет немного развлекать вас в вашем горе».
Тон «маркизы» приобрел больше мягкости, ибо она увидела, что охранитель деревьев и лужаек слушает ее добродушно, не думая возражать и мирно держа в ножнах шпагу, которая похожа была скорее на какой-нибудь садовый инструмент или атрибут, относящийся к садоводству.
— Кроме того, — продолжала «маркиза», — я принимаю клиентов с разбором, я не каждого пускаю в то, что я называю моими салонами. Разве мои кабинки не похожи на салоны, когда я их украшу цветами? Клиенты мои люди очень любезные, смотришь, то один, то другой принесет веточку сирени, жасмина или роз, мой любимый цветок.
Мысль, что мы, может быть, на плохом счету у этой дамы, так как никогда не подносили ей ни сирени, ни красивых роз, бросила меня в краску, и, желая избежать осуждения физически и подвергнуться ему только заочно, я направился к выходу. Но не всегда женщины бывают в жизни наиболее любезны с людьми, которые им подносят красивые розы, так как «маркиза», подумав, что мне скучно, обратилась ко мне:
— Не угодно ли, я вам открою кабинку? И когда я отказался:
— Нет, вы не желаете? — прибавила она с улыбкой. — Я предложила вам от чистого сердца, но я хорошо знаю, что такая надобность к нам не приходит только потому, что ее можно сделать бесплатно.
В это мгновение стремительно вошла бедно одетая женщина, которая, по-видимому, как раз почувствовала эту надобность. Но она не принадлежала к миру «маркизы», потому что последняя с жестокостью сноба сухо ей сказала:
— Свободных мест нет, мадам.
— И долго придется ждать? — спросила вошедшая дама, вся красная под желтыми цветами своей шляпы.
— Ах, мадам, я вам советую пойти в другое место, потому что, вы видите, вот эти два господина тоже ожидают очереди, — сказала она, показывая на меня и на сторожа, — а у меня только один кабинет, остальные ремонтируются.
«Вид у нее плохой плательщицы, — подумала «маркиза». — Она для меня не подходящая, нет у нее опрятности, нет уважения, и мне пришлось бы целый час мыть и чистить ради этой особы. Нет, я не жалею о ее двух су».
Наконец бабушка вышла; не будучи уверен, что она попытается загладить чаевыми неделикатность, которую она проявила, оставаясь так долго в кабинке, я поспешил ретироваться, чтобы не получить и на свою долю презрения, которое несомненно засвидетельствует бабушке «маркиза», и углубился в аллею, но медленно, чтобы бабушка без труда могла догнать меня и идти вместе со мной. Это вскоре и случилось. Я думал, что бабушка тотчас мне скажет: «Я заставила тебя ждать, надеюсь все же, что ты не упустишь твоих приятелей», — но она не произнесла ни слова, так что, немного разочарованный, я не пожелал заговаривать с ней первый; наконец, подняв на нее глаза, я увидел, что, идя со мной рядом, она старательно отворачивается от меня. Я боялся, что ее все еще тошнит. Присмотревшись к ней внимательнее, я был поражен ее дергающейся походкой. Шляпа сидела на ней криво, пальто испачкалось, весь вид был растерзанный и недовольный, лицо красное и озабоченное, как у человека, только что помятого экипажем или вытащенного из канавы.
— Я испугался, не тошнит ли тебя, бабушка; тебе лучше? — обратился к ней я.
Должно быть, она подумала, что ей нельзя, не встревожив меня, оставить мои слова без ответа.
— Я слышала весь разговор между «маркизой» и сторожем, — сказала она. — Ни дать ни взять Германт и кружок Вердюренов. Боже, в каких галантных выражениях изложены были эти вещи! — И она прибавила применительно к этому еще следующие слова ее собственной маркизы, г-жи де Севинье: — «Слушая их, я думала, что они мне подготовляют сладостное прощание».
Вот с какими словами обратилась ко мне бабушка, словами, в которые она вложила все свое тонкое остроумие, свой вкус к цитатам, свою память на классиков, даже в несколько большей степени, чем она это делала обыкновенно, как бы для того, чтобы показать, что все это прекрасно сохраняется в ее распоряжении. Но фразы эти я скорее угадал, чем расслышал, настолько невнятно произнесла она их, сжимая зубы сильнее, чем этого требовал бы страх рвоты.
— Вот что, — сказал я ей довольно беззаботно, чтобы не создавать впечатления, что меня встревожило ее недомогание, — так как у тебя легкая тошнота, то не лучше ли нам вернуться домой, я не хочу вести гулять на Елисейские Поля бабушку, у которой расстроен желудок.
— Я не решалась тебе это предложить, потому что ты условился встретиться с приятелями, — отвечала она. — Бедный мальчик! Но если ты так желаешь, это будет благоразумнее.
Я испугался, как бы она не заметила манеры, которой были произнесены эти слова.
— Послушай, — сказал я вдруг, — не утомляй себя разговором; если тебя тошнит, то это нелепо, подожди по крайней мере, когда мы вернемся домой.
Она печально мне улыбнулась и пожала руку. Она поняла, что нечего скрывать от меня то, о чем я сразу догадался: что с ней только что случился небольшой удар.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Болезнь бабушки. Болезнь Бергота. Герцог и доктор. Агония бабушки. Ее смерть.
Мы снова перешли авеню Габриэль, наполненную толпой гуляющих. Я усадил бабушку на скамейку и отправился за фиакром. Бабушка, в сердце которой я всегда мысленно помещал себя, составляя суждение даже о самом незначительном человеке, — бабушка была теперь для меня недоступна, она сделалась частью внешнего мира, и больше, чем от простых прохожих, я вынужден был скрывать от нее то, что я думал о ее состоянии, скрывать от нее мое беспокойство. Я не мог бы ей сказать об этом с большим доверием, чем посторонней женщине. Она только что вернула мне мысли и горести, которые я с самого детства вверил ей навсегда. Она не была еще покойницей. Я был уже один. И даже сделанные ею намеки на Германтов, на Мольера, на наши разговоры о кружке Вердюренов приобретали вид беспочвенный, беспричинный, фантастический, потому что исходили из небытия этого самого существа, которое завтра, может быть, не будет больше существовать, для которого они не будут больше иметь никакого смысла, из небытия — неспособного их постичь — которым станет вскоре бабушка.
— Мосье, я не отказываюсь, но вы не условились о свидании со мной, у вас нет номера. К тому же, сегодня у меня не приемный день. У вас наверно есть свой врач. Я не могу его заместить, разве только он пригласит меня на консультацию. Это вопрос врачебной этики…
В то мгновение, когда я давал знак фиакру, я встретил знаменитого профессора Е., довольно близкого друга моих отца и деда, во всяком случае их хорошего знакомого, проживавшего на авеню Габриэль, и, осененный внезапной мыслью, я его остановил на самом пороге его дома, вообразив, что он даст, может быть, благодетельный совет бабушке. Но он торопился и, захватив свои письма, хотел меня выпроводить, так что я мог заговорить с профессором, только войдя с ним в лифт, где он тотчас попросил меня предоставить ему распоряжаться кнопками: это была его мания.
— Но я вас не прошу, мосье, принять бабушку, вы потом поймете то, что я хочу вам сказать, она в неподходящем состоянии, я прошу вас, напротив, приехать через — полчаса к нам, когда она вернется домой.
— Приехать к вам? Об этом, мосье, нечего и думать. Я обедаю у министра торговли, перед этим мне необходимо сделать один визит, сейчас я буду переодеваться, в довершение несчастья мой фрак разорвался, а в другом нет петлицы, чтобы прикрепить ордена. Прошу вас, сделайте мне удовольствие, не прикасайтесь к кнопкам лифта. Вы не умеете с ними обращаться, надо всегда быть осмотрительным. Эта петлица задержит меня. Словом, из дружбы к вашим, если ваша бабушка сейчас зайдет ко мне, я ее приму. Но предупреждаю вас, что я могу предоставить ей ровно четверть часа.
Я тотчас же отправился за бабушкой, даже не выйдя из лифта, который профессор Е. сам пустил вниз, недоверчиво глядя на меня.
Мы часто говорим о неизвестности часа смерти, но, когда мы это говорим, мы представляем себе этот час расположенным где-то далеко в пространстве, мы не думаем, чтобы он находился в каком-нибудь отношении к уже начавшемуся дню и мог означать, что смерть — или ее первая хватка, после которой она нас уже не выпустит, — может случиться сегодня же после полудня, в этот так хорошо известный период времени, каждый час которого нами заранее распределен. Мы считаем необходимым сделать прогулку, чтобы запастись на месяц порцией свежего воздуха, мы колебались относительно выбора пальто и фиакра, мы в фиакре, день весь целиком перед нами, короткий, так как мы желаем вернуться во-время, чтобы принять нашу приятельницу; нам хочется, чтобы и завтра была такая же хорошая погода; мы и не подозреваем, что смерть, совершавшая свой путь в нас где-то в другой плоскости, объятая непроницаемой тьмой, выбрала именно этот день, чтобы выйти на сцену через несколько минут, почти в то самое мгновение, когда экипаж подъедет к Елисейским Полям. Может быть тот, кто думает обыкновенно с ужасом о таком из ряда вон выходящем явлении, как смерть, найдет нечто успокоительное в подобного рода смерти — в подобного рода первом соприкосновении со смертью, — потому что она появляется в знакомом, привычном и будничном облике. Ей предшествовал хороший завтрак и небольшая прогулка, которую делают люди, хорошо себя чувствующие. Возвращение в открытом экипаже переплетается с ее первой хваткой; как ни плохо было состояние бабушки, все же несколько человек могли бы сказать, что в шесть часов, когда мы возвращались с Елисейских Полей, они поклонились бабушке, проезжавшей в открытом экипаже, и что погода была великолепная. Легранден, направлявшийся к площади Согласия, снял перед нами шляпу и остановился с удивленным видом. Я еще не оторвался от жизни и потому спросил бабушку, ответила ли она ему, напомнив ей, как он обидчив. Бабушка, найдя меня, вероятно, крайне легкомысленным, подняла руку в воздух, как бы желая сказать: «К чему все это? Это не имеет никакого значения».
Да, прохожие могли бы сказать несколько минут назад, когда я искал фиакр, что бабушка сидела на скамейке, на авеню Габриэль, что немного спустя она проехала в открытом экипаже. Но было ли это правда? Скамейка, для того чтобы стоять на аллее — хотя и она подчинена некоторым условиям равновесия — не нуждается во внутренней энергии. Но чтобы живое существо было устойчиво, даже сидя на скамейке или в экипаже, от него требуется напряжение сил, которых мы обыкновенно не воспринимаем, как не воспринимаем (оттого что оно действует во всех направлениях) атмосферного давления. Может быть, если бы в нас создали пустоту и предоставили нам в таком виде подвергнуться давлению воздуха, мы бы почувствовали в течение мгновения, предшествующего нашей гибели, страшную тяжесть, которой ничто бы уже не парализовало. Точно так же, когда в нас отверзаются бездны болезни и смерти и когда мы уже ничего не можем противопоставить натиску, с которым мир и наше собственное тело бросаются на нас, — тогда выносить даже нажим наших мускулов, даже озноб, пожирающий наши внутренности, — тогда даже держаться неподвижно в положении, которое мы считаем обыкновенно чисто пассивным, мы можем, если хотим, чтобы голова наша не клонилась и взгляд оставался спокойным, только ценой затраты жизненной энергии, ценой изнурительной борьбы.
И если Легранден смотрел на нас с удивленным видом, то оттого, что ему, как и всем, кто проходил тогда по улице, бабушка, как будто сидевшая в фиакре, показалась тонувшей, скользившей в пропасть и отчаянно хватавшейся за подушки, которые с большим трудом удерживали ее низвергавшееся тело, растрепанные волосы, блуждающий взгляд, неспособный противостоять натиску образов, которые уже не запечатлевались на ее зрачках. Бабушка показалась Леграндену, хотя она находилась рядом со мной, погруженной в тот неведомый мир, откуда на нее уже обрушились удары; ведь это их следы носила она, когда я увидел на Елисейских Полях ее шляпу, лицо и пальто, измятые рукой невидимого ангела, с которым она выдержала борьбу. Потом я подумал, что постигший бабушку удар едва ли особенно ее удивил, что, пожалуй даже, она его задолго предвидела, предвосхищала в своих мыслях. Конечно, она не знала, когда придет этот роковой момент, была похожа на любовников, которых сомнение того же порядка переносит от безрассудных надежд к необоснованным подозрениям насчет верности их возлюбленной. Но редко бывает, чтобы серьезные болезни, вроде той, что открыто постигла, наконец, бабушку, не выбирали себе жилища в больном задолго до того, как они его сразят, а поселившись, не заводили с ним вскоре знакомства, подобно общительному соседу или квартиранту. Это — страшный знакомец, не столько благодаря страданиям, которые он причиняет, сколько благодаря новизне окончательных ограничений, накладываемых им на жизнь. В этом случае мы видим себя умирающими не в самое мгновение смерти, но за несколько месяцев, иногда за несколько лет до этого, когда отвратительный гость поселялся в нас. Больная знакомится с непрошенным жильцом, слыша, как он расхаживает в ее мозгу. Правда, в лицо она его не знает, но на основании правильно повторявшихся шумов, которые она слышит, она заключает о его привычках. Кто он? Злоумышленник? Однажды утром она его больше не слышит. Он уехал. О, если бы навсегда! Вечером он возвращается. Какие у него намерения? Врач, подвергнутый допросу, как обожаемая любовница, отвечает клятвами, которым мы в иные дни верим, а в иные подвергаем их сомнению. Впрочем, врач играет, пожалуй, не столько роль любовницы, сколько роль допрашиваемых слуг. Они только третьи лица. Кого мы на самом деле допытываем, кого мы подозреваем в том, что она сию минуту готова нас предать, так это самое жизнь, и хотя мы уже не чувствуем ее прежней, мы еще верим в нее, мы пребываем, во всяком случае, в сомнении вплоть до дня, когда она нас, наконец, покидает.
Я ввел бабушку в лифт профессора Е., который сейчас же вышел к нам и провел в свой кабинет. Но там, несмотря на всю его занятость, неприступный вид его изменился, — так велика сила привычек, а у него вошло в привычку быть любезным и даже игривым со своими пациентами. Зная, что бабушка человек очень начитанный, и сам отличаясь большой начитанностью, он в течение двух или трех минут декламировал ей красивые стихи о лучезарном лете, которое стояло в то время. Он усадил бабушку в кресло, а сам стал спиной к свету, чтобы хорошо ее разглядеть. Он подверг ее чрезвычайно тщательному осмотру и потребовал даже, чтобы я вышел на минуту из комнаты. Когда я вернулся, он все еще ее осматривал, а закончив, снова стал приводить бабушке отрывки из классических произведений, несмотря на то, что назначенные им пятнадцать минут уже подходили к концу. Он даже сказал бабушке несколько тонких острот, которые я предпочел бы услышать в другой раз, но которые меня совершенно успокоили благодаря веселому тону доктора. Я вспомнил тогда, что у г-на Фальера, председателя сената, был несколько лет тому назад ложный удар и что, к неудовольствию своих конкурентов, он через три дня возобновил исполнение служебных обязанностей и готовился, как говорили, выставить в более или менее непродолжительном будущем свою кандидатуру в президенты республики. Моя уверенность в скором выздоровлении бабушки была тем более полной, что, когда я припоминал случай с г-ном Фальером, меня отвлек от этого сопоставления взрыв веселого смеха, которым закончил одну из своих шуток профессор Е. После этого он вынул часы, недовольно нахмурил брови, увидя, что опаздывает на пять минут, и, прощаясь с нами, позвонил и велел немедленно принести фрак. Я пропустил бабушку вперед, закрыл за ней дверь и попросил ученого сказать правду.
— Ваша бабушка безнадежна, — отвечал он. — Этот удар вызван был уремией. Сама по себе уремия не всегда приводит к смертельному исходу, но данный случай мне представляется безнадежным. Мне нет надобности говорить вам, как бы я был рад, если бы диагноз мой оказался ошибочным. Впрочем, пользуясь советами Котара, вы находитесь в превосходных руках. Извините меня, — сказал он, увидя входившую горничную, которая несла на руке фрак профессора. — Вы знаете, я обедаю у министра торговли и должен еще сделать один визит. Ах, в жизни не только розы, как думают в вашем возрасте!
И он любезно подал мне руку. Я закрыл дверь, и лакей проводил меня и бабушку в переднюю, как вдруг мы услышали громкие гневные возгласы. Горничная забыла прорезать петлицу для орденов. Это должно, было отнять еще десять минут. Профессор бушевал все время, пока я смотрел на площадке на бабушку, положение которой было безнадежно. Каждый человек глубоко одинок. Мы поехали домой.
Солнце садилось; оно воспламеняло бесконечную стену, которую должен был миновать наш фиакр, перед тем как выехать на улицу, где мы жили, стену, на которой тень, отбрасываемая лошадью и экипажем, выделялась черным силуэтом на красноватом фоне, как погребальная колесница на помпейской терракоте. Наконец мы приехали. Я усадил больную внизу, в вестибюле, а сам поднялся предупредить маму. Я сказал, что бабушка не совсем здорова, что у нее было головокружение. После первых же моих слов лицо матери достигло предела отчаяния, однако столь безропотного, что я понял, как много лет она уже держала его в себе наготове, в ожидании неизвестного рокового дня. Она мне не задала ни одного вопроса; казалось, что, подобно тому как злоба любит преувеличивать страдания других, она из любви к своей матери не хотела допустить у нее серьезной болезни, особенно болезни, которая может задеть умственные способности. Мама вся дрожала, лицо ее плакало без слез, она побежала сказать, чтобы шли за доктором, но когда Франсуаза спросила, кто захворал, она не в состоянии была ответить, слова застряли у нее в горле. Она бегом спустилась со мной по лестнице, прогнав с лица сводившее его рыдание. Бабушка ожидала на диване в вестибюле, но, едва заслышав нас, выпрямилась, поднялась на ноги, весело замахала маме рукой. Я наполовину закутал ей голову белым кружевным шарфом, сказав, что иначе она простудится на лестнице. Я не хотел, чтобы мама слишком явственно увидела, как изменилось бабушкино лицо, как перекосился у ней рот; предосторожность моя оказалась излишней: мама подошла к бабушке, благоговейно поцеловала ее руку, довела до лифта с бесконечными предосторожностями, в которых сквозило, наряду с боязнью сделать неловкое движение и причинить бабушке боль, смирение женщины, чувствующей себя недостойной прикоснуться к самому драгоценному, что она знает, но ни разу не подняла она глаз и не взглянула в лицо больной. Может быть сделано это было, чтобы бабушка не опечалилась при мысли, что вид ее способен вызвать беспокойство в дочери. Может быть из боязни причинить себе слишком сильную боль, которую она не решилась встретить лицом к лицу. Может быть из почтения, потому что она не считала, чтобы ей дозволено было, не совершая нечестия, констатировать след какого-нибудь умственного упадка на чтимом лице. А может быть затем, чтобы лучше сохранить нетронутым образ подлинного лица матери, сияющего умом и добротой. Так поднялись они одна рядом с другой, бабушка — полузакрытая шарфом, мама — отвернув от нее глаза.
Все это время с нами находилась женщина, которая, напротив, всматривалась, не спуская глаз, что могло таиться за изменившимися чертами лица бабушки, на которую дочь ее не осмеливалась взглянуть, — женщина, приковавшая к бабушке ошеломленный, нескромный и зловещий взгляд: то была Франсуаза. Не то чтобы она не любила бабушки, нет, она искренно любила ее (она даже была разочарована и почти возмущена холодностью мамы, которую ей хотелось бы видеть с плачем бросившейся в объятия своей матери), но у нее была некоторая наклонность во всем видеть худшее, она с детства сохранила две особенности, как будто исключающие друг друга, но при совмещении одна другую усиливающие: невоспитанность простых людей, которые нисколько не стараются подавить впечатление, часто даже ужас, вызванный в них видом физического изменения, между тем как деликатнее было бы не дать этого заметить, — и бесчувственную грубость крестьянки, которая обрывает крылья у стрекоз, прежде чем ей представится случай свернуть шею цыпленку, а также отсутствие стыда, который побуждал бы ее скрывать интерес к разглядыванию физических страданий.
Когда, благодаря идеальным заботам Франсуазы, бабушка уложена была в постель, она отдала себе отчет, что может говорить с гораздо большей легкостью, чем ей казалось, так как разрыв (или закупорка) сосуда, вызвавший уремию, был по-видимому незначителен. Тогда она пожелала прийти на помощь маме, поддержать ее в эти самые тяжелые минуты, какие когда-нибудь выпадали ей в жизни.
— Вот ты какая, дочка! — сказала бабушка, беря ее за руку, а другою прикрыв рот, чтобы объяснить этой видимой помехой легкое затруднение, которое она еще испытывала, произнося некоторые слова. — Вот как жалеешь ты твою мать! Ты, видно, думаешь, что несварение желудка не такая уж неприятная вещь!
Тогда впервые глаза мамы пылко сосредоточились на глазах бабушки, не желая, однако, видеть остальные части ее лица, и она сказала, начиная ряд ложных клятв, которые мы не можем сдержать:
— Мама, ты скоро будешь здорова, твоя дочь тебе ручается!
И, заключив всю силу любви, всю свою волю, направленную к выздоровлению бабушки, в поцелуй, которому она их доверила и который сопроводила энергией своей мысли, всего своего существа до кончиков губ, мама смиренно, благоговейно запечатлела его на обожаемом лице. Бабушка жаловалась на груду одеял, все время выраставшую с одной стороны кровати над ее левой ногой, которую ей никак не удавалось приподнять. Но она не отдавала себе отчета, что сама же устраивала эту груду (до такой степени, что каждый день она несправедливо винила Франсуазу, которая будто бы плохо подправляла ее постель). Конвульсивным движением она отводила в эту сторону весь поток пенистых одеял из тонкой шерсти и нагромождала их там, как пески в заливе, который быстро превращался в дюну (если не сооружалась предохранительная дамба) благодаря последовательным наносам прилива.
Ни мама ни я (хотя ложь моя мигом разгадывалась проницательной и бесцеремонной Франсуазой) не хотели даже говорить о том, что бабушка тяжело больна, как если бы это могло доставить удовольствие врагам, которых, впрочем, у нее не было, и лучше было находить, что ей не так уже плохо, — словом, в силу того же инстинктивного чувства, которое внушило мне предположение, что Андре слишком жалеет Альбертину, чтобы очень ее любить. Это же самое можно наблюдать как у отдельных людей, так и в массах во время больших кризисов. Во время войны человек, не любящий своей страны, дурно о ней не говорит, но считает ее погибшей, жалеет ее, видит вещи в черном свете.
Франсуаза оказывала нам бесценную услугу своей способностью обходиться без сна, исполнять самые тяжелые работы. Если ей случалось прилечь после нескольких ночей, проведенных на ногах, и мы через четверть часа ее будили, она так рада была возможности сделать труднейшую вещь, как нечто самое простое на свете, что не только не хмурилась, а, напротив, всем своим видом показывала удовлетворение и непритязательность. Лишь когда наступал час мессы или час первого завтрака, то хотя бы бабушка боролась со смертью, Франсуаза своевременно исчезала, чтобы не опоздать. Ее не мог бы заменить молодой лакей, ее помощник, да она и не желала этого. Правда, она принесла из Комбре очень, высокое представление об обязанностях каждого по отношению к нам; она бы не потерпела, чтобы кто-нибудь из наших слуг относился к нам без должного уважения. Из нее получилась такая благородная, повелительная и властная воспитательница, что даже самые распущенные наши слуги быстро меняли в лучшую сторону свое представление о жизни, переставали брать себе скидку, которую им делали лавочники, и стремительно выхватывали у меня из рук — как бы ни были они мало услужливы до тех пор — самые маленькие пакеты, не позволяя мне утруждать себя их переноской. Но в том же Комбре Франсуаза выработала себе — и занесла в Париж — привычку не выносить, ничьей помощи в своей работе. Всякую попытку разделить ее труд она воспринимала как оскорбление; некоторые из наших слуг по целым неделям не могли добиться от нее ответа на утренний поклон; даже когда они уезжали в отпуск, она с ними не прощалась, повергая их в недоумение, за что такая немилость; в действительности немилость эта постигала их единственно за то, что они вздумали исполнить небольшую часть ее работы во время болезни Франсуазы. И теперь, когда бабушке было так худо, Франсуаза считала, что уход за больной составляет ее исключительную привилегию. Состоя в должности камеристки, она не желала, чтобы в эти торжественные дни кто-нибудь перехватил ее роль. Вот почему отстраненный ею молодой лакей не знал, что делать, и, не довольствуясь, по примеру Виктора, похищением почтовой бумаги из моего письменного стола, он начал, кроме того, уносить томики стихов из моей библиотеки. Он читал их добрую половину дня, восхищаясь авторами этих стихов, а также затем, чтобы в остальное время уснащать цитатами из них письма, которые посылал своим деревенским приятелям. Конечно, он думал их ослепить. Но так как в мыслях у него не было большой последовательности, то парень вообразил, что стихотворения, найденные в моей библиотеке, всем известны и всякий может на них ссылаться. Настолько, что обращаясь к землякам-крестьянам и представляя себе, как это их поразит, он испещрял собственные размышления стихами Ламартина, точно они были равнозначны таким фразам, как: «Поживем, увидим» или даже «Здравствуйте».
Бабушка так мучилась, что ей разрешили давать морфий. К несчастью, если он успокаивал боли, зато усиливал выделение белка. Удары, которые мы предназначали водворившейся в бабушке болезни, все время падали мимо, получала их сама бабушка, ее измученное тело, помещавшееся на их пути, но она жаловалась только слабым стоном. Боли, которые мы ей причиняли, не возмещались пользой, которую мы не могли ей принести. Нам хотелось истребить лютую болезнь, а мы только слегка ее задевали, мы только пуще ее ожесточали, ускоряя, может быть, наступление часа, когда она растерзает свою добычу. В дни, когда количество белка бывало особенно велико, Котар, после некоторого колебания, отменял морфий. В короткие мгновения, когда он обдумывал, когда опасности того и другого лечения спорили в нем между собой, пока он не останавливался на одном из них, у этого столь незначительного, столь заурядного человека появлялось величие генерала, который, будучи пошляком в другое время, наделен даром стратега и в опасную минуту, чуточку поразмыслив, выносит самое мудрое с военной точки зрения решение, командует: «Поверните фронт на восток». С медицинской точки зрения, как ни мало надежды было положить конец этому приступу уремии, не следовало утомлять почки. Но, с другой стороны, когда бабушка не принимала морфия, боли ее становились невыносимыми; она непрестанно начинала одно движение, которое ей трудно было совершать без стона: по большей части боль есть своего рода потребность организма осознать какое-то новое состояние, которое его беспокоит, привести чувствительность в соответствие с этим состоянием. Такое происхождение боли можно подметить в случаях недомоганий, которые появляются не у всякого. Два грубоватых человека войдут в комнату, наполненную едко пахнущим дымом, и займутся своими делами; третий, с более тонкой организацией, будет непрестанно ощущать какое-то беспокойство. Ноздри его все время будут тревожно прислушиваться к запаху, который, казалось бы, ему не надо стараться почувствовать, но который при каждом вдыхании он будет пробовать точнее распознать и таким образом приблизить к болезненно потревоженному своему обонянию. От этого, вероятно, мы перестаем жаловаться на зубную боль, когда что-нибудь сильно поглощает наше внимание. Во время таких страданий пот катился по большому лиловатому лбу бабушки, приклеивая к нему седые пряди, и если ей казалось, что нас нет в комнате, она вскрикивала: «Ах, это ужасно!» — но когда замечала маму, то сейчас же всеми силами старалась прогнать со своего лица следы боли или же, напротив, повторяла те же жалобы, но сопровождала их пояснениями, которые ретроспективно давали другой смысл ее возгласам, может быть, долетевшим до слуха мамы:
— Ах, дочка, это ужасно лежать в кровати в такую солнечную погоду, когда хотелось бы пойти погулять, я плачу от бешенства, вынужденная подчиняться вашим предписаниям.
Но она ничего не могла поделать с жалобным стоном своих взглядов, с каплями пота, выступавшими у нее на лбу, с судорожными движениями своего тела, которые она сейчас же подавляла.
— Мне не больно, я жалуюсь, потому что постель плохо сделана, я чувствую, что волосы у меня растрепались, меня тошнит, я ударилась о стенку.
А мама, прикованная у изножья кровати к этому страданию, — как если бы, пронизывая своим взглядом скорбный лоб бабушки, ее тело, плохо скрывавшее боль, — она надеялась в конце концов сразить его и прогнать, — мама говорила:
— Нет, мамочка, мы не дадим тебе так страдать, мы что-нибудь придумаем, потерпи минуточку, — ты позволишь мне тебя поцеловать, так чтобы тебе не надо было шевелиться?
И, склонившись над кроватью, согнув ноги, почти коленопреклоненная, как если бы с помощью смирения она имела больше вероятия сделать угодным приносимый ею пламенный дар, мама протягивала бабушке всю свою жизнь, заключив ее в своем лице, как в дароносице, рельефно украшенной, ямочками и складочками, такими пылкими, такими безутешными и такими нежными, что невозможно было понять, изваяны ли они поцелуем, рыданием или улыбкой. Бабушка тоже пробовала поднести маме, свое лицо. Оно настолько изменилось, что если бы у нее достало силы выйти на улицу, ее, вероятно, узнали бы только по перу на шляпе. Черты бабушки, как на сеансах лепки, словно пытались в усилии, отвращавшем ее от всего остального, сообразоваться с какой-то неизвестной нам моделью. Работа скульптора приближалась к концу, и если лицо бабушки уменьшилось, то оно также отвердело. Бороздившие его жилки казались жилками не мрамора, а какого-то более шероховатого камня. Всегда наклоненное вперед, благодаря затруднительному дыханию, и в то же время сведенное усталостью, ее стершееся, съежившееся, сурово выразительное лицо казалось лицом, сошедшим с какой-то первобытной, почти доисторической скульптуры, — шершавым, сизо-бурым, потерявшим надежду лицом дикарки, стерегущей могилу. Но работа еще не была полностью закончена. Через некоторое время эту статую надо будет разбить и затем опустить в ее — с таким трудом, с таким мучительным напряжением охраняемую — могилу.
В один из подобных дней, когда, по народному выражению, не знаешь больше, какому святому молиться, мы решили, так как бабушка сильно кашляла и чихала, последовать совету одного родственника, утверждавшего, что специалист X. в три дня все снимет как рукой. Светские люди так говорят о своих врачах, и им верят, как Франсуаза верила газетным рекламам. Специалист пришел с докторской сумкой, нагруженной всеми насморками своих пациентов, как мех Эола. Бабушка наотрез отказалась подвергнуться его осмотру. Мы же, чувствуя себя неловко по отношению к этому напрасно потревоженному врачу, уступили выраженному им желанию освидетельствовать наши собственные носы, хотя в них ничего не было. Специалист, однако, это отрицал, заявив, что мигрень или колики, болезнь сердца или диабет, — все это плохо понятые болезни носа. Каждому из нас он сказал: «Вот маленькое затвердение, которое я бы с удовольствием осмотрел еще раз. Не откладывайте. При помощи нескольких прижиганий я вас от него освобожу». Мы, конечно, думали совсем о другом. Однако мы спрашивали: «От чего же вы нас освободите?» Словом, все наши носы были больны; специалист ошибся только в том, что отнес это состояние к настоящему времени. Ибо уже на другой день его предварительный осмотр произвел свое действие. У каждого из нас был насморк. И, встречая на улице отчаянно чихавшего отца, он улыбался при мысли, что невежды могут приписать болезнь его вмешательству. Он нас осматривал в ту минуту, когда мы были уже больны.
Болезнь бабушки дала различным лицам повод проявить избыток или недостаток симпатии, которые нас удивили столько же, как и обнаруженная в силу этой случайности совокупность обстоятельств или даже дружеских чувств, о которых мы бы и не подозревали. И знаки внимания, оказываемого людьми, беспрестанно приходившими справляться о здоровье бабушки, обнаруживали нам серьезность болезни, которую мы до тех пор недостаточно обособили, отделили от тысячи мучительных впечатлений, получаемых нами возле бабушки. Извещенные телеграммой, сестры ее не приехали из Комбре. Они открыли артиста, услаждавшего их превосходной камерной музыкой, в звуках которой, по их мнению, они лучше, чем у изголовья больной, находили сосредоточенность и скорбную возвышенность духа, несмотря на всю необычайность такой формы соболезнования. Г-жа Сазра написала маме, но тоном женщины, с которой нас навсегда разлучила неожиданно расстроившаяся помолвка (причиной разрыва было ее дрейфусарство). Зато каждый день приходил Бергот, проводивший со мной несколько часов.
Он всегда любил посещать в течение некоторого времени дом, где он мог чувствовать себя непринужденно. Но некогда он делал это для того, чтобы говорить без помехи, теперь же — чтобы хранить часами молчание, не нарушаемое просьбами что-нибудь сказать. Ибо он был очень болен, страдал, как одни говорили, альбуминурией, подобно бабушке. По словам других, у него была злокачественная опухоль. Силы его покидали; с трудом поднимался он по нашей лестнице и с еще большим трудом спускался. Он держался за перила, но несмотря на это часто спотыкался и вероятно с удовольствием сидел бы дома, если бы не боялся вовсе утратить привычку, способность выходить, — «человек с бородкой», которого я знал проворным, давно потерял свою подвижность. Он уже ничего не видел и нередко даже говорил с трудом.
Но как раз в это время его произведения, известные только небольшому кругу образованных людей в эпоху, когда госпожа Сван покровительствовала их робким попыткам выйти на простор, теперь же выросшие и значительные в глазах всех, получили, напротив, необыкновенное распространение в широкой публике. Конечно, случается, что только после смерти писатель становится знаменитым. Но Бергот еще при жизни, медленно шествуя к смерти и еще ее не достигнув, присутствовал при шествии своих произведений к славе. Знаменитость по крайней мере не утомляет умершего писателя. Сияние его имени не проникает за каменные плиты его могилы. В глухоте вечного сна он не знает назойливых вторжений славы. Но для Бергота антитеза еще не была полностью завершена. Он в достаточной степени еще существовал, чтобы страдать от суматохи. Он еще двигался, хотя и с трудом, меж тем как его резвые произведения, подобно дочерям, которых мы любим, но кипучая молодость и шумные удовольствия которых нас утомляют, каждый день привлекали к его постели все новых почитателей.
Визиты, которые он нам теперь делал, на несколько лет для меня запоздали, ибо я уже не восхищался им так, как раньше. Это не стояло в противоречии с растущей его известностью. Нередко бывает, что произведение искусства получает общее признание и одерживает победу в тот момент, когда произведение другого, еще безвестного писателя начинает создавать в кругу более взыскательных умов новый культ взамен культа, почти окончательно утвердившегося. Фразы Бергота в его книгах, которые я часто перечитывал, были столь же ясны для меня, как мои собственные мысли, мебель в моей комнате и экипажи на улице. Все вещи воспринимались в них без труда, если не так, как вы их видели всегда, то по крайней мере так, как вы привыкли их видеть теперь. Между тем один новый писатель начал выпускать книги, в которых отношения между вещами были настолько отличны от тех, что связывали их в моих глазах, что я почти ничего не понимал из его писаний. Он говорил, например: «Рукава для поливки восхищались занимательной беседой дорог (до сих пор все было легко, я мысленно скользил вдоль этих дорог), которые отправлялись каждые пять минут от Бриана и от Клоделя». Тут я уже ничего не понимал, потому что ждал имени города, а мне преподносилось имя человека. Однако я чувствовал, что не фраза была плохо написана, а у меня самого недоставало уменья и ловкости, чтобы проникнуть до конца в ее смысл. Я снова делал разбег, помогал себе руками и ногами, чтобы достигнуть места, с которого мне бы открылись новые отношения между вещами. Каждый раз, дойдя приблизительно до половины фразы, я беспомощно барахтался, как впоследствии в полку на гимнастических упражнениях. Тем не менее я испытывал перед новым писателем то восхищение, какое испытывает неуклюжий мальчик, получивший единицу по гимнастике, перед более ловким своим товарищем. С тех пор я уже не так преклонялся перед Берготом, прозрачность которого мне показалась недостатком. Было время, когда вещи хорошо узнавались, когда они были написаны Фромантеном, и не узнавались, когда автором их оказывался Ренуар.
Люди со вкусом говорят нам в настоящее время, что Ренуар — великий живописец XVIII века. Но, говоря это, они забывают о времени и о том, что даже в конце XIX века многого нехватало, чтобы признать Ренуара великим художником. Чтобы достигнуть такого признания, оригинальный живописец, оригинальный художник действуют по способу окулистов. Лечение их живописью, их прозой не всегда бывает приятно. Когда курс его закончен, врач нам говорит: «Теперь смотрите!» И вдруг мир (который создан был не однажды, а столько раз, сколько появлялось оригинальных художников) представляется нам в корне отличным от прежнего, но совершенно ясным. Проходящие по улице женщины не похожи на прежних, потому что они сошли с картин Ренуара, где мы когда-то отказывались видеть женщин. Экипажи, вода и небо тоже ренуаровские: нам очень хочется прогуляться в лесу, похожем на тот, что сначала казался нам чем угодно, только не лесом, а, например, ковром в богатых тонах, среди которых, однако, не было как раз тонов, свойственных лесам. Такова новая и обреченная гибели вселенная, которая только что была создана. Она просуществует до ближайшей геологической катастрофы, которую вызовут новый оригинальный художник или новый оригинальный писатель.
Тот, что заменил для меня Бергота, утомлял меня не беспорядочностью, а новизной вполне упорядоченных отношений, наблюдать которые у меня не было привычки. Всегда тот же пункт, на котором я чувствовал преткновение, указывал на тожественность трюка, который необходимо было проделать. Впрочем, когда один раз из тысячи я был в состоянии следовать за новым писателем до конца его фразы, то увиденное мной было всегда какой-нибудь шуткой, какой-нибудь истиной, какой-нибудь прикрасой, похожей на те, что я находил когда-то при чтении Бергота, но более изысканной. Я думал, что не так уж много лет тому назад обновление мира, похожее на то, которого я ожидал от его преемника, принес мне Бергот. И я задавался вопросом, есть ли какая-нибудь истина в различии, которое мы всегда проводим между искусством, не подвинувшимся ни на шаг вперед со времени Гомера, и непрерывно прогрессирующей наукой. Может быть искусство, напротив, имеет то сходство с наукой, что каждый новый оригинальный писатель кажется более передовым по сравнению со своим предшественником; кто мне поручится, что через двадцать лет, когда я буду уже без утомления следить за мыслями сегодняшнего новатора, не появится другой новатор, перед которым теперешний стушуется наравне с Берготом?
Я заговорил с Берготом о новом писателе. Он охладил меня к нему, не столько уверив, что искусство его шероховато, неглубоко и пусто, сколько сказав, что он как две капли воды похож на Блока. С тех пор образ Блока стал рисоваться мне на каждой странице его книг, и я больше не считал себя обязанным трудиться над их пониманием. Если Бергот дурно отзывался мне о нем, то сделал это, я думаю, не столько из зависти к его неуспеху, сколько по незнанию его произведений. Он почти ничего не читал. Уже большая часть его мыслей перешла из его мозга в написанные им книги. Он отощал, как если бы эти мысли были оперативным путем удалены из него. Теперь воспроизводительный инстинкт уже не побуждал его к деятельности, после того как он произвел на свет почти все, что он думал. Он вел растительную жизнь выздоравливающего, родильницы; красивые его глаза оставались неподвижными, слегка ослепленными, как глаза человека, растянувшегося на берегу моря, который, неясно о чем-то мечтая, следит лишь за движением волн. Впрочем, если беседа с ним возбуждала во мне меньше интереса, чем возбудила бы в былые годы, то я не испытывал от этого, никаких угрызений совести. Бергот был настолько человеком привычек, что, однажды выработав их, будь то самые простые или, наоборот, чрезвычайно прихотливые, в течение некоторого времени не мог без них обходиться. Не знаю, что побудило его прийти в первый раз, но потом он приходил каждый день только потому, что приходил накануне. Он являлся в дом, как в кафе, чтобы его никто не беспокоил разговором и сам он мог — изредка — заговорить; словом, посещения его можно было бы рассматривать как знак, что он соболезнует нашему горю или находит удовольствие побыть со мной, если бы мы пожелали сделать из них какой-нибудь вывод. Они не были безразличны моей матери, чувствительной ко всему, что можно было истолковать как знак внимания к ее больной. Поэтому каждый день она говорила мне: «Особенно не забывай хорошенько его поблагодарить».
В качестве бесплатного приложения к визитам мужа — скромно выраженное внимание женщины, вроде завтрака, которым нас угощает в перерыве между сеансами подруга художника — нам сделала визит г-жа Котар. Она приходила предлагать нам свою «камеристку», если мы хотим настоящие мужские услуги, собиралась «начать действовать» и, встретив отказ, выразила надежду, что, по крайней мере, это с нашей стороны не «отговорка», — слово, которое в ее кругу означало ложный предлог для отклонения какого-нибудь предложения. Она уверяла нас, что профессор, который никогда не говорил дома о своих пациентах, был так печален, как если бы речь шла о ней самой. В дальнейшем читатель увидит, что даже если бы это была правда, то это значило бы одновременно и очень мало и очень много со стороны самого неверного и самого признательного из мужей.
Такие же полезные предложения, но выраженные бесконечно более трогательно (то было соединение большого ума, сердечности и счастливо подобранных слов), были мне сделаны наследным герцогом Люксембургским. Я с ним познакомился в Бальбеке, куда он приезжал к одной из своих теток, принцессе Люксембургской, еще будучи графом фон Нассау. Спустя несколько месяцев он женился на прелестной дочери другой принцессы Люксембургской, страшно богатой — она была единственная дочь принца, которому принадлежало огромное мукомольное дело. После этого великий герцог Люксембургский, не имевший детей и обожавший своего племянника Нассау, объявил его, с одобрения палаты депутатов, наследным герцогом. Как и во всех браках подобного рода, происхождение состояния служит препятствием, но в то же время обстоятельством, решающим дело. Я помнил графа фон Нассау как одного из самых замечательных молодых людей, которых я встречал; уже тогда он поглощен был мрачной и привлекающей общее внимание любовью к своей невесте. Я был очень тронут письмами, которые он непрестанно мне присылал во время болезни бабушки, и даже мама, расчувствовавшись, печально повторила любимое выражение своей матери: «Севинье не сказала бы лучше».
На шестой день мама, уступая просьбам бабушки, принуждена была на время ее покинуть и сделать вид, будто идет отдохнуть. Чтобы дать возможность бабушке уснуть, я просил Франсуазу побыть безотлучно у постели больной. Но, невзирая на мои мольбы, она вышла из комнаты; она любила бабушку; при своем ясновидении и пессимизме она считала ее погибшей. Ей хотелось бы, следовательно, окружить бабушку всяческими заботами. Но в это время доложили, что пришел монтер, старинный сотрудник одной мастерской, зять хозяина, очень уважаемый в нашем доме, где он работал много лет, особенно Жюпьеном. Мы посылали за этим техником еще до болезни бабушки. Мне казалось, что его можно было отправить домой или попросить его подождать. Но этикет Франсуазы этого не позволял, она проявила бы неделикатность к почтенному человеку; ради такого случая можно было пренебречь состоянием бабушки. Когда через четверть часа я в сильном раздражении отправился за нею в кухню, то застал ее разговаривающей с монтером на площадке черной лестницы, дверь на которую была открыта, — прием, имевший то преимущество, что он позволял Франсуазе, если бы кто-нибудь из нас заглянул в кухню, сделать вид, будто она выходила прощаться, но обладавший тем неудобством, что через открытую дверь страшно сквозило. Франсуаза рассталась с монтером, прокричав ему вдогонку приветствия его жене и зятю, которые она забыла передать раньше. Характерная для Комбре забота о соблюдении правил вежливости, которую Франсуаза простирала даже на внешнюю политику. Глупцы воображают, будто крупный масштаб социальных явлений позволяет глубже проникнуть в человеческую душу; им бы следовало, напротив, уразуметь, что, лишь спустившись в глубины индивидуальности, можно с некоторой вероятностью понять эти явления. Франсуаза тысячу раз повторила нашему садовнику в Комбре, что война — бессмысленнейшее из преступлений и что нет ничего драгоценнее жизни. Между тем, когда разразилась русско-японская война, она чувствовала неловкость по отношению к царю, оттого что мы не выступили на помощь «бедняжкам русским», — «ведь они наши союзнички», — говорила она. Она считала это неделикатным по отношению к Николаю II, который всегда находил «такие хорошие слова для нас»; это было применение того же кодекса, который помешал бы ей отказать Жюпьену в рюмочке, хотя она и знала, что эта рюмочка «испортит ей пищеварение», и в силу которого не выйти лично к напрасно потревоженному монтеру и не извиниться перед ним, хотя бы для этого пришлось покинуть умирающую бабушку, было бы в ее глазах поступком столь же неблаговидным, как и тот, в котором она считала виновной Францию, сохранившую нейтралитет по отношению к Японии.
К счастью, мы скоро избавились от дочери Франсуазы, которая должна была отлучиться на несколько недель. К обычным советам, дававшимся в Комбре семейству больного: «Вам бы попробовать маленькое путешествие, переменить воздух, восстановить аппетит и т. п.» — она прибавила еще единственную, кажется, мысль, до которой дошла своим умом и которую поэтому без устали повторяла при каждом разговоре, как бы желая вдолбить ее в головы слушателей: «Ей бы надо было с самого начала лечиться радикально». Она не отстаивала одного какого-нибудь вида лечения преимущественно перед другими, а только требовала, чтобы лечение было радикальным. Что же касается Франсуазы, то она видела, как мало лекарств давали бабушке. Так как лекарства, по ее мнению, только засоряли желудок, то она этому радовалась, но в глубине души чувствовала унижение. У нее были на юге — относительно богатые — родственники, дочь которых захворала в ранней молодости и умерла двадцати трех лет; отец и мать за время ее болезни разорились на лекарства, на различных докторов, на странствия по курортам, продолжавшиеся до самой смерти дочери. И вот, Франсуазе все это представлялось шиком, как если бы эти родственники завели беговых лошадей, купили замок. Да и сами они, несмотря на все свое горе, кичились такими расходами. У них ничего не осталось, не осталось, главное, самого драгоценного блага — дочери, но они любили повторять, что сделали для нее столько и даже больше, чем первые богачи. В особенности льстили им ультрафиолетовые лучи, действию которых в течение месяцев, по нескольку раз на день, подвергали несчастную больную. Отец, окруженный в своем горе ореолом славы, доходил иногда до того, что хвастался своей дочерью как оперной дивой, на которую он ухлопал все свое состояние. Франсуаза не была нечувствительна к таким пышным декорациям; обстановка, окружавшая болезнь бабушки, казалась ей слишком бедной, годной разве для болезни на маленькой провинциальной сцене.
Был момент, когда уремия бросилась на глаза бабушке. В течение нескольких дней она ничего не видела. Глаза ее отнюдь не были глазами слепой, они оставались прежними. Я понял, что она не видит, только по странности приветливой улыбки, появлявшейся у бабушки, как только открывали дверь, и державшейся до тех пор, пока с ней не здоровались за руку, — улыбки, которая начиналась слишком рано и оставалась на губах стереотипной, неподвижной, всегда устремленной вперед и старавшейся быть видной отовсюду, ибо она не получала больше помощи от взгляда, который размерял бы ее, указывал бы ей время, направление, налаживал, видоизменял, соответственно перемене места или выражения лица вошедшего, — ибо она оставалась одна, Не подкрепляемая улыбкой глаз, которая до некоторой степени отвлекала бы от нее внимание посетителя, — и приобретала поэтому, благодаря своей неловкости, чрезмерную значительность, создавала впечатление преувеличенной любезности. Потом зрение вполне восстановилось, кочующая болезнь перекинулась с глаз на уши. В течение нескольких дней бабушка была глухой. И вот, боясь быть застигнутой врасплох неожиданным появлением посетителя, шагов которого она не могла бы услышать, бабушка то и дело (хотя лежала лицом к стене) внезапно поворачивала голову к двери. Но движение ее шеи было неуклюжим: ведь в несколько дней не приспособишься к такой перестановке, не научишься если не видеть шумы, то, по крайней мере, слышать глазами. Наконец боли уменьшились, но зато увеличилась затрудненность речи. Приходилось переспрашивать почти каждое слово, которое произносила бабушка.
Теперь, чувствуя, что ее больше не понимают, бабушка отказалась вовсе говорить и лежала неподвижно. Заметив меня, она делала судорожное движение, как люди, которым вдруг не хватает воздуху, она хотела со мной заговорить, но издавала только нечленораздельные звуки. Тогда, сраженная своим бессилием, она роняла голову на подушки, вытягивалась пластом на кровати, серьезное мраморное лицо ее было поднято кверху, руки неподвижно лежали на одеяле или же заняты были каким-нибудь чисто материальным действием, вроде вытирания пальцев носовым платком. Бабушка не хотела думать. Потом она впала в состояние непрерывного возбуждения. Она поминутно порывалась встать. Но мы ее всячески удерживали, опасаясь, чтобы она не отдала себе отчета в своем параличе. Однажды, когда бабушку оставили на мгновение одну, я застал ее на ногах, в ночной сорочке, пытавшейся открыть окно.
Когда в Бальбеке спасли однажды, помимо ее воли, одну бросившуюся в воду вдову, бабушка сказала мне (движимая, может быть, одним из тех предчувствий, которые мы читаем иногда в таинственной и темной книге нашей органической жизни, но в которой, по-видимому, отражается будущее), что не знает большей жестокости, чем вырвать отчаявшуюся женщину из объятий желанной смерти и вернуть к мученической жизни.
Мы едва успели схватить бабушку, она выдержала довольно ожесточенную борьбу с мамой, затем, побежденная, силой усаженная в кресло, она утратила желания, сожаления, стала вновь ко всему безучастной и принялась старательно снимать волоски меха, оставленные на ее ночной сорочке теплым плащом, который мы на нее накинули.
Взгляд ее совершенно изменился, сделался беспокойным, жалобным, растерянным, то не был больше ее прежний взгляд, то был угрюмый взгляд старухи, которая заговаривается…
После настойчивого допрашивания, не желает ли бабушка, чтобы ее причесали, Франсуаза в заключение убедила себя, что просьба исходила от бабушки. Она принесла щетки, гребенки, одеколон, пеньюар. Она говорила: «Это вас не побеспокоит, госпожа Амедей, если я вас причешу, какая вы ни слабая, а причесать вас всегда можно». Иными словами: мы никогда не бываем настолько слабыми, чтобы другой не мог нас причесать. Но когда я вошел в комнату, то увидел в жестоких руках Франсуазы, восхищенной так, словно она возвращала здоровье бабушке, под рассыпавшимися старыми волосами, неспособными вынести прикосновение гребенки, голову, которая, будучи не в силах сохранить придаваемое ей положение, моталась из стороны в сторону в каком-то непрестанном вихре, то вконец изнеможенная, то искаженная болью. Я видел, что манипуляции Франсуазы подходят к концу, и не решился поторопить ее словом: «Довольно», боясь, что она меня не послушается. Но я подбежал со всех ног, когда Франсуаза в простодушной жестокости поднесла зеркало, чтобы бабушка посмотрела, хорошо ли она причесана. Сначала я был доволен, что мне удалось вовремя выхватить его из рук Франсуазы, прежде чем бабушка, от которой заботливо отдаляли всякое зеркало, нечаянно заметила бы свой образ, который она не могла себе представить. Но, увы, когда мгновение спустя я склонился над ней, чтобы поцеловать ее прекрасный лоб, только что подвергшийся такой встряске, бабушка посмотрела на меня удивленно, недоверчиво и негодующе: она меня не узнала!
По утверждению нашего врача это был симптом увеличившегося прилива крови к мозгу. Надо было оттянуть кровь.
Котар колебался. Франсуаза надеялась было, что поставят «прочищающие» банки. Она искала описание их действия в моем словаре, но не могла найти. Даже если бы она искала слова «просекающие» вместо «прочищающие», он все равно бы не нашла этого прилагательного, потому что хотя и говорила «прочищающие», но писала (и следовательно считала, что так и должно быть написано) «просчищающие». Котар обманул ее ожидания: он отдал предпочтение пиявкам, не возлагая, впрочем, на них большой надежды. Когда через несколько часов я вошел к бабушке, черные змейки, присосавшиеся к ее затылку, вискам и ушам, извивались в ее окровавленных волосах, точно в волосах Медузы. Но на бледном и умиротворенном лице ее, совершенно неподвижном, я увидел широко открытые, ясные и спокойные глаза, прежние прекрасные глаза бабушки (может быть еще более светящиеся умом, чем до болезни, ибо, принужденная молчать и не шевелиться, она вложила в глаза все свои мысли, мысли, которые то занимают в нас огромное место, предлагая нам неподозреваемые сокровища, то как будто совсем замирают, чтобы потом снова самопроизвольно возродиться благодаря нескольким высосанным каплям крови), глаза бабушки, нежные и маслянистые, на которых пылавшее пламя камина освещало перед больной вновь возвращенную ей вселенную. Спокойствие ее не было больше мудростью отчаяния, но мудростью надежды. Она понимала, что ей лучше, хотела быть благоразумной, не шевелиться и подарила мне лишь прекрасную улыбку, дабы я знал, что она чувствует себя лучше, да легонько пожала мне руку.
Я знал, какое отвращение внушает бабушке вид некоторых животных, а тем более их прикосновение. Я знал, что она терпит пиявок лишь в надежде на то, что они принесут ей облегчение. Поэтому меня крайне раздражала Франсуаза, приговаривавшая бабушке со смешком, как ребенку, которого хотят заставить играть: «Ах, какие хорошенькие змейки бегают по мадам!» Кроме того, это было непочтительно по отношению к нашей больной, Франсуаза обращалась с ней так, точно она впала в детство. Но бабушка, лицо которой приобрело спокойное мужество стоика, как будто даже не слышала ее.
Увы, как только пиявок отняли, прилив крови повторился с еще большей силой. Я был удивлен, что в эту минуту, когда бабушке было так плохо, Франсуаза то и дело куда-то пропадала. Оказывается, она заказала себе траурное платье и не хотела заставлять ждать портниху. В жизни большинства женщин все, даже величайшее горе, сводится к вопросу о примерке.
Через несколько дней, когда я спал, мама позвала меня среди ночи. С деликатным вниманием, которое люди, удрученные глубоким горем, проявляют в торжественные минуты даже к мелким неприятностям других, она сказала:
— Извини, что я потревожила твой сон.
— Я не спал, — ответил я, проснувшись.
Я говорил чистосердечно. Резкая перемена, которую производит в нас пробуждение, заключается в том, что оно не столько переносит нас в сферу ясного сознания, сколько стирает в нас воспоминание о матовом свете, в котором покоился наш разум, точно в опаловой глубине вод. Затуманенные мысли, на которых мы плавали мгновение тому назад, вовлекали нас в движение, достаточно отчетливое для того, чтобы мы могли их обозначить словом бодрствование. Но, пробудившись, мы констатируем некоторый перерыв памяти. Немного спустя мы называем те мысли сном, потому что мы их больше не помним. Пока горит блестящая звезда, которая в миг пробуждения освещает спящему весь его сон целиком, она несколько секунд держит его в уверенности, что он не спал, а бодрствовал; по правде сказать, звезда падучая, которая уносит со своим светом обманчивый мир, а также сонное состояние, и тогда только позволяет проснувшемуся сказать себе: «Я спал».
Голосом столь нежным, точно она боялась сделать мне больно, мама спросила, не очень ли меня утомит, если я встану, и прибавила, лаская мне руки:
— Бедный мальчик, теперь ты можешь рассчитывать только на твоих папу и маму.
Мы вошли в комнату больной. Согнувшись дугой на кровати, неизвестное мне существо — не бабушка, а какое-то животное, похитившее ее волосы и улегшееся на ее месте, — задыхалось, стонало, раскидывало своими корчами одеяла. Веки ее были опущены, но из-под них проглядывал, не потому, что они приоткрывались, а скорее потому, что были плохо сомкнуты, уголок зрачка, затуманенный, гноящийся, отражавший мрак какого-то бреда и внутреннего страдания. Эти судорожные движения не были обращены к нам, ибо она нас не видела и не знала. Но если перед нами билось только животное, то где же была бабушка? Между тем можно было узнать форму ее носа, который утратил теперь прежнее соотношение с остальным лицом, но на котором по-прежнему сидела родинка, ее руку, срывавшую одеяла движением, которое прежде означало бы, что эти одеяла ей мешают, и которое теперь не означало ничего.
Мама попросила меня принести немного воды и уксусу, чтобы смочить лоб бабушки. Это было единственное освежавшее ее средство, думала мама, видевшая попытки бабушки откинуть волосы. В это время мне сделали знак из-за двери. Весть, что бабушка в агонии, немедленно распространилась по всему дому. Один из сверхштатных лакеев, которых приглашают в исключительных случаях для облегчения переутомившейся прислуги, отчего обстановка тяжелых болезней приобретает нечто праздничное, впустил к нам герцога Германтского, который, оставшись в передней, спрашивал меня; я не мог от него увернуться.
— Я пришел, дорогой мой, узнать о прискорбном событии. Мне хотелось бы в знак симпатии пожать руку вашему уважаемому батюшке. — Я извинился, сказав, что было бы очень трудно потревожить его в эту минуту. Герцог являлся некстати, как гость, который приходит в последнюю минуту перед отъездом. Но он до такой степени проникнут был сознанием важности оказываемого нам внимания, что не видел ничего остального и непременно хотел войти в гостиную. Вообще он имел обыкновение строго соблюдать все формальности, которыми решал кого-нибудь почтить, и его мало заботило, что чемоданы уложены или приготовлен гроб.
— Приглашали вы Дьелафуа? Ах, это большая оплошность! Если бы вы меня попросили, он пришел бы ради меня, он ни в чем мне не отказывает, хотя и отказал герцогине Шартрской. Вы видите, как я откровенно ставлю себя выше принцессы крови. Впрочем, перед смертью мы все равны, — прибавил он не с тем, чтобы убедить меня, что бабушка делается равной ему, а почувствовав, вероятно, что продолжать разговор о его влиянии на Дьелафуа и превосходстве над герцогиней Шартрской было бы довольно бестактно.
Совет его, впрочем, меня не удивлял. Я знал, что у Германтов всегда называлось имя Дьелафуа (разве лишь с чуть большим почтением) наравне с именами не знающих себе равных «поставщиков». Старая герцогиня де Мортмар, урожденная Германт (невозможно понять, почему, когда речь идет о герцогине, почти всегда говорят: «старая герцогиня де», или, наоборот, если она молода, — с тонким, в стиле Ватто, выражением: «маленькая герцогиня де»), в случаях тяжелых болезней рекомендовала почти механически, сощуривая глаз: «Дьелафуа, Дьелафуа», как рекомендовала бы фирму, где делалось мороженое: «Пуаре Бланш», или пти-фуры: «Ребате, Ребате». Но я не знал, что отец только что послал как раз за Дьелафуа.
В это время мама, с нетерпением ожидавшая кислородных баллонов, которые должны были облегчить дыхание бабушки, вышла сама в переднюю, не подозревая, что там находится герцог Германтский. Мне очень хотелось куда-нибудь его спрятать. Но убежденный, что ничего на свете не было существеннее, не могло, к тому же, больше польстить маме и не было более нужным для поддержания репутации совершенного джентльмена, герцог крепко схватил меня под-руку и, несмотря на мои протесты против этого насилия, мои возгласы: «Мосье, мосье, мосье!» — потащил меня к маме, говоря: «Будьте добры, сделайте мне честь, представьте меня вашей уважаемой матушке!» (он немного сбивался с тона на слове «матушка»). При этом он до такой степени проникнут был сознанием оказываемой им чести, что не мог сдержать улыбку на лице, принявшем подобающее случаю выражение. Мне ничего не оставалось, как назвать герцога, что немедленно повлекло за собой с его стороны расшаркиванья, пируэты, словом, он собрался проделать все, что требовал по этикету церемониальный поклон. Он думал даже вступить в разговор, но мама, вся погруженная в свое горе, велела мне скорей возвращаться и даже не ответила герцогу, который ожидал, что его сейчас пригласят, но, оказавшись, напротив, один в передней, в конце концов ушел бы, если бы не увидел входившего в эту минуту Сен-Лу: мой приятель только что приехал и поспешил явиться узнать о здоровье бабушки. «О, она чувствует себя превосходно!» — весело воскликнул герцог, хватая племянника с такой силой, что чуть было не оборвал ему рукав, и не обращая никакого внимания на маму, которая снова показалась в передней. Сен-Лу, несмотря на свое искреннее сочувствие моему горю, по-видимому, не очень огорчился тем, что не встретился со мной, если учесть его отношение ко мне в последнее время. Он ушел в сопровождении своего дяди, который, давно уже собираясь сказать ему что-то очень важное и чуть было не поехав ради этого в Донсьер, был вне себя от радости, что избавился от такого беспокойства. «Нет, если бы мне кто сказал: достаточно вам перейти двор, и вы его встретите здесь, я бы подумал, что надо мной смеются; как выразился бы твой приятель г. Блок, это похоже на фарс». И, идя с Робером, которого он держал за плечо, повторял: «Но все равно, видно, что я только что потрогал веревку повешенного или что-нибудь в этом роде; мне чертовски повезло». Отсюда вовсе не следует, что герцог Германтский был человек дурно воспитанный, наоборот. Но он неспособен был поставить себя на место других, он похож был в этом отношении на большинство врачей и служащих похоронных бюро, которые, сделав подобающее случаю лицо и сказав: «Это очень тягостные минуты», иногда даже обняв вас и посоветовав вам хранить спокойствие, смотрят потом на агонию или на похороны как на более или менее замкнутое светское собрание, где они весело отыскивают глазами знакомого, с которым можно было бы поговорить о своих делах, которого можно было бы попросить представить их такой-то даме или, предложив место в своем экипаже, отвезти домой. Герцог Германтский, поздравляя себя с попутным ветром, погнавшим его навстречу племяннику, был так удивлен вполне естественным, однако, приемом моей матери, что она показалась ему столь же неприятной в обращении, насколько обходителен был мой отец; он объявил, что у нее бывают «припадки рассеянности», во время которых она, по-видимому, даже не слышит того, что ей говорят, и что, по его мнению, она была тогда не в своей тарелке и, может быть, даже не совсем в своем уме. Однако герцог, как мне передавали, готов был отнести это отчасти за счет обстоятельств и высказывал предположение, что мать моя была, должно быть, очень «расстроена» тяжелым событием. Но он еще ощущал в ногах остаток поклонов и реверансов, которые ему помешали довести до конца, и вдобавок имел такое слабое представление о мамином горе, что спросил меня накануне похорон, пробовал ли я ее развлечь.
Один родственник бабушки, монах, с которым я не был знаком, телеграфировал в Австрию, где находился глава его ордена, и, получив в знак исключительной милости разрешение, явился к нам. Удрученный скорбью, он читал возле кровати тексты молитв и медитаций, не отрывая при этом острых своих глаз от больной. Однажды, когда бабушка была без сознания, я взглянул на него: мне стало больно при виде скорби этого священника. Сострадание мое, должно быть, удивило его, и тогда случилось нечто странное. Он закрыл лицо руками, как человек, поглощенный горестными размышлениями, но, отводя от него глаза, я увидел оставленную им между пальцами щелочку. При этом я заметил также, что острый его глаз воспользовался прикрытием руки, чтобы подглядеть, искренно ли мое соболезнование. Священник притаился там, как в сумраке исповедальни. Он догадался, что я его вижу, и тотчас наглухо сомкнул решетку, до тех пор приоткрытую. Я встречался с ним впоследствии, но никогда между нами не было сказано ни слова об этой минуте. Мы точно молча порешили, что я не заметил его подглядывания за мной. У священников, как у психиатров, всегда есть нечто от судебного следователя. Впрочем, у кого из нас найдется друг, хотя бы даже самый близкий, чье общее с нашим прошлое не содержало бы минут, которые нам было бы удобнее считать им позабытыми?
Врач впрыснул морфий и потребовал баллонов с кислородом, чтобы немного облегчить дыхание больной. Мать, доктор и сестра держали их в руках, и как только один из них кончался, мы им передавали другой. На минутку я вышел из комнаты. Вернувшись, я застал словно чудо. Под приглушенный аккомпанемент какого-то непрерывного журчания бабушка как будто пела нам длинную счастливую песню, живую и музыкальную. Я тотчас понял, что песня эта была столь же бессознательной и чисто механической, как и недавний хрип. Может быть она в слабой степени отражала какое-то благосостояние, принесенное морфием. Но главной ее причиной было изменение регистра дыхания, так как воздух проникал в бронхи не совсем обычным способом. Очищенное действием кислорода и морфия, дыхание бабушки не утомлялось, не плакалось, но, живое и легкое, неслось, как конькобежец, к сладостному флюиду. Может быть к этому дыханию, неслышному как дуновение ветра в свирели, примешивались в бабушкиной песне те более человеческие звуки, что создают впечатление мук или счастья, испытываемых людьми, уже ничего не чувствующими, и придавали теперь, не меняя ее ритма, больше мелодичности длинной музыкальной фразе, которая вздымалась все выше и выше, затем падала, чтобы вновь устремиться из облегченной груди в погоню за кислородом. Но, взлетев на такую высоту и прозвучав с такой силой, песня эта, смешанная с молящим и полным неги журчанием, в иные мгновения как будто вовсе замирала, подобно иссякающему роднику.
Когда Франсуаза бывала в большом горе, она испытывала совершенно излишнюю потребность его выразить, но не обладала для этого самым простым искусством. Считая бабушку обреченной, Франсуаза непременно хотела передать нам свои впечатления. Но она умела только повторять: «Это на меня действует», тем же тоном, каким говорила, поев слишком много супу с капустой: «У меня точно тяжесть в желудке», что в обоих случаях звучало естественнее, чем она думала. Но, как ни слабо передавала она свое горе, оно все же было велико и отягчалось кроме того досадой, что дочь ее, задержавшись в Комбре (который молодая парижанка называла теперь деревней, где она чувствовала себя обратившейся в мужичку), по всей вероятности, не сможет вернуться в Париж ко дню похорон, представлявшихся Франсуазе очень пышной церемонией. Зная нашу несообщительность, она на всякий случай заранее пригласила Жюпьена на все вечера этой недели. Она знала, что он будет занят в час похорон, и хотела по крайней мере по возвращении все ему «рассказать».
Уже несколько ночей отец, дедушка и один наш родственник дежурили у постели больной и не выходили из дому. Их героическая самоотверженность приняла в заключение видимость равнодушия, и благодаря нескончаемой праздности возле постели умирающей они стали вести те разговоры, что составляют неотъемлемую принадлежность всякого продолжительного пребывания в вагоне железной дороги. Вдобавок этот родственник (племянник моей двоюродной бабушки) был мне настолько же антипатичен, насколько он заслуживал уважение и повсеместно им пользовался.
Его всегда «находили» в тяжелых обстоятельствах, и он так усердно дежурил возле умирающих, что родственные ему семьи, воображая почему-то, что он человек слабого здоровья, несмотря на его могучее телосложение, баритональный бас и окладистую бороду, всегда церемонно упрашивали его не ходить на похороны. Я наперед знал, что мама, думавшая о других даже в минуты величайшего горя, скажет ему в другой форме то, что он привык выслушивать в подобных обстоятельствах:
— Обещайте мне, что «завтра» вы не придете. Сделайте это для «нее». По крайней мере, не ходите «туда». Она просила вас не ходить.
Ничто не помогало; он всегда приходил первый в «дом», за что, ему дали в других кругах прозвище, которого мы не знали: «Ни цветы, ни венки». Перед тем как пойти на «все», он всегда «думал обо всем», чем заслужил слова: «Вам не говорят спасибо».
— Что? — громко спросил дедушка, который стал глуховат и не расслышал слов, сказанных этим родственником отцу.
— Ничего, — отвечал кузен. — Я сказал только, что получил сегодня утром письмо из Комбре, где погода ужасная, а здесь солнце и жарко.
— А между тем барометр стоит очень низко, — заметил отец.
— Где, вы говорите, ужасная погода? — спросил дедушка.
— В Комбре.
— О, это меня не удивляет. Каждый раз, как здесь плохая погода, в Комбре солнце, и наоборот. Боже мой, вы заговорили о Комбре: подумал кто-нибудь о том, чтобы написать Леграндену?
— Да, не беспокойтесь, это сделано, — отвечал наш родственник, смуглые, заросшие бородой щеки которого неприметно улыбались от удовольствия, что он обо всем подумал.
В это мгновение отец бросился вон, я решил, что случилось что-нибудь очень хорошее или очень худое. В действительности приехал только доктор Дьелафуа. Отец вышел встретить его в соседнюю комнату, как актера, который должен сейчас выступить. Его приглашали не для лечения больного, а для того, чтобы он удостоверил факт, вроде нотариуса. Доктор Дьелафуа, может быть, в самом деле был выдающимся врачом, замечательным профессором; к этим разнообразным ролям, превосходно им исполнявшимся, он прибавил еще одну, в которой он сорок лет не знал соперника, роль столь же своеобразную, как роль резонера, скарамуша или благородного отца, и заключавшуюся в том, что он приходил удостоверить агонию или смерть. Уже его имя предвещало достоинство, с которым он сыграет свою роль, и, когда служанка докладывала: «Господин Дьелафуа», — создавалось впечатление пьесы Мольера. С полными достоинства манерами соперничала гибкость прелестно сложенной фигуры. Необыкновенно красивое лицо его бывало вытянуто в соответствии со скорбной обстановкой. Профессор входил в корректном черном сюртуке, в меру печальный, не выражал ни единого соболезнования, которое можно было бы счесть притворным, и вообще не совершал ни малейшей бестактности. У смертного ложа профессор Дьелафуа, а не герцог Германтский, был настоящим вельможей. Осторожно и сдержанно осмотрев бабушку, чтобы не утомлять больной и соблюсти учтивость по отношению к нашему постоянному врачу, он вполголоса сказал несколько слов отцу, почтительно поклонился матери, — я чувствовал, что отец едва удержался, чтобы не сказать ей: «Профессор Дьелафуа». Но профессор уже отвернул голову, не желая быть назойливым, и вышел с благороднейшим видом, приняв самым простым движением врученный ему гонорар. Он точно вовсе его не видел, и мы на мгновение даже усомнились, действительно ли мы ему заплатили, — с такой фокуснической ловкостью он куда-то сунул деньги, не утратив ни крупицы своей скорее даже возросшей важности знаменитого врача в длинном сюртуке на шелковой подкладке, с красивым лицом, исполненным благородного сострадания. Его медлительность и проворство показывали, что, будь у него еще сто визитов, он не желает иметь вид человека, который торопится. Ибо он был воплощением такта, ума и доброты. Этого выдающегося человека уже нет в живых. Другие врачи, другие профессора, может быть, не уступают ему и даже его превосходят. Но «роли», в которой его знания, его физические данные, его отличное воспитание сообщили ему такой блеск, более не существует, за отсутствием преемников, которые могли бы ее сыграть. Мама даже не заметила г-на Дьелафуа: все, что не было бабушкой, для нее не существовало. Я припоминаю (тут я забегаю вперед), что на кладбище, где видели, как она, похожая на выходца с того света, робко подошла к могиле и как будто вперила взор в какое-то улетевшее существо, которое было уже далеко от нее, — мама в ответ на слова отца: «Папаша Норпуа заходил к нам, был в церкви и на кладбище, он пропустил очень важное для него заседание, тебе бы следовало сказать ему что-нибудь, он будет тронут», и на почтительный поклон посла способна была лишь кротко нагнуть лицо, которое у нее не плакало. За два дня до этого, — я снова забегаю вперед, но сейчас вернусь к постели умирающей, — когда мы дежурили у гроба скончавшейся бабушки, Франсуаза, нисколько не отрицавшая существования привидений, пугалась при малейшем шуме, говоря: «Мне сдается, что это она». Но вместо страха слова эти пробуждали в матери бесконечную нежность — так хотелось ей, чтобы мертвые могли возвращаться и чтобы бабушка иногда навещала ее.
Возвращаюсь теперь к предсмертным часам бабушки.
— Знаете, что телеграфировали нам ее сестры? — спросил дедушка нашего родственника.
— Да, Бетховен, мне говорили, хоть в раму вставить, это меня не удивляет.
— Бедная жена моя так их любила, — сказал дедушка, вытирая слезу. — Не надо на них сердиться. Они помешанные, я всегда это говорил. Что это, почему перестали давать кислород?
Мать сказала:
— Мама опять, пожалуй, начнет плохо дышать.
Врач отвечал:
— О, нет, действие кислорода продлится еще немало времени, сейчас мы возобновим.
Мне казалось, что так бы не говорили об умирающей и что, если благоприятное действие газа должно продлиться, то, значит, можно что-то сделать для спасения ее жизни. Свист кислорода на несколько мгновений прекратился. Но блаженная жалоба дыхания все лилась, легкая, беспокойная, незаконченная, непрестанно возобновлявшаяся. Временами казалось, что все кончено, дыхание останавливалось, потому ли, что оно переходило из одной октавы в другую, как у спящего, или же вследствие естественных перерывов, в результате анестезии, прогрессирующего удушья, ослабления деятельности сердца. Врач снова попробовал пульс бабушки, но уже словно новая струя приносила свою дань в высохший поток, новая песня ответвлялась от прервавшейся музыкальной фразы. И последняя возобновлялась в другом диапазоне, с тем же неиссякаемым порывом. Кто знает, может быть, бессознательно для бабушки, множество подавленных страданием счастливых и сладких состояний вырывалось из нее теперь, как легкие газы, которые долгое время находились под сильным давлением. Можно было подумать, что из нее выливалось все, что она хотела нам сказать, что к нам обращалась она с этими длинными фразами, торопливо, с жаром. Колеблемая у постели больной всеми дуновениями этой агонии, не плача, но по временам увлажняясь слезами, мама в безутешном своем горе без мыслей похожа была на ветку, которую хлещет дождь и треплет ветер. Мне велели вытереть глаза и подойти поцеловать бабушку.
— Я думаю, что она уже ничего не видит, — сказал дедушка.
— Ну, это неизвестно, — отвечал доктор.
Когда я прикоснулся к ней губами, руки бабушки задвигались, по всему ее телу пробежала дрожь, — может быть, рефлекторная, а может быть, иным нежным чувствам свойственна повышенная восприимчивость, которая позволяет им различать сквозь покров бессознательного то, что они способны любить, почти вовсе не нуждаясь в деятельности рассудка. Вдруг бабушка привстала, сделав отчаянное усилие, как человек, защищающий свою жизнь. Франсуаза не в силах была вынести это зрелище и разразилась рыданиями. Вспомнив то, что сказал доктор, я хотел вывести ее из комнаты. В это мгновение бабушка открыла глаза. Я бросился к Франсуазе, чтобы скрыть ее плач, пока мои родные будут разговаривать с больной. Шум кислорода замолк, доктор отошел от кровати. Бабушка была мертвая.
Через несколько часов Франсуаза в последний раз могла, не причиняя им боли, причесать эти красивые волосы, которые едва были тронуты сединой и казались до сих пор более молодыми, чем бабушка. Но теперь, напротив, они одни возлагали венец старости на помолодевшее бабушкино лицо, с которого исчезли морщины, складки, одутловатости, растяжения, впадины, в течение стольких лет накладывавшиеся на него страданием. Как в то далекое время, когда родители выбирали ей супруга, черты ее были деликатно вылеплены чистотой и покорностью, щеки сияли целомудренной надеждой, мечтой о счастье и даже невинной веселостью, которые мало-помалу были разрушены годами. Жизнь, уходя, унесла с собой жизненные разочарования. На губах бабушки, казалось, играла улыбка. Подобно средневековому скульптору, смерть простерла ее на траурном ложе в образе молодой девушки.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Визит Альбертины. Перспектива богатого брака для некоторых приятелей Сен-Лу. Остроумие Германтов и принцесса Пармская. Странный визит к г-ну де Шарлюсу. Я все меньше и меньше понимаю его характер. Красивые туфли герцогини.
Хотя было обыкновенное осеннее воскресенье, я только что возродился, жизнь лежала непочатой передо мною, ибо утром, после длинного ряда погожих дней, пал холодный туман, который рассеялся только к полудню. А изменения погоды достаточно, чтобы пересоздать мир в недрах нашего существа. Встарь, когда ветер завывал у меня в камине, я слушал его удары о заслонку в трубу с таким же волнением, как если бы, подобно знаменитым ударам смычка, которыми начинается Пятая симфония, они были неотразимым зовом таинственной судьбы. Всякое изменение вида природы являет нам аналогичное превращение, приспособляя к новому ладу вещей наши гармонически настроенные желания. Туман сразу же по пробуждении превратил меня из центробежного существа, которым мы являемся в погожие дни, в человека сосредоточенного, мечтающего о камельке и о разделенном ложе, в зябкого Адама, ищущего домоседку Еву в этом измененном мире.
Между мягким серым цветом утренней деревни и вкусом чашки шоколада помещал я все своеобразие физической, интеллектуальной и моральной жизни, которую я принес около года назад в Донсьер; отмеченная плешивым продолговатым холмом — всегда присутствовавшим, даже когда он был невидим, — жизнь эта составляла во мне ряд удовольствий, совершенно отличных от всех прочих и не передаваемых друзьям в том смысле, что богатая ткань впечатлений, их оркестровавших, давала им, помимо моего ведома, более выпуклую характеристику, чем факты, которые я бы мог рассказать. С этой точки зрения новый мир, в который утренний туман погрузил меня, был миром уже мне известным (что придавало ему больше истинности) и с некоторых пор позабытым (что возвращало ему всю его свежесть). Я мог рассматривать картины тумана, сбереженные моей памятью, именно «Утро в Донсьере» в первый день, проведенный мной в казарме, или другой раз в соседнем замке, куда Сен-Лу однажды свез меня на сутки: из окна, занавески которого я приподнял на заре, перед тем как снова лечь, в первом случае — кавалерист, во втором (на узенькой полоске между прудом и лесом, остальная часть которого поглощена была мягким туманом, однообразным и текучим) — кучер, чистивший сбрую, появились передо мной, как те редкие, едва различимые глазом, вынужденным приспособляться к таинственной бесформенности полумрака, персонажи, что всплывают на стершейся фреске.
Сегодня я рассматривал эти воспоминания с моей постели, ибо я снова лег в ожидании часа, когда, пользуясь отсутствием моих родных, отправившихся на несколько дней в Комбре, я рассчитывал пойти посмотреть пьеску, которую играли у г-жи де Вильпаризи. По возвращении родных я бы, пожалуй, не решился это сделать; мама с ее щепетильным уважением к памяти бабушки желала, чтобы скорбь о ней выражалась свободно, искренно; она бы мне не запретила этого визита к г-же де Вильпаризи, она бы его не одобрила. Из Комбре, напротив, если бы я попросил у нее совета, она бы не ответила мне печальным: «Делай, как хочешь, ты уже достаточно взрослый, чтобы знать, как тебе следует вести себя», но, укоряя себя за то, что оставила меня одного в Париже, и заключая о моем горе по собственным чувствам, пожелала бы для меня развлечений, от которых сама бы отказалась; она бы убедила себя, что бабушка, заботившаяся прежде всего о моем здоровье и о моем нервном равновесии, мне бы наверное их порекомендовала.
С утра затопили новый водяной калорифер. Его неприятный шум, в который время от времени врывалось нечто вроде икоты, не имел никакой связи с моими воспоминаниями о Донсьере. Но его продолжительная встреча с ними во мне в этот туманный день создала между ними некоторое сродство, так что каждый раз, когда (немного) от него отвыкнув, я вновь слышу центральное отопление, оно мне приводит на память картины Донсьера.
Дома была одна только Франсуаза. Серый день, падавший как мелкий дождь, безостановочно ткал прозрачные сетки, которые как будто серебрили разряженных по-воскресному гуляющих. Я отшвырнул к ногам «Фигаро», за которым добросовестно посылал каждый день, после того как мной была отправлена туда статья, так и не напечатанная; несмотря на отсутствие солнца, яркий свет мне показывал, что до вечера еще далеко. Тюлевые занавески на окнах, воздушные и рыхлые, какими они не бывают в солнечную погоду, представляли ту смесь деликатности и хрупкости, которая свойственна крыльям стрекоз и венецианскому стеклу. Меня тем более тяготило одиночество в это воскресенье, что утром я отправил письмо мадмуазель де Стермариа. Робер де Сен-Лу, который, по настоянию матери, после долгих ее безуспешных попыток, порвал наконец со своей любовницей и после этого был отослан в Марокко, чтобы позабыть ту, кого он с некоторых пор уже не любил, — Сен-Лу написал мне полученное накануне письмо, в котором сообщал о скором своем приезде во Францию на очень короткий срок. Так как он должен был уехать чуть ли не на другой день по приезде в Париж (вероятно, семья его опасалась возобновления связи с Рахилью), то он меня уведомлял, желая показать, что подумал обо мне, о своей встрече в Танжере с мадмуазель или, вернее, мадам де Стермариа, так как она развелась после трехмесячного замужества. Робер, вспомнив то, что я ему говорил в Бальбеке, попросил для меня свидания у молодой женщины. Она охотно бы пообедала со мной, ответила она ему, в один из дней, которые, перед возвращением в Бретань, собиралась провести в Париже. Он советовал мне написать поскорее г-же де Стермариа, ибо она наверное уже приехала. Письмо Сен-Лу меня не удивило, хотя я не получал от него известий с тех пор, как во время болезни бабушки он меня обвинил в вероломстве и предательстве. Я очень хорошо понял тогда, что произошло. Рахиль, любившая возбуждать ревность, — у нее были также и другие поводы сердиться на меня, — убедила своего любовника, что я делал исподтишка попытки завязать во время отсутствия Робера отношения с нею. Вероятно, он продолжал бы думать, что это правда, если бы не разлюбил ее, так что, правду ли она говорила, или нет, это стало для него теперь совершенно безразлично, одна только наша дружба продолжала существовать. Когда однажды, увидевшись с ним, я попробовал было заговорить об его упреках, он ответил только доброй и нежной улыбкой, которая была с его стороны как бы извинением, после чего переменил тему разговора. Отсюда не вытекает, что впоследствии он не встречался иногда в Париже с Рахилью. Редко бывает, чтобы существа, игравшие большую роль в нашей жизни, выпадали из нее вдруг и окончательно. По временам они к нам возвращаются (так что иные даже думают о возобновлении любви), прежде чем покинуть нас навсегда. Разрыв Сен-Лу с Рахилью очень скоро стал для него менее мучительным благодаря приятному успокоению, которое ему приносили непрестанные денежные просьбы его подруги. Ревность, продолжающая любовь, не может быть намного содержательнее, чем другие формы воображения. Если мы уносим, отправляясь в путешествие, три или четыре образа, которые, впрочем, будут потеряны в дороге (лилии и анемоны Понте-Веккио, персидскую церковь в туманах и т. п.), чемодан наш уже достаточно полон. Когда мы покидаем любовницу, нам бы очень хотелось, прежде чем мы ее немного забудем, чтобы она не попала на содержание к трем или четырем мужчинам, которых мы себе представляем, то есть к которым мы ее ревнуем; те, кого мы себе не представляем, не имеют никакого значения. А частые просьбы денег со стороны покинутой любовницы дают нам столь же неполное представление об ее жизни, как кривая поднявшейся температуры давала бы об ее болезни. Но эта кривая все же служила бы свидетельством, что она больна, а просьбы о деньгах внушают догадку, правда, довольно неопределенную, что покинутая или покинувшая вряд ли нашла богатого покровителя. Вот почему каждая ее просьба встречается с радостью, порождаемой успокоением страдания ревнивца, и за ней сейчас же следует посылка денег, ибо мы хотим, чтобы бывшая наша любовница ни в чем не терпела недостатка, за исключением любовников (одного из трех любовников, которых мы себе представляем), пока мы немного не оправимся и не будем в состоянии спокойно узнать имя нашего преемника. Иногда Рахиль приходила довольно поздно вечером и просила у своего бывшего любовника позволения поспать рядом с ним до утра. Это было большой отрадой для Робера, ибо он отдавал себе отчет, в какой все же интимной близости жили они вместе, — стоило ему, например, заметить, что, даже завладев один большей частью кровати, он нисколько не мешал ей спокойно спать. Он понимал, что ей возле его тела гораздо удобнее, чем с другими мужчинами, что она чувствует себя рядом с ним — хотя бы даже в гостинице — точно в давно знакомой комнате, к которой мы привыкли, в которой спится лучше. Он сознавал, что его плечи, его ноги были для нее, даже когда он слишком ворочался благодаря бессоннице или мыслям о предстоящей работе, вещами настолько привычными, что они не могли ее стеснять, — вещами, восприятие которых лишь увеличивает чувство покоя.
Но возвращаюсь к прерванному рассказу. Я был тем более взволнован письмом Робера, что читал в нем между строк вещи, которые он не решался написать более определенно. «Ты вполне можешь пригласить ее в отдельный кабинет, — говорил он мне. — Это очаровательная молодая женщина, у ней прелестный характер, вы великолепно столкуетесь, и я наперед уверен, что ты прекрасно проведешь вечер». Так как мои родные возвращались в конце недели, в субботу или в воскресенье, а по их возвращении мне пришлось бы обедать каждый день дома, то я сейчас же написал г-же де Стермариа, предлагая ей на выбор любой день до пятницы. Мне ответили, что я получу письмо сегодня же, около восьми часов вечера. Мне было бы нетрудно подождать, если бы в остававшееся время ко мне кто-нибудь зашел. Когда часы окутываются разговорами, их уже невозможно измерять, даже видеть, они улетучиваются, и вдруг, где-то вдали от секунды, когда оно от вас ускользнуло, вновь появляется перед вашим вниманием проворное, незаметно скоротанное время. Но когда мы одни, наше беспокойство, ставя перед нами еще далекое и непрестанно ожидаемое мгновение, с частотой и однообразием какого-нибудь тиканья, делит или, вернее, умножает часы всеми теми минутами, которых в обществе приятелей мы бы не считали. Вот почему, сопоставляемые, благодаря непрестанно возвращавшемуся желанию, с жгучим удовольствием, которым я буду наслаждаться с г-жой де Стермариа в течение, увы, только нескольких дней, эти послеполуденные часы, которые мне предстояло провести в одиночестве, казались мне совершенно пустыми и грустными.
По временам до меня доносился шум поднимавшегося лифта, но за ним следовал другой шум, не тот, на который я надеялся, не шум остановки у моего этажа, а совсем на него непохожий, который лифт производил, продолжая свой восходящий путь к верхним этажам; шум этот так часто означал, что мой этаж обойден, когда я ожидал гостя, что он остался для меня впоследствии, даже когда я не желал никаких гостей, шумом мучительным, в котором звучал как бы приговор, обрекавший меня на одиночество. Усталый, покорный, обреченный еще несколько часов тянуть постылую лямку, серый день по-прежнему прял перламутровые нити, и я печалился при мысли, что мне предстоит остаться с глазу на глаз с ним, между тем как ему не было до меня дела, как вязальщице, которая, поместившись возле окна, чтобы светлее было работать, не обращает никакого внимания на человека, находящегося в комнате. Вдруг — я даже не слышал звонка — Франсуаза отворила дверь и впустила Альбертину, которая вошла улыбающаяся, молчаливая, пополневшая, держа наготове в цветущем своем теле, чтобы я перенесся в них, приводя ко мне дни, прожитые в Бальбеке, куда я так и не съездил вновь. Несомненно каждая новая встреча с женщиной, отношения с которой — хотя бы даже самые незначительные — у нас изменились, есть как бы сопоставление двух эпох. Для этого нет надобности, чтобы бывшая любовница навестила нас по-приятельски, а достаточно приезда в Париж особы, которая вела когда-то на наших глазах определенный образ жизни и теперь его изменила, хотя бы всего неделю назад. На каждой смеющейся, вопросительной и смущенной черте лица Альбертины я мог прочитать: «Как г-жа де Вильпаризи? Как учитель танцев? Как кондитер?» Когда она села, спина ее как будто говорила: «Увы, здесь нет утесов, но вы позволите, чтобы я все же присела возле вас, как в Бальбеке?» Она казалась волшебницей, подносившей мне зеркало времени. В этом она похожа была на всех людей, которых мы редко встречаем, но с которыми жили когда-то в большей близости. Однако у Альбертины было не только это. Правда, даже при наших ежедневных встречах в Бальбеке я всегда удивлялся, замечая ее, — настолько была она изменчива. Но теперь ее едва можно было узнать. Отрешенные от розового пара, которым они были окутаны, черты ее обострились, как у статуи. У нее было другое лицо, или, вернее, у нее наконец было лицо; тело ее выросло. Почти ничего уже не оставалось от покрова, в который она была закутана и на поверхности которого будущая ее форма едва обозначалась в Бальбеке.
Альбертина в этот раз возвращалась в Париж раньше, чем обыкновенно. Обыкновенно она приезжала только весной, так что, возбужденный уже в течение нескольких дней грозами над первыми цветами, я не отделял в получаемом мной удовольствии возвращения Альбертины от возвращения теплого времени года. Мне достаточно было узнать, что она в Париже и заходила ко мне, и она вновь представлялась мне розой на берегу моря. Не знаю хорошенько, желание ли Бальбека овладевало мной тогда, или желание Альбертины, — быть может желание Альбертины само было ленивой, вялой и неполной формой обладания Бальбеком, как будто материальное обладание вещью, поселение в городе, равнозначно духовному обладанию ею. Впрочем, даже материально, когда Альбертина не маячила больше по прихоти моего воображения на фоне морского горизонта, но неподвижно сидела возле меня, она часто казалась мне довольно убогой розой, перед которой я бы очень хотел закрыть глаза, чтобы не видеть изъянов на ее лепестках и чтобы думать, что я дышу морским воздухом.
Я могу это сказать уже здесь, хотя я не знал тогда того, чему предстояло случиться лишь впоследствии. Конечно, разумнее жертвовать жизнью ради женщин, чем ради почтовых марок, старых табакерок или даже картин и статуй. Однако примеры других коллекций должны бы научить нас, что хорошо разнообразие, хорошо иметь не одну женщину, а многих. Прелестные сочетания, образуемые молодой девушкой с морским берегом, с заплетенными косами церковной статуи, с гравюрой, со всем тем, вследствие чего мы любим в девушке, каждый раз как она появляется, очаровательную картину, — эти сочетания не очень устойчивы. Поживите подольше с женщиной и вы перестанете видеть в ней то, что внушило вам любовь к ней; правда, разъединенные элементы могут быть вновь соединены ревностью. Если после продолжительной совместной жизни я в конце концов стал видеть в Альбертине только обыкновенную женщину, то какой-нибудь ее интриги с человеком, которого она, может быть, любила в Бальбеке, было бы достаточно, чтобы вновь в ней воплотить и сплавить с нею морской берег и бушевание волн. Однако вторичные эти сочетания, не восхищая более наших глаз, болезненно и пагубно отзываются в нашем сердце. Нельзя считать желательным возобновление чуда в столь опасной форме. Но я слишком забегаю вперед. Теперь же я должен только пожалеть, что не проявил достаточно благоразумия и не обзавелся попросту коллекцией женщин, как обзаводятся коллекцией старинных зрительных трубок, которая никогда не кажется настолько богатой, чтобы в шкапу со стеклянными стенками не нашлось места для новой, более редкой трубки.
Вопреки обычному порядку своего летнего времяпрепровождения, Альбертина в этом году приехала прямо из Бальбека и вдобавок пробыла там гораздо меньше времени, чем обыкновенно. Я давно ее не видел. А так как я не знал, даже по имени, людей, у которых она бывала в Париже, то мне ничего не было известно о ней в периоды, когда она ко мне не заходила. Часто они бывали продолжительными. Затем, в один прекрасный день, внезапно показывалась Альбертина, розовые появления и молчаливые визиты которой мало меня осведомляли о том, что она могла делать в промежутках между ними, остававшихся погруженными во мрак, который глаза мои не очень стремились разглядеть.
В этот раз, однако, некоторые признаки как будто указывали, что в жизни ее случилось нечто новое. Впрочем, из них, может быть, следовало заключить только то, что в возрасте Альбертины женщины очень быстро меняются. Например, она значительно поумнела, и когда я заговорил о том, как она однажды с таким жаром настаивала на обращении: «Мой дорогой Расин», которым Софокл должен был начать свое письмо к автору «Гофолии», Альбертина первая от души рассмеялась. «Конечно, права была Андре, а я была дура, — сказала она, — Софоклу следовало написать: «Сударь». — Я ответил, что «сударь» и «милостивый государь» Андре были не менее комичны, чем «мой дорогой Расин» Альбертины или «дорогой друг» Жизели, но что глупее их всех, конечно, профессора, до сих пор заставляющие Софокла обращаться с письмом к Расину. Тут Альбертина перестала меня слушать. Она не понимала нелепости подобных тем для сочинений; ум ее приоткрылся, но еще не развернулся. В ней были новшества более привлекательные; я чувствовал в этой хорошенькой девушке, которая села у моей кровати, что-то отличное от ее прежнего облика; во взгляде и в чертах лица, выражающих своими линиями привычную волю, совершилось какое-то изменение, какое-то полуобращение, как если бы исчез в них отпор, о который я разбился в Бальбеке в тот давнишний уже вечер, когда мы составляли такую же парочку, как и теперь, только были размещены в обратном порядке: она лежала, а я сидел возле ее кровати. Желая и не решаясь удостовериться, позволит ли она теперь поцеловать себя, я каждый раз, как она вставала и собиралась уходить, просил ее посидеть еще немного. Добиться этого было не так легко, ибо хотя ей было нечего делать (иначе она давно бы уже удрала), она была особа пунктуальная, и притом не очень со мной церемонившаяся: общество мое по-видимому не доставляло ей большого удовольствия. Однако каждый раз, взглянув на часы, она вновь садилась по моей просьбе и таким образом провела со мной несколько часов, а я все еще ничего у нее не попросил; фразы, которые я ей говорил, связывались с тем, что я ей сказал в течение предшествующих часов, и не имели никакого отношения к тому, о чем я думал, чего я желал, ни в одной точке с ним не соприкасались. Ничто в такой степени, как желание, не препятствует тому, чтобы высказываемые нами вещи имели сходство с нашими мыслями. Время не терпит, и все же кажется, что мы желаем выиграть время, говоря о вещах совершенно чуждых тому, что нас занимает. Мы разговариваем, между тем как фраза, которую нам хотелось бы произнести, уже сопровождалась бы телодвижением, — даже если предположить, что для получения более живого удовольствия и утоления нашего любопытства по отношению к реакциям, которые это телодвижение вызовет, если мы не скажем ни слова и не попросим позволения, мы бы его не сделали. Конечно, я ни капельки не любил Альбертину: дочь стоявшего на дворе тумана, она могла удовлетворить лишь фантастическое желание, возбужденное во мне изменившейся погодой и являвшееся чем-то средним между желаниями, которые могут быть отчасти утолены кулинарным искусством, и желаниями монументальной скульптуры, ибо под влиянием этой погоды я мечтал сразу и о смешении моей плоти с отличной от нее теплой материей и о том, чтобы прикрепиться какой-нибудь точкой моего вытянутого тела к расходящемуся с ним телу, вроде того как тело Евы едва держалось ногами на бедре Адама, по отношению к которому она стоит почти перпендикулярно на тех романских барельефах бальбекского собора, что столь благородно и безмятежно, почти как на античном фризе, изображают сотворение женщины; Бог там везде сопровождается, точно священнослужителями, двумя ангелочками, в которых можно узнать — вроде тех крылатых и кружащихся летних созданий, которые были захвачены врасплох и пощажены зимою, — амуров Геркуланума, еще не погибших в XIII веке и совершающих по всему фасаду паперти последний свой полет, усталый, но не лишенный грации, которой можно от них ожидать.
Что же касается удовольствия, которое, утолив мое желание, избавило бы меня от этих навязчивых мыслей и которое я столь же охотно искал бы с любой хорошенькой женщиной, то если бы меня спросили, на чем — в течение этой нескончаемой болтовни, когда я скрывал от Альбертины единственную вещь, о которой думал, — основывалась моя оптимистическая гипотеза насчет уступчивости моей гостьи, я, пожалуй, ответил бы, что гипотеза эта была мне внушена (между тем как забытые нотки голоса Альбертины восстанавливали мне очертания ее личности) появлением некоторых слов, не входивших раньше в ее словарь, по крайней мере в том значении, которое она им придавала теперь. Когда она мне сказала, что Эльстир дурак, и я запротестовал:
— Вы меня не понимаете, — отвечала она с улыбкой, — я хочу сказать, что при тех обстоятельствах он был дураком, но я прекрасно знаю, что это человек в полном смысле выдающийся.
Равным образом, желая сказать о гольфе в Фонтенебло, что общество там было элегантное, она заявила:
— Это в полном смысле отбор.
По поводу одной дуэли, на которой я дрался, она сказала про моих секундантов: «Изысканные люди», а взглянув на мое лицо, призналась, что ей бы больше нравилось, если бы я «носил усы». Она дошла даже — и шансы мои показались мне тогда сильно возросшими — до употребления термина, который, я бы поклялся, был ей неизвестен в прошлом году, — сказала, что она не видела Жизели уже в течение порядочного «отрезка времени». Отсюда не следует, что Альбертина не обладала уже во время моего пребывания в Бальбеке весьма приличным запасом выражений, сразу же выдававших ее принадлежность к имеющей хорошие средства семье, запасом, который из года в год маменька предоставляет подрастающей дочке, вроде того как в торжественных случаях она дает ей собственные драгоценности. Чувствовалось, что Альбертина перестала быть ребенком, когда однажды, благодаря незнакомую даму, сделавшую ей подарок, она сказала: «Я сконфужена». Г-жа Бонтан невольно взглянула на мужа, который произнес:
— Ого, да ей уже минуло четырнадцать!
Возмужалость Альбертины появилась еще отчетливее, когда, заговорив об одной молодой девушке, у которой были дурные манеры, она сказала: «Нельзя даже разобрать, хорошенькая ли она, такую гору румян положила она на лицо». Наконец, будучи совсем молоденькой девушкой, она уже усвоила манеры женщин своего круга и общественного положения, говоря про кривляющихся людей: «Не могу их видеть, потому что и мне тогда хочется гримасничать», — или же когда общество развлекалось имитированием: «Всего забавнее, когда вы ее передразниваете, это то, что вы делаетесь на нее похожей». Все это заимствовано из общественной сокровищницы. Но как раз среда Альбертины, по моим представлениям, не могла дать ей слово «выдающийся» в том смысле, в каком отец мой говорил о каком-нибудь своем коллеге, с которым он еще не познакомился и которого ему превозносили за большой ум: «Кажется, это человек в полном смысле выдающийся». «Отбор», даже в применении к гольфу, показался мне столь же несовместимым с семейством Симоне, как сочетание этого слова с прилагательным «естественный» было бы невозможно в книгах, напечатанных за несколько веков до появления работ Дарвина. «Отрезок времени» я принял за еще лучшее предзнаменование. Наконец, неизвестные мне потрясения в жизни Альбертины, способные укрепить самые пылкие мои надежды, стали для меня вполне очевидными, когда моя гостья сказала с самодовольством особы, к мнениям которой прислушиваются:
— С моей точки зрения, это лучшее, что могло случиться… Я полагаю, что это наилучшее решение, самое изящное решение.
Это было таким новшеством, таким явно наносным слоем, позволявшим предполагать самые капризные извилины по неведомым когда-то пластам Альбертины, что при словах «с моей точки зрения» я привлек ее, а при словах «я полагаю» усадил к себе на кровать.
Конечно, случается, что малокультурные женщины, выходя замуж за человека очень образованного, получают в приданое подобные выражения. Вскоре после метаморфозы, наступающей вслед за брачной ночью, когда они делают визиты и ведут себя сдержанно с прежними приятельницами, все с удивлением замечают, что они стали женщинами, если, объявляя какую-нибудь особу интеллигентной, они ставят два «л» в слове интеллигентный; но это и есть свидетельство случившейся с ними перемены, и мне казалось, что такая перемена произошла со словарем Альбертины, которую я знал, — словарем, где наибольшими вольностями было сказать о какой-нибудь чудаковатой особе: «Это — тип», или если Альбертине предлагали принять участие в азартной игре: «У меня нет таких денег, чтобы терять», или если какая-нибудь из ее приятельниц делала ей упрек, который она находила несправедливым: «Ты, право, великолепна!» — фразы, которые бывают продиктованы в таких случаях своего рода буржуазной традицией, почти столь же древней, как церковные песнопения; немного разгневанная и уверенная в своей правоте молодая девушка употребляет их, как говорится, «вполне естественно», то есть потому что она научилась им от матери, так же как молитвам и поклонам. Всем этим фразам г-жа Бонтан научила Альбертину одновременно с ненавистью к евреям и почтением к черному цвету, который всегда уместен и всегда приличен, — научила без помощи методического преподавания, а так же, как щеглы обучают щебетанью только что вылупившихся щеглят, которые, переняв их ухватки, сами становятся настоящими щеглами. Несмотря на все это, «отбор» показался мне словом чужеродным, а «я полагаю» — поощряющим. Альбертина не была прежней, — так может быть она будет действовать, отвечать не так, как прежде.
Я не только не чувствовал больше любви к ней, но даже не опасался, как в Бальбеке, убить в ней дружеские чувства ко мне, которых больше не существовало. Без всякого сомнения она давно уже стала ко мне совершенно равнодушной. Мне было ясно, что я для нее уже не составляю части «маленькой ватаги», в которую я когда-то так стремился быть принятым, а потом так радовался, когда мечта моя осуществилась. Далее, у Альбертины не видно было теперь, как в Бальбеке, чистосердечия и доброты, так что я не испытывал особенных тревог совести; однако я думаю, что обстоятельством, заставившим меня решиться, было мое последнее филологическое открытие. Продолжая прибавлять новые звенья к цепи поверхностных фраз, под которыми я прятал задушевное мое желание, я говорил Альбертине, которая сидела теперь в уголку моей кровати, об одной из второстепенных участниц маленькой ватаги, которую я все же находил довольно хорошенькой. «Да, — отвечала Альбертина, — у ней вид маленькой мусме». Без всякого сомнения слово «мусме» не было известно Альбертине, когда я с ней познакомился. Если бы вещи шли нормальным чередом, то она вероятно никогда бы его не узнала, и я бы не видел в этом ничего плохого, потому что нахожу слово «мусме» чрезвычайно противным. При звуках его чувствуешь зубную боль, точно положил в рот слишком большой кусок мороженого. Но в устах хорошенькой Альбертины даже «мусме» не могло мне быть неприятным. Зато оно показалось мне разоблачающим если не внешнее посвящение в некоторые тайны, то по крайней мере некоторую внутреннюю эволюцию. К несчастью, был час, когда мне бы следовало уже проститься с моей гостьей, если я хотел, чтобы она не опоздала к своему обеду и я успел встать и одеться к моему. Обед мне готовила Франсуаза, а она не любила, когда ее заставляли ждать, и наверное считала нарушением одной из статей своего кодекса уже то, что Альбертина в отсутствие моих родных так засиделась у меня в гостях и все из-за нее запаздывало. Но перед «мусме» все эти соображения рухнули, и я поспешно проговорил:
— Представьте, я совсем не боюсь щекотки, вы можете щекотать меня целый час, а я даже не почувствую.
— Правда?
— Уверяю вас.
Альбертина должно быть поняла, что это было неумелым выражением желания, ибо — подобно человеку, предлагающему вам рекомендацию, которой вы не решались у него попросить, но которая, как показали ему ваши слова, может оказаться вам полезной, — проговорила с женской покорностью:
— Хотите, я попробую?
— Если вам угодно, но в таком случае вам было бы удобнее прилечь рядом со мной.
— Вот так?
— Нет, заройтесь глубже.
— А я не очень тяжелая?
Когда она кончала эту фразу, дверь отворилась, и вошла Франсуаза, неся лампу. Альбертина едва успела снова сесть на стул. Может быть Франсуаза подслушивала у двери или даже подглядывала в замочную скважину и выбрала это мгновение, чтобы нас смутить. Но мне незачем было делать подобное предположение, она могла и не удостоверяться при помощи глаз в том, что достаточно отчетливо учуяла инстинктом, ибо благодаря долгой жизни со мной и с моими родными боязнь, благоразумие, внимание и хитрость в конце концов выработали в ней то инстинктивное и почти пророческое знание о нас, какое есть у матроса о море, у дичи об охотнике и если не у врача, то во всяком случае часто у больного — о болезни. Познания, до которых она доходила, могли бы с таким же правом ошеломить, как и высокий уровень некоторых наук у древних при тех скудных средствах осведомления, которыми они располагали. (Средства осведомления Франсуазы были столь же скудны. Ими служили некоторые фразы, составлявшие едва двадцатую часть нашего разговора за столом, — фразы, подобранные налету метрдотелем и неточно переданные в буфетной.) При этом ее ошибки, как и ошибки древних, как басни, которым верил Платон, объяснялись скорее ложным представлением о мире и предвзятыми идеями, чем недостаточностью материальных источников. По этим же причинам еще в наши дни величайшие открытия в области нравов насекомых могли быть сделаны ученым, не располагавшим ни лабораторией ни приборами. Но если неудобства, связанные с ее положением прислуги, не помешали Франсуазе приобрести знания, необходимые для искусства, которое было их целью — и заключалось в том, чтобы нас смущать путем сообщения нам их результатов, — то стеснение дало еще более богатые результаты; препоны тут не только не парализовали ее размаха, но могущественно ему содействовали. Разумеется, Франсуаза не пренебрегала никакими вспомогательными средствами, например, дикцией и жестами. Насколько она допускала без тени сомнения (хотя никогда не верила тому, что говорили ей мы и чему нам хотелось бы заставить ее поверить) величайшие нелепости, которые ей рассказывались людьми ее положения и которые были в тоже время для нас неприятны, настолько ее манера выслушивать наши утверждения свидетельствовала о ее недоверчивости, настолько тон, которым она передавала (ибо косвенная речь позволяла ей безнаказанно наносить нам тягчайшие оскорбления) рассказ какой-нибудь кухарки о том, как та, путем угроз своим господам и называя их публично «мерзавцами», добилась от них тысячи льгот, показывал, что рассказ этот был для нее словами Евангелия. Франсуаза прибавляла даже: «Если бы я была ее хозяйкой, я бы почувствовала себя обиженной». Напрасно мы, при всей нашей антипатии к даме из четвертого этажа, пожимали плечами, слушая этот неправдоподобный рассказ, подававший столь дурной пример, — рассказчица умела преподнести его нам в резком и решительном тоне совершенно бесспорного и крайне раздражающего утверждения.
А главное, подобно тому как писатели часто достигают могучей лапидарности, от которой их бы избавил режим политической свободы или литературной анархии, когда они крепко связаны тиранией монарха или поэтики, суровыми правилами просодии или государственной религией, Франсуаза, не смевшая отвечать нам ясно и определенно, говорила как Тиресий и писала бы как Тацит. Все, что она не могла выразить прямо, она умела заключить в какую-нибудь фразу, которой мы не могли поставить ей в вину, не выдав себя, даже не в фразу, а в молчание, в манеру класть ту или иную вещь.
Так, когда мне случалось по оплошности оставить на столе среди других писем письмо, которое ей не надо было видеть, так как там, например, говорилось о ней с недоброжелательством, предполагавшим такое же недоброжелательство и в получателе, то вечером, когда я возвращался встревоженный и шел прямо в свою комнату к письмам, аккуратно сложенным в безукоризненную стопочку, мне прежде всего бросался в глаза компрометирующий документ, как он не мог не броситься в глаза Франсуазе: ее стараниями он торчал на самом верху, почти отдельно, всем своим видом он красноречиво говорил о себе и уже на пороге заставлял меня вздрогнуть, как внезапно раздавшийся крик. Франсуаза в совершенстве умела устраивать эти инсценировки, которые так хорошо осведомляли обо всем зрителя в ее отсутствие, что при появлении самой Франсуазы он знал уже, что ей все известно. Чтобы заставить говорить таким образом неодушевленный предмет, она владела гениальным и в то же время требующим терпения искусством Ирвинга и Фредерика Леметра. В настоящую минуту, держа над Альбертиной и надо мной зажженную лампу, которая не оставляла неосвещенным ни одного углубления, сделанного на одеяле телом молодой девушки, Франсуаза похожа была на «Правосудие, проливающее свет на Преступление». Лицо Альбертины не проигрывало от освещения. Свет лампы обнаруживал на ее щеках пронизанный солнцем глянец, который так пленил меня в Бальбеке. Лицо Альбертины, иногда становившееся на открытом воздухе мертвенно бледным, показывало, напротив, по мере того как их освещала лампа, поверхности столь ярко и столь равномерно окрашенные, столь плотные и столь гладкие, что их можно было бы сравнить с насыщенными алыми тонами некоторых цветов. Удивленный, однако, неожиданным появлением Франсуазы, я воскликнул:
— Как, уже лампа! Боже мой, какой яркий свет!
Второй фразой я очевидно хотел замаскировать мое смущение, а первой — извинить опоздание. Франсуаза отвечала жестокой двусмысленностью:
— Прикажете затушить?
— Задушить? — шепнула мне на ухо Альбертина, пленив непринужденной живостью, с которой она высказала это психологическое замечание вопросительным тоном грамматического недоумения, обращаясь ко мне одновременно как к хозяину и как к сообщнику.
Когда Франсуаза вышла из комнаты и Альбертина снова подсела ко мне на кровать, я сказал:
— Вы знаете, я боюсь, что если мы будем так продолжать, то я не удержусь и поцелую вас.
— Ах, какое ужасное несчастье!
Я не тотчас повиновался этому приглашению, другой счел бы его, пожалуй, даже излишним, ибо у Альбертины было такое чувственное и ласковое произношение, что, даже только разговаривая с вами, она как будто вас целовала. Отдельные ее слова были уже знаками благосклонности, а разговор покрывал вас поцелуями. И все же мне было очень приятно это приглашение. Оно было бы мне приятно, даже если бы исходило от другой хорошенькой девушки ее возраста; но то, что Альбертина была теперь так покладиста, доставляло мне больше чем удовольствие: я сравнивал ряд образов, блистающих красотой. Прежде всего я вспоминал Альбертину на пляже почти как картину на фоне моря, обладавшую для меня не более реальным существованием, чем те появляющиеся на сцене фигуры, относительно которых вы не можете решить, актриса ли перед вами, обозначенная в программе, статистка ли, дублирующая ее в этот момент, или же просто проекция волшебного фонаря. Потом от светового пучка отделилась настоящая женщина, она пришла ко мне, но единственно для того, чтобы я мог обнаружить, что в реальном мире она вовсе не так покладиста в любви, как можно было предположить, глядя на ее фигуру с световом отражении. Я узнал, что ее нельзя трогать и целовать, а можно только разговаривать с ней, что для меня она в такой же степени не является женщиной, как нефритовые гроздья, несъедобное украшение столов в старину, не являются гроздьями винограда. И вот она показывалась мне теперь в третьем плане, реальная, как при втором моем соприкосновении с нею, но покладистая, как при первом; мне это было тем более отрадно, что я долго считал ее недоступной. Обогащенное знание ее жизни (жизни менее однообразной, менее простой, чем я думал сначала) приводило меня к агностицизму. В самом деле, какие утверждения мы вправе высказать, если то, что мы сначала считали вероятным, впоследствии оказалось ложным, а при третьем подходе оказывается истинным? При этом, увы, я еще далеко не довел до конца моих открытий относительно Альбертины. Во всяком случае, даже если бы это богатство планов, открываемых жизнью один вслед за другим, не содержало никакой романической привлекательности (привлекательности обратной той, которой наслаждался Сен-Лу во время обедов в Ривбеле, находя среди масок, наложенных жизнью на чьем-нибудь спокойном лице, черты, к которым когда-то прикасались его губы), все же знание, что поцеловать Альбертину в щеки — вещь возможная, доставляло, пожалуй, еще больше удовольствия, чем самый поцелуй. Какая разница между обладанием женщиной, к которой прикасается одно только наше тело, потому что она не более чем кусок мяса, и обладанием молодой девушкой, которую в иные дни мы замечали с подругами на берегу моря, не зная даже, почему именно в эти дни, а не в другие, вследствие чего мы так боялись, что не увидим ее снова! Жизнь любезно нас посвятила в длинный роман этой девушки, предоставила нам для наблюдения над ней один, а потом другой оптический инструмент, и сопроводила плотское желание целой гаммой утысячеряющих и разнообразящих его желаний, желаний более духовных и не так легко утоляемых, которые пребывают в оцепенении и предоставляют физическому желанию действовать самостоятельно, когда оно стремится лишь к овладению куском мяса, но, когда речь идет о том, чтобы овладеть целой областью воспоминаний, откуда им так тяжело быть изгнанными, они бурно вздымаются рядом с ним, усиливают его, хотя не могут за ним следовать до минуты утоления, до неосуществимой в той форме, в какой мы о ней мечтали, ассимиляции с нематериальной реальностью, а ждут это желание на полпути, и в миг воспоминания, в миг возвращения, вновь его сопровождают; поцелуй, запечатлеваемый не на щеках первой встречной, пусть даже самых свежих, но анонимных, без тайны, без обаяния, а на щеках, о которых я так давно мечтал, был бы познанием вкуса и аромата краски, так часто привлекавшей мои взоры. Мы видели женщину, простую фигуру на декорации жизни, подобно Альбертине рисовавшуюся на фоне моря, а потом мы получаем возможность отделить этот образ, поставить его возле себя и рассмотреть понемногу его объем, его краски, как если бы мы его поместили за стеклом стереоскопа. Вот почему единственно интересными бывают женщины сколько-нибудь прихотливые, которыми овладеваешь не сразу, о которых сразу даже не знаешь, удастся ли когда-нибудь ими овладеть. Ибо узнать их, подойти к ним, победить их, это значит подвергнуть разнообразным изменениям форму, величину и рельеф человеческой фигуры, это урок относительности в оценке, который хорошо повторить, когда эта фигура вновь приобрела плоскостность силуэта в декорации жизни. Женщины, с которыми мы знакомимся у сводни, неинтересны, потому что они остаются неизменными.
С другой стороны, Альбертина как бы заключала в себе целую серию морских впечатлений, которые мне были особенно дороги. Мне казалось, что на щеках этой девушки я мог бы поцеловать весь бальбекский пляж.
— Если вы действительно позволяете вас поцеловать, то я бы предпочел отложить это напоследок и выбрать для этого подходящую минуту. Только вы, пожалуйста, не забудьте тогда, что вы мне позволили. Мне нужен «чек на поцелуй».
— Вам угодно, чтобы я его подписала?
— Но если я возьму его сейчас, получу я все-таки другой потом?
— Меня смешат ваши чеки, я буду их вам возобновлять время от времени.
— Скажите мне еще одно. Помните, в Бальбеке, когда я еще не был с вами знаком, у вас часто бывал бездушный и лукавый взгляд, — вы не можете мне сказать, о чем вы думали в такие минуты?
— Совершенно не помню.
— Ну, хорошо, я вам помогу: однажды ваша приятельница Жизель прыгнула, держа ноги вместе, поверх стула, на котором сидел какой-то старичок. Постарайтесь припомнить, что вы думали в это мгновение.
— Жизель была девица, с которой мы меньше всего водились, она, если вам угодно, принадлежала к нашей ватаге, но не вполне. Должно быть я подумала, что она очень дурно воспитана и вульгарна.
— И это все?
Мне очень хотелось, перед тем как ее поцеловать, снова наполнить ее тайной, которую она заключала для меня на пляже до моего знакомства с ней, вновь найти в ней страну, в которой она жила раньше; место этой страны, если я ее не знал, я мог по крайней мере заполнить всеми воспоминаниями нашей жизни в Бальбеке, шумом волн, бушевавших под моим окном, детским криком. Но, скользя взглядом по прекрасным розовым полушариям ее щек, мягко изогнутые поверхности которых затухали у первых складок ее красивых черных волос, бежавших неровными цепями, рассыпавшихся круглыми отрогами и мягко ложившихся в глубоких долинах, я не мог не сказать себе: «Наконец-то, потерпев неудачу в Бальбеке, я узнаю вкус неведомой розы, которой являются щеки Альбертины. И так как пути следования вещей и одушевленных существ, которые нам удается пересечь в течение нашей жизни, не очень многочисленны, то, пожалуй, я вправе буду рассматривать мою жизнь как в некотором роде завершенную, когда, заставив выйти из далекой его рамы цветущее лицо, которое я облюбовал, я перемещу его в новый план, в котором наконец познаю его при помощи губ». Я говорил это, так как верил, что существует познание при помощи губ; я говорил себе, что сейчас я познаю вкус этой розы из человеческой плоти, так как мне в голову не приходило, что у человека, существа очевидно не столь элементарного, как морской еж или даже кит, недостает все же некоторых существенно важных органов, в частности нет органа, который служил бы для поцелуя. Этот отсутствующий орган он замещает губами, достигая таким образом результата, может быть, несколько более удовлетворительного, чем в том случае, если бы ему пришлось ласкать свою возлюбленную бивнями. Но наши губы, созданные для того, чтобы вводить в рот вкус веществ, которые их прельщают, наши губы, не понимая своего заблуждения и не сознаваясь в своем разочаровании, лишь скользят по поверхности и натыкаются на ограду непроницаемой и желанной щеки. Впрочем в эту минуту, то есть при соприкосновении с телом, губы, даже если допустить, что они стали более искусными и лучше одаренными, не могли бы конечно насладиться вкусом вещества, которое природа в настоящее время мешает им схватить, ибо в той безотрадной зоне, где они не могут найти себе пищу, они одиноки, зрение, а потом и обоняние давно их покинули. Когда мой рот начал приближаться к щекам, которые глаза мои предложили ему поцеловать, глаза эти, переместившись, увидели новые щеки; шея, рассмотренная вблизи и как бы в лупу, обнаружила зернистое строение и крепость, изменившие весь характер лица Альбертины.
Последние достижения фотографии — снимки, которые сосредоточивают у фундамента собора все дома, представляющиеся нам вблизи почти такими же высокими, как его башня, которые заставляют маневрировать одни и те же здания, точно полк, то шеренгами, то рассыпным строем, то сомкнутыми массами, ставят одну возле другой две колонны пьяцетты, за мгновение перед тем отделенные большим расстоянием, удаляют близлежащую Салюте и ухитряются поместить на бледном и тусклом заднем плане необъятный горизонт под аркой моста, в амбразуре окна, между листьями дерева, расположенного на первом плане и гораздо более яркого по тону, обрамляют последовательно одну и ту же, церковь аркадами всех остальных, — только эти снимки могут, по-моему, сравниться с поцелуем в искусстве извлекать из того, что мы считаем одной вещью определенного вида, сотню других вещей, ничуть ей не уступающих, ибо каждая из них обусловлена не менее законной перспективой. Словом, хотя и в Бальбеке Альбертина часто представлялась мне разной, однако теперь, — как если бы, головокружительно ускорив изменения перспективы и окраски, в которых является нам женщина при различных встречах с нею, я пожелал уложить их все в несколько — секунд, чтобы экспериментально воссоздать феномен разнообразия человеческой индивидуальности и вытащить одну из другой, как из футляра, все возможности, в ней заключенные, — теперь я увидел на коротком пути от моих губ к ее щеке целый десяток Альбертин; девушка эта подобна была богине о нескольких головах, и та, которую я видел последней, при моих попытках приблизиться к ней уступала место другой. Пока я к ней не прикоснулся, я по крайней мере видел эту голову, легкий запах доходил от нее до меня. Но, увы, — ибо наши ноздри и глаза столь же плохо помещены для поцелуя, как губы наши плохо для него созданы, — вдруг глаза мои перестали видеть, в свою очередь приплюснутый к щеке нос не воспринимал больше никакого запаха, и, ничуть не приблизившись к познанию вкуса желанной розы, я понял по этим отвратительным знакам, что, наконец, я целую щеку Альбертины.
Оттого ли, что мы играли опрокинутую (полученную как бы путем вращения геометрического тела) сцену по сравнению со сценой в Бальбеке, то есть я лежал, а она сидела, значит, способна была увернуться от грубого натиска и направлять наслаждение так, как она этого хотела, но только Альбертина с легкостью позволила мне теперь взять то, в чем когда-то так сурово отказала. (Сладострастное выражение, которое принимало теперь ее лицо, когда я приближал к нему губы, отличалось вероятно от ее прежнего сурового вида лишь ничтожнейшим отклонением линий, но таким, в котором может содержаться все расстояние между жестом человека, приканчивающего раненого, и жестом человека, оказывающего ему помощь, между прекрасным и уродливым портретом.) Не зная, следует ли мне быть благодарным за перемену в ее поведении какому-нибудь невольному благодетелю, который в один из последних месяцев поработал для меня в Париже или в Бальбеке, я думал, что главной причиной этой перемены был способ, каким мы теперь разместились. Альбертина, однако, указала мне другую причину, а именно: «Ах, в ту минуту, в Бальбеке, я вас не знала, я могла думать, что у вас дурные намерения». Этот довод меня озадачил. Альбертина привела его мне, по-видимому, искренно. Женщина с большим трудом узнает в движениях своего тела и в ощущениях, исходящих от него во время пребывания наедине с каким-нибудь своим приятелем, неведомый проступок, который внушал ей трепет, когда малознакомый человек пытался заставить ее провиниться в нем.
Во всяком случае, каковы бы ни были изменения, случившиеся с некоторого времени в ее жизни, изменения, которые, может быть, объяснили бы, почему она легко предоставила моему мимолетному и чисто физическому желанию то, в чем с негодованием отказала в Бальбеке моей любви, еще более удивительная перемена произошла с Альбертиной в этот самый вечер сейчас же после того, как ее ласки дали мне удовлетворение, которого она не могла не заметить; я даже боялся, как бы оно не вызвало у нее легкого движения отвращения и оскорбленной стыдливости, которое сделала в такую же минуту Жильберта за группой лавровых деревьев на Елисейских Полях.
Случилось как раз обратное. Уже в то мгновение, когда я уложил ее к себе на постель и начал ласкать, у Альбертины появилось неизвестное мне до сих пор выражение послушной готовности и почти детской простоты. Сняв с нее все заботы, все ее обычные притязания, минута, предшествующая наслаждению, подобная в этом отношении той, что следует за смертью, вернула ее помолодевшим чертам невинность детского возраста. По-видимому каждое существо, дарования которого вдруг нашли применение, становится скромным, старательным и прелестным; и если этими дарованиями оно способно доставить нам большое удовольствие, то оно само бывает счастливо, оно желает доставить нам удовольствие как можно более полное. Однако новое выражение лица Альбертины заключало в себе больше, чем профессиональные бескорыстие, добросовестность и щедрость, в нем внезапно обнаружилось какое-то традиционное самопожертвование: она вернулась не только к собственному детству, но к юности своего народа. Совсем не похожая на меня, ничего не желавшего, кроме физического успокоения, в конце концов полученного, Альбертина по-видимому находила, что с ее стороны было бы грубостью считать, будто это материальное наслаждение не сопровождается никаким моральным чувством и что-то собой заканчивает. Еще недавно так торопившаяся, теперь, думая, вероятно, что поцелуи предполагают любовь и что любовь выше всех других обязанностей, она говорила, когда я ей напомнил об ее обеде:
— Помилуйте, это не имеет никакого значения, времени у меня довольно.
Она как будто стеснялась встать и уйти сразу после того, что она сделала, стеснялась из благопристойности, подобно Франсуазе, которая считала своей обязанностью, даже когда не чувствовала никакой жажды, любезно принять предлагаемый ей Жюпьеном стаканчик вина, и ни за что не решилась бы уйти, сделав последний глоток, какое бы неотложное дело ни призывало ее. Альбертина — и это было, пожалуй, в отношениях с другой женщиной, как читатель увидит в дальнейшем, одним из оснований, бессознательно для меня сделавшим ее желанной, — была воплощением той скромной французской крестьянки, каменное изваяние которой стоит на паперти Сент-Андре-де-Шан. Я узнал в ней также свойственные Франсуазе (которой однако вскоре предстояло сделаться ее смертельным врагом) учтивость к хозяину и к чужому, пристойность, уважение к ложу.
Франсуаза, которая после смерти моей тетки считала возможным говорить не иначе, как жалостливым тоном, нашла бы неприличным, если бы дочь ее, гуляя со своим женихом в месяцы перед свадьбой, не опиралась на его руку. Альбертина, неподвижно лежавшая возле меня, говорила:
— У вас красивые волосы, у вас прекрасные глаза, вы милый. Когда, обратив ее внимание на то, что уже поздно, я прибавлял:
«Вы мне не верите?» — она отвечала:
— Я всегда вам верю, — и, может быть, это была правда, но лишь на период, который начался две минуты тому назад и мог продлиться не более чем несколько часов.
Она завела разговор обо мне, о моей семье, о моей социальной среде. Она сказала: «О, я знаю, что ваши родные знакомы с очень элегантными людьми. Вы приятель Робера Форестье и Сюзанны Делаж». В первую минуту имена эти не сказали мне решительно ничего. Но вдруг я припомнил, что, действительно, играл на Елисейских Полях с Робером Форестье, которого никогда потом не встречал. Что касается Сюзанны Делаж, то это была племянница г-жи Бланде, и я собирался однажды пойти к ее родителям на урок танцев и даже играть у них маленькую роль в одной салонной комедии. Но я не пошел, потому что боялся расхохотаться, боялся, что у меня пойдет носом кровь, и мне так никогда и не случилось ее увидеть. Самое большее, я как будто когда-то слышал, что гувернантка Сванов с пером на шляпе бывала у ее родителей, но, может быть, не гувернантка, а ее сестра или приятельница. Я возразил Альбертине, что Робер Форестье и Сюзанна Делаж занимали мало места в моей жизни. «Возможно. Ваши матери в дружбе, это позволяет сделать вывод о вас. Я часто встречаюсь с Сюзанной Делаж на авеню де Мессин, у ней есть шик». Наши матери были знакомы лишь в воображении г-жи Бонтан, которая, узнав, что я играл когда-то с Робером Форестье и, кажется, декламировал ему стихи, заключила отсюда, что мы дружим между собой благодаря давнишней связи наших семей. Услышав имя мамы, она, как мне передавали, неизменно замечала: «Ах, да, это общество Делажей, Форестье и т. д.», отводя родным моим место, которого они не заслуживали.
Впрочем, социальные представления Альбертины были до крайности вздорными. Она считала, что Симонне с двумя «н» ниже не только Симоне с одним «н», но и всех вообще порядочных людей. Если кто-нибудь носит вашу фамилию, не будучи вашим родственником, он этим дает вам полное основание его презирать. Правда, бывают исключения. Может случиться, что два Симонне (представленные друг другу на одном из тех собраний, когда испытываешь потребность говорить все равно о чем и при этом бываешь настроен оптимистически, например, на похоронной процессии, направляющейся на кладбище), обнаружив, что фамилии у них одинаковые, выясняют с взаимной благожелательностью, но безрезультатно, не родственники ли они. Но это только исключение. Много есть подозрительных людей, но мы этого не знаем или нас это не интересует. Но если нам вручают письма, адресованные нашим однофамильцам, или наоборот, мы начинаем относиться с недоверием, часто вполне основательным, к их добропорядочности. Мы боимся путаницы, у нас появляется гримаса отвращения, когда кто-нибудь заговаривает о них. Читая в газете нашу фамилию, носимую ими, мы их считаем узурпаторами. Грехи других членов социального тела нам безразличны. Мы ставим их в вину преимущественно нашим однофамильцам. Ненависть, которую мы питаем к другим Симонне, тем более ожесточенна, что она не индивидуальна, а передается по наследству. На склоне лет мы вспоминаем лишь оскорбительную гримасу наших дедов по адресу других Симонне; причина ее нам неизвестна; мы бы не удивились, если бы узнали, что начало вражде было положено убийством. И часто так продолжается до дня, когда некая Симонне и некий Симонне, не находящиеся ни в каком родстве, кладут этому конец, сочетаясь браком.
Альбертина не только заговорила со мной о Робере Форестье и Сюзанне Делаж, но в невольном порыве откровенности, создаваемой физической близостью, — на первых порах по крайней мере, прежде чем близость эта успела породить особого рода двуличность и замкнутость по отношению к тому же лицу, — она мне рассказала одну историю о своей семье и дяде Андре, о которой наотрез отказалась проронить хотя бы слово в Бальбеке: она считала, что теперь у нее не должно быть более секретов от меня. Теперь, если бы ее лучшая подруга наговорила ей гадостей про меня, она бы сочла своим долгом все это мне передать. Я настойчиво твердил, что ей пора уходить, и она в заключение послушалась, но была так сконфужена моей неучтивостью, что пыталась в мое оправдание рассмеяться, как хозяйка дома, к которой вы явились в пиджаке и которая вас принимает, но в глуби души вами шокирована.
— Вы смеетесь? — сказал я ей.
— Я не смеюсь, я улыбаюсь, — с нежностью проговорила она. — Когда же я с вами увижусь? — прибавила она, как бы не допуская, чтобы содеянное нами, то, что обычно рассматривается как завершение, не было по крайней мере прелюдией к большой дружбе, дружбе, существовавшей издавна, так что нам надо было только открыть ее и признаться в ней, дружбе, которая одна могла объяснить то, что мы себе позволили.
— Если разрешите, я пошлю за вами, когда у меня будет свободное время.
Я не решился сказать ей, что хочу поставить мое приглашение в зависимость от встречи с г-жой Стермарья.
— Увы, это будет неожиданно, я ничего не знаю наперед, — сказал я. — Можно ли мне послать за вами в тот вечер, когда я буду свободен?
— В скором времени это будет вполне возможно, потому что ко мне будет особый ход, независимый от хода к моей тетке. Но в данную минуту это неосуществимо. На всякий случай я к вам зайду завтра или послезавтра днем. Вы меня примете, только если вам будет удобно.
Дойдя до двери, очень удивленная, что я не собираюсь ее провожать, она протянула мне щеку, находя, что теперь вовсе не требуется грубого физического желания для того, чтобы мы поцеловались. Так как короткие отношения, в которые мы только что вступили, приводят иногда к задушевной близости и полному единению сердец, то Альбертина сочла своим долгом импровизировать и прибавить на мгновение к поцелуям, которыми мы обменялись на постели, чувство, знаком которого они бы являлись для рыцаря и его дамы в представлении какого-нибудь средневекового жонглера.
Когда меня покинула юная пикардиянка, которую мог бы изваять скульптор на паперти церкви Сент-Андре-де-Шан, Франсуаза принесла мне письмо, наполнившее меня радостью, потому что оно было от г-жи де Стермарья, которая принимала мое приглашение вместе пообедать. От г-жи де Стермарья, то есть для меня больше, чем от действительной г-жи де Стермарья, — от той, о ком я думал весь день до прихода Альбертины. Как ужасно обманывает любовь, когда она у нас начинается не с женщиной, принадлежащей внешнему миру, а с куклой, сидящей в нашем мозгу, единственной, впрочем, которая всегда находится в нашем распоряжении, единственной, которой мы будем обладать и которую произвол воспоминания, почти столь же неограниченный, как произвол воображения, способен сделать настолько же отличной от реальной женщины, как был отличен для меня Бальбек моих грез от действительного Бальбека; искусственное создание, на которое мало-помалу мы заставим походить, себе же на муку, реальную женщину.
Альбертина так меня задержала, что комедия уже кончилась, когда я пришел к г-же де Вильпаризи; не чувствуя особенного желания двигаться навстречу волне расходившихся гостей, которые обсуждали большую новость — разрыв между герцогом и герцогиней Германтскими, будто бы уже совершившийся, я, в ожидании, когда можно будет поздороваться с хозяйкой дома, занял пустой диванчик во втором салоне, и в эту минуту из первого, где она, вероятно, сидела впереди всех, появилась герцогиня, величественная, широкая и высокая, в длинном желтом атласном платье, к которому были приколоты огромные черные маки. Как-то раз, положив мне руки на лоб (это была у нее привычка, когда она боялась причинить мне огорчение) и сказав: «Прекрати твои выходы навстречу герцогине Германтской, на тебя все в нашем доме показывают пальцем. Притом же, ты видишь, тяжело больна твоя бабушка, у тебя есть более серьезные дела, чем торчать на дороге женщины, которая насмехается над тобой», — одним ударом, как гипнотизер, который возвращает вас из далекой страны, куда вас унесло ваше воображение, и открывает вам глаза, или как врач, который, призвав вас к чувству долга и действительности, вылечивает вас от воображаемой болезни, доставлявшей вам удовольствие, мама пробудила меня от слишком долгого сна. Следующий день посвящен был прощанию с болезнью, от которой я оправлялся; целые часы пел я со слезами «Прощание» Шуберта:
//…Прощай, хор дивных голосов
Зовет тебя в родной, далекий край!//
Потом все было кончено. Я прекратил мои утренние выходы, и это далось мне очень легко; я даже построил предположение, оказавшееся, как будет видно впоследствии, ложным, что в дальнейшем я буду без труда отвыкать от встреч с понравившейся мне женщиной. И когда через некоторое время Франсуаза рассказала мне, что Жюпьен, желавший расширить свое дело, искал поблизости помещение под мастерскую, то под предлогом помочь жилетнику в его поисках (мне доставляло также огромное удовольствие, бредя по улице, светозарные крики которой, подобные крикам на пляже, я слышал еще в постели, смотреть на молоденьких продавщиц с белыми рукавами за поднятыми железными шторами молочных лавочек) я мог возобновить эти выходы. Совершенно добровольно; ибо я сознавал, что делаю их уже не с целью увидеть герцогиню Германтскую; так женщина, принимавшая бесконечные предосторожности, покуда у нее был любовник, после разрыва с ним бросает где попало свои письма, рискуя выдать мужу тайну преступления, которое перестало ее пугать, после того как она перестала его совершать. Часто встречал я г-на де Норпуа. Меня удручало то, что почти все дома населены были людьми несчастными. В одном жена постоянно плакала, потому что муж ее обманывал. В другом — наоборот. В третьем труженица-мать, нещадно избиваемая сыном-пьяницей, старалась скрыть свои страдания от глаз соседей. Добрая половина рода человеческого плакала. И все эти несчастные были так ожесточены, что я задался вопросом, да точно ли заслуживают осуждения неверные мужья и жены, которые изменяют только потому, что им было отказано в законном счастье, и ведут себя очаровательно и лояльно со всеми, кроме своих супругов и супруг. Вскоре я лишился даже и этого предлога — быть полезным Жюпьену — чтобы продолжать мои утренние странствия. Ибо стало известно, что столяр-краснодеревец с нашего двора, мастерские которого были отделены от лавочки Жюпьена только тоненькой перегородкой, не получит продления контракта от управляющего нашим домом, потому что он слишком сильно стучал. Жюпьену не надо было ничего лучшего; в мастерских был подвал, служивший складом и сообщавшийся с нашими погребами. Жюпьен собирался сложить там уголь; он намерен был также снести перегородку и устроить одну обширную мастерскую. Но даже не развлекаясь подысканием для него помещения, я продолжал бы выходить перед завтраком. Находя цену, запрашиваемую герцогом Германтским, слишком высокой, Жюпьен предоставлял осматривать освободившиеся мастерские всем желающим в надежде, что герцог, отчаявшись найти съемщика, согласится сделать ему скидку, и Франсуаза, заметив, что даже в часы, когда осмотр не производился, консьерж оставляет незапертой дверь отдававшейся в наем лавки, почуяла западню, устроенную консьержем, чтобы завлечь невесту выездного лакея Германтов (молодые люди могли бы найти там укромный уголок) и потом захватить их врасплох. Как бы там ни было, я продолжал выходить перед завтраком, хотя и перестал подыскивать помещение для мастерской Жюпьена. Часто во время этих прогулок я встречал г-на де Норпуа. Случалось, что, разговаривая со своим коллегой, он бросал на меня взгляды, которые после осмотра меня с головы до ног обращались к собеседнику, без улыбки и без приветствий по моему адресу, как если бы он был совершенно незнаком со мной. Ибо у дипломатов типа г-на де Норпуа посмотреть определенным образом значит дать вам знать не то, что они вас видели, а то, что они вас не видели и что у них идет разговор с коллегой о каком-нибудь серьезном вопросе. Высокая женщина, с которой я часто встречался возле нашего дома, была не так сдержана со мной. Хотя я не был с ней знаком, она оборачивалась ко мне, поджидала меня — напрасно — перед витринами торговцев, улыбалась мне, как если бы хотела меня поцеловать, делала такое движение, точно намерена была отдаться. Она вновь принимала ледяной вид по отношению ко мне, если встречала какого-нибудь своего знакомого. Давно уже во время этих утренних прогулок я избирал, в зависимости от своих целей, хотя бы я просто хотел купить газету, кратчайший путь, — без сожалений, если он лежал вне обычного маршрута прогулок герцогини, а если он, напротив, с ним совпадал, то без колебаний и без притворства, ибо он не казался мне более путем запретным, на котором я вырывал у неблагодарной милость лицезреть ее вопреки ее воле. Но мне в голову не приходило, что мое выздоровление, поставив меня к ней в нормальное положение, параллельно произведет ту же работу и в герцогине Германтской и сделает возможными с ее стороны любезность и дружеские чувства, которые больше не имели для меня значения. До сих пор соединенные усилия целого мира приблизить меня к ней ничего не могли бы поделать с дурным глазом несчастной любви. Феи более могущественные, чем люди, постановили, что в таких случаях все будет безуспешно, пока мы не скажем искренно в своем сердце: «Я больше не люблю». Я сердился на Сен-Лу за то, что он не ввел меня в дом своей тетки. Но, как и всякий другой, он неспособен был разрушить чары. Пока я любил герцогиню Германтскую, знаки любезности, комплименты, получаемые мной от других, были мне неприятны не только потому, что исходили не от нее, но и потому, что она о них не знала. Но, если бы и знала, это не принесло бы никакой пользы. Отлучка, отказ от приглашения к обеду, невольная, бессознательная суровость значат, даже в мелочах чувства, больше, чем все косметики и самые красивые платья. Тут были бы удачники, если бы учили в этом смысле искусству успевать.
Проходя по салону, в котором я сидел, и думая о неизвестных мне друзьях, которых она, может быть, рассчитывала сейчас встретить на другом вечере, герцогиня Германтская заметила меня на диванчике, глубоко равнодушного, желавшего только быть любезным, между тем как, будучи влюбленным, я так безуспешно старался напустить на себя равнодушие; она повернула, подошла ко мне и, вновь найдя улыбку, которая была у нее в Комической опере и которой теперь не прогоняло тягостное чувство быть любимой человеком, которого она не любила:
— Нет, не вставайте! Вы мне позволите присесть на минутку возле вас? — обратилась она ко мне, грациозно приподняв необъятную юбку, которая иначе заняла бы одна весь диван.
И без того выше меня ростом, герцогиня казалась еще более крупной благодаря размерам своего платья, она почти касалась меня своей чудесной обнаженной рукой, вокруг которой непрестанно клубился золотистым паром густой, едва заметный пушок, и белокурыми прядями своих волос, посылавших мне нежный запах. Не имея достаточно места, она не могла повернуться ко мне, а вынуждена была смотреть вперед, и лицо ее приняло мечтательное и томное выражение, как на портрете.
— У вас есть какие-нибудь известия о Робере? — спросила она. В эту минуту мимо нас прошла г-жа де Вильпаризи.
— Поздненько же вы являетесь, мосье, когда вас наконец у себя видишь.
Но, заметив, что я разговариваю с ее племянницей, и может быть даже предположив, что отношения между нами интимнее, чем ей было известно, прибавила:
— Однако я не буду мешать вашей беседе с Орианой (ибо услуги сводни составляют часть обязанностей хозяйки дома). — Не хотите ли прийти в среду пообедать вместе с нею?
В среду я условился обедать с г-жой де Стермарья; я отказался.
— А в субботу?
В субботу или в воскресенье возвращалась моя мать, и было бы нелюбезно обедать в эти дни не с нею; поэтому я снова отказался.
— О, да с вами трудно сговориться!
— Отчего вы никогда не зайдете ко мне? — сказала герцогиня Германтская, когда г-жа де Вильпаризи удалилась, чтобы поблагодарить артистов и вручить певице букет роз, вся ценность которого заключалась в преподносившей его руке, так как он стоил не больше двадцати франков. (Это был максимальный расход, на который маркиза шла ради артистов, выступавших один раз. Рядовые участники ее концертов получали розы, написанные хозяйкой.)
— Скучно встречаться только у других. Но если вы не желаете обедать со мной у моей тетки, то отчего бы вам не прийти пообедать ко мне?
Некоторые из засидевшихся под какими-нибудь предлогами гостей, но наконец уходившие, увидя герцогиню сидящей с молодым человеком на узком диванчике, где могло уместиться только двое, подумали, что их плохо осведомили, что разрыва требует не герцог, а герцогиня, и что причиной всему я. Они поспешили распространить эту новость. Я мог прежде всех убедиться в ее ложности. Но меня удивило, что в эти трудные периоды, когда осуществляется еще не завершившийся разрыв, герцогиня, вместо того чтобы уединяться, приглашала к себе человека, которого она так мало знала. Я вообразил, что до сих пор она не принимала меня только вследствие нежелания герцога и что теперь, когда он ее покидал, не видела больше препятствий окружить себя людьми, которые были ей по душе.
Две минуты назад я был бы поражен, если бы мне сказали, что герцогиня Германтская собирается позвать меня к себе, а тем более пригласить к обеду. Хотя я отлично знал, что салон Германтов не может заключать особенностей, которые я извлек из этого имени, но тот факт, что он был мне недоступен, вынуждал меня придавать ему характер салонов, описание которых мы прочитали в романах или которые видели во сне, заставлял меня, даже когда я был уверен, что он похож на все остальные салоны, представлять его совсем по-иному; он отделен был от меня преградой, за которой кончается реальное. Пообедать у Германтов было все равно, что предпринять давно желанное путешествие, вынести мечту из недр сознания и поместить ее во внешний мир, или завязать знакомство с призраком. Самое большее, я мог думать, что речь идет об одном из тех обедов, на которые хозяева дома приглашают так: «Приходите, не будет решительно никого, кроме нас», — словно приписывая парии испытываемую ими боязнь видеть его в обществе других своих знакомых и пытаясь даже превратить в завидную привилегию, приберегаемую только для самых близких друзей, карантин изгоя, дикаря, которому неожиданно оказано покровительство. Я почувствовал, напротив, что герцогиня Германтская желает угостить меня самым приятным, что у нее было, когда она сказала, рисуя мне как бы фиалковую красоту приезда к тетке Фабриция и чудо знакомства с графом Моска.
— Не будете ли вы свободны в пятницу, чтобы провести время в тесном кругу? Это было бы мило. Будет принцесса Пармская, прелестная женщина; если я вас приглашаю, то лишь для того, чтобы вы встретились с приятными людьми.
Пренебрегаемая в промежуточных светских кругах, которые вовлечены в непрерывное восходящее движение, семья играет, напротив, важную роль в кругах неподвижных, вроде мелкой буржуазии и княжеской аристократии, которая не стремится к возвеличению, потому что над нею, с ее специфической точки зрения, нет ничего. Дружба, которую мне свидетельствовали «тетка Вильпаризи» и Робер, должно быть привлекла ко мне (о чем я и не подозревал) любопытство герцогини Германтской и ее друзей, видевшихся только друг с другом и всегда вращавшихся в одном и том же кругу.
Об этих родственниках герцогиня ежедневно получала семейные, будничные сведения, очень отличные от того, что мы воображаем; если в такого рода сведениях упоминается и о нас, то поступки наши не только не выкидываются, как пылинка из глаза или капля воды из дыхательного горла, но иногда запечатлеваются, становятся предметом обсуждения и разговоров целые годы после того, как мы сами о них позабыли, в доме, где мы с удивлением их находим, точно наше письмо в какой-нибудь драгоценной коллекции автографов.
Рядовые светские люди могут защищать двери своего дома от постороннего вторжения. Но двери дома Германтов ему не подвергались. Посторонние почти никогда не имели случая проходить перед ними. Наметив то или иное лицо, герцогиня не интересовалась его положением в свете, потому что положение это было вещью, которую сама она создавала и которая ничего не могла ей прибавить. Она принимала в расчет только личные достоинства, а г-жа де Вильпаризи и Сен-Лу сказали ей, что они у меня есть. И, я думаю, она бы им не поверила, если бы не заметила, что родным ее не удается заставить меня прийти, когда им хочется, и что я, значит, светом не дорожу, а это казалось герцогине признаком принадлежности незнакомца к «приятным людям».
Надо было видеть, как во время разговора о женщинах, которых она недолюбливала, герцогиня менялась в лице, едва только называли в связи с одной из этих женщин имя хотя бы ее невестки. «О, она прелестна», — говорила герцогиня с видом тонкой уверенности. Единственным основанием для этого было то, что дама, о которой шла речь, не согласилась быть представленной маркизе де Шосгро и принцессе Силистрийской. Она умалчивала, что дама эта не согласилась быть представленной также и ей, герцогине Германтской. Однако — так было, и с того дня герцогиня все время ломала голову, что могло происходить у дамы, с которой так трудно познакомиться. Она умирала от желания быть у ней принятой. Светские люди настолько привыкли, чтобы с ними искали знакомства, что всякий, кто их избегает, кажется им диковинкой и всецело завладевает их вниманием.
Действительно ли герцогиня Германтская (после того как я больше не любил ее), пригласила меня потому, что я не искал сближения с ее родными, хотя они искали сближения со мной? Не знаю. Во всяком случае, решив меня пригласить, она хотела попотчевать меня всем, что у ней было лучшего, и удалить тех своих знакомых, которые могли бы помешать мне повторить свой визит, тех, кого она считала скучными. Я не знал, чему приписать изменение пути герцогини, когда она отклонилась от своей орбиты, села рядом со мной и пригласила меня к обеду, — оно было действием неизвестных причин, потому что мы не обладаем специальным органом чувств, который осведомлял бы нас в этом отношении. Мы воображаем, что малознакомые с нами люди — как в данном случае герцогиня — думают о нас только в редкие минуты, когда они нас видят. Между тем идеальное забвение, которому они будто бы нас предают, есть чистейшая выдумка. Настолько, что когда в тишине одиночества, подобной тишине ясной ночи, мы воображаем себе светских королев шествующими своим небесным путем на бесконечном расстоянии от нас, то невольно вздрагиваем от неприятного чувства или от удовольствия, если на нас падает сверху, точно аэролит с высеченным на нем нашим именем, которое мы считали неизвестным на Венере или на Кассиопее, приглашение к обеду или злая сплетня.
Быть может, — в подражание персидским царям, которые, по словам «Книги Эсфирь», заставляли читать себе памятную книгу, куда вписаны были имена граждан, засвидетельствовавших им свою преданность, — герцогиня Германтская, заглядывая иногда в список людей благонамеренных, говорила обо мне: «Человек, которого мы пригласим к обеду». Но другие мысли отвлекали ее:
//(Вседневной суетой властитель поглощен
И от одних к другим делам стремится он)//
до того мгновения, когда она меня заметила сидящим в одиночестве, как Мардохей у ворот дворца; вид мой освежил ее память, и, подобно Артаксерксу, она пожелала осыпать меня своими милостями.
Однако я должен сказать, что изумление противоположного рода сменило во мне то, которое я почувствовал, когда герцогиня Германтская пригласила меня. Я нашел, что скромность и признательность требуют от меня не скрывать его, а, напротив, в преувеличенной форме выразить доставленное им удовольствие. Герцогиня, собиравшаяся на другой вечер, в ответ на это сказала, как бы в оправдание своего поступка, боясь, чтобы я не истолковал его превратно, — настолько удивленный был у меня вид: «Вы ведь знаете, что я тетка Робера де Сен-Лу, который вас очень любит, и притом мы уже встречались здесь». Я ответил, что мне это известно и что я знаком также с г-ном де Шарлюсом, который «был очень добр ко мне в Бальбеке и в Париже». Это по-видимому удивило герцогиню, и взгляд ее направился, точно для проверки, к какой-то более старой странице внутренней книги. «Как, вы знакомы с Паламедом?» Имя это приобрело в устах герцогини большую нежность благодаря естественности и простоте, с которой она говорила о столь блестящем человеке, являвшемся для нее, однако, только деверем и кузеном, товарищем ее детства. Имя Паламед вносило в серую мглу, которой была для меня жизнь герцогини Германтской, ясность тех длинных летних дней, когда она девочкой играла с ним в саду в Германте. Больше того, в этот давно уже миновавший период их жизни Ориана Германтская и кузен ее Паламед были совершенно не похожи на то, чем они стали теперь: г. де Шарлюс был тогда всецело поглощен искусством, вкус к которому он настолько обуздал впоследствии, что я был крайне изумлен, узнав, что он автор желтых и черных ирисов на огромном веере, который раскрывала в эту минуту герцогиня. Она могла бы также показать мне маленькую сонатину, которую он когда-то сочинил для нее. Я совершенно не подозревал, что барон обладает всеми этими талантами, о которых он никогда не говорил. Заметим мимоходом, что г. де Шарлюс был далеко не в восторге от того, что в семье его называли Паламедом. Что касается «Меме», то еще можно было понять, почему это уменьшительное ему не нравилось. Подобного рода нелепые сокращения свидетельствуют о непонимании аристократией собственной поэзии (таким же непониманием отличаются, впрочем, и евреи; племянник леди Руфус Израэльс, называвшийся Моисеем, известен был в свете под кличкой «Момо») и в то же время о ее старании иметь такой вид, точно она не придает значения аристократическим особенностям. А у г-на де Шарлюса было в этой области больше поэтического воображения и показной гордости. Но причина его недолюбливания «Меме» заключалась не в этом, ибо ему не нравилось и красивое имя Паламед. Нет, зная свою принадлежность к знатному роду и дорожа ею, барон хотел бы, чтобы брат и невестка говорили о нем: «Шарлюс», подобно тому как королева Мария-Амелия или герцог Орлеанский могли говорить о своих сыновьях, внуках, племянниках и братьях: «Жуанвиль, Немур, Шартр, Пари».
— Какой, однако, скрытник этот Меме, — воскликнула герцогиня. — Мы много говорили ему о вас, и он сказал, что был бы очень рад познакомиться с вами, совсем так, точно он вас никогда не видел. Согласитесь, что он чудак и — что не очень любезно говорить о девере, которого я обожаю и в котором восхищаюсь редкими качествами, — по временам немного сумасшедший?
Меня очень поразило это слово в применении к г-ну де Шарлюсу, и я подумал, уж не полусумасшествием ли объясняются некоторые вещи, например, то, что его так восхищала мысль предложить Блоку поколотить свою мать. Я обратил внимание, что не только вещи, которые говорил г. де Шарлюс, но и его манера говорить о них создавали впечатление, что он не совсем в своем уме. Когда мы в первый раз слышим адвоката или актера, нас удивляет их тон, так непохожий на тон разговорной речи. Но, убедившись, что все находят его вполне естественным, мы ни слова не говорим другим, ни слова не говорим себе самим, мы довольствуемся тем, что оцениваем степень таланта. Самое большее, мы думаем, глядя на какого-нибудь актера из Французской комедии: почему он не уронил поднятой руки, а опускал ее прерывистым движением, с частыми остановками, по крайней мере в течение десяти минут? Или, слушая какого-нибудь Лабори: почему, едва только открыв рот, он начал издавать эти трагические, неожиданные звуки, чтобы сказать самую простую вещь? Но так как все допускают это a priori, то мы не шокированы. Точно так же, поразмыслив, слушатель приходил к заключению, что г. де Шарлюс говорит о себе выспренно, тоном нисколько не похожим на тон обыкновенной речи. Казалось, что каждую минуту его могут спросить: «Почему вы так громко кричите? Почему вы так заносчивы?» Однако все, точно по молчаливому уговору, допускали, что так оно и должно быть. И вы присоединялись к кружку слушателей, которые одобрительно принимали разглагольствования барона. Но в иные минуты посторонний человек наверное считал, что слышит крик умалишенного.
— Уверены ли вы, что вы не путаете, что вы точно говорите о моем девере Паламеде? — прибавила герцогиня с некоторой грубостью, сочетавшейся у нее с простотой.
Я отвечал, что совершенно в этом уверен и что, по-видимому, г. де Шарлюс плохо расслышал мое имя.
— Ну, я вас покидаю, — сказала мне словно с сожалением герцогиня Германтская. — Мне надо на минутку съездить к принцессе де Линь. Вы у нее не бываете? Нет? Вы не любите света? Вы совершенно правы, это убийственно. Если бы я не была обязана! Но она моя кузина, это было бы нелюбезно. Я сожалею эгоистически, потому что я могла бы вас отвезти и даже привезти обратно. В таком случае, до свидания, я рада, что увижу вас в пятницу.
Что г. де Шарлюс краснел за меня перед г-ном д'Аржанкуром, еще куда ни шло. Но что он отрицал знакомство со мной перед своей невесткой, которая имела такое высокое представление о нем, между тем как это знакомство было вполне естественно, поскольку я был знаком с его теткой и его племянником, — этого я не мог понять.
Замечу в заключение, что с известной точки зрения герцогиня Германтская обладала подлинным величием, которое состояло в том, что она начисто вычеркивала из своей памяти вещи, которых другие никогда не могли бы полностью забыть. Если бы даже я никогда не изводил ее, не наблюдал за ней, не выслеживал ее на утренних ее прогулках, если бы даже она никогда не отвечала на мой ежедневный поклон с плохо скрываемым раздражением, никогда не прогоняла Сен-Лу после его настойчивых просьб пригласить меня, то и тогда она не могла бы обойтись со мной благороднее, естественнее и любезнее. Она не только воздерживалась от объяснений по поводу прошлого, от полуслов, от двусмысленных улыбок, от намеков, в ее теперешней приветливости, без оглядок назад, без недомолвок, не только заключалось нечто столь же гордо прямолинейное, как ее величественная осанка, но все жалобы, какие могли быть у нее на кого-нибудь в прошлом, рассыпались без остатка в прах, и самый этот прах был так далеко выброшен из ее памяти или по крайней мере из ее обхождения, что при взгляде на ее лицо каждый раз, когда ей приходилось улаживать, восхитительно упрощать то, что у стольких других послужило бы предлогом для холодности и для упреков, вы испытывали чувство своеобразного очищения.
Но если меня удивила перемена, совершившаяся в ней по отношению ко мне, то насколько же сильнее был я удивлен, найдя в себе еще большую перемену по отношению к ней. Давно ли было то время, когда я обретал жизнь и силы, только строя все новые и новые планы, отыскивая человека, который ввел бы меня к ней и после этой первой радости принес бы еще множество других моему все более и более требовательному сердцу? Только неспособность что-нибудь придумать побудила меня отправиться в Донсьер к Роберу де Сен-Лу. И теперь письмо его привело меня в волнение, но причиной этого волнения была г-жа де Стермариа, а не герцогиня Германтская.
Чтобы покончить с этим вечером, прибавим, что через несколько дней в связи с ним произошло одно событие, которое меня очень удивило и поссорило на некоторое время с Блоком, — событие, заключающее в себе одно из тех любопытных противоречий, объяснение которых читатель найдет в конце этого тома («Содом», I). Итак, у г-жи де Вильпаризи Блок все время расхваливал мне любезность г-на де Шарлюса, который, встречая Блока на улице, смотрел ему в глаза, как если бы он был с ним знаком или имел большое желание с ним познакомиться и хорошо знал, кто он такой. Сначала это вызвало у меня улыбку: я вспомнил, с какой резкостью Блок отзывался о том же г-не де Шарлюсе в Бальбеке. Я подумал, что Блок, по примеру своего отца, попросту знает барона, «не будучи с ним знаком». А то, что он принимал за любезный взгляд, было взглядом, брошенным на него случайно. Но Блок привел столько подробностей и был настолько уверен в желании г-на де Шарлюса два или три раза подойти к нему, что, припомнив многочисленные вопросы барона о моем приятеле, которые он мне задавал, когда мы вместе возвращались с визита к г-же де Вильпаризи, я пришел к заключению, что Блок, пожалуй, не лжет, что г. де Шарлюс узнал его имя, его приятельские отношения со мной и т. д. Вот почему несколько времени спустя, в театре, я попросил г-на де Шарлюса представить ему Блока и, получив согласие, привел моего приятеля. Но едва только г. де Шарлюс увидел Блока, как на лице его изобразилось быстро подавленное изумление, которое сменила бешеная ярость. Он не только не подал руки Блоку, но каждый раз, как последний обращался к нему, отвечал крайне заносчиво, раздраженно и оскорбительно. В результате Блок, который, по его словам, получал до сих пор от барона только улыбки, решил, что я не только не оказал ему услуги, а повредил ему во время короткого разговора, за которым, зная пристрастие г-на де Шарлюса к этикету, я ему сказал об моем товарище, перед тем как привести его. Блок покинул нас в полном изнеможении, точно человек, вздумавший прокатиться на лошади, которая каждую минуту готова понести, или плыть против волн, которые его непрестанно выбрасывают на каменистый берег, и шесть месяцев со мной не разговаривал.
Дни, предшествовавшие моему обеду с г-жой де Стермарья, были для меня днями не упоительными, а невыносимыми. Вообще, чем короче время, отделяющее нас от затеянного нами развлечения, тем оно кажется нам длиннее, потому что мы прилагаем к нему уменьшенные меры или же просто потому, что собираемся его измерять. Папство, говорят, считает веками, а может быть даже не помышляет считать, потому что цель его в бесконечности. Моя же цель была на расстоянии лишь трех дней, я считал секундами, воображение мое рисовало картины, которые являются уже началом ласк, и я бесился от бессилия устроить так, чтобы ласки эти завершила живая женщина (именно эти ласки, все другие утрачивают для нас интерес). И если в общем верно, что трудность достигнуть предмет желания обостряет желание (трудность, а не невозможность, ибо эта последняя его убивает), однако в отношении желания чисто физического уверенность, что оно будет осуществлено в скором и точно определенном времени, действует не менее возбуждающе, чем неуверенность; почти в такой же степени, как томительное сомнение, отсутствие сомнения делает невыносимым ожидание неминуемого удовольствия, потому что оно обращает это ожидание в многократное осуществление и благодаря множественности предвосхищаемых представлений делит время на такие же тоненькие ломтики, как его разделила бы тоска.
Мне надо было во что бы то ни стало обладать г-жой де Стермарья, ибо в течение нескольких дней желания мои неустанно подготовляли в мечтах это наслаждение, единственно только его, другое наслаждение (наслаждение с другой женщиной) не было бы подготовлено, ведь всякое наслаждение есть осуществление предваряющего его желания, которое не всегда одинаково, которое меняется в зависимости от тысячи обстоятельств, от сочетания наших представлений, прихотей воспоминания, степени возбуждения, порядка, в котором размещаются наши прежние желания, ибо те из них, что были утолены последними, пребывают в покое, пока не забывается до некоторой степени разочарование, связанное с их удовлетворением; я бы не был подготовлен, я уже покинул большую дорогу общих желаний и далеко зашел по тропинке желания частного; чтобы пожелать другого свидания, мне бы пришлось слишком долго возвращаться на большую дорогу и искать другую тропинку. Обладать г-жой де Стермарья на острове Булонского Леса, куда я ее пригласил обедать, — таково было наслаждение, которое я мысленно рисовал себе каждую минуту. Понятно, оно было бы разрушено, если бы я пообедал на этом острове без г-жи де Стермарья; но оно также сильно уменьшилось бы, если бы я пообедал, даже с нею, в другом месте. Впрочем, обстановка, в которой рисуешь себе наслаждение, предваряет образ самой женщины, разряда женщин, которые для нее подходят. Она ими распоряжается, а также место; по этой причине попеременно возвращаются в капризное наше воображение женщины, местности, комнаты, которых в другие недели мы бы не удостоили своим вниманием. Дочери обстановки, иные женщины не появляются без большой кровати, в которой находишь покой рядом с ними, другие же, которых мы хотим ласкать с более интимными намерениями, требуют листьев, колеблемых ветром, ночного озера, они отличаются такой же неустойчивостью и так же трудно уловимы, как и эта обстановка.
По-видимому, уже задолго до получения письма от Сен-Лу, когда еще не было и речи о г-же де Стермарья, остров Булонского Леса казался мне созданным для наслаждения, потому что я ходил туда с печальным сознанием, что для меня он не служит приютом наслаждения. По берегам озера, которые ведут к этому острову и на которые в последние недели лета приходят гулять парижанки, если они еще не уехали, — по этим берегам, не зная более, где ее можно найти, и даже не будучи уверены, что она не покинула еще Париж, вы блуждаете в надежде увидеть молодую девушку, в которую вы влюбились на последнем балу в этом сезоне и с которой нельзя уже будет встретиться ни на одном вечере до следующей весны. Думая о том, что любимое существо со дня на день уедет, а может быть даже уже уехало, вы идете вдоль берегов подернутого рябью озера, по красивым аллеям, где первый красный лист зацветает уже как последняя роза, вы всматриваетесь в горизонт, где благодаря ухищрению как раз обратному тому, что применяется в панорамах, под куполом которых восковые фигурки на первом плане придают раскрашенному полотну за ними видимость глубины и объемности, глаза наши, непосредственно переходя от разделанного парка к естественным высотам Медона и горе Валерьен, не знают, где провести границу, и вносят кусок сельской местности в произведение садового искусства, но вместе с тем простирают его прикрасы, созданные руками человека, далеко за пределы парка; так редкие птицы, вырощенные на свободе в ботаническом саду, каждый день по прихоти своих воздушных прогулок заносят в смежные леса экзотические звуки. Между последним летним праздником и зимним изгнанием вы с тоской пробегаете по этому романическому царству неверных встреч и любовной меланхолии, и вас не более удивило бы, если бы оно оказалось расположенным за пределами географической вселенной, чем, поднявшись в Версале на верх террасы, к наблюдательному пункту, вокруг которого собираются облака на голубом небе в стиле Ван дер Мелена, и очутившись таким образом вне природы, вы бы узнали, что там, где она вновь начинается, в конце Большого Канала, деревни, которых нельзя различить на ослепительном как море горизонте, называются Флерюс или Нимвеген.
А когда уехал последний экипаж и вы с болью чувствуете, что она уже не придет, вы отправляетесь обедать на остров; над колышущимися тополями, которые не столько гармонируют с тайнами вечера, сколько без конца о них напоминают, розовое облако кладет последнюю краску жизни на умиротворенное небо. Несколько капель дождя бесшумно падает на древнюю воду, но в божественном своем младенчестве навсегда оставшуюся сизой и каждое мгновение забывающей образы облаков и цветов. А после того как герани, усилив яркость своей окраски, тщетно боролись со сгустившимися сумерками, туман окутывает засыпающий остров; вы гуляете в сырой темноте над водою, где, самое большее, безмолвный ход лебедя удивит вас, как ночью на кровати открывшиеся на миг глаза и улыбка ребенка, которого вы считали спящим. Тогда вам тем больше хочется присутствия возле вас женщины, что вы чувствуете себя одиноким и можете вообразить себя занесенным куда-то далеко.
Но на этот остров, где даже летом часто бывали туманы, насколько приятнее было бы мне увезти г-жу де Стермарья теперь, когда наступила дурная погода, когда приближался конец осени. Если бы даже стоявшая с воскресенья погода сама по себе не сделала сероватыми и морскими страны, в которых жило мое воображение, — как другие времена года делали их благоуханными, светящимися, итальянскими, — одна надежда обладать через несколько дней г-жой де Стермарья была бы способна опускать двадцать раз в час занавес тумана в моем томительно однообразном воображении. Во всяком случае, туман, появившийся со вчерашнего дня даже в Париже, не только направлял все время мои мысли к родине молодой женщины, которую я только что пригласил, но — так как по всей вероятности он еще плотнее, чем город, должен был закутать вечером Булонский Лес, особенно же озеро в нем, — я думал также, что он в некоторой степени превратит для меня Лебединый остров в один из островов Бретани, морской и туманный воздух которой всегда окутывал для меня, как одеждой, бледный силуэт г-жи де Стермарья. В молодости, в том возрасте, когда я совершал свои прогулки в сторону Мезеглиза, наше желание, наша вера придают одежде женщины индивидуальное своеобразие, неповторимые особенности. Мы гонимся за действительностью. Но так как она от нас все время ускользает, то наконец мы замечаем, что за всеми этими тщетными попытками, в которых мы нашли небытие, продолжает существовать нечто незыблемое — то, чего мы искали. Мы начинаем различать, познавать то, что мы любим, мы стараемся им заручиться, хотя бы ценой какой-нибудь уловки. Тогда место угаснувшей веры занимает костюм посредством умышленно создаваемой иллюзии. Я хорошо знал, что в получасе езды от дома я не найду Бретани. Но, гуляя над озером, в темноте, под-руку с г-жой де Стермарья, я поступил бы как те люди, которые, не имея возможности проникнуть в монастырь, перед обладанием женщиной по крайней мере одевают ее монахиней.
Я мог даже надеяться услышать с г-жой де Стермарья плеск волн, ибо накануне нашего обеда разразилась буря. Я сел бриться, собираясь отправиться на остров заказать кабинет (хотя в это время года остров был пуст и ресторан мало посещался) и выбрать меню для завтрашнего обеда, как вдруг Франсуаза доложила о приходе Альбертины. Я сейчас же ее принял, равнодушный к тому, что она увидит меня небритым, — эта женщина, для которой в Бальбеке я никогда не находил себя достаточно красивым и которая стоила мне такого же волнения и таких же хлопот, как теперь г-жа де Стермарья. Я непременно хотел, чтобы последняя получила наилучшее впечатление от завтрашнего вечера. С этой целью я попросил Альбертину поехать сейчас же со мной на остров, чтобы помочь мне составить меню. Та, которой отдаешь все, так быстро заменяется другой, что сам дивишься, отдавая каждый час новое, что у тебя есть, без надежды на будущее. В ответ на мое предложение розовое, улыбающееся лицо Альбертины под плоской шапочкой, надвинутой на самые глаза, как будто заколебалось. У нее были, вероятно, другие планы. Во всяком случае, она легко ими пожертвовала для меня, к великому моему удовольствию, так как я придавал большое значение тому, что со мной будет молодая хозяйка, которая сумеет заказать обед гораздо лучше, чем я.
Несомненно Альбертина представляла для меня нечто совсем другое в Бальбеке. Но наша близость с женщиной, в которую мы влюблены, хотя бы мы не считали ее тогда особенно тесной, создает между ней и нами, несмотря на неполноту, заставлявшую нас страдать в то время, общественную связь, которая переживает нашу любовь и даже воспоминание о нашей любви. Тогда, видя женщину, которая стала для нас не больше, чем средством и путем к другим женщинам, мы бываем столько нее удивлены и позабавлены, узнав из нашей памяти все своеобразное значение, заключавшееся в ее имени для другого существа, которым мы были когда-то, как если бы, крикнув кучеру адрес на бульваре Капуцинок или улице Бак[1] и думая только о человеке, которого мы собираемся посетить, мы вдруг сообразили, что имена эти означали когда-то монахинь-капуцинок, монастырь которых находился на этой улице, и паром, перевозивший через Сену.
Мое желание овладеть Бальбеком сообщило такую зрелость телу Альбертины, сосредоточило в нем столько свежести и столько прелестей, что во время нашей поездки по Булонскому Лесу, когда ветер, подобно заботливому садовнику, тряс деревья, сбивал с них плоды и подметал сухие листья, я говорил себе: если окажется, что Сен-Лу ошибся или что я плохо понял его письмо и обед мой с г-жой де Стермариа ни к чему не приведет, то я в тот же вечер попозже назначу свидание Альбертине, чтобы в течение наполненного сладострастием часа, держа в руках тело, прелести которого, теперь в изобилии его украшавшие, некогда жадно взвешивались и оценивались моим любопытством, позабыть волнения и, может быть, огорчения моей начинающейся любви к г-же де Стермарья. Однако, если бы я предположил, что г-жа де Стермарья откажет мне в своих ласках в этот первый вечер, то я бы очень обманчиво представил себе время, проведенное с ней. Я слишком хорошо знал из опыта, как две последовательные стадии в начале любви к женщине, которую мы желали, еще не познакомившись с ней и любя в ней скорее своеобразную жизнь, ее омывающую, чем ее самое, почти неведомую для нас, — как две эти стадии причудливо отражаются в области фактов, то есть уже не в нас самих, а в наших свиданиях с ней. Прельщенные поэзией, которую она воплощает для нас, мы еще ни разу с ней не разговаривали, мы колебались. Будет ли то она или какая-нибудь другая? И вот наши мечты прикрепляются к ней, образуют с ней одно целое. Первое свидание с ней, которое вскоре последует, должно бы отразить нашу рождающуюся любовь. Ничуть. Как если бы было необходимо, чтобы материальная жизнь тоже прошла свою первую стадию, мы, уже любя ее, разговариваем с ней о самых незначительных вещах: «Я пригласил вас пообедать на этот остров, так как думал, что обстановка вам понравится. Я ведь не собираюсь сказать вам ничего особенного. Но боюсь, что здесь очень сыро и вы простудитесь. — Нет, нет. — Вы говорите так из любезности. Разрешаю вам, сударыня, еще четверть часа бороться с холодом, чтобы вас не беспокоить, но через четверть часа я увезу вас насильно. Я не желаю, чтобы из-за меня вы схватили насморк». И, ни слова не говоря, мы ее увозим, не запомнив о ней ничего, кроме разве некоторых ее взглядов, но думая только о том, чтобы вновь с ней увидеться. А во вторую встречу (перед которой мы не находим в себе даже ее взгляда, единственного о ней воспоминания) первая стадия уже осталась позади. В промежутке ничего не случилось. Однако, вместо того чтобы разговаривать об удобствах ресторана, мы говорим, нисколько этим не удивляя новую личность нашей спутницы, которую мы находим некрасивой, но хотели бы, чтобы ей каждую минуту что-нибудь говорили о нас: «Нам будет стоить очень много труда преодолеть все препятствия, нагроможденные между нашими сердцами. Вы думаете, что нам это удастся? Вы считаете, что мы можем справиться с нашими врагами и надеяться на счастливое будущее?» Однако подобных разговоров, сначала бессодержательных, а потом намекающих на любовь, у нас не будет, я вправе доверять письму Сен-Лу. Г-жа де Стермарья отдастся мне в первый же вечер, мне не придется, следовательно, вызывать к себе на худой конец Альбертину, чтобы как-нибудь скоротать время. В этом не будет надобности, Робер никогда не преувеличивает, письмо его не оставляет никаких сомнений!
Альбертина мало со мной разговаривала, ибо чувствовала, что я чем-то озабочен. Мы прошли несколько шагов пешком в зеленоватом, точно подводном гроте, образованном густыми высокими деревьями, на вершинах которых мы слышали бушевание ветра и шум дождя. Я топтал сухие листья, погружавшиеся в землю как раковины, и откидывал палкой каштаны, колючие, как морские ежи.
На ветках последние сморщенные листья следовали за ветром только на длину своих корешков, но, когда последние обрывались, они падали на землю и бегом догоняли ветер. Я с радостью думал, что, если эта погода удержится, остров будет завтра еще более сказочным и во всяком случае совершенно пустынным. Мы снова сели в экипаж, и, так как ветер стих, Альбертина попросила прокатиться до Сен-Клу. Подобно сухим листьям на земле, облака в небе неслись по ветру. И перелетные вечера, розовые, голубые и зеленые тона которых, наложенные друг на друга, видны были в своего рода коническом сечении на небе, совсем уже приготовились для путешествия в страны более благодатные. Чтобы рассмотреть поближе мраморную богиню, — которая куда-то рвалась со своего пьедестала и, совсем одинокая в лесу, казалось, ей посвященном, наполняла его мифологическим ужасом, полуживотным, полусвященным, — Альбертина поднялась на холмик, а я поджидал ее на дороге. Видимая теперь снизу, уже не полная и округлая, как несколько дней тому назад на моей кровати, где зернистое строение ее шеи предстало как в лупу моим приблизившимся глазам, но чеканная и изящная, она сама казалась теперь маленькой статуей, которую подернули патиной счастливые минуты в Бальбеке. Когда я вновь остался один, вернувшись домой, и вспомнил, что катался днем с Альбертиной, что обедаю послезавтра у герцогини Германтской, что должен ответить Жильберте на ее письмо и что всех трех этих женщин я любил, — я подумал, насколько социальная наша жизнь похожа на мастерскую художника, полную незаконченных набросков, на которых мы думали одно время запечатлеть нашу потребность в большой любви, но мне не пришло в голову, что иногда, если набросок не очень старый, мы можем вновь приняться за работу над ним и создать из него произведение совсем иное, может быть даже более значительное, чем то, что мы задумали сначала.
На другой день было холодно и ясно: чувствовалась зима (и, действительно, время года было такое позднее, что мы только чудом могли найти в уже опустошенном Булонском Лесу несколько куполов золотистой зелени). Проснувшись, я увидел, точно из окна донсьерской казармы, матовую мглу, ровную и белую, которая весело висела на солнце, густая и сладкая, как патока. Потом солнце спряталось, и мгла еще более сгустилась после полудня. Сумерки настали рано, я переоделся, но время ехать еще не пришло; я решил послать экипаж за г-жой де Стермарья. Сам я не посмел сесть в него, чтобы не заставлять ее ехать со мной, но я вручил кучеру записку, в которой просил позволения зайти за ней. В ожидании я растянулся на кровати, закрыл на мгновение глаза, потом снова открыл. Над занавеской видна была лишь тоненькая каемка света, становившаяся все более тусклой. Мне знаком был этот праздный час, глубокое преддверие удовольствия; темную и сладкую пустоту его я научился познавать в Бальбеке, когда, лежа, как сейчас, один в моей комнате, в то время как все другие обедали, я без сожаления наблюдал угасавший над занавесками день, зная, что вскоре, после краткой, как полярная, ночи, он с еще большим блеском загорится в огнях Ривбеля. Я соскочил с кровати, повязал черный галстук, провел щеткой по волосам, — последние движения, при помощи которых я прихорашивался в Бальбеке, думая не о себе, но о женщинах, которых увижу в Ривбеле, и заранее улыбаясь им в косое зеркало моей комнаты, — движения, оставшиеся по этой причине предвестниками веселья, сплавленного из огней и музыки. Подобно магическим знакам, они его вызывали, больше того — уже осуществляли; благодаря им я располагал столь же достоверным знанием его истинности и с такой же полнотой наслаждался его упоительным и суетным очарованием, как некогда летом в Комбре наслаждался в своей прохладной темной комнате жарой и солнцем, когда до меня доносился стук молотка упаковщика.
Вот почему теперь мне хотелось бы видеть совсем не г-жу де Стермарья. Теперь, когда я был вынужден провести с ней вечер, я предпочел бы, чтобы вечер этот, так как он был последний перед возвращением моих родных, оставался незанятым и чтобы я мог попытаться увидеть ривбельских женщин. В последний раз я вымыл руки и вытирал их в темной столовой, прогуливаясь от удовольствия по всей нашей квартире. Мне показалось, что дверь из столовой открыта в освещенную переднюю, но то, что я принял за светлую щель двери, которая, напротив, была закрыта, являлось лишь белым отражением моего полотенца в зеркале, прислоненном к стене в ожидании, когда его поставят на место к приезду мамы. Я мысленно перебрал все миражи, обнаруженные мной таким образом в нашей квартире, миражи не только оптические, ибо в первые дни я считал, что соседка обзавелась собакой: меня обманывало продолжительное, похожее даже на звуки человеческого голоса тявканье, которым заливалась одна из кухонных труб каждый раз, когда открывали кран. Равным образом дверь на площадку, медленно, закрываясь от сквозняков на лестнице, исполняла отрывки упоительных жалобных фраз, из которых складывается хор пилигримов в заключительной части увертюры к «Тангейзеру». Впрочем, когда я положил полотенце на место, мне довелось вновь услышать этот ослепительный симфонический отрывок, ибо раздался звонок и я побежал в переднюю открыть дверь кучеру, который привез мне ответ. Я думал, что ответом этим будет: «Эта дама внизу», или: «Эта дама вас ждет». Но он держал в руке письмо. Я минутку поколебался, прежде чем узнать содержание письма г-жи де Стермарья, которое, покуда она держала перо в руке, могло бы быть иным, но теперь, оторвавшись от нее, стало непреложным, как судьба, совершало свой путь самостоятельно, и она уже ничего в нем не могла бы изменить. Я попросил кучера спуститься и подождать минуточку, хотя он на чем свет проклинал туман. Когда он ушел, я вскрыл конверт. На карточке «Виконтесса Алиса де Стермарья» приглашенная мной дама писала: «Я глубоко огорчена, одно досадное обстоятельство не позволяет мне пообедать с Вами сегодня вечером на острове в Булонском Лесу. Для меня это было бы праздником. Напишу Вам подробнее из Стермарьи. Сожалею. Привет». Я замер в неподвижности, оглушенный полученным ударом. Карточка и конверт упали к моим ногам, как пыж огнестрельного оружия, когда раздается выстрел. Я подобрал их, принялся анализировать фразы. «Она говорит, что не может со мной обедать на острове в Булонском Лесу. Отсюда можно было бы заключить, что она согласна пообедать со мной в другом месте. Я не буду настолько нескромен, чтобы поехать за ней, но в конце концов это можно было бы понять именно таким образом». И так как уже в течение четырех дней я мысленно водворился на этом острове с г-жой де Стермарья, то мне никак не удавалось от него отрешиться. Мое желание невольно вступало на путь, по которому двигалось уже столько часов, и, несмотря на это письмо, слишком недавнее для того, чтобы взять верх над ним, я инстинктивно все еще готовился ехать, как ученик, провалившийся на экзамене, непременно хочет ответить еще на один вопрос. Наконец я решился пойти сказать Франсуазе, чтобы она рассчиталась с кучером. Я прошел коридор, не найдя ее, потом направился в столовую, и вдруг шаги мои перестали стучать по паркету, как до сих пор, шум их сменился тишиной, которая до осознания ее причины создала во мне ощущение недостатка воздуха и тюремного заключения. То были ковры, которые начали приколачивать к приезду моих родных, — ковры, которые бывают так красивы в радостные утра, когда среди их беспорядочного нагромождения солнце ждет вас, как друг, пришедший за вами, чтобы вместе ехать завтракать за город, и кладет на них отпечаток леса, но которые теперь, напротив, были первой отделкой зимней тюрьмы, откуда я не смогу больше свободно выходить, поскольку мне придется жить и столоваться в семье.
— Осторожнее, мосье, не упадите, они еще не приколочены, — крикнула мне Франсуаза. — Мне бы надо было зажечь огонь. Ведь уже конец сентября, хорошие деньки кончились. — Скоро зима; в уголку окна, как на стеклянной посуде Галле, жилка отвердевшего снега; и даже на Елисейских Полях вместо молодых девушек, которых вы там ожидаете, одни только воробьи.
Я был в полном отчаянии: г-жа де Стермарья мало того, что не приехала, ответ ее, вдобавок, внушал предположение, что, в то время как я с воскресенья только и жил обедом с ней, она, вероятно, ни разу о нем не подумала. Впоследствии я узнал, что она нелепым образом вышла замуж по любви за одного молодого человека, с которым, вероятно, уже встречалась в это время и из-за которого забыла о моем приглашении. Ведь если бы она обо мне вспомнила, она, конечно, сообщила бы мне, что не может приехать, не дожидаясь экипажа, который к тому же я и не должен был за ней присылать. Мои мечты о феодальной девушке на туманном острове проложили путь к еще несуществующей любви. Теперь мое разочарование, мой гнев, мое отчаянное желание вновь завладеть той, которая только что от меня ускользнула, могли, при содействии моей чувствительности, закрепить эту потенциальную любовь, которую до сих пор предлагало мне, но более вяло, одно лишь мое воображение.
Сколько есть в наших воспоминаниях, и еще больше в нашем забвении, самых различных лиц молодых девушек и молодых женщин, которые показались нам прелестными и внушили бешеное желание увидеть их вновь только потому, что в последнюю минуту они от нас ускользнули! Что касается г-жи де Стермарья, то здесь было нечто большее, и мне достаточно было теперь, чтобы полюбить ее, вновь ее увидеть и освежить яркие, но слишком короткие впечатления, которые память была бы бессильна удержать в ее отсутствие. Обстоятельства решили иначе, я ее не увидел. Не она была женщиной, которую я полюбил, но она могла бы быть ею. И одной из причин, сделавших для меня такой мучительной большую любовь, которая вскоре завладела мной, было, вероятно, воспоминание об этом вечере, мысль, что, стоило произойти самым незначительным изменениям, и любовь эта направилась бы на другую женщину, на г-жу де Стермариа; направленная на ту, которая внушила мне ее немного позже, она не была, следовательно, — несмотря на все мое страстное желание, несмотря на всю мою потребность верить в это, — совершенно необходимой и от века предопределенной.
Франсуаза оставила меня одного в столовой, сказав, чтобы я шел в другую комнату, пока она не зажжет огонь. Она собиралась это сделать к обеду, ибо уже до приезда моих родных, с сегодняшнего вечера начиналось мое заключение. Я заметил лежавшую у буфета огромную связку еще свернутых ковров и, уткнувшись в них головой, глотая пыль и слезы, наподобие евреев, посыпавших голову пеплом в дни печали, разразился рыданиями. Я дрожал не только потому, что в комнате было холодно, но и потому что заметное понижение температуры (опасным последствиям и — надо ли признаться? — известной приятности которого мы и не пытаемся противодействовать) вызывается иногда слезами, струящимися из наших глаз капля за каплей, как мелкий, пронизывающий и леденящий дождик, которому, кажется, конца не будет. Вдруг я услышал голос:
— Можно войти? Франсуаза сказала, что ты вероятно в столовой. Не хочешь ли, пойдем вместе со мной куда-нибудь пообедать, если тебе это не повредит, потому что туман такой, хоть ножом режь.
Это был приехавший утром, когда я считал, что он еще в Марокко или на море, Робер де Сен-Лу.
Я уже сказал (и как раз Робер де Сен-Лу помимо своей воли помог мне это сознать в Бальбеке), что я думаю о дружбе, а именно — она, с моей точки зрения, есть нечто столь ничтожное, что я с трудом понимаю, как это люди умные, например, Ницше, имели наивность приписывать ей известную интеллектуальную ценность и потому порывали дружеские отношения, если с ними не связывалось интеллектуального уважения. Да, меня всегда удивляло, как это человек, доводивший искренность к себе до того, что отвергал из умственной добросовестности музыку Вагнера, вообразил, будто истина может быть осуществлена способом выражения, по самой природе своей сбивчивым и неадекватным, каковым являются человеческие поступки вообще и в частности дружеские отношения, и как можно бросать свою работу ради того, чтобы пойти повидаться с другом и плакать с ним по случаю ложного известия о пожаре Лувра. Словом, уже в Бальбеке я находил удовольствие играть с молодыми девушками менее пагубным для духовной жизни (так как оно по крайней мере остается ей чуждым), чем дружбу, все усилие которой заключается в том, чтобы заставить нас пожертвовать единственно реальной и непередаваемой (иначе как средствами искусства) частью нас самих ради поверхностного «я», которое не находит радости в себе самом, как другое наше «я», а только расплывчато умиляется, когда чувствует себя поддержанным внешней опорой и находит приют в чужой индивидуальности, где, обрадованное отказываемым ему покровительством, излучает свое довольство в форме одобрения и восхищается достоинствами, которые оно назвало бы недостатками и пыталось бы исправить в себе самом. Впрочем, хулители дружбы могут, без обольщения и не без угрызений совести, быть лучшими друзьями на свете, подобно тому как художник, носящий в себе великое произведение искусства и чувствующий, что долг его — жить для работы над ним, несмотря на это, чтобы не показаться или не оказаться эгоистом, отдает свою жизнь ради какого-нибудь ненужного дела, и отдает ее тем более мужественно, чем более бескорыстными были основания, в силу которых он предпочел бы не отдавать ее. Но каково бы ни было мое мнение о дружбе, даже если говорить только о доставляемом ею удовольствии, настолько сереньком, что оно походило на нечто среднее между усталостью и скукой, нет столь пагубного питья, которое не могло бы в иные часы делаться драгоценным и живительным, принося подстегиванье, которое было нам необходимо, теплоту, которой мы не можем найти в себе самих.
Теперь я далек был от желания попросить Сен-Лу, как я хотел этого час тому назад, свести меня с ривбельскими женщинами; след, оставленный во мне сожалением о г-же де Стермарья, не желал так быстро изглаживаться, но в ту минуту, когда я не чувствовал больше в своем сердце никакого основания для счастья, приход Сен-Лу был точно появлением доброты, веселья и жизни, которые находились, правда, вне меня, но предлагали себя мне, только и желали, что отдать себя в мое распоряжение. Сам он, однако, не понял моего возгласа признательности и моей растроганности до слез. Есть ли, впрочем, что-нибудь более парадоксальное, чем сердечное расположение одного из тех друзей — дипломата, исследователя, авиатора или военного — каким был Сен-Лу, — которые, отправляясь на другой день в деревню, а оттуда бог весть куда, как будто хотят оставить о себе на посвящаемом нам вечере впечатление настолько редкое и кратковременное, что недоумеваешь, действительно ли оно для них приятно, а если оно им так нравится, то почему они не хотели его продлить или не возобновляют чаще. Такая обыкновенная вещь, как обед в нашем обществе, доставляет этим путешественникам то же диковинное и упоительное наслаждение, какое доставляют жителям Азии парижские бульвары. Мы отправились вместе обедать, и, спускаясь с лестницы, я вспомнил Донсьер, где каждый вечер я приходил к Роберу в ресторан, вспомнил маленькие забытые столовые. Особенно отчетливо всплыла в моей памяти одна из них, о которой я никогда не думал, она помещалась не в той гостинице, где обедал Сен-Лу, а в гораздо более скромной, в чем-то среднем между постоялым двором и семейным пансионом; там подавали сама хозяйка и одна из ее служанок. Меня задержал в ней снег. К тому же Робер не обедал в тот вечер у себя в гостинице, и я не захотел идти дальше. Кушанья мне приносили наверх, в маленькую комнату с деревянными стенами и потолком. Во время обеда потухла лампа, и служанка зажгла две свечи. Когда она накладывала мне картофель в протянутую тарелку, я схватил ее, под предлогом, что плохо видно, за голую руку, как бы желая направлять ее движения. Видя, что она ее не отдергивает, я принялся ее ласкать, затем, не говоря ни слова, привлек к себе эту девушку, задул свечу и предложил ей порыться у меня в карманах, чтобы достать оттуда деньги. В течение следующих дней физическое удовольствие, казалось мне, требовало, чтобы вполне им насладиться, не только этой служанки, но и уединенной деревянной столовой. Однако всякий вечер, до самого отъезда из Донсьера, я по привычке и из дружеских чувств возвращался в тот ресторан, где обедали Робер и его приятели. Но даже и об этой гостинице, где он столовался со своими приятелями, я давно уже не думал. Мы извлекаем мало пользы из нашей жизни, мы оставляем незаконченными в летних сумерках или рано наступающих зимних ночах в часы, в которых, как нам казалось, могло бы все же заключаться немного душевного покоя или удовольствия. Но часы эти не вовсе потеряны. Когда запоют в свой черед новые минуты удовольствия, которые прошли бы такими же бескровными и висящими в воздухе, они придают им опору, придают насыщенность богатой оркестровки. Таким образом они расширяются до размеров типичных счастливых положений, которые мы переживаем лишь время от времени, но которые продолжают существовать; в настоящем случае то было забвение всего на свете ради обеда в уютной обстановке, благодаря воспоминаниям заключающей в себе обещания путешествия с другом, который всколыхнет нашу спящую жизнь всей своей энергией, всем своим расположением к нам, сообщит ей волнующее наслаждение, совершенно отличное от того, что могло бы нам доставить наше собственное усилие или светские развлечения; мы готовы всецело принадлежать ему, готовы принести ему клятвы в дружбе, которые, родившись в пределах этого часа, оставаясь в нем заключенными, не будут, может быть, сдержаны завтра, но которые я без зазрения совести мог дать Сен-Лу, ибо с мужеством, содержавшим в себе много благоразумия и предчувствие, что дружба не поддается углублению, завтра он собирался вновь отправиться в путь.
Если, спускаясь по лестнице, я вызвал к жизни вечера в Донсьере, то, когда мы вышли вдруг на улицу, почти полный мрак, в котором туман как будто погасил фонари, слабо различимые только совсем вблизи, увлек меня к одному из моих вечерних приездов в Комбре, когда город был освещен только кое-где и прохожие брели ощупью во влажной, теплой и святой темноте ясель, едва озаренной там и сям огарками, светившими не ярче, чем церковные свечи. Между этим смутно припоминаемым годом в Комбре и вечерами в Ривбеле, которые я перед этим увидел над занавесками, какая разница! Воспринимая их, я испытывал восхищение, которое могло бы быть плодотворным, если бы я остался один, и избавило бы меня таким образом от окольного пути нескольких бесполезных лет, который мне пришлось еще проделать, прежде чем во мне обнаружилось невидимое призвание, историей которого является настоящее произведение. Если бы это произошло в тот вечер, то экипаж, в котором я ехал, был бы достоин остаться более памятным для меня, чем экипаж доктора Перспье, на козлах которого я сочинил коротенькое описание мартенвильских колоколен — недавно мной отысканное, исправленное и напрасно посланное в «Фигаро». Не оттого ли, что мы переживаем ушедшие годы не в непрерывной их последовательности день за днем, а у нас всплывает то или иное воспоминание о них, застывшее в свежести или в яркости какого-нибудь утра или вечера, осененное тенью того или иного уединенного, замкнутого, неподвижного, остановившегося и затерянного ландшафта, далекого от всего на свете, и таким образом оказываются уничтоженными постепенные изменения, не только внешние, но и в наших мечтах и в нашем развивающемся характере, которые в жизни незаметно нас перевели от одного времени к другому, совсем от него отличному, — не от этого ли, когда мы переживаем другое воспоминание, заимствованное из иных лет, мы находим между ними, благодаря пробелам, благодаря огромным полотнищам забвения, как бы пропасть, отделяющую две разные высоты, как бы несовместимость двух несравнимых качеств воздуха, которым дышишь, и окружающего освещения? А между моими последовательными воспоминаниями Комбре, Донсьера и Ривбеля я чувствовал в эту минуту не только расстояние во времени, — я чувствовал между ними то расстояние, которое существовало бы между материально различными мирами. Если бы я вздумал передать в произведении искусства материал, из которого представлялись мне высеченными ничтожнейшие мои воспоминания о Ривбеле, мне бы пришлось расцветить розовыми прожилками, сделать вдруг полупрозрачным, компактным, освежающим и звонким вещество, до тех пор подобное темному и шероховатому песчанику Комбре. Но Робер, отдав приказания кучеру, сел со мной в экипаж. Мысли, только что пришедшие ко мне, разбежались. Это — богини, которые удостаивают иногда своим появлением одинокого смертного на повороте дороги и даже в его комнате, когда он спит: став в раме двери, они приносят ему свою благую весть. Но стоит нам оказаться вдвоем с кем-нибудь, они мгновенно исчезают, в обществе люди не видят их никогда. Я нашел себя снова брошенным в дружеские чувства. Робер, правда, уже сообщил мне, что на дворе большой туман, но, пока мы разговаривали, он все время сгущался. То был уже не легкий пар, который я бы желал видеть поднимающимся на острове и окутывающим г-жу де Стермарья и меня. В двух шагах фонари гасли, и тогда вы вступили во мрак, столь же глубокий, как где-нибудь на поле или в лесу, а еще вернее — на влажных островах Бретани, куда мне хотелось бы отправиться, я чувствовал себя затерянным, точно на берегу какого-нибудь северного моря, где двадцать раз подвергаешься смертельной опасности, прежде чем доберешься до одинокого постоялого двора; перестав быть миражем, к которому стремишься, туман делался одной из тех опасностей, с которыми борешься, так что находить дорогу и благополучно прибыть к месту назначения стоило нам немало труда и тревог, а приехав, мы почувствовали ту радость, какую дает безопасность — вещь неощутимая для того, кому не угрожает ее потеря, — сбившемуся с дороги и растерявшемуся путнику. Единственная вещь чуть было не разрушила все мое удовольствие во время нашего полного случайностей путешествия, так как на мгновение она рассердила и удивила меня. «Ты знаешь, я передал Блоку, — сказал мне Сен-Лу, — что ты его вовсе не так уж любишь, что ты находишь в нем много пошлого. Вот я каков, я люблю полную ясность в отношениях», — самодовольно заключил он тоном, не допускавшим возражений. Я был ошеломлен. Не только я питал самое полное доверие к Сен-Лу, к лояльности его дружбы, и он обманул его фразой, сказанной Блоку, но мне казалось кроме того, что его должны были бы удержать столько же, как и его достоинства, его недостатки, его чрезмерная воспитанность, которая способна была доводить вежливость до некоторого пренебрежения прямотой. Был ли его торжествующий вид тем напускным торжеством, которым мы маскируем наше замешательство, признаваясь в каком-нибудь нехорошем поступке? Свидетельствовал ли он о непонимании? О глупости, возводящей в добродетель недостаток, которого я за своим другом не знал? Был ли это приступ мимолетного недовольства мной, побуждавший его отступиться от меня, или же Сен-Лу отмечал таким образом приступ мимолетного недовольства Блоком, которому он пожелал сказать неприятность, даже компрометируя меня? Впрочем, когда он говорил эти пошлые слова, лицо его было заклеймено отвратительной извилиной, которую я видел у него только раз или два в жизни и которая, начинаясь приблизительно посредине лица, доходила до губ и кривила их, придавала им на мгновение гадкое выражение низости, почти звериности, по всей вероятности унаследованное от древних предков. Должно быть в такие минуты, случавшиеся, я думаю, не чаще чем раз в два года, у него бывало частичное помрачение собственного «я», затмение его личностью какого-нибудь предка, которая и отражалась на его лице. В такой же степени, как и самодовольный вид Робера, давали повод к этой догадке его слова: «Я люблю полную ясность в отношениях», — слова, заслуживавшие такого же порицания. Я хотел ему сказать, что если любишь полную ясность в отношениях, то при таких припадках откровенности следует говорить о вещах, касающихся тебя самого, потому что проявлять доблесть за счет других дело слишком легкое. Но экипаж уже остановился перед рестораном, широкий стеклянный фасад которого, залитый огнями, один только способен был пробуравить мрак. Благодаря уютному освещению внутри, даже туман вплоть до самого тротуара как будто указывал вам вход с радостным выражением тех слуг, на лицах которых отражается расположение их господина; окрашенный в самые тонкие радужные цвета, он похож был на огненный столп, который вел евреев. Впрочем, их было много в числе посетителей этого ресторана. Здесь давно уже собирались по вечерам Блок и его приятели, опьяненные постом (вызывавшим такой же голод, как пост обрядовый, который по крайней мере бывает только раз в году), ресторанной обстановкой и любопытством к политике. Так как всякое умственное возбуждение придает первостепенную важность и благородство привычкам, которые с ним связываются, то нет сколько-нибудь живого вкуса, который не объединял бы некоторой группы людей, оказывающих друг другу то уважение, какого каждый больше всего добивается в жизни. Здесь, хотя бы это было в маленьком провинциальном городке, вы найдете страстных любителей музыки; лучшее их время, большая часть их денег уходит на занятия камерной музыкой, — на собрания, где идут разговоры о музыке, на кафе, где любители встречаются между собой и толкаются среди оркестрантов. Другие, увлекающиеся авиацией, стараются снискать расположение старого официанта застекленного бара, примостившегося на верхушке аэродрома; укрытый от ветра, точно в стеклянной клетке маяка, он может наблюдать в обществе одного авиатора, который в эту минуту не летает, эволюции пилота, проделывающего мертвые петли, между тем как другой пилот, еще мгновение назад невидимый, внезапно приземляется, с шумом опускается на крыльях птицы Рок. Небольшой кружок, собиравшийся с целью закрепить навеки и углубить мимолетные впечатления от процесса Золя, тоже очень дорожил этим кафе. Но кружок этот был на плохом счету у золотой молодежи, составлявшей другую часть посетителей, которая облюбовала себе второй зал кафе, отделенный от первого лишь легким парапетом, уставленным зеленью. Она считала Дрейфуса и его сторонников изменниками, хотя двадцать пять лет спустя — период, за который идеи успели стать историческим достоянием и дрейфусарство приобрело некоторое изящество, — сочувствующие большевизму и вальсирующие сыновья этой самой молодежи объявляли расспрашивавшим их «интеллигентам», что если бы они жили в то время, то наверное были бы за Дрейфуса, но в чем заключалось его дело, это было им так же мало известно, как о графине Эдмон де Пурталес или маркизе де Галлофе, других светилах, уже угасших в день их рождения. Ведь в тот туманный вечер знатные посетители кафе, которым предстояло впоследствии стать отцами этих молодых интеллигентов, ретроспективных дрейфусаров, были еще холостяками. Правда, богатый брак намечался семьями каждого из них, но ни для одного он не стал еще фактом совершившимся. Пребывая еще в состоянии потенциальном, этот желанный многими богатый брак (на виду было, правда, несколько «богатых партий», но в общем число крупных приданых значительно уступало числу соискателей) возбуждал среди молодых людей некоторое соперничество. На мою беду, Сен-Лу задержался на несколько минут, договариваясь с кучером, чтобы он приехал за нами после обеда, и мне пришлось войти одному. Началось с того, что, забравшись во вращающуюся дверь, с которой я не умел обращаться, я испугался, что не сумею из нее выйти. (Заметим мимоходом, для любителей более точного словаря, что эта дверь-тамбур, несмотря на свою мирную внешность, называется дверью-револьвером, от английского revolving door.) В тот вечер хозяин, не решавшийся выйти наружу из боязни промокнуть, но не желавший также покидать своих клиентов, оставался у входа, чтобы иметь удовольствие слышать веселые сетования приезжающих, лица которых светились довольством людей, боявшихся заблудиться и с трудом доехавших. Однако радушная сердечность его приема пропала, когда он увидел незнакомца, не умевшего выбраться из стеклянного колеса. Это кричащее доказательство невежества заставило его нахмурить брови, как экзаменатора, не желающего произнести: dignus est intrare. В довершение неудачи я собрался расположиться в зале, отведенном для аристократии, откуда он без церемонии меня вывел, грубо указав (и все официанты в своем обращении тотчас последовали его примеру) место в другом зале. Место это мне весьма не понравилось, так как скамейка, на которой оно находилось, была уже полна народу (и вдобавок мне пришлось сидеть лицом к двери, предоставленной для евреев; так как она не была вращающаяся, то каждый раз, когда ее отворяли и затворяли, меня обдавало страшным холодом). Однако хозяин отказался дать мне другое место, сказав: «Нет, мосье, я не могу ради вас беспокоить всю публику». Впрочем, он скоро позабыл о запоздалом и стеснительном госте, каковым был я, настолько пленяло его прибытие каждого нового посетителя, который, перед тем как спросить себе кружку пива, крылышко холодного цыпленка или стакан грога (час обеда давно уже прошел), должен был, как в старых романах, уплатить свою долю, рассказав о перенесенных мытарствах в ту минуту, когда проникал в это теплое и безопасное убежище, где контраст с оставшимся позади создавал те товарищеские отношения и веселье, которые так радуют перед огнями бивака.
Один рассказывал, как кучер его, вообразив, что они находятся у моста Согласия, трижды объехал вокруг дома Инвалидов, другой — как его экипаж, спускаясь по авеню Елисейских Полей, застрял в группе деревьев на Рон-Пуэн, откуда целые три четверти часа не мог выбраться. Потом следовали жалобы на туман, на холод, на мертвую тишину улиц, — жалобы, сказанные и выслушанные с исключительно жизнерадостным видом, который объяснялся приятной атмосферой ресторана, где, за исключением моего места, повсюду было тепло, ярким светом, от которого щурились глаза, привыкшие к темноте, и шумом разговоров, возвращавшим ушам их активность.
Приезжавшим стоило большого труда сохранять молчание. Причудливость приключений, казавшихся каждому чем-то из ряда выходящим, так и просилась на язык, и все искали глазами, с кем бы можно было вступить в разговор. Сам хозяин утратил чувство социальных различий. «Господин принц де Фуа три раза заблудился по дороге от ворот Сен-Мартен», — не побоялся сказать он со смехом, как бы представляя знаменитого аристократа одному адвокату-еврею, в другое время отделенному от этого принца преградой, миновать которую было гораздо труднее, чем решетку, украшенную зеленью. «Три раза! Бывает же такое!» — сказал адвокат, прикасаясь к шляпе. Принцу не понравилась эта попытка сближения. Он принадлежал к аристократической группе, единственным занятием которой, по-видимому, были наглые выходки, даже по отношению к знати, если знать эта была не самого первого сорта. Не отвечать на поклон, если человек вежливый его повторял, ухмыляться с насмешливым видом или с яростью откидывать голову назад, притворяться, будто не узнаешь пожилого человека, готового оказать услугу, приберегать свое рукопожатие и свой поклон для герцогов и их близких друзей, которых герцоги им представляли, — такова была поза всех этих молодых людей и в частности принца де Фуа. Позе этой благоприятствовала, распущенность ранней молодости (даже буржуазная молодежь часто проявляет неблагодарность и ведет себя по-хамски; например, месяцами забывая написать благодетелю, потерявшему жену, вы потом вовсе перестаете ему кланяться, чтобы упростить положение), но главным образом она внушена была снобизмом чересчур рафинированной касты. Правда, подобно иным нервным болезням, проявления которых в зрелом возрасте смягчаются, снобизм этот обыкновенно переставал выражаться в такой неприязненной форме у пожилых людей, совершенно невыносимых в молодости. Когда молодость миновала, человек редко ограничивается заносчивостью. Вы думали, что только одна она и существует, и вдруг вы открываете, хотя бы вы были сиятельным князем, что есть еще на свете музыка, литература и даже звание депутата. Порядок человеческих ценностей видоизменяется, и вы вступаете в разговор с людьми, которых вы когда-то сокрушали взглядом. Какое счастье для тех из них, которые имели терпение ждать и обладают достаточно покладистым характером, чтобы наслаждаться в сорок лет любезным и благожелательным отношением, в котором им сухо отказывали, когда им было двадцать лет.
По поводу принца де Фуа надо сказать, поскольку представляется для этого случай, что он принадлежал к кружку из двенадцати или пятнадцати молодых людей и к еще более замкнутой группе из четырех человек. Характерной особенностью кружка двенадцати или пятнадцати, на принца, впрочем, не распространявшейся, было то, что каждый из входивших в него молодых людей являлся существом двойственным. Погрязшие в долгах, эти молодые люди ровно ничего не значили в глазах их поставщиков, хотя последним и доставляло большое удовольствие обращаться к ним: «Господин граф, господин маркиз, господин герцог…» Они надеялись выпутаться посредством пресловутого «богатого брака», называвшегося также «широким мешком», но так как крупных приданых, на которые они зарились, было не более четырех или пяти, то на одну и ту же невесту наводилось втихомолку по несколько батарей. При этом тайна соблюдалась так тщательно, что, когда один из них, войдя в кафе, говорил: «Милейшие мои друзья, я вас слишком люблю, чтобы утаить мою помолвку с мадмуазель д'Амбрезак», — в ответ ему раздавались удивленные возгласы, ибо некоторые из присутствующих, считая, что у них самих уже все порешено с названной девицей, не обладали должным хладнокровием, чтобы подавить в первый миг крик бешенства и справиться со своим остолбенением. «Значит, женитьба доставляет тебе удовольствие, Биби?» — не мог удержаться от вопроса принц де Шательро, совсем опешивший и с отчаяния выронивший вилку, так как он был в полной уверенности, что помолвка м-ль д'Амбрезак будет вскоре оглашена, но только с ним, Шательро. А между тем отец его наговорил под шумок Амбрезакам кучу гадостей относительно матери Биби. «Значит, ты доволен, что женишься?» — не выдержал принц и вторично задал Биби свой вопрос; Биби, лучше подготовленный, потому что он имел достаточно времени выбрать себе позу, когда все было уже решено «почти официально», с улыбкой отвечал: «Я доволен не тем, что женюсь, жениться у меня было мало охоты, а тем, что беру в жены Дези д'Амбрезак, которую нахожу очаровательной». Пока Биби произносил эти слова, г. де Шательро успел овладеть собой и решил, что надо как можно скорее повернуть фронт в сторону м-ль де ла Канурк или мисс Фостер, видных партий № 2 и № 3, попросить терпения у кредиторов, ждавших брака с Амбрезак, и, наконец, объяснить людям, которым он расхваливал г-жу д'Амбрезак, что женитьба на ней хороша для Биби, но что если бы он сам на ней женился, то поссорился бы со всей своей семьей. Г-жа де Солеон, уверял он, отказалась бы даже принять их.
Но если в глазах поставщиков, содержателей ресторанов и т. п. они были людьми незначительными, зато, появляясь в свете, двойственные эти существа уже не оценивались по расстроенному своему состоянию и грустным промыслам, в которые они пускались, чтобы попытаться его поправить. Они вновь становились принцем и герцогом таким-то, и мерилом для их оценки служили только их родословные. Герцог-миллиардер, казалось, соединявший в себе все, ставился ниже их, потому что, являясь главами семьи, они были в старину владетельными князьями маленьких государств, где имели право чеканить монету и т. д. Часто в этом кафе один из них опускал глаза, когда входил другой, чтобы не заставлять вошедшего ему кланяться. Дело в том, что, занятый погоней за богатством, он пригласил пообедать банкира. Каждый раз, когда светский человек входит при этих условиях в сношения с банкиром, он теряет сотню тысяч франков, но это его не удерживает от повторения попытки с другим банкиром. Люди эти продолжают ставить перед образами свечи и советоваться с докторами.
Но принц де Фуа, человек богатый, принадлежал не только к элегантному кружку из полутора десятка молодых людей, но также к более замкнутой и неразлучной группе четырех, в которую входил и Сен-Лу. Их никогда не приглашали в одиночку, их называли четырьмя озорниками, их видели всегда вместе на прогулке, в замках им отводили сообщающиеся комнаты, ходили даже слухи об интимной близости между ними, тем более что все они были красавцами. В отношении Сен-Лу я мог самым категорическим образом опровергнуть эти слухи. Но любопытно, что, если впоследствии обнаружилось, что слухи эти правильны относительно всей четверки, зато каждый в отдельности решительно ничего не знал о трех остальных. Однако каждый тщательно собирал все сведения о своих товарищах для того ли, чтобы утолить какое-нибудь желание, или, скорее, для того, чтобы насытить злобное чувство, помешать браку, иметь перевес над разоблаченным приятелем. К четырем платоникам присоединился пятый (ибо такие четверки всегда состоят больше чем из четырех человек), еще более платоничный, чем все остальные. Однако по религиозным соображениям он сдерживался, так что группа четырех тем временем распалась, а сам он женился, сделался отцом семейства, вымаливал в Лурде, чтобы очередной ребенок был мальчиком или девочкой, а в промежутках бросался на военных.
Несмотря на всю заносчивость принца, тот факт, что произнесенные перед ним слова не были непосредственно обращены к нему, умерил его гнев, который в противном случае разразился бы с большей силой. Вдобавок вечер этот был в некотором роде исключительным. В конце концов, адвокат имел не больше шансов завязать знакомство с принцем де Фуа, чем кучер, который привез этого знатного барина. Вот почему принц счел возможным высокомерно и «в сторону» ответить своему собеседнику, который под покровом тумана похож был на спутника, встреченного на краю света, на морском берегу, где бушует буря или все закутано мглою. «Главное не то, что заблудился, а то, что не можешь найти дорогу». Справедливость этой мысли поразила хозяина, потому что уже не раз в течение вечера она была высказана его гостями.
Действительно, человек этот всегда имел привычку сравнивать услышанное им или вычитанное с каким-нибудь уже известным текстом и чувствовал, как в нем пробуждается восхищение, когда не обнаруживал никаких различий. Этим состоянием ума не следует пренебрегать, ибо, проявляясь в политических разговорах и при чтении газет, оно создает общественное мнение и тем самым делает возможными величайшие события. Многие немцы, содержатели кофеен, восхищавшиеся только своими посетителями и своей газетой, создали в эпоху Агадира возможность войны, впрочем не разразившейся, когда они говорили, что Франция, Англия и Россия «целят» в Германию. Если историки правы, отказываясь объяснять действия народов волей королей, то они должны заменить ее психологией среднего обывателя.
С недавних пор хозяин ресторана, в котором я находился, прилагал свои способности репетитора лишь к некоторым газетным статьям о деле Дрейфуса. Если он не находил знакомых выражений в словах клиента или на столбцах газеты, он объявлял статью снотворной, а клиента неискренним. Однако принц де Фуа привел его в такое восхищение, что он едва дал ему закончить фразу. «Отлично сказано, принц, отлично сказано (что должно было означать: повторено без ошибки), — вот именно, вот именно», — воскликнул он, растянувшись, как говорится в «Тысяче и одной ночи», «до пределов удовольствия». Но принц уже скрылся в маленьком зале. Затем, — жизнь ведь берет свое даже после самых необыкновенных событий, — гости, выходившие из моря тумана, заказывали одни — закуски, другие — ужин; в числе их были молодые люди из Жокей-Клуба; благодаря исключительности этого дня они не задумываясь заняли два стола в большом зале и оказались таким образом в близком соседстве со мной. Словом, стихийное бедствие создало даже между маленьким залом и большим, между всеми этими людьми, возбужденными уютом кафе после долгих блужданий по океану тумана, своего рода непринужденность, из которой только я один был исключен, непринужденность, похожую, вероятно, на ту, что царила в ковчеге Ноя. Вдруг я увидел раболепные расшаркивания хозяина и бегущих в полном составе метрдотелей, что заставило обернуться всех посетителей. «Живо, кликните Киприана, стол для господина маркиза де Сен-Лу!» — восклицал хозяин, для которого Робер был не только большим барином, пользовавшимся высоким престижем даже в глазах принца де Фуа, но также клиентом, живущим на широкую ногу и расходующим в этом ресторане много денег. Посетители большого зала смотрели с любопытством, а посетители малого окликали наперерыв своего приятеля, кончавшего вытирать ноги. Но по дороге в малый зал, куда он уже собирался войти, Сен-Лу заметил меня в большом зале. «Боже мой, — воскликнул он, — что ты там делаешь, почему ты сидишь перед открытой дверью?» — и он метнул свирепый взгляд на хозяина, который побежал закрывать дверь, сваливая вину на официантов: «Я всегда им приказываю держать ее закрытой».
Чтобы подойти к Сен-Лу, мне пришлось потревожить гостей, сидевших за моим и соседними столами. «Зачем ты встал? Ты предпочитаешь обедать здесь, а не в малом зале? Но ты здесь закоченеешь, бедняжка! Сделайте мне удовольствие, заколотите эту дверь», — обратился он к хозяину. «Сию секунду, господин маркиз! Гости, которые пожелают теперь уйти, будут направляться через малый зал, вот и все». Чтобы лучше показать свое рвение, он отрядил для этой операции одного метрдотеля и нескольких официантов, громко угрожая им всякими карами, если они с ней не справятся. Он расточал мне знаки преувеличенного почтения, чтобы я забыл, что они начались не с моего прибытия, а только после прибытия Сен-Лу; а чтобы я не подумал, что они вызваны дружеским вниманием ко мне его богатого гостя-аристократа, он украдкой посылал мне улыбочки, как бы свидетельствуя ими чисто личную симпатию.
Речь одного сидевшего за мной посетителя заставила меня на мгновение обернуться. Вместо слов: «Крылышко цыпленка, очень хорошо, немного шампанского, но не слишком сухого», — я услышал следующие: «Я бы предпочел глицерин. Да, горячий, очень хорошо». Мне захотелось взглянуть, что это за аскет обрекает себя на такое меню. Посмотрев, я быстро повернулся к Сен-Лу, чтобы не быть узнанным странным гастрономом. Это был просто-напросто один мой знакомый доктор, у которого какой-то посетитель спрашивал совета, воспользовавшись туманом, чтобы затащить его в это кафе. Врачи, подобно биржевикам, говорят в первом лице.
Тем временем я смотрел на Робера и думал вот о чем. Я видел здесь, и мне приходилось встречать в жизни много иностранцев, интеллигентных людей, причастных разным искусствам, которые покорно сносили насмешки над их вычурными плащами, галстуками тридцатых годов и особенно над их неуклюжими движениями, и даже их провоцировали, желая показать, что не обращают на них никакого внимания, хотя это были люди высокого умственного и нравственного уровня и крайне чувствительные. Они не нравились — особенно евреи, разумеется евреи не ассимилировавшиеся, об ретальных не может быть речи — лицам, которые не выносят никаких странностей и причуд во внешности (как Альбертина не выносила Блока). Но при ближайшем знакомстве обыкновенно оказывалось, что, если они восстанавливали против себя слишком длинными волосами, слишком большими носами и глазами, порывистыми театральными движениями, то было бы ребячеством судить о них по этим признакам, ибо они отличались большим умом и большой сердечностью, были людьми, которых можно крепко полюбить. В особенности что касается евреев, то мало среди них было таких, родители которых не обладали бы благородством сердца, широтой ума и искренностью, так что рядом с ними мать Сен-Лу и герцог Германтский представляли собой довольно жалкие моральные фигуры вследствие своей сухости, своей поверхностной религиозности, бичевавшей только скандалы, причем вся их апология христианства неуклонно приводила (самыми непредвиденными путями ума, единственно лишь ими ценимого) к тому или иному баснословно богатому браку. Но у Сен-Лу, каким бы способом ни сочетались недостатки его родителей при создании его достоинств, надо всем очаровательно царили открытые ум и сердце. А надо прямо сказать в бессмертную славу Франции, что, когда эти качества встречаются у чистокровного француза, будь он аристократом или простолюдином, они цветут — «распускаются» было бы неточным выражением, так как при этом всегда соблюдены мера и границы, — с такой прелестью, какой мы не наблюдаем у иностранцев, даже наиболее достойных уважения. Конечно, и другие обладают высокими умственными и нравственными качествами, и если даже сначала приходится иметь дело с тем, что не нравится, что неприятно поражает и что вызывает улыбку, качества эти остаются тем не менее драгоценными. Но все же как мила эта, пожалуй, чисто французская особенность, заключающаяся в том, что существо прекрасное с нравственной точки зрения, существо ценное в отношении качеств своего ума и сердца, очаровывает прежде всего взор, обладает нежным цветом лица, правильными чертами, осуществляет также в своей материи и форме внутреннее совершенство. Глядя на Сен-Лу, я говорил себе, как хорошо, когда преддверием прекрасных душевных качеств не является физическая неуклюжесть, когда крылья носа деликатны и совершенны по рисунку, как крылья бабочек, садящихся на полевые цветы в окрестностях Комбре; я говорил себе, что подлинным opus francigeпит, секрет которого не утрачен с XIV века и которое не погибнет с нашими церквями, являются не столько каменные ангелы Сент-Андре-де-Шан, сколько юные французы, — знатные, буржуа или крестьяне, — лица которых изваяны с изяществом и простодушием, такими же традиционными, как и на знаменитой паперти, но до сих пор еще творческими.
Отлучившись на минутку, чтобы самому присмотреть, как будут заколачивать дверь и выполнять заказ на обед (он очень настаивал, чтобы мы взяли говядину, так как, по-видимому, не мог щегольнуть блюдами из птицы), хозяин вернулся сказать нам, что г. принц де Фуа очень желает, чтобы г. маркиз позволил ему обедать за одним из соседних столиков. «Но ведь они все заняты», — отвечал Робер, взглянув на столы, загораживавшие доступ к тому, у которого сидел я. «О, это пустяки! Если господин маркиз пожелает, то мне будет не трудно попросить этих господ переменить место. Это можно устроить для господина маркиза». — «Предоставляю твоему решению, — обратился ко мне Сен-Лу, — Фуа славный парень, не знаю, покажется ли он тебе скучным, он менее глуп, чем многие другие». Я отвечал Роберу, что он мне конечно понравится, но что теперь, когда мне так приятно пообедать вдвоем с Робером, я бы предпочел, чтобы мы были одни. «А какой красивый плащ у господина принца!» — воскликнул хозяин во время нашего совещания. «Да, я знаю», — отвечал Сен-Лу. Я хотел рассказать Роберу, что г. де Шарлюс утаил от невестки свое знакомство со мной, и спросить его, почему бы он это сделал, но мне помешало появление г-на де Фуа. Он явился узнать, принята ли его просьба, и стоял в двух шагах от нас. Робер нас познакомил, но не скрыл от своего приятеля, что он хочет поговорить со мной и предпочитает, чтобы нас не беспокоили. Принц удалился, прибавив к своему прощальному поклону улыбку, показывавшую на Сен-Лу и как бы оправдывавшую волей последнего краткость нашей беседы, которую он с удовольствием бы продлил. Но в это мгновение Робер, точно осененный внезапной мыслью, последовал за своим товарищем, сказав мне: «Посиди немного один и начинай обедать, я сейчас приду», — и скрылся в малом зале. Я с неудовольствием слушал, как незнакомые мне шикарные молодые люди рассказывали очень забавные и злые анекдоты о молодом наследном герцоге Люксембургском (бывшем графе фон Нассау), с которым я познакомился в Бальбеке и который дал мне такие деликатные доказательства своей симпатии во время болезни бабушки. Один из этих молодых людей уверял, будто он сказал герцогине Германтской: «Я требую, чтобы все вставали, когда проходит моя жена», — и будто герцогиня ответила (что было бы не только совершенно не остроумно, но и неверно, ибо бабушка молодой принцессы всегда была добродетельнейшей женщиной на свете): «Надо, чтобы вставали, когда проходит твоя жена: ведь ради твоей бабушки мужчины ложились». Затем другой рассказал, как, приехав в этом году в Бальбек к своей тетке, принцессе Люксембургской, и остановившись в Гранд-отеле, герцог жаловался директору (моему приятелю), что над дамбой не подняли люксембургского флага. Между тем флаг этот был менее известен и менее употребителен, чем английский или итальянский флаги, и понадобилось несколько дней, чтобы его достать, к большому неудовольствию юного герцога. Я не поверил ни одному слову в этой истории, но твердо решил, когда приеду в Бальбек, расспросить директора отеля и убедиться, что вся она — чистейшая выдумка. В ожидании Сен-Лу я попросил хозяина ресторана распорядиться, чтобы мне подали хлеб. «Сию минуту, господин барон». — «Я не барон», — отвечал я. — «Ах, простите, господин граф!» Я не успел выразить протест вторично, после чего наверное сделался бы «господином маркизом», так как в двери появился Сен-Лу, державший в руке огромный вигоневый плащ принца, который он очевидно попросил у него, чтобы согреть меня. Он издали сделал мне знак не шевелиться и направился вперед, но для того, чтобы он мог сесть, нужно было или передвинуть стол, или мне самому переменить место. Войдя в большой зал, он легко взобрался на скамью, обитую красным бархатом, которая тянулась вдоль стены и на которой, кроме меня, сидело трое или четверо знакомых Сен-Лу молодых людей из Жокей-Клуба, не сумевших найти место в малом зале. Между столиками на известной высоте были протянуты электрические провода; нисколько не растерявшись, Сен-Лу ловко перепрыгнул через них, как скаковая лошадь берет препятствия; смущенный тем, что все это предпринято было единственно с целью избавить меня от самого простого движения, я в то же время восхищался уверенностью, с которой вольтижировал мой друг; я был не одинок; хотя подобная гимнастика доставила бы, вероятно, хозяину и метрдотелям очень посредственное удовольствие, если бы проделана была менее знатным и менее щедрым клиентом, они стояли зачарованные, как знатоки на скачках; один официант застыл точно в столбняке с блюдом, которого ждали сидевшие рядом посетители; а когда Сен-Лу, вынужденный обойти своих приятелей, вскарабкался на спинку скамьи и двинулся по ней, сохраняя равновесие, из глубины зала раздались сдержанные аплодисменты. Наконец, дойдя таким образом до меня, он разом остановил свой бег с четкостью командира перед трибуной государя, нагнулся и подал мне изысканным и почтительным движением вигоневый плащ, после чего, усевшись рядом со мной, сейчас же закутал им, как легкой и теплой шалью, мои плечи, так что мне не понадобилось сделать ни единого движения.
— Вот что, пока я не забыл, — сказал Робер, — мой дядя Шарлюс хочет что-то тебе сказать. Я обещал прислать тебя к нему завтра вечером.
— Я сам как раз собирался поговорить с тобой о нем. Но завтра вечером я обедаю у твоей тетки, герцогини Германтской.
— Да, завтра у Орианы пир горой. Я не приглашен. Но дядя Паламед не хотел бы, чтобы ты туда ходил. Ты не можешь отказаться? Во всяком случае, после обеда зайди к дяде Паламеду. Он непременно хочет тебя видеть. Ты отлично успеешь приехать к нему в одиннадцать часов. В одиннадцать часов, — не забывай, — я берусь его предупредить. Он очень обидчив. Если ты не придешь, он на тебя рассердится. Все такие пиршества у Орианы кончаются рано. Если ты собираешься только обедать, ты отлично можешь быть в одиннадцать часов у дяди. Впрочем, и мне надо было бы повидать Ориану, я бы хотел переменить мою службу в Марокко. Она так мила в этих вещах и может всего добиться у генерала де Сен-Жозефа, от которого это зависит. Но не говори ей об этом. Я замолвил словечко принцессе Пармской, все это устроится само собой. Ах, Марокко очень интересная страна. Я мог бы многое тебе о нем рассказать. Люди там очень тонкие. Чувствуется, что они не уступают нам по уму.
— Ты не думаешь, что немцы могут довести дело до войны из-за Марокко?
— Нет, это их раздражает и в сущности вполне справедливо. Но император миролюбив. Они всегда стремятся создать такое впечатление, будто хотят войны, чтобы принудить нас к уступкам. Князь Монакский, агент Вильгельма II, недавно конфиденциально сообщил нам, что Германия нападет на нас, если мы не уступим. Значит, мы уступим. Но, хотя бы и не уступили, никакой войны не будет. Ты только подумай, какой комичной была бы теперь война. Она была бы более катастрофической, чем «Потоп» или «Гибель богов». Только она не затянулась бы так долго.
Он говорил мне о дружбе, о любви, о сожалении, хотя, подобно всем такого рода странникам, завтра он вновь собирался уехать на несколько месяцев в провинцию, откуда мог вернуться в Париж только на сорок восемь часов перед поездкой в Марокко (или в другое место); однако слова, которые он бросал таким образом в мое сердце, расплавленное в тот вечер внутренним жаром, воспламеняли в нем сладкие мечты. Наши редкие встречи с глазу на глаз, в особенности эта последняя, оставили яркий след в моей памяти. Для него, как и для меня, это был вечер дружбы. Однако дружеские чувства, которые я тогда испытывал (не без некоторого угрызения совести по этой причине), боюсь, не были теми, которые ему хотелось бы мне внушить. Еще весь наполненный удовольствием, которое доставили мне его курцгалоп и грациозное достижение цели, я чувствовал, что удовольствие это обусловлено тем, что каждое из движений, развернувшихся вдоль стены на скамейке, хотя и имело свои корни, свою причину в индивидуальной природе Сен-Лу, но еще более в природе, унаследованной им от предков и укрепленной в нем воспитанием.
Безошибочность вкуса не в области прекрасного, но в области манер, в силу которой человек элегантного общества, встретившись с новым обстоятельством, сразу схватывал — подобно музыканту, которого просят сыграть незнакомую вещь, — нужные чувство и ритм и применял наиболее подходящие телодвижения; безошибочность, позволявшая этому вкусу проявляться без участия каких-нибудь посторонних соображений, которыми столько молодых буржуа было бы парализовано из страха, с одной стороны, возбудить насмешки в посторонних несоблюдением приличий, а с другой стороны — показаться слишком услужливыми в глазах своих друзей (все подобные соображения заменены были у Робера своего рода презрением, которого он, правда, не чувствовал в сердце своем, но которое было унаследовано его телом от предков и сообщило его манерам известную фамильярность, с аристократической точки зрения только лестную и обаятельную для тех, к кому она бывала обращена); наконец, благородная щедрость, которая, не придавая никакого значения материальным благам (огромные расходы в этом ресторане в конце концов обратили Сен-Лу здесь, как и в других местах, в самого модного клиента и общего любимца, что подчеркивалось предупредительностью по отношению к нему не только слуг, но и всей блестящей молодежи), заставляла Робера попирать их, как эти обитые пурпуром скамейки, фактически и символически потоптанные, подобно роскошной дороге, привлекавшей моего друга только тем, что по ней можно было подойти ко мне с большей грацией и быстротой: — таковы были чисто аристократические качества, которые — подобно мастерству и силе, проглядывающим сквозь созданное ими произведение искусства, — проглядывали сквозь это тело, отнюдь не темное и непроницаемое, как, например, мое, но выразительное и прозрачное, и делали движения легкого бега, развернутого Робером вдоль стены, понятными и прелестными, точно движения всадников, вылепленных на каком-нибудь фризе. «Увы, — подумал бы Робер, — стоило ли мне с самой ранней юности презирать происхождение, уважать только справедливость и ум, предпочитать навязанным мне товарищам неуклюжих и плохо одетых юношей, если они обладали красноречием, для того чтобы единственным существом, которое открылось во мне и о котором хранят драгоценное воспоминание, было не то существо, что изваяла по моему подобию моя воля, затратив на это много благородных усилий, но существо, не являющееся моим произведением, не являющееся даже моей личностью, существо, которое я всегда презирал и старался преодолеть; стоило ли мне любить самого дорогого для меня друга, как я любил его, для того чтобы величайшим удовольствием, какое он находит в моем обществе, было удовольствие наблюдать во мне свойства гораздо более общие, чем моя индивидуальность, удовольствие, которое надо назвать, — вопреки тому, что он говорит и чему в глубине души не может верить, — не удовольствием дружбы, а удовольствием интеллектуальным и бесстрастным, одним из видов эстетического удовольствия?» Вот что, боюсь я, Сен-Лу иногда думал. В таком случае он ошибался. Если бы он не любил ничего более возвышенного, чем врожденная гибкость собственного тела, если бы он давно уже не отрешился от барской спеси, то даже его ловкость заключала бы в себе больше старательности и грузности, и манеры его отличались бы претенциозной вульгарностью. Как г-же де Вильпаризи понадобилось много серьезности, чтобы дать в своем разговоре и в своих мемуарах чувство суетности, по природе своей интеллектуальное, так и для того, чтобы тело Сен-Лу заключало в себе столько аристократизма, последний должен был покинуть его мысли, направленные на более высокие предметы, и, пропитав его тело, закрепиться в нем бессознательными и благородными линиями. Поэтому изысканность физическая не была отрешена у него от изысканности ума, и если бы последняя отсутствовала, то первая оказалась бы незавершенной. Художнику незачем прямо выражать свои мысли в своем произведении, для того чтобы они в нем отразились; не без основания было сказано, что наивысшая похвала Богу — отрицание атеиста, который находит творение достаточно совершенным, чтобы обойтись без Творца. И я хорошо знал также, что в этом юном кавалеристе, развернувшем вдоль стены фриз своего бега, я восхищался не только произведением искусства; принц (потомок Екатерины де Фуа, королевы Наваррской и внучки Карла VII), которого Робер только что покинул ради меня, знатное происхождение и богатство, которые он склонял передо мной, спесивые и стройные предки, оживавшие в уверенности, ловкости и рыцарской вежливости, с которыми он закутал мое зябкое тело в вигоневый плащ, — разве все это не были в его жизни словно друзья, более старые, чем я, и разве не было так естественно предположить, что мы всегда будем ими разлучены, между тем как он, напротив, приносил их мне в жертву путем выбора, который можно сделать не иначе, как на высотах ума, с той царственной свободой, образом которой были движения Робера и в которой осуществляется совершенная дружба?
Сколько пошлого чванства обнаруживалось в непринужденности какого-нибудь Германта — вместо изысканного благородства, присущего непринужденности Робера, ибо наследственное презрение было в ней лишь бессознательно изящной одеждой подлинной нравственной скромности, — в этом я мог убедиться не из общения с г-ном де Шарлюсом, у которого недостатки характера, до сих пор плохо мной понимавшиеся, накладывались на аристократические привычки, а ближе познакомившись с герцогом Германтским. Однако и в его манере держать себя, которая так, не понравилась бабушке, когда-то встретившей его у г-жи де Вильпаризи, были черты древнего величия, которые открылись мне, когда я пошел к нему обедать на другой день после вечера, проведенного в обществе Сен-Лу.
Черты эти не были мной замечены ни у него ни у герцогини, когда я видел герцогскую чету у г-жи де Вильпаризи, так же как на первом спектакле я не увидел различий, отделявших Берму от других актрис, хотя особенности Бермы были несравненно легче уловимыми, чем особенности светских людей: ведь особенности эти становятся более выпуклыми по мере большей реальности объектов, большей их понятности для ума. Но, как ни мало заметны оттенки светского общества (настолько, что, когда такой правдивый художник, как Сент-Бёв, хочет последовательно отметить различия, существовавшие между салонами г-жи Жофрен, г-жи Рекамье и г-жи де Буань, они все оказываются до такой степени похожими, что главная истина, вытекающая помимо воли автора из его исследований, это — ничтожество салонной жизни), я, — как это случилось со мной в отношении Бермы, — когда Германты стали для меня безразличны и капелька их оригинальности уже не обращалась в пар моим воображением, мог ее подобрать, несмотря на всю ее невесомость.
Так как на вечере у тетки герцогиня ни слова мне не сказала о своем муже, то я, считаясь со слухами о разводе, находился в неуверенности, будет ли он присутствовать на обеде. Но сомнения мои очень скоро рассеялись, ибо среди лакеев, стоявших в передней и вероятно (так как до сих пор они по-видимому смотрели на меня, как на детей столяра, то есть, может быть, с большей симпатией, чем их хозяин, но как на человека, для которого закрыты двери их дома) старавшихся понять причину случившейся революции, я увидел герцога Германтского, который подстерегал мой приход, чтобы встретить меня на пороге и самому снять мое пальто.
— Герцогиня Германтская будет как нельзя более счастлива, — сказал он чрезвычайно убедительным тоном. — Позвольте мне избавить вас от ваших пожитков (он считал, что народный язык звучит забавно и добродушно в его устах). — Жена немного опасалась отступничества с вашей стороны, хотя вы сами назначили день. С самого утра мы говорили друг другу: «Вот увидите, он не придет». Должен сказать, что герцогиня Германтская оказалась правее меня. Вас не легко заманить, и я был убежден, что вы нас надуете. — Герцог, как говорили, был таким дурным и даже грубым мужем, что ему бывали благодарны, как бывают благодарны злым людям за их ласковость, за слова «герцогиня Германтская», при помощи которых он точно осенял свою жену покровительственным крылом, так что она обращалась в одно существо с ним. Между тем, взяв меня фамильярно за руку, герцог почел своим долгом указать мне дорогу и провести в свои салоны. То или иное ходячее выражение может нравиться в устах крестьянина, если оно указывает на пережиток местного обычая, на след исторического события, может быть даже неизвестных тому, кто на них намекает; точно так же вежливость герцога, которую он мне свидетельствовал в течение всего вечера, меня пленила как остаток привычек многовековой давности, особенно свойственных XVII веку. Люди прошедших эпох кажутся бесконечно далекими от нас. Мы не решаемся приписывать им глубокие намерения, скрывающиеся под тем, что они выражают словами своей речи; мы бываем удивлены, встречая у кого-нибудь из героев Гомера чувство, почти подобное тем, что мы сами испытываем, или же искусную тактическую уловку у Ганнибала, примененную во время битвы при Каннах, когда он позволил опрокинуть свой фланг, чтобы врасплох охватить противника; можно подумать, что мы представляем себе этого эпического поэта и этого полководца столь же далекими от нас, как зверей, виденных в зоологическом саду. Точно так же, находя выражения учтивости в письмах придворных Людовика XIV к людям низшего звания, которые ничем не могли быть им полезны, мы бываем поражены внезапным открытием у этих вельмож целого мира убеждений, которых они никогда прямо не выражают, но которые ими управляют, в частности убеждения, что из вежливости необходимо симулировать некоторые чувства и с величайшей добросовестностью совершать некоторые действия, предписываемые любезностью.
Эта воображаемая отдаленность прошлого является, может быть, одним из оснований, позволяющих понять, почему даже большие писатели находили гениальную красоту в произведениях посредственных мистификаторов, вроде Оссиана. Нас настолько поражает, что древние барды могли иметь современные представления, что мы восхищаемся, встречая в старинной, как нам кажется, гаэльской песне мысль, которую нашли бы самое большее остроумной у нынешних писателей. Стоит только талантливому переводчику, с большей или меньшей точностью воспроизводящему древнего автора, прибавить к нему куски, которые, будучи подписаны современным именем и опубликованы отдельно, показались бы лишь приятными, — и он сразу придает волнующее величие своему поэту, заставляя его играть на клавиатуре нескольких веков. Переводчик этот способен был бы написать лишь посредственную книгу, если бы эта книга была издана как его оригинальное произведение. Выданная за перевод, она кажется шедевром. Прошлое вовсе не улетучивается, оно остается на месте. Не только в течение нескольких месяцев после начала войны на ход ее могут оказывать существенное действие законы, неторопливо проведенные в мирное время, не только через пятнадцать лет после совершения преступления, оставшегося нераскрытым, судебный следователь может еще находить элементы, которые прольют на него свет, — по прошествии многих и многих веков исследователь, занимающийся изучением топонимии и туземных обычаев в какой-нибудь отдаленной стране, может еще уловить в них ту или иную легенду, гораздо более древнюю, чем христианство, непонятную, а то и позабытую уже во времена Геродота, легенду, которая в названии какой-нибудь скалы, в каком-нибудь религиозном обряде уцелела среди настоящего, словно некая эманация старины, более плотная, незапамятная и стойкая. Такого рода эманацию, правда, гораздо менее древнюю, — эманацию придворной жизни можно было подметить если не в манерах герцога Германтского, часто вульгарных, то по крайней мере в духе, который ими руководил. Мне предстояло еще насладиться ею, как старым запахом, когда я обнаружил ее несколько позже в салоне. Ибо я вошел в салон герцога не сразу.
Покидая вестибюль, я сказал герцогу, что мне очень хочется посмотреть его Эльстиров. «Я к вашим услугам. Значит, г. Эльстир ваш друг? Как жаль, ведь я с ним немного знаком, это любезный человек, порядочный человек, как сказали бы наши отцы; я бы мог попросить его сделать мне одолжение прийти ко мне пообедать. Ему было бы, вероятно, чрезвычайно лестно провести вечер в вашем обществе». Очень мало напоминая человека старого режима, когда он прилагал к тому усилия, герцог в иные минуты становился им помимо своей воли. Спросив, желаю ли я, чтобы он показал мне эти картины, он повел меня, вежливо отходя в сторону перед каждой дверью и извиняясь, когда ему надо было, показывая мне дорогу, пройти вперед, — сцена, которая (со времен Сен-Симона, рассказывающего, как один из предков Германтов принимал его у себя в доме с таким же пунктуальным соблюдением всех мелочных светских обязанностей), по всей вероятности, прежде чем дойти до нас, была разыграна множеством других Германтов перед множеством других посетителей. Когда же я сказал герцогу, что очень хотел бы побыть некоторое время один перед картинами, он скромно удалился, сказав, что я его найду в салоне.
Однако, оказавшись один на один с картинами Эльстира, я совершенно позабыл об обеде; снова, как в Бальбеке, имел я перед собой фрагменты мира неведомых красок, который был не чем иным, как проекцией, своеобразной манерой видеть этого великого художника, и которого ни в малейшей степени не передавали его слова. Части стены, покрытые его живописью, совершенно однородной на всех этих образцах, были точно светящиеся образы некоего волшебного фонаря, которым являлась в настоящем случае голова художника и о необычайности которого вы ни за что бы не догадались, пока вы знали художника только как человека, иными словами, пока вы видели только фонарь, прикрывающий лампу, когда в него еще не вставлены цветные стеклянные пластинки. Больше всего интересовали меня те из картин Эльстира, которые казались наиболее смешными светским людям, так как картины эти воспроизводили оптические иллюзии, доказывающие, что мы не узнавали бы предметов, если бы не прибегали к помощи умозаключений. Как часто случается нам в экипаже открывать длинную светлую улицу, начинающуюся в нескольких метрах от нас, между тем как перед нами только ярко освещенный кусок стены, который создал этот мираж глубины. В таком случае разве не логично, вовсе не прибегая к ухищрениям символизма, но добросовестно возвращаясь к самим корням впечатления, представлять одну вещь при помощи другой, которую в ослеплении иллюзией мы было приняли за нее? Поверхности и объемы в действительности независимы от названий предметов, прилагаемых к ним нашей памятью, когда мы их узнали. Эльстир старался оторвать от почувствованного им то, что он знал, его усилие часто заключалось в разложении агрегата умозаключений, называемого нами зрением.
Люди, не терпевшие этих «ужасов», удивлялись, как это Эльстир восхищается Шарденом, Перроно и другими художниками, которых любили они, светские люди. Они не отдавали себе отчета, что Эльстир самостоятельно проделал по отношению к действительности (отметив некоторые изыскания печатью своего личного вкуса) ту же работу, что и Шарден или Перроно, и что, следовательно, в перерывах между собственными занятиями он восхищался в них попытками того же рода, фрагментами собственных произведений, которые они предвосхитили. Но светские люди не прибавляли мысленно к творчеству Эльстира перспективы Времени, позволявшей им любить или по крайней мере смотреть без утомления картины Шардена. Однако старики могли бы призадуматься над тем, что в течение их жизни, по мере того как годы удаляли их от этих произведений, непереходимая пропасть между тем, что они признавали шедевром Энгра, и тем, что, по их мнению, навсегда останется «ужасом» (например «Олимпией» Мане), все уменьшалась, так что в заключение два полотна выглядели близнецами. Но мы обыкновенно не извлекаем никакой пользы из таких уроков, потому что не умеем производить обобщений и вечно воображаем себе, будто проделываемый нами опыт не имеет никаких прецедентов в прошлом.
Я был взволнован, обнаружив на двух картинах (более реалистических, чем прочие, и относящихся к ранней манере) одного и того же господина, один раз во фраке у себя в салоне, другой раз в пиджаке и цилиндре на народном гулянье на берегу реки, где ему очевидно нечего было делать; двукратное его появление показывало, что он был для Эльстира не только привычной моделью, но другом, может быть, покровителем, которого он любил выводить на своих картинах, как некогда Карпаччо выводил известных венецианских вельмож, придавая им портретное сходство, или же подобно Бетховену, находившему удовольствие надписывать над любимыми своими произведениями дорогое ему имя эрцгерцога Рудольфа. В этом гулянье на берегу реки было нечто чарующее. Река, платья женщин, паруса лодок и бесчисленные отражения тех и других помещались рядом в квадрате картины, вырезанном Эльстиром из какого-нибудь чудесного послеполуденного часа. То, что восхищало в платье женщины, переставшей на минуту танцевать вследствие жары и одышки, мерцало также на полотне повисшего паруса, на водной поверхности маленькой гавани, на деревянной пристани, в листве деревьев и на небе. Как на одной из картин, виденных мной в Бальбеке, больница под лазоревым небом, не менее прекрасная, чем готический собор, казалось, пела, набравшись больше смелости, чем ее было у Эльстира-теоретика, Эльстира, человека со вкусом, влюбленного в средневековье: «Нет готики, нет шедевров архитектуры, больница без всякого стиля не уступает прославленному порталу», — так и теперь мне чудилось: «Довольно вульгарная с виду дама, на которую гуляющий дилетант избегал бы смотреть, которую он исключил бы из поэтической картины, развернутой перед ним природой, — дама эта тоже прекрасна, платье ее получает тот же свет, что и парус лодки, и вообще нет вещей более драгоценных и менее драгоценных, заурядное платье и сам по себе красивый парус — лишь два зеркала одного и того же отблеска, вся ценность заключена в глазах художника». А последнему удалось навеки остановить движение часов на этом лучезарном мгновении, когда даме стало жарко и она перестала танцевать, когда дерево очертилось кругом тени, когда паруса как бы заскользили по золотому лаку. Но именно потому, что мгновение тяготело над ними с такой силой, это столь неподвижное полотно создавало впечатление крайней мимолетности, чувствовалось, что дама сейчас уйдет отсюда, лодки исчезнут, тень переменит место, наступит ночь, чувствовалось, что всякое удовольствие кончается, что жизнь проходит и что мгновения, показанные таким обилием лежащих рядом световых пятен, не повторяются. Я мог увидеть еще одну (правда, совсем иную) сторону жизни мгновения на нескольких мифологических акварелях Эльстира, относящихся к самому раннему периоду его творчества; они тоже висели в этом салоне. «Передовые» светские люди доходили до признания этой манеры, но не дальше. Конечно, это было далеко не лучшее из созданного Эльстиром, но и здесь уже искренность, с которой продуман был сюжет, освобождала его трактовку от всякой холодности. Так, например, музы представлены были как существа, принадлежащие к некоему ископаемому виду, жившему в мифологические времена, когда не редкость было увидеть их проходящими вдвоем или втроем по какой-нибудь горной тропе. Иногда поэт из породы существ, тоже обладающих своеобразной индивидуальностью для зоолога (характеризуемой некоторой бесполостью), прогуливался вместе с музой, как это естественно для существ различных, но дружественных видов, которые не чуждаются друг друга. На одной из этих акварелей перед вами был поэт, обессиленный долгим путешествием по горам, которого берет себе на спину и везет повстречавшийся с ним кентавр, тронутый его усталостью. На других — необъятный пейзаж (на котором мифологическое происшествие и легендарные герои занимали самое крохотное место и казались совершенно затерянными) изображен был от вершин гор и до моря с точностью, которая передает не то что час, а даже минуту, благодаря совершенно определенному положению солнца и верной зарисовке мимолетных теней. Таким образом, закрепляя мгновение, художник сообщал мифологическому символу как бы историческую реальность переживания, писал его и повествовал о нем в прошедшем определенном времени.
Пока я рассматривал картины Эльстира, непрерывно раздавались и сладко меня баюкали звуки колокольчика прибывавших гостей. Но сменившая их тишина, которая наступила уже очень давно, в заключение пробудила меня — правда, не столь внезапно — от моей мечтательности, как тишина, наступающая после романса Линдора, пробуждает от сна Бартоло. Я испугался, что обо мне позабыли, что уже сели за стол, и поспешно направился в салон. У двери кабинета, украшенного картинами Эльстира, я нашел поджидавшего лакея, седого или напудренного, я не мог разобрать, имевшего вид испанского министра, но встретившего меня с таким почтением, точно я был король. По выражению его я почувствовал, что он ждал бы меня еще целый час, и я с ужасом подумал, насколько я задержал обед, да еще пообещав быть в одиннадцать часов у г-на де Шарлюса.
Испанский министр провел меня в салон (по дороге я встретил преследуемого консьержем лакея, который, засияв от счастья, когда я спросил, как поживает его невеста, ответил, что завтра у нее и у него свободный день и они смогут провести его вместе, после чего принялся расхваливать доброту герцогини), где я боялся застать герцога недовольным. Однако он встретил меня с радостью, отчасти, вероятно, напускной и продиктованной вежливостью, но в значительной степени искренней, внушенной и его проголодавшимся от такой задержки желудком, и сознанием, что вместе с ним томятся также его гости, которые уже все были в сборе. Действительно, я потом узнал, что меня ждали почти три четверти часа. Герцог Германтский очевидно решил, что, продлив на две минуты пытку, он ее не усилит, и что вежливость, побудившая его настолько отодвинуть минуту приглашения к столу, будет более полной, если, не приказывая подавать немедленно, он создаст во мне убеждение, что я не опоздал и никого не заставил ждать. Вот почему он спросил меня, словно в нашем распоряжении оставался еще час до обеда и некоторые из гостей еще не приехали, как я нахожу картины Эльстира. Но в то же самое время, не подавая и виду, какие он испытывает муки голода, герцог, чтобы не терять больше ни секунды, начал вместе с герцогиней представлять меня гостям. Тогда только я заметил, что вокруг меня, привыкшего (если не считать стажа в салоне г-жи Сван) дома, в Комбре и в Париже, к покровительственному или сдержанному обращению хмурых буржуа, видевших во мне мальчика, произошла смена декораций, похожая на ту, что вводит вдруг Парсифаля в общество дев-цветов. Те, что окружали меня, совершенно декольтированные (тело их выступало из обвивавшей его ветки мимозы или из широких лепестков розы), здороваясь, струили на меня долгие ласкающие взгляды, как если бы только робость препятствовала им меня поцеловать. Многие из них были, однако, вполне безупречны с точки зрения нравственности; многие, но не все, ибо самые добродетельные не испытывали к легкомысленным того отвращения, какое почувствовала бы к ним моя мать. В мире Германтов капризы поведения, отрицавшиеся вопреки очевидности святыми женщинами, имели гораздо меньшую важность, чем сохранение светских отношений. Все притворялись, будто не знают, что тело хозяйки перебывало в руках каждого, кто хотел, — лишь бы «салон» оставался незапятнанным. Так как герцог весьма мало церемонился со своими гостями (от которых давно уже ему нечего было взять и которым сам он ничего не мог дать) и очень ухаживал за мной, человеком, неведомые достоинства которого внушали ему почти такое же уважение, с каким вельможи Людовика XIV относились к буржуазным министрам, то, очевидно, считал, что незнакомство с его гостями не имеет никакого значения если не для них, то во всяком случае для меня, и в то время, как я старался произвести на них самое выгодное впечатление, он заботился только о том впечатлении, которое они произведут на меня. В самом начале, однако, со мной случились два маленьких недоразумения. Едва только я вошел в салон, как герцог Германтский, не дав мне даже времени поздороваться с герцогиней, подвел меня к одной низенькой даме, как бы желая сделать ей приятный сюрприз и мысленно обращаясь к ней: «Вот ваш друг, вы видите, я привел его к вам за шиворот». Еще прежде, чем я подошел к ней, подталкиваемый герцогом, дама эта остановила на мне свои большие ласковые черные глаза и стала посылать тысячу на что-то намекающих улыбок, которые мы обращаем к нашему старому знакомому, когда бываем неуверены, что он нас узнал. Я, действительно, не узнавал ее и никак не мог припомнить, кто она такая, и потому отвернулся, двигаясь вперед таким образом, чтобы не приходилось отвечать ей, пока меня не выведет из затруднения герцог, назвав нас друг другу. Все это время загадочная дама продолжала держать в неустойчивом равновесии предназначенную мне улыбку. Она как будто спешила от нее отделаться, услышав от меня наконец: «Ну, еще бы, мадам! Мама будет чрезвычайно рада, что мы встретились». Я с таким же нетерпением желал узнать ее имя, как она желала, чтобы я с ней наконец поздоровался, узнав ее, и чтобы ее бесконечно затянувшаяся, точно соль диез, улыбка могла, наконец, прекратиться. Но герцог Германтский так плохо выполнил свою роль, по крайней мере на мой взгляд, что назвал как будто только меня, и я по-прежнему не знал, кто эта псевдо-незнакомка, которой не пришло в голову самой назвать себя — настолько казались ей ясными темные для меня основания нашей близости. В самом деле, как только я оказался возле нее, она не протянула мне руки, а сама непринужденно взяла меня за руку и заговорила со мной таким тоном, как если бы я посвящен был в приятные воспоминания, к которым она мысленно обращалась. Она сказала, как будет жалеть Альберт (очевидно ее сын), что не мог прийти сюда. Я пытался сообразить, кто из моих прежних товарищей назывался Альбертом, но не мог припомнить никого, кроме Блока; однако передо мной не могла быть г-жа Блок, так как мать моего приятеля умерла уже несколько лет тому назад. Тщетно прилагал я усилия угадать общее у меня с этой дамой прошлое, к которому она мысленно обращалась. Я так же плохо мог разглядеть его сквозь полупрозрачный агат ее больших ласковых зрачков, пропускавших только улыбку, как мы плохо различаем пейзаж, расположенный за черным стеклом, даже когда оно озаряется солнцем. Она спросила, не слишком ли утомляется мой отец, не соглашусь ли я пойти когда-нибудь в театр с Альбертом, лучше ли я себя чувствую, и так как мои спотыкавшиеся в умственной темноте ответы приобрели определенность, лишь когда я сказал, что мне сегодня нехорошо, то она сама пододвинула мне стул, проявив тысячу знаков внимания, к которым меня не приучили другие знакомые моих родных. Наконец разгадка дана была герцогом: «Она находит вас очаровательным», — прошептал он мне на ухо; слова эти поразили меня, потому что я их уже слышал. Они сказаны были г-жой де Вильпаризи бабушке и мне, когда мы познакомились с принцессой Люксембургской. Тогда я все понял, дама, находившаяся передо мной, не имела ничего общего с принцессой Люксембургской, но по языку человека, который меня ею угощал, я распознал породу животного. Передо мной было высочество. Дама эта совершенно не знала ни семьи моей, ни меня самого, но, принадлежа к весьма знатному роду и владея огромным состоянием (дочь принца Пармского, она была замужем за родственником, тоже принцем), моя новая знакомая желала, из благодарности Творцу, засвидетельствовать ближним, даже самым бедным и худородным, что она их не презирает. По правде сказать, я бы должен был об этом догадаться уже по ее улыбкам, ведь я видел, как принцесса Люксембургская покупала на пляже ржаные хлебцы, чтобы поднести их моей бабушке, как козочке в Акклиматизационном саду. Но я имел дело всего только со второй принцессой крови, так что мое неуменье подметить общие черты любезности высокопоставленных особ было вполне простительно. Впрочем, разве сами они не позаботились предостеречь меня, чтобы я не слишком полагался на эту любезность, — разве герцогиня Германтская, так приветливо махавшая мне рукой в Комической опере, не бывала взбешена, когда я здоровался с ней на улице, разве не была похожа она на людей, которые, дав однажды просителю луидор, думают, что они навсегда расквитались с ним? А что касается г-на де Шарлюса, то высокие и низкие его качества представляли еще более разительный контраст. Мне довелось, как это будет видно в дальнейшем, познакомиться с высочествами и величествами другого рода, королевами, игравшими в королев и разговаривавшими не так, как делают это им подобные, а так, как королевы говорят в пьесах Сарду.
Герцог Германтский представил меня принцессе с такой поспешностью потому что, по его понятиям, присутствие в светском собрании человека незнакомого королевскому высочеству было недопустимо и не могло продолжаться ни секунды. Эту самую поспешность проявил Сен-Лу, когда потребовал, чтобы его представили моей бабушке. Кроме того, в силу унаследованных остатков придворных обычаев, которые называются светской вежливостью и отнюдь не являются поверхностными, ибо внешнее тут вывернуто внутрь, так что поверхность стала чем-то существенным и глубоким, герцог и герцогиня Германтские почитали своим непреложным долгом, — более важным, чем так часто пренебрегаемые, по крайней мере одним из них, долг человеколюбия, долг целомудрия, долг сострадания и долг справедливости, — обращаться к принцессе Пармской не иначе, как в третьем лице.
Так как я еще ни разу в жизни не побывал в Парме (чего так желал начиная с памятных пасхальных вакаций), то знакомство с пармской принцессой, — которой, как мне было известно, принадлежал красивейший дворец в этом единственном городе, где, впрочем, все должно было быть однородным, — городе, обособленном от остального мира между лоснящихся стен, в душной, как летний вечер на площади итальянского городка, атмосфере своего плотного и приторного имени, — должно было бы разом заменить создания моего воображения тем, что действительно существовало в Парме, явиться как бы поездкой, совершенной не трогаясь с места; в алгебре путешествия в город Джорджоне то было как бы первым уравнением с этой неизвестной величиной. Но если я в течение многих лет — подобно парфюмеру, напитывающему однородную массу жирного вещества, — напитывал имя принцессы Пармской запахом тысяч фиалок, зато, когда я увидел принцессу, которая, по моим представлениям, должна была бы быть по крайней мере Сансеверина, в сознании моем началась другая операция, завершившаяся, по правде сказать, лишь через несколько месяцев и заключавшаяся в том, чтобы с помощью новых химических процедур удалить из имени принцессы всю эссенцию фиалок и весь стендалевский аромат и ввести в него вместо них образ маленькой черноволосой женщины, занятой благотворительностью и так предупредительно любезной, что вы сразу понимали, в каком горделивом высокомерии берет начало эта любезность. Впрочем, почти во всем похожая на других великосветских дам, принцесса заключала в себе столь же мало стендалевского, как, например, Пармская улица в Париже, которая гораздо меньше походит на Парму, чем на соседние улицы, и меньше напоминает чертозу, где умер Фабриций, чем длинный коридор вокзала Сен-Лазар.
Ее любезность обусловлена была двумя причинами. Одна, общая, заключалась в воспитании, полученном этой дочерью владетельного князя. Мать ее (не только состоявшая в родстве со всеми королевскими фамилиями в Европе, но вдобавок еще — в противоположность пармскому герцогскому роду — обладавшая состоянием, равного которому не было ни у одной владетельной особы) вдолбила ей в самом нежном возрасте смиренные, но внушенные гордыней, заповеди евангельского снобизма; и теперь каждая черта лица дочери, кривая ее плеч, движения ее рук как будто повторяли: «Помни, что хотя Господь сделал так, что ты родилась на ступеньках трона, ты не должна по этому случаю презирать тех, над кем, по воле Божественного Провидения (да будет хвала ему!), ты возвышаешься своим происхождением и богатствами. Напротив, будь доброй к меньшим братьям. Предки твои были князьями Клевскими и Юлихскими с 647 года; Господь, но благости своей, пожелал, чтобы ты владела почти всеми акциями Суэцкого канала и втрое большим числом акций Royal Dutch, чем Эдмонд Ротшильд; твоя родословная по прямой линии установлена генеалогами с 63 года христианской эры; две твои золовки — императрицы. Так никогда не подавай вида, что ты помнишь об этих великих привилегиях, не потому, чтобы они были непрочными (ведь невозможно отменить древность рода, и в нефти всегда будет потребность), а потому, что совершенно лишнее показывать, что ты выше других по происхождению и что средства твои помещены в первоклассные предприятия: об этом известно всем. Оказывай помощь несчастным. Оделяй тех, кого небесная благость поместила ниже тебя, всем, что ты можешь дать, не нанося ущерба своему положению, то есть давай им деньги и даже ухаживай за больными, но, само собой разумеется, никогда не посылай им приглашений на твои вечера: это не принесет им никакой пользы, но, уронив твой престиж, нанесет урон также и твоей благотворительной деятельности».
Вот почему даже в минуты, когда она не могла делать добро, принцесса старалась показать или, вернее, создать впечатление при помощи самых разнообразных внешних знаков немого языка, что она не считает себя выше окружающих ее людей. В обращении со всеми она проявляла ту очаровательную вежливость, какая свойственна хорошо воспитанным людям в обращении с низшими, и, стараясь быть полезной, то и дело отодвигала свое кресло, чтобы оставить больше места, держала мои перчатки, предлагала все те унизительные с точки зрения чванной буржуазии услуги, которые весьма охотно оказываются высочайшими особами, а инстинктивно, по профессиональной привычке, — бывшими лакеями.
Тем временем герцог, по-видимому торопившийся закончить представления, уже увлек меня к другой деве-цветку. Услышав ее имя, я сказал этой особе, что проходил мимо ее замка недалеко от Бальбека. «Ах, как бы я была счастлива показать вам его! — сказала она почти вполголоса, чтобы показаться более скромной, но прочувствованным тоном, проникнутым сожалением по случаю упущенного редкого удовольствия, и прибавила, вкрадчиво смотря на меня: — Надеюсь, что не все потеряно. И я должна сказать, что вас еще больше заинтересовал бы замок моей тетки Бранкас; он построен Мансаром; это перл провинциальной архитектуры». Не только она сама была бы рада показать мне свой замок, но и ее тетка Бранкас с восторгом приняла бы меня, по уверению этой дамы, которая очевидно думала, что особенно в наше время, когда родовые поместья все больше переходят в руки финансистов, не умеющих жить, знатным людям важно поддерживать высокие традиции барского гостеприимства при помощи ни к чему не обязывающих слов. Как и все люди ее круга, она старалась говорить вещи, способные доставить наибольшее удовольствие собеседнику, дать ему самое высокое представление о себе, оставить его в уверенности, что с ним лестно переписываться, что он делает честь хозяевам, посещая их, что все горят желанием с ним познакомиться. Желание дать другим приятное представление о себе, правда, существует иногда также и у буржуазии. Но мы встречаем у нее благожелательное расположение как индивидуальное качество, возмещающее какой-нибудь недостаток, встречаем, увы, не у наиболее верных друзей, но по крайней мере у наиболее приятных компаньонов. Во всяком случае, здесь оно редкий цветок. У значительной части аристократии, напротив, эта черта характера перестала быть индивидуальной; культивируемая воспитанием, поддерживаемая идеей подлинного величия, не подверженного опасности унизиться, не имеющего соперников, знающего, что приветливостью оно может осчастливить, и находящего в этом удовольствие, черта эта стала родовым признаком целого класса. И даже если личные недостатки противоположного свойства препятствуют иным аристократам хранить ее в своем сердце, все же и они бессознательно носят след ее в своем словаре или в своих телодвижениях.
— Это очень добрая женщина, — сказал мне герцог о принцессе Пармской, — и она умеет, как никто, быть великосветской дамой.
Когда меня представляли женщинам, один из гостей проявлял разнообразными знаками крайнее возбуждение; то был граф Аннибал де Бреоте-Консальви. Приехав поздно, он не имел времени осведомиться о приглашенных, и когда в салон вошел незнакомец, не принадлежавший к обществу герцогини и, следовательно, имевший какие-то чрезвычайные права для доступа в этот салон, он вставил под дугообразный свод своих бровей монокль, полагая, что этот инструмент сильно поможет ему разобрать, что я за человек. Он знал, что у герцогини Германтской было — драгоценное достояние подлинно выдающихся женщин — то, что называется «салоном», то есть она иногда присоединяла к людям своего круга какую-нибудь знаменитость, выдвинувшуюся открытием нового лекарства или созданием шедевра в области одного из искусств. Сен-Жерменское предместье до сих пор оставалось под впечатлением известия, что на прием в честь английских короля и королевы герцогиня не побоялась позвать г-на Детая. Остроумные дамы предместья никак не могли утешиться в том, что не получили приглашения, — так страстно хотелось им познакомиться с этим странным талантом. Г-жа де Курвуазье уверяла, что в числе приглашенных находился также г. Рибо, но это была выдумка, пущенная с целью создать впечатление, будто Ориана добивается для своего мужа должности посла. Наконец, в довершение скандала, герцог Германтский с галантностью, достойной маршала Саксонского, представился в фойе Французской комедии м-ль Рейхенберг и пригласил ее прочитать стихи перед королем, что она и сделала, создав факт, не имеющий прецедентов в анналах раутов. Вспоминая столько неожиданностей, которые, впрочем, он вполне одобрял, сам будучи в некотором роде украшением и, подобно герцогине Германтской, но в мужеском поле, освящением салона, г. де Бреоте чувствовал, что при решении вопроса, кто я такой, открывается чрезвычайно обширное поле для его догадок. На мгновение перед ним мелькнуло имя г-на Видора; но он заключил, что я слишком молод для органиста и г. Видор слишком малозаметная фигура, чтобы быть «принятым». Ему показалось более правдоподобным увидеть во мне попросту нового атташе шведского посольства, о котором ему говорили, и он готовился расспросить меня о короле Оскаре, не раз оказывавшем ему очень хороший прием; но, когда герцог, представляя меня, назвал г-ну де Бресте мое имя, у последнего, никогда в жизни его не слышавшего, исчезли всякие сомнения насчет того, что я — знаменитость. Ориана положительно не могла обойтись без этого, она владела искусством привлекать в свой салон видных людей, разумеется, в количестве не более одного процента, иначе она бы его деклассировала. Г. де Бреоте начал уже облизываться и жадно вдыхать воздух: аппетит его разыгрался не только в предвкушении отличного обеда, но и при виде этого собрания, которое благодаря моему присутствию не могло не быть интересным и обещало дать ему на завтра материал для пикантного разговора за столом у герцога Шартрского. Он еще не выяснил окончательно, являюсь ли я изобретателем противораковой сыворотки, над которой в то время производились опыты, или же автором репетировавшейся во Французской комедии одноактной пьесы, но, будучи человеком крайне любознательным и большим любителем «рассказов о путешествиях», уже расшаркивался передо мной, подмигивал мне с видом единомышленника и посылал через монокль улыбки; может быть он руководился ложным представлением, что человек незаурядный оценит его выше, если ему удастся внушить этому человеку иллюзию, что для него, графа де Бреоте-Консальви, умственные преимущества достойны не меньшего уважения, чем преимущества, даваемые происхождением; а может быть попросту он чувствовал потребность выразить свое удовольствие, но был в затруднении, каким языком со мной заговорить, все равно как если бы он очутился перед туземцами неведомой страны, к которой пригнало бы его плот, и попытался бы, в надежде на барыш, выменять у них страусовые яйца и пряности на стеклянные бусы, с любопытством наблюдая при этом их обычаи и всячески изъявляя дружеские чувства, а также испуская подобно им громкие крики. Ответив по мере сил на радостные приветствия г-на де Бреоте, я пожал руку герцога де Шательро, которого уже встречал у г-жи де Вильпаризи; он назвал ее тонкой бестией. Белокурые волосы, нос с горбинкой, розовые пятна на щеках резко обличали в нем тип Германтов, который можно видеть уже на портретах представителей этого рода XVI и XVII веков. Но так как я больше не любил герцогини, то ее воплощение в образе молодого человека не представляло для меня ничего привлекательного. Я читал крючок, образуемый носом герцога де Шательро, как подпись под давно изучаемой, но совершенно переставшей интересовать картиной. Потом я поздоровался также с принцем де Фуа и, на беду для моих пальцев, которые высвободились лишь сильно помятые, опрометчиво сунул их в тиски, каковыми оказалось сопровождаемое иронической или добродушной улыбкой немецкое рукопожатие друга г-на де Норпуа, князя фон Фаффенгейма. По свойственной этим кругам мании давать прозвища, Фаффенгейма так единодушно называли князем Фон, что он и сам стал подписываться «князь Фон» или, когда обращался к близким людям, просто «Фон». На худой конец с этим сокращением еще можно было примириться, так как имя князя было слишком длинное. Менее понятны были основания, заставлявшие заменять Елизавету то Лили, то Бебет, вроде того как в другом обществе кишели Кики. Вы готовы допустить, что люди, правда, праздные и суетные, усвоили кличку «Кью», чтобы не терять времени на произнесение «Монтескью». Но вы не видите, что они выигрывают, называя одного из своих кузенов Динандом вместо Фердинанда. Не надо, впрочем, думать, что уменьшительные имена неизменно образовывались Германтами путем повторения какого-нибудь слога. Так, двух сестер, графиню де Монпейру и виконтессу де Велюд, отличавшихся необыкновенной толщиной, все называли, не возбуждая в них ни малейшего недовольства и не вызывая ни у кого улыбки, настолько привычка эта была давнишняя, не иначе, как «Малютка» и «Крошка», и герцогиня Германтская, обожавшая г-жу де Монпейру, со слезами спросила бы ее сестру, если бы она тяжело заболела: «Мне сказали, что Малютке очень плохо». Г-жу де л'Эклен, волосы которой были разделены на широкие пряди, совершенно закрывавшие ей уши, всегда называли «Голодное брюхо». Иногда для обозначения жены довольствовались прибавкой буквы «а» к фамилии или имени ее мужа. Так, самый скупой, самый мелочный, самый бесчеловечный муж Сен-Жерменского предместья назывался Рафаэлем, и его прелестная жена, цветок, пробивающийся из-под скалы, всегда подписывалась Рафаэла; но это только немногие образчики бесчисленных правил, на которых мы всегда сможем остановиться, если представится случай. Потом я попросил герцога представить меня принцу Агригентскому. «Как, вы не знакомы с очаровательным Гри-Гри!» — воскликнул герцог и назвал меня принцу. Имя последнего, так часто произносившееся Франсуазой, всегда представлялось мне прозрачным стеклянным сосудом, в котором я видел озаренные на берегу фиолетового моря косыми лучами золотистого солнца розовые кубы античного города, не сомневаясь, что принц — проездом по какому-то чуду очутившийся в Париже — является настоящим государем этого города, светозарно сицилийским и покрытым благородной патиной. Увы, пошлый ветрогон, которому меня представили и который, здороваясь со мной, сделал тяжеловесный пируэт, по его мнению элегантный, имел столь же мало общего со своим именем, как с каким-нибудь произведением искусства, которое ему принадлежало, не бросая на него никакого отблеска и даже, может быть, ни разу не остановив на себе его взгляда. Принц Агригентский был настолько лишен чего бы то ни было княжеского и могущего напомнить об Агригенте, что вы готовы были предположить, что имя его, не имевшее с ним ничего общего, ничем не связанное с его личностью, обладало способностью притягивать к себе все то неопределенно поэтическое, что могло заключаться в этом человеке, как и во всяком другом, и наглухо заключало его после этой операции в свои волшебные слоги. Если такая операция имела место, то она была выполнена в совершенстве, ибо из этого родственника Германтов нельзя было извлечь ни атома очарования. Настолько, что он оказывался единственным человеком на свете, который был принцем Агригентским, и в то же время, может быть, человеком, который был им всего менее. Впрочем, он был очень доволен своим титулом, но так, как бывает доволен банкир, который владеет большим числом акций какого-нибудь рудника, нисколько не интересуясь, носит ли этот рудник красивое имя Айвенго или Примароза, или же называется только рудником номер первый. Пока заканчивались эти представления, о которых так долго рассказывать, но которые в действительности заняли всего несколько мгновений, и герцогиня Германтская говорила мне почти молящим тоном: «Я уверена, что Базен утомляет вас, водя так от одного к другому, мы хотим, чтобы вы познакомились с нашими друзьями, но мы вовсе не хотим вас утомлять, чтобы не отбить у вас охоту бывать у нас почаще», — герцог довольно неловким и робким движением сделал знак (ему наверное хотелось бы сделать его уже час тому назад, — час, заполненный для меня рассматриванием картин Эльстира), что можно подавать на стол.
Надо сказать, что недоставало еще одного из приглашенных, г-на де Груши, жена которого, родственница Германтов, явилась одна; муж целый день охотился и должен был приехать прямо с охоты. Потомок генерала Первой Империи, о котором неправильно утверждают, будто его отсутствие в начале битвы под Ватерлоо послужило главной причиной поражения Наполеона, г. де Груши был из прекрасной семьи, незначительной, однако, с точки зрения некоторых ревнителей знати. Так, принц Германтский, который много лет спустя оказался гораздо менее требовательным по отношению к себе самому, имел обыкновение говорить своим племянницам: «Какое несчастье для бедной виконтессы Германтской (матери г-жи де Груши), что ей не удалось выдать замуж своих дочерей. — Помилуйте, дядюшка, старшая вышла за г-на де Груши. — Его я не называю мужем! Правда, говорят, будто дядя Франсуа попросил руки младшей, значит, не все они останутся в девках». — Едва только отдано было приказание подавать, как двери столовой, точно приведенные в действие каким-то сложным вращательным механизмом, распахнулись настежь; метрдотель, имевший вид церемониймейстера, поклонился принцессе Пармской и возвестил: «Мадам, кушать подано», тоном, которым он сказал бы: «Мадам при смерти», но который нисколько не опечалил собравшихся, потому что пары с веселым видом, как парижане летом в местечке Робенсон, двинулись одна за другой в столовую, разлучаясь, когда они доходили до своих мест, где лакеи пододвигали им стулья; последней подошла ко мне герцогиня Германтская, желая, чтобы я отвел ее к столу; я не почувствовал и тени робости, как мог бы опасаться, ибо эта охотница с большой тренировкой, сообщившей ей непринужденную грацию, увидев, что я подошел к ней не с той стороны, с какой надо было, сделала оборот вокруг меня с такой точностью, что я нашел ее руку на моей в самом естественном обрамлении строго размеренных и благородных движений. Я повиновался им с тем большей легкостью, что Германты придавали своим манерам не больше значения, чем его придает науке настоящий ученый, в обществе которого вы меньше робеете, чем в обществе невежды. В это время отворились другие двери, через которые внесен был дымящийся суп, как если бы обед был ловко инсценирован в театре марионеток, где запоздалое прибытие молодого гостя привело в действие, по знаку хозяина, сложную систему колесиков.
Знак герцога, пустивший в ход весь этот огромный, замысловатый, послушный и блиставший роскошью человеческий часовой механизм, был робок и не заключал в себе ничего царственно-величественного. Нерешительность жеста не повредила, однако, в моих глазах эффекту подчиненного ему зрелища. Ибо я чувствовал, что вся неловкость и сдержанность герцога объяснялись боязнью показать мне, что ожидали только моего прихода, чтобы сесть за стол, и притом ожидали долго, как я почувствовал также опасение герцогини Германтской, не утомила ли меня, после того как я посмотрел столько картин, эта длинная вереница представлений, и не мешает ли она мне держаться непринужденно. Таким образом недостаточно величественный жест герцога заключал в себе подлинное величие. То же можно сказать и о его равнодушии к собственной роскоши в противоположность вниманию к незначительному гостю, которому он желал оказать почет. Отсюда не следует, чтобы в герцоге Германтском не было ничего заурядного; в нем было даже немало смешных черточек, свойственных богачам, было чванство выскочки, которым он не являлся.
Но, подобно тому как чиновник или священник находят для своих скромных дарований мощную поддержку (так волна поддерживается всем бунтующим за нею морем) в силах, на которые они опираются: в системе управления и в католической церкви, герцог Германтский находил поддержку в другой силе: в старинной аристократической вежливости. Вежливость эта на многих не распространялась. Герцогиня Германтская не приняла бы г-жу де Камбремер или г-на де Форшвиля. Но с той минуты, как кто-нибудь (в данном случае я) оказывался принятым в общество Германтов, вежливость эта обнаруживала сокровища простоты и гостеприимства, еще более великолепные, если это возможно, чем старинные салоны герцога с сохранившейся в них чудесной обстановкой.
Желая доставить вам удовольствие, герцог Германтский принимал вас как самого почетного гостя, мастерски пользуясь обстановкой и местом. По всей вероятности эти «тонкости» и эти «милости» приняли бы в Германте другую форму. Он велел бы, например, заложить лошадей, чтобы прокатиться со мной до обеда. Вы бывали тронуты его обхождением, как при чтении мемуаров вас трогает обхождение Людовика XIV, когда он ласково, со смеющимся и полупочтительным видом отвечает какому-нибудь просителю. Однако надо помнить, что в обоих случаях вежливость не простиралась за пределы значения этого слова.
Людовик XIV (которого ревнители аристократических устоев того времени упрекают, однако, за недостаточно строгое соблюдение этикета, настолько, что, по словам Сен-Симона, он был весьма ничтожным королем по сравнению с Филиппом Валуа, Карлом V и т. п.) выработал самые мелочные инструкции насчет того, кому из суверенов должны уступать место принцы крови и послы. В иных случаях, при невозможности достигнуть соглашение, сыну Людовика XIV, монсеньеру, лучше, было принять такого-то иностранного монарха на открытом воздухе, чтобы никто не вправе был сказать, будто, входя во дворец, один из них опередил другого; курфюрст пфальцский, пригласив герцога де Шевреза обедать, притворяется больным, чтобы не уступить ему места, и обедает с ним лежа, чем разрешает затруднение. Так как герцог избегает случаев оказать услугу мосье, то последний, по совету короля, своего брата, который его, впрочем, нежно любит, придумывает какой-то предлог, чтобы пригласить кузена на свой утренний туалет и заставить надеть на него рубашку. Но когда речь заходит о каком-нибудь глубоком чувстве, о влечениях сердца, то столь непреложный в отношении вежливости долг утрачивает свою обязательность. Через несколько часов после смерти этого нежно любимого брата, когда мосье, по выражению герцога де Монфора, был «еще весь теплый», Людовик XIV распевает арии из опер, удивляется, что герцогиня Бургундская, которая едва в силах скрывать свое горе, имеет такой печальный вид, и, желая, чтобы веселье тотчас возобновилось и придворные решились снова сесть за игру, приказывает герцогу Бургундскому начать партию в брелан. И вот, не только в светских обдуманных поступках герцога Германтского, но и в его самых непроизвольных выражениях, в его заботах и в его времяпрепровождении вы обнаруживали такой же контраст: Германты чувствовали горе не сильнее, чем прочие смертные, можно даже сказать, что чувствительность их в этом отношении была более слабой; зато имя их можно было каждый день увидеть в светской хронике газеты «Голуа» благодаря огромному количеству похорон, на которых они сочли бы преступным не показаться. Как путешественник находит почти в неизменном виде дома, крытые глиной, и террасы, которые могли видеть Ксенофонт и апостол Павел, так и в манерах герцога Германтского, человека, умилявшего своей любезностью и возмущавшего своей грубостью, раба самых мелочных условностей и пренебрегающего самыми священными обязанностями, я находил в неприкосновенности, несмотря на два протекшие столетия, характерное для придворных нравов Людовика XIV извращение, которое переносит щепетильность из области глубоких чувств и морали на вопросы чистой формы.
Другая причина любезности ко мне принцессы Пармской была более частного характера. Принцесса была наперед убеждена, что все, что она видит у герцогини Германтской, как вещи, так и люди, выше по качеству, чем то, что есть у нее самой. Правда, и у других она вела себя точно таким же образом; отведав самое простое блюдо, увидев самые обыкновенные цветы, она не довольствовалась выражением своих восторгов, но просила позволения прислать на другой день за рецептом кушанья или для осмотра цветка своего старшего повара или старшего садовника, лиц, получавших крупное жалованье, имевших собственный выезд и державшихся чрезвычайно высокого мнения о своих профессиональных способностях; они считали крайне унизительным для себя ездить осведомляться о каком-то посредственном блюде или брать за образец разновидность гвоздики, не выдерживающую никакого сравнения по пышности, раскраске и величине с цветами, которые им давно уже удалось вырастить у принцессы. Но если ее восхищение ничтожнейшими вещами у простых смертных было притворным и имело целью показать, что высокое положение и богатство не служат для нее источником запрещенной ее наставниками гордости, тщательно скрывавшейся ее матерью и нестерпимой для Бога, зато она совершенно искренно смотрела на салон герцогини Германтской как на место привилегированное, где ее могло только приятно поразить все увиденное. Впрочем, и независимо от этих восторгов принцессы Пармской Германты довольно резко отличались от остального аристократического общества, они были более изысканны и более исключительны. Правда, с первого взгляда они произвели на меня противоположное впечатление, я нашел их заурядными, подобными всем мужчинам и всем женщинам, но это оттого, что предварительно я видел в них, как в Бальбеке, как во Флоренции, как в Парме, только имена. Все женщины в этом салоне, которых я воображал саксонскими статуэтками, были, однако, больше похожи на самых обыкновенных женщин. Но, подобно Бальбеку и Флоренции, Германты, обманув воображение тем, что были больше похожи на себе подобных, чем на свое имя, могли впоследствии, хотя и в меньшей степени, обнаружить некоторые отличавшие их особенности. Самая их внешность, цвет их кожи — розовый, переходивший иногда в фиолетовый, — светлобелокурые тонкие волосы, даже у мужчин, собранные в мягкие золотистые пучки и напоминающие частью растущие на стенах лишаи, частью шерсть хищников из породы кошачьих (этому светлому отливу волос соответствовал своеобразный блеск ума, и если говорили об определенном цвете волос, то говорили также об остроумии Германтов, как об остроумии Мортемаров — этом более тонком светском качестве, получившем общее признание начиная с эпохи Людовика XIV), — все это приводило к тому, что в веществе аристократического общества, куда там и здесь вкраплены были Германты, их легко было распознать и разглядеть, подобно светлым прожилкам, расцвечивающим яшму и оникс, или, еще точнее, подобно мягкому колыханью развевающихся светлых волосков, которые бегут гибкими лучами в темной мгле пенистого агата.
Германты — по крайней мере те, что были достойны своего имени — отличались не только изысканным качеством кожи, волос, прозрачных глаз, но также особенной манерой держаться, ходить, здороваться, смотреть на вас перед рукопожатием, пожимать вам руку; во всем этом они были настолько же непохожи на остальных светских людей, насколько последние непохожи на фермеров в блузах. И, несмотря на их любезность, вы говорили себе: разве не вправе они, хотя бы они это скрывали, видя, как вы ходите, здороваетесь, держите себя, видя все эти вещи, которые, когда их совершали они сами, приобретали такое изящество, как полет ласточки или изгиб ветки с розами, разве не вправе они подумать: те люди другой породы, чем мы, мы же — цари земли. Впоследствии я понял, что Германты действительно считали меня существом другой породы, но возбуждавшим в них зависть, ибо я обладал неизвестными мне самому достоинствами, которые, по их уверению, единственно только имели цену. Еще позже я почувствовал, что это уверение было лишь наполовину искренним и что презрение или удивление сосуществовали у них с восхищением и завистью. Свойственная Германтам телесная гибкость была двоякой; с одной стороны, она всегда находилась в действии, и если, например, кто-нибудь из Германтов-мужчин собирался поздороваться с дамой, тело его изгибалось в силуэт, составленный из неустойчивых асимметричных движений, нервно уравновешиваемых, одна нога немного волочилась, отчасти намеренно, а отчасти потому, что, получая часто переломы на охоте, она искривила туловище, чтобы догонять другую ногу, и в противовес ему выпятила плечо, между тем как монокль водворялся в глазу и приподнимал бровь в то самое мгновение, когда вихор опускался для поклона; с другой стороны, эта гибкость, подобно форме волны, ветра или струи за кормой, которую всегда оставляет за собой в одинаковом виде корабль, так сказать, стилизовалась в своего рода застывшей подвижности, изогнув под голубыми глазами навыкате и над слишком тонкими губами (откуда у женщин выходил хриплый голос) нос с горбинкой, который напоминал о легендарном происхождении, придуманном в XVI веке угодливыми и эллинизирующими тунеядцами-генеалогами для этого рода, древнего, конечно, но не настолько, как они утверждали, приписывая его начало мифологическому оплодотворению некоей нимфы божественной птицей.
Не менее, чем с физической точки зрения, Германты были своеобразны с точки зрения интеллектуальной. Если не считать принца Жильбера (супруга «Мари Жильбер», отличавшегося старомодными понятиями, который заставлял жену садиться в экипаже по левую руку от себя на том основании, что она была ниже его по происхождению, хотя в числе ее предков были короли), но он составлял исключение и служил, в свое отсутствие, предметом насмешек семьи и давал пищу для все новых анекдотов, Германты, живя все время среди «сливок» аристократии, делали вид, будто не придают знатности никакого значения. Теории герцогини Германтской, которая, по правде говоря, проникшись духом Германтов, сделалась в некоторой мере существом иного рода, более приятным, до такой степени превыше всего ставили ум и в политике были настолько социалистическими, что вы задавались вопросом, где же в ее особняке прячется гений, которому поручено блюсти аристократический уклад и который, никогда не попадаясь на глаза, но очевидно притаившись то в передней, то в туалетной, напоминал слугам этой женщины, не верившей в титулы, что к ней следует обращаться «госпожа герцогиня», напоминал этой особе, любившей только чтение и нисколько не считавшейся с людским мнением, что надо идти обедать к невестке, когда часы били восемь, и для этого декольтироваться.
Тот же гений рода представлял герцогине Германтской положение герцогинь, по крайней мере самых именитых и, подобно ей, мультимиллионерш, принесение в жертву скучным визитам, званым обедам и раутам часов, которые она могла заполнить чтением интересных вещей, — как неприятную необходимость, похожую на дождь, которую она принимала, упражняя на ней свое фрондирующее остроумие, но не углубляясь в разыскание причин этого приятия. Курьезная случайность, в силу которой дворецкий герцогини Германтской всегда обращался к этой женщине, верившей только в ум: «госпожа герцогиня», по-видимому, все же ее не оскорбляла. Ни разу не пришло ей в голову попросить дворецкого обращаться к ней просто «госпожа». Проявляя самую крайнюю снисходительность, можно было бы, пожалуй, допустить, что по рассеянности она слышала только слово «госпожа», а придаток к этому слову не достигал ее ушей. Однако, если герцогиня притворялась глухой, то она не была немой. Ибо каждый раз, когда ей нужно было что-нибудь передать мужу, она говорила дворецкому: «Напомните господину герцогу…»
У гения рода были, впрочем, и другие заботы, например, направлять разговор на тему о морали. Конечно, были Германты, выше всего ставившие ум, и Германты, выше всего ставившие нравственность, причем это бывали обыкновенно люди разные. Но первые — не исключая даже одного Германта, совершавшего подлоги и плутовавшего в игре, который был самым милым из всех, способным к усвоению всех новых и верных идей, — рассуждали о нравственности еще лучше, чем вторые, рассуждали так, как это делала г-жа де Вильпаризи в те минуты, когда гений рода высказывался устами старой дамы. В подобные минуты Германты вдруг брали почти такой же старомодный, такой же добродушный тон (но благодаря их большей привлекательности он звучал у них более трогательно, чем у маркизы), когда говорили о какой-нибудь горничной: «Чувствуется, что основа у ней хорошая, это девушка незаурядная, вероятно, она дочь порядочных людей, она, конечно, никогда не собьется с пути». В такие минуты гений рода становился интонацией. Но иногда он проявлялся также в осанке, в выражении лица, которое бывало у герцогини таким же, как у ее дедушки маршала, в неуловимой судороге (подобной судороге змея, карфагенского гения рода Барка), не раз вызывавших у меня сердцебиение во время моих утренних прогулок, когда, прежде чем узнать герцогиню, я чувствовал на себе ее взор из глубины маленькой молочной. Гений этот сказался в одном обстоятельстве, далеко не безразличном не только для Германтов, но и для Курвуазье, другой части рода, почти такого же знатного происхождения, как и Германты, но представлявшей их полную противоположность (Германты приписывали даже упорство, с которым принц Германтский вечно говорил о происхождении и о знатности, точно это была единственная стоящая внимания тема, влиянию его бабушки Курвуазье). Курвуазье не только не отводили уму того почетного места, какое ему принадлежало у Германтов, но и представление о нем у них было иное. Для Германтов (хотя бы даже глупцов) быть умным значило быть зубастым, быть способным говорить злые вещи, язвительно подшутить, значило уметь высказать свое суждение о живописи, о музыке, об архитектуре, уметь говорить по-английски. У Курвуазье сложилось менее благоприятное представление об уме; так, если речь шла о человеке, не принадлежавшем к их обществу, то быть умным означало для них почти то же самое, что «быть по всей вероятности убийцей родных отца и матери». Для них ум был чем-то вроде воровской отмычки, с помощью которой люди без роду и без племени взламывали двери в самые почтенные салоны, и Курвуазье были уверены, что рано или поздно вы раскаетесь в том, что принимали подобных «фруктов». Самым незначительным утверждениям умных людей, не принадлежавших к их обществу, Курвуазье оказывали систематическое недоверие. Когда кто-то сказал однажды: «Сван ведь моложе Паламеда», — г-жа де Галлардон ответила: «По крайней мере, так он вам говорит, а если он так говорит, то будьте уверены, что ему это выгодно». Больше того, когда заговорили по поводу двух весьма элегантных иностранок, принятых у Германтов, что одна из них была представлена раньше, так как она старшая, г-жа де Галлардон спросила: «Что вы говорите, неужели старшая?» — не потому, чтобы, с ее точки зрения, подобного рода люди не имели возраста, но потому, что, лишенные в ее глазах всякого звания, вероисповедания и традиций, обе эти иностранки были более или менее молоды, как котята одного выводка, между которыми может разобраться один только ветеринар. Впрочем, в известном смысле Курвуазье лучше, нежели Германты, охраняли неприкосновенность знати: узость ума и злобность сердца одинаково помогали им в этом. Между тем Германты (для которых все, что было ниже королевских и еще нескольких родов, как Ле Линь, Ла Тремуй и т. п., смешивалось в бесформенную мелочь) вели себя нагло с людьми древних родов, жившими близ Германта, именно потому, что они не уделяли внимания достоинствам второго сорта, которыми так интересовались Курвуазье, — с их точки зрения, отсутствие этих достоинств было мало существенно. Некоторые женщины, занимавшие не очень высокое положение у себя в провинции, но блестяще вышедшие замуж, красивые, любимые герцогинями, были для Парижа, где мало осведомлены насчет «папаш и мамаш», превосходной и элегантной статьей ввоза. Случалось, хотя и редко, что такие женщины через посредство принцессы Пармской или благодаря личной привлекательности бывали приняты у некоторых Германтов. Зато Курвуазье не переставали негодовать на них. Встретить у кузины между пятью и шестью людей, с родителями которых их родители не любили водиться в Перше, было для них кровной обидой, приводившей их в бешенство и служившей темой неиссякаемых декламаций. Всякий раз, например, когда прелестная графиня Г. входила в салон Германтов, лицо г-жи де Вильбон принимало точь в точь такое выражение, как если бы она декламировала стих:
//Коль долгу верен хоть один, им буду я!//
стих, который был ей, впрочем, неизвестен. Эта Курвуазье почти каждый понедельник съедала эклер с кремом в нескольких шагах от графини Г., но безрезультатно. И г-жа Вильбон признавалась тайком, что она не может понять, как это ее кузина принимает женщину, которая не принадлежала даже к обществу второго сорта в Шатодене. «Право, моей кузине незачем быть такой разборчивой в выборе знакомств, она насмехается над обществом», — заключала г-жа де Вильбон с другим выражением лица, на этот раз улыбающимся и подтрунивающим с отчаяния, — выражением, скорее приспособленным игрой в загадки для другого стиха, понятно, тоже неизвестного графине:
//Мое несчастие надежду превосходит.//
Предвосхитим, однако, события, сказав, что упорное нежелание г-жи де Вильбон признать г-жу Г. не осталось вовсе безрезультатным. Оно сообщило г-же де Вильбон такой престиж (впрочем, совершенно мнимый) в глазах г-жи Г., что дочь г-жи Г., самая красивая и самая богатая из девиц, блиставших на балах того времени, отказала, к общему удивлению, всем предлагавшим ей руку герцогам. Дело в том, что мать ее, вспоминая обиды, которые она еженедельно сносила на улице Гренель из-за своего положения в Шатодене, желала по-настоящему одного только мужа для дочери: сына г-жи де Вильбон.
Единственно, в чем сходились Германты и Курвуазье, так это в искусстве, впрочем, бесконечно разнообразном, подчеркивать отделяющее их от вас расстояние. Манера Германтов не была совершенно одинаковой у всех. Но, например, все Германты, от самых настоящих, когда им вас представляли, выполняли некоторый церемониал, как если бы тот факт, что они подали вам руку, был столь же значителен, как посвящение вас в рыцари. Когда кто-нибудь из Германтов, даже двадцатилетний юноша, но уже шествующий по стопам старших, слышал ваше имя, произнесенное представляющим вас лицом, он ронял на вас, как будто у него и в мыслях не было с вами здороваться, обыкновенно голубой и всегда холодный как сталь взгляд, точно намереваясь пронзить им вас до самых затаенных уголков вашего сердца. Впрочем, Германты убеждены были, что им это и удается, так как все они считали себя первоклассными психологами. Они думали, что осмотр этот повышает любезность последующего поклона, так как он отдается вам вполне сознательно. Все это происходило на расстоянии от вас, которое можно было бы счесть незначительным, если бы речь шла о выпаде рапирой, но которое казалось огромным для рукопожатия и страшило во втором случае не меньше, чем устрашило бы в первом, так что когда Германт, после быстрого обследования самых укромных тайников вашей души и вашей порядочности, признавал вас достойным быть отныне знакомым с ним, то его кисть, поднесенная вам на конце вытянутой во всю длину руки, как будто подавала вам рапиру для какого-то необыкновенного поединка; кисть эта помещалась в тот миг в общем так далеко от Германта, что, когда он наклонял голову, трудно было разобрать, вам ли он кланяется или же собственной руке. Некоторые Германты, лишенные чувства меры или же неспособные не повторяться без конца, впадали в преувеличение, возобновляя эту церемонию при каждой встрече с вами. Так как им больше не было надобности производить предварительное психологическое обследование, для которого «гений рода» наделил их соответственными способностями, то настойчивость пронизывающего взгляда, предварявшего рукопожатие, могла быть объяснена лишь автоматическим движением их глаз или желанием вас загипнотизировать. Курвуазье, у которых строение тела было другое, тщетно пытались перенять этот испытующий поклон: он свелся у них к высокомерной чопорности или к пренебрежительной поспешности. Зато некоторые очень немногочисленные Германты женского пола по-видимому заимствовали у Курвуазье дамский поклон. Действительно, когда вас представляли какой-нибудь из таких дам, она делала низкий поклон, приближая к вам в это время под углом в сорок пять градусов голову и бюст, между тем как нижняя часть тела (до пояса, который служил как бы осью вращения) оставалась неподвижной. Но, метнув таким образом к вам верхнюю часть своей особы, она тотчас же откидывала ее резким броском почти на такой же угол назад. Это последующее движение отнимало все, что, казалось, было вам уступлено, участок, как будто уже вами завоеванный, не оставался в вашем распоряжении, как на дуэли, исходные позиции были сохранены. Такое аннулирование любезности путем восстановления расстояния (шло оно от Курвуазье, и назначение его было показать, что проявленная в первом движении предупредительность была лишь кратковременным притворством) выражалось не менее ясно, как у Курвуазье, так и у Германтов, в письмах, которые вы получали от женских представительниц обеих фамилий, по крайней мере в первую пору знакомства с ними. Самые эти письма содержали иногда фразы, которые пишутся только друзьям, но напрасно вздумали бы вы похвалиться тем, что являетесь другом написавшей вам дамы, ибо письмо начиналось обращением «милостивый государь» и кончалось фразой: «Верьте, милостивый государь, моим наилучшим чувствам». При таких условиях между холодным началом и леденящим концом, которые меняли смысл всего остального, могли помещаться (если это был ответ на ваше соболезнование) самые трогательные картины горя вашей дамы по случаю потери сестры, картины близости, существовавшей между ними, описания красот местности, где она жила, и как ее утешают маленькие дети, — все равно это было только письмо, подобное тем, что можно найти в сборниках, и интимный его характер устанавливал между вами и женщиной, написавшей вам это письмо, не больше близости, чем в том случае, если бы она была Плинием Младшим или г-жой де Симиан.
Некоторые Германты-дамы, правда, с первого же раза писали вам «мой дорогой друг» или «мой друг», и это не всегда были самые простые между ними, но скорее те, что, вращаясь всегда среди королей и будучи, с другой стороны, «легкомысленными», в своем самомнении воображали, будто все от них исходящее доставляет удовольствие, а вследствие своей развращенности привыкли не скупиться на удовольствия, которые они способны были доставить. Впрочем, достаточно было какому-нибудь молодому Германту иметь общую с маркизой Германтской прабабушку, жившую при Людовике XIII, и он уже называл эту маркизу «тетушкой Адам»; таким образом Германты были столь многочисленны, что даже эти простые обряды, например, поклоны, которые они делали, знакомясь с вами, отличались большим разнообразием. У каждой сколько-нибудь утонченной подгруппы был свой, который передавался от родителей к детям, наряду с рецептом лекарства от поранений и особенным способом варить варенье. Так, Сен-Лу, услышав ваше имя, пожимал вам руку механическим жестом, в котором не участвовал его взгляд и к которому не присоединялся поклон. Бедный разночинец, представленный по какому-нибудь особенному поводу, — что, впрочем, случалось очень редко, — кому-либо из членов подгруппы Сен-Лу, ломал себе голову перед этим столь торопливым минимумом приветствия, умышленно придающего себе видимость бессознательности, пытаясь понять, что этот Германт может иметь против него. И он бывал крайне удивлен, узнав, что этот Германт счел «уместным написать лицу, которое его представило, специальное письмо, в котором говорил, как вы ему понравились и как он желает снова с вами встретиться. Столь же своеобразными, как механический жест Сен-Лу, были сложные и стремительные антраша (крайне смешные, с точки зрения г-на де Шарлюса) маркиза де Фьербуа и важная размеренная поступь принца Германтского. Но здесь невозможно описать всей этой богатой хореографии Германтов по причине многочисленности занятого ею кордебалета.
Возвращаясь к антипатии, которую чувствовали Курвуазье к герцогине Германтской, скажем, что, пока герцогиня была девушкой, они могли находить утешение, жалея ее, ибо в то время у нее не было большого состояния. К несчастью, какая-то особенная черная пелена всегда застилала, скрывала от глаз богатство Курвуазье, которое, при всей его значительности, оставалось незаметным. Напрасно какая-нибудь очень богатая Курвуазье выгодно выходила замуж, неизменно случалось так, что молодая чета не имела собственного помещения в Париже, а останавливалась у своих родителей, остальное же время года жила в провинции, в обществе хотя и безупречном, но лишенном всякого блеска. В то время как Сен-Лу, не имевший больше ничего, кроме долгов, ослеплял Донсьер своими выездами, богач Курвуазье ездил там только в трамвае. Наоборот (впрочем, за много лет до этого), м-ль Ориана (ставшая впоследствии герцогиней Германтской), у которой было не бог весть какое состояние, заставляла говорить о своих туалетах больше, чем говорили о туалетах всех Курвуазье, вместе взятых. Скандальность ее высказываний служила своего рода рекламой ее манере одеваться и причесываться. Она отважилась обратиться к одному русскому великому князю с вопросом: «Правда ли, ваше высочество, что вы хотите умертвить Толстого?» Произошло это на обеде, на который не были приглашены Курвуазье, впрочем, мало осведомленные о Толстом. Осведомленность их относительно греческих авторов была немногим больше, если судить об этом по вдовствующей герцогине де Галлардон (свекрови принцессы де Галлардон, тогда еще девушки), которая, не удостоившись за пять лет ни одного визита Орианы, ответила на чей-то вопрос о причинах ее отсутствия: «Должно быть, она декламирует Аристотеля (она хотела сказать: Аристофана) в свете. Я этого не терплю у себя!»
Можно себе представить, в какое восхищение приводила Германтов возмущавшая Курвуазье выходка м-ль Орианы по поводу Толстого, а наряду с Германтами всех, кто хотя бы отдаленно тяготели к ним. Вдовствующая графиня д'Аржанкур, урожденная Сенпор, принимавшая всех понемногу, потому что была синим чулком, хотя сын ее славился своим снобизмом, передавала крылатые слова собиравшимся у нее писателям, говоря: «Ориана Германтская, о, это тонкая штучка, она хитра, как обезьяна, она на все руки мастер, пишет акварели не хуже больших художников, а стихи так, как это делают лишь немногие большие поэты, и, вы знаете, она принадлежит к самым верхушкам аристократии, ее бабушка была мадмуазель де Монпансье, она восемнадцатая Ориана Германтская, предки ее не знали неравных браков, в ней течет самая чистая, самая старая французская кровь». Таким образом лжеписатели, эти полуинтеллигентные гости г-жи д'Аржанкур, представлявшие себе Ориану Германтскую, с которой они никогда бы не нашли случая познакомиться, как существо более чудесное и более необыкновенное, чем принцесса Бадруль Будур, не только готовы были умереть за нее, узнав, что столь знатная особа выше всего на свете чтит Толстого, но чувствовали также, как в них самих укрепляется любовь к Толстому и желание сопротивляться царизму. Ведь эти либеральные идеи готовы были в них зачахнуть, они готовы были в них усомниться, не осмеливаясь более их высказывать, — и вдруг такая помощь от самой м-ль Орианы, этого бесспорного авторитета, этой изысканной девушки, которая носила гладкую прическу (на что никогда не решилась бы ни одна Курвуазье). Немало хороших или дурных вещей очень выигрывает, получая одобрение со стороны авторитетных для нас людей. Например, у Курвуазье обряд приветствия при встрече на улице состоял из весьма некрасивого и малолюбезного поклона, который считался, однако, изысканной манерой здороваться, так что все они, прогнав с лица улыбку и приветливое выражение, добросовестно старались подражать этой бездушной гимнастике. Но Германты вообще, и Ориана в частности, превосходно зная этот обряд, без колебания приветливо махали вам рукой, если замечали вас из экипажа, а в салоне, предоставляя Курвуазье их заимствованные натянутые поклоны, делали легкий грациозный реверанс и протягивали вам руку как товарищу, улыбаясь голубыми глазами, так что благодаря Германтам несколько тощая до той поры и сухая субстанция шика разом наполнялась приветливостью, неподдельной любезностью и непринужденностью, всем, к чему душа сама тянется и что вы насильственно подавили в себе. Таким же способом, но на этот раз плохо оправдываемым, лица, которым инстинктивно нравится дурная музыка и самые банальные мелодии, если в них есть нечто ласкающее и доступное, умерщвляют иногда в себе этот вкус при помощи симфонической культуры. Но когда, справедливо восхищенные ослепительным оркестровым нарядом Рихарда Штрауса, они видят, как этот композитор с достойной Обера снисходительностью пользуется самыми пошлыми мотивами, то вещи, которые им раньше нравились, находят вдруг в столь высоком авторитете приятное оправдание, и они со спокойной совестью и двойной признательностью восторгаются, слушая «Саломею», тем, что им запрещено было любить в «Бриллиантах короны».
Обращение м-ль Орианы к великому князю, подлинное или выдуманное, передавалось из дома в дом и служило предлогом рассказать, с какой изысканной элегантностью была одета Ориана на этом обеде. Но если роскошь (что как раз делало ее недоступной Курвуазье) порождается не богатством, а расточительностью, все же последняя приобретает больший размах и загорается самыми яркими огнями, если находит поддержку в богатстве. А принимая во внимание принципы, открыто провозглашаемые не только Орианой, но также г-жой де Вильпаризи, согласно которым знатность не идет в счет, состояние счастья не приносит, заниматься титулами смешно и важны единственно ум, сердце и талант, Курвуазье вправе были надеяться, что в силу этих принципов, насажденных в ней маркизой, Ориана выйдет замуж за человека, не принадлежащего к светскому обществу, за художника, за арестанта, за голыша, за вольнодумца, что она окончательно примкнет к категории людей, которых Курвуазье называли «свихнувшимися». Они тем более вправе были на это надеяться, что г-жа де Вильпаризи, переживавшая в то время тяжелый с точки зрения света кризис (ни один из немногочисленных представителей блестящего общества, которых я у нее встретил, к ней еще не вернулся), открыто свидетельствовала глубокое отвращение к отшатнувшемуся от нее обществу. Даже говоря о своем племяннике принце Германтском, продолжавшем бывать у нее, она не щадила насмешек по его адресу за то, что он так носился со своим происхождением. Но когда понадобилось выбрать мужа для Орианы, то решающую роль в этом деле сыграли отнюдь не принципы, афишируемые теткой и племянницей, а таинственный «гений рода». Вот почему точь в точь так, как если бы г-жа де Вильпаризи и Ориана всегда говорили только о ценных бумагах и родословных вместо литературных достоинств и качеств сердца, — так, как если бы маркиза на несколько дней умерла и лежала в фобу — как это ей предстояло — в комбрейской церкви, где каждый член семьи, лишившись своей индивидуальности и личных имен, обращался просто в Германта, о чем свидетельствовал единственный инициал Г, вышитый пурпуром на черной драпировке и увенчанный герцогской короной, — гений рода остановил выбор интеллигентной, фрондирующей, евангелической г-жи де Вильпаризи на самом богатом и знатном мужчине, на самой видной партии Сен-Жерменского предместья, на старшем сыне герцога Германтского, принце де Лом. И в день свадьбы у г-жи де Вильпаризи в течение двух часов перебывали все знатные особы, над которыми она насмехалась, насмехалась даже в тот день с несколькими близкими ей буржуа, которых она пригласила и которым принц де Лом завез тогда карточки, перед тем как порвать с ними в следующем году. В довершение несчастья Курвуазье, принципы, отводившие уму и таланту первое место в ряду общественных ценностей, вновь стали утверждаться в салоне принцессы де Лом сейчас же после свадьбы. В этом отношении, заметим мимоходом, точка зрения Лен-Лу, которую он защищал, когда жил с Рахилью, бывал у приятелей Рахили, хотел жениться на Рахили, заключала в себе — несмотря на ужас всей его семьи — меньше фальши, чем точка зрения девиц Германт, превозносивших ум и не допускавших никаких сомнений насчет равенства всех людей, если все это в назначенное время приводило к тому же результату, как если бы они держались противоположных правил, иными словами — к выходу замуж за баснословно богатого герцога. Напротив, Сен-Лу поступал сообразно своим теориям, почему все и говорили, что он идет дурной дорогой. Конечно, с нравственной точки зрения Рахиль была малоудовлетворительна. Но нет основания думать, чтобы г-жа де Марсант отнеслась к браку неблагосклонно, если бы невестка, ничуть не более добродетельная, чем Рахиль, была герцогиней или миллионершей.
Но, возвращаясь к г-же де Лом (вскоре сделавшейся герцогиней Германтской после смерти свекра), скажем, что, к вящему огорчению Курвуазье, теории молодой принцессы, по-прежнему ею провозглашавшиеся, нисколько не руководили ее поведением: ее философия (если можно так выразиться) ничуть не вредила аристократической элегантности салона Германтов. По всей вероятности лица, которых герцогиня Германтская не принимала, воображали, будто они недостаточно умны для этого, и одна богатая американка, у которой никогда не было других книг, кроме старинного, ни разу не раскрытого экземпляра стихотворений Парни, лежавшего в ее маленькой гостиной на столике той же эпохи, показывала, как высоко ценит она умственные качества, пожирая глазами герцогиню Германтскую, когда та входила в Оперу. По всей вероятности и герцогиня была искренна, когда выбирала человека за его ум. Когда Ориана говорила о женщине, что она «очаровательна», или о мужчине, что он чрезвычайно умен, у нее по-видимому не было других оснований принимать их, кроме этого очарования и этого ума: гений Германтов в эту минуту бездействовал. Поместившись глубже, у темного входа в область, где пребывала способность суждения Германтов, этот бдительный гений препятствовал Германтам находить мужчину умным или женщину очаровательной, если они не представляли интереса с светской точки зрения, в настоящем или в будущем. Мужчина объявлялся ученым, но как словарь, или же, напротив, пошляком, с умом коммивояжера, хорошенькая женщина обладала ужасными манерами или слишком много говорила. Что же касается людей, не имевших положения, то — какой ужас — это были снобы. Г. де Бреоте, замок которого был расположен по соседству с Германтами, посещал только высочеств. Но он насмехался над ними и мечтал только о том, чтобы жить в музеях. Поэтому герцогиня Германтская возмущалась, когда г-на де Бреоте называли снобом. «Бабал сноб! Вы с ума сошли, бедненький, как раз наоборот, он терпеть не может блестящих людей, его невозможно заставить с кем-нибудь из них познакомиться. Даже у меня! Если я его приглашаю, когда у меня новый гость, он является кряхтя, с большой неохотой». Отсюда не следует, чтобы даже на практике Германты не дорожили умом гораздо больше, чем Курвуазье. Различие в этом отношении между Германтами и Курвуазье давало прежде всего недурные положительные результаты. Так, герцогиня Германтская, окутанная, впрочем, тайной, погружавшей в мечтательное состояние столько поэтов, устроила упомянутый выше прием, которым остался чрезвычайно доволен английский король, ибо она возымела мысль, которая никогда бы не пришла в голову ни одному Курвуазье, и набралась смелости, перед которой отступило бы мужество их всех, пригласить помимо перечисленных нами лиц композитора Гастона Лемера и драматурга Гранмужена. Но интеллектуальные качества герцогини особенно давали себя чувствовать в ограничительном смысле. Если необходимый коэффициент ума и очарования понижался по мере повышения ранга особы, добивавшейся, чтобы ее пригласила герцогиня Германтская, приближаясь к нулю, когда дело касалось главных коронованных голов Европы, зато, чем ниже вы спускались с королевского уровня, тем больше коэффициент этот повышался. Например, у принцессы Пармской бывало известное количество лиц, которых ее высочество принимала, потому что знала их с детства или потому что они были в родстве с такой-то герцогиней или принадлежали к числу приближенных такого-то монарха, хотя бы лица эти были безобразны, скучны или глупы; и вот, если такого-то «любила принцесса Пармская», если такая-то была «сестрой матери герцогини д'Арпажон» или «проводила ежегодно три месяца у испанской королевы», то Курвуазье этого было достаточно, чтобы приглашать этих лиц, но герцогиня Германтская, в течение десяти лет вежливо отвечавшая на их поклоны у принцессы Пармской, никогда не позволяла им переступать своего порога, полагая, что с салоном в социальном значении этого слова дело обстоит так же, как и с салоном в материальном его значении, когда достаточно бывает заставить его некрасивой богатой мебелью, чтобы придать ему ужасный вид. Бывают салоны похожие на литературные произведения, в которых автор не умеет воздержаться от фраз, показывающих его знания, блеск, непринужденность. Как в книге, как в постройке, краеугольным камнем «салона», справедливо полагала герцогиня Германтская, является уменье кое-чем жертвовать.
Многие приятельницы принцессы Пармской, все отношения с которыми герцогиня Германтская долгие годы ограничивала одним и тем же учтивым поклоном или же завозом к ним своих карточек, никогда их не приглашая к себе и сама никогда не бывая у них на приемах, сдержанно жаловались ее высочеству, и принцесса заговаривала об этом с герцогом Германтским в те дни, когда он один приезжал к ней с визитом. Однако лукавый вельможа, дурной муж герцогини, поскольку у него были любовницы, но безупречный пособник во всем, что касалось исправного функционирования салона жены (и остроумия Орианы, являвшегося его главной приманкой), отвечал: «А разве жена моя с ней знакома? Ах, тогда действительно она бы должна была. Но, сказать по правде, мадам, Ориана в сущности не любит разговаривать с женщинами. Она окружена двором выдающихся умов, — я не муж ее, я — только ее старший камердинер. За исключением самого ничтожного количества чрезвычайно остроумных женщин, все прочие представительницы прекрасного пола наводят на нее скуку. Ведь не станете вы утверждать, ваше высочество, с вашей проницательностью, что маркиза де Сувре отличается остроумием. Да, я отлично понимаю, ваше высочество по доброте принимаете ее. Кроме того вы с ней знакомы. Вы говорите, что Ориана ее видела, это возможно, но, уверяю вас, видела только мельком. Кроме того, доложу вашему высочеству, тут есть немного и моей вины. Жена моя очень утомлена, и она так любит оказывать всем внимание, что если бы я ее не останавливал, визитам конца бы не было. Не далее, как вчера вечером, несмотря на повышенную температуру, она непременно хотела сделать визит герцогине Бурбонской, боясь, что иначе та обидится. Мне пришлось проявить твердость, я не позволил закладывать экипаж. Знаете, мадам, мне даже очень хочется утаить от Орианы то, что вы мне говорили о г-же де Сувре. Ориана так любит ваше высочество, что она сейчас же пошлет приглашение г-же де Сувре, в результате будет одним визитом больше, это заставит нас завязать сношения с ее сестрой, мужа которой я очень хорошо знаю. Если ваше высочество позволите, я, пожалуй, ничего не скажу Ориане. Мы ее избавим таким образом от лишнего утомления и беспокойства. И, уверяю вас, г-жа де Сувре от этого ничего не потеряет. Она бывает везде, в самых блестящих местах. Мы ведь даже не устраиваем приемов, а так, скромные обеды. Г-жа де Сувре помрет со скуки». Глубоко огорченная безуспешностью своих попыток добиться для г-жи де Сувре желанного приглашения и в наивной уверенности, что герцог не передаст ее просьбы герцогине, принцесса тем более польщена была своим положением завсегдатая так мало доступного салона. Правда, это удовлетворение сопряжено было с некоторыми неприятностями. Так, приглашая герцогиню Германтскую, принцесса каждый «раз должна была мучительно соображать, кто из ее знакомых может не понравиться герцогине, чтобы не посылать приглашения таким неугодным Ориане людям.
В обыкновенные дни (после всегда раннего обеда в обществе нескольких приглашенных, — принцесса сохраняла старые привычки) салон принцессы Пармской был открыт для постоянных ее посетителей и для всей вообще знати, французской и иностранной. Прием состоял в том, что по выходе из столовой принцесса садилась на диван перед большим круглым столом и разговаривала с двумя самыми важными дамами из числа приглашенных к обеду, просматривала какой-нибудь «Магазин» или играла в карты (или делала вид, будто играет, согласно обыкновению немецкого двора), либо раскладывая пасьянс, либо взяв себе в настоящие или мнимые партнеры какого-нибудь видного гостя. Около девяти часов двери большого салона не переставая широко отворялись и затворялись, впуская наскоро пообедавших посетителей (или, если они обедали в гостях, ушедших из-за стола до кофе и намеревавшихся «войти к принцессе через одну дверь и сейчас же выйти через другую»), которые применялись к часам принцессы. Однако последняя, погрузившись в игру или в разговор, делала вид, что не замечает прибывших, и любезно поднималась с доброй улыбкой только ради дам, когда они подходили к ней на расстояние двух шагов. Те делали перед стоящим высочеством глубокий реверанс, похожий на коленопреклонение, так чтобы губы их пришлись на уровне низко опущенной прекрасной руки и могли ее поцеловать. Но в это мгновение принцесса, точно она каждый раз была удивлена церемонией, на самом деле отлично ей известной, с бесподобной грацией и ласковостью почти насильно поднимала склонившую колени и целовала ее в щеки. Скажут, что условием этой грации и ласковости была приниженность, с которой подходившая склоняла колени. Это верно, и в обществе, основанном на равенстве, вежливость по-видимому исчезнет не вследствие невоспитанности, как обыкновенно думают, но потому, что у одних пропадет почтительность, порождаемая обаянием, которое, чтобы иметь силу, должно действовать на воображение, главное же — у других пропадет любезность, которая расточается и утончается, когда вы чувствуете, что ею чрезвычайно дорожит тот, к кому она обращена, между тем как в мире, основанном на равенстве, она вдруг сведется к нулю, как и все вообще фиктивные ценности, которые держатся лишь в силу оказываемого им доверия. Однако исчезновение вежливости в новом обществе не есть нечто несомненное, мы иногда слишком склонны верить, что нынешний порядок вещей является единственно возможным. Ведь многие выдающиеся умы полагали, будто республика не сможет установить дипломатические сношения и заключать союзы и будто крестьяне не потерпят отделения церкви от государства. В конце концов вежливость в обществе, построенном на равенстве, была бы не большим чудом, чем развитие железных дорог и военное применение аэроплана. Кроме того, если бы даже вежливость исчезла, ничто не доказывает, что это было бы несчастьем. Не установится ли в обществе некоторая тайная иерархия по мере его демократизации? Это вполне возможно. Политическая власть пап сильно возросла, после того как они лишились светских владений и армий; готические соборы имели гораздо меньше обаяния в глазах набожных людей XVII века, чем в глазах атеистов XX века, и если бы принцесса Пармская была настоящей государыней, то у меня, вероятно, было бы столько же желания говорить о ней, как о каком-нибудь президенте республики, то есть не было бы никакого желания.
Подняв и поцеловав поклонившуюся даму, принцесса снова усаживалась и продолжала раскладывать пасьянс, но иногда перед этим некоторое время разговаривала с гостьей, предложив ей кресло, если та была особой значительной.
Когда салон наполнялся, статс-дама, на которую возложена была обязанность следить за порядком, освобождала место, отводя завсегдатаев в огромный зал, примыкавший к салону и наполненный портретами и редкостями, относящимися к дому Бурбонов. Постоянные посетители принцессы охотно играли тогда роль чичероне и рассказывали интересные вещи, но их не имели терпения слушать молодые люди, гораздо больше желавшие смотреть на живых высочеств (и при случае быть им представленными статс-дамой и фрейлинами), чем разглядывать реликвии покойных монархов. Слишком поглощенные мыслью о знакомствах, которые им, может быть, удастся сделать, и о приглашениях, которые они, может быть, раздобудут, они даже после многолетних визитов ровно ничего не знали о том, что содержится в этом драгоценном музее архивов монархии, и смутно припоминали лишь гигантские кактусы и пальмы, делавшие эту элегантную комнату похожей на пальмарий Акклиматизационного сада.
Исполняя скучную повинность, герцогиня Германтская приходила иногда для пищеварения с визитом к принцессе, которая в таких случаях ни на минуту не отпускала ее от себя, обмениваясь шутливыми замечаниями с герцогом. Но, когда герцогиня приезжала обедать, принцесса остерегалась приглашать своих завсегдатаев и, выйдя из-за стола, запирала двери своего дома из страха, что недостаточно избранное общество может не понравиться требовательной герцогине. Если в такие вечера непринужденные завсегдатаи показывались у дверей принцессы, швейцар объявлял: «Ее королевское высочество сегодня не принимает», и гости уходили восвояси. Впрочем, многие знакомые принцессы знали заранее, что в эти дни они не получат приглашения. Это были дни особенные, закрытые для стольких желающих быть допущенными на них. Исключенные могли с большой точностью перечислить избранников и говорили друг другу обиженным тоном: «Вы отлично знаете, что Ориана Германтская передвигается не иначе, как со всем своим штабом». Этим штабом принцесса Пармская пыталась как стеной оградить герцогиню от лиц, шансы которых ей понравиться были невелики. Но со многими ближайшими друзьями герцогини, со многими членами этого блестящего «штаба» принцессе Пармской трудно было быть любезной, ибо сами они были очень мало любезны с ней. Принцесса Пармская по-видимому вполне допускала, что в обществе герцогини Германтской можно находить больше удовольствия, чем в ее собственном обществе. Она не могла не констатировать, что в дни приемов в салоне у герцогини трудно протолкаться и что сама она не раз встречала там трех или четырех высочеств, которые у нее оставляли только карточки. Как она ни старалась запоминать словечки Орианы, копировать ее платья, подавать к чаю такие же торты с земляникой, не раз ей приходилось оставаться весь день одной с какой-нибудь статс-дамой и советником иностранного посольства. Таким образом, если кто-нибудь (как это, например, когда-то бывало со Сваном), заканчивая день, непременно проводил два часа у герцогини и делал принцессе Пармской визит один раз в два года, то последняя не чувствовала большой охоты, даже чтобы развлечь Ориану, быть предупредительной с каким-то Сваном, приглашая его обедать. Словом, посещение герцогини причиняло принцессе Пармской кучу хлопот, настолько ее снедал страх, что Ориана найдет все дурным. Но зато, по той же причине, когда принцесса Пармская приезжала обедать к герцогине Германтской, она была заранее уверена, что у герцогини все будет хорошо, прелестно, и боялась только, что не сумеет понять и удержать в памяти высказываемых там мыслей, не сумеет понравиться встреченным там людям. Поэтому мое присутствие возбуждало ее внимание и любопытство в такой же степени, как и новая манера украшать стол гирляндами фруктов, но она не была уверена, что же именно: украшение стола или мое присутствие служит одной из тех приманок, которые составляли секрет успеха приемов Орианы, и, находясь в сомнении, решила испробовать на своем ближайшем обеде и то и другое. Впрочем, восхищенное любопытство, которое принцесса Пармская приносила к герцогине, вполне оправдывалось той манящей, опасной и возбуждающей стихией, куда со страхом, содроганием и упоением погружалась принцесса (как в одну из тех «окатывающих» морских волн, против которых предостерегают купальщики просто потому, что ни один из них не умеет плавать) и откуда она выходила счастливая, посвежевшая и помолодевшая, — стихией, которую называли остроумием Германтов. Остроумие Германтов — вещь столь же несуществующая, как квадратура круга, по мнению герцогини, которая считала себя единственной из всех Германтов его обладательницей, — пользовалась такой же высокой репутацией, как турская свинина или реймское печенье. Правда (ведь умственные особенности передаются не тем способом, что цвет волос или кожи), остроумием этим обладали также и некоторые чуждые ей по крови друзья герцогини, но зато ему никак не удавалось завладеть головами некоторых Германтов, непроницаемыми ни для каких видов ума. Не связанные родством с герцогиней обладатели остроумия Германтов бывали обыкновенно людьми блестящими, одаренными всеми способностями для какой-нибудь карьеры, которой, будь то искусство, дипломатия, парламентское красноречие или военная служба, они предпочли, однако, светскую жизнь в замкнутом кружке. Предпочтение это объяснялось, может быть, некоторым недостатком оригинальности, или инициативы, или воли, или здоровья, или удачи, а может быть, снобизмом.
Если салон Германтов (надо, впрочем, сказать, что такие случаи были редкостью) послужил камнем преткновения для карьеры некоторых его завсегдатаев, то произошло это помимо их воли. Так, подававшие большие надежды врач, художник и дипломат, несмотря на свои блестящие способности, не могли добиться успехов на избранных ими поприщах, ибо их близость к Германтам привела к тому, что первые двое стяжали репутацию светских людей, а третий — репутацию реакционера, и это помешало всем троим получить признание от своих собратьев. Старинная мантия и красная шапочка, которые до сих пор надевают избирательные коллегии факультетов, являются, или по крайней мере еще недавно являлись, не только чисто внешним пережитком прошлого с его узкими взглядами и сектантским догматизмом. Подобно еврейским первосвященникам в конических колпаках, наши «профессора» в шапочках с золотыми кистями еще незадолго до дела Дрейфуса были насквозь пропитаны педантически-фарисейскими взглядами. Дю Бульбон в душе был художник, но его спасло то, что он не любил светского общества. Котар часто посещал Вердюренов. Но г-жа Вердюрен была его пациенткой, кроме того его ограждала пошлость, и, наконец, он принимал у себя на пирушках, пропахнувших карболкой, только членов факультета. Но в крепко сколоченных корпорациях, где, впрочем, непоколебимость предрассудков является лишь оборотной стороной стойкости самых возвышенных нравственных идей, которые мельчают в объединениях более снисходительных, более свободных и очень скоро распадающихся, профессор в пунцовой атласной мантии, подбитой горностаем, как мантия венецианского дожа (то есть герцога), восседающего в своем дворце, палаццо дукале, бывал столь же доблестен, столь же привержен благородным правилам, но и столь же беспощаден ко всякому чужеродному элементу, как наш другой великолепный, но непреклонный герцог — г. де Сен-Симон. Чужеродным элементом в этом случае оказывался светский врач, у которого были другие манеры, другие знакомства. Чтобы спасти положение, чтобы не быть обвиненным своими коллегами в том, что он их презирает (какое представление о светском человеке!), несчастный, о котором мы говорим здесь, хотя и скрывал от них герцогиню Германтскую, надеялся все же их обезоружить, устраивая смешанные обеды, на которых медицинский элемент тонул в элементе светском. Он не знал, что подписывает себе таким образом смертный приговор, или, вернее, об этом узнавал, когда совет десяти (несколько превышавший это число) собирался для замещения вакантной кафедры: в этих случаях из роковой урны неизменно выходило имя пусть более посредственного, но более нормального врача, и в старом факультете гремело «veto», столь же торжественное, столь же комичное и столь же страшное, как «juro», после которого умер Мольер. То же случилось с художником, к которому навсегда прикреплен был ярлык «светский человек», между тем как светские люди, занимавшиеся искусством, добивались, чтобы их величали художниками; то же случилось и с дипломатом, у которого было слишком много реакционных связей.
Но подобные случаи были весьма редки. Среди элегантных людей, составлявших ядро салона Германтов, преобладал тип человека, добровольно (или по крайней мере так думавшего) отказавшегося от всего остального, от всего, что было несовместимо с остроумием Германтов, с учтивостью Германтов, с тем неподдающимся определению «шармом», который был ненавистен всякой сколько-нибудь централизованной «корпорации».
Люди, знавшие, что один из таких завсегдатаев салона герцогини получил когда-то золотую медаль в «Салоне», что другой, секретарь конференции адвокатов, блестяще начал свою карьеру выступлениями в Палате депутатов, что третий искусно служил Франции на посту поверенного в делах, вправе были считать неудачниками людей, которые ничего с тех пор не сделали в течение двадцати лет. Но таких «осведомленных» было очень мало, а сами заинтересованные вспомнили бы об этом последние, ибо для них эти старые звания потеряли всякое значение в свете идей, господствовавших в салоне Германтов: разве выдающиеся министры, один — немного торжественный, другой — любитель каламбуров, не приравнивались там к нудному классному наставнику или же, наоборот, к приказчику, — министры, которых превозносили газеты, но возле которых герцогиня Германтская зевала и проявляла нетерпение, если хозяйка дома по неосмотрительности сажала одного из них рядом с ней. Ибо способности первоклассного деятеля вовсе не служили рекомендацией в глазах герцогини, и те из ее знакомых, что отказались от «карьеры» или от военной службы, что перестали выставлять свою кандидатуру в Палату депутатов, приходя ежедневно завтракать и беседовать со своей большой приятельницей, встречая ее у высочеств, впрочем, невысоко ими ценимых, по крайней мере по их словам, полагали, что они избрали благую часть, хотя меланхолический их вид, даже посреди веселья, несколько противоречил основательности этого суждения.
Надо, впрочем, признать, что утонченность светской жизни, остроумие разговоров в салоне Германтов, при всей своей легковесности, представляли собой нечто реальное. Никакое официальное звание не стоило приятности общества любимцев герцогини Германтской, которых не удалось бы привлечь к себе самым влиятельным министрам. Если в этом салоне навсегда похоронило себя столько честолюбий и даже благородных усилий, то по крайней мере из их праха вырос редкостный цветок светской суетности. Конечно, люди остроумные, вроде, например, Свана, смотрели свысока на людей, занимавшихся какой-нибудь деятельностью, но герцогиню Германтскую возносил надо всем не ум, а та его более утонченная в ее глазах форма, возвышавшаяся до своего рода словесного таланта, которая называется остроумием. И если некогда у Вердюренов Сван считал Бришо педантом, а Эльстира грубияном, несмотря на всю ученость первого и гений второго, то его побуждало к тому остроумие Германтов. Никогда бы он не решился представить герцогине ни того ни другого, ясно представляя, с каким видом она бы приняла тирады Бришо и шуточки Эльстира, поскольку Германты считали длинные претенциозные речи в серьезном или насмешливом роде самым несносным проявлением слабоумия.
Что же касается самих Германтов, то если не все они были проникнуты духом Германта в такой степени, как бывают, например, проникнуты одним духом литературные кружки, у всех членов которых одинаковая манера произношения, одинаковая манера выражать свои мысли и следовательно, мыслить, то объясняется это, конечно, не тем, что в светских кругах оригинальность выражена ярче и служит препятствием к подражанию. Ведь подражание требует не только отсутствия оригинальности, но и относительной тонкости слуха, которая позволила бы сначала уловить то, чему потом подражаешь. Между тем некоторые Германты были в такой же степени лишены этого музыкального чувства, как и Курвуазье.
Если взять для примера искусство подражания, которое называется обыкновенно «имитированием» (у Германтов говорили «шаржировать»), то, как бы ни преуспевала в нем герцогиня Германтская, Курвуазье настолько же не умели оценить его, как если бы они были не мужчинами и женщинами, а стадом кроликов, потому что они никогда не в состоянии были подметить недостаток или интонацию, которые герцогиня пыталась передразнить. Когда она «имитировала» герцога Лиможского, Курвуазье протестовали: «Ах, нет, он вовсе так не говорит, не далее как вчера вечером я обедала с ним у Бебет, он разговаривал со мной целый вечер и говорил совсем не так», — между тем как сколько-нибудь просвещенные Германты восклицали: «Господи, до чего уморительна Ориана! Бесподобнее всего то, что, когда она его имитирует, она на него похожа! Мне кажется, что я его слышу. Ориана, еще немножко Лиможа!» И пусть даже эти Германты (не говоря уже о Германтах исключительных, которые, когда герцогиня имитировала герцога Лиможского, с восхищением говорили: «Право, можно подумать, что вы его схватили», или «что ты его схватила») лишены были остроумия в том смысле, как его понимала герцогиня (в чем она была права), однако, слыша и повторяя словечки герцогини, они кое-как переняли ее манеру выражаться, манеру судить о вещах, — то, что Сван, подобно герцогу, назвал бы ее манерой «редактировать», — вследствие чего разговор их представлял, с точки зрения Курвуазье, нечто безобразно похожее на остроумие Орианы, величавшееся ими остроумием Германтов. Так как Германты эти были не только ее родственниками, но и почитателями, то Ориана (которая, вообще говоря, держала родных своих на почтительном расстоянии и отплачивала теперь пренебрежением за их злобные выходки по отношению к ней, когда она была девушкой) иногда заходила к ним, обыкновенно в сопровождении герцога, в теплое время года, когда она делала визиты вместе с мужем. Визиты эти бывали целым событием. У принцессы д'Эпине, принимавшей в большом салоне на нижнем этаже, учащеннее билось сердце, когда она издали замечала, словно слабое зарево безвредного пожара или разведочные отряды неожиданно вторгшегося неприятеля, медленным шагом переходившую двор герцогиню в прелестной шляпе и с зонтиком, с которого стекал запах лета. «Глядите, Ориана», — говорила она предостерегающим тоном, как бы давая своим посетительницам время ретироваться в порядке и эвакуировать без паники салон. Половина ее гостей, не решаясь остаться, вставала. «Нет, зачем? Садитесь, пожалуйста, я буду рада, если вы останетесь еще немного», — говорила принцесса спокойно и непринужденно (чтобы не выходить из роли великосветской дамы), но немного деланным тоном. — «Вы, может быть, желали бы поговорить между собой». — «Так вы действительно торопитесь? Ну, что ж, я к вам зайду», — отвечала хозяйка дома тем своим гостьям, присутствие которых ей было нежелательно. Герцог и герцогиня чрезвычайно вежливо кланялись людям, которых они видели у г-жи д'Эпине много лет, не знакомясь с ними, и которые едва отвечали им сдержанным «здравствуйте». Когда они уходили, герцог любезно осведомлялся о них, делал вид, будто он интересуется внутренними достоинствами людей, которых он не принимал вследствие злого каприза судьбы или же по причине нервного состояния Орианы. «Кто такая эта дама в розовой шляпе?» — «Помилуйте, кузен, вы ее уже не раз встречали, это виконтесса Турская, урожденная Ламарзель». — «Но ведь она хорошенькая, у нее умные глаза; если бы, не маленький изъян на верхней губе, она была бы просто очаровательна. Если существует виконт Турский, то он наверное не скучает. Вы знаете, Ориана, кого мне напоминают ее брови и ее прическа? Вашу кузину Эдвиж де Линь». Герцогиня Германтская, не любившая слушать о красоте других женщин, ничего не отвечала. Но она упускала из виду пристрастие своего мужа показывать, что он прекрасно осведомлен о людях, которых он не принимал, рассчитывая таким образом создать впечатление человека более серьезного, чем его жена. «Вы упомянули имя Ламарзель, — говорил он вдруг с оживлением. — Помню, когда я был в Палате, я слышал прямо-таки замечательную речь…» — «Ее произнес дядя молодой женщины, которую вы только что видели». — «Ах, какой талант! Нет, малютка, — говорил он виконтессе д'Эгремон, которую герцогиня Германтская терпеть не могла, но которая, добровольно приняв на себя у г-жи д'Эпине роль субретки (за что платилась ее собственная субретка, которую она била по возвращении домой), оставалась во время визита герцогской четы сконфуженная, жалкая, но все-таки оставалась, помогала герцогу и герцогине снять пальто, старалась им услуживать, тихонько предлагала пройти в соседнюю комнату, — не заваривайте для нас чаю, поговорим спокойно, без церемоний, мы люди простые, невзыскательные. К тому же, — прибавлял он, оставляя раскрасневшуюся, преданную, честолюбивую и полную рвения Эгремон и обращаясь к г-же д'Эпине, — в нашем распоряжении только четверть часа». Вся четверть часа этого визита занята была своего рода выставкой словечек герцогини, которые та роняла в течение недели и сама бы, конечно, о них не напомнила, если бы герцог своим искусным вмешательством, притворно журя за них жену, не заставлял ее как бы невольно их повторять.
Принцесса д'Эпине, которая любила свою кузину и знала, что та питает слабость к комплиментам, восторгалась ее шляпой, ее зонтиком, ее остроумием. «Расхваливайте ее туалеты сколько вам угодно, — говорил герцог усвоенным им недавно ворчливым тоном, который он смягчал лукавой улыбкой, чтобы никто не принял его недовольство всерьез, — но ради бога не хвалите ее остроумия, я бы отлично обошелся без такой остроумной жены. Вы, должно быть, намекаете на ее плохой каламбур насчет моего брата Паламеда, — прибавлял он, отлично зная, что каламбур этот еще неизвестен г-же д'Эпине и остальным родственникам, и в восторге от того, что может хвастнуть своей женой. — Прежде всего я нахожу недостойным женщины, когда-то говорившей, не буду отрицать, довольно забавные вещи, — сочинять плохие каламбуры, особенно же насчет моего брата, который так обидчив, недоставало только, чтобы это привело его к ссоре со мной». — «Нет, мы не знаем! Каламбур Орианы? Наверное он восхитителен. Ах, скажите, скажите его нам!» — «Нет, нет, — продолжал герцог все еще недовольным, хотя и более мягким тоном, — я чрезвычайно рад, что он не дошел до вас. Серьезно, я очень люблю моего брата». — «Послушайте, Базен, — говорила герцогиня, которой пришло время подать реплику мужу, — не понимаю, почему вы думаете, что это может рассердить Паламеда, ведь вы отлично знаете, что он слишком умен, чтобы обидеться на глупую шутку, в которой нет ничего оскорбительного. Слушая вас, можно подумать, будто я сказала какую-нибудь гадость, а я просто дала ничуть не смешной ответ на один вопрос, и только вы его раздули вашим негодованием. Я вас не понимаю». — «Вы ужасно разжигаете наше любопытство, о чем идет речь?» — «Ну, ясно, о пустяках! — воскликнул герцог Германтский. — Вы, может быть, слышали, что мой брат хочет подарить Брезе, замок своей покойной жены, сестре своей Марсант». — «Да, но нам говорили, что она его не хочет, что ей не нравится местность, в которой он расположен, что климат для нее неподходящий». — «Как раз это самое кто-то сказал моей жене, прибавив, что, если мой брат дарит замок сестре, то не для того, чтобы доставить ей удовольствие, а чтобы, ее подразнить. Он ужасный задира, ваш Шарлюс, заметил рассказчик. А вы знаете, что Бризе прямо королевский дворец, он стоит, вероятно, несколько миллионов, в старину это было королевское поместье, там один из красивейших лесов Франции. Многие, я думаю, были бы не прочь, чтобы их так задирали. И вот, услышав, что Шарлюса называют задирой за то, что он изъявляет готовность подарить прекрасный замок, Ориана не могла удержаться от восклицания, — невольного, я должен засвидетельствовать, без всякого злого намерения, потому что оно вырвалось у нее с быстротою молнии: «Задира… задира… Так это Задира[2] Гордый!» Вы понимаете, — прибавил снова ворчливым тоном герцог, обведя взглядом присутствующих, чтобы судить, как ими принято остроумие жены, хотя он относился довольно скептически к познаниям г-жи д'Эпине в древней истории, — вы понимаете, это по ассоциации с римским царем Тарквинием Гордым; глупо это, плохая игра слов, недостойная Орианы. Хотя я и не остроумен, зато более осмотрителен, я думаю о последствиях; если на нашу беду это дойдет до брата, поднимется целая история. Тем более, — прибавил он, — что Задира Гордый неплохо к нему подходит, ведь Паламед человек крайне высокомерный, крайне надменный и крайне обидчивый, крайне склонный к пересудам, даже помимо вопроса о замке. Только это и спасает словечки моей супруги: даже когда она хочет опуститься до пошлостей, она все-таки остается остроумной и довольно хорошо рисует людей».
Таким образом, благодаря один раз Задире Гордому, другой раз — другому словечку, эти родственные визиты герцога и герцогини обновляли запас рассказов, и вызванное им волнение долго не затихало после ухода остроумной женщины и ее импрессарио. Словечками Орианы угощались сначала привилегированные, находившиеся на празднестве (лица, оставшиеся у принцессы). «Вы не знавали Задиру Гордого?» — спрашивала г-жа д'Эпине. «Как же, — отвечала, краснея, маркиза де Бавено, — принцесса де Сарсина (Ла Рошфуко) мне передавала, «хотя не в таких выражениях. Но, конечно, гораздо интереснее было услышать об этом так, как было рассказано моей кузине», — прибавляла она, словно желая сказать: «услышать под аккомпанемент автора». «Мы говорили о последнем каламбуре Орианы, которая только что была здесь», — обращались сидевшие к одной гостье, готовой впасть в отчаяние по случаю того, что она не пришла часом раньше. «Как, Ориана была здесь?» — «Ну, да, вам бы следовало прийти немножко раньше», — отвечала г-жа д'Эпине, не упрекая своей гостьи, но давая ей почувствовать, сколько она потеряла благодаря своей оплошности. Сама она виновата, если не присутствовала на сотворении мира или на последнем представлении с участием г-жи Карвало. «Что такое вы говорите о последнем словечке Орианы, признаюсь, мне ужасно нравится Задира Гордый», — и «словечком» лакомились еще и в холодном виде на другой день за завтраком в обществе самых близких друзей, нарочно для этого приглашенных, оно вновь подавалось под различными соусами в течение целой недели. И даже делая на этой неделе свой ежегодный визит принцессе Пармской, г-жа д'Эпине пользовалась случаем, чтобы спросить ее высочество, знает ли она каламбур, и рассказывала ей о нем. «Ах, Задира Гордый!» — говорила принцесса Пармская с вытаращенными от восхищения a priori глазами, но умоляла дать дополнительные объяснения, в чем ей не отказывала г-жа д'Эпине. «Признаюсь, Задира Гордый мне бесконечно нравится в этой редакции», — заключала г-жа д'Эпине. В действительности слово «редакция» вовсе не подходило к этому каламбуру, но принцесса д'Эпине, мнившая себя обладательницей остроумия Германтов, переняла от Орианы выражения «редактировать, редакция» и употребляла их кстати и некстати. Между тем принцесса Пармская, недолюбливавшая г-жу д'Эпине, которую она считала безобразной, скупой и злой, полагаясь на утверждение Курвуазье, вспомнила, что слово «редакция» ей доводилось слышать от герцогини Германтской, но применить его самостоятельно она бы не сумела. Ей показалось, что прелесть Задиры Гордого проистекает именно от его редакции, и, не забывая своей антипатии к безобразной и скупой даме, она все же не могла побороть в себе восхищения перед этой обладательницей остроумия Германтов, так что решила даже пригласить г-жу д'Эпине в оперу. Ее удержала лишь мысль, что следовало бы, пожалуй, сначала посоветоваться с герцогиней Германтской. Что же касается г-жи д'Эпине, которая, в отличие от Курвуазье, рассыпалась в любезностях перед Орианой и любила ее, хотя завидовала ее связям и была немного задета шутками насчет ее скупости, публично отпускавшимися герцогиней, то по возвращении домой она рассказала, с каким трудом принцесса Пармская уразумела Задиру Гордого и каким должна быть снобом Ориана, чтобы поддерживать близкие отношения с такой дурой. «Я бы никогда не могла бывать у принцессы Пармской, если бы и желала, — говорила она собравшимся у нее за обедом друзьям, — потому что г. д'Эпине никогда бы мне этого не позволил из-за ее безнравственности, — намекала она на воображаемое распутство принцессы. — Но даже если бы муж мой был не такой строгий, признаюсь, я бы все-таки не могла. Не понимаю, как может Ориана постоянно видеться с ней. Сама я хожу к ней раз в год и едва досиживаю до конца визита». Что же касается тех Курвуазье, которые находились у Виктюрньены во время визита герцогини Германтской, то приход герцогини обыкновенно обращал их в бегство, так как их очень раздражали преувеличенные расшаркиванья перед Орианой. Все-таки один из Курвуазье остался в день Задиры Гордого. Он не понял как следует шутки, но все-таки кое-что в ней уловил, потому что был человек образованный. И Курвуазье пошли повторять, что Ориана назвала дядю Паламеда «Тарквинием Гордым», что, на их взгляд, рисовало его довольно хорошо, но зачем поднимать столько шума вокруг Орианы, недоумевали они. Вокруг королевы столько бы не шумели. «В общем, что такое Ориана? Я не отрицаю, что Германты — старый род, но Курвуазье ни в чем им не уступают ни известностью, ни древностью, ни родственными связями. Не надо забывать, что, когда в Парчевом Лагере английский король спросил Франциска I, кто самый знатный из находившихся там сеньёров, французский король отвечал: «Курвуазье, ваше величество». Впрочем, если бы даже во время таких визитов Орианы присутствовали все Курвуазье, они тем более остались бы нечувствительны к остротам Орианы, что рождавшие их поводы в большинстве случаев рассматривались бы ими с совершенно иной точки зрения. Если, например, какая-нибудь Курвуазье обнаруживала нехватку стульев на устраиваемом, ею приеме, или если она ошиблась в имени, разговаривая с гостьей, которой она не узнала, или если кто-нибудь из ее слуг обращался к ней с неловкой фразой, то эта Курвуазье, крайне раздосадованная, покрасневшая, дрожащая от возбуждения, огорчалась выпавшими ей неприятностями. Когда же у нее сидел гость и должна была прийти Ориана, она говорила тревожным и надменно-вопросительным тоном: «А вы с ней знакомы?» — боясь, как бы присутствие незнакомца не произвело дурного впечатления на Ориану. Но герцогине Германтской подобные инциденты давали, напротив, материал для уморительных рассказов, так что приходилось едва ли не завидовать недостатку стульев, промаху слуги, присутствию незнакомого гостя, как приходится радоваться тому, что великих писателей держали на расстоянии мужчины и обманывали женщины, поскольку их унижения и страдания если и не пробудили в них талант, то по крайней мере послужили материалом для их произведений.
Курвуазье неспособны были также подняться до новшеств, которые герцогиня Германтская, руководясь безошибочным инстинктом, вводила в светскую жизнь и которые, приспособляя жизнь эту к требованиям времени, обращали ее в художественное произведение, тогда как чисто рассудочное применение строгих правил привело бы к таким же плохим результатам, как если бы кто-нибудь, желая преуспеть в любви или в политике, стал бы рабски копировать в своей жизни подвиги Бюсси д'Амбуаза. Если Курвуазье давали семейный обед или обед для какой-нибудь высочайшей особы, то приглашение к этому обеду остроумного человека, например, приятеля их сына, казалось им аномалией, способной произвести самое дурное впечатление. Одна из Курвуазье, отец которой был министром при Наполеоне, устраивая утренний прием в честь принцессы Матильды, заключила геометрическим методом, что ей следует пригласить только бонапартистов. Между тем она почти никого из них не знала. Все ее знакомые элегантные женщины, все приятные мужчины были безжалостно изгнаны, ибо все они придерживались легитимистических убеждений и, значит, согласно логике Курвуазье, могли не понравиться ее императорскому высочеству. Принцесса, принимавшая у себя цвет Сен-Жерменского предместья, была немало удивлена, встретив у г-жи де Курвуазье только одну знаменитую прихлебательницу, вдову бывшего префекта эпохи Империи, вдову директора почт и несколько особ, известных своей верностью Наполеону, своей глупостью и своей скукой. Правда, принцесса Матильда щедро обласкала монаршим своим благоволением также и этих жалких дурнушек, которых герцогиня Германтская остереглась, конечно, пригласить, когда наступила ее очередь принимать принцессу, заменив их, без всяких априорных рассуждений о бонапартизме, роскошнейшим букетом красавиц и знаменитостей, которые, как подсказывали ей своего рода чутье, такт и музыкальный слух, должны были понравиться племяннице императора, даже когда они принадлежали к королевской фамилии. В числе гостей находился, например, герцог Омальский, и когда принцесса подняла и поцеловала в обе щеки герцогиню Германтскую, сделавшую глубокий реверанс и хотевшую поцеловать ей руку, она совершенно чистосердечно заявила, что никогда в жизни не проводила так хорошо времени и не присутствовала на более удачном празднестве. Принцесса Пармская была похожа на Курвуазье своей неспособностью обновлять светскую жизнь, но в отличие от Курвуазье неожиданности, которыми всегда поражала ее герцогиня Германтская, порождали в ней не антипатию, а восхищение. Крайняя отсталость принцессы еще более его увеличивала. Герцогиня Германтская, правда, далеко не была столь передовой, как сама она думала. Но, чтобы поражать принцессу, достаточно было быть немного более передовой, чем она; так как каждое поколение критиков высказывает противоположное тому, что высказывали их предшественники, то стоило только герцогине сказать, что Флобер, этот враг буржуазии, сам прежде всего буржуа, или что у Вагнера можно найти много итальянской музыки, и принцессе открывались, каждый раз ценой огромной затраты усилий, как пловцу, которому приходится бороться с бурей, неслыханные, хотя и туманные горизонты. Ее, впрочем, ошеломляли парадоксы герцогини не только насчет художественных произведений, но и насчет общих знакомых, а также светских событий. Вероятно одной из причин постоянной неожиданности для принцессы суждений герцогини о людях была ее неспособность отличать подлинное остроумие Германтов от зачаточных его форм, перенимаемых другими (вследствие чего она приписывала высокую интеллектуальную ценность некоторым представителям и особенно представительницам рода Германтов и бывала немало смущена, когда герцогиня называла их олухами). Но была для этого и другая причина, которую я, в то время больше знакомый с книгами, чем с людьми, и знавший литературу лучше, чем свет, усмотрел в том, что герцогиня, жившая светской жизнью, праздность и бесплодие которой относятся к подлинной общественной деятельности так же, как в искусстве критика относится к творчеству, простирала на окружающих неустойчивость точек зрения и нездоровую жажду резонера, который, чтобы напоить иссохший свой ум, готов ухватиться за любой свеженький парадокс и не постесняется поддержать мнение, будто «Ифигения» Пиччини лучше «Ифигении» Глюка, а при случае даже — что настоящая «Федра» — «Федра» Прадона.
Когда интеллигентная, образованная, остроумная женщина выходила замуж за робкого дурня, «которого редко кто видел и никто не слышал, то герцогиня Германтская придумывала себе в один прекрасный день утонченное наслаждение, не только «описывая» жену, но и «открывая» мужа. Так, например, относительно четы Камбремер, если бы она принадлежала к ее кругу, герцогиня постановила бы, что г-жа де Камбремер — дура, но зато личностью милой и интересной, хотя непризнанной и обреченной на молчание своей трещоткой-женой, которая не годится ему в подметки, является маркиз; объявив это, герцогиня почувствовала бы то освежение, какое чувствует критик, когда признается, что «Эрнани», которым все восхищались в течение семидесяти лет, он предпочитает «Влюбленного льва». И если все смолоду жалели примерную женщину, подлинную святую, вышедшую замуж за негодяя, то герцогиня Германтская, из той же потребности в ничем не оправданной новизне, в один прекрасный день утверждала, что негодяй-муж просто легкомысленный, но добросердечный человек, которого непреклонная суровость жены толкнула на крайне необдуманные поступки. Я знал, что, не только имея дело с различными произведениями, созданными в течение длинного ряда веков, но даже и в одном произведении критика любит погружать в тень то, что слишком долго ярко сияло, и извлекать на свет то, что казалось обреченным на окончательное забвение. Я не только видел, как Беллини, Винтергальтер, иезуитские архитекторы и мебельные мастера Реставрации занимали места гениев, которые объявлены были затасканными просто потому, что ими были утомлены праздные интеллигенты, как всегда бывают утомлены и изменчивы неврастеники. Я видел, как в Сент-Бёве предпочитали то критика, то поэта, как осуждались стихи Мюссе и возвеличивались его весьма посредственные пьесы. Конечно, неправы те эссеисты, что ставят выше самых прославленных сцен «Сида» и «Полиевкта» тираду из «Лжеца», которая, подобно старинному плану, дает сведения о Париже XVII века, но это их предпочтение, оправдываемое если не эстетическими соображениями, то по крайней мере интересом к фактам, еще вполне логично по сравнению с шальной критикой. Она отдает всего Мольера за один стих из «Сумасброда» или же, находя вагнеровского «Тристана» убийственно скучным, готова пощадить из него одну «прелестную ноту рожка», раздающуюся, когда проходит охота. Эта извращенность помогла мне понять извращенность, проявляемую герцогиней Германтской, когда она объявляла, что такой-то человек их круга, всеми признанный славным малым, но глупцом, является чудовищем эгоизма, продувной бестией, что другой, известный своей щедростью, может служить символом скупости, что добрая мать не дорожит своими детьми и что женщина, всеми считавшаяся порочной, исполнена самых благородных чувств. Словно поврежденные ничтожеством светской жизни, ум и чувства герцогини Германтской были слишком шаткими, чтобы увлечение очень быстро не сменялось в ней отвращением (что не мешало ей вновь прельщаться тем родом остроумия, которым она то пренебрегала, то увлекалась) и чтобы пленительность, которую она находила в отзывчивом человеке, не превращалась, — если он учащал свои посещения и слишком усердно искал у нее руководства, которое она неспособна была ему дать, — в раздражение, вызывавшееся не поклонником ее, как она думала, а ее собственным бессилием находить удовольствие, как это всегда бывает с людьми, которые ограничиваются тем, что его ищут. Изменчивость суждений герцогини не щадила никого, за исключением ее мужа. Он один никогда ее не любил; в нем она всегда чувствовала железный характер, равнодушие к ее капризам, презрение к ее красоте, крутой нрав, непреклонную волю, то есть видела одного из тех людей, единственно под властью которых особы нервные умеют находить спокойствие. С другой стороны, у герцога Германтского, всегда увлекавшегося одним и тем же типом женской красоты, но искавшего его в часто сменявшихся любовницах, была, когда он их покидал и чтобы посмеяться над ними, одна только постоянная и неизменная сообщница, которая часто его раздражала своей болтовней, но которую все признавали самой красивой, самой добродетельной, самой умной и самой образованной представительницей аристократии; все признавали, что ему чрезвычайно посчастливилось взять себе в жены эту женщину, которая прикрывала все его бесчинства, принимала, как никто, и поддерживала за их салоном репутацию первого салона Сен-Жерменского предместья. Это общее мнение разделял он всецело; нередкие вспышки гнева на жену не мешали ему гордиться ею. Будучи скупым при всей своей любви к пышности, он отказывал жене в самых ничтожных деньгах на благотворительность, на прислугу, но считал необходимым, чтобы у нее были самые роскошные туалеты и самые красивые выезды. Каждый раз, когда ей удавалось придумать новенький пряный парадокс насчет достоинств и недостатков (вдруг переставлявшихся ею) кого-нибудь из их знакомых, герцогиня Германтская сгорала от нетерпения попробовать его перед лицами, способными его посмаковать, жаждала угостить их его психологической оригинальностью и блеснуть перед ними лапидарностью своего зложелательства. Правда, эти ее новые мнения содержали обыкновенно не больше истины, чем старые, часто даже меньше; но как раз произвольность и неожиданность сообщали им нечто остроумное и внушали такое нетерпеливое желание поделиться ими. Однако жертвой психологических экспериментов герцогини бывал обыкновенно близкий ей человек, и те, кому она желала передать свое открытие, совершенно не подозревали, что человек этот уже не пользуется ее благорасположением; таким образом упрочившаяся за герцогиней репутация исключительно чуткой женщины, способной быть самым нежным и преданным другом, затрудняла приступ к атаке; герцогиня могла самое большее вмешаться в разговор как бы против своей воли, подать как бы вынужденную реплику, чтобы внести успокоение, чтобы с виду возразить, а на деле поддержать партнера, взявшегося ее провоцировать; как раз роль такого партнера бесподобно исполнял герцог Германтский.
Что касается светских событий, то другим чисто театральным удовольствием герцогини Германтской было изрекать о них те непредвиденные суждения, что всегда так приятно ошеломляли принцессу Пармскую. Однако, пытаясь уяснить природу этого удовольствия герцогини, я обратился за помощью не столько к литературной критике, сколько к политической жизни и парламентской хронике. Когда следовавшие один за другим противоречивые эдикты, которыми герцогиня непрестанно опрокидывала порядок ценностей у лиц ее круга, переставали ее развлекать, она переносила внимание на собственное поведение в обществе, разбиралась в мотивах малейших своих поступков в светской жизни, пробуя насладиться теми искусственными эмоциями, которые одушевляют депутатов на заседаниях, и повиноваться тем фиктивным обязанностям, которые возлагают на себя политические деятели. Допустим, что министр объясняет Палате, почему он считал правильным следовать линии поведения, которая действительно кажется вполне естественной здравомыслящим людям, читающим на другой день газетный отчет о заседании; разве эти здравомыслящие читатели не бывают вдруг взволнованы и в них не закрадывается сомнение, правы ли они были, одобряя министра, когда они видят, что речь его была выслушана при сильном возбуждении палаты и отмечена такими выражениями порицания, как: «Это очень серьезно», произнесенными депутатом с чрезвычайно длинным именем и титулами и сопровождавшимися таким оживленным движением протеста, что в шуме, прервавшем оратора, слова: «Это очень серьезно!» — занимают меньше места, чем часть до цезуры в александрийском стихе? Например, когда герцог Германтский, в те времена принц де Лом, заседал в Палате депутатов, в парижских газетах можно было иногда прочесть, хотя строки эти предназначены были главным образом для мезеглизского округа и имели целью показать избирателям, что они подали свои голоса за депутата далеко не бездеятельного и не безгласного:
(Господин де Германт-Буйон, принц де Лом: «Это очень серьезно!» Возгласы: «Отлично! Отлично!» в центре и на некоторых скамьях правой, оживленные восклицания на крайней левой.)
Здравомыслящий читатель сохраняет еще искорку доверия к мудрому министру, но сердце его снова начинает учащенно биться при первых словах следующего оратора, который отвечает министру: «Удивление, оцепенение — это еще недостаточно сильно сказано (живое впечатление в правой части зала), — в которое повергли меня слова того, кто состоит еще, полагаю, членом правительства… (Гром аплодисментов. Некоторые депутаты устремляются к министерским скамьям; г. товарищ министра почт и телеграфов делает с места утвердительный знак.)» Этот «гром аплодисментов» уничтожает последнее сопротивление здравомыслящего читателя, он находит оскорбительным для Палаты, чудовищным способ действия, не заключающий в себе ничего предосудительного; вполне нормальную вещь, например, желание заставить богатых платить больше, чем платят бедные, пролить свет на какое-нибудь беззаконие, предпочесть мир войне, он найдет скандальной и увидит в ней оскорбление принципов, о которых он, правда, не думал и которые не начертаны в сердце человека, но которые приводят в сильное волнение вследствие вызываемых ими шумных криков и собираемого ими внушительного большинства Палаты.
Надо, впрочем, признать, что эта изощренная ловкость политических деятелей, которая помогла мне понять круг Германтов, а впоследствии и другие общественные круги, лишь доводит до крайности то, что мы часто называем «чтением между строк». Если в парламентских заседаниях изощрение этой утонченности принимает нелепые размеры, то ее недостаток обращается в тупость у людей, которые все понимают «буквально», которые не догадываются, что освобождение высокого сановника от исполнения своих обязанностей «по прошению» означает его увольнение («он не уволен, потому что сам подал в отставку»), что отход русских от японцев по стратегическим соображениям на более сильные и заранее подготовленные позиции означает их поражение, что предоставление германским императором религиозной автономии такой-то провинции означает его отказ даровать ей независимость. Возможно, впрочем, что при открытии заседаний Палаты, — возвратимся к этому примеру, — депутаты сами похожи на здравомыслящих людей, которые прочитают в газетах отчет об этих заседаниях. Узнав, что забастовавшие рабочие послали делегатов к одному из министров, они, может быть, наивно задаются вопросом: «Ну-ка, посмотрим, что они там решили, будем надеяться, что все уладилось», — в ту минуту, когда министр поднимается на трибуну в глубоком молчании, которое уже само по себе побуждает к искусственным эмоциям. Первые слова министра: «Мне нет надобности говорить Палате, что я имею слишком высокое представление об обязанностях правительства для того, чтобы принять эту делегацию, вступать в сношения с которой не позволял мой пост», — производят театральный эффект, неожиданно меняя все положение, ибо это единственная гипотеза, которой не сделал бы здравый смысл депутатов. Но именно вследствие своей театральности слова эти встречаются такими продолжительными аплодисментами, что министру удается продолжать свою речь лишь по прошествии нескольких минут, и коллеги приносят ему горячие поздравления, когда он возвращается на свою скамью. Среди них царит такое же возбуждение, как и в день, когда он не счел нужным пригласить на большое официальное торжество председателя муниципального совета, находившегося к нему в оппозиции, и все объявляют, что как в одном, так и в другом случае он действовал как настоящий государственный человек.
В ту пору своей жизни герцог Германтский, крайне шокируя этим Курвуазье, часто присоединялся к своим коллегам, когда они являлись с поздравлением к министру. Впоследствии мне рассказывали, что даже в то время, когда он играл довольно важную роль в Палате и его прочили в министры или в послы, герцог, если к нему приходил приятель с просьбой об услуге, держался бесконечно более просто, гораздо меньше разыгрывал важного государственного деятеля, чем это сделал бы на его месте другой человек, не герцог Германтский. Ибо если он говорил, что знатность — пустяки, что он рассматривает своих коллег как равных, то думал совсем другое. Он искал официальных постов, притворялся, что высоко их ценит, но в действительности презирал их и оставался для себя герцогом Германтским, вследствие чего не был закован высокими должностями в броню, которая делает других неприступными. Таким образом надменность герцога ограждала не только его подчеркнуто фамильярное обращение, но и всю ту действительную простоту, которая была в нем.
Возвращаюсь теперь к решениям герцогини Германтской, отличавшимся такой же искусственностью и так же волновавшим, как решения политических деятелей. Не меньше, чем своими парадоксами, герцогиня сбивала с толку Германтов, Курвуазье, все Сен-Жерменское предместье и больше всего принцессу Пармскую своими неожиданными постановлениями, основанными на принципах, которые тем больше поражали, чем меньше о них догадывались. Если новый греческий посланник давал костюмированный бал, каждый выбирал себе костюм, и все интересовались, какой будет костюм у герцогини. Один думал, что она пожелает нарядиться герцогиней Бургундской, другой высказывал предположение, что она появится в костюме принцессы де Дюжабар, третий ожидал увидеть ее Психеей. Наконец, на вопрос одной из Курвуазье: «Что ты наденешь, Ориана?» — получен был ответ, о котором никто не подумал: «Решительно ничего!» — ответ, задавший большую работу досужим языкам, так как он разоблачал мнение Орианы об истинном положении в свете нового греческого посланника и о том, как следует держаться по отношению к нему, иными словами — мнение, которое надо было и предвидеть, а именно, что герцогиням «не следует» ходить на костюмированный бал этого нового посланника. «Я не вижу необходимости идти к этому греческому посланнику, с которым я незнакома, я не гречанка, зачем мне туда ходить, мне нечего там делать», — говорила герцогиня. «Но ведь все к нему идут, по-видимому бал будет очаровательный», — восклицала г-жа де Галлардон. «Но разве не очаровательно тоже остаться дома, у камелька», — отвечала герцогиня. Курвуазье не могли опомниться от изумления, но Германты, не подражая герцогине, одобряли ее. «Понятно, не все находятся в таком положении, как Ориана, не все могут порывать с приятными обычаями. Но все же она в известной степени права, желая показать, что мы заходим слишком далеко в пресмыкательстве перед иностранцами, которые часто появляются неизвестно откуда». Понятно, зная, сколько толков вызовет та или иная ее позиция, герцогиня с таким же удовольствием появлялась на празднике, где хозяева не смели рассчитывать на нее, с каким она оставалась у себя дома или проводила вечер с мужем в театре во время бала, на который «пошли все», — или же когда все думали, что она затмит лучшие бриллианты своей знаменитой диадемой, она приходила без единой драгоценности и не в том туалете, который ошибочно считался на таких вечерах обязательным. Хотя герцогиня была антидрейфусарка (уверенная, однако, в невинности Дрейфуса, подобно тому как она проводила свою жизнь в свете, веря только в идеи), она произвела огромную сенсацию на одном вечере у принцессы де Линь, продолжая сначала сидеть, когда все дамы встали при появлении генерала Мерсье, а потом поднявшись и демонстративно попросив следовать за собой своих спутников, когда один оратор-националист начал доклад, показывая тем, что светские собрания, по ее мнению, не место для разговоров о политике; головы всех присутствующих обернулись к ней в одном концерте в Страстную пятницу, где, несмотря на свое вольтерьянство, она не осталась, потому что нашла неприличным выведение на сцену Христа. Известно, какую важность придают даже наиболее видные великосветские дамы времени года, когда начинаются увеселения: маркиза д'Амонкур, которая по своей болтливости, страсти к психологии, а также недостаточной чуткости часто кончала тем, что говорила глупости, раз даже ответила одному господину, явившемуся выразить соболезнование по случаю смерти ее отца, г-на де Монморанси: «В особенности прискорбно, если такое горе постигает вас, когда ваш столик у зеркала завален пригласительными билетами». Так вот, в эту горячую пору, когда все спешили пригласить герцогиню Германтскую к обеду, боясь, как бы кто-нибудь не перехватил ее, она отказывала по единственной причине, которая никогда бы не пришла в голову светскому человеку: она собиралась в морское путешествие, желая посетить интересовавшие ее норвежские фиорды. Светские люди были ошеломлены; не думая подражать герцогине, они все же испытывали от ее поступка то облегчение, какое испытывает читатель Канта, когда после строжайшего доказательства детерминизма он открывает, что над миром необходимости есть еще мир свободы. Всякое изобретение, над которым мы никогда не задумывались, возбуждает умы даже тех людей, которые не умеют им пользоваться. Изобретение пароходного сообщения было пустяком по сравнению с выдумкой воспользоваться пароходным сообщением в разгар домоседного сезона. Мысль, что можно добровольно отказаться от сотни званых обедов и завтраков, от двух сотен «five o'clock», от трех сотен вечеров, от блестящих понедельников в Опере и сред во Французской комедии, чтобы отправиться обозревать норвежские фиорды, казалась Курвуазье столь же необъяснимой, как «Двадцать тысяч лье под водой», но и у них она вызывала ощущение прелести и независимости. Таким образом не было такого дня, когда нельзя было бы услышать не только: «Вы знаете последнее изречение Орианы?», но также: «Вы знаете последнюю выходку Орианы?» И о «последней выходке Орианы», так же как и о последнем «изречении» Орианы, повторяли: «Это типичная Ориана», «это Ориана в самом чистом «виде». «Последняя выходка Орианы» заключалась, например, в следующем: ей надо было ответить от имени одного патриотического общества кардиналу X., епископу маконскому (которого герцог Германтский называл обыкновенно «господин де Маскон», находя, что это отзывается старой Францией), и в то время как каждый пробовал отгадать, как будет сочинено письмо, не сомневаясь, что первыми его словами будут «ваше высокопреосвященство» или «монсеньер», но теряясь насчет дальнейшего, Ориана, к общему удивлению, начинала, следуя старинному академическому обыкновению: «господин кардинал» или же «мой кузен» — формула, употреблявшаяся князьями церкви, Германтами и суверенными государями, просившими Бога охранять их «святой Своей и честной десницей». Чтобы возбудить толки о «последней выходке Орианы», довольно было, чтобы на спектакле, собиравшем весь Париж, на представлении модной пьесы, когда публика искала герцогиню Германтскую в ложе принцессы Пармской, принцессы Германтской и многих других пригласивших ее, она оказалась одна, вся в черном, в миниатюрной шапочке, сидящей в креслах, где она заняла место до поднятия занавеса. «Если пьеса того стоит, ее надо прослушать с самого начала», — объясняла она, шокируя Курвуазье и приводя в восторг Германтов и принцессу Пармскую, которые вдруг открывали, что «манера» смотреть начало пьесы заключала в себе больше новизны, оригинальности и ума (со стороны Орианы в этом не было желания удивлять), чем манера приезжать на последнее действие после званого обеда и появления на каком-нибудь вечере. Таковы были различные виды удивления, к которым принцессе Пармской надо было приготовиться, если она задавала герцогине Германтской какой-нибудь вопрос из области литературы или светской жизни, вследствие чего на обедах у герцогини ее высочество отваживалась на самый незначительный вопрос лишь с трепетной и пьянящей осторожностью купальщицы, выплывающей между двух «валов».
В числе элементов, отсутствовавших в двух или трех других почти равнозначных салонах Сен-Жерменского предместья и тем отличавших от них салон герцогини Германтской, вроде того как, по теории Лейбница, каждая монада, отражая всю вселенную, прибавляет к ней нечто своеобразное, один из наименее привлекательных вносился обыкновенно несколькими замечательно красивыми женщинами, единственным правом которых находиться в этом салоне была их красота и употребление, сделанное из нее герцогом Германтским, так что присутствие их тотчас выдавало, как в других салонах неожиданные картины, что здесь муж является пылким ценителем женских прелестей. Все они были немного похожи друг на друга; ибо герцог чувствовал вкус к женщинам большого роста, величественным и развязным, типа среднего между Венерой Милосской и Самофракийской Победой; большей частью это были блондинки, изредка брюнетки, иногда рыжие, как самая последняя, находившаяся на этом обеде, виконтесса д'Арпажон, в которую герцог был так влюблен, что долгое время заставлял ее посылать себе по десяти телеграмм в день (что немного раздражало герцогиню), сносился с ней при помощи голубиной почты, когда бывал в Германте, и без которой до такой степени неспособен был обходиться, что в одну зиму, проведенную им в Парме, он каждую неделю приезжал видеться с ней в Париж, тратя два дня на путешествие.
Обыкновенно эти красивые статистки состояли в прошлом его любовницами, но уже ими не были (так обстояло дело с г-жой д'Арпажон) или переставали быть. Однако, может быть, еще больше, чем красота и щедрость герцога, их склоняли уступить его желаниям престиж, которым пользовалась у них герцогиня, и надежда быть принятыми в ее салоне, хотя и сами они принадлежали к видным аристократическим, но второсортным кругам. Впрочем, герцогиня неособенно и сопротивлялась бы их проникновению к ней, ибо не в одной из них она нашла союзницу, с чьей помощью ей удавалось добиться от мужа тысячи нужных вещей, в которых герцог безжалостно ей отказывал, если не бывал влюблен в другую женщину. Таким образом, если они получали доступ к герцогине лишь после довольно продолжительной связи с ее мужем, то это объяснялось, пожалуй, прежде всего тем, что герцог, вступая в длительную связь, принимал свое чувство лишь за мимолетную прихоть и считал, что платить за нее приглашением к своей жене будет слишком большой честью. Между тем он способен был предложить эту плату за нечто гораздо меньшее, за первый поцелуй, если встречал сопротивление, на которое не рассчитывал, или, напротив, если не встречал никакого сопротивления. В любви признательность, желание доставить удовольствие часто склоняют давать больше, чем пообещали надежда и корысть. Но тогда осуществление того, что предлагал герцог, наталкивалось на другие препятствия. Прежде всего все женщины, отвечавшие взаимностью на любовь герцога Германтского, иногда даже прежде, чем они ему уступали, одна за другой подвергались им заточению. Он не позволял им ни с кем встречаться, проводил с ними почти все свое время, занимался воспитанием их детей, которым подчас, если судить по поразительному сходству, дарил брата или сестру. Далее, если в начале связи представление герцогине Германтской, вовсе не предусмотренное герцогом, играло некоторую роль для любовницы, то сама связь меняла ее взгляды; герцог был для нее уже не только мужем самой элегантной женщины в Париже, но человеком, которого любила новая его любовница, а также человеком, который часто давал ей средства и вкус к более роскошному образу жизни и который опрокинул прежний порядок важности вопросов снобизма и вопросов корыстолюбия; наконец, любовницы герцога загорались иногда всеми видами ревности к его жене. Но это случалось всего реже; к тому же, когда наступал наконец день представления герцогине (обыкновенно в ту пору, когда любовница становилась уже довольно безразличной герцогу, чьи поступки, как и поступки каждого из нас, чаще всего определялись предшествующими поступками, побуждения к которым больше не существовало), то часто оказывалось, что сама герцогиня желала принять любовницу, в которой надеялась и нуждалась встретить драгоценную союзницу против своего грозного супруга, это не значит, что, — за исключением разве редких мгновений у себя дома, где, когда герцогиня слишком много говорила, он позволял себе грозные слова и еще более грозное молчание, — герцог Германтский не соблюдал по отношению к жене так называемых правил приличия. Люди, которые их не знали, могли впасть на этот счет в заблуждение. Иногда осенью между скачками в Довиле, водами и отъездом в Германт на охоту, в те несколько недель, которые проводят в Париже, герцог, чтобы доставить жене удовольствие, ходил с ней по вечерам в кафешантаны. Публика сразу замечала в одной из маленьких открытых лож бенуара, где можно поместиться только вдвоем, этого Геркулеса в «смокинге» (известно, что каждой более или менее британской вещи во Франции дают название, которого она не носит в Англии) и с моноклем в глазу; в большой, но красивой руке, на безымянном пальце которой блестел сапфир, он держал толстую сигару и время от времени ею затягивался; взгляд его обыкновенно устремлен был на сцену, но, когда он его ронял в партер, где, впрочем, решительно никого не знал, то придавал глазам ласковое, сдержанное, вежливое и внимательное выражение. Когда куплет казался ему смешным и не очень неприличным, герцог с улыбкой оборачивался к жене и, добродушно ей подмигнув, делил с ней невинное веселье, доставленное ей новой шансонеткой. Все зрители были уверены, что нет лучшего мужа, чем герцог, и более завидной жены, чем герцогиня — эта женщина, никак не связанная с жизненными интересами герцога, женщина, которой он не любил, которую никогда не переставал обманывать; если герцогиня чувствовала себя усталой, герцог вставал, сам подавал ей пальто, поправив ее ожерелья, чтобы они не цеплялись за подкладку, и до самого выхода прокладывал ей дорогу с заискивающей и почтительной заботливостью, которую герцогиня принимала с холодностью светской женщины, видящей в ней простую благовоспитанность, а иногда даже с немного иронической горечью жены, у которой давно уже рассеялись все иллюзии. Но, несмотря на эти внешние приличия, — другую часть упомянутой выше вежливости, которая перенесла нравственные обязанности из глубины на поверхность в давнюю уже эпоху и до сих пор, однако, живую для уцелевших ее представителей, — жизнь герцогини была не легкая. Герцог Германтский вновь становился щедрым и человечным лишь ради новой любовницы, которая чаще всего брала сторону герцогини; тогда последняя вновь получала возможность щедро награждать подчиненных, заниматься благотворительностью и даже приобрести для себя впоследствии новый роскошный автомобиль. Но от раздражения, которое обыкновенно довольно скоро возбуждали в герцогине Германтской слишком ей преданные люди, не были избавлены и любовницы герцога. Они вскоре приедались герцогине. В настоящее время связь герцога с г-жой д'Арпажон близилась к концу. Намечалась новая любовница.
Правда, любовь герцога Германтского, последовательно направлявшаяся на всех этих женщин, в один прекрасный день вновь давала себя чувствовать; прежде всего любовь эта, умирая, передавала их по завещанию, как прекрасные мраморные статуи — прекрасные для герцога, в некоторой степени сделавшегося художником, потому что он их любил и был теперь восприимчив к линиям, которых без любви он бы не оценил, — в салон герцогини, разместившись в котором, эти долгое время враждебные, снедаемые ревностью и вечно ссорившиеся фигуры наконец приходили к согласию в мирной дружбе; далее, сама эта дружба была следствием любви, которая позволила герцогу заметить у своих любовниц достоинства, существующие у каждого человека, но распознаваемые только сладострастием, так что бывшая любовница, обратившаяся в «превосходного товарища», готового сделать для нас все, что угодно, является фигурой избитой, вроде врача или отца, которые, если мы перестаем видеть в них врача или отца, делаются друзьями. Но в первый период оставляемая герцогом женщина жаловалась, устраивала сцены, делалась требовательной, нескромной, надоедливой. Герцог начинал на нее сердиться. Тогда герцогине Германтской представлялся случай вывести на свет истинные или мнимые недостатки раздражавшей ее особы. Пользуясь репутацией женщины доброй, герцогиня подходила к телефону, выслушивала признания покинутой и не жаловалась на это. Она смеялась над ней вместе со своим мужем, а потом и с некоторыми близкими друзьями. Считая, что участие, проявленное ею к несчастной, дает ей право быть с нею бесцеремонной даже в ее присутствии, что бы та ни говорила, лишь бы это согласовалось с комическим характером, придуманным ей герцогской четой, герцогиня без стеснения обменивалась с мужем ироническими взглядами единомышленницы.
Между тем, садясь за стол, принцесса Пармская вспомнила, что она хотела пригласить в оперу принцессу X. и, желая узнать, не будет ли это неприятно герцогине Германтской, собралась ее позондировать. В эту минуту вошел г. де Груши, поезд которого был задержан на целый час по причине крушения на линии. Он извинился, как мог. Жена его, если бы она была Курвуазье, умерла бы со стыда. Но г-жа де Груши недаром была урожденная Германт. Когда муж ее извинялся за опоздание, она перебила:
— Вижу, что даже в мелочах опоздание является традицией в вашей семье.
— Садитесь, Груши, и не расстраивайтесь, — сказал герцог.
— Идя в ногу с моей эпохой, я все же вынуждена признать, что битва под Ватерлоо имела благие результаты: она привела к реставрации Бурбонов и вдобавок способом, который сделал их непопулярными. Но я вижу, что вы настоящий Немврод!
— Я, действительно, привез несколько прекрасных экземпляров дичи. Позволю себе прислать герцогине завтра дюжину фазанов.
Словно какая-то мысль блеснула в глазах герцогини Германтской. Она потребовала, чтобы г. де Груши не утруждал себя присылкой фазанов. Подав знак лакею-жениху, с которым я разговаривал, выйдя из залы с картинами Эльстира:
— Пуллен, — сказала она, — вы сходите за фазанами господина графа и принесите их, — ведь, не правда ли, Груши, вы мне позволите сделать эту любезность. Мы не съедим дюжины фазанов вдвоем с Базеном.
— Если даже вы пришлете послезавтра, это не будет, поздно, — сказал г. Груши.
— Нет, я предпочитаю завтра, — настаивала герцогиня.
Пуллен побледнел; его свидание с невестой расстраивалось. Этого было достаточно для развлечения герцогини, которая считала важным, чтобы все ее поступки имели гуманный вид. — «Я знаю, что завтра ваш выходной день, — сказала она Пуллену, — но вам стоит только поменяться с Жоржем, который выйдет завтра и останется послезавтра».
Но послезавтра невеста Пуллена будет занята. Ему было совершенно безразлично, сможет ли он выйти в этот день. Когда Пуллен удалился, все стали хвалить доброту герцогини в обращении со слугами. — «Я просто обращаюсь с ними так, как хотела бы, чтобы обращались со мной». — «Вот именно! Как же им после этого не говорить, что у вас отличное место». — «Нет, это слишком. Но я думаю, что они меня очень любят. Этот немного раздражает, потому что он влюблен и считает долгом напускать на себя меланхолический вид».
В эту минуту Пуллен вернулся. — «Действительно, — сказал г. де Груши, — вид у него невеселый. С ними надо быть добрым, но не чересчур». — «Признаюсь, я совсем не свирепая: вся его работа за целый день — сходить за вашими фазанами, сидеть дома, ничего не делая, и скушать свою долю». — «Многие желали бы быть на его месте», — заметил г. де Груши, ибо зависть слепа.
— «Ориана, — сказала принцесса Пармская, — на днях у меня была с визитом ваша кузина д'Эдикур; по-видимому, это женщина выдающегося ума; она принадлежит к роду Германтов, этим все сказано, но говорят, что у нее злой язык…» Герцог остановил на своей жене долгий взгляд, исполненный деланного изумления. Герцогиня рассмеялась. Принцесса наконец это заметила. «Но… разве вы не… разделяете моего мнения?..» — спросила она с беспокойством. «Вы слишком добры, принцесса, уделяя столько внимания выражениям лица Базена. Полно, Базен, не смотрите так, точно вы намекаете на дурные качества наших родственников». — «Он находит ее очень злой?» — с живостью спросила принцесса. «Вовсе нет! — возразила герцогиня. — Не знаю, кто сказал вашему высочеству, что у нее злой язык. Напротив, это добрейшее существо, никогда никому не сказавшее злого слова и никогда никому не сделавшее зла». — «Вот как! — с облегчением воскликнула принцесса Пармская. — Я тоже никогда за ней этого не замечала. Но так как я знаю, что трудно бывает очень умным людям подавить в себе склонность немного позлословить…» — «Ну, что касается ума, то его у нее еще меньше, чем злости». — «Меньше ума?..» — спросила ошеломленная принцесса. «Слушайте, Ориана, — жалобным тоном проговорил герцог, бросая направо и налево веселые взгляды, — вы слышали: принцесса сказала, что это выдающаяся женщина». — «А разве нет?» — «Она во всяком случае женщина выдающейся толщины». — «Не слушайте его, принцесса, он говорит неискренно; она глупа как гусыня, — громким и хриплым голосом проговорила герцогиня, которая, воспроизводя старую Францию еще ярче, чем герцог, когда он об этом не заботился, часто к этому стремилась, но не в упадочной манере кружевных жабо, как ее муж, а гораздо тоньше, путем почти крестьянского произношения, отдававшего прелестным терпким земляным духом. — Но она превосходнейшая женщина. Кроме того, не знаю даже, может ли глупость, доведенная до этой степени, называться глупостью. Я, кажется, отроду не встречала подобного создания; тут нужен врач, это нечто патологическое: какая-то «юродивая», кретинка, недоразвитая, ну, как в мелодрамах или как в «Арлезианке». Когда она бывает у меня, я всегда задаюсь вопросом, не наступил ли момент, когда ум ее готов пробудиться, что всегда немного пугает». Принцесса восхищалась этими выражениями, по-прежнему ошеломленная вердиктом Орианы. «Она мне передавала, так же как и госпожа д'Эпине, вашу остроту насчет Задиры Гордого. Это прекрасно», — отвечала она.
Герцог Германтский разъяснил мне эту остроту. Мне очень хотелось сказать ему, что брат его, утверждавший, будто он со мной незнаком, ждет меня сегодня вечером в одиннадцать часов. Но я не спросил Робера, могу ли я рассказывать об этом свидании, и так как приглашение г-на де Шарлюса находилось в противоречии с тем, что он говорил герцогине, то я решил, что деликатнее будет промолчать. «Задира Гордый — это не плохо, — сказал герцог, — но г-жа д'Эдикур вероятно не передавала вам гораздо более острых слов Орианы, сказанных ей в ответ на приглашение к завтраку». — «Нет; пожалуйста, скажите нам!» — «Замолчите, пожалуйста, Базен! Прежде всего я сказала глупость, которая внушит принцессе еще более низкое мнение обо мне, чем о моей дуре-кузине. К тому же, не знаю, почему я ее называю моей кузиной. Она кузина Базена. А впрочем, и мне доводится родственницей». — «Что вы!» — воскликнула принцесса Пармская, испугавшись мысли, что она может найти герцогиню Германтскую дурой, ибо ничто не было в силах низвести герцогиню с пьедестала, на котором она стояла в восторженном представлении принцессы. «Вдобавок, мы уже отняли у нее умственные достоинства; так как слова мои отвергают у нее некоторые качества сердца, то они мне кажутся опрометчивыми». — «Отвергать! Опрометчивые! Как она красно говорит!» — сказал герцог с притворной иронией, чтобы все полюбовались герцогиней. «Полно, Базен, не насмехайтесь над вашей женой». — «Надо сказать вашему королевскому высочеству, — продолжал герцог, — что кузина Орианы женщина выдающаяся, добрая, толстая, все, что вам угодно, но она… как бы это вам сказать… не расточительна». — «Да, я знаю, она большая сквалыга», — прервала его принцесса. «Я бы себе не позволил так выразиться, но вы нашли верное слово. Это сказывается на всем ее образе жизни, в частности на ее кухне, которая у нее превосходная, но умеренная». — «Это приводит даже к довольно комичным сценам, — вмешался г. де Бреоте. — Так, например, дорогой Базен, я был у Эдикуров в тот день, когда они ждали Ориану и вас. Были сделаны пышные приготовления, как вдруг под вечер лакей принес телеграмму, извещавшую, что вы не придете». — «Это меня не удивляет!» — воскликнула герцогиня, которую не только трудно было заманить куда-нибудь, но она еще и любила, чтобы все об этом знали. «Ваша кузина читает телеграмму, огорчается, и сейчас же как ни в чем не бывало, решив про себя, что не стоит производить бесполезные расходы ради такой незначительной персоны, как я, подзывает лакея и говорит ему: «Скажите повару, чтобы он отставил цыпленка». А вечером я слышал, как она спрашивала метрдотеля: «Ну? А остатки вчерашнего жаркого? Что же вы их не подаете?» — «Впрочем, надо признать, что еда у нее превосходная, — сказал герцог, думая, что, употребляя это выражение, он напоминает вельможу старого режима. — Я не знаю дома, где бы лучше кушали». — «И меньше», — прервала его герцогиня. «Это очень здорово и вполне достаточно для такого, вульгарно выражаясь, мужлана, как я, — возразил герцог, — уходишь из-за стола немножко голодным». — «Ну, если это в лечебных целях, то стол ее более гигиеничен, чем роскошен. Впрочем, он вовсе не так хорош, как вы говорите, — прибавила герцогиня, не очень любившая, что лучшей кухней в Париже признавалась чья-нибудь другая, а не та, какой потчевала сама она. — Кузина моя похожа на тех страдающих запором писателей, которые раз в пятнадцать лет сносят одноактную пьесу или сонет. Эти вещицы называются маленькими шедеврами, драгоценными пустячками, которых я терпеть не могу. Кухня у Зинаиды неплохая, но ее ценили бы гораздо выше, если бы хозяйка была не такая прижимистая. Есть вещи, которые шеф ее делает прекрасно, и есть вещи, которые ему не удаются. Мне, как и везде, случалось бывать у нее на очень скверных обедах, но они мне повредили меньше, чем обеды в других домах, потому что желудок, в конце концов, более чувствителен к количеству, чем к качеству». — «Словом, чтоб кончить, — заключил герцог, — Зинаида непременно хотела пригласить Ориану к себе завтракать, а так как жена моя не очень любит выходить из дому, то она упорно отказывалась и все допрашивала, не завлекают ли ее обманным способом, под предлогом интимного завтрака, на шумное сборище, тщетно пытаясь выяснить, кто же именно приглашен вместе с ней». «Приходи, приходи, — настаивала Зинаида, расхваливая вкусные вещи, которыми собиралась угостить ее. — Ты покушаешь пюре из каштанов, называю тебе только его, и будет подано еще семь маленьких буше à la reine». — «Семь маленьких буше! — воскликнула Ориана. — Значит, нас будет по крайней мере восемь!» Через несколько мгновений принцесса, поняв, разразилась громоподобным смехом. «Ха-ха-ха! Значит, нас будет восемь, это восхитительно! Как это хорошо редактировано!» — проговорила она, в крайнем напряжении сил припомнив выражение, которое употребляла г-жа д'Эпине и которое на этот раз было более уместно. «Ориана, как мило то, что сказала принцесса, она сказала, что это хорошо редактировано». — «Это не новость для меня, друг мой, я знаю, что принцесса очень остроумна, — отвечала герцогиня, которая охотно смаковала удачные слова, если они бывали произнесены каким-нибудь высочеством и в то же время восхваляли ее собственное остроумие. — Я очень горжусь тем, что принцесса так высоко ценит мои скромные замечания. Впрочем, я не помню, чтобы я это говорила. А если сказала, то чтобы польстить моей кузине: ведь если у нее было семь буше, то ртов, простите, что я так выражаюсь, перевалило бы за дюжину».
— «Ей принадлежали все рукописи г-на де Борнье», — продолжала принцесса, как бы желая оправдать свои близкие отношения с г-жой д'Эдикур. «Как она должно быть мечтала об этом, ведь, я думаю, она даже не была с ним знакома», — сказала герцогиня. «Интереснее всего это переписка с людьми различных стран», — заметила графиня д'Арпажон, которая, находясь в родстве с главными герцогскими и даже королевскими родами Европы, рада была об этом напомнить. «Нет, была, — возразил не без умысла герцог. — Вы ведь прекрасно помните обед, на котором г. де Борнье сидел рядом с вами!» — «Ах, Базен, — прервала мужа герцогиня, — если вы хотите сказать, что я знакома с г-ном де Борнье, то вы, разумеется, правы, он даже несколько раз приходил ко мне с визитом, но я никак не могла решиться пригласить его, потому что мне пришлось бы каждый раз делать дезинфекцию формалином. Что же касается этого обеда, то я его отлично помню, но он был вовсе не у Зинаиды, которая в жизни своей не видела Борнье и должно быть думает, когда ей говорят о «Дочери Роланда», что речь идет об одной принцессе Бонапарт, которую прочили в невесты сыну греческого короля; нет, это было в австрийском посольстве. Очаровательный Уайо вообразил, что доставит мне удовольствие, посадив рядом со мной этого зловонного академика. Мне казалось, что возле меня поместился эскадрон жандармов. Я вынуждена была затыкать нос в течение всего обеда, я решалась дышать только на швейцарский сыр!» Герцог Германтский, достигнув своей тайной цели, взглядывал украдкой на лица окружающих, чтобы судить о впечатлении, произведенном словами герцогини. «Вы говорите о переписке, я нахожу восхитительными письма Гамбетты», — проговорила герцогиня, чтобы показать, что она не боится интересоваться пролетарием и радикалом. Г. де Бреоте оценил все значение этой отваги, окинув окружающих упоенным и растроганным взглядом, после чего протер свой монокль.
— «Боже мой, какая это была тощища «Дочь Роланда», — сказал герцог Германтский с удовлетворением человека, сознающего свое превосходство над пьесой, на представлении которой он смертельно скучал, а может быть, с тем чувством «suave mari magno», которое мы испытываем во время вкусного обеда, вспоминая подобные ужасные вечера. — Но в ней было несколько хороших стихов и патриотическое чувство».
Я заметил, что г. де Борнье меня нисколько не восхищает. «Вот как? Вы ставите ему что-нибудь в упрек? — с любопытством спросил герцог, который всегда считал, что, если мы дурно отзываемся о мужчине, значит он чем-нибудь нас обидел, а если хорошо отзываемся о женщине, значит у нас начинается с ней флирт. — Я вижу, что у вас зуб против него. Что он вам сделал? Вы нам расскажете? Ну, ну, ну, между вами наверное что-нибудь произошло, раз вы его порочите. «Дочь Роланда» — вещь растянутая, но все-таки прочувствованная». — «Прочувствованная — очень верное слово для такого пахучего автора, — иронически заметила герцогиня Германтская. — Если ваш бедный сосед когда-нибудь встречался с ним, то вполне понятно, что этот господин сидит у него в носу!» — «Я должен, впрочем, признаться вам, — продолжал герцог, обращаясь к принцессе Пармской, — что, не говоря о «Дочери Роланда», в литературе и даже в музыке я человек ужасно отсталый, нет такого старого соловья, который мне бы не нравился. Вы, может быть, мне не поверите, но, когда жена моя садится вечером за рояль, я подчас прошу ее сыграть какую-нибудь старую арию Обера, Бойельдье и даже Бетховена! Вот что я люблю. Зато что касается Вагнера, то его музыка моментально меня усыпляет». — «Вы неправы, — возразила герцогиня, — при всех своих невыносимых длиннотах Вагнер все-таки гениален. «Лоэнгрин» — шедевр. Даже в «Тристане» кое-где встречаются любопытные страницы. А хор прях из «Моряка-скитальца» прямо-таки чудо». — «Не правда ли, Бабель, — обратился герцог к г-ну де Бреоте, — мы с вами предпочитаем: «Les rendez-vous de noble compagnie se donnent tous en ce charmant séjour»? Это прелестно. И «Фра-Диаволо», и «Волшебная флейта», и «Шале», и «Свадьба Фигаро», и «Бриллианты короны» — вот это музыка! В литературе то же самое. Я обожаю Бальзака, «Бал в Со», «Парижские могикане». — «Ах, дорогой мой, если вы ополчаетесь на защиту Бальзака, то сегодня мы не кончим, подождите, приберегите это на тот день, когда у нас будет Меме. Тот еще лучше, тот знает Бальзака наизусть». Раздраженный тем, что его прервали, герцог несколько мгновений подержал жену под огнем угрожающего молчания. Его охотничьи глаза были похожи при этом на два заряженных пистолета. Тем временем г-жа д'Арпажон обменивалась с принцессой Пармской замечаниями, доходившими до меня неотчетливо, как вдруг я услышал следующее: «Ах, мадам, сделайте одолжение, я с вами согласна, что он показывает нам мир в уродливом виде, потому что не умеет различать между безобразным и прекрасным или, вернее, потому что вследствие невыносимого своего тщеславия воображает, будто все сказанное им прекрасно; я согласна с вашим высочеством, что в этой вещи есть много смешного, невразумительного, есть безвкусицы, что ее трудно понять, что на чтение ее приходится затрачивать столько усилий, как если бы она была написана по-русски или по-китайски, ведь совершенно очевидно, что это все, что угодно, только не французский язык, зато когда эти трудности преодолеешь, чувствуешь себя вознагражденным, какое богатство воображения!» Начала этой маленькой речи я не расслышал. Но в заключение я понял не только то, что поэт, неспособный отличить прекрасное от уродливого, был Виктор Гюго, и стихи, требовавшие такого же труда, чтобы проникнуть в их смысл, как русский или китайский язык, были: «Когда является дитя, все старшие веселым криком его встречают», — то есть вещью из первого периода творчества поэта, пожалуй, более близкой г-же Дезульер, чем Виктору Гюго периода «Легенды веков». Нисколько не находя г-жу д'Арпажон смешной, я ее увидел (первую за этим столь реальным, столь определенным столом, сидя за которым я испытал такое разочарование), я мысленно ее увидел в кружевном чепчике, с выбивающимися из него по сторонам длинными завитыми прядями, как их носили г-жа де Ремюза, г-жа де Бройль, г-жа де Сент-Олер, эти изысканные женщины, которые в своих восхитительных письмах с таким знанием и так кстати цитируют Софокла, Шиллера и «Подражание Христу», но у которых первые стихотворения романтиков вызывали такой же ужас и такое же утомление, какими всегда сопровождалось у моей бабушки чтение последних стихов Стефана Малларме. «Г-жа д'Арпажон очень любит поэзию», — сказала герцогине принцесса Пармская, возбужденная пылким тоном речи г-жи д'Арпажон. — «Нет, она ровно ничего в ней не смыслит», — вполголоса отвечала герцогиня Германтская, воспользовавшись тем, что г-жа д'Арпажон что-то возражала генералу де Ботрейи и была слишком занята собственными словами, чтобы расслышать то, что прошептала герцогиня. «Она приобрела вкус к литературе, после того как ее бросили. Доложу вашему высочеству, что расхлебывать все это приходится мне, так как каждый раз, когда Базен забывает ее навестить, то есть почти каждый день, она является ко мне поплакать. Но если она ему надоела, это вовсе не моя вина, и я не могу заставить его ходить к ней, хотя и предпочитала бы, чтобы он был ей чуточку более верен, — тогда бы я видела ее немного реже. Но она наводит на него тоску, и в этом нет ничего удивительного. Человек она не плохой, но вы не можете себе представить, до чего она скучная. Каждый день она причиняет мне такие головные боли, что после ее ухода я вынуждена принимать пирамидон. И все это потому, что Базену вздумалось в течение года обманывать меня с ней. И при всем этом иметь лакея, влюбленного в какую-то уличную девку, который дуется на меня за то, что я не предлагаю этой особе покинуть на минутку свой прибыльный тротуар и прийти пить со мной чай! Ах, жизнь — это такая убийственная скука!» — томно заключила герцогиня. Г-жа д'Арпажон наводила скуку на герцога главным образом потому, что с недавних пор он вступил в связь с другой женщиной — маркизой де Сюржи-ле-Дюк. Как раз в это время лакей, лишенный своего выходного дня, обносил стол кушаньями. Он был еще грустен и делал это с большим волнением, ибо я заметил, что, подавая г-ну де Шательро, он так неловко справлялся со своей обязанностью, что несколько раз стукнулся локтем с герцогом. Юный герцог нисколько не рассердился на покрасневшего лакея, а, напротив, весело посмотрел на него светло-голубыми глазами. Веселое расположение г-на де Шательро, казалось мне, служит доказательством его доброты. Однако слишком громкий смех его заставил меня предположить, что разочарование слуги вызывает в нем, напротив, злорадство. «Знаете, дорогая моя, ведь вы не делаете открытия, говоря нам о Викторе Гюго, — продолжала герцогиня, обращаясь на этот раз к г-же д'Арпажон, которая только что взглянула на нее с выражением беспокойства на лице. — Не воображайте, что вы выдвигаете этого дебютанта. Всем известно, что у него есть талант. Виктор Гюго отвратителен лишь в произведениях последнего периода, в «Легенде веков», других заглавий не помню. Но «Осенние листья» и «Песни сумерек» писал поэт, настоящий поэт. Даже в «Созерцаниях», — прибавила герцогиня, которой никто из собеседников не решился возражать, и не без основания, — бывают еще прелестные вещи. Но, признаюсь, я предпочитаю не забираться дальше «Сумерек»! Кроме того, в прекрасных стихах Виктора Гюго, а такие у него есть, нередко встречаешь какую-нибудь мысль, и даже глубокую мысль». И с верным чувством, вынося наружу печальную мысль всеми средствами своей интонации, помещая ее за пределы своего голоса и вперив в нее прелестный мечтательный взгляд, герцогиня медленно сказала: «Вот слушайте:
//Скорбь — слишком тяжкий плод и он не созревает
На слабой веточке, с которой может пасть».//
или еще лучше:
//Как мертвые недолговечны!
Еще не став в гробу добычей тленья,
Они уж в сердце обратились в прах».//
Герцогиня сморщила в разочарованную улыбку грациозную извилину своего скорбного рта и остановила на г-же д'Арпажон мечтательный взгляд своих прелестных светлых глаз. Я начинал с ними осваиваться, так же как и с ее голосом, таким тягучим, терпким и сочным. В этих глазах и в этом голосе я находил много свойств Комбре. В аффектации, с которой этот голос по временам давал почувствовать почвенную грубость, заключалось многое: чисто провинциальное происхождение этой ветви рода Германтов, дольше остававшейся локализованной, более смелой, более дикой, более вызывающей; далее, привычка хорошо воспитанных и умных людей, знающих, что благородство манер заключается не в том, чтобы говорить сквозь зубы, а также наклонность знати охотнее брататься со своими крестьянами, чем с буржуазией, — все те особенности, которые, благодаря царственному положению герцогини, ей легче было выставить напоказ, сбросив с них все покровы. Этот самый голос по-видимому был и у ее сестер, которых она терпеть не могла; уступающие ей по уму и почти буржуазно вышедшие замуж, если можно воспользоваться этим наречием применительно к бракам с безвестными дворянами, зарывшимися у себя в провинции или в недрах Сен-Жерменского предместья в Париже, сестры герцогини тоже обладали этим голосом, но по мере своих сил обуздали его, исправили, смягчили, подобно тому как редко кто из нас бывает настолько смел, чтобы сохранить свою оригинальность, и не прилагает стараний уподобиться расхваленным образцам. Но Ориана была настолько умнее и настолько богаче своих сестер, главное же — настолько более в моде, чем они, — она, еще будучи принцессой де Лом, имела такое влияние на принца Уэльского, что рано поняла всю прелесть своего развинченного голоса и со смелостью, свойственной натуре оригинальной и пользующейся успехом, сделала из него в светском обществе то же, что Режан или Жанна Гранье (понятно, я не сравниваю в отношении таланта и значения этих двух актрис) сделали из своих голосов в театре, то есть нечто изумительное и своеобразное, между тем как никому неведомые сестры Режан и Гранье вероятно приложили усилие замаскировать все эти особенности своего голоса, как недостаток.
Ко всем этим стимулам развивать свою природную оригинальность любимые писатели герцогини Германтской: Мериме, Мельяк и Галеви, прибавили, наряду с уважением к естественности, стремление к прозаичности, через которую она подходила к поэзии, и чисто светское остроумие, оживлявшее передо мной целые пейзажи. Вдобавок герцогиня способна была, присоединив к этим влияниям художественный вкус, выбрать для большинства слов произношение, наиболее соответствовавшее, как ей казалось, областям Иль-де-Франс и Шампань, стараясь употреблять только те слова, которыми мог бы пользоваться какой-нибудь старый французский писатель (хотя в этом отношении ей и не удавалось сравняться со своей золовкой Марсант). Когда вы уставали от мешанины и пестроты нынешнего языка, то слушать разговор герцогини Германтской, хотя он многого выразить не мог, было большим отдыхом, почти таким же, — если вы бывали с ней одни и она еще более суживала и просветляла поток своей речи, — какой получаешь, слушая старую песенку. Глядя тогда на герцогиню Германтскую, я видел заключенное в нескончаемом ясном полдне ее глаз голубоватое небо Иль-де-Франса или Шампани, склоненное под тем же углом, что и в глазах Сен-Лу.
Таким образом, при помощи этих различных формаций герцогиня Германтская выражала сразу старую аристократическую Францию, затем манеру, какой герцогиня де Бройль могла бы одобрять и бранить Виктора Гюго в эпоху Июльской монархии, и наконец живой вкус к литературе, берущей начало от Мериме и Мельяка. Первая из этих формаций мне больше нравилась, чем вторая, она больше помогала загладить разочарование, которое я испытал от путешествия и прибытия в Сен Жерменское предместье, столь отличное от того, как я его (воображал, но и эту вторую формацию я предпочитал третьей. Впрочем, если герцогиня воплощала Германт почти помимо своей воли, то ее пайеронизм, ее вкус к Дюма-сыну были надуманными и преднамеренными. Так как вкус этот составлял противоположность моему, то герцогиня обогащала ум мой литературой, когда говорила со мной о Сен-Жерменском предместье, и никогда не казалась мне более глупой представительницей Сен-Жерменского предместья, чем в то время, когда говорила со мной о литературе.
Взволнованная последними стихами, г-жа д'Арпажон воскликнула: «Святыни сердца тоже прахом стали! Мосье, вам надо будет написать это на моем веере», — сказала она герцогу. «Бедная женщина, мне ее жалко», — проговорила принцесса Пармская. «Не соболезнуйте, мадам, она получила то, чего заслуживает», — отвечала герцогиня. «Однако… простите, что я говорю это вам… ведь она его искренно любит!» — «Вовсе нет, она на это неспособна, она только воображает, будто любит, как воображает в эту минуту, будто цитирует Виктора Гюго, тогда как она приводит стих Мюссе. Знаете, — продолжала герцогиня меланхолическим тоном, — никто больше меня не был бы тронут подлинным чувством. Но вот вам пример. Вчера она закатила Базену ужасную сцену. Ваше высочество, может быть, думаете, что сцена эта была вызвана тем, что он любит других, что он больше ее не любит? Вовсе нет: он просто не хочет рекомендовать ее сыновей в Жокей-Клуб! Разве влюбленная была бы на это способна? Нет, я вам скажу больше, — прибавила герцогиня, подчеркивая слова: — это особа на редкость бесчувственная». Между тем глаза герцога Германтского заблестели от удовлетворения, когда жена его экспромтом начала говорить о Викторе Гюго и продекламировала на память его стихи. Хотя герцогиня часто его раздражала, в такие минуты он гордился ею. «Ориана, право, изумительна. Она может говорить обо всем, она все читала. Ведь не могла же она предвидеть, что сегодня разговор зайдет о Викторе Гюго. Какую бы тему ни затронули, она готова, она может дать отпор самым ученым людям. Она наверное покорила молодого человека».
— «Давайте переменим разговор, — продолжала герцогиня: — тема его уж очень щекотливая. Вы должно быть находите меня старомодной, — обратилась она ко мне, — я знаю, что в настоящее время считается слабостью любить идеи в поэзии, любить поэзию, в которой есть мысли». — «Это старомодно? — спросила принцесса Пармская с легким испугом, вызванным в ней этой новой волной, которой она не ожидала, хотя и знала, что разговор герцогини всегда приберегает для нее ряд упоительных неожиданностей, всегда способен причинить ей тот захватывающий страх и ту здоровую усталость, после которых она инстинктивно думала о необходимости взять ножную ванну в кабине и пройтись быстрым шагом, чтобы «вызвать реакцию».
— «По-моему, нет, Ориана, — сказала г-жа де Бриссак, — я нисколько не сержусь на Виктора Гюго за то, что у него есть мысли, совсем напротив, но я сержусь на него за то, что он ищет их в области уродливого. В сущности это он приучил нас к уродливому в литературе. И без того достаточно уродливостей в жизни. Отчего бы о них не забывать во время чтения книг? Какое-нибудь тяжелое зрелище, от которого мы бы отвернулись в жизни, — вот что привлекает Виктора Гюго».
— «Виктор Гюго все же не настолько реалистичен, как Золя?» — спросила принцесса Пармская. При звуках имени Золя ни один мускул не дрогнул на лице г-на де Ботрейи. Антидрейфусарство генерала сидело в нем слишком глубоко для того, чтобы он пытался его выразить. Его благожелательное молчание, когда касались этих тем, трогало профанов той деликатностью, какую проявляет священник, избегая говорить вам о ваших религиозных обязанностях, финансист, стараясь не рекомендовать руководимых им предприятий, геркулес, обращаясь с вами кротко и не колотя вас кулаками. «Я знаю, что вы родственник адмирала Жюрьен де ла Гравьера», — сказала мне со сведущим видом г-жа де Варамбон, статс-дама принцессы Пармской, превосходная, но ограниченная женщина, рекомендованная когда-то принцессе матерью герцога. Она не сказала мне до сих пор ни слова, и, несмотря на замечания принцессы и мои собственные протесты, мне так и не удалось разубедить ее в том, что у меня нет решительно ничего общего с адмиралом-академиком, мне вовсе неизвестным. Упорное желание статс-дамы принцессы Пармской видеть во мне племянника адмирала Жюрьен де ла Гравьера заключало в себе нечто крайне забавное. Однако ошибка г-жи де Варамбон была лишь грубым и резким примером множества более легких и тонких ошибок, преднамеренных или непреднамеренных, которыми сопровождается наше имя на «фишке», составляемой о нас светом. Помню, как один приятель Германтов, очень желавший со мной познакомиться, объяснил мне свое желание тем, что я хорошо знаю его кузину, г-жу де Шосгро, «она прелестна, она вас очень любит». Напрасны были мои настойчивые возражения, что здесь какая-то ошибка, что я незнаком с г-жой де Шосгро. «В таком случае вы знакомы с ее сестрой, это все равно. Она встречалась с вами в Шотландии». Я никогда не бывал в Шотландии, но напрасно взял из добросовестности на себя труд сообщить об этом моему собеседнику. Г-жа де Шосгро сама сказала, что меня знает, и по-видимому была искренно в этом убеждена в результате какой-то первоначальной путаницы, так как при встречах со мной неуклонно подавала мне руку. А так как общество, которое я посещал, было тем же, что и общество г-жи де Шосгро, то моя скромность была лишена смысла. Я не был знаком с г-жой де Шосгро, но мое знакомство с ней, с светской точки зрения, соответствовало моему положению в обществе, если можно говорить о положении такого молодого человека, каким я тогда был. Таким образом, сколько бы неверного ни говорил обо мне приятель Германтов, он не принижал и не возвышал меня (с светской точки зрения) в представлении, которое он сохранил обо мне непоколебленный. А в общем, если мы не играем комедии, скука вечно исполнять в жизни одну и ту же роль на мгновение рассеивается, как если бы мы поднялись на подмостки, когда другие составляют о нас ложное представление, считают, что мы близки с незнакомой нам дамой, что мы с ней познакомились во время прелестного путешествия, никогда нами не совершавшегося. Ошибки весьма распространенные и часто приятные, когда они не так упорны, как та, которую совершала и от которой не отказалась до самой смерти, как я ей ни возражал, тупоумная статс-дама принцессы Пармской, навсегда утвердившаяся в убеждении, что я родственник скучного адмирала Жюрьен де ла Гравьера. «Она не сильна умом, — сказал мне герцог, — и кроме того ей не следует совершать много возлияний, она, видно, находится под легким влиянием Бахуса». В действительности г-жа де Варамбон пила только воду, и герцог сказал это только для красного словца. «Золя не реалист, мадам, он поэт!» — отвечала принцессе герцогиня Германтская, вдохновленная критическими статьями, которые она прочитала в последние годы, приспособив их к своему личному вкусу. Приятно встряхиваемая до сих пор умственной ванной, в которую ее окунали в этот вечер и которую она считала чрезвычайно благотворной для себя, отдаваясь парадоксам, волнами налетавшим на нее один за другим, принцесса Пармская привскочила из страха быть опрокинутой, когда налетел на нее этот огромный последний вал. Прерывающимся голосом, точно она теряла дыхание, принцесса проговорила: «Золя — поэт!» — «Ну, да, — со смехом отвечала герцогиня, восхищенная видом задыхавшейся принцессы. — Пусть ваше высочество обратит внимание, как он возвеличивает все, чего ни касается. Вы мне скажете, что он касается исключительно того, что… приносит счастье! Но он делает из него нечто огромное; создает эпическую навозную кучу! Это Гомер выгребных ям! Ему не хватает прописных букв, чтобы написать словечко Камброна». Несмотря на крайнее утомление, которое она начинала испытывать, принцесса была в восторге, никогда она не чувствовала себя лучше. Она не променяла бы пребывание в Шенбрунне, единственную вещь, которая ей льстила, на эти божественные обеды герцогини Германтской, действовавшие на нее укрепляюще благодаря такому количеству соли. «Он это пишет с прописного К?» — воскликнула г-жа д'Арпажон. «Скорее с прописного Г, моя милая», — отвечала герцогиня, обменявшись с мужем веселым взглядом, означавшим: «Какая идиотка!» — «Да, кстати, — обратилась ко мне герцогиня, вперив в меня ласковый, улыбающийся взгляд, ибо в качестве внимательной хозяйки она хотела блеснуть своими познаниями о художнике, особенно интересовавшем меня, и в то же время дать мне случай показать и мои познания, — кстати — сказала герцогиня, помахивая веером из перьев, настолько преисполнена она была в эту минуту сознанием, что ею соблюдены все обязанности гостеприимства, и, чтобы не пропустить ни одной из них, знаком приказала положить мне еще спаржи под голландским соусом с взбитыми сливками, — кстати, если не ошибаюсь, Золя написал статью об Эльстире, художнике, несколько картин которого вы только что смотрели; впрочем, единственно они мне нравятся», — прибавила она. В действительности она терпеть не могла живописи Эльстира, но находила бесподобным все, что ей принадлежало. Я спросил герцога, не знает ли он, кто такой господин в цилиндре, которого художник поместил среди праздничной толпы и в котором я узнал то же лицо, чей большой портрет находился тут же рядом; это были произведения почти одного периода, когда индивидуальность Эльстира еще не вполне определилась, когда он испытывал некоторое влияние Мане. «Боже мой, — отвечал герцог, — я знаю, что это человек известный и занимает не последнее место в своей специальности, но у меня плохая память на имена. Вот вертится у меня на языке, господин… господин… впрочем, это неважно, не могу припомнить. Сван вам скажет, это он предложил герцогине купить эти махины, а жена моя всегда чрезвычайно любезна, всегда боится обидеть своим отказом; между нами, я считаю, что он нам всучил мазню. Я могу сказать только, что господин этот является для г-на Эльстира чем-то вроде мецената, который ввел его в моду и часто выручал в затруднительных случаях, заказывая ему картины. Из признательности — если вы назовете это признательностью, это дело вкуса — г. Эльстир вывел его на одной из картин, где он в своем праздничном наряде производит довольно комичное впечатление. Ваш художник человек, может быть, весьма сведущий, но он, по-видимому, не знает, в каких случаях надевают цилиндр. Посреди всех этих простоволосых девиц господин в цилиндре имеет вид мелкого провинциального нотариуса навеселе. Но вы, однако, совсем пленены этими картинами. Знай я это, я бы собрал сведения, чтобы вам ответить. Впрочем, не стоит слишком ломать голову над живописью г-на Эльстира, как если бы речь шла об «Источнике» Энгра или о «Детях Эдуарда» Поля Делароша. В ней ценишь тонкую наблюдательность, занятность, парижский шик, и проходишь мимо. Чтобы смотреть эти картины, не нужно быть эрудитом. Я отлично знаю, что это простые наброски, но, по-моему, они недоработаны. Сван имел дерзость предложить нам приобрести «Пучок спаржи». Этот пучок даже был здесь несколько дней. Только он и есть на картине, пучок спаржи, в точности такой, как та, что вы сейчас глотаете. Но я отказался проглотить спаржу г-на Эльстира. Он спросил за нее триста франков. Триста франков за пучок спаржи! Луидор — вот красная ей цена, даже в самом начале сезона! Я нашел ее жесткой. Когда к подобным вещам он прибавляет человеческие фигуры, то в этом есть что-то вульгарное, что-то пессимистическое, мне это не нравится. Удивляюсь, как с вашим тонким, изысканным умом вы можете любить это». — «Не понимаю, почему вы это говорите, Базен, — сказала герцогиня, не любившая, чтобы дурно отзывались о вещах, находившихся в ее салоне. — Я далека от того, чтобы допускать все без разбора картины Эльстира. Есть среди них и хорошие, есть и дурные. Но у него не все бездарно. И надо признать, что купленные мной картины редкой красоты». — «Ориана, в этом жанре я в тысячу раз предпочитаю маленький этюд г-на Вибера, который мы видела на выставке акварелистов. Это пустяк, если угодно, это уместится на ладони, но как остроумно все до кончиков пальцев: изможденный, грязный миссионер перед изнеженным прелатом, играющим со своей собачкой, — да это целая поэма, столько здесь тонкости и даже глубины». — «Вы кажется знакомы с г-ном Эльстиром, — обратилась ко мне герцогиня. — Человек он приятный». — «Он умен, — сказал герцог, — диву даешься, когда с ним разговариваешь, почему его живопись так вульгарна». — «Он более чем умен, он даже довольно остроумен», — сказала герцогиня со сведущим видом дегустатора, понимающего толк в таких вещах. «Он, кажется, начал ваш портрет, Ориана?» — спросила принцесса Пармская. «Да, в виде красного рака, — отвечала герцогиня, — но портрет этот не увековечит его имени. Это ужас, Базен хотел его уничтожить». Эту фразу герцогиня повторяла часто. Но в других случаях оценка ее была иной: «Я не люблю его живописи, но он когда-то прекрасно написал мой портрет». Одно из этих суждений высказывалось обыкновенно лицам, которые говорили герцогине о ее портрете, другое — лицам, которые ей о нем не говорили и которым она желала сообщить о его существовании. Первое внушалось ей кокетством, второе — тщеславием. «Сделать ужас из вашего портрета! Но тогда это не портрет, это — клевета! Я едва умею держать кисть, но, мне кажется, если бы я вас писала, передавая только то, что вижу, то у меня получился бы шедевр», — наивно сказала принцесса Пармская. «Он вероятно видит меня так же, как я сама себя вижу, то есть лишенной всякой приятности», — проговорила герцогиня, придав своему взгляду меланхолическое, скромное и ласковое выражение, которое казалось ей наиболее подходящим для того, чтобы предстать перед зрителями не такой, как ее изобразил Эльстир. «Портрет этот должен прийтись по вкусу г-же де Галлардон», — сказал герцог. «Оттого что она ничего не смыслит в живописи? — спросила принцесса Пармская, знавшая, что герцогиня беспредельно презирает свою кузину. — Но она очень добрая женщина, не правда ли?» Герцог сделал глубоко удивленный вид. «Что с вами, Базен, разве вы не видите, что принцесса смеется над вами (принцесса и не помышляла об этом)? Она не хуже вашего знает, что Галлардонет старая язва», — продолжала герцогиня, словарь которой, обыкновенно ограниченный этими старинными выражениями, был вкусен, как те блюда, которые можно открыть в прелестных книгах Пампила, но которые в действительности сделались чрезвычайно редкими, где желе, коровье масло, сок и фрикадельки — подлинные, без всякой примеси, для них даже соль доставляется из солончаков Бретани: по выговору, по выбору слов чувствовалось, что основа речи герцогини идет непосредственно из Германта. Этим герцогиня глубоко отличалась от своего племянника Сен-Лу, напичканного таким количеством новых идей и выражений; когда бываешь взволнован идеями Канта и тоской Бодлера, трудно писать изысканным французским языком эпохи Генриха IV, так что самая чистота языка герцогини свидетельствовала о ее ограниченности, о том, что ее ум и восприимчивость оставались закрытыми для всяких новшеств. И в этом отношении ум герцогини нравился мне как раз тем, что он исключал (именно это составляло содержание моих собственных мыслей), и тем, что, по этой причине, он сумел сохранить; мне нравилась в нем та пленительная крепость, которая свойственна бывает гибкому телу, не подорванному никакими изнурительными размышлениями, никакими душевными тревогами и нервными потрясениями. Ее ум, формации несравненно более ранней, чем мой, был для меня эквивалентом того, что являло мне шествие ватаги молодых девушек на берегу моря. Герцогиня Германтская являла мне (укрощенную и покоренную любезностью и уважением к духовным ценностям) бурную энергию, а также обаяние жестокой девочки-аристократки из окрестностей Комбре, которая с детства ездила верхом, ломала позвоночники кошкам, вырывала глаза кроликам и если осталась образцом добродетели, то могла бы быть также самой блестящей любовницей князя де Сагана, настолько элегантной была она еще несколько лет тому назад. Но она неспособна была понять обаяние имени Германт, то есть того, что я искал в ней, и даже той чуточки — провинциальных следов Германта — которые я в ней нашел. Неужели отношения наши были основаны на недоразумении, которое не могло не обнаружиться с той минуты, как мое преклонение, вместо того чтобы обращаться к женщине незаурядной, каковой она себя считала, направилось бы на некоторую другую, столь посредственную женщину, невольно источающую такое же очарование? Недоразумение вполне естественное, которое всегда будет возникать между юным мечтателем и светской женщиной, но оно глубоко его волнует, покуда он не познал еще природы своего воображения и не примирился с неизбежными разочарованиями, которые ему придется испытать в отношениях с людьми, так же как в театре, в путешествиях и даже в любви. Герцог Германтский объявил (в связи со спаржей Эльстира и только что поданной после цыпленка под соусом financière), что зеленую спаржу, выросшую на открытом воздухе, которая, как забавно говорит изысканный автор, подписывающийся Е. де Клермон-Тоннер, «лишена впечатляющей твердости ее сестер», надо есть с яйцами. «Что нравится одним, не нравится другим, и наоборот, — ответил на это г. де Бреоте. — В кантонском округе Китая самым изысканным угощением считаются совершенно протухшие яйца ортолана». Г. де Бреоте, автор статьи о мормонах, появившейся в «Revue des Deux Mondes», бывал только в самых аристократических кругах, но лишь в тех, которые пользовались репутацией культурных. Таким образом, по его посещениям, по крайней мере постоянным, какой-нибудь женщины вы узнавали, есть ли у нее салон. Он делал вид, будто терпеть не может свет, и уверял каждую герцогиню порознь, что ищет с нею знакомства ради ее ума и красоты. Все они были в этом убеждены. Каждый раз, когда г. де Бреоте скрепя сердце соглашался пойти на большой вечер у принцессы Пармской, он для большей храбрости приглашал с собой их всех и появлялся таким образом в своем интимном кругу. Чтобы упрочить за собой репутацию человека интеллигентного, а не светского, г. де Бреоте, руководясь некоторыми правилами Германтов, в разгар бального сезона отправлялся с элегантными дамами в продолжительные образовательные путешествия, и когда какая-нибудь снобка, следовательно особа еще не имеющая положения, начинала ходить повсюду, он наотрез отказывался с ней знакомиться. Его ненависть к снобам вытекала из его снобизма, но она внушала наивным людям, то есть всему «свету», убеждение, что сам он чужд снобизма. «Бабал всегда все знает! — воскликнула герцогиня. — Я нахожу прелестной страну, где вам хочется, чтобы ваш молочник продавал вам с гарантией хорошо протухшие яйца, яйца года кометы. Я отчетливо вижу, как я макаю в них ломтик хлеба с маслом. Должна сказать, что это случается у моей тетушки Мадлены (г-жи де Вильпаризи), где подают разлагающиеся кушанья, даже яйца. (Г-жа д'Арпажон вскрикнула.) Полно, Фили, вы это знаете не хуже меня. В яйцах уже есть цыплята. Не понимаю даже, как у них достает благоразумия сидеть там спокойно. Не омлет, а курятник, только это не обозначено в меню. Вы хорошо сделали, что не пришли обедать позавчера, там подавали камбалу с карболкой! Можно было подумать, что вы не за столом, а в заразном бараке. Право, Норпуа доводит свою верность до героизма: он съел и попросил положить ему еще!» — «Если не ошибаюсь, я видел вас у нее на обеде, когда она так ловко осадила г-на Блоха (желая вероятно придать еврейской фамилии более иноземный вид, герцог Германтский произносил ее конечный согласный не как «к», а как немецкий «ch» в слове «hoch»), который превозносил не помню какого-то пуата (поэта). Напрасно Шательро чуть не раздробил берцовую кость г-на Блоха, последний ничего не понял, вообразив, что удары коленом моего племянника назначаются сидевшей напротив молодой женщине. (Тут герцог немного покраснел.) Ему было невдомек, что он раздражает нашу тетку своими похвалами, раздаваемыми направо и налево. Словом, тетушка Мадлена, которая за словом в карман не лезет, его обрезала: «Что же вы тогда, сударь, сохраните для господина де Боссюэ? (Герцог считал, что прибавление, к историческому имени слова «господин» и частицы «де» непременно требуется «старым режимом».) Право, стоило заплатить за вход». — «Что же ответил г. Блох?» — рассеянно спросила герцогиня, которая, не придумав в эту минуту ничего оригинального, сочла долгом скопировать немецкое произношение своего мужа. «О, уверяю вас, г. Блох убрался, не говоря ни слова, и поминай его как звали». — «Ну да, я отлично помню, что видела вас в тот день, — обратилась ко мне герцогиня, подчеркивая слова, как если бы тот факт, что она это запомнила, должен был чрезвычайно польстить мне. — У тетушки всегда бывает очень интересно. На последнем вечере, когда я с вами встретилась, я хотела вас спросить, кто этот старик, который прошел возле нас, я приняла его за Франсуа Коппе. Вы наверное знаете всех знаменитостей», — сказала она с искренней завистью к моим поэтическим знакомствам, а также из любезности ко мне, чтобы поднять в глазах своих гостей молодого человека, так хорошо сведущего в литературе. Я уверил герцогиню, что не видел ни одной знаменитости на вечере у г-жи де Вильпаризи. «Как! — необдуманно воскликнула герцогиня, выдавая таким образом, что ее уважение к писателям и презрение свету более поверхностны, чем она утверждала и даже сама думала. — Как! Там не было видных писателей! Вы меня удивляете, ведь там были преуморительные рожи!» Я очень хорошо помнил этот вечер вследствие одного совершенно ничтожного инцидента. Г-жа де Вильпаризи представила Блока г-же Альфонс де Ротшильд, но мой приятель не расслышал фамилии и, вообразив, что имеет дело со старой, немного сумасбродной англичанкой, ограничился односложным ответом на пространную речь бывшей красавицы, как вдруг г-жа де Вильпаризи, представляя ее кому-то другому, очень отчетливо произнесла на этот раз: баронесса Альфонс де Ротшильд. Тогда в артерии Блока внезапно и притом сразу проникло столько мыслей о миллионах и о престиже, — мыслей, которые благоразумно было бы расчленить, — что его точно ударило в сердце, голова его затуманилась, и он выпалил прямо в лицо любезной старой даме: «Ах, если б я знал!» — возглас, неуместность которого отшибла у него сон в течение целой недели. Эти слова Блока малоинтересны, но я их вспомнил как доказательство того, что в пылу крайнего возбуждения нам иногда случается говорить то, что мы думаем. «Мне кажется, что г-жа де Вильпаризи не вполне… моральна», — сказала принцесса Пармская, которая знала, что гости герцогини не бывают у ее тетки, и на основании только что сказанного герцогиней заключила, что о старой маркизе можно говорить не стесняясь. Но так как герцогиня посмотрела на нее неодобрительно, то она прибавила: «Впрочем, кто обладает таким умом, тому все простительно». — «Вы составили о моей тетке представление, которое о ней обыкновенно составляют, — отвечала герцогиня, — но оно крайне ошибочно. Это как раз то, что не далее как вчера мне говорил Меме». Она покраснела, какое-то воспоминание затуманило ей глаза. У меня возникла мысль, что г. де Шарлюс просил ее взять назад сделанное мне приглашение, подобно тому как он просил меня через Робера не ходить к ней. Я вспомнил, что герцог, говоря однажды о своем брате, покраснел — по непонятной для меня причине, — но мне показалось, что его смущение следует объяснить иначе. «Бедная тетушка — за ней сохранится репутация женщины старого режима, блистательного ума и крайней свободы нравов. А между тем нет ума более буржуазного, более серьезного, более бесцветного. Она прослывет покровительницей искусств, а смысл этого тот, что она была любовницей знаменитого художника, который однако никогда не мог растолковать ей, что такое картина; что же касается ее жизни, то она вовсе не распутница, а, напротив, создана для брака, рождена быть примерной женой, настолько, что, не сумев сохранить своего мужа, который был, впрочем, каналья, она ко всякой своей связи относилась так же серьезно, как к законному союзу, — с такой же щепетильностью, с такой же гневной страстью, с такой же верностью. Заметьте, что при таких отношениях люди иногда бывают наиболее искренними, неутешные любовники встречаются чаще, «чем неутешные мужья». — «Однако посмотрите, Ориана, на вашего деверя Паламеда, которого вы только что упомянули; вряд ли какая-нибудь любовница может мечтать о том, чтобы ее так оплакивали, как он оплакивал бедную г-жу де Шарлюс». — «Позвольте мне, ваше высочество, — отвечала герцогиня, — быть на этот счет несколько иного мнения. Не все хотят, чтобы их оплакивали на один лад, у каждого свой вкус». — «Но ведь он создал целый культ в честь своей жены после ее смерти. Правда, в честь мертвых иногда делают вещи, которые не были бы сделаны для живых». — «Прежде всего, — отвечала герцогиня мечтательным тоном, который не вязался с ее насмешливым намерением, — ходят на их похороны, чего никогда не делают для живых!» Герцог лукаво посмотрел на г-на де Бреоте, как бы приглашая его посмеяться остроумному замечанию герцогини. «Словом, я откровенно признаюсь, — продолжала герцогиня, — я желала бы, чтобы любимый человек оплакивал меня совсем не так, как мой деверь». Герцог нахмурился. Он не любил, когда жена его судила о людях опрометчиво, особенно о г-не де Шарлюсе. «Вы слишком привередливы. Скорбь его была для всех назидательна», — сказал он заносчиво. Но герцогиня обладала в отношениях с мужем смелостью, свойственной укротителям зверей или же людям, которые живут с сумасшедшим и не боятся его раздражать: «Ну, что же, это назидательно, я не отрицаю, он каждый день ходит на кладбище рассказывать покойнице, сколько у него человек было за завтраком, он по ней страшно горюет, но как родственница, как бабушка, как сестра. Это не траур мужа. Правда, они были двое святых, что придает трауру некоторое своеобразие». Герцог Германтский, раздраженный болтовней жены, вперил в нее, как заряженное дуло, неподвижный, грозный взгляд. «Я не желала сказать ничего неприятного о бедном Меме, который, замечу в скобках, занят сегодня вечером, — продолжала герцогиня, — я признаю, что он добрый, милый и деликатный человек, что у мужчин редко бывает такое сердце, как у него. У Меме сердце женщины!» — «Вы говорите глупости, — резко оборвал жену герцог, — в Меме нет ничего бабьего. Я не знаю человека более мужественного, чем он». — «Да ведь я нисколько и не отрицаю его мужественности. Поймите, по крайней мере, что я говорю, — возразила герцогиня. — На дыбы становится, как только ему покажется, что хотят задеть его брата!» — прибавила она, обращаясь к принцессе Пармской. «Это очень мило, это приятно слышать. Нет ничего прекраснее двух братьев, которые любят друг друга», — сказала принцесса, как сказали бы многие крестьяне, ибо можно принадлежать к княжеской семье и к семье, по крови и по духу очень простонародной.
— «Мы заговорили о ваших родных, Ориана, — продолжала принцесса, — я видела вчера вашего племянника Сен-Лу; мне кажется, он хочет попросить вас об одной услуге». Герцог Германтский нахмурил свои юпитерские брови. Если ему не хотелось оказывать услугу, то он не желал также, чтобы за дело бралась его жена, зная, что это сведется к тому же и что лица, которых герцогине придется просить о ней, запишут ее в общий счет мужу и жене, все равно как если бы об этой услуге просил один только муж. «Почему же он не попросил меня о ней сам? — сказала герцогиня. — Он просидел здесь вчера целых два часа, и, боже мой, до чего он был скучен! Он бы не был глупее других, если бы, подобно стольким светским людям, обладал уменьем оставаться дураком. Но эта мишура знания, вот что ужасно. Он хочет, чтобы ум его был открыт… открыт для всего, чего он не понимает. Он вам говорит о Марокко, это ужасно».
— «Он не может туда вернуться из-за Рахили», — сказал принц де Фуа. «Но ведь они порвали», — возразил г. де Бреоте. «Они так мало порвали, что два дня тому назад я ее застал в холостяцкой квартире Робера; не похоже было, что они поссорились, уверяю вас», — отвечал принц де Фуа, любивший распускать всякие слухи, способные помешать браку Робера; впрочем, его могли обмануть мимолетные возобновления связи, в действительности поконченной.
— «Эта Рахиль мне говорила о вас, я как сейчас вижу ее проходящей утром по Елисейским Полям, эта ветрогонка, как вы говорите, то, что вы называете распоясавшейся женщиной, род «Дамы с камелиями», в образном смысле, разумеется», — с такими словами обратился ко мне князь Фон, которому очень хотелось иметь вид человека, хорошо осведомленного во французской литературе и в парижских тонкостях.
— «Да, как раз по поводу Марокко…» — воскликнула принцесса, поспешно подхватывая слова герцогини. «Чего ему хочется в Марокко? — строго спросил герцог. — Ориана здесь ровно ничего не может сделать; он это отлично знает». — «Он воображает, что изобрел стратегию, — продолжала герцогиня, — и кроме того пользуется невозможными словами для обозначения простейших вещей, что не мешает ему делать кляксы в письмах. На днях он сказал, что ел величественный картофель и что взял величественную ложу в театр». — «Он говорил по-латыни», — подбавил герцог. «Неужели по-латыни?» — спросила принцесса. «Честное слово! Спросите, ваше высочество, Ориану, преувеличиваю ли я». — «Совершенно верно, мадам, на днях он сказал единым духом целую фразу: «Я не знаю примера более трогательного Sic transit gloria mundi; я повторяю эту фразу вашему высочеству, так как после десятка вопросов, и обратившись за помощью к лингвистам, мы наконец ее восстановили, но Робер выпалил ее, не переводя дух; едва можно было разобрать, что в этой фразе есть латинские слова; он похож был на персонаж из «Мнимого больного»! И все это относилось к смерти австрийской императрицы!» — «Бедная женщина! — воскликнула принцесса. — Что за прелестное создание была она». — «Да, — отвечала герцогиня, — немного сумасшедшая, немного безумная, но очень добрая женщина, очень любезная и милая сумасшедшая, только я никогда не могла понять, почему она не покупала крепких вставных зубов, они у нее всегда вываливались, прежде чем она успевала кончить фразу, и чтобы их не проглотить, она вынуждена была умолкать». — «Эта Рахиль мне говорила о вас, она сказала, что Сен-Лу вас обожает и даже отдает вам предпочтение перед ней», — сказал мне князь Фон, уплетая за обе щеки, весь багровый; он непрестанно смеялся, обнажая все свои зубы. «Но в таком случае она должна ревновать ко мне и ненавидеть меня», — отвечал я. «Ни капельки, она мне сказала много хорошего о вас. Любовница принца де Фуа — та, может быть, ревновала бы, если бы он предпочитал вас ей. Вам непонятно? Поедемте домой вместе, я вам по дороге все объясню». — «Не могу, мне надо быть у г-на де Шарлюса в одиннадцать часов». — «Да? Он меня просил обедать у него сегодня, но не приезжать позже без четверти одиннадцать. Но если вы непременно хотите быть у него, так поедемте со мной хотя бы до Французской комедии, вы будете в периферии», — сказал князь, полагавший, по-видимому, что слово это обозначает «поблизости» или, может быть, «в центре».
Но расширившиеся его глаза на красном и мясистом, хотя и красивом лице напугали меня, и я отказался, объявив, что за мной придет один приятель. Ответ этот, по-моему, не заключал ничего оскорбительного. Но по-видимому он произвел на князя другое впечатление, потому что он не сказал мне больше ни слова.
— «Мне надо будет непременно повидать королеву неаполитанскую, в каком она, должно быть, горе», — сказала принцесса Пармская, или по крайней мере так мне почудилось. Ибо слова ее доходили до меня неотчетливо, сквозь более близкие слова князя, хотя он говорил очень тихо, вероятно опасаясь, чтобы его не услышал принц де Фуа. «Ну, нет, — возразила герцогиня, — горя у нее, я думаю, нет никакого». — «Никакого, — вечно вы впадаете в крайности, Ориана», — вмешался герцог, снова беря на себя роль скалы, которая, преграждая дорогу волне, заставляет ее выше взметнуть султан пены. «Базен знает еще лучше меня, что я говорю правду, — отвечала герцогиня, — но благодаря вашему присутствию он считает долгом принять серьезный вид и боится, что я вас шокирую». — «Ах, нет, сделайте одолжение!» — воскликнула принцесса Пармская, опасаясь, чтобы ради нее не испортили как-нибудь восхитительных сред герцогини Германтской, этого запретного плода, вкусить который не получила еще права даже шведская королева. «Ведь это ему она ответила, когда он ей сказал с банально-скорбным видом: «Королева в трауре; по ком же печалится ваше величество?» — «Нет, это не глубокий траур, это полутраур, это самый крохотный траур, это моя сестра». В действительности она в восторге, Базен это отлично знает, она в тот же день пригласила нас на вечер и подарила мне две жемчужины. Мне хотелось бы, чтобы она каждый день теряла по сестре! Она не оплакивает смерти своей сестры, она хохочет над ней. Вероятно она говорит себе, как Робер, sic transit, дальше не знаю», — из скромности прибавила герцогиня, хотя отлично знала эту фразу.
Впрочем, герцогиня в этом случае только острила, и острила некстати, так как королева Неаполитанская, подобно герцогине Алансонской, тоже погибшей трагически, была очень отзывчива и искренно оплакивала смерть своих родных. Герцогиня Германтская слишком хорошо была знакома с баварскими сестрами, своими кузинами, чтобы этого не знать. «Ему не хотелось бы возвращаться в Марокко, — сказала принцесса Пармская, снова подхватывая имя Робера, которое помимо своего желания протягивала ей, как руку помощи, герцогиня Германтская. — Вы, кажется, знакомы с генералом де Монсерфейлем». — «Очень мало», — отвечала герцогиня, поддерживавшая близкие отношения с этим офицером. Принцесса объяснила просьбу Сен-Лу, «Боже мой, если я его увижу, может быть мне случится с ним встретиться», — отвечала герцогиня, чтобы не создавать впечатления отказа; ее отношения с генералом де Монсерфейлем моментально испортились, когда надо было попросить об услуге. Такая неопределенность, однако, не удовлетворила герцога, который прервал жену: «Ведь вы прекрасно знаете, Ориана, что вы его не увидите, и кроме того вы уже просили его о двух вещах, которых он не сделал. Жена моя одержима манией любезности, — продолжал он, все более горячась и желая заставить принцессу взять назад свою просьбу, но так, чтобы она не усомнилась в любезности герцогини, а отнесла все на счет его собственного самодурства. — Робер мог бы добиться от Монсерфейля чего угодно. Но так как он сам не знает, чего хочет, то обращается к нему с просьбами через нас, ибо знает, что нет лучшего способа провалить дело. Ориана чересчур часто обращалась с просьбами к Монсерфейлю. Если она попросит его теперь, это послужит для него поводом отказать». — «Ах, при таких условиях герцогине лучше ничего не предпринимать», — сказала принцесса. «Разумеется», — заключил герцог. «Бедный генерал, он снова провалился на выборах», — сказала принцесса, чтобы переменить разговор. «О, это пустяки, это только седьмой раз», — сказал герцог; вынужденный отказаться от политической деятельности, он с удовольствием узнавал о выборных неудачах других. «Он утешился, сделав нового ребенка своей жене». — «Как, бедная г-жа де Монсерфейль снова беременна!» — воскликнула принцесса. «Ну, понятно, — отвечала герцогиня, — это единственный округ, где бедняга генерал никогда не терпел неудачи».
Впоследствии меня постоянно приглашали на эти трапезы, хотя бы они происходили в обществе всего нескольких человек, — трапезы, участников которых я некогда представлял себе в виде апостолов из Сент-Шапель. Они действительно собирались здесь, как первые христиане, не только для того, чтобы разделить пищу материальную, впрочем превосходную, но некоторым образом также для вечери светской; таким образом я очень скоро познакомился со всеми друзьями моих хозяев, друзьями, которым они меня представляли со столь явно выраженной благожелательностью (как человека, издавна ими опекаемого), что все эти люди сочли бы неучтивостью по отношению к герцогу и герцогине, давая бал, не включить меня в список приглашенных, и в то же время, запивая икемом из погребов Германта, я лакомился ортоланами, приготовленными по различным рецептам, которые составлял и искусно видоизменял сам герцог. Впрочем, для тех, кто уже не раз сидел за мистическим столом, принятие их в пищу не было обязательным. Старые друзья герцога и герцогини приходили к ним после обеда, «как зубочистки», сказала бы г-жа Сван, без приглашения, и пили зимой чашку липового отвара в ярко освещенном большом салоне, а летом стакан оранжада во мраке крошечного прямоугольного сада. Вечером в саду у Германтов всегда подавали только оранжад. Он представлял собой нечто ритуальное. Присоединить к нему другие прохладительные было бы нарушением традиции, подобно тому как большой раут в Сен-Жерменском предместье уже не раут, если на нем исполняется какая-нибудь комедия или какие-нибудь музыкальные произведения. Надо, чтобы вас считали приходящим запросто — хотя бы там было пятьсот человек — с визитом к принцессе Германтской, например. Все дивились моему влиянию, потому что в добавление к оранжаду я мог потребовать графин с вишневым или грушевым соком. По этой причине я свел близкое знакомство с принцем Агригентским, который, подобно всем людям, лишенным воображения, но не жадности, всегда восхищался тем, что я пью, и просил позволения чуточку попробовать. Таким образом принц Агригентский каждый раз портил мне удовольствие, уменьшая мою порцию. Ведь фруктового сока никогда не хватает, чтобы утолить жажду. Ничто так мало не приедается, как эта транспонировка во вкус цвета плода, который, когда его сварят, как будто возвращается к поре цветов. Окрашенный в пурпур, как фруктовый сад весной, или же бесцветный и свежий, как ветерок под фруктовыми деревьями, сок дает обонянию и зрению наслаждаться собой капля за каплей, и принц Агригентский обыкновенно мешал мне им насытиться. Несмотря на эти компоты, традиционный оранжад продолжал существовать, как и липовый отвар. Эти скромные формы светского причастия не мешали ему, однако, быть причастием. Среди друзей герцога и герцогини Германтских, как я и представлял себе первоначально, существовало больше разнообразия, чем можно было бы заключить по их обманчивой внешности. Многие старики являлись к герцогине, чтобы найти у нее наряду с неизменным напитком часто довольно нелюбезный прием. Их приводил сюда не снобизм, ибо сами они занимали самое высокое положение в светском обществе, и не любовь к роскоши; они ее, пожалуй, любили, но могли бы найти сколько угодно и на самых низших ступенях светской лестницы, ибо в эти самые вечера прелестная жена богатейшего финансиста все бы сделала, чтобы добиться их присутствия на ослепительных охотах, которые она устраивала в течение двух дней для испанского короля. Тем не менее они отказывались и заходили на всякий случай посмотреть, дома ли герцогиня Германтская. Они не были даже уверены, что найдут у нее мнения вполне соответствующие их собственным или же особенно теплые чувства; герцогиня Германтская говорила подчас о деле Дрейфуса, о республике, об антирелигиозных законах, или даже вполголоса о них самих, об их немощах и о скучных их разговорах такие вещи, что они должны были делать вид, будто их не слышат. Если они по привычке приходили сюда, то лишь благодаря изысканному воспитанию светских гастрономов, благодаря полной уверенности в совершенстве и превосходном качестве светских блюд, давно знакомых, вкусных, неподдельных, без всякой посторонней примеси, происхождение и история которых были им столь же хорошо известны, как происхождение и история той, которая этими блюдами их угощала; словом, они проявляли в этом отношении больше аристократизма, чем сами об этом подозревали. Случаю угодно было, чтобы среди этой группы гостей, которым меня представили после обеда, находился один из завсегдатаев салона герцогини, тот самый генерал де Монсерфейль, о котором говорила принцесса Пармская и о визите которого в этот вечер герцогиня не была предупреждена. Услышав мое имя, он поклонился мне так, точно я был председателем верховного военного суда. Если герцогиня почти наотрез отказалась рекомендовать своего племянника г-ну де Монсерфейлю, то единственно — подумал я — по недостатку услужливости, находя в этом у мужа такую же поддержку, какую он оказывал ее остроумию. Я считал это равнодушие тем более непростительным, что по некоторым словам, вырвавшимся у принцессы Пармской, можно было заключить, насколько опасной была служба Робера и как благоразумно было бы попросить о его переводе. Но я был положительно возмущен злобностью герцогини, когда, в ответ на робкое предложение принцессы Пармской поговорить с генералом самой и от своего имени она сделала все возможное, чтобы отклонить от этого ее высочество. «Что вы, мадам, — воскликнула она, — Монсерфейль не пользуется никаким доверием у нового правительства, он ничего не может сделать. Это был бы напрасно потраченный труд». — «Мне кажется, он может нас услышать», — прошептала принцесса, приглашая герцогиню говорить тише. «Не беспокойтесь, ваше высочество, он глух как пень», — сказала, не понижая голоса, герцогиня, которую генерал прекрасно слышал. «Дело в том, что г. де Сен-Лу, по-моему, несет довольно опасную службу», — сказала принцесса. «Что поделаешь, — отвечала герцогиня, — он находится в положении любого из своих товарищей, с той только разницей, что сам туда напросился. К тому же это вовсе не опасно; иначе, поверьте, я бы за него похлопотала. Я бы поговорила о нем за обедом с Сен-Жозефом. Он гораздо более влиятелен и какой работяга! К сожалению, он уже ушел. Притом же это было бы менее щекотливо, чем обращаться к Монсерфейлю, у которого три сына в Марокко и он не пожелал просить об их переводе; он может привести это в качестве возражения. Так как ваше высочество изволили очень настаивать, то я поговорю с Сен-Жозефом… если я его увижу, или с Ботрейи. Но если я их не увижу, не очень жалейте Робера. На днях мне рассказывали об условиях тамошней службы. Я думаю, что лучшего места ему не найти».
— «Какой красивый цветок, я никогда такого не видела, только у вас, Ориана, можно найти такие чудеса!» — сказала принцесса Пармская, которая из боязни, чтобы генерал де Монсерфейль не услышал слов герцогини, пыталась переменить разговор. Я узнал цветок, похожий на те, которые писал при мне Эльстир. «Я в восторге, что он вам понравился. О, это восхитительные цветы, посмотрите, какой у них лиловый бархатный ошейник; но только, как это иногда случается с хорошенькими и изящно одетыми женщинами, у них ужасное имя, и они дурно пахнут. Несмотря на это, я их очень люблю. Немножко печально лишь то, что они скоро погибнут». — «Но ведь они в горшке, они не срезаны» — сказала принцесса. «Нет, — отвечала герцогиня, — но это одно и то же, так как это дамы. Они из того рода растений, у которых дамы и мужчины сидят на разных стеблях. Все равно, как если бы у меня была одна только кошечка. Мне нужно мужа для моих цветов. Без этого у них не будет детей!» — «Как это любопытно. Значит, в природе…» — «Да, да. Существуют насекомые, которые берутся устраивать свадьбы, как для монархов, по доверенности, без предварительной встречи жениха и невесты. Вот почему, клянусь вам, я приказываю моему лакею как можно чаще выставлять эти цветы на окно, то со стороны двора, то со стороны сада, в надежде, что прилетит нужное насекомое. Но на это так мало шансов. Подумайте, нужно, чтобы насекомое раньше увидело цветок того же вида, но другого пола, и чтобы ему пришла в голову мысль занести в наш дом карточку. До сих пор оно не прилетало, и я думаю, что мое растение навсегда останется девственным, но признаюсь, я бы предпочла, чтобы оно было чуточку беспутнее. Оно вроде того красивого дерева, что растет во дворе и умрет бездетным, так как это очень редкий вид в наших краях. Брачный союз ему должен устроить ветер, но ему мешает слишком высокая стена». — «Действительно, — сказал г. де Бреоте, — вам бы ее следовало понизить хотя бы только на несколько сантиметров. Операции эти надо производить умеючи. Запах ванили в превосходном мороженом, которым вы нас только что угощали, герцогиня, происходит от растения, называемого ванильным. На нем есть цветы как мужские, так и женские, но помещающаяся между ними плотная перегородка препятствует всякому сообщению. Вот почему от него никак не могли добиться плодов, пока один молодой негр, уроженец острова Реюниона, по имени Альбен, что, в скобках замечу, довольно комично для чернокожего, так как значит «белый», не додумался привести в соприкосновение разделенные органы при помощи маленького шипа». — «Бабал, вы божественны, вы все знаете», — воскликнула герцогиня. «Но вы сами, Ориана, сообщили мне вещи, о которых я не подозревала», — сказала принцесса. «Доложу вашему высочеству, что мне всегда много говорил о ботанике Сван. Подчас, когда нам очень уж тошно было идти куда-нибудь пить чай или на «утро», мы отправлялись за город, и он мне показывал удивительные браки цветов, что гораздо занятнее, чем браки у людей, без ленча и без записей в церковных книгах. Нам никогда не хватало времени забраться очень далеко. Теперь, когда завелись автомобили, это было бы прелестно. К несчастью, он тем временем сам вступил в еще более диковинный брак, который все это очень затруднил. Ах, мадам, жизнь ужасная вещь, проводишь время, занимаясь делами, от которых вам тошно, а когда невзначай знакомишься с человеком, который мог бы вам показать столько интересного, надо, чтобы он женился, как Сван. Поставленная между отказом от ботанических прогулок и необходимостью бывать у опозорившей себя особы, я выбрала первое из этих двух бедствий. Впрочем, в сущности и не надо было уезжать так далеко. По-видимому, даже в моем садике среди бела дня происходит больше непристойностей, чем ночью… в Булонском Лесу! Только никто этого не замечает, потому что между цветами это делается очень просто, мы видим только оранжевый дождик или же густо покрытую пылью мушку, только что обчистившую свои лапки или взявшую душ, перед тем как забраться в цветок. И дело обделано!» — «Комод, на котором стоит растение, тоже великолепен, это ампир, не правда ли?» — сказала принцесса, которая, не будучи знакома с трудами Дарвина и его последователей, плохо понимала значение шуток герцогини. «Да, он красив. Я в восторге, что он вам нравится, мадам, — отвечала герцогиня. — Вещь замечательная. Признаться, я всегда обожала стиль ампир, даже в то время, когда он был не в моде. Помню, в Германте я привела в негодование мою свекровь, приказав спустить с чердака роскошную мебель ампир, доставшуюся Базену по наследству от Монтескью; я обставила ею флигель, в котором я жила». Герцог улыбнулся. Он не мог не помнить, что дело происходило совсем иначе. Но так как подшучивание принцессы де Лом над дурным вкусом свекрови вошло у нее в привычку в течение краткого периода, когда принц был влюблен в свою жену, то от этой угасшей любви у него и до сих пор уцелело некоторое презрение к умственным способностям матери, презрение, сочетавшееся, впрочем, с большой к ней почтительностью и привязанностью. «У князей Иенских есть такое же кресло с инкрустациями Веджвуда, оно красивое, но мое я предпочитаю, — сказала герцогиня с таким бесстрастным видом, как если бы ни одно из этих кресел не было ее собственностью. — Я, впрочем, не отрицаю, что у них есть чудесные вещи, которых я не имею». Принцесса Пармская промолчала. «Ах, простите, ваше высочество, вы не знаете их коллекции. О, вам надо непременно побывать у них разок со мной! Это живой музей». Так как это предположение было одной из самых дерзких ее выходок в Германтском вкусе, ибо князья Иенские были для принцессы Пармской чистейшими узурпаторами (их сын, как и ее собственный, носил титул герцога Гвастальского), то герцогиня, сделав его, не удержалась (настолько любовь к собственной оригинальности была в ней сильнее почтения к принцессе Пармской) и окинула своих гостей лукаво улыбающимся взглядом. Они тоже напряженно улыбались, испуганные, изумленные и в то же время восхищенные мыслью, что являются свидетелями «последней выходки» Орианы, которую они смогут разнести по городу еще «совсем тепленькой». Впрочем, они были отчасти подготовлены, зная, с каким искусством герцогиня умеет пренебрегать всеми предрассудками Курвуазье ради какой-нибудь пикантной и приятной затеи. Разве не примирила она в эти последние годы принцессу Матильду с герцогом Омальским, который написал родному брату принцессы знаменитое письмо: «У нас в семье все мужчины храбры и все женщины целомудренны»? Однако принцы остаются принцами даже в ту минуту, когда они как будто хотят об этом забыть, — герцог Омальский и принцесса Матильда так понравились друг другу у герцогини Германтской, что стали после этого посещать друг друга, обнаружив ту способность забывать прошлое, которую проявил Людовик XVIII, когда назначил министром Фуше, голосовавшего за казнь его брата. Герцогиня замышляла план такого же сближения принцессы Мюрат с королевой Неаполитанской. Между тем принцесса Пармская, по-видимому, пришла в такое же замешательство, какое могли бы почувствовать наследники голландского и бельгийского престола, то есть принц Оранский и герцог Брабантский, если бы им пожелали представить г-на де Майи Неля, принца Оранского, и г-на де Шарлюса, герцога Брабантского. Герцогиня же, которой Сван и г. де Шарлюс (хотя последний решительно отказывался знаться с князьями Иенскими) с большим трудом привили вкус к стилю ампир, воскликнула: «Уверяю вас, мадам, вы найдете это неописуемо прекрасным! Признаюсь, стиль ампир всегда производил на меня сильное впечатление. Но у князей Иенских обстановка ампир прямо сказочная. Этот, как бы вам сказать… этот вал, поднятый египетской экспедицией, этот прилив античности, наводняющий наши дома, сфинксы, располагающиеся на ножках кресел, змеи, обвивающиеся вокруг канделябров, огромная муза, протягивающая вам маленький подсвечник для игры в буйот или же спокойно взобравшаяся на ваш камин и облокотившаяся на ваши часы, затем все эти помпейские светильники, кроватки в форме лодок, как будто найденные на Ниле, из которых вот-вот покажется Моисей, эти античные квадриги, скачущие по ночным столикам…» — «На мебели ампир не очень удобно сидеть», — отважилась заметить принцесса. «Это верно, — отвечала герцогиня с улыбкой, — но я люблю испытывать неудобства, сидя на этих креслах красного дерева, обитых гранатовым бархатом или зеленым шелком. Я люблю эти неудобные седалища воинов, признававших только курульные кресла и посреди парадного зала скрещивавших пучки прутьев с секирой и складывавших лавры. Уверяю вас, что у князей Иенских вы ни минуты не думаете о том, удобно ли вам сидеть, когда видите перед собой огромную Победу, написанную фреской на стене. Супруг мой найдет меня очень плохой роялисткой, но вы знаете, я женщина весьма неблагонамеренная; уверяю вас, что у них в доме начинают нравиться все эти Н, все эти пчелы. Боже мой, под властью королей Франция давненько не была избалована славой, так что в этих войнах, принесших столько венцов, что они облепили ими даже ручки кресел, право же, есть известный шик! Вашему высочеству непременно нужно сходить к ним». — «Боже мой, если вы так думаете, — сказала принцесса, — но мне кажется, это будет не легко». — «Вы увидите, мадам, что все отлично устроится. Это очень хорошие и не глупые люди. Мы к ним привели г-жу де Шеврез, — прибавила герцогиня, зная могущественное действие примера, — она осталась в восторге. Даже сын очень приятен… То, что я собираюсь рассказать, не очень прилично, — продолжала герцогиня, — у них есть одна комната и особенно кровать в ней, на которой так хочется поспать… без него! А еще менее прилично то, что мне раз довелось увидеть его, когда он был болен и лежал в постели. Рядом с ним, на краю кровати, можно было видеть восхитительно изваянную вытянувшуюся сирену с перламутровым хвостом, у которой в руке что-то вроде лотосов. Уверяю вас, — прибавила герцогиня, замедляя речь, чтобы рельефнее выделить слова, которые она как будто лепила сложенными в гримаску красивыми губами, и щегольнуть формой своих длинных выразительных рук, причем ее ласковый, пристальный и глубокий взгляд оставался прикованным к принцессе, — уверяю вас, что вместе с пальмовыми листьями и золотым венком все это создавало волнующую картину: точь в точь «Юноша и смерть» Густава Моро (вашему высочеству наверное известен этот шедевр)». Принцесса Пармская, не знавшая даже имени художника, усиленно закивала головой и улыбнулась, чтобы показать таким образом свое восхищение этой картиной. Но энергичная ее мимика не способна была заменить огонька, который отсутствует в наших глазах, когда мы не понимаем обращенных к нам слов. «Что же он, красив?» — спросила она. «Нет, он похож на тапира. Глаза немного напоминают глаза королевы Гортензии, как ее рисуют на абажурах. Но он, вероятно, решил, что для мужчины было бы немного смешно развивать такое сходство, и оно теряется в навощенных щеках, которые придают ему вид мамелюка. Чувствуется, что каждое утро у него бывает полотер. Сван, — продолжала она, возвращаясь к кровати молодого герцога, — поражен был сходством сирены со «Смертью» Густава Моро. Но, впрочем, — заключила герцогиня в более быстром темпе, однако же серьезным тоном, чтобы усилить комическое впечатление, — нам нечего тревожиться, потому что у него был обыкновенный насморк, и молодой человек здоров, как дуб». — «Говорят, он сноб?» — спросил г. де Бреоте возбужденным и недоброжелательным тоном, ожидая столь же точного ответа, как если бы он сказал: «Мне говорили, что у него только четыре пальца на правой руке, это правда?» — «Боже м…мой, боже м…мой, — отвечала герцогиня с мягкой снисходительной улыбкой. — Пожалуй, с виду чуточку сноб, ведь он совсем еще младенец, Но меня бы удивило, если бы он оказался снобом в действительности, так как он неглуп, — прибавила она, точно считая снобизм совершенно несовместимым с умом. — Он не лишен остроумия и иногда бывает уморителен, — продолжала она смеясь, с видом гастронома и знатока, как если бы, находя кого-нибудь уморительным, мы непременно должны выражать веселость или как если бы ей пришли на ум в эту минуту смешные выходки герцога Гвастальского. — Впрочем, его ведь нигде не принимают, так что этому снобизму не на чем проявиться», — заключила она, не подумав, что слова ее служат плохим поощрением для принцессы Пармской. «Интересно, что скажет принц Германтский, который называет хозяйку этого дома госпожа Иена, если узнает, что я пошла к ней». — «Помилуйте, — воскликнула с необыкновенной живостью герцогиня, — разве вы не знаете, что мы уступили Жильберу (теперь она горько раскаивалась в этом!) целую залу ампир, доставшуюся нам от Кью-Кью, это такая роскошь! Здесь не было места, где бы она пришлась так впору, как у него. Прекраснейшие веши, полуэтрусские, полуегипетские…» — «Египетские?» — спросила принцесса, которой слово «этрусский» мало что говорило. «Боже мой, отчасти египетские, отчасти этрусские, Сван нам говорил это, он мне все объяснил, только, вы знаете, я круглая невежда. К тому же, мадам, надо вам сказать, что Египет стиля ампир не имеет ничего общего с настоящим Египтом, а также их римляне — с древними римлянами, или их Этрурия…» — «Вы правы», — сказала принцесса. «Нет, это похоже на то, что называли костюмом Людовика XV при Второй империи, в эпоху молодости Анны де Монши или матери милейшего Бригода. Базен только что говорил вам о Бетховене. На днях нам играли одну его вещь, немного холодную, но прекрасную, в которой есть русская тема. Как трогательно, что он считал ее русской! Точно так же китайские художники воображали, что они копируют Беллини. Впрочем, даже в одной и той же стране, если кто-нибудь смотрит на вещи с несколько необычной точки зрения, то почти никто из его современников ровнешенько ничего не видит в том, что он им показывает. Надо по крайней мере сорок лет, чтобы они научились это различать». — «Сорок лет!» — воскликнула испуганная принцесса. «Ну, да, — подтвердила герцогиня, все больше и больше подчеркивая слова (которые были почти буквальным повторением моих слов, так как незадолго перед этим я развивал перед ней аналогичную мысль) при помощи особенного произношения, равнозначного курсиву в печатном тексте, — это нечто вроде первого обособленного экземпляра еще не существующего вида, который впоследствии быстро размножится, экземпляра, наделенного своего рода чувством, которого недостает его современникам. Я не могу сослаться на себя, потому что мне, напротив, всегда с самого начала нравились все интересные произведения, как бы они ни были необычны. На днях я была с великой княгиней в Лувре, мы остановились возле «Олимпии» Мане. Теперь эта картина никого уже не поражает. Кажется, что она принадлежит кисти Энгра. Однако сколько мне пришлось сломать из-за нее копий, так как это несомненно произведение значительное, хотя я ее вовсе не люблю. Мне кажется, ее место совсем не в Лувре». — «Как себя чувствует великая княгиня?» — спросила принцесса Пармская, для которой тетка царя была существом бесконечно более близким, чем «натура» Мане. «Да, мы говорили о вас. В сущности, — продолжала герцогиня, возвращаясь к своей мысли, — истина в том, что, как говорит мой деверь Паламед, вы отделены от каждого человека стеной чужого языка. Я думаю, что ни к кому это не приложимо в такой степени, как к Жильберу. Если вам любопытно пойти к князьям Иенским, то вы ведь слишком умны, чтобы ставить ваши поступки в зависимость от того, что может подумать этот несчастный человек, который очень мил и простодушен, но держится чересчур уж несовременных понятий. Я чувствую себя более близкой, более родной моему кучеру и моим лошадям, чем этому человеку, который все время сообразуется с тем, что подумали бы при Филиппе Смелом или Людовике Толстом. Вы можете себе представить: когда он выходит прогуляться в деревне, то с добродушным видом отодвигает тросточкой крестьян, говоря: «Посторонитесь, мужичье!» Когда он со мной разговаривает, я испытываю, в сущности, такое же удивление, как если бы со мной заговорили скульптурные изображения покойников, лежащие на готических гробницах. Даром, что этот живой камень мой родственник, — он меня пугает, и я только и думаю о том, как бы его оставить в дорогом ему средневековье. Если с этим не считаться, то я согласна, что он никогда никого не зарезал». — «Я только что с ним обедал у г-жи де Вильпаризи», — сказал генерал, без улыбки и не поддерживая шуток герцогини. «Был у нее г. де Норпуа?» — спросил князь Фон, все еще думавший об Академии наук. «Да, — сказал генерал. — Он даже говорил о вашем императоре». — «Император Вильгельм, по-видимому, человек очень умный, но он не любит живописи Эльстира. Впрочем, я говорю это не в осуждение его, — отвечала герцогиня, — я разделяю его манеру видеть. Хотя Эльстир прекрасно написал мой портрет. Ах, вы его не знаете! Вышло непохоже, но очень занятно. Он очень любопытен во время сеансов. Он меня сделал старухой. Вроде «Попечительниц богадельни» Гальса. Вы, вероятно, знаете эти шедевры, по излюбленному выражению моего племянника», — обратилась ко мне герцогиня, слегка покачивая веером из черных перьев. Она сидела, выпрямившись и благородно откинув назад голову, так как хотя она была в действительности великосветской дамой, но еще чуть-чуть играла роль великосветской дамы. Я сказал, что ездил когда-то в Амстердам и Гаагу, но, чтобы не мешать впечатлений, так как времени у меня было мало, воздержался от посещения Гаарлема. «Ах, Гаага! Какой музей!» — воскликнул герцог Германтский. Я сказал, что он наверное восхищался там «Видом Дельфта» Вермеера. Но в герцоге было больше спеси, чем знаний. Поэтому он ограничился тем, что ответил с самодовольным видом, как делал это каждый раз, когда ему говорили о каком-нибудь музейном или выставленном в Салоне произведении, которого он не помнил: «Если это надо видеть, то я видел!» — «Как! Вы съездили в Голландию и не побывали в Гаарлеме, — воскликнула герцогиня. — Да будь даже в вашем распоряжении только четверть часа, все-таки вам бы следовало взглянуть на изумительных Гальсов. Я даже готова сказать, что если бы они были выставлены на улице и кому-нибудь довелось их увидеть только с империала трамвая на ходу, то и тогда следовало бы посмотреть на них во все глаза». Слова эти меня неприятно поразили, ибо свидетельствовали о непонимании того, как в нас образуются художественные впечатления, и очевидно предполагали, что глаз наш является в этом случае лишь прибором, автоматически запечатлевающим моментальные фотоснимки.
Герцог Германтский, довольный тем, что жена его так компетентно говорит об интересующих меня предметах, смотрел на ее осанистую фигуру, слушал ее речи о Франце Гальсе и думал: «Она подкована на славу. Мой юный гость вправе сказать себе, что перед ним в полном смысле слова великосветская дама былых времен, и второй такой теперь не сыскать». Так видел я теперь их обоих оторванными от имени Германт, в котором некогда они вели для меня непостижимую жизнь; теперь они сделались похожими на других мужчин и на других женщин и лишь отставали немного от своих современников, но неодинаково, как это можно наблюдать в стольких семьях Сен-Жерменского предместья, где у жены достало искусства остановиться на золотом веке прошлого, а муж имел несчастье уйти в неблагодарную его эпоху, где жена осталась еще Людовиком XV, между тем как муж напыщенно играет роль Луи-Филиппа. То, что герцогиня Германтская оказалась похожа на других женщин, меня сначала разочаровало, но потом, в силу реакции, которой содействовало столько хороших вин, почти что привело в восхищение. Дон-Жуан Австрийский или Изабелла д'Эсте, помещенные нами в мире имен, имеют так же мало связи с подлинной историей, как сторона Мезеглиза со стороной Германта. Изабелла д'Эсте в действительности была, по-видимому, весьма захудалая принцесса, подобная тем, что при Людовике XIV не получали никакого придворного звания. Но, поскольку мы ее представляем существом единственным в своем роде и ни с чем не сравнимым, она в наших глазах обладает не меньшим величием, так что какой-нибудь ужин у Людовика XIV самое большее мог бы возбудить в нас некоторый интерес, тогда как, встретившись с Изабеллой д'Эсте, мы бы способны были воочию увидеть в ней сверхъестественную героиню романа. Когда же, терпеливо изучив биографию этой принцессы, пересадив ее из мира феерического в мир истории, мы убедились, что в ее жизни и образе мыслей нет и следа таинственного своеобразия, внушенного нам ее именем, когда это заблуждение рассеялось, мы бесконечно признательны этой принцессе за то, что ее познания о живописи Мантеньи почти равнялись познаниям г-на Лафенестра, к которым мы до тех пор относились с презрением и, как сказала бы Франсуаза, в грош их не ставили. Взобравшись на недосягаемые высоты имени Германт, а потом спустившись по внутреннему склону в личную жизнь герцогини и найдя там давно знакомые имена Виктора Гюго, Франца Гальса и, увы, Вибера, я испытывал изумление путешественника, который, вообразив на основании географической отдаленности и необычных названий экзотической флоры, будто где-нибудь в долине центральной Америки или северной Африки он найдет диковинные нравы, вдруг за густой зарослью гигантских алоэ или мансенилл обнаруживает туземцев, занятых (иногда даже перед развалинами римского театра или колонны, посвященной Венере) чтением «Меропы» или «Альзиры». Столь далекая и столь отстраненная от культуры знакомых мне образованных дам из буржуазии, столь над ней возвышающаяся, но по существу однородная культура герцогини Германтской, при помощи которой она старалась, бескорыстно и не подстрекаемая честолюбием, низойти до уровня лиц, стоявших совершенно вне ее круга, обладала похвальными и почти трогательными (благодаря своей полной практической бесполезности) качествами эрудиции какого-нибудь врача или политического деятеля в области финикийских древностей. «Я бы могла показать вам одну отличную картину Гальса, — любезно сказала мне герцогиня, — лучшую его картину, по утверждению некоторых знатоков, она досталась мне по наследству от одного немецкого кузена. К несчастью, картина эта находится в «ленном» владении замка, вы не знаете этого выражения, я тоже, — прибавила она из склонности подшучивать (считая, что таким образом идет в ногу с современностью) над старинными установлениями, к которым в душе она была крепко привязана. — Я довольна, что вы видели моих Эльстиров, но, признаюсь, была бы еще более довольна, если бы могла угостить вас моим Гальсом, этой «ленной» картиной». — «Я ее знаю, — сказал князь Фон, — она принадлежала великому герцогу Гессенскому». — «Совершенно верно, его брат женился на моей сестре, — сказал герцог Германтский, — и кроме того его мать была двоюродной сестрой матери Орианы». — «Но что касается г-на Эльстира, — продолжал князь, — то позволю себе заметить, не высказывая суждения о его картинах, которых я не знаю, что ненависть к нему императора, по-моему, не следует разделять. Император — человек удивительного ума». — «Да, я дважды с ним обедала, один раз у тети Саган, другой раз у тети Радзивилл, и я должна сказать, что нашла его любопытным. По-моему, он далеко не прост! В нем есть нечто занятное, нечто «выращенное», — сказала она, отчеканивая это слово, — вроде зеленой гвоздики, то есть вещь, которая меня удивляет и не слишком мне нравится, просто удивительно, что этого можно было добиться, но я нахожу, что лучше было бы, пожалуй, не добиваться. Надеюсь, что я вас не шокирую». — «Император — человек неслыханного ума, — продолжал князь, — он страстно любит искусства; в отношении художественных произведений вкус его в некотором роде непогрешим; он никогда не ошибается; если вещь прекрасна, он сразу это видит, она ему становится ненавистна. Если он какой-нибудь вещи не терпит, то вещь эта без сомнения превосходна». Все улыбнулись. «Вы меня успокаиваете», — сказала герцогиня. «Я сравнил бы императора, — продолжал князь, который, не умея произносить слова археолог (то есть так, как если бы было написано «археолог»), не упускал ни одного случая им пользоваться, — с одним старым берлинским аршеологом. При виде древних ассирийских памятников старый аршеолог плачет. Но если ему показывают современную подделку, а не подлинную древнюю вещь, он не плачет. И вот, когда хотят узнать, является ли какая-нибудь аршеологическая вещь действительно древней, ее приносят к старому аршеологу. Если он плачет, вещь покупают для музея. Если глаза его остаются сухими, вещь отсылают к торговцу и этого торговца привлекают к ответственности за подделку. Так вот, каждый раз, когда я обедаю в Потсдаме и император говорит мне: «Князь, надо, чтобы вы это посмотрели, гениальная вещь», в записываю указанную вещь и остерегаюсь ее смотреть, а когда он мечет громы и молнии против какой-нибудь выставки, я при первой же возможности бегу на нее». — «Правда ли, что Норпуа — сторонник англо-французского сближения?» — спросил герцог Германтский. «Какая вам от него польза, — с раздражением и не без лукавства спросил князь Фон, который терпеть не мог англичан. — Они такие ослы. Если они и могут вам помочь, то не как военные. Все же можно о них судить по глупости их генералов. Один их моих приятелей недавно беседовал с Ботой, бурским военачальником. Тот ему сказал: «Ужасно иметь такую армию. Я, впрочем, скорее люблю англичан, но все-таки я, простой мужик, колотил их во всех сражениях. И в последнем, когда я изнемогал под натиском в двадцать раз сильнейшего неприятеля, уже совсем вынужденный сдаться, я все-таки ухитрился взять две тысячи человек в плен! Это случилось, потому что я был только предводителем мужицких отрядов, но если когда-нибудь этим болванам доведется померяться силами с регулярной европейской армией, то прямо дрожь берет при мысли, что их постигнет!» Достаточно, впрочем, того, что их король, которого вы знаете не хуже меня, считается в Англии великим человеком». Я почти не слушал этих анекдотов, так похожих на анекдоты г-на де Норпуа, которые посол рассказывал моему отцу; они не давали никакой пищи любимым моим мечтам; впрочем, если бы даже они ее и давали, пища эта должна была бы отличаться гораздо большей остротой, чтобы пробудить мою внутреннюю жизнь в течение этих светских часов, когда я сосредоточен был на поверхности моей кожи, в тщательно причесанных волосах, в крахмальной груди рубашки, то есть когда я ровно ничего не мог почувствовать из того, что составляло удовольствие в моей жизни. «Нет, я не разделяю вашего мнения, — сказала герцогиня Германтская, находившая немецкого князя бестактным, — по-моему, король Эдуард очарователен, у него столько простоты, и он гораздо тоньше, чем это думают. И королева, даже еще теперь, принадлежит к числу самых прекрасных женщин, каких я знаю». — «Однако, герцогиня, — сказал раздраженный князь, не замечая неприятного впечатления, произведенного его словами, — если бы принц Уэльский был простым смертным, то решительно все клубы исключили бы его из числа своих членов, и никто не согласился бы пожимать ему руку. Королева восхитительна, она чрезвычайно ласкова и чрезвычайно ограничена. Но в конце концов есть что-то шокирующее в этой королевской чете, которая буквально находится на содержании у своих подданных, которая заставляет крупных еврейских финансистов оплачивать все свои расходы и за это дает им титул баронета. Вроде того как князь болгарский…» — «Это наш родич, — сказала герцогиня, — он неглуп». — «Он и мой родич, — продолжал князь, — но это не дает нам основания считать его порядочным человеком. Нет, вам бы следовало сблизиться с нами, это заветнейшее желание императора, но он хочет, чтобы оно шло от сердца; он говорит: я хочу рукопожатия, а не шапочного поклона! Тогда вы были бы непобедимы. Это было бы целесообразнее, чем англо-французское сближение, которое проповедует г. де Норпуа». — «Вы с ним знакомы, я знаю», — обратилась ко мне герцогиня Германтская, желая привлечь и меня к участию в разговоре. Вспомнив, как г. де Норпуа рассказывал, что я имел намерение поцеловать ему руку, и подумав, что он едва ли умолчал об этом герцогине и во всяком случае мог сказать ей обо мне только плохое, если, несмотря на дружбу с моим отцом, он не поколебался выставить меня в таком смешном виде, я однако не сделал того, что сделал бы на моем месте человек светский. Светский человек сказал бы, что он терпеть не может г-на де Норпуа и дал ему это почувствовать; он сказал бы так, чтобы создать впечатление, будто он сам является причиной злобных сплетен посла, которые оказались бы после этого лишь отместкой задетого человека. Я же сказал, напротив, что, к моему большому сожалению, г. де Норпуа, по-видимому, меня не любит. «Вы глубоко заблуждаетесь, — отвечала мне герцогиня. — Он вас очень любит. Можете спросить у Базена, если за мной создалась репутация женщины слишком любезной: он не может похвастать любезностью. Базен вам скажет, что ни о ком Норпуа так мило не отзывался, как о вас. Еще не так давно он хотел устроить вас в министерство на очень приличную должность. Но, узнав, что вы нездоровы и не могли бы ее занять, был настолько деликатен, что ни слова не сказал о своем добром намерении вашему отцу, которого он очень высоко ценит». От г-на де Норпуа я менее всего ожидал бы услуги. Посол был насмешником и довольно злым, и лица, подобно мне обманутые его манерами Людовика Святого, творящего суд под дубом, и мягкими звуками, исходившими из его, пожалуй, слишком гармонических уст, считали настоящим вероломством злословие по их адресу со стороны человека, казалось, вкладывавшего всю душу в свои слова. Подобного рода злословие было у него не редкостью. Но это не мешало ему иметь симпатии, хвалить тех, кого он любил, и с удовольствием оказывать им услуги. «Впрочем, я вовсе не удивляюсь, что он вас ценит, — продолжала герцогиня, — он человек умный. И я отлично понимаю, — прибавила она, обращаясь к другим и намекая на проект брака, о котором я не знал, — я отлично понимаю, что моя тетушка, доставляющая ему теперь мало удовольствия в качестве старой любовницы, не прельщает Норпуа в качестве новой супруги. Тем более, что, по-моему, она давно уже не является его любовницей, она стала слишком елейной. Вооз-Норпуа может сказать, как Виктор Гюго: «Господи, давно уже та, с которой я спал, покинула мое ложе ради твоего!» Право, бедная моя тетушка стала похожа на тех передовых художников, которые, провоевав всю жизнь с Академией, под старость основывают собственную академию, или же на тех расстриг, которые фабрикуют себе свою религию. Тогда не надо было снимать рясу, или не надо было вступать в сожительство. Кто знает, — прибавила герцогиня с мечтательным видом, — может быть это затевается в предвидении вдовства. Нет ничего печальнее трауров, которые нельзя носить». — «О, если г-жа де Вильпаризи станет г-жой де Норпуа, то, я думаю, наш кузен Жильбер сляжет в постель», — сказал генерал де Сен-Жозеф. «Принц Германтский очарователен, но он действительно придает слишком много значения вопросам родословной и этикета, — сказала принцесса Пармская. — Мне случилось провести два дня у него в деревне, когда, к сожалению, супруга его была больна. Меня сопровождала Крошка (это было прозвище г-жи д'Юнольстен, данное ей за огромный рост). Принц спустился с крыльца, чтобы встретить меня, предложил мне руку и сделал вид, что не замечает Крошки. Мы поднялись во второй этаж до входа в салон, и тогда только, отступив, чтобы дать мне дорогу, принц сказал: «А, здравствуйте, госпожа д'Юнольстен» (он всегда называет ее так после того, как она развелась), притворившись, будто лишь в эту минуту заметил Крошку, и желая показать, что он не должен был спускаться ей навстречу». — «Это ничуть меня не удивляет. Мне нет надобности говорить вам, — сказал герцог, считавший себя крайне передовым человеком, в грош не ставящим происхождения, и даже республиканцем, — что у меня мало общего с моим кузеном. Вы можете быть уверены, что наши взгляды на вещи отличаются так же, как день отличается от ночи. Но я должен сказать, что если бы моя тетка вышла замуж за Норпуа, то я бы разделил мнение Жильбера. Быть дочерью Флоримона де Гиза и вступить в такой брак, да ведь это, как говорится, курам на смех, что прикажете вам сказать? — Эти последние слова, которые герцог вставлял обыкновенно в середину фразы, были тут совершенно некстати. Но он испытывал в них постоянную потребность, заставлявшую его относить их на самый конец периода, если они не находили места в других его частях. Это было для него, помимо всего прочего, чем-то вроде метрики стиха. — Заметьте, — продолжал он, — что Норпуа дворяне хорошего происхождения, хорошего рода».
— «Послушайте, Базен, стоило ли вам смеяться над Жильбером, чтобы говорить то же, что и он», — сказала герцогиня, для которой «доброкачественность» происхождения, подобно доброкачественности вина, заключалась, точь в точь так же как для принца и герцога, в его древности. Но так как она была умнее мужа и менее откровенна, чем ее кузен, то в разговоре старалась не уронить остроумия Германтов и на словах презирала знатность, отдавая ей уважение своими поступками. «Но ведь вы как будто даже в некотором родстве? — спросил генерал де Сен-Жозеф. — Мне помнится, Норпуа был женат на одной из Ла Рошфуко». — «Нет, не по этой линии, она была из ветви герцогов де Ла Рошфуко, а моя бабушка из рода герцогов де Дудовиль. Это родная бабушка Эдуарда Кохо, самого мудрого представителя нашего рода, — отвечал герцог, у которого были немного поверхностные представления о мудрости, — и две этих ветви не роднились с Людовика XIV; времена, как видите, довольно отдаленные». — «Вот как, это интересно, я этого не знал», — сказал генерал. «Впрочем, — продолжал герцог, — его мать, кажется, была сестрой герцога де Монморанси и в первом браке вышла замуж за Ла Тур д'Овернь. Но так как эти Монморанси едва-едва Монморанси и эти Ла Тур д'Овернь вовсе не Ла Тур д'Овернь, то я не считаю, чтобы это давало ему высокое положение. Норпуа утверждает, и это было бы гораздо важнее, будто он происходит от Сентрайлей, и так как мы происходим от них по прямой линии…»
В Комбре была улица Сентрайля, о которой я никогда не вспоминал. Она вела от улицы ла Бретонри к улице Птицы. Так как Сентрайль, этот соратник Жанны д'Арк, женившийся на одной из Германтов, присоединил к владениям этого рода графство Комбре, то герб его сочетался с гербом Германтов под одним из витражей церкви Сент-Илер. Передо мной возникли ступеньки из бурого песчаника, когда один перелив голоса воспроизвел имя Германт забытым тоном, как оно мне когда-то слышалось, тоном столь отличным от того, каким его произносили, обозначая любезных хозяев, пригласивших меня обедать. Если имя герцогини Германтской было для меня именем коллективным, то не только в историческом смысле, как результат сложения всех женщин, его носивших, но и в смысле личном, поскольку за мою короткую молодость на эту особу накладывалось в моем сознании столько различных женщин, каждая из которых исчезала, когда следующая за ней приобретала достаточно плотности. Слова в течение столетий меньше меняют свое значение, чем имена для нас на протяжении нескольких лет. Наша память и наше сердце недостаточно просторны, чтобы быть верными. В нашем сознании не находится достаточно места, чтобы хранить мертвецов рядом с живыми. Мы вынуждены строить на развалинах прошлого, которое для нас открывается лишь путем случайных раскопок, типа тех, которые только что произвело во мне имя Сентрайль. Я счел бесполезным объяснять все это и даже прибегнул к скрытой лжи, не ответив на вопрос герцога: «Вы не знаете наших родных мест?» Может быть даже герцогу было известно, что я их знаю, и только благовоспитанность помешала ему повторить вопрос.
Герцогиня Германтская вывела меня из задумчивости. «Я нахожу все это снотворным. Послушайте, у меня не всегда бывает так скучно. Надеюсь, вы скоро вновь придете к нам обедать, на этот раз без генеалогий», — вполголоса сказала мне герцогиня, неспособная понять, чем мог я плениться у нее в доме; она бы обиделась, если бы узнала, что нравится мне лишь как гербарий, полный вымерших растений.
То, что, по мнению герцогини Германтской, обмануло мои ожидания, напротив, под конец — ибо герцог и генерал не переставая говорили о родословных — спасло меня в этот вечер от полного разочарования. В самом деле, как мне было не испытать его до сих пор? Ведь все гости герцогини, облекши таинственные имена, под которыми я их только и знал на расстоянии, телом и умом такого же, а то и худшего качества, как у прочих моих знакомых, произвели на меня то впечатление плоской вульгарности, которое может произвести датский порт Эльсинор на восторженного читателя «Гамлета». Конечно, географические области и древнее прошлое, вложившие в их имена высокие леса и готические колокольни, в какой-то степени сформировали их лица, их ум и их предрассудки, но существовали в них лишь так, как причина существует в действии, то есть если и могли бы быть вскрыты логически, то нисколько не поражали воображения.
И, вот, эти старинные предрассудки разом вернули гостям герцога и герцогини утраченную ими поэзию. Конечно, сведения, которыми обладает знать и которые создают в среде ее людей образованных, знатоков этимологии не слов, а имен (и то лишь по сравнению с невежественной массой буржуазии, ибо если при одинаковой недалекости человек набожный ответит вам правильнее, чем вольнодумец, на вопросы о литургии, зато антиклерикальный археолог сплошь и рядом может поучить своего кюре о том, что касается даже его собственной церкви), сведения эти, если мы хотим держаться истины, лишены были для этих знатных господ даже того очарования, которое они имеют для какого-нибудь буржуа. Они знали, может быть, лучше, чем я, что герцогиня де Гиз была принцессой Клевской, Орлеанской и Порсьенской и т. п., но раньше всех этих имен они знали герцогиню де Гиз в лицо, которое имя это для них отражало. Я начал с феи, хотя бы ей вскоре суждено было погибнуть; для них исходным пунктом была живая женщина.
В буржуазных семьях мы нередко видим возникновение зависти, если младшая сестра выходит замуж раньше старшей. Так и в мире аристократии, у Курвуазье в особенности, но также и у Германтов, аристократические притязания сводились к вопросам о старшинстве, к ребячеству, о котором я узнал сначала (в этом была для меня его единственная прелесть) из книг. Разве не кажется, что Талеман де Рео говорит о Германтах, а не о Роганах, когда с явным удовольствием рассказывает, как г. де Гемене кричал своему брату: «Можешь входить сюда, это не Лувр!» — и отзывался о шевалье де Рогане (потому что он был побочный сын герцога Клермонтского): «По крайней мере он принц!» Единственно неприятным мне в этой беседе было то, что нелепые анекдоты о наследном герцоге Люксембургском принимались здесь с таким же доверием, как и в кругу приятелей Сен-Лу. Положительно это была эпидемия, которая не продлится, может быть, более двух лет, но которая распространилась на всех. Здесь повторяли те же вздорные рассказы или присочиняли новые. Я понял, что сама принцесса Люксембургская, делая вид, будто выступает на защиту племянника, давала оружие для нападения на него. «Напрасно вы его защищаете, — сказал мне герцог Германтский, как говорил уже Сен-Лу. — Оставим даже мнение наших родных, хотя оно единодушно, вы расспросите о нем его слуг, людей, которые в сущности знают нас лучше всего. Герцог Люксембургский подарил племяннику своего негритенка. Вскоре этот негр вернулся к нему весь в слезах: «Герцог бил меня, я не мерзавец, герцог злой, это гадко». Я говорю это с полным знанием дела, это кузен Орианы». Трудно сказать, сколько раз в этот вечер довелось мне услышать слова «кузен» и «кузина». С одной стороны, герцог Германтский почти каждый раз, когда произносилось новое имя, восклицал: «Да ведь это кузен Орианы!» — с радостью заблудившегося в лесу человека, который читает на указательной табличке с двумя направленными в противоположные стороны стрелками и мелкими цифрами километров: «Бельведер Казимир-Перье» и «Перекресток Егермейстерам» — и заключает отсюда, что он на правильной дороге. С другой стороны, слова «кузен» и «кузина» употреблялись с совсем иным намерением (которое составляло здесь исключение) женой турецкого посла, явившейся после обеда. Снедаемая светским честолюбием, женщина эта обладала замечательной способностью к усвоению и с одинаковой легкостью запоминала историю отступления «Десяти тысяч» и описание половых извращений у птиц. Она знала, кажется, все новейшие немецкие работы, касались ли они политической экономии, умственных расстройств, различных форм онанизма или философии Эпикура. Слушать ее было, впрочем, опасно, ибо, вечно впадая в заблуждение, она обвиняла в крайнем легкомыслии безупречно добродетельных женщин или предостерегала вас против господина, одушевленного самыми честными намерениями, а также рассказывала истории, как будто вычитанные из книги, — настолько были они не то что серьезны, а неправдоподобны.
В то время ее мало где принимали. Несколько недель она посещала женщин блестящих, вроде герцогини Германтской, но вообще принуждена была ограничиться семьями хотя и очень знатными, однако принадлежавшими к захудалым ветвям, которых Германты более не посещали. Она надеялась иметь самый светский вид, называя громкие имена мало где принятых людей, своих хороших знакомых. Герцог Германтский, воображая, что речь идет о людях, часто у него обедавших, испытывал тогда радостный трепет человека, очутившегося в знакомых местах, и издавал свой возглас: «Ведь это кузен Орианы! Я знаю его как свои пять пальцев. Он живет на улице Вано. Мать его была м-ль д'Юзес». Жене посла приходилось признаться, что примером ей послужило животное более мелкое. Она пыталась установить связь своих знакомых с знакомыми герцога окольным путем: «Я очень хорошо знаю, кого вы имеете в виду. Нет, это не из тех, это их кузены». Но эта фраза, брошенная в качестве отбоя бедной женой посла, быстро замирала. Ибо разочарованный герцог отвечал: «Вот как! В таком случае, я не знаю, кого вы имеете в виду». Жена посла ничего не отвечала, ибо если она была знакома лишь с кузенами настоящих людей, то очень часто кузены эти не были даже их родственниками. Потом герцог снова возглашал: «Да ведь это кузина Орианы», — слова, казалось, исполнявшие в его фразах ту же роль, какую исполняют некоторые удобные эпитеты в стихах латинских поэтов, давая для их гекзаметров лишний дактиль или спондей. Возглас герцога: «Да ведь это кузина Орианы», показался мне, однако, вполне естественным в применении к принцессе Германтской, которая действительно была очень близкой родственницей герцогини. Жена посла по-видимому не любила этой женщины. Она тихонько сказала мне: «Она глупа. Да и вовсе не так красива. Это искусственно созданная репутация. К тому же, — прибавила она с решительным видом, в котором сквозило отвращение, — она мне крайне антипатична». Но часто родственные связи простирались гораздо дальше, ибо герцогиня Германтская считала своим долгом называть «тетушками» особ, у которых были общие с нею предки хотя бы при Людовике XV, подобно тому как миллиардерше, вышедшей замуж за принца, прапрадед которого, как и прапрадед герцогини Германтской, женат был на дочери Лувуа, доставляло особенное удовольствие на первом же визите к Германтам, принявшим ее, впрочем, не очень радушно, но зато разобравшим по косточкам, называть «тетушкой» герцогиню, выслушавшую это обращение с материнской улыбкой. Но меня мало интересовало, чем было «происхождение» для герцога Германтского и г-на де Монсерфейля; в разговорах, которые они вели между собой на эту тему, я искал только поэтического удовольствия. Сами о том не подозревая, они мне доставляли его, как доставили бы землепашцы или матросы, говоря о пахоте или о приливах — реальностях слишком тесно с ними связанных, чтобы они могли наслаждаться их красотой, которую я старался из них извлечь.
Подчас имя вызывало воспоминание не столько о каком-нибудь знатном роде, сколько об определенном историческом факте, об определенной дате. Услышав от герцога, что мать г-на де Бреоте была Шуазель, а бабушка Люсенж, я воображал под его банальной рубашкой с простыми жемчужными запонками заключенные в двух хрустальных шарах знаменитые реликвии: кровоточащие сердца г-жи де Прален и герцога Беррийского; другие реликвии: длинные тонкие волосы г-жи Тальен или г-жи де Сабран пробуждали чувства более сладострастные.
Осведомленный лучше, чем его жена, о своих предках, герцог Германтский был обладателем воспоминаний, придававших его разговору вид старинного жилища, не заключающего, правда, настоящих шедевров, но наполненного подлинными картинами, посредственными и величавыми, создающими в целом впечатление внушительное. На вопрос принца Агригентского, почему принц X., говоря о герцоге Омальском, назвал его «дядей», герцог отвечал: «Потому что брат его матери, герцог Вюртембергский, был женат на дочери Луи-Филиппа». Тогда перед глазами моими возник драгоценный ларец, подобный тем, что расписывали Карпаччо или Мемлинг, на передней стенке которого изображена была принцесса на свадьбе своего брата, герцога Орлеанского, в простом летнем платье, чтобы показать таким образом свое недовольство тем, что не были приняты послы, просившие для нее руки принца Сиракузского, а на задней — рождение ее сына, герцога Вюртембергского (родного дяди принца, с которым я только что обедал), в замке Фантазии, столь же аристократическом, как и некоторые фамилии. Замки эти, сохраняющиеся в течение многих поколений, видят в стенах своих целый ряд исторических личностей. В данном, например, живут бок-о-бок воспоминания о маркграфине Байрейтской, другой фантастической принцессе (сестре герцога Орлеанского), которой, говорят, очень нравилось название замка ее супруга, о короле баварском и, наконец, о принце X., как раз в это время попросившем герцога Германтского писать ему по адресу унаследованного им замка, который он отдавал в наем лишь на время вагнеровских представлений принцу де Полиньяку, другому милому «фантасту». Когда герцог Германтский, желая объяснить свое родство с г-жой д'Арпажон, вынужден был, миновав несколько поколений, так сложно и так просто дойти до Марии-Луизы или до Кольбера, снова повторялось то же самое: то или иное большое историческое событие оказывалось замаскированным, искаженным, заключенным в имя какого-нибудь поместья, в имена какой-нибудь женщины, выбранные для нее потому, что она была внучка Луи-Филиппа и Марии-Амелии, рассматриваемых не как король и королева Франции, но лишь как дед и бабка, оставившие определенное наследство. (В словаре произведений Бальзака, где, по другим соображениям, виднейшие исторические деятели фигурируют лишь в зависимости от роли, исполняемой ими в «Человеческой комедии», мы видим, что Наполеон занимает гораздо более скромное место, чем Растиньяк, и занимает его лишь потому, что он разговаривал с девицами де Сен-Синь.) Так в грузном своем здании с редкими окнами, пропускающими мало света, здании, для которого характерны отсутствие полета, но также слепая массивная мощность построек романского стиля, аристократия заключает всю историю, конденсирует ее и замуровывает.
Таким образом пространства моей памяти покрывались мало-помалу именами, которые, располагаясь в порядке, сочетаясь друг с другом, вступая во все более и более многочисленные связи между собой, уподоблялись тем законченным произведениям искусства, где нет ни единого обособленного штриха, где каждая часть обоснована другими и их в свою очередь обосновывает.
Снова заговорили о герцоге Люксембургском, и жена турецкого посла рассказала, будто дедушка молодой женщины (тот, что нажил огромное состояние торговлей мукой и макаронами) пригласил герцога Люксембургского завтракать, но последний отказался в письме, на конверте которого стояло: «Г-ну ***, мельнику»; дедушка так на это ответил: «Я очень огорчен, дорогой мой друг, что вы не могли приехать, тем более, что я мог бы насладиться вашим обществом в изысканном кругу, в самой тесной компании, все свои люди: мельник, его сын да вы». История эта была не только крайне неприятна мне, знавшему, что обаятельный граф фон Нассау никак не мог назвать в письме дедушку своей жены «мельником» (да еще зная, что он является наследником этого «мельника»); нелепость ее с первых же слов бросалась в глаза еще и потому, что слово «мельник» слишком очевидно должно было привести на память заглавие басни Лафонтена. Но в Сен-Жерменском предместье царит такая непроходимая глупость, особенно когда на помощь ей приходит недоброжелательство, что все были убеждены, будто герцог действительно послал такое письмо и будто дедушка, которого все тотчас доверчиво объявили человеком замечательным, выказал больше остроумия, чем его зять. Герцог де Шательро хотел воспользоваться этой историей и рассказать ту, что я уже слышал в кафе: «Все ложились», — но с первых же его слов, когда он сказал о притязании герцога Люксембургского, чтобы герцог Германтский вставал перед его женой, герцогиня его остановила и запротестовала: «Нет, он очень смешон, но все же не до такой степени». Я был глубоко убежден, что все эти рассказы о герцоге Люксембургском были одинаково вздорны и что каждый раз, когда я окажусь в присутствии одного из действующих в них лиц или свидетелей, я услышу такое же опровержение. Однако я не был вполне уверен в том, что герцогиня Германтская, опровергая рассказчика, руководилась заботой об истине, а не самолюбием. Во всяком случае она им поступилась ради недоброжелательного чувства, прибавив со смехом: «Впрочем, я тоже имею зуб против него; он пригласил меня завтракать, желая, чтобы я познакомилась с герцогиней Люксембургской: так ему благоугодно было назвать свою жену в письме к тетушке. Я выразила ему сожаление и прибавила: «А что касается «герцогини Люксембургской» в кавычках, то скажи ей, что если она желает меня видеть, то я бываю дома после пяти по четвергам». Я имею и другой зуб против него. Будучи в Люксембурге, я позвонила по телефону и попросила его вызвать. Его высочество собираются завтракать, только что позавтракали, два часа прошло без результата, и я прибегла тогда к другому средству: «Скажите графу фон Нассау, что с ним желают говорить». Задетый за живое, он подбежал в ту же минуту». Рассказ герцогини всех рассмешил, как и другие подобные ему рассказы, которые, по моему глубокому убеждению, представляли чистейший вымысел, ибо я никогда не встречал человека более интеллигентного, более обходительного, более чуткого и — скажем прямо — более изысканного, чем этот Люксембург-Нассау. Из дальнейшего будет видно, что я был прав. Но я не могу не признать, что наряду со всеми этими гадостями герцогиня Германтская сказала все же о нем несколько любезных слов. «Он не всегда был такой. Прежде чем потерять рассудок, уподобиться человеку, вообразившему себя королем, он был не глуп и даже в первое время после помолвки говорил о ней с удовольствием как о нечаянном счастье. «Это прямо волшебная сказка, мне надо будет совершить въезд в Люксембург на какой-нибудь феерической колеснице», — сказал он своему дяде д'Орнесану, который ему отвечал — ведь, вы знаете, Люксембург невелик: «На феерической колеснице, боюсь, ты не сможешь въехать. Я бы тебе посоветовал взять колясочку, запряженную козами». Нассау не только не обиделся, но сам же рассказал нам это и много смеялся». — «Орнесан очень остроумен, у него есть от кого позаимствовать, мать его Монже. Плохи его дела, бедняга Орнесан». Имя это прекратило пошлые насмешки, которым конца не было видно. Воспользовавшись случаем, герцог Германтский объяснил, что прапрабабушка г-на д'Орнесана была сестра Марии де Кастиль Монже, жены Тимолеона Лотарингского, и следовательно тетка Орианы. Таким образом разговор вернулся к родословиям, между тем как глупая жена турецкого посла шептала мне на ухо: «Вы, видно, очень хорошо разбираетесь в документах герцога Германтского, берегитесь», — и когда я, удивившись, попросил разъяснения: «Я хочу сказать, — вы меня поймете с полуслова, — что это человек, которому спокойно можно доверить свою дочь, но не сына». В действительности, напротив, не было мужчины, который бы так страстно и исключительно любил женщин, как герцог Германтский. Однако заблуждение, неправда, наивно принятая на веру, были для жены посла как бы жизненной стихией, вне которой она не могла двигаться. «Его брат Меме, который мне, впрочем, по другим причинам (он ей не кланялся) глубоко антипатичен, искренно огорчен нравами герцога. Их тетка Вильпаризи тоже. Ах, я ее обожаю. Вот это святая женщина, настоящая великосветская дама былых времен. Она не только воплощение добродетели, но и сама сдержанность. Она до сих пор говорит «мосье» послу Норпуа, с которым видается каждый день и который, замечу в скобках, оставил прекрасное впечатление в Турции».
Я даже не ответил жене посла, прислушиваясь к разговору о родословиях. Не все они были одинаково важны. Оказалось даже, что один из неожиданных браков, о котором рассказал мне герцог Германтский, был браком неравным, но не лишенным прелести, ибо, сочетав при Июльской монархии герцога Германтского и герцога Фезенсакского с очаровательными дочерьми знаменитого мореплавателя, он придавал таким образом обеим герцогиням неожиданную пикантность экзотически буржуазной, луифилипповски индийской грации. Или же один из Норпуа женился при Людовике XIV на дочери герцога де Мортемара, и блестящий титул последнего отчеканивал в ту далекую эпоху тусклое и казавшееся мне совсем новым имя Норпуа, придавал ему красоту медали. В этих случаях, впрочем, от такого сближения выигрывало не только менее известное имя: другое, сделавшееся банальным вследствие своего блеска, с новой силой поражало меня в этом необычном и более темном облике, вроде того как самым захватывающим из портретов яркого колориста подчас бывает портрет, написанный в черных тонах. Подвижность, которой наделялись для меня все эти имена, помещаясь рядом с другими, казалось бы, так от них далекими, обязана была не только моему невежеству; перетасовки, совершавшиеся в моем сознании, осуществлялись ими с такой же легкостью в те эпохи, когда какой-нибудь титул, всегда связанный с определенной территорией, переходил вместе с ней из одного рода в другой, так что, например, в красивом феодальном сооружении, каким является титул герцога Немурского или герцога Шеврезского, последовательно ютились, как в гостеприимном жилище какого-нибудь Бернара Пустынника, то Гиз, то принц Савойский, то Орлеан, то Люин. Иногда на одну и ту же раковину притязало несколько соискателей: на княжество Оранское — королевский род Голландии и г-да де Майи-Нель, на герцогство Брабантское — барон де Шарлюс и королевский род Бельгии, и столько других — на титулы принца Неаполитанского, герцога Пармского, герцога Реджийского. Иногда, наоборот, раковина давно уже была необитаема после смерти ее хозяев; мне и в голову не приходило, что такое-то имя замка могло быть, притом в сравнительно не очень отдаленную эпоху, именем знатного рода. Вот почему, когда герцог Германтский ответил на один вопрос г-на де Монсерфейля: «Нет, кузина моя была ярая роялистка, она ведь дочь маркиза де Фетерн, игравшего некоторую роль в шуанской войне», — имя Фетерн, которое со времени моего пребывания в Бальбеке было для меня именем замка, сделалось вдруг — чего я никогда не мог бы предположить — именем живых людей, что поразило меня, как феерия, в которой башенки и крыльцо оживают и становятся одушевленными существами. В этом смысле можно сказать, что история, даже чисто генеалогическая, возвращает жизнь старым камням. В парижском обществе были люди, игравшие в нем столь же значительную роль и окруженные таким же вниманием благодаря своей элегантности или своему остроумию, как герцог Германтский или герцог де Ла Тремуй, которым они не уступали в знатности. В настоящее время они преданы забвению, потому что у них не было потомков, и имена их, которых никто больше не называет, звучат как имена незнакомые; самое большее, имена вещей, под которыми нам в голову не приходит открыть имена людей, продолжают жить в каком-нибудь замке, в какой-нибудь глухой деревне. Пройдет еще немного времени, и путешественник, который остановится в деревушке Шарлюс, расположенной в глубине Бургундии, чтобы осмотреть ее церковь, так и не узнает, если он недостаточно внимателен или у него нет времени разбирать надписи на надгробных плитах, что имя Шарлюс носил также человек, принадлежавший к самой высшей знати. Размышление это напомнило мне, что пора уходить и что, пока я слушал рассказы герцога Германтского о родословных, приближался час моего свидания с его братом. Кто знает, продолжал я размышлять, может быть наступит день, когда и Германт будет всеми восприниматься лишь как имя местности, за исключением разве археологов, случайно завернувших в Комбре, которые, остановившись перед витражом Жильбера Дурного, будут иметь терпение выслушать речи преемника Теодора или прочитать путеводитель кюре. Но, пока знаменитое имя не угасло, оно ярко освещает всех его носителей; вероятно, интерес, который вызывали во мне знатные роды, отчасти обусловлен был тем, что, отправляясь от наших дней и восходя ступень за ступенью, их можно проследить от XIV века и дальше, а мемуары и переписку предков г-на де Шарлюса, принца Агригентского и принцессы Пармской можно отыскать в таких глубинах прошлого, где происхождение какого-нибудь буржуазного рода покрыто непроницаемым мраком, но где яркий сноп лучей, ретроспективно отбрасываемый каким-нибудь именем, позволяет нам различить происхождение и устойчивость некоторых нервных расстройств, некоторых пороков, некоторых аномалий таких-то и таких-то Германтов. Обладая почти патологическим сходством с теперешними представителями этого рода, они из века в век возбуждают тревожный интерес в переписывавшихся с ними людях, жили ли они еще до принцессы Пфальцской и г-жи де Мотвиль или после принца де Линя. Впрочем, моя историческая любознательность была невелика по сравнению с эстетическим удовольствием. Упоминаемые в разговоре имена перевоплощали гостей герцогини, которых маска заурядной наружности и заурядного ума или глупости обратила в самых обыкновенных людей, хотя бы они и назывались принцем Агригентским и Цистирским, — перевоплощали до такой степени, что, поставив ногу на коврик вестибюля, я переступил не порог дома, как я думал, а границу волшебного мира имен. Сам принц Агригентский, как только я услышал, что мать его была урожденная Дамас, внучка герцога Моденского, освободился, как от нестойкого химического спутника, от лица и слов, мешавших его узнать, и образовал с Дамасом и Моденой, являвшимися лишь титулами, бесконечно более привлекательное соединение. Каждое имя, передвинувшееся благодаря притяжению другого имени, с которым я не подозревал у него никакого родства, покидало свое неизменное место в моем мозгу, где его обесцветила привычка, и, соединившись с Мортемарами, Стюартами или Бурбонами, рисовало вместе с ними самые изящные узоры, переливавшие различными цветами. Даже имя Германт получало от всех этих угасших и тем ярче вновь загоревшихся имен, — с которыми, как я только теперь узнавал, оно было связано, — новое, чисто поэтическое выражение. Самое большее, мог я видеть, как на конце каждого утолщения горделивого стебля оно распускается в образе мудрого короля или знаменитой принцессы, вроде отца Генриха IV или герцогини Лонгвильской. Но так как лица эти, в противоположность лицам гостей герцогини, не были обезображены отложившимся на них осадком материального опыта и светской посредственности, то в красивом своем рисунке и в переливчатых красках они оставались родственными именам, которые через правильные промежутки, окрашенные каждое в различный цвет, отделялись от родословного дерева Германтов и не замутняли никакой посторонней примесью чередующихся ростков, многоцветных и полупрозрачных, подобно тем красочным праотцам старинных витражей с изображением родословной Иисуса Христа, что посажены на ветвях, раскинувшихся по обе стороны стеклянного дерева.
Несколько раз уже я собирался уйти, главным образом потому, что присутствие мое делало бесцветным это собрание, одно из тех, однако, которые рисовались моему воображению как нечто прекрасное, — да оно верно и было бы прекрасным, не находись на нем стеснительный свидетель. Мой уход по крайней мере позволит гостям, когда среди них не будет больше непосвященного, организоваться, наконец, в замкнутый кружок. Они смогут приступить к совершению таинств, ради которых они собрались, — ведь, конечно, они пришли сюда не для того, чтобы говорить о Франце Гальсе или о скупости, и притом говорить точно так же, как говорят об этом самые обыкновенные буржуа. Они говорили о пустяках очевидно благодаря моему присутствию, и я чувствовал угрызения совести, видя, как я мешаю всем этим хорошеньким женщинам вести таинственную жизнь Сен-Жерменского предместья в самом изысканном его салоне. Однако герцог и герцогиня Германтские в своем самопожертвовании удерживали меня каждый раз, когда я хотел уйти. Вещь еще более удивительная — многие дамы, которые явились сюда возбужденные, восхищенные, разодетые, усыпанные драгоценностями, чтобы присутствовать по моей вине на вечере, столь же мало отличавшемся от вечеров, которые устраиваются и за пределами Сен-Жерменского предместья, сколь мало мы находим Бальбек непохожим на города, которые мы привыкли видеть, — многие из этих дам уезжали не разочарованные, как им следовало быть, но выражая горячую благодарность герцогине Германтской за восхитительно проведенный вечер, как если бы и в другие дни, когда я не присутствовал, у нее происходило то же, что и теперь.
Неужели же ради обедов, подобных настоящему, все эти особы наряжались и отказывались пускать дам из буржуазии в свои закрытые салоны, — ради вот таких обедов, точь в точь таких, даже если бы я отсутствовал? На мгновение у меня родилась эта мысль, но она была слишком нелепа. Простой здравый смысл позволял мне ее отбросить. Кроме того, если бы я ее допустил, что осталось бы от имени Германт, и без того уже так потускневшего после Комбре?
Впрочем, эти девы-цветы были до странности нетребовательны по отношению к другим и очень хотели доставить каждому удовольствие, ибо не одна из тех, которым я сказал за весь вечер всего две или три постыдно глупых фразы, сочла своим долгом, покидая салон, подойти ко мне и сказать, вперив в меня свои красивые ласковые глаза и поправляя гирлянду орхидей, обвивавшую ее грудь, с каким огромным удовольствием она со мной познакомилась, и выразить желание — замаскированный намек на приглашение к обеду — «кое-что организовать», после того как она сговорится о дне с герцогиней Германтской. Ни одна из этих дам-цветов не уехала раньше принцессы Пармской. Присутствие последней — не полагается уезжать раньше отъезда высочества — было одной из неподозревавшихся мной причин, в силу которых герцогиня так настаивала, чтобы я остался. Когда, наконец, принцесса Пармская встала, у всех точно тяжесть свалилась с плеч. Дамы, одна за другой, совершив коленопреклонение перед принцессой, которая их поднимала, получали от нее в форме поцелуя, точно благословение, испрошенное на коленях, право потребовать свое пальто и позвать своих людей. После этого у подъезда началось возглашение самых известных в истории Франции имен. Принцесса Пармская запретила герцогине Германтской провожать ее до вестибюля, боясь, чтобы она не простудилась, а герцог сказал: «Если ее высочество разрешает, останьтесь, Ориана, вспомните, что вам сказал доктор».
«Я полагаю, что принцесса Пармская осталась очень довольна обедом в вашем обществе». Я знал эту формулу. Герцог перешел через весь салон, чтобы произнести ее с любезным и убежденным видом, точно вручая мне диплом или угощая птифурами. По тому удовольствию, которое он явно испытывал в эту минуту и которое придало на миг чрезвычайно ласковое выражение его лицу, я почувствовал, что заботы такого рода он будет нести до последнего дня своей жизни, как те почетные и нетрудные должности, которые сохраняют за собой даже впавшие в детство старики.
Когда я уже собрался уходить, в салон вернулась статс-дама принцессы Пармской, забывшая взять присланные из Германта чудесные гвоздики, которые герцогиня подарила принцессе. Статс-дама была вся красная, чувствовалось, что с ней говорили грубо, ибо принцессу, такую добрую со всеми, выводила из терпения глупость компаньонки. Вот почему статс-дама торопилась, унося гвоздики, но, чтобы сохранить непринужденный и своенравный вид, бросила, поровнявшись со мной: «Принцесса находит, что я опаздываю, ей хочется, чтобы мы уже уехали и в то же время взяли гвоздики. Господи, я не птичка, я не могу быть сразу в нескольких местах».
Увы, указанное обстоятельство — нельзя уходить раньше отъезда высочества — было не единственной причиной, побуждавшей герцогиню удержать меня. Я не мог уйти немедленно и по другой причине; дело в том, что пресловутая роскошь (неизвестная Курвуазье), которой Германты, как состоятельные, так и полуразоренные, так любили потчевать своих друзей, была не только роскошью материальной, но также (что я не раз уже изведал в обществе Робера де Сен-Лу) роскошью пленительных слов и любезного обхождения, изысканной элегантностью, питаемой подлинным внутренним богатством. Но так как последнее в обстановке светской праздности остается без употребления, то порой оно прорывалось, искало выхода в мимолетном излиянии, тем более волнующем, что оно способно было внушить мысль о сердечном расположении герцогини. Впрочем, это бывало с ней в минуты, когда чувство переполняло ее, она испытывала тогда в обществе своего приятеля или приятельницы своего рода опьянение, но вовсе не чувственное, а похожее на то, что дает некоторым лицам музыка; ей случалось отколоть цветок от своего корсажа или снять медальон и подарить их человеку, с которым она желала бы продлить вечер, с грустью чувствуя при этом, что такое продление может привести только к пустым разговорам, в которые не перешло бы ничего от нервного удовольствия мимолетной эмоции, похожей на первое весеннее тепло по оставляемому ею ощущению усталости и печали. Что же касается приятеля, то ему не следовало слишком доверять обещаниям, самым пьянящим из всех, какие он когда-нибудь слышал, произнесенным одной из тех женщин, которые, ощущая с такой силой сладость мгновения, обращают его с деликатностью и благородством, неведомым существам нормальным, в трогательный шедевр благорасположения и доброты, но ничего уже не могут дать с наступлением другого мгновения. Их нежные чувства не переживают продиктовавшего их возбуждения, а тонкость ума, позволившая им тогда угадать и высказать все, что вы желали от них услышать, позволит им через несколько дней так же искусно подметить ваши смешные стороны и позабавить ими другого своего гостя, с которым они будут наслаждаться одной из этих «музыкальных минут», таких скоротечных.
Когда я спросил в вестибюле у одного из лакеев мои ботики, которые захватил из предосторожности по случаю снега, быстро обращавшегося в грязь, не сообразив, что это не очень элегантно, все посмотрели на меня с презрительной улыбкой; я густо покраснел, особенно когда заметил, что принцесса Пармская еще не уехала и видела, как я обуваю неуклюжее американское изделие. Принцесса подошла ко мне. «Ах, какая удачная мысль, — воскликнула она, — как это практично! Вот умный человек! Мадам, нам надо будет это купить», — сказала она своей статс-даме, между тем как ирония лакеев сменилась почтением и гости герцогини столпились вокруг меня, расспрашивая, где я достал эту прелесть. «Благодаря этой веши вы можете спокойно идти, даже если снова пойдет снег! теперь ведь не лето», — продолжала принцесса. «О, на этот счет ваше королевское высочество может быть спокойным, — вмешалась статс-дама с уверенным видом, — снега больше не будет». — «Откуда вы знаете, мадам?» — с раздражением спросила добрейшая принцесса, которую способна была рассердить только глупость ее статс-дамы. «Я могу в этом заверить ваше королевское высочество, снега больше не может быть, это физически невозможно». — «Да почему же?» — «Снега больше не может быть, против этого приняли меры: улицы посыпали солью!» Глупенькая дама не заметила гнева принцессы и общего веселья, так как, вместо того чтобы замолчать, она сказала мне с приятной улыбкой, нисколько не считаясь с моими возражениями по поводу адмирала Жюрьен де ла Гравьера: «Впрочем, что за важность? У мосье наверно морские ноги. Хорошая кровь всегда сказывается».
Проводив принцессу Пармскую, герцог Германтский сказал, подавая мне пальто: «Я вам помогу залезть в вашу хламиду». Он даже не улыбался больше, употребляя это выражение, ибо выражения самые вульгарные именно вследствие напускной простоты Германтов сделались аристократическими.
Я тоже испытал это искусственное возбуждение, сменяющееся обыкновенно меланхолией, хотя и совсем по-другому, чем герцогиня Германтская, когда наконец вышел от нее и сел в экипаж, чтобы ехать к г-ну де Шарлюсу. Мы можем по своему выбору отдаваться которой-нибудь из двух сил: одна возникает в нас самих, исходит из наших глубоких впечатлений, другая притекает к нам извне. Первая естественно несет с собой радость, ту радость, которую излучает жизнь творческих натур. Другой ток, тот, что пытается ввести в нас возбуждение, одушевляющее окружающих нас людей, не сопровождается удовольствием; но мы можем его присоединить к нему ответным толчком в форме напускного опьянения, которое быстро обращается в скуку, в тоску, откуда все эти унылые лица светских людей и такое множество среди них нервных, способных дойти до самодурства. И вот, в экипаже, который вез меня к г-ну де Шарлюсу, я был во власти этого второго вида возбуждения, резко отличного от того, что вызывается в нас каким-нибудь интимным впечатлением, вроде испытанных мной когда-то в других экипажах, один раз в Комбре, в экипаже доктора Перепье, из которого я наблюдал рисовавшиеся на закатном небе колокольни Мартенвиля, а другой раз в Бальбеке, в коляске г-жи де Вильпаризи, пытаясь разобрать, что мне напоминала одна группа деревьев. Но в этом третьем экипаже перед мысленными моими очами были разговоры, показавшиеся мне такими скучными за обедом у герцогини Германтской, например, рассказы князя Фон о германском императоре, о генерале Бота и английской армии. Теперь я их вставил в тот внутренний стереоскоп, глядя в который, — после того как мы перестали быть самими собой и, вселившись в душу светского человека, заимствуем нашу жизнь от других, — мы придаем выпуклость всему, что было сказано другими, всему, что было ими сделано. Подобно пьяному, который исполняется нежностью к подававшему ему официанту, я наслаждался выпавшей мне радостью (которой, правда, не ощущал, сидя в салоне у Германтов) обедать с человеком, так хорошо знавшим Вильгельма II и рассказавшим о нем, ей-богу, очень остроумные анекдоты. Припоминая вместе с немецким акцентом князя анекдот о генерале Бота, я громко смеялся, как если бы этот смех, подобно иным аплодисментам, увеличивающим наше восхищение, необходим был для усиления комичности анекдота. Рассмотренные в увеличительное стекло суждения герцогини Германтской, даже те из них, которые показались мне глупыми (например, о Франце Гальсе, которого следовало смотреть с трамвая), наполнялись жизнью, приобретали необыкновенную глубину. И я должен сказать, что хотя мое возбуждение скоро спало, оно было не вовсе бессмысленным. Мы можем в один прекрасный день порадоваться нашему знакомству с крайне неприятной нам особой, потому что она оказывается в близких отношениях с девушкой, которую мы любим и которой она может нас представить, соединяя таким образом полезное с приятным, чего мы никогда в ней не предполагали; но как относительно наших знакомств, так и относительно услышанных нами суждений никогда нельзя сказать с уверенностью, что они нам не пригодятся. Замечание герцогини Германтской относительно картин, которые интересно посмотреть даже с трамвая, было ошибочно, но содержало частицу истины, впоследствии оказавшуюся для меня чрезвычайно ценной.
Равным образом прочитанные герцогиней стихи Виктора Гюго относились, надо признаться, еще не к той поре, когда Гюго стал больше, чем новым человеком, когда в эволюции искусства он явил неизвестный еще литературный вид, наделенный более сложными органами. В этих первых стихотворениях Виктор Гюго еще мыслит, вместо того чтобы давать, подобно природе, только материал для размышлений. В ту пору он еще выражал «мысли» в самой непосредственной форме, почти что так, как употреблял это слово герцог, когда, находя устарелой и громоздкой манеру гостей, приглашаемых им на большие празднества в Германте, сопровождать свою подпись в альбоме замка каким-нибудь философски-поэтическим размышлением, он умоляющим тоном обращался к вновь прибывшим: «Ваше имя, дорогой мой, но без всяких «мыслей»!» Между тем именно эти «мысли» Виктора Гюго (почти в такой же степени отсутствующие в «Легенде веков», как «арии» и «мелодии» в вагнеровских операх второй манеры) герцогиня Германтская любила в ранних его стихотворениях. Однако не совсем безосновательно. Они были трогательны, но уже окружались, правда, еще не в той глубокой форме, какую поэт выработал впоследствии, бушеванием множества слов и богато расчлененных рифм, которое не позволяло уподобить их стихам, попадающимся, например, у Корне-ля, где спорадический, сдержанный и тем более нас волнующий романтизм не проник, однако, до физических источников жизни, не изменил бессознательного и обобщаемого организма, в котором укрывается мысль. Вот почему я был неправ, ограничиваясь до сих пор последними сборниками Гюго. Что же касается более ранних, то, конечно, разговор герцогини Германтской украшался лишь самыми ничтожными крупицами из них. Но именно вырывая таким образом из контекста отдельный стих, мы удесятеряем его притягательную мощь. Стихи, вошедшие или вернувшиеся в мою память во время этого обеда, в свою очередь намагничивали и с такой силой влекли к себе пьесы, в которые они обыкновенно бывают включены, что мои наэлектризованные руки не в состоянии были больше сорока восьми часов сопротивляться тяге, направлявшей их к тому, в который переплетены были «Восточные мелодии» и «Песни сумерек». Я проклинал подручного Франсуазы за то, что он подарил своим землякам мой экземпляр «Осенних листьев», и, не теряя ни секунды, послал его купить другой. Я перечитал эти томы от начала до конца и не успокоился до тех пор, пока вдруг не заметил стихов, приведенных герцогиней в том самом освещении, которое она им придала. По всем этим причинам разговоры с герцогиней напоминали те сведения, которые мы черпаем в библиотеке какого-нибудь замка, устарелой, нелепой, неспособной сформировать ум, лишенной почти всего, что мы любим, но иногда дарящей нам какую-нибудь любопытную справку и даже ряд прекрасных страниц, которых мы не знали и по поводу которых с удовольствием вспоминаем впоследствии, что мы обязаны знакомством с ними великолепному барскому жилищу. Тогда мы склонны бываем, оттого что нам удалось найти предисловие Бальзака к «Пармскому монастырю» или неизданные письма Жубера, преувеличивать ценность жизни, которую мы там вели и бесплодную суетность которой забываем ради этой случайной находки.
С этой точки зрения, хотя свет неспособен был в первую минуту дать мне то, чего ждало мое воображение, и потому поневоле поразил меня сначала тем, что у него было общего с буржуазным миром, скорее чем своими отличительными особенностями, однако мало-помалу для меня обнаружились и его своеобразные черты. Родовитые дворяне являются почти единственными людьми, от которых мы узнаем столько же, сколько и от крестьян; разговор их украшается всем, что относится к земле, прежними обитателями старинных жилищ, старинными обычаями, всем тем, что совершенно неизвестно денежному миру. Если даже предположить, что наиболее умеренный в своих запросах аристократ в заключение ассимилируется с эпохой, в которую он живет, все-таки его мать, его дядя, его двоюродные тетки связывают его, когда он вспоминает детство, с жизнью, почти неизвестной в настоящее время. Войдя в комнату, где лежит покойник, герцогиня Германтская хотя и никому бы на это не указала, однако сразу же заметила бы все нарушения старых обычаев. Она бывала шокирована, видя на похоронах женщин вперемежку с мужчинами, тогда как существует особенный обряд, который должен быть совершен для женщин. Что касается покрова, который Блок без сомнения счел бы принадлежностью похорон, так как в отчетах о похоронных процессиях обыкновенно говорится о шнурках покрова, то герцог Германтский мог припомнить время, когда он ребенком видел, как его держали на венчании г-на де Майи-Неля. В то время как Сен-Лу продал свое драгоценное «родословное дерево», старинные портреты Буйонов и письма Людовика XIII, чтобы купить картины Карьера и мебель стиль модерн, герцог и герцогиня Германтские, движимые смутным чувством, в котором горячая любовь к искусству играла, может быть, ничтожную роль и которое не возвышало их самих над уровнем посредственности, сохранили свою чудесную мебель Буля, представлявшую очаровательный ансамбль для художника. Писатель тоже остался бы в восторге от разговора с ними, разговор этот явился бы для него — ведь голодный не испытывает потребности в другом голодном — живым словарем выражений, которые с каждым днем все более забываются, подобно галстукам Сен-Жозеф, обету одевать детей в голубое и т. п., и которые можно найти теперь лишь у добровольных хранителей прошлого. Но если писатель получает в их обществе гораздо более живое удовольствие, чем в обществе других писателей, то удовольствие это таит в себе опасности, ибо он может подумать, будто предметы прошлого прекрасны сами по себе, и перенести их нетронутыми в свои произведения, отчего последние окажутся мертворожденными, источающими скуку, а писатель будет говорить в свое утешение: «Это хорошо, потому что верно, так оно действительно было». Аристократические разговоры герцогини Германтской хороши были, впрочем, тем, что велись на превосходном французском языке. Они давали герцогине право весело смеяться над словами «viatique», «cosmique», «pythique», «sureminent», которые употреблял Сен-Лу, — точно так же, как и над его мебелью от Бинга.
Тем не менее рассказы, которые я слышал в салоне герцогини Германтской, в корне отличные от того, что я мог ощутить, созерцая боярышник или смакуя «мадлену», были мне чуждыми. Можно было бы сказать, что, на мгновение войдя в меня, сделавшись моим достоянием, так сказать, чисто физически, истории эти (по природе своей социальные, а не индивидуальные) торопились поскорее уйти… Я метался в экипаже как одержимый. Я ждал нового обеда, на котором я стал бы чем-то вроде принца X. или герцогини Германтской и мог бы их рассказывать. Тем временем они шевелили мои бормотавшие их губы, и тщетно пытался я вернуть себе мой разум, головокружительно увлекаемый некоей центробежной силой. Вот почему, не будучи долее в состоянии выносить их тяжесть один в экипаже, где, впрочем, создавая иллюзию собеседника, я говорил вслух, я с лихорадочным нетерпением позвонил у дверей г-на де Шарлюса и, оказавшись в салоне, куда провел меня лакей и где от сильного возбуждения я почти ничего не рассмотрел, я все время произносил длинные монологи, в которых твердил то, что собирался выложить барону, совсем не думая о том, как он меня встретит. Я испытывал такую жгучую потребность быть выслушанным, что меня обдала холодом мысль: а вдруг хозяин дома уже спит и мне придется вернуться домой и в одиночестве разогнать весь этот словесный хмель? Действительно, заметив, что прошло уже двадцать пять минут, я подумал, что обо мне, пожалуй, забыли в этом салоне, о котором, несмотря на мое долгое ожидание, я самое большее мог бы сказать, что это громадная зеленоватая комната, украшенная несколькими портретами. Потребность говорить мешает не только слушать, но и видеть, так что отсутствие всякого описания внешней обстановки есть уже описание определенного внутреннего состояния. Я решил выйти из этого салона, чтобы кого-нибудь позвать, а если бы никого не нашел, — отыскать дорогу в переднюю и потребовать, чтобы меня выпустили, но только что я встал и сделал несколько шагов по мозаичному паркету, как вошел с озабоченным видом камердинер: «Господин барон все время принимал посетителей, — сказал он. — Его ждет еще несколько человек. Я сделаю все возможное, чтобы он принял вас, мосье, уже два раза я телефонировал секретарю». — «Нет, не беспокойтесь, г. барон назначил мне свидание, но уже очень поздно, и так как сегодня он занят, то я приду в другой день». — «О, нет, мосье, пожалуйста, не уходите! — воскликнул камердинер. — Г. барон будет недоволен. Я попытаюсь еще раз». Я вспомнил слышанное о слугах г-на де Шарлюса и их преданности своему господину. Хотя о нем и нельзя было сказать, как о принце де Конти, что он одинаково старался понравиться как министру, так и лакею, но он так искусно умел обращать малейшее свое требование в своего рода милость, что, когда по вечерам, окинув взглядом собравшихся вокруг него на почтительном расстоянии слуг, барон говорил: «Куанье, свечу!» — или: «Дюкре, рубашку!», — прочие удалялись с ворчанием, завидуя товарищу, остановившему на себе внимание их господина. Двое из них, ненавидевшие друг друга, пытались даже оспаривать между собой эту милость, отправляясь под самыми нелепыми предлогами в комнату барона, если тот поднимался к себе раньше, в надежде, что на них возложена будет почетная обязанность подать свечу или рубашку. Если барон обращался к кому-нибудь из своих людей со словами, в которых не заключалось требования услуги, больше того: если зимой в саду, зная, что один из его кучеров простужен, он говорил ему по прошествии десяти минут: «Наденьте шляпу», — прочие из ревности две недели не разговаривали со счастливцем, удостоившимся столь высокой милости. Я подождал еще десять минут, после чего, попросив меня не засиживаться, так как господин барон устал и вынужден был отказать нескольким важным особам, которым уже много дней тому назад назначил свидание, меня ввели к г-ну де Шарлюсу. Эта торжественная инсценировка произвела на меня гораздо более слабое впечатление, чем простота герцога Германтского, но двери уже отворились, и я заметил барона, вытянувшегося на диване в китайском халате, с обнаженной шеей. В то же время меня поразил вид лежавших на стуле лоснящегося цилиндра и шубы, как если бы барон только что вернулся. Камердинер удалился. Я думал, что г. де Шарлюс подойдет ко мне. Не пошевелив ни одним мускулом, он вперил в меня беспощадные глаза. Я приблизился к нему, поздоровался, но он не подал мне руки, не ответил мне, не предложил мне садиться. Через несколько мгновений я спросил у него, точно у плохо воспитанного врача, надо ли непременно, чтобы я стоял. Я сделал это без злого умысла, но выражение холодного гнева на лице г-на де Шарлюса сделалось как будто еще более угрожающим. Я не знал, впрочем, что у себя в деревне, в замке Шарлюс, он имел обыкновение, — так любил он разыгрывать короля, — развалившись в кресле, в курительной, окружать себя почтительно стоявшими гостями. У одного он спрашивал огня, другому предлагал сигару и только через несколько минут говорил: «Садитесь же, Аржанкур, возьмите стул, дорогой и т. д.», подержав гостей на ногах только для того, чтобы показать им, что разрешение садиться исходит от него. «Присядьте на кресло Людовика XIV», — ответил он мне повелительным тоном, в котором звучало скорее приказание отойти от него, чем приглашение садиться. Я сел на стоявшее поблизости кресло. «Так вот что по-вашему кресло Людовика XIV! Вижу, какой вы образованный», — насмешливо воскликнул он. Я так опешил, что не тронулся с места — ни для того, чтобы уйти, как мне следовало бы, ни для того, чтобы переменить кресло, как желал барон. «Мосье, — сказал он, взвешивая каждое слово и удваивая согласные в наиболее дерзких, — разговор, которым я снизошел вас удостоить по просьбе одной особы, не желающей, чтобы я ее называл, положит конец нашим отношениям. Не скрою от вас, что я надеялся на лучшее; пожалуй, я немного извратил бы смысл слов, — чего не должно делать, даже в разговоре с человеком, не понимающим их значения, и из простого уважения к себе, — сказав, что я чувствовал к вам расположение. Однако я считаю, что слово «благоволение» в его чисто покровительственном смысле не преувеличило бы ни того, что я чувствовал, ни того, что я намеревался проявить. По возвращении в Париж и даже еще в Бальбеке я дал вам понять, что вы можете рассчитывать на меня». Вспомнив резкую выходку г-на де Шарлюса при расставании со мной в Бальбеке, я сделал недоумевающий жест. «Как! — с гневом воскликнул он, и его бледное перекошенное лицо столь же отличалось при этом от обыкновенного его лица, как море в бурное утро, когда вместо привычной улыбающейся его поверхности вы видите тысячи змей из густой пены и ядовитой слюны, — вы притворяетесь, будто не получили моего послания — почти что признания — долженствовавшего служить вам памятью обо мне. Чем украшена была книга, которую я вам прислал?» — «Очень изящными виньетками», — отвечал я. «Ах, как мало молодые французы знают шедевры нашей страны! — презрительно проговорил он. — Что сказали бы о молодом берлинце, который не знал бы «Валькирии»? Впрочем, глаза вам служат, должно быть, для того, чтобы не видеть, так как вы мне говорили, будто провели перед этим шедевром два часа. Вижу, что в цветах вы разбираетесь не лучше, чем в стилях; не возражайте насчет стилей, — пронзительно закричал он, — вы не знаете даже, на чем вы сидите. Вы поместили ваш зад на стуле Директории вместо кресла Людовика XIV. Чего доброго, вы примете колени г-жи де Вильпаризи за лавабо, и бог знает, что вы там наделаете. Точно так же вы не узнали на переплете книги Бергота орнамент из незабудок бальбекской церкви. Можно ли было прозрачнее сказать вам: «Не забывайте меня!»
Я смотрел на г-на де Шарлюса. Конечно, его великолепная, отталкивающая голова возвышала барона над всеми его родственниками; он похож был на постаревшего Аполлона; но казалось, что из злого его рта сейчас потечет густая оливковая жижа; в отношении качеств интеллектуальных нельзя было отрицать, что ум барона благодаря своей широте различал множество вещей, навсегда недоступных герцогу Германтскому. Но, в какие бы красивые слова он ни облекал все свои антипатии, чувствовалось, что, были ли они следствием оскорбленной гордости, обманутой любви, злопамятства, садизма, поддразнивания или навязчивой мысли, человек этот способен убить и доказать при помощи логических доводов и красивых фраз, что он поступил правильно и все-таки остается неизмеримо выше своего брата, невестки и т. д. и т. д. «Как на «Пиках» Веласкеса, — продолжал он, — победитель делает шаг навстречу униженному врагу, как и подобает каждому благородному человеку, я, — поскольку я был все, а вы были ничто, — я сделал первый шаг навстречу вам. Вы глупо ответили на это, что не мне следует взывать к благородству. Но я не отчаялся. Наша религия учит терпению. Терпение, которое я проявил к вам, мне, надеюсь, зачтется, и я ответил только улыбкой на то, что можно было назвать наглостью, если бы только в вашей власти было проявить наглость по отношению к человеку, который неизмеримо выше вас; но в конце концов, мосье, обо всем этом нет больше речи. Я подверг вас испытанию, которое единственный выдающийся человек нашего общества остроумно называет испытанием чрезмерной любезностью и вполне справедливо объявляет самым страшным из всех испытаний, единственным, которое способно отделить доброе семя от плевел. Я бы не стал вас упрекать за то, что вы его не выдержали, ибо очень и очень немногие проходят его с честью. Но по крайней мере, и это вывод из последних слов, которыми мы обменяемся на земле, я желаю быть огражденным от ваших клеветнических измышлений». Мне в голову до сих пор не приходило, что гнев г-на де Шарлюса мог быть вызван какими-нибудь обидными словами, которые ему были переданы; я обратился к моей памяти; нет, я ни с кем о нем не говорил. Кто-то злой ему на меня наклеветал. Я поклялся г-ну де Шарлюсу, что решительно ничего не говорил о нем. «Не думаю, чтобы я мог вас рассердить, сказав герцогине Германтской, что я в близких отношениях с вами». Барон презрительно улыбнулся, вознес свой голос на самые высокие регистры и там, с легкостью взяв самую пронзительную и самую наглую ноту: «Ах, мосье, — сказал он, чрезвычайно медленно возвращаясь к естественной интонации и как бы упиваясь причудливыми переливами этой нисходящей гаммы, — я думаю, что вы возводите на себя напраслину, винясь в том, что вы сказали, будто мы в «близких отношениях». Я не жду чрезмерной точности от человека, который легко принял бы какую-нибудь мебель Чипендейл за стул рококо, но все же я не думаю, — прибавил он ласковым и все более и более подтрунивающим тоном, от которого губы его расплылись в очаровательную улыбку, — я не думаю, чтобы вы могли сказать или вообразить, будто мы в близких отношениях! Если же вы похвастали тем, что были мне представлены, разговаривали со мною, немножко со мной познакомились, добились почти без всяких настояний возможности стать когда-нибудь моим протеже, то я нахожу это, напротив, вполне естественным и разумным с вашей стороны. Огромная разница в годах между нами дает мне право сказать без всякой насмешки, что это представление, эти разговоры, эта завязка знакомства были для вас — не мне говорить — честью, но во всяком случае преимуществом, и глупость ваша, по-моему, заключалась не в том, что вы о нем разгласили, а в том, что не умели его сохранить. Прибавлю даже, — сказал он, внезапно переходя на миг от высокомерного гнева к нежности, до такой степени проникнутой грустью, что, казалось, он сейчас расплачется, — прибавлю даже, что когда вы оставили без ответа предложение, сделанное мною в Париже, это показалось мне настолько неслыханной дерзостью с вашей стороны, — я ведь принял вас за юношу хорошо воспитанного и из хорошей буржуазной семьи (лишь это слово произнес он с презрительным шипением), — что я имел наивность объяснить это разными шалостями, которых никогда не бывает: пропавшими письмами, ошибочным адресом. Я признаю это большой наивностью с моей стороны, но святой Бонавентура предпочитал верить, что скорее бык может украсть, чем брат его солгать. Словом, все это кончено, вещь вам не понравилась, о ней нет больше речи. Мне кажется только, что вы могли бы (и в голосе барона послышались настоящие слезы), хотя бы из уважения к моему возрасту, мне написать. Я задумал для вас крайне соблазнительные веши, о которых тщательно остерегался вам говорить. Вы предпочли отказаться, ничего не зная, это ваше дело. Но, как я вам сказал, всегда можно написать. Я бы на вашем месте, и даже на своем, непременно написал. По этой причине я предпочитаю мое место вашему, говорю: по этой причине, так как считаю, что все места равны, и мне более симпатичен интеллигентный рабочий, чем многие герцоги. Но я в праве сказать, что предпочитаю мое место, так как за всю свою жизнь, которая начинает становиться чересчур продолжительной, я ни разу не сделал того, что сделали вы. (Отвернувшаяся голова барона погружена была в тень, и я не мог разглядеть, льются ли из глаз его слезы, которые слышались в его голосе.) Я вам говорил, что я сделал сотню шагов вам навстречу, и следствием было лишь то, что вы сделали двести шагов прочь от меня. Теперь моя очередь уйти от вас, и мы больше не будем знакомы. Я не сохраню в памяти вашего имени, а только историю с вами, чтобы в дни, когда у меня явится соблазн подумать, будто у людей есть сердце, деликатность или даже просто настолько ума, чтобы не упускать подвернувшегося им беспримерно счастливого случая, — чтобы помнить в эти дни, что так думать о людях значит иметь о них слишком высокое представление. Нет, если вы сказали, что вы со мной знакомы, когда это была правда, — ибо вскоре это перестанет быть правдой, — то я нахожу это вполне естественным и считаю данью уважения, иными словами — это для меня приятно. К несчастью, в другом месте и при других обстоятельствах вы говорили нечто совсем иное». — «Мосье, клянусь вам, что я никогда не говорил ничего такого, что могло бы вас оскорбить». — «Откуда вы взяли, что я оскорблен? — в бешенстве воскликнул барон, порывисто вскочив с дивана, на котором до сих пор лежал неподвижно, и в то время как на мертвенно бледном лице его судорожно извивались пенистые змеи, голос его переходил от самых высоких до самых низких нот, подобно неистово бушующей буре. (Он и вообще говорил так громко, что прохожие оборачивались на улице, теперь же сила его голоса удесятерилась, подобно forte, взятому не на рояле, а в оркестре, да еще переходящему в fortissimo. Г. де Шарлюс ревел.) — Неужели вы думаете, будто вы в состоянии меня оскорбить? Да знаете ли вы, с кем вы говорите? Поверьте, что отравленная слюна пяти сотен глупеньких ваших приятелей, взобравшихся друг на друга, замарала бы разве только пальцы моих царственных ног». Желание убедить г-на де Шарлюса в том, что я никогда не говорил и не слышал о нем ничего дурного, сменилось во мне бешенством при этих словах, продиктованных, по-моему, единственно его не знавшей меры гордостью. Впрочем, может быть, они действительно были, по крайней мере отчасти, следствием этой гордости. Но, кроме того, в основе их было чувство, которого я еще не знал, и не виноват был в том, что не учел долю его влияния. Однако, даже и не зная о существовании этого чувства, я мог бы, если бы вспомнил слова герцогини Германтской, присоединить к гордости некоторую дозу безумия. Но в ту минуту мысль о сумасшествии даже не пришла мне на ум. В бароне, по-моему, была только гордость, во мне же — только бешенство. Бешенство это (в тот момент, когда г. де Шарлюс, перестав вопить, величественно заговорил о пальцах своих царственных ног, сопровождая слова свои гримасой отвращения по адресу безвестных своих хулителей) прорвалось наружу. В безотчетном порыве я хотел что-нибудь сокрушить, и так как остаток здравого смысла еще сохранил во мне уважение к человеку, который был в несколько раз старше меня, и даже к стоявшим возле него статуэткам из немецкого фарфора по причине их художественной ценности, то я накинулся на новенький цилиндр барона, с остервенением швырнул его на пол, растоптал, раскромсал, содрал с него подкладку, разорвал пополам корону под неумолкавшие вопли г-на де Шарлюса и, бросившись вон из комнаты, распахнул дверь. К моему неописуемому изумлению, по обеим ее сторонам стояли два лакея, которые медленно удалились с таким видом, будто они оказались там случайно, проходя по своим делам. (Потом я узнал их имена, один назывался Бюрнье, другой — Шармель.) Меня ни на секунду не провела эта беззаботная походка. Заключенное в ней объяснение было неправдоподобно; не столь неправдоподобными показались мне три других напрашивавшихся объяснения: первое — что барон принимал иногда гостей, против которых могла бы потребоваться помощь (но почему?), и считал поэтому необходимым держать поблизости своих людей. Второе — что привлеченные любопытством лакеи подслушивали у дверей, не ожидая, что я так скоро выйду. Третье — что вся эта сцена была заранее подготовлена и намеренно разыграна г-ном де Шарлюсом и он сам пригласил лакеев послушать, из любви к зрелищу, соединенной, может быть, со своего рода «nunc erudimini», из которого каждый извлек бы для себя пользу.
Гнев мой не унял гнева барона, мой уход причинил ему, по-видимому, живое огорчение, он звал меня вернуться, велел меня остановить и, наконец, позабыв, что минуту назад, говоря о «пальцах своих царственных ног», он вздумал сделать меня свидетелем обоготворения собственной своей персоны, побежал со всех ног, догнал меня в вестибюле и загородил передо мною двери. «Полно, — сказал он, — не ребячьтесь, вернитесь на минутку; кто любит, тот и наказует, и если я вас наказал, то потому что я вас люблю». Гнев мой прошел, я пропустил мимо ушей слово «наказал» и последовал за бароном, который, кликнув лакея, без всякого конфуза велел убрать лоскутья разорванного цилиндра и заменить его другим. «Не будете ли вы любезны, мосье, сказать, кто так предательски оклеветал меня, — обратился я к г-ну де Шарлюсу, — мне хочется узнать имя, чтобы пристыдить лжеца». — «Кто? Разве вы не знаете? Не помните того, что вы говорите? Неужели вы думаете, что лица, оказывающие мне этого рода услугу, не начинают с требования не называть их имен? Неужели вы думаете, что я способен поступить неучтиво с человеком, которому я дал слово?» — «Мосье, вы не можете сказать мне, кто это?» — спросил я, сделав последнюю безуспешную попытку припомнить, кому я мог говорить о г-не де Шарлюсе. «Разве вы не слышали, что я дал слово моему осведомителю не называть его? — отвечал барон срывающимся голосом. — Вижу, что наряду с пристрастием к гнусному злословию вы питаете еще пристрастие к бесплодным допросам. Вы бы лучше воспользовались последней нашей беседой, чтобы сказать что-нибудь содержательное, а не просто сотрясать воздух звуками». — «Мосье, — отвечал я, направляясь к дверям, — вы меня оскорбляете, я безоружен, потому что вы в несколько раз старше меня, партия не равная, с другой стороны, я не в состоянии вас убедить, я вам поклялся, что я ничего не говорил». — «Значит, я лгу!» — громовым голосом закричал он и одним прыжком очутился в двух шагах от меня. «Вас обманули». Тогда, переменив тон на ласковый, сердечный, меланхолический, как иногда в исполняемых без перерыва симфониях за раскатами грома первой части следует милое, грациозное, идиллическое скерцо: «Вполне возможно, — сказал он. — Вообще чужие речи редко передаются правильно. Вы сами виноваты, что не воспользовались предоставленными вам мною случаями видеть меня и не дали мне в чистосердечных ежедневных беседах, которые создают доверие, единственного действительного средства против речей, изображавших мне вас предателем. Во всяком случае, правда они или ложь, речи эти сделали свое дело. Я уже не в силах отрешиться от впечатления, которое они на меня произвели. Я даже не могу сказать: кто любит, тот и наказует, потому что хотя я вас и наказал, но больше вас не люблю». Говоря это, он насильно усадил меня и позвонил. Вошел новый лакей. «Принесите пить и велите закладывать карету». Я сказал, что не чувствую жажды, что уже очень поздно и что у меня есть экипаж. «Вероятно с ним расплатились и отослали его, — сказал барон, — не думайте о нем. Я велел закладывать, чтобы отвезти вас домой… Если вы боитесь, что слишком поздно… я мог бы предоставить вам комнату здесь…» Я сказал, что моя мать будет беспокоиться. «Да, правда ли это или ложь, а дело сделано. Моя несколько преждевременная симпатия зацвела слишком рано; подобно тем яблоням, о которых вы поэтически говорили в Бальбеке, она не могла вынести первого мороза». Однако г. де Шарлюс не мог бы действовать иначе и в том случае, если бы симпатия его уцелела, ибо, все время повторяя, что мы поссорились, он оставлял меня у себя, угощал, предлагал ночлег и собирался отвезти домой. Его как будто даже страшила минута, когда он меня покинет и останется один, я замечал в нем нечто похожее на тот немного нервный страх, которым, как мне показалось, охвачена была его кузина и невестка час тому назад, когда она пожелала заставить меня остаться еще немного, почувствовав такую же мимолетную симпатию ко мне и проявив такое же усилие продлить минуту возбуждения. «К несчастью, — продолжал барон, — я не обладаю даром оживлять увядшее чувство. Моя симпатия к вам умерла. Ничто не может ее воскресить. Я не нахожу ничего унизительного, признаваясь, что я об этом жалею. Я всегда чувствую себя немного похожим на Вооза Виктора Гюго: «Я вдов, я одинок, и на меня надвигается вечер».
Я снова оказался с бароном в большом зеленоватом салоне. Я сказал наудачу, что нахожу его очень красивым. «Не правда ли? — отвечал он. — Всегда надо любить что-нибудь. Панели работы Багара. Особенно мило, видите ли, то, что они были сделаны в расчете на мебель Бове и консоли. Вы замечаете: они повторяют тот же декоративный мотив. Существуют только две постройки с таким сочетанием: Лувр и дом г-на д'Эннисдаля. Но, разумеется, когда я пожелал поселиться на этой улице, нашелся старый особняк Шиме, которого никто не видел, потому что он явился сюда только для меня. В общем, это хорошо. Могло бы быть и лучше, но в конце концов и так неплохо. Не правда ли, здесь есть красивые вещи: портрет моих дядей, короля польского и короля английского, работы Миньяра. Но к чему я вам это говорю, вы знаете все не хуже меня, ведь вы сидели в этом салоне. Нет? Вас, вероятно, провели в голубой салон, — сказал он, либо издеваясь над моей нелюбознательностью, либо из высокомерия не удостоив спросить, в каком салоне я его ждал. — Вот в этом шкафу хранятся все шляпы мадемуазель Елизаветы, принцессы де Ламбаль и королевы. Это вас не интересует, вы как будто не видите. Может быть у вас поражен зрительный нерв? А если вы предпочитаете этот род красоты, вот вам радуга Тернера, загоревшаяся между двумя Рембрандтами в знак нашего примирения. Вы слышите: Бетховен присоединяется к ней». Действительно, раздались первые аккорды третьей части пасторальной симфонии: «Веселье после грозы»: где-то поблизости, должно быть на другом этаже, играл оркестр. Я наивно спросил, по какому случаю эта музыка и кто исполнители. «Не знаю. Ничего не знаю. Это музыка невидимая. Хорошо, не правда ли? — сказал он довольно грубо, хотя в голосе его чувствовалось влияние и интонация Свана. — Но вам на это начихать, это вам все равно, что яблоко для рыбы. Вы хотите ехать домой, вам нет дела ни до Бетховена ни до меня. Вы выносите себе обвинительный приговор, — прибавил он сердечным и печальным тоном, когда наступила минута отъезда. — Извините, что я не буду провожать вас, как того требуют правила вежливости, — продолжал он. — Так как я не желаю больше вас видеть, то какое имеют значение лишних пять минут, проведенных с вами. К тому же я устал, и у меня много дела. — Однако, заметив, что погода хорошая: — Ну, ладно, я поеду с вами. Какая роскошная луна! Проводив вас, я прокачусь любоваться ею в Булонский Лес. Как, вы не умеете бриться, даже в день, когда вас пригласили на званый обед, у вас осталось несколько волосков, — проговорил барон, беря меня за подбородок двумя как бы намагниченными пальцами, которые, минуточку поколебавшись, поднялись до моих ушей, точно пальцы парикмахера. — Ах, как было бы приятно полюбоваться «голубым светом луны» в Булонском Лесу с кем-нибудь вроде вас, — сказал он с неожиданной и как бы невольной нежностью и продолжал с печальным видом: — Ведь вы все-таки милый, вы могли бы быть милее всех, — прибавил он, отечески кладя мне руку на плечо. — Прежде я, признаться, находил вас довольно незначительным». Здраво рассуждая, я бы должен был прийти к заключению, что он находит меня таким и теперь. Для этого мне стоило только припомнить, с каким бешенством он со мной разговаривал всего полчаса тому назад. И все-таки у меня было впечатление, что в эту минуту барон говорит искренно, что его доброе сердце одерживает верх над тем, что я считал почти бредовым состоянием обидчивости и гордости. Экипаж был подан, а он все еще продолжал разговор. «Ну, садитесь, — сказал он вдруг. — Через пять минут мы будем у вас. И я вам скажу «прощайте», которое навсегда положит конец нашим отношениям. Если мы должны расстаться, то лучше это сделать, как в музыке, на совершенном аккорде». Несмотря на эти торжественные уверения в разлуке навеки, я готов был поклясться, что г. де Шарлюс, раздосадованный своей несдержанностью и боясь, чтобы я не унес чувства обиды на него, был бы не прочь еще раз увидеться со мной. Я не ошибся, так как через мгновение он сказал: «Ну, вот подите же, я забыл самое главное. На память о вашей, покойной бабушке, я отдал для вас в переплет одно любопытное издание г-жи де Севинье. Оно, увы, помешает тому, чтобы это наше свидание было последним. Приходится утешаться тем, что сложные дела редко удается покончить в один день. Вспомните, сколько времени продолжался Венский конгресс». — «Но ведь я мог бы прислать за этим изданием, не беспокоя вас», — предупредительно сказал я. «Извольте замолчать, дурачок, — с гневом сказал барон, — и не смешите меня, делая вид, будто вы не придаете значения чести быть вероятно (я не говорю: наверное, так как, может быть, книги вручит вам камердинер) принятым мной. — Он спохватился: — Я не хочу расставаться с вами на этих словах. Никакого диссонанса перед вечной тишиной совершенного аккорда». По-видимому, щадя свои нервы, барон страшился возвращаться домой сразу после резкой размолвки. «Вы не хотели прокатиться в Булонский Лес, — сказал он скорее утвердительным, чем вопросительным тоном и, как мне показалось, не потому, что он не желал предложить мне эту прогулку, но потому что боялся, что его самолюбие не вынесет отказа. — А теперь как раз минута, — продолжал он, — когда, как говорит Вистлер, буржуа возвращаются домой (может быть он хотел задеть мое самолюбие) и когда так хорошо начать любоваться природой. Но вы не знаете даже, кто такой Вистлер». Я переменил разговор, спросив, умна ли княгиня Иенская. Г. де Шарлюс остановил меня и сказал самым презрительным тоном, какой я когда-нибудь слышал: «Ах, мосье, вы намекаете на какую-то номенклатуру, в которой я ничего не смыслю. Аристократия есть, может быть, и у таитян, но я, признаюсь, о ней не слышал. Однако, как это ни странно, произнесенное вами имя прозвучало в моих ушах несколько дней тому назад. Меня спрашивали, соблаговолю ли я допустить, чтобы мне представлен был молодой герцог Гвастальский. Просьба меня удивила, ведь герцог Гвастальский вовсе не нуждается в том, чтобы его мне представляли, по той причине, что он мой кузен и знаком со мной давным-давно; он сын принцессы Пармской и, как хорошо воспитанный юноша, неуклонно приходит в новый год засвидетельствовать мне свое почтение. Но, по наведенным справкам, речь шла вовсе не о моем родственнике, а о сыне интересующей вас особы. Так как княгини Иенской не существует, то я предположил, что речь идет о какой-нибудь нищей, ночующей под Иенским мостом, которая приняла живописный титул княгини Иенской, как другие называют себя батиньольской пантерой или стальным королем. Но нет, речь шла об одной богатой особе, чьей прекрасной мебелью я восхищался на выставке, — мебелью, имеющей то преимущество над титулом своей хозяйки, что она не поддельная. Что же касается так называемого герцога Гвастальского, то я думал, что это биржевой маклер моего секретаря. — за деньги чего не добудешь. Но нет, оказывается, император позабавился дать этим людям титул, которым он не имел права распоряжаться. Не знаю, свидетельствует ли это о могуществе, о невежестве или о желании зло подшутить, но нахожу, что вернее всего последнее, что он сыграл очень злую шутку с этими узурпаторами поневоле. Все же я не могу вам дать разъяснений на этот счет, моя компетенция ограничивается пределами Сен-Жерменского предместья, куда входят все Курвуазье и Галлардоны и где вы найдете, если вам удастся отыскать знающего руководителя, старых злюк, извлеченных прямо из Бальзака, которые вас позабавят. Понятно, все это не имеет ничего общего с обаянием принцессы Германтской, но без меня и моего сезама жилище ее недоступно». — «Значит, у принцессы Германтской действительно очень хорошо?» — «Очень хорошо! Лучше этого нет ничего, за исключением самой принцессы». — «Принцесса Германтская выше герцогини Германтской?» — «О, между ними нет ничего общего». (Замечательно, что стоит только светским людям обладать некоторым воображением, как они венчают или низлагают по прихоти своих симпатий или ссор людей с самым солидным и укрепившимся положением.)
— «Герцогиня Германтская (не называя ее Орианой, г. де Шарлюс, может быть, хотел раздвинуть расстояние между нею и мной) прелестна, она значительно возвышается над тем, что вы можете предположить. Однако она несоизмерима со своей кузиной. Последняя — в точности похожа на то, чем была в воображении торговок из центрального рынка княгиня Меттерних, но Меттерних считала, что она ввела в моду Вагнера, так как была знакома с Виктором Морелем. Принцесса Германтская, или, вернее, ее мать, знала самого Вагнера. А это — обаяние, не говоря о невероятной красоте этой женщины. А чего стоят одни только сады Эсфири!» — «Нельзя ли их посетить?» — «Нет, надо получить приглашение, но туда никого не приглашают без моего посредничества». Но мигом убрав эту приманку, едва только она была заброшена, г. де Шарлюс подал мне руку, потому что мы подъехали к моему дому. «Роль моя кончена, мосье; прибавлю только несколько слов. Со временем, может быть, кто-нибудь другой проявит к вам симпатию, как это сделал я. Пусть нынешний случай послужит вам уроком. Не пренебрегайте им. Симпатия всегда драгоценна. Чего мы не можем сделать в жизни одни, потому что есть вещи, которые нельзя ни спрашивать, ни сделать, ни хотеть, ни узнать самостоятельно, то мы можем с помощью других, и для этого вовсе не требуется число тринадцать, как в романе Бальзака, ни число четыре, как в «Трех мушкетерах». Прощайте».
Должно быть он устал и отказался от мысли ехать любоваться лунным светом, потому что попросил меня сказать кучеру, чтобы он отвез его домой. Вдруг барон сделал порывистое движение, как бы передумав. Но я уже передал его приказание и, чтобы не терять времени, подошел к воротам позвонить, забыв, что мне хотелось передать г-ну де Шарлюсу рассказы о германском императоре и о генерале Бота; еще недавно они всецело занимали мое внимание, но после неожиданного гневного приема барона бесследно улетучились.
Вернувшись домой, я увидел забытое на моем столе письмо помощника Франсуазы какому-то своему приятелю. После отъезда моей матери он сделался крайне бесцеремонным; я проявил еще большую бесцеремонность, прочитав его незапечатанное и разложенное на виду письмо, которое — в этом было мое единственное оправдание — как будто само мне напрашивалось.
//«Дорогой родственник и друг!
Надеюсь, что здоровье по-прежнему хорошо и что все у вас здоровы особенно мой молоденький крестник Жозеф, которого я не имею еще удовольствия знать, но которого я предпочитаю вам так как он мой крестник, святыни сердца тоже прахом стали и не пристало нам его топтать. Впрочем дорогой родственник и друг кто тебе поручится, что завтра ты и твоя дорогая жена кузина моя Мари, не низринетесь оба в пучину морскую как с мачты матрос, ведь жизнь наша лишь юдоль мрака. Дорогой друг надо тебе сказать что теперь, к твоему удивлению я в этом уверен, мое главное занятие поэзия, которой я упиваюсь, ведь надо же проводить время. Так что дорогой друг не очень удивляйся если я еще не ответил на твое последнее письмо, коль не можешь простить постарайся забыть. Как ты знаешь, матушка барыни скончалась в невыразимых страданиях которые ее очень изнурили так как к ней ходили целых три доктора. День ее похорон был прекрасный день, все знакомые барина пришли толпой и вдобавок еще несколько министров. Было затрачено больше двух часов, чтобы дойти до кладбища, вы все поди в вашей деревне широко раскроете глаза, я думаю за тетушкой Мишю столько идти не придется. Так что жизнь моя будет отныне одним долгим рыданием. Я ужасно увлекаюсь мотоциклетом, на котором недавно научился ездить. Что бы вы сказали, дорогие мои друзья, если бы я во весь опор прикатил к вам в Экорс. Но об этом я говорить не устану, так как чувствую что опьянение горем ей разум мутит. Я часто бываю у герцогини Германтской, у людей даже имени которых ты не слышал в наших невежественных местах. Вот почему я с удовольствием пошлю книги Расина, Виктора Гюго, «Избранные страницы» Шенедоля, Альфреда де Мюссе, мне так хочется вылечить страну, которая дала мне жизнь от невежества фатально доводящего даже до преступления. Больше мне нечего тебе сказать и посылаю тебе как пеликан утомленный долгим путешествием мои добрые пожелания так же как твоей жене, моему крестнику и твоей сестре Розе. Желаю, чтобы о ней нельзя было сказать: И Роза увяла как вянут все розы, как сказал Виктор Гюго, сонет Арвера, Альфред де Мюссе, все эти великие гении которых потому и умертвили в пламени костра как Жанну д'Арк. Жду от тебя скорого послания, прими мои поцелуи как поцелуи брата.
Периго (Жозеф)».//
Нас манит каждая жизнь, таящая в себе что-нибудь неведомое, манит последняя еще не разрушенная иллюзия. Тем не менее таинственные слова г-на де Шарлюса, побудившие меня вообразить принцессу Германтскую как существо необыкновенно и отличное от всего, что я знал, неспособны были объяснить моего остолбенения, — вскоре сменившегося страхом, не явился ли я жертвой злой шутки, подстроенной каким-нибудь моим недругом, желавшим, чтобы меня вытолкнули за двери дома, в который я пришел бы без приглашения, — когда месяца через два после моего обеда у герцогини, во время ее поездки в Канн, вскрыв конверт, с виду не заключавший в себе ничего особенного, я прочитал следующие, напечатанные на визитной карточке слова: «Принцесса Германтская, урожденная герцогиня Баварская, будет дома в ***». Правда, получить приглашение к принцессе Германтской, может быть, и не было со светской точки зрения вещью более трудной, чем пообедать у герцогини, и мои слабые геральдические познания сообщали мне, что титул принца не выше титула герцога. Далее, я говорил себе, что ум светской женщины не может столь существенно отличаться от ума ей подобных, как это утверждал г. де Шарлюс, и даже от ума любой другой женщины. Но мое воображение, подобно Эльстиру, передающему какой-нибудь эффект перспективы, не считаясь с понятиями физики, хотя бы он ими и обладал, рисовало мне не то, что я знал, а то, что оно видело; то, что оно видело, — иными словами, то, что ему показывало имя. Между тем, даже когда я не был знаком с герцогиней, имя Германт, предваряемое титулом «принцесса», подобно ноте, краске или величине, которые коренным образом изменяются поставленным перед ними математическим или эстетическим «значком», всегда вызывало во мне совершенно иное представление. С этим титулом чаще всего встречаешься в мемуарах эпохи Людовика XIII и Людовика XIV, в мемуарах английского двора, шотландской королевы, герцогини Омальской; в моем воображении дворец принцессы Германтской часто посещался герцогиней Лонгвильской и великим Конде, присутствие которых делало очень мало вероятным, что я когда-нибудь туда проникну.
Многое из сказанного г-ном де Шарлюсом дало могучий толчок моему воображению и, изгладив из моей памяти разочарование, постигшее его у герцогини Германтской (с именами людей дело обстоит так же, как и с именами местностей), устремило его к кузине Орианы. Впрочем, если г-ну де Шарлюсу удалось на время обмануть меня относительно воображаемых ценности и разнообразия светских людей, то лишь потому, что сам он пребывал в заблуждении. Да и могло ли быть иначе, если он ничего не делал, не писал, не рисовал и даже ничего не читал сколько-нибудь серьезно и вдумчиво? Но он значительно возвышался над светскими людьми, и если они давали ему богатый материал для разговора, то отсюда не следует, чтобы они его понимали. Обладая даром художественной речи, г. де Шарлюс мог самое большее раскрыть призрачное очарование светских людей. Но раскрыть только для художников, у которых он мог бы играть ту роль, какую северный олень играет у эскимосов; это драгоценное животное вырывает на пустынных скалах лишаи и мох, которые сами его хозяева не сумели бы ни открыть ни употребить в дело; напротив, переваренные оленем, растения эти представляют для жителей крайнего севера хорошо усваиваемую пищу.
Прибавлю к этому, что картины света, нарисованные мне г-ном де Шарлюсом, чрезвычайно оживлялись ярко выраженными симпатиями и антипатиями, которыми он их окрашивал. Ненавидел он главным образом молодых людей, восторженно обожал некоторых женщин.
Хотя среди последних принцесса Германтская возводилась г-ном де Шарлюсом на самый высокий трон, все же таинственных его слов насчет «недоступного дворца Аладина», в котором жила его родственница, было недостаточно, чтобы объяснить мое остолбенение.
В наших искусственных преувеличениях многое обусловлено различными субъективными точками зрения, о которых я еще буду говорить; тем не менее все эти существа обладают в какой-то мере объективной реальностью и следовательно отличаются друг от друга.
Да и как бы могло быть иначе? Люди, у которых мы бываем, так мало похожие на наши мечты, — это те самые люди, описание которых мы находим в мемуарах и письмах и с которыми мы желали познакомиться. Самый заурядный старик, в обществе которого мы обедаем, — тот самый человек, гордое письмо которого принцу Фридриху-Карлу мы с волнением прочли в книге, посвященной войне семидесятого года. Мы скучаем за обедом, потому что воображение наше отсутствует, а книга нас развлекает, потому что при чтении ее оно деятельно работает. Но мы имеем дело с одними и теми же лицами. Нам бы очень хотелось быть знакомыми с г-жой де Помпадур, покровительствовавшей искусствам, но мы скучали бы с ней не меньше, чем с нынешними Эгериями, настолько бесцветными, что мы не решаемся посетить их вторично. Тем не менее между ними есть различия. Люди никогда не бывают совершенно похожи друг на друга, их манера держать себя с нами, хотя бы мы относились к ним одинаково, выдает различия, которые в конечном счете уравновешиваются. Когда я познакомился с г-жой де Монморанси, она любила говорить мне неприятные веши, но если я нуждался в услуге, она не задумываясь пускала в ход все свое влияние, чтобы прийти мне на помощь. Между тем герцогиня Германтская никогда бы не пожелала меня огорчить, говорила лишь вещи, способные доставить мне удовольствие, осыпала меня всяческими любезностями, составлявшими как бы необходимую принадлежность моральной жизни Германтов, но если бы я попросил у нее какой-нибудь пустяк сверх этого, не сделала бы ни шагу, чтобы исполнить мое желание, как в тех замках, где в ваше распоряжение предоставляется автомобиль и камердинер, но где невозможно получить стакан сидра, не предусмотренный распорядком торжеств. Которая же из них была мне настоящим другом: г-жа де Монморанси, с удовольствием меня задевавшая и всегда готовая услужить, или герцогиня Германтская, страдавшая от малейшего неудовольствия, которое мне причиняли, и неспособная на самое ничтожное усилие, чтобы быть мне полезной? С другой стороны, от многих можно было услышать, что герцогиня Германтская говорит только пустяки, а ее кузина, значительно ей уступающая по уму, — вещи всегда интересные. Формы ума так разнообразны, так противоположны, не только в литературе, но и в светском обществе, что не только Бодлер и Мериме имеют право презирать друг друга. Особенности эти образуют у каждого светского человека настолько связную и деспотическую систему взглядов, речей и поступков, что, когда мы находимся в его присутствии, он нам кажется выше всех прочих. Слова герцогини Германтской, выведенные точно теорема из особенного склада ее ума, представлялись мне единственно уместными в ее устах. И я в сущности был согласен с ней, когда она говорила, что г-жа де Монморанси глупа, что ум ее всегда открыт для вещей, которых она не понимает, или когда, узнав о какой-нибудь ее злобной выходке, герцогиня замечала: «Вот вам особа, которую вы называете доброй, а я называю извергом». Но эта тирания находящейся перед нами действительности, эта очевидность света лампы, перед которым далекая уже заря меркнет как простое воспоминание, исчезали, когда я бывал вдали от герцогини Германтской и какая-нибудь другая дама говорила, ставя себя на одну доску со мной и свысока смотря на герцогиню: «Ориана в сущности ничем и никем не интересуется», — и даже (чего в присутствии герцогини невозможно было, казалось, даже подумать, так усердно провозглашала она обратное): «Ориана — снобка». Так как никакая математика не позволяла обратить г-жу д'Арпажон и г-жу де Монпансье в величины однородные, то я не мог бы ответить на вопрос, которая из них выше в моих глазах.
Среди специфических особенностей салона принцессы Германтской чаще всего называли некоторую замкнутость, обусловленную отчасти королевским происхождением принцессы, но главным образом почти допотопным ригоризмом принца по части аристократических предрассудков, над которыми, впрочем, герцог и герцогиня не упускали случая посмеяться; естественно, что ригоризм этот побуждал меня отнестись с крайним недоверием к приглашению человека, считавшегося только с высочествами да герцогами и на каждом обеде устраивавшего сцену, потому что за столом ему не отводили места, на которое он имел бы право при Людовике XIV и которое он один только знал благодаря своей исключительной эрудиции в области истории и родословных. По этой причине многие светские люди высказывались в пользу герцога и герцогини, когда речь заходила о различиях между родственниками. «Герцог и герцогиня — люди гораздо более современные, гораздо более интеллигентные; в отличие от других они занимаются не только счетом поколений знатных предков, салон их на триста лет впереди салона их родственников», — были обычные фразы, и, вспоминая их теперь, я трепетал, когда взгляд мой падал на пригласительный билет, который — я почти в этом не сомневался — прислан мне был каким-нибудь мистификатором.
Не находись сейчас герцог и герцогиня в Канне, я бы, может быть, постарался выяснить через них, насколько подлинно полученное мной приглашение. Мои сомнения не были даже, как я одно время ласкал себя, обусловлены чувством, которого светский человек не испытал бы и которое поэтому писатель, хотя бы он принадлежал к касте светских людей, должен воспроизвести в целях «объективности» и чтобы изобразить каждый класс по-разному. В самом деле; недавно я нашел в одном прелестном томике мемуаров описание неуверенности, похожей на ту, что охватила меня при виде пригласительного билета принцессы. «Жорж и я (или Эли и я, у меня нет под рукой книги, чтобы проверить) так страстно желали быть допущенными в салон г-жи Делесер, что, получив от нее приглашение, мы сочли благоразумным проверить, каждый с своей стороны, не одурачены ли мы какой-нибудь апрельской шуткой». Между тем автор этих строк не кто иной, как граф д'Осонвиль (женившийся на дочери герцога де Бройля), а другим молодым человеком, который, «с своей стороны», собирался проверить, не сделался ли он жертвой мистификации, является, — смотря по тому, зовут ли его Жоржем или Эли, — кто-нибудь из двух неразлучных друзей г-на д'Осонвиля: г. д'Аркур или принц де Шале.
В самый день приема принцессы Германтской я узнал, что герцог и герцогиня еще накануне вернулись в Париж. Бал у принцессы не заставил бы их приехать, но тяжело заболел один их родственник, и кроме того герцог непременно хотел побывать на костюмированном вечере, устраивавшемся в этот же день, где ему предстояло появиться в костюме Людовика XI, а жене его — в костюме Изабо Баварской. Я решил сходить к герцогине в это же утро. Но оказалось, что она с мужем куда-то уехала и еще не вернулась; тогда я стал подкарауливать появление герцогской кареты из одной каморки, показавшейся мне хорошим наблюдательным пунктом. В действительности я очень плохо сделал свой выбор, так как из этой каморки двор наш был едва виден; зато я увидел несколько других дворов, и это бесполезное зрелище на некоторое время развлекло меня. Не только в Венеции, но и в Париже можно найти так прельщавшие художников пункты, откуда открывается вид на несколько домов сразу. Я говорю о Венеции не случайно. На бедные кварталы именно этого города похожи бывают по утрам некоторые бедные кварталы Парижа с их высокими, расширяющимися трубами, окрашенными солнцем в самые живые розовые, в самые чистые красные тона; точно огромный сад цветет над домами, и краски в нем так разнообразны, что его можно принять за разбитый над городом цветник любителя дельфтских или гаарлемских тюльпанов. Вдобавок крайняя скученность домов с окнами, выходящими друг против друга в один и тот же двор, обращает каждое оконное отверстие в раму, где можно увидеть кухарку, которая замечталась, устремив глаза в землю, подальше — старуху с едва различимым в темноте лицом колдуньи, которая причесывает молодую девушку; таким образом эти парижские дворы, заглушая шумы своим пространством и показывая немые жесты в застекленных четырехугольниках окон, являются для жильцов как бы выставкой сотни размещенных одна возле другой голландских картин. Правда, из дома Германтов подобных видов не открывалось, но открывались другие, не менее любопытные, в особенности из занятого мной своеобразного тригонометрического пункта, где ничто не останавливало взгляда до далеких возвышенностей, образованных относительно мало застроенными участками, которые тянулись перед особняком принцессы Силистрийской и маркизы де Плассак, незнакомых мне знатных родственниц герцога Германтского. До самого этого особняка (принадлежавшего их отцу, г-ну де Брекиньи) не было ничего, кроме раскинувшихся во всех направлениях корпусов невысоких зданий, которые, не останавливая взора, раздвигали пространство своими косыми плоскостями. Крытая красной черепицей башенка сарая, в котором маркиз Де Фрекур держал свои экипажи, хотя и увенчивалась шпилем, но таким тонким, что он ничего не закрывал; она приводила на ум хорошенькие старинные постройки в Швейцарии, которые иногда одиноко возвышаются у подошвы горы. Все эти беспорядочно разбросанные в разных направлениях пункты, на которых покоился взор, создавали иллюзию большей удаленности особняка г-жи де Плассак, как если бы он был отрезан от нас несколькими улицами или многочисленными горными отрогами, тогда как в действительности он стоял почти по соседству: такое фантастическое искажение перспективы создавал этот альпийский пейзаж. Когда широкие квадратные окна этого особняка, сверкавшие на солнце как горный хрусталь, бывали открыты для проветривания, то, наблюдая в различных этажах смутно очерченные фигуры лакеев, выбивавших ковры, вы получали такое же удовольствие, как увидев на пейзажах Тернера или Эльстира путешественника в дилижансе или проводника на склонах Сен-Готарда. Но с избранного мной наблюдательного пункта я рисковал упустить возвращение герцога и герцогини, вследствие чего, возобновив после полудня свою слежку, я расположился попросту на лестнице, откуда появление кареты не могло остаться незамеченным, хотя ослепительные альпийские красоты особняка Брекиньи и Трем с уменьшенными до крошечных размеров лакеями, занятыми уборкой, выпадали при этом из поля моего зрения. Однако мое ожидание на лестнице имело для меня столь значительные последствия и открыло мне столь интересный пейзаж, правда, не тернеровский, а моральный, что лучше немного отложить рассказ о нем и сначала рассказать о моем посещении Германтов, когда я узнал, что они вернулись. Герцог принял меня один в своем кабинете. Когда я переступал порог этой комнаты, оттуда вышел седой как лунь человечек, бедно одетый и повязанный тоненьким черным галстуком, как нотариус Комбре и некоторые приятели моего дедушки, но вида более робкого; отвешивая мне низкие поклоны, он ни за что не желал продолжать свой путь, прежде чем я пройду мимо. Герцог что-то крикнул из кабинета, чего я не расслышал, и старичок ему ответил с новыми поклонами, которые обращены были к стене (герцог не мог его видеть) и все же без конца повторялись, как ненужные улыбки людей, разговаривающих с вами по телефону; говорил он фальцетом и еще раз поклонился мне с подобострастием ходатая по делам. Впрочем, может быть, он действительно был поверенный из Комбре, — настолько своим провинциальным, старомодным и покорным видом напоминал он тамошних маленьких людей, скромных стариков. «Вы сейчас увидите Ориану, — сказал мне герцог, когда я вошел. — Так как Сван должен принести ей корректуры своей статьи о монетах мальтийского ордена и, что хуже, огромную фотографию этих монет, то Ориана решила одеться раньше, чтобы посидеть с ним, перед тем как ехать на обед. Мы буквально завалены вещами, так что я прямо не знаю, куда бы сунуть эту фотографию. Но у меня слишком любезная жена, она страшно любит делать приятное. Вот ей и показалось, что Свану будет приятно показать одного за другим всех гросмейстеров ордена, монеты которых он нашел на Родосе. Я вам сказал — на Мальте, нет, на Родосе, — впрочем, это один и тот же орден св. Иоанна Иерусалимского. В сущности, она им интересуется только потому, что это предмет занятий Свана. Наш род сильно замешан во всей этой истории, даже и в настоящее время мой брат, которого вы знаете, — один из самых высоких сановников мальтийского ордена. Но, если бы я вздумал заговорить об этом с Орианой, она не стала бы меня слушать. Зато достаточно Свану в своих занятиях тамплиерами (прямо удивительно, с каким увлечением люди одной религии изучают религию других) подойти к истории родосских рыцарей, наследников тамплиеров, чтобы Ориана сейчас же пожелала увидеть выбитые на монетах их головы. Они были мелюзгой по сравнению с Люзиньянами, королями Кипра, от которых мы происходим по прямой линии. Но так как до сих пор Сван не занимался Люзиньянами, то Ориана знать ничего о них не хочет». Я не мог сразу сказать герцогу, зачем я пришел. Дело в том, что к герцогине, которая часто принимала до обеда, явились с визитом несколько ее родственниц или приятельниц, в частности принцесса Силистрийская и герцогиня де Монроз, но, не застав ее, зашли на минутку к герцогу. Первая из этих дам (принцесса Силистрийская), просто одетая, сухая, но с любезным выражением лица, держала в руке трость. Я даже испугался, не больна ли она или не ранена. Нет, принцесса была даже очень бодрой. Она с сокрушением говорила герцогу о его двоюродном брате — не по линии Германтов, а по другой, еще более блестящей линии, — здоровье которого в последнее время пошатнулось и на днях резко ухудшилось. Но было очевидно, что герцог, соболезнуя своему кузену и повторяя: «Бедный Мама! Какой славный парень», ставил все же благоприятный диагноз его болезни. Дело в том, что обед, на котором должен был присутствовать герцог, его занимал, вечер у принцессы Германтской не наводил на него скуки, но особенно хотелось ему пойти с женой в час ночи на большой ужин и костюмированный бал, для которого ему приготовлен был костюм Людовика XI, а герцогине — костюм Изабо Баварской. Вот почему герцог вовсе не намеревался портить себе эти многочисленные развлечения мыслью о болезни любезного Аманьена д'Осмона. Затем к Базену пришли с визитом две другие дамы, тоже с палками, г-жа де Плассак и г-жа де Трем, дочери графа де Брекиньи, и объявили, что кузен Мама безнадежен. Пожав плечами, герцог, чтобы переменить разговор, спросил, собираются ли они на вечер к Мари-Жильбер. Они ответили, что нет, по случаю обострения болезни Аманьена, и что они даже отказались от обеда, на который собирался герцог; они ему перечислили приглашенных на этот обед: брат короля Феодосия, инфанта Мария Консепсион и т. д. Так как маркиз д'Осмон приходился Базену более близким родственником, чем этим дамам, то на их «отступничество» герцог смотрел как на косвенное порицание его поведения. Вот почему, хотя они спустились с высот особняка Брекиньи, чтобы повидать герцогиню (или, вернее, чтобы сообщить ей о тревожном состоянии здоровья их кузена, несовместимом для родственников со светскими собраниями), дамы эти сидели недолго; вооруженные посохами альпинисток, Вальпургия и Доротея (это были имена сестер) отправились обратно по крутым дорогам на свою вышку. Мне никогда не пришло в голову спросить Германтов о назначении этих посохов, столь распространенных в некоторых кругах Сен-Жерменского предместья. Может быть, рассматривая всю эту часть города как свое владение и питая отвращение к фиакрам, они делали длинные концы пешком, при которых принуждены были опираться на палку по причине каких-нибудь давнишних переломов, созданных неумеренным увлечением охотой и частыми падениями с лошади, или просто по причине ревматизма, обусловленного сыростью левого берега Сены и старинных замков. Впрочем, может быть они и не пускались в такие далекие экспедиции. А просто, сойдя в свой сад (расположенный невдалеке от сада герцогини) собрать фруктов для компота, на обратном пути заглядывали поздороваться с герцогиней Германтской, не решаясь, однако, прихватить с собой садовые ножницы или лейку. Герцог по-видимому был тронут моим посещением в самый день его приезда. Но лицо его потемнело, когда я сказал, что цель моего визита — попросить его жену справиться, действительно ли принцесса пригласила меня. Я коснулся одной из тех услуг, которые герцог и герцогиня Германтские не любили оказывать. Герцог сказал, что теперь слишком поздно, что если принцесса не посылала мне приглашения, то покажется, будто он его выпрашивает для меня, а его кузены однажды уже отказали ему в такой просьбе, и он не желает больше ни прямо ни косвенно вмешиваться в составление их списка, «впутываться в это дело», наконец, что он и жена, может быть, вернутся с званого обеда прямо домой, что в этом случае лучшим оправданием их отсутствия на вечере принцессы будет скрыть от нее свой приезд в Париж, что иначе они, разумеется, немедленно дали бы ей знать о моем недоумении, послав записку или позвонив по телефону, хотя поправлять дело теперь слишком поздно, так как по всей вероятности списки принцессы уже составлены. «Ведь вы с ней не в плохих отношениях», — сказал он с подозрительным видом: Германты всегда желали быть в курсе последних размолвок, боясь, как бы в противном случае их не попытались сделать слепым орудием примирения. «Послушайте, голубчик, — сказал он вдруг с таким видом, точно мысль эта только что осенила его (герцог давно привык брать на себя все сколько-нибудь неприятные решения): — я хочу даже скрыть от Орианы то, что вы мне сказали. Вы знаете, какая она любезная и как горячо вас любит: несмотря на все мои возражения, она непременно захочет послать к своей кузине, и тогда, если она почувствует себя утомленной после обеда, у нее не будет никакого извинения, она принуждена будет ехать на вечер. Нет, это решено, я ничего ей не скажу. Впрочем, вы сейчас ее увидите. Ни слова об этом, прошу вас. Если вы решитесь пойти на вечер, нечего и говорить, как мы будем рады провести с вами время». Мотивы человеколюбия слишком священны, чтобы тот, кому их приводят, не склонился перед ними, считает ли он их искренними или нет; мне вовсе не хотелось иметь вид человека, который даже секунду колеблется сделать выбор между своей просьбой и возможной усталостью герцогини, и я пообещал не говорить ей о цели моего визита, как будто взаправду был обманут маленькой комедией, разыгранной передо мной герцогом. Я спросил герцога, есть ли у меня, по его мнению, шансы увидеть на вечере принцессы г-жу де Стермариа. «Никаких, — отвечал он с видом знатока. — Мне известно названное вами имя, я его встречал в справочниках клубов, она совсем не принадлежит к тем кругам, которые бывают у Жильбера. Вы там увидите лишь людей чрезвычайно comme il faut и страшно скучных, герцогинь, носящих титулы, которые вы считали давно угасшими и которые подновлены для данного случая, всех послов, многих Кобургов, иностранных высочеств, но не надейтесь даже на тень Стермариа. Жильбер заболел бы от одного вашего предположения».
— «Ах, да, ведь вы любитель живописи, надо непременно вам показать одну роскошную картину, которую я купил у своего кузена, частью в обмен на Эльстиров, положительно нам надоевших. Ее мне продали за Филиппа де Шампаня, но я считаю, что это нечто еще более крупное. Хотите знать мою мысль? Я считаю, что это Веласкес и притом самого лучшего периода», — сказал герцог, смотря мне в глаза, чтобы узнать мое впечатление или, может быть, его усилить; вошел лакей. «Госпожа герцогиня спрашивает господина герцога, не может ли господин герцог принять господина Свана, так как госпожа герцогиня еще не готова». — «Введите сюда господина Свана, — сказал герцог, посмотрев на часы и убедившись, что в его распоряжении есть еще несколько минут, перед тем как идти одеваться. — Ну, конечно, жена моя, пригласившая его прийти, не готова. Незачем говорить при Сване о вечере Мари-Жильбер, — обратился ко мне герцог. — Я не знаю, приглашен ли он. Жильбер его очень любит, так как считает незаконным внуком герцога Беррийского, это целая история. (Без этого вы можете себе представить отношение к нему моего кузена, который бросается в атаку, увидев еврея за сто метров от себя.) Но теперь это осложнилось делом Дрейфуса, Свану следовало бы понять, что ему больше, чем кому-нибудь, следует порвать всякую связь с этими людьми, а между тем он, напротив, высказывает крайне досадные суждения». Герцог подозвал лакея, чтобы узнать, вернулся ли посланный к кузену д'Осмону. План у герцога был такой: считая положение своего кузена безнадежным, он непременно хотел получить о нем известия, пока он еще не умер, то есть до вынужденного траура. Удостоверившись официально, что Аманьен еще жив, он собирался удрать на званый обед, на вечер у принца, на бал, где он должен был появиться в костюме Людовика XI и где было условлено очень занимавшее его свидание с новой любовницей; таким образом дальнейшие известия об умирающем он мог бы получить лишь на следующий день, когда программа удовольствий будет уже выполнена. Тогда можно будет надеть траур, если окажется, что родственник его скончался сегодня вечером. «Нет, господин герцог, он еще не вернулся». — «Проклятие! Вечно здесь все делается в последнюю минуту», — в сердцах сказал герцог, подумав, что Аманьен, может быть, уже отправился на тот свет, так что объявление о его смерти успеет появиться в вечерних газетах и придется отказаться от костюмированного бала. Он потребовал «Temps», где ничего не было. Я очень давно не видел Свана и некоторое время был в недоумении, стриг ли он раньше усы и носил ли волосы щеткой, потому что нашел в нем какую-то перемену; но он действительно очень «переменился», так как сильно хворал, а болезнь производит на лице столь же глубокие изменения, как отросшая борода или перемещенная линия пробора. (Болезнь Свана была та же, что унесла его мать, и она его постигла в том же возрасте. Жизнь наша благодаря наследственности так полна кабалистических цифр, предначертанных дат, что кажется, будто и вправду ею управляют колдуньи. И если существует средняя продолжительность человеческой жизни вообще, то она существует также для отдельных семей, то есть для похожих друг на друга членов семьи.) Одет был Сван с элегантностью, которая, подобно элегантности его жены, сочетала то, чем он был теперь, с тем, чем он был когда-то. Стройный, затянутый в сюртук gris perle, подчеркивавший его высокий рост, в полосатых перчатках, он держал в руке серый цилиндр с раструбом; такой формы цилиндры изготовлялись Делионом только для него, для князя де Сагана, для г-на де Шарлюса, для маркизы де Моден, для г-на Шарля Гааса и для графа Луи де Тюрена. Я поражен был очаровательной улыбкой и сердечным рукопожатием, которыми он ответил на мой поклон, ибо думал, что, так долго не видевшись со мной, он меня сразу не узнает; я ему высказал свое удивление; он громко расхохотался, был даже немного возмущен и снова пожал мне руку, как если бы, предположив, что он меня не узнал, я подвергал сомнению целость его умственных способностей или искренность его расположения ко мне. Между тем так оно и было; он узнал меня, как я это выяснил впоследствии, лишь через несколько минут, когда услышал мое имя. Но ни лицо его, ни слова, ни вещи, которые он мне говорил, ничем не выдали открытия, сделанного им после обращения ко мне герцога Германтского, — с таким самообладанием и уверенностью умел он вести светскую игру. Он вносил в нее ту непринужденность и ту изобретательность, даже в манере одеваться, которые были так характерны для Германтов. Вот почему поклон, сделанный мне старым клубменом, который меня не узнал, не был холодным и сухим поклоном светского человека-формалиста, но поклоном, исполненным подлинной любезности, настоящей грации, какие свойственны были, например, герцогине Германтской (доходившей до того, что при встрече с вами она улыбалась первая, когда вы еще ей не поклонились), в противоположность более механическим поклонам, привычным для дам Сен-Жерменского предместья. Вот почему также цилиндр его, который, согласно исчезавшему обыкновению, Сван поставил на пол возле себя, подбит был зеленой кожей, чего обыкновенно не делали, потому что (по его словам) так он гораздо меньше пачкался, в действительности же потому, что это гораздо больше шло к нему. «Вот что, Шарль, вы ведь большой знаток, подойдите сюда, я вам что-то покажу, а потом, дорогие мои, я попрошу позволения покинуть вас на минутку, пока я переоденусь; впрочем, я думаю, что Ориана не заставит вас долго ждать». И он показал Свану своего «Веласкеса». «Да я, кажется, где-то уже видел это», — произнес Сван с гримасой больных людей, которым даже говорить утомительно. «Да, — подтвердил герцог, озабоченный тем, что знаток медлит выразить свое восхищение, — вы, вероятно, видали эту картину у Жильбера». — «А-а, действительно, я припоминаю». — «Что это по-вашему?» — «Если это было у Жильбера, то по всей вероятности это кто-нибудь из ваших предков», — отвечал Сван с ироническим почтением к величию, которое он счел бы невежливым и смешным не оценить, но о котором хороший вкус позволял ему говорить лишь «шутя».
— «Ну, разумеется, — сухо сказал герцог. — Это Бозон, Германт, номер… не помню который. Но на это мне наплевать. Вы знаете, что я не такой феодал, как мой кузен. Я слышал имена Риго, Миньяра, даже Веласкеса! — продолжал герцог, приковывая к Свану взгляд инквизитора и палача, чтобы прочитать его мысли и в то же время повлиять на его ответ. — Ну, говорите без лести, — заключил он, ибо, искусственно провоцируя желательное ему мнение, он обладал способностью через несколько мгновений верить, будто мнение это высказано его собеседником по собственному почину. — Вы думаете, что это один из только что названных мной генералов?» — «Ннннет», — отвечал Сван. «Ну, я в этих вещах ничего не смыслю, не мне решать, чья это мазня. Но вы, любитель искусства, знаток дела, кому вы ее приписываете? У вас ведь достаточно знаний, чтобы составить мнение. Кому вы ее приписываете?» Сван минуточку постоял в нерешительности перед показанным ему холстом, явно находя его низкопробным. «Недоброжелателю!» — со смехом отвечал он герцогу, который не в силах был подавить гневное движение. Успокоившись, он сказал: «Вы оба милые люди, подождите минуточку Ориану, а я пойду облачусь во фрак и сейчас вернусь. Я велю передать моей благоверной, что вы ее ждете». Я заговорил со Сваном о деле Дрейфуса и спросил его, как могло случиться, что все Германты антидрейфусары. «Это случилось прежде всего потому, что в глубине души все эти люди антисемиты», — отвечал Сван, хорошо знавший, однако, по личному опыту, что некоторые из Германтов вовсе не были антисемитами, но, как и все горячие приверженцы определенных взглядов, предпочитал объяснять враждебное отношение к ним некоторых лиц скорее каким-нибудь предвзятым мнением, предрассудком, против которого ничего не поделаешь, чем разумными доводами, которые можно оспаривать. Кроме того, преждевременно достигнув предела своей жизни, как измученное животное, которому не дают покоя, он не выносил этих преследований и вернулся в лоно веры своих отцов. «Что касается принца Германтского, — сказал я, — то он действительно, как мне передавали, антисемит». — «О, о нем я даже не говорю! Это такой юдофоб, что, когда однажды — он был в то время офицером — у него отчаянно разболелись зубы, он предпочел терпеть, лишь бы не обращаться к единственному дантисту в той местности, так как он был еврей, а впоследствии он не принял никаких мер для спасения флигеля своего замка, в котором показался огонь, потому что ему пришлось бы обратиться за насосами в соседний замок, принадлежащий Ротшильдам». — «Вы сегодня случайно не собираетесь к нему?» — «Собираюсь, — отвечал Сван, — хотя чувствую себя очень усталым. Принц прислал мне по пневматической почте извещение, что он хочет со мной поговорить. Боюсь, что в ближайшие дни я буду нездоров и не смогу ни зайти к нему ни принять его, это меня будет беспокоить, так что я предпочитаю отделаться сегодня же». — «Но ведь герцог Германтский не антисемит». — «Ну, как не антисемит: ведь он антидрейфусар, — отвечал Сван, не замечая, что делает petitio principii. — Это, однако, не мешает тому, что мне было неприятно разочаровать этого человека, — что я говорю! этого герцога, — не расхвалив его мнимого Миньяра или уж не знаю кого». — «Но герцогиня, — продолжал я, возвращаясь к делу Дрейфуса, — она-то ведь женщина интеллигентная». — «Да, она прелестна. Впрочем, на мой взгляд, она была еще более обворожительна, когда называлась принцессой де Лом. Остроумие ее сделалось теперь как-то более угловатым, все это было у нее нежнее, когда она была молода, — а впрочем, моложе они или старше, мужчины они или женщины, все это люди другой породы, ничего не поделаешь, нельзя безнаказанно носить тысячу лет феодализм в крови. Понятно, они считают, что он непричем в их мнениях». — «Но ведь Робер де Сен-Лу дрейфусар?» — «Ну, тем лучше, особенно если принять во внимание, что мать его ярая антидрейфусарка. Мне о нем говорили, но я не был уверен. Я очень рад. Это меня не удивляет, он очень умен. А это существенно».
Дрейфусарство сообщило Свану какую-то удивительную наивность, оно вызвало еще более значительный сдвиг в его взглядах на вещи, чем тот, что был произведен когда-то его женитьбой на Одетте; это новое деклассирование Свана правильнее было бы назвать реклассированием, оно делало ему только честь, так как возвращало на дорогу, которой шли его родные и с которой он свернул под влиянием своих аристократических знакомств. Но как раз в ту минуту, когда ему, человеку такого ясного ума, дано было, благодаря унаследованным от предков качествам, увидеть истину, еще скрытую от светских людей, Сван начал обнаруживать курьезное ослепление. Ко всему, чем он восхищался и чем гнушался, он прилагал теперь новый критерий: дрейфусарство. Пусть антидрейфусарство г-жи Бонтан побудило Свана считать ее дурой; это было не более удивительно, чем то, что после своей женитьбы он нашел ее умной. Ничего серьезного не было также, если новая волна захлестнула политические суждения Свана, изгладив в нем всякую память о том, как он величал Клемансо продажной душой, английским шпионом (эта нелепость сочинена была в кругу Германтов); теперь он уверял, что Клемансо всегда был для него воплощением совести, человеком непреклонным, как Корнели. «Нет, никогда я вам не говорил иного. Вы путаете». Однако, переливаясь через политические суждения, волна дрейфусарства опрокидывала у Свана также и суждения литературные, вплоть до манеры их высказывать. Баррес утратил всякий талант, его юношеские произведения оказывались слабоватыми, их с трудом можно было перечитать. «Попробуйте, вы не дотянете до конца. Иное дело Клемансо! Лично я не антиклерикал, но рядом с ним каким бескостным кажется Баррес! Да, папаша Клемансо очень крупная фигура. Как он знает язык!» Впрочем, антидрейфусары не вправе были бы критиковать эти нелепости. Они утверждали, что дрейфусарство объясняется еврейским происхождением. Если верующий католик, вроде Саньета, тоже высказывался за пересмотр дела, то потому что был обработан г-жой Вердюрен, яростной радикалкой. Она прежде всего ненавидела «попов». Саньет был больше глуп, чем зол, и не сознавал вреда, причинявшегося ему «хозяйкой». Если же на это возражали, что Бришо, тоже друг г-жи Вердюрен, состоял членом французской Патриотической лиги, то ведь он был гораздо умнее Саньета. «Вы когда-нибудь с ним встречаетесь?» — спросил я Свана, заговорив о Сен-Лу. «Нет, никогда. На днях он написал мне, чтобы я попросил герцога де Муши и некоторых других голосовать за него в Жокей-Клубе, куда, впрочем, он прошел без малейшего затруднения». — «Несмотря на дело Дрейфуса!» — «О нем не было и речи. Впрочем, должен вам сказать, что с тех пор ноги моей не было в этом месте».
Вернулся герцог, и вслед за ним вошла его жена, уже переодевшаяся, высокая и пышная, в красном атласном платье, с юбкой, отороченной блестками. В волосах у нее было воткнуто большое страусовое перо, окрашенное в пурпур, а на плечи накинут тюлевый шарф, тоже красный. «Какая счастливая мысль заказать зеленую подкладку для шляпы, — сказала герцогиня, от которой ничто не укрывалось. — Впрочем, у вас, Шарль, все хорошо, и то, что вы носите, и то, что вы говорите, и то, что вы читаете, и то, что вы делаете». Сван между тем, делая вид, что он не слышит, рассматривал герцогиню точно полотно первоклассного художника; отыскав ее взгляд, он сделал губами гримаску, говорившую: «Чертовски хорошо!» Герцогиня расхохоталась. «Мой туалет вам нравится, я в восторге. Но мне самой, признаться, он не очень нравится, — сказала она с унылым видом. — Боже мой, как это скучно одеваться, выходить, когда так хотелось бы посидеть дома!» — «Какие великолепные рубины!» — «Ах, голубчик Шарль, по крайней мере видно, что вы в них понимаете, не то что это животное Монсерфейль, который спросил, настоящие ли они. Признаться, я никогда не видела таких красивых. Это подарок великой княгини. На мой вкус, они немного велики, немного напоминают наполненную до краев рюмку бордо, но я их надела, потому что сегодня вечером мы увидим великую княгиню у Мари-Жильбер», — прибавила герцогиня, не подозревая, что этими словами она опровергает утверждения герцога. «А что предполагается у принцессы?» — спросил Сван. «Ничего особенного», — поспешно ответил герцог, подумавший, что Свана не пригласили. «Помилуйте, Базен! Призваны, можно сказать, все возрасты. Будет такая давка, что не приведи господи. Но что там будет хорошо, — прибавила герцогиня, смотря на Свана с видом лакомки, — если только не разразится гроза, которая сейчас собирается, так это чудесные сады. Вы их знаете. Я была у кузины месяц тому назад, когда цвела сирень, вы не можете себе представить, как это хорошо. Кроме того фонтан, словом, настоящий Версаль в Париже». — «Какого рода женщина принцесса?» — спросил я. «Да вы же знаете, ведь вы ее видели здесь, она прекрасна как день, немного глуповата, очень мила, несмотря на все свое немецкое высокомерие, очень сердечна и на каждом шагу делает оплошности». От наблюдательного Свана не укрылось, что герцогиня старается в эту минуту блеснуть «остроумием Германтов», но без большой затраты сил, ибо она угощала лишь своими прежними остротами в более неряшливой форме. Тем не менее, желая показать герцогине, что он понял ее намерение посмешить и считает, будто оно ей удалось, Сван принужденно улыбнулся, вызвав во мне этой своеобразной неискренностью то чувство неловкости, какое я когда-то испытывал, слушая разговоры моих родных с г-ном Вентейлем о распущенности некоторых кругов (тогда как родным моим было прекрасно известно, что в Монжувене царит еще большая распущенность) или изысканные эпитеты, которыми Легранден уснащал свои речи для глупцов, прекрасно зная, что они не могут быть поняты богатой и шикарной, но необразованной публикой. «Послушайте, Ориана, что вы говорите, — вознегодовал герцог, — Мари глупа? Ведь она все читала, она играет как скрипка». — «Ах, бедненький Базен, вы точно новорожденный. Разве нельзя при всем этом быть немного глуповатой? Впрочем, сказать, что она глуповата, будет, пожалуй, преувеличением, нет, она туманна, она Гессен-Дармштадт, Священная империя и размазня. Одно ее произношение меня изводит. Но я готова согласиться, что ее придури очаровательны. Чего стоит хотя бы ее мысль спуститься со своего немецкого трона, чтобы самым мещанским образом выйти замуж за обыкновенного гражданина. Правда, она сама его избрала! Ах, да, — сказала она, обращаясь ко мне, — ведь вы не знаете Жильбера! Это человек, который однажды слег в постель, узнав, что я завезла карточку г-же Карно… Однако, голубчик Шарль, — сказала герцогиня, меняя разговор, так как история с карточкой г-же Карно явно приводила в негодование герцога, — вы все-таки не прислали фотографии наших родосских рыцарей, которых люблю с ваших слов и с которыми так жажду познакомиться». Между тем герцог не спуская глаз смотрел на жену: «Ориана, следовало все же рассказать правду, не смазывая ее наполовину. Надо вам сказать, — поправил он жену, обращаясь к Свану, — что супруга тогдашнего английского посла, женщина очень добрая, но немного витавшая на луне, которой свойственно было совершать подобного рода оплошности, возымела довольно странную мысль пригласить нас вместе с президентом и его женой. Мы были очень удивлены, даже Ориана, тем более что у этой женщины было достаточно знакомых одинакового с нами положения и она могла бы нас не приглашать на столь странное собрание. Там был один проворовавшийся министр, словом, я обхожу это молчанием, нас не предупредили, мы попались в ловушку, но надо, впрочем, признать, что все эти люди были очень вежливы. Ну, надо бы этим и ограничиться. Но герцогиня Германтская, которая не часто удостаивает меня чести советоваться со мной, сочла долгом завезти через несколько дней свою карточку в Елисейский дворец. Жильбер, может быть, зашел чересчур далеко, усмотрев в этом чуть ли не пятно для нашего имени. Но ведь, оставляя в стороне политику, не надо забывать, что г. Карно, кстати сказать, очень корректно исполнявший свои обязанности, приходился внуком члена революционного трибунала, отправившего в один день на гильотину одиннадцать наших предков». — «Тогда зачем же вы, Базен, ездили каждую неделю обедать в Шантильи? Герцог Омальский ведь тоже был внуком члена революционного трибунала, с той только разницей, что Карно был порядочный человек, а Филипп Эгалите — ужасный мерзавец». — «Простите, что я вас перебью, — сказал Сван, — я вам послал фотографию. Не понимаю, почему вам ее не доставили». — «Меня это мало удивляет, — сказала герцогиня. — Слуги мои докладывают мне лишь то, что считают нужным. По-видимому они не любят ордена святого Иоанна». Она позвонила. «Вы знаете, Ориана, если я ездил обедать в Шантильи, то без энтузиазма». — «Без энтузиазма, но с ночной рубашкой на случай, если бы принц предложил вам остаться переночевать, что, впрочем, он делал редко, так как был страшным невежей, подобно всем Орлеанам. Вы знаете, с кем мы обедаем у г-жи де Сент-Эверт?» — спросила герцогиня мужа. «Кроме лиц, вам известных, там будет приглашений в последнюю минуту брат короля Феодосия». При этом известии черты лица герцогини изобразили удовольствие, слова же ее выразили скуку: «Ах, боже мой, снова принцы!» — «Ну, этот мил и умен», — заметил Сван. «Ну, не вполне, — отвечала герцогиня с таким видом, точно подыскивала слова, чтобы придать больше новизны своей мысли. — Заметили вы, что самые милые среди принцев не совсем все же милые? Ну да, уверяю вас! Им непременно надо иметь мнение обо всем. А так как у них нет никаких мнений, то первую половину своей жизни они проводят, выспрашивая у нас наши мнения, а вторую — угощая нас ими. Им обязательно надо сказать, что вот это было исполнено хорошо, а вот это — не так хорошо. Между ними нет никакой разницы. Например, этот Феодосий младший (не помню его имени) однажды спросил меня, как называется такой-то оркестровый мотив. Я ему ответила, — проговорила герцогиня, блестя глазами и раскрывая свои красивые красные губы, чтобы звонко расхохотаться: — «Это называется оркестровым мотивом». Представьте себе, он остался недоволен. Ах, голубчик Шарль, — продолжала она, — какая это иногда бывает скука — званый обед! Бывают вечера, когда я предпочла бы умереть! Правда, умереть, может быть, тоже скучно, потому что не знаешь, что это такое». Вошел лакей. Это был молодой жених, не ладивший с консьержем до такой степени, что герцогиня, по доброте своей, сама восстановила между ними видимость мира. «Надо ли мне будет пойти к г-ну маркизу д'Осмону узнать о его здоровье?» — спросил он. «Ни в коем случае, ни шагу не делайте до завтрашнего утра! Я даже не хочу, чтобы вы оставались дома сегодня вечером. Ведь тогда стоит только лакею маркиза, вашему знакомому, прийти сюда и принести известие о здоровье своего барина, и вы отправитесь нас искать. Ступайте же, идите, куда вам угодно, кутните, можете не ночевать дома, я не желаю вас видеть здесь до завтрашнего утра». Бурная радость залила лицо лакея. Наконец-то он проведет несколько часов со своей невестой, которую ему почти не удавалось больше видеть с тех пор, как после нового столкновения с консьержем герцогиня ласково разъяснила, что лучше ему вовсе не выходить из дому во избежание дальнейших столкновений. Он плавал в блаженстве при мысли, что наконец-то в его распоряжении свободный вечер; герцогиня это заметила и поняла. У нее даже сердце сжалось и мурашки побежали по телу при виде этого счастья, которым бедняга собирался упиваться без ее ведома, украдкой от нее; раздражение и зависть овладели ею. «Нет, Базен, пусть он остается здесь, пусть шагу никуда не делает, напротив». — «Но ведь это нелепо, Ориана, все ваши люди сидят дома, кроме того в двенадцать часов придут еще горничная и костюмер одевать нас к балу. Он решительно ни для чего не нужен, и так как он один у нас в приятельских отношениях с лакеем Мама, то я предпочитаю выпроводить его вон». — «Послушайте, Базен, оставьте его, как раз сегодня вечером мне нужно будет передать с ним одну вещь, не знаю точно в котором часу. Смотрите же, ни на минуту не отлучайтесь», — приказала она опечаленному лакею. Если в доме все время шли ссоры и если прислуга герцогини держалась у нее недолго, то лицо, являвшееся виновником этой непрестанной войны, оставалось несменяемым, но то не был консьерж, хотя герцогине и доверяла ему тяжелые орудия для грубой работы, для более утомительных истязаний, для перебранок, кончающихся потасовками; впрочем, он исполнял свою роль, не подозревая, что она ему поручена. Как и все слуги, он восхищался добротой герцогини; получив расчет, недальновидные лакеи часто заходили к Франсуазе, говоря, что дом герцога был бы лучшим местом в Париже, если бы не швейцарская. Герцогиня играла на швейцарской, как играли долгое время на клерикализме, на масонстве, на еврейской опасности и т. д… Вошел лакей. «Почему мне не доставили пакета, присланного г-ном Сваном? А кстати (вы знаете, Шарль, что Мама очень болен) вернулся ли Жюль, которого посылали узнать о здоровье г-на маркиза д'Осмона?» — «Только что пришел, господин герцог. С минуты на минуту ждут кончины господина маркиза». — «Ах, он жив! — воскликнул герцог со вздохом облегчения. — Ждут, ждут! Экой вы плут! Пока человек жив, надежда не потеряна, — радостно проговорил он, обращаясь к нам. — Мне его расписывали уже покойником, зарытым в землю. Через неделю он будет молодцом хоть куда». — «Доктора сказали, что он не протянет дольше сегодняшнего вечера. Один из них хотел вернуться ночью. Так их шеф сказал, что незачем, господин маркиз будет уже покойником; если он еще жив, так только благодаря промываниям камфорным маслом». — «Замолчите, идиот, — крикнул герцог, вне себя от гнева. — Кто вас об этом спрашивает? Вы ничего не поняли из того, что вам было сказано». — «Не мне было сказано, а Жюлю». — «Замолчите вы или нет? — заревел герцог. — Какое счастье, он жив! — продолжал он, обращаясь к Свану. — Мало-помалу силы его восстановятся. Он остался жив после такого кризиса! Это уже добрый знак. Нельзя всего требовать сразу. А маленькое промывание камфорным маслом даже приятно». Герцог все более воодушевлялся: «Он жив, чего же еще желать? — говорил он, потирая руки. — После того, что он перенес, это уже очень хорошо. Позавидуешь даже такому темпераменту. Ах, эти больные! Они окружены такими заботами, которые и не снятся здоровым. Сегодня утром мой молодчина-повар приготовил мне жиго, на славу приготовил, нет спору, но именно поэтому я его столько съел, что до сих пор чувствую тяжесть в желудке. Тем не менее никто не приходит справляться о моем здоровье, как справляются о здоровье моего дорогого Аманьена. Слишком даже усердно справляются. Это его утомляет. Надо дать ему передохнуть. Его убивают, беднягу, посылая к нему каждую минуту». — «Постойте, — обратилась герцогиня к уходившему лакею, — я просила принести мне запакованную фотографию, которую прислал г. Сван». — «Госпожа герцогиня, пакет этот так велик, что не знаю даже, войдет ли он в дверь. Мы его оставили в вестибюле. Угодно госпоже герцогине, чтобы я его принес?» — «Нет, нет, мне надо было об этом сказать. Если это такая махина, то я сама спущусь посмотрю». — «Я забыл также доложить госпоже герцогине, что госпожа графиня Моле оставила сегодня утром карточку для госпожи герцогини». — «Как утром?» — недовольно сказала герцогиня, находя, что такой молодой женщине не пристало оставлять карточку утром. «Около десяти часов, госпожа герцогиня». — «Покажите мне эти карточки». — «Во всяком случае, Ориана, если вы говорите, что Мари возымела странную мысль выйти замуж за Жильбера, — проговорил герцог, возвращаясь к прежней теме, — то это у вас странная манера писать историю. Если кто сглупил в этом браке, так, конечно, Жильбер, женившись на такой близкой родственнице бельгийского короля, узурпировавшего титул герцога Брабантского, который принадлежит нам. Словом, мы той же крови, что и Гессены, но только старшей ветви. Всегда глупо говорить о себе, — продолжал он, обращаясь ко мне, — но, когда мы бываем не только в Дармштадте, но даже в Касселе и во всем курфюршестве Гессенском, все ландграфы всегда любезно уступают нам дорогу и первое место, так как мы старшая ветвь». — «Нет, Базен, вы мне не рассказывайте, что эта особа, которая была шефом всех полков у себя на родине, которую сватали за шведского короля… — «Ах, Ориана, это слишком сильно, можно подумать, вам неизвестно, что дедушка шведского короля пахал землю в По, когда мы уже девятьсот лет занимали почетное положение во всей Европе». — «Что не мешает тому, что если бы на улице крикнули: «Глядите, шведский король!» — все побежали бы посмотреть на него до самой площади Согласия, а если бы сказали: «Вот герцог Германтский», никто даже не знал бы, что это за человек». — «Вот так довод!» — «Кроме того я не могу понять, какие у вас права притязать на титул герцога Брабантского теперь, когда он перешел к бельгийскому королевскому роду».
Возвратился лакей с карточкой графини Моле или, вернее, с тем, что она оставила в качестве карточки. Сославшись на то, что карточек при ней нет, она достала из кармана полученное ею письмо, вынула его из конверта с надписью: «Графиня Моле», и загнула на конверте угол. Так как конверт был довольно велик, соответственно модному в том году формату бумаги для писем, то эта написанная от руки «карточка» почти вдвое превосходила обыкновенную визитную карточку. «Это так называемая простота г-жи Моле, — иронически сказала герцогиня. — Она хочет нас уверить, будто у нее нет визитных карточек, и показать свою оригинальность. Но мы всё это знаем, не правда ли, голубчик Шарль, мы уже люди немолодые и сами довольно оригинальные, чтобы раскусить мысли дамочки, всего четыре года как выезжающей в свет. Она прелестна, но все же по-видимому у нее довольно бедное воображение, если она думает удивить свет такими дешевыми средствами, как оставляя конверт вместо карточки и притом в десять часов утра. Ее старая мамаша покажет ей, что по этой части она знает не меньше дочки». Сван не мог удержаться от смеха при мысли, что герцогиня, немного, впрочем, завидовавшая успеху г-жи Моле, наверно придумает какой-нибудь дерзкий ответ в духе Германтов экстравагантной визитерше. «Что касается титула «герцог Брабантский», то я уже сто раз говорил вам, Ориана…» — начал было герцог, но герцогиня прервала его, не слушая: «Ах, милый Шарль, как я скучаю по вашей фотографии». — «A, extinctor draconis latrator Anubis», — сказал Сван. «Да, вы прелестно мне говорили об этом, сравнивая со святым Георгием Венецианским. Но я не понимаю, почему Анубис?» — «Это тот, что является предком Бабала?» — спросил герцог. «Я бы хотела видеть их всех», — сказала герцогиня. «Послушайте, Шарль, спустимся вниз и подождем, когда подадут карету, — сказал герцог, — вы продолжите ваш визит в вестибюле, а то ведь моя жена не даст вам покоя, пока не увидит вашей фотографии. Я не настолько нетерпелив, по правде сказать, — прибавил он с довольным видом. — Я человек спокойный, но она нас прямо уморит». — «Я вполне разделяю ваше мнение, Базен, — сказала герцогиня, — пойдем в вестибюль, мы знаем по крайней мере, почему мы выходим из вашего кабинета, между тем как мы никогда не узнаем, почему мы происходим от графов Брабантских». — «Я сто раз повторял вам, каким образом этот титул перешел в Гессенский дом, — сказал герцог (когда мы шли смотреть фотографии и я думал о фотографиях, которые Сван присылал мне в Комбре), — путем брака одного из Бра-бантов с дочерью последнего ландграфа Тюрингенского и Гессенского, так что скорее даже титул принца Гессенского перешел в дом Брабантов, чем титул герцога Брабантского в Гессенский дом. Кроме того вы помните, что нашим девизом был девиз герцогов Брабантских: «Лимбург тому, кто его завоевал», — мы даже заменили герб Германта гербом Брабанта, что, по-моему, было с нашей стороны оплошностью, и пример Грамонов неспособен переубедить меня». — «Ну, а так как завоевал его бельгийский король… — отвечала герцогиня. — Ведь бельгийский наследник носит титул герцога Брабантского». — «Но, милая моя, то, что вы говорите, не выдерживает критики и порочно в самом своем основании. Вы знаете не хуже меня, что есть титулы претендентов, которые сохраняются и в том случае, если территория занята каким-нибудь узурпатором. Например, король испанский тоже титулует себя герцогом Брабантским, подразумевая таким образом владение менее древнее, чем наше, но более древнее, чем владение бельгийского короля. Он называет себя также герцогом Бургундским, королем Западной и Восточной Индии, герцогом Миланским. Между тем он не владеет более ни Бургундией ни Индиями, ни Брабантом, как не владеем последним ни я ни принц Гессенский. Король испанский, наравне с австрийским императором, провозглашают себя королями Иерусалимскими, хотя ни тот ни другой Иерусалимом не владеют». Герцог вдруг замолчал, смущенный мыслью, что слово Иерусалим может быть неприятным Свану по случаю «пресловутого дела», но оправился и быстро продолжал: «То, что вы говорите по этому поводу, вы можете сказать и относительно всего прочего. Мы были герцогами Омальскими, между тем как это герцогство столь же правильно перешло во французский королевский дом, как Жуанвиль и Шеврез в дом Альберта. Мы не выдвигаем никаких притязаний на эти титулы, как мы не притязаем на титул маркиза де Нуармутье, принадлежавшего нам и вполне законно перешедшего к дому Ла Тремуй; но из того, что некоторые уступки имеют законную силу, не следует, чтобы это распространялось на все. Например, — обратился он ко мне, — сын моей невестки носит титул принца Агригентского, который достался нам от Иоанны Безумной, как титул принца Тарентского достался дому Ла Тремуй. Между тем Наполеон пожаловал титулом герцога Тарентского одного солдата, может быть, отличного вояку, однако император распорядился в данном случае тем, что было еще меньше в его власти, чем титул герцога де Монморанси во власти Наполеона III, потому что Перигор, которого последний пожаловал этим титулом, был по крайней мере по матери Монморанси, тогда как герцог Тарентский Наполеона I обладал этим титулом по воле Наполеона. Это не помешало Ше д'Эст-Анжу, задать вопрос прокурору империи, намекая на вашего дядю Конде, не подобрал ли император титул герцога де Монморанси во рвах Венсенского замка».
— «Послушайте, Базен, я с удовольствием последую за вами во рвы Венсенского замка и даже в Тарент. Кстати, милый Шарль, как раз об этом я хотела вам сказать, когда вы говорили о вашем Георгии Венецианском. Дело в том, что вы с Базеном намереваемся провести ближайшую весну в Италии и в Сицилии. Если вы поедете с нами, как от этого все выиграет! Я говорю не только об удовольствии видеть вас, но вы подумайте, если к этому присоединить все, что вы так часто рассказывали мне о следах нормандского завоевания и об остатках античности, вы подумайте, чем стало бы такое путешествие, сделанное в вашем обществе! Ведь даже Базен, что я говорю — даже Жильбер! — извлекли бы из него пользу, так как я чувствую, что меня заинтересовали бы даже притязания на корону Неаполя и тому подобные пустяки, если бы все это было рассказано вами в старых романских церквях или в деревушках, прилепившихся к откосам, как на картинках примитивов. Но давайте смотреть вашу фотографию. Распакуйте ее», — приказала герцогиня лакею. «Ради бога, Ориана, не сейчас! Вы рассмотрите это завтра», — взмолился герцог, которого повергли в ужас размеры фотографии. «Но мне хочется посмотреть вместе с Шарлем», — сказала герцогиня с неестественно жадной и тонко психологической улыбкой, ибо, желая быть любезной со Сваном, она говорила об удовольствии, с которым она посмотрела бы эту фотографию, как об удовольствии, с которым больной съел бы апельсин, или как если бы она одновременно затевала какую-нибудь проказу с друзьями и осведомляла своего биографа о лестных для себя вкусах. «Ну, хорошо, он придет к вам нарочно, — объявил герцог, которому супруга принуждена была уступить. — Вы проведете с ним три часа перед этой штукой, если это вам доставляет такое удовольствие, — сказал он иронически. — Где же, однако, вы поставите игрушку подобных размеров?» — «В моей комнате, я хочу, чтоб она у меня была перед глазами». — «О, сделайте одолжение, если она будет в вашей комнате, то я, пожалуй, никогда ее не увижу», — сказал герцог, не подумав, как легкомысленно разоблачает он таким образом отрицательный характер своих супружеских отношений. «Только, пожалуйста, будьте как можно осторожнее, — приказала герцогиня слуге (из любезности к Свану она не скупилась на предписания). — Не повредите также конверт». — «Смотрите, какое почтение даже к конверту, — сказал мне на ухо герцог, воздевая руки к небу. — Но, знаете, Сван, больше всего дивлюсь я, бедный прозаический муж, где вам удалось найти конверт таких размеров. Где вы раскопали такую махину?» — «В магазине фотогравюр, которому часто случается отправлять подобного рода пакеты. Какие однако там хамы, я вижу надпись: «Герцогиня Германтская» без «госпожа». — «Прощаю им, — рассеянно проговорила герцогиня, которой по-видимому внезапно пришла в голову какая-то забавная мысль, вызвавшая на губах ее легкую улыбку; она ее быстро подавила и обратилась к Свану: «Что же вы не отвечаете: согласны вы поехать с нами в Италию?» — «Я думаю, мадам, что это будет невозможно». — «Г-же де Монморанси больше повезло. Вы были с ней в Венеции и в Виченце. Она говорила, что с вами видишь вещи, которых иначе никогда бы не увидел, о которых никто никогда не говорил, что вы ей показали нечто невиданное даже в самых известных вещах, что она пришла в восторг от подробностей, перед которыми без вас двадцать раз прошла бы мимо, не заметив их. Положительно вы к ней более благосклонны, чем к нам… Вы возьмете этот большущий конверт из-под фотографии г-на Свана, — сказала она слуге, — и сегодня вечером в половине одиннадцатого снесете его к г-же графине Моле, загнув на нем угол от моего имени». Сван звонко расхохотался. «Мне все же хотелось бы знать, — спросила его герцогиня, — каким образом вы за десять месяцев знаете, что это будет невозможно?» — «Я вам скажу, дорогая герцогиня, если вы этого требуете, но ведь вы и сами видите, что я очень болен». — «Да, голубчик Шарль, вид у вас действительно очень неважный, я недовольна цветом вашего лица, но ведь я прошу вас поехать не через неделю, а месяцев этак через десять. А за десять месяцев можно вылечиться». В этот момент вошедший лакей доложил, что карета подана. «Ну-ка, Ориана, живо», — сказал герцог, уже топавший от нетерпения ногой, точно сам он был одним из коней, стоявших у подъезда. «Ну, говорите скорее, что вам помешает поехать в Италию?» — спросила герцогиня, вставая, чтобы попрощаться с нами. «А то, дорогой мой друг, что через несколько месяцев я уже буду покойником. По словам врачей, с которыми я советовался в конце прошлого года, болезнь моя, от которой я могу скончаться каждую минуту, ни в коем случае не подарит мне более трех или четырех месяцев жизни, и это еще максимум», — с улыбкой отвечал Сван в то время, как лакей отворял застекленную дверь вестибюля, чтобы выпустить герцогиню. «Что вы говорите?» — воскликнула герцогиня, останавливаясь на секунду по дороге к карете и поднимая красивые голубые глаза, меланхоличные, но исполненные неуверенности. Оказавшись первый раз в жизни между двумя столь различными обязанностями, как садиться в карету, чтобы ехать на званый обед, и выразить соболезнование умирающему, она не находила в кодексе светских приличий статьи, которая бы указывала, как ей следует поступить, и, не зная, чему отдать предпочтение, сочла долгом сделать вид, будто не верит самому существованию второй обязанности, чтобы со спокойной совестью повиноваться первой, требовавшей гораздо меньших усилий; словом, герцогиня подумала, что лучшим способом разрешения конфликта будет его отрицание. «Вы изволите шутить», — сказала она Свану. «Это была бы очаровательная шутка, — иронически отвечал Сван. — Не знаю, зачем я вам это говорю, до сих пор я никогда не заикался о своей болезни. Но так как вы меня спросили и так как я могу теперь умереть со дня на день… Однако прежде всего я не хочу, чтобы вы опоздали, у вас званый обед», — прибавил он, зная, что для его хозяев светские обязанности важнее смерти друга, и ставя себя из вежливости на их место. Но вежливость герцогини тоже давала ей смутно почувствовать, что обед, на который она направлялась, был для Свана менее важен, чем его собственная смерть. Вот почему, продолжая путь к карете, она опустила плечи, сказав: «Не думайте об этом обеде. Он не имеет никакого значения!» Однако слова ее привели в раздражение герцога, который воскликнул: «Послушайте, Ориана, перестаньте вы болтать и обмениваться иеремиадами со Сваном, вы ведь знаете, что у г-жи де Сент-Эверт принято садиться за стол ровно в восемь часов. Надо знать, чего хочешь, вот уже пять минут как лошади ждут. Извините, пожалуйста, Шарль, — сказал он, оборачиваясь к Свану, — но уже без десяти восемь. Ориана всегда опаздывает, а нам надо более пяти минут, чтобы доехать до мамаши Сент-Эверт».
Герцогиня Германтская решительным шагом направилась к экипажу и в последний раз простилась со Сваном. «Знаете, мы еще поговорим об этом, я не верю ни одному слову из того, что вы сказали, надо будет вместе потолковать. Вас глупым образом напугали, приходите завтракать, когда вам будет угодно (для герцогини все затруднения всегда разрешались завтраками), вы мне скажете ваш день и ваш час», — и, приподняв красную юбку, герцогиня поставила ногу на подножку. Она уже собиралась войти в карету, как вдруг герцог, увидев ее ногу, закричал диким голосом: «Ориана, что вы натворили, несчастная! Вы надели черные туфли! С красным платьем! Живо вернитесь и перемените их на красные, или лучше, — обратился он к лакею, — велите сейчас горничной госпожи герцогини принести красные туфли». — «Но ведь, друг мой, — тихонько отвечала герцогиня, смущенная тем, что Сван, выходивший со мной, но пожелавший пропустить карету вперед, слышал слова герцога, — мы опаздываем». — «Нисколько, времени у нас довольно. Сейчас только без десяти восемь. Нам не понадобится десяти минут, чтобы доехать до парка Монсо. Кроме того, что поделаешь, даже если мы задержимся до половины девятого, хозяйке нашей придется запастись терпением, не можете же вы ехать в красном платье и черных туфлях. Впрочем, мы будем не последние, — Сасенажи, вы знаете, никогда не приезжают раньше, чем без двадцати девять». Герцогиня поднялась в свою комнату. «Ну, что? — сказал нам герцог. — Бедные мужья, над ними всегда смеются, а между тем и они кое на что годятся. Без меня Ориана приехала бы обедать в черных туфлях». — «Это не плохо, — сказал Сван, — я тоже заметил черные туфли, но они меня ни капельки не шокировали». — «Я вам не возражаю, — отвечал герцог, — но все-таки элегантнее, когда туфли одного цвета с платьем. Кроме того, будьте спокойны, сейчас же по приезде она бы это заметила, и мне пришлось бы возвращаться за ее туфлями. Я сел бы за стол только в девять часов. Прощайте, деточки, — сказал он, мягко нас выталкивая, — уходите, пока Ориана еще не вернулась. Это не значит, что ей неприятно вас видеть. Напротив, ей это слишком приятно. Если она застанет вас здесь, то снова начнутся разговоры, а она и без того очень утомлена и приедет на обед мертвая. Кроме того, откровенно вам признаюсь, что я умираю от голода. Я плохо позавтракал сегодня утром, сойдя с поезда. Правда, соус беарнез был чертовски хорош, но все-таки я ни капельки не буду огорчен, то есть ни капельки, когда сяду за стол. Без пяти восемь! Ах, эти женщины! Из-за нее у нас обоих заболит живот. Жена моя совсем не так основательна, как это думают». Герцог нисколько не стеснялся говорить о жениных и собственных недомоганиях умирающему, ибо первые, больше его интересуя, представлялись ему более важными. Поэтому только благодаря хорошему воспитанию и веселому нраву, вежливо нас выпроводив, он оглушительно крикнул из дверей Свану, который был уже на дворе: «Послушайте, не придавайте значения всем этим глупостям докторов, какого чорта! Доктора — ослы. Вы крепче, чем Новый мост. Вы всех нас похороните!»
СОДОМ И ГОМОРРА
//«У женщин будет Гоморра,
и у мужчин будет Содом».
Альфред де Виньи//
Читателю уже известно, что задолго до того, как отправиться в этот день (день большого приема у принцессы Германтской) с только что описанным визитом к герцогу и герцогине, я подкарауливал их возвращение и, стоя на страже, сделал одно открытие, касающееся собственно г-на де Шарлюса, но настолько важное само по себе, что до сих пор, пока я не мог отвести ему достаточно места и изложить с должной обстоятельностью, я откладывал сообщение о нем. Как уже было сказано, я покинул чудесный наблюдательный пункт, так удобно устроенный под самой крышей, откуда взор охватывал пологую пересеченную местность, по которой шел путь до особняка Брекиньи и которая весело оживлялась на итальянский лад розовой башенкой сарая, принадлежащего маркизу де Фрекуру. Рассудив, что герцог и герцогиня могут с минуты на минуту вернуться, я счел более практичным расположиться на лестнице. Мне было немного жаль моей вышки. Но в этот час, когда уже перевалило за полдень, она не заслуживала сожалений, потому что все равно я не увидел бы, как утром, крошечных человечков с голландских картин, в которых обращались на расстоянии лакеи особняка Брекиньи и Трем, медленно поднимавшиеся по круче с метелками в руках, между широкими листами прозрачной слюды, которые так занятно выделялись на фоне красных отрогов. Не имея возможности производить геологические наблюдения, я занялся наблюдениями ботаническими и рассматривал через ставни окон, выходивших на лестницу, кустик и драгоценное растение герцогини, выставляемые во двор с той настойчивостью, с какой вывозят молодых людей брачного возраста; я желал узнать, залетит ли по воле провиденциального случая маловероятное насекомое и посетит ли томящийся покинутый пестик. Любопытство придавало мне все больше смелости, и я спустился до окна самого нижнего этажа, которое тоже было отворено и только прикрыто ставнями. Я отчетливо слышал собиравшегося уходить Жюпьена, который не мог заметить моей неподвижной фигуры за шторой. Вдруг я резким движением бросился в сторону, испугавшись, как бы меня не увидел г. де Шарлюс, который медленно переходил двор, направляясь к г-же де Вильпаризи, — постаревший в ярком свете, дня, седеющий, обросший жирком. Понадобилось недомогание г-жи де Вильпаризи (следствие болезни маркиза де Фьербуа, с которым барон рассорился на всю жизнь) для того, чтобы г. де Шарлюс сделал визит в этот час, может быть первый раз в жизни. Ибо со свойственной им оригинальностью Германты, вместо того, чтобы сообразоваться со светской жизнью, видоизменяли ее согласно своим личным привычкам (по их мнению, вовсе не обусловленным этой жизнью, и потому вполне достойным того, чтобы унизить перед ними столь ничтожную вещь, как светскость), — так, у г-жи де Марсант не было определенного дня, она принимала своих приятельниц каждое утро с десяти до двенадцати, барон же употреблял это время на чтение, на поиски старых безделушек и т. д. и делал визиты лишь между четырьмя и шестью вечера. В шесть он ехал в Жокей-Клуб или катался в Булонском Лесу. Через мгновение я снова отшатнулся, чтобы не быть замеченным Жюпьеном; это был час, когда бывший жилетник уходил на службу, с которой возвращался только к обеду и то не всегда, с тех пор как его племянница уехала вместе со своими ученицами в деревню кончать платье одной заказчице. После этого, сообразив, что никто не может меня увидеть, я решил больше не двигаться, чтобы не упустить, если бы совершилось чудо, прилета — на который почти не было надежды (столько требовалось преодолеть препятствий, воздвигаемых расстоянием и всевозможными опасностями) — насекомого, посланного издалека к девственному цветку, так давно уже томящемуся в ожидании. Я знал, что ожидание это было не более пассивным, чем у мужского цветка, тычинки которого самопроизвольно поворачивались, как бы приглашая к себе насекомое; точно так же стоявший здесь женский цветок, появись только насекомые, кокетливо изогнул бы столбики своих пестиков и, помогая крылатому гостю лучше в них проникнуть, незаметно проделал бы, подобно лицемерной, но пылкой девице, половину пути навстречу. Законы растительного мира сами подвластны законам более общим. Если для оплодотворения цветка обыкновенно требуется посещение насекомого, то есть занос семени с другого цветка, то это объясняется тем, что самооплодотворение, оплодотворение цветка самим собой, подобно повторным бракам в одной и той же семье, привело бы к вырождению и бесплодию, между тем как скрещивание, производимое насекомыми, придает следующим поколениям того же вида силу и крепость, которой не знали старшие его представители. Однако рост может оказаться слишком бурным, развитие вида может переступить положенные для него границы; тогда, как антитоксин предохраняет против болезни, как щитовидная железа регулирует нашу полноту, как поражение наказывает гордость, усталость — наслаждение и как сон приносит в свою очередь отдых от усталости, так редкий акт самооплодотворения поворачивает в назначенный срок винт в другую сторону, осаживает, снова вводит в норму слишком переступивший ее цветок. Размышления мои пошли по пути, который будет описан мной впоследствии, и я выводил уже из видимой хитрости цветов одно следствие относительно роли бессознательного в литературном произведении, как вдруг снова увидел г-на де Шарлюса, выходившего от маркизы. Барон провел у нее не больше нескольких минут. Может быть он узнал лично от маркизы или же от кого-нибудь из ее слуг, что г-же де Вильпаризи стало значительно лучше или, вернее, что недомогание ее вовсе прошло. В эту минуту, считая должно быть, что его никто не видит, г. де Шарлюс полузакрыл от солнца глаза и ослабил то напряжение лица, приглушил то искусственное возбуждение, которые поддерживались у него оживленным разговором и силой воли. Он был бледен как мрамор, крупный его нос и тонкие черты не получали более от властного взгляда чуждого им выражения, портившего красоту их формы; сделавшись теперь лишь одним из Германтов, барон был уже, казалось, мраморным изваянием Паламеда XV в притворе комбрейской церкви. Но родовые черты приобретали все же на лице г-на де Шарлюса некоторую более одухотворенную, а главное, более мягкую форму. Мне жаль было, что он обыкновенно искажал резкими выходками, неприятными странностями, злословием, суровостью, обидчивостью и заносчивостью, — жаль было, что он прикрывал напускной грубостью доброту и ласковость, которые так простодушно проступали на его лице, когда он вышел от г-жи де Вильпаризи. Жмурясь от солнца, барон, казалось, почти улыбался, я подмечал на его лице, представшем мне в спокойном и как бы натуральном состоянии, нечто столь сердечное, столь безоружное, что невольно подумал, как рассердился бы г. де Шарлюс, если бы узнал, что за ним наблюдают; ибо, глядя на этого человека, столь влюбленного в мужественность и столь ею чванившегося, человека, которому все мужчины казались отвратительно изнеженными, я вдруг подумал о женщине — столько женского было в эту минуту в чертах его, в выражении лица, в улыбке.
Я снова собирался отойти в сторону, чтобы он меня не заметил; я не успел этого сделать, да в этом не было и надобности. Какую картину увидел я! Во дворе нашего дома, где они наверное никогда не встречались (г. де Шарлюс приходил к Германтам только под вечер, в часы, когда Жюпьен был на службе), широко раскрыв зажмуренные до сих пор глаза, барон с необычайным вниманием рассматривал бывшего жилетника на пороге его лавочки, между тем как последний, внезапно застывший перед г-ном де Шарлюсом, приросший к порогу как растение, любовался дородностью стареющего барона. Но вещь еще более удивительная: когда поза г-на де Шарлюса изменилась, поза Жюпьена в то же мгновение, точно по законам некоего тайного искусства, согласовалась с ней. Барон, пытавшийся теперь замаскировать полученное впечатление, но, вопреки своему напускному равнодушию, с явным сожалением покидавший наш двор, начал прохаживаться взад и вперед, смотрел в пространство с таким расчетом, чтобы показать во всем блеске красоту своих глаз, словом, принял фатоватый, небрежный и смешной вид. Между тем Жюпьен, мигом скинув скромное и доброе выражение, которое я всегда знал у него, — в полном соответствии с движениями барона — задрал голову, приосанился, вызывающе подбоченился, выпятил зад, словом, кокетливо принял ту позу, какую могла бы принять орхидея по отношению к посланному ей счастливым случаем шмелю. Я не предполагал, что Жюпьен может быть таким антипатичным. Но я не подозревал также, что он способен импровизировать свою партию в этой немой сцене, которая (несмотря на то, что он впервые находился в присутствии г-на де Шарлюса) была как будто тщательно им разучена, — такого совершенства мы достигаем без подготовки, лишь встречая за границей соотечественника, с которым тогда столковываемся самостоятельно, так как язык у нас общий, хотя бы мы с ним никогда не виделись.
Сцена эта не была, впрочем, чисто комической, она исполнена была необычайности, или, если угодно, естественности, которая приобретала все больше красоты. Напрасно г. де Шарлюс принимал равнодушный вид, рассеянно опускал глаза, — по временам он их поднимал и бросал тогда на Жюпьена внимательный взгляд. Но (так как он очевидно думал, что подобная сцена не может продолжаться до бесконечности в этом месте, или по причинам, которые выяснятся впоследствии, или наконец благодаря чувству скоротечности всех вещей, в силу которого мы хотим, чтобы каждый удар попадал в цель, и которое придает такую трогательность зрелищу всякой любви) каждый раз, когда г. де Шарлюс взглядывал на Жюпьена, он заботился о том, чтобы взгляд его сопровождался какими-нибудь словами, что делало его совершенно не похожим на взгляды, обыкновенно направляемые на знакомых к незнакомых людей; барон смотрел на Жюпьена с пристальностью человека, собирающегося вам сказать: «Простите за нескромность, но на спине у вас висит длинная белая нитка», — или: «Я, кажется, не ошибаюсь, вы тоже из Цюриха, ведь это с вами я часто встречался в лавке антиквара». Так и взгляды г-на де Шарлюса, которые он через каждые две минуты бросал на Жюпьена, казалось, настойчиво задавали один и тот же вопрос, подобно тем бесконечно повторяющимся через равные промежутки вопросительным фразам Бетховена, назначение которых — ввести, путем чрезмерно роскошных приготовлений, новый мотив, перемену тональности или оставленную на время главную тему. Но красота взглядов г-на де Шарлюса и Жюпьена, напротив, обусловлена была как раз тем, что взгляды эти, по крайней мере временно, как будто не имели целью к чему-нибудь привести. Красоту эту я впервые увидел в действиях барона и Жюпьена. В глазах их обоих отражалось теперь небо, не Цюриха, а какого-то восточного города, имя которого, я еще не разгадал. Что бы ни сдерживало г-на де Шарлюса и жилетника, соглашение между ними, казалось, было уже заключено, и эти ненужные взгляды являлись чем-то вроде обрядовой прелюдии, подобной вечеринкам перед официальным объявлением свадьбы. Если обратиться к вещам более близким природе — а многочисленность наших сравнений тем более естественна, что один и тот же человек, стоит понаблюдать его в течение нескольких минут, оказывается последовательно человеком, человеком-птицей, человеком-насекомым и т. д., — то казалось, будто видишь двух птиц, самца и самку, причем самец пытался подойти ближе, самка же — Жюпьен — ни одним знаком не отвечала на эту уловку, но без удивления смотрела на своего нового друга с невнимательной пристальностью (прием этот казался ей по-видимому более волнующим и единственно полезным с той минуты, как самец сделал первый шаг), ограничиваясь лощением своих перьев. Но, должно быть, равнодушие в конце концов перестало удовлетворять Жюпьена; от этой уверенности в покорении сердца самца до возбуждения в нем охоты к преследованию и чувственного желания был один только шаг, и Жюпьен, решив отправиться на работу, вышел через ворота. Однако он два или три раза обернулся, прежде чем скрыться на улице, и вдогонку за ним, чтобы не потерять его след, поспешно бросился барон (самодовольно посвистывая и не забыв сказать «до свидания» полупьяному консьержу, который даже его не услышал, занятый потчеванием в задней комнате гостей). Как раз в то мгновение, когда г. де Шарлюс скрывался в воротах, жужжа как большой шмель, во двор влетел шмель настоящий. Кто знает, не его ли дожидалась столько времени орхидея, не приносил ли он ей столь редкую пыльцу, без которой она осталась бы девственной? Но я был отвлечен от наблюдения за полетом насекомого, потому что через несколько минут внимание мое направилось в другую сторону: возвращался Жюпьен (может быть за пакетом, который он потом унес и который позабыл захватить от волнения, вызванного появлением г-на де Шарлюса, а может быть по причине более естественной), а вслед за ним и барон. Последний, решив ускорить ход событий, попросил огня у жилетника, но сейчас же заметил: «Я прошу у вас огня, а между тем я забыл взять сигары». Законы гостеприимства одержали верх над правилами кокетства: «Войдите, вам дадут все, чего вы пожелаете», — сказал жилетник, на лице которого пренебрежение уступило место радости. Двери лавочки закрылись за ними, и я больше ничего не мог услышать. Я потерял из виду шмеля, я не знал, он ли то насекомое, которого надо было орхидее, но я больше не сомневался в том, что может произойти чудо соединения редчайшего насекомого с плененным цветком, когда г. де Шарлюс (я просто сравниваю провиденциальные случайности, каковы бы они не были, без малейших научных притязаний сопоставить некоторые законы ботаники с тем, что очень неудачно называется иногда гомосексуализмом), много лет приходивший в этот дом лишь в часы отсутствия Жюпьена, встретил наконец, благодаря недомоганию г-жи де Вильпаризи, бывшего жилетника, а вместе с ним счастливый случай, приберегаемый для людей типа барона одним из таких существ (они могут быть также, как читатель увидит в дальнейшем, несравненно моложе Жюпьена и красивее его), — встретил человека, предназначенного судьбой, чтобы и г-да де Шарлюсы могли получить свою долю наслаждения на нашей земле: человека, которому нравятся только пожилые мужчины.
Впрочем, только что мною сказанное я понял лишь через несколько минут, — настолько присуще действительности свойство быть невидимой, пока какая-нибудь случайность не обнаружит нам ее. Во всяком случае в ту минуту я был очень раздосадован тем, что не мог больше слышать разговор бывшего жилетника с бароном. Я заметил тогда сдававшуюся в наем лавочку, которая отделена была от лавочки Жюпьена тоненькой перегородкой. Чтобы попасть в нее, мне надо было только подняться в нашу квартиру, пройти на кухню, опуститься по черной лестнице до подвалов, добраться по ним вдоль всего двора до того места, где еще несколько месяцев назад столяр складывал свои материалы и где Жюпьен рассчитывал держать свой уголь, и подняться оттуда по нескольким ступенькам внутрь лавочки. Таким образом весь свой путь я проделал бы под прикрытием, никем не видимый. Это было самое благоразумное. Но я поступил иначе: я обогнул двор на открытом воздухе, пробираясь вдоль стен и стараясь остаться незамеченным. Если меня действительно никто не увидел, то думаю, что я обязан этим скорее случайности, чем моей предусмотрительности. Я усматриваю три возможных соображения, почему я избрал такой рискованный путь, когда переход по подвалам был вполне безопасен, — если вообще мною тогда руководили какие-нибудь разумные соображения. Прежде всего мое нетерпение. Затем, может быть, смутное воспоминание сцены в Монжувене, которую я наблюдал, спрятавшись под окном м-ль Вентейль. Действительно, вещи этого рода, когда мне случалось их наблюдать, бывали обставлены крайне неосторожно и фантастично, как если бы подобные откровения могли последовать лишь в результате какого-нибудь рискованного, хотя и совершенного украдкой поступка. Наконец, я едва осмеливаюсь признаться в третьем моем соображении, — столько в нем было ребяческого, — хотя, как мне кажется, оно бессознательно было решающим. Заинтересовавшись военными теориями Сен-Лу, я, чтобы их проверить — и вскрыть их противоречивость, — подробно изучил бурскую войну и кроме того перечитал старые рассказы об исследованиях девственных стран, о путешествиях. Рассказы эти увлекли меня, и я применял их в повседневной жизни, чтобы воспитать в себе мужество. Когда припадки болезни принуждали меня проводить много дней и много ночей сряду не только без сна, но также, без еды и питья, не позволяя разогнуться, — в минуты, когда изнеможение и боль делались настолько невыносимыми, что я боялся, что уже никогда не встану, в эти минуты я думал о каком-нибудь путешественнике, выброшенном на берег, отравленном вредными травами, дрожащем от холода, насквозь промокшем, который однако через два дня чувствует себя лучше и пускается куда глаза глядят на поиски местных жителей, хотя они, может быть, окажутся людоедами. Пример такого путешественника поднимал во мне силы, возвращал мне надежду, я стыдился минутного упадка духа. Думая о бурах, которые не боялись на виду у английских армий совершать переходы по открытой местности, добираясь до какой-нибудь заросли, я говорил себе: «Славно будет, если я окажусь более малодушным здесь, где театром действия является всего лишь двор нашего дома и где единственное оружие, которое может мне угрожать, — мне, несколько раз дравшемуся на дуэли во время дела Дрейфуса и не чувствовавшему никакого страха, — это взгляды соседей, слишком занятых, чтобы смотреть во двор».
Но, оказавшись в лавочке, где я старался ступать как можно осторожнее, чтобы не скрипнула половица, ибо до меня доносился малейший скрип из лавочки Жюпьена, я подумал, как все же были неосторожны Жюпьен и г. де Шарлюс и как благоприятствовал им случай.
Я не решался пошевелиться. Конюх Германтов, вероятно воспользовавшись их отсутствием, перенес в лавочку, где я находился, лестницу, до тех пор хранившуюся в сарае. Если бы я по ней поднялся, то мог бы открыть окошечко и тогда слышал бы все происходящее у Жюпьена. Но я боялся нашуметь. Да это было и лишнее. Мне не приходилось даже жалеть о нескольких потерянных на переход двора минутах. Ибо, судя по тем нечленораздельным звукам, которые в первое время доносились ко мне из лавочки Жюпьена, я полагаю, что они едва ли обменялись большим количеством слов. Наконец, по прошествии получаса (за это время я успел на цыпочках взобраться на лестницу к окошечку, которого не открывал) завязался разговор. Жюпьен энергично отказывался от денег, которые г. де Шарлюс хотел ему дать.
Через полчаса г. де Шарлюс собрался уходить. «Зачем вы бреетесь, — сказал жилетник с нежностью. — Это так красиво — окладистая борода». — «Фу, какая мерзость!» — отвечал барон. Однако он задержался на пороге, расспрашивая Жюпьена о разных лицах, живущих в этом квартале. «Вы ничего не знаете о торговце каштанами на углу, не налево, это урод, а направо — такой высокий смуглый парень? А что такое аптекарь напротив, у него очень милый велосипедист, который развозит лекарства». По-видимому эти вопросы неприятно задели Жюпьена, потому что, выпрямившись с досадой обманутой кокетки, он отвечал: «Вижу, что у вас сердце артишока». По-видимому г. де Шарлюс не остался равнодушен к этому упреку, произнесенному скорбным, холодным и жеманным тоном, так как, желая загладить дурное впечатление, произведенное его любопытством, барон обратился к Жюпьену, — слишком тихо для того, чтобы я мог разобрать его слова, — с какой-то просьбой, которая потребовала, вероятно, чтобы они остались еще на некоторое время в лавочке. Просьба эта, видно, тронула жилетника и заставила позабыть о своей обиде, так как он посмотрел на полное, налитое кровью лицо барона и его седеющие волосы с блаженным видом человека, самолюбию которого очень польстили; решив предоставить г-ну де Шарлюсу то, о чем тот его только что попросил, Жюпьен, после нескольких неблагопристойных замечаний, сказал барону, взволнованный, улыбающийся, с видом признательности и превосходства: «Что ж, идет, старый шутник!»
— «Если я возвращаюсь к вопросу о кондукторе трамвая, — продолжал г. де Шарлюс, упорно держась своей темы, — так потому, что, помимо всего прочего, это может представить некоторый интерес для обратного пути. В самом деле, я иногда снисхожу, подобно халифу, обходившему Багдад под видом простого торговца, последовать за какой-нибудь любопытной маленькой особой, силуэт которой меня позабавил». Здесь я подметил ту же вещь, которая была подмечена мной раньше у Бергота. Если бы последнему случилось когда-нибудь отвечать перед судом, он обратился бы не к фразам, способным убедить судей, но к тем берготовским фразам, которые ему невольно подсказывал бы литературный темперамент, так как он находил бы в них удовольствие. Равным образом г. де Шарлюс говорил с жилетником тем же языком, каким он говорил бы со светскими людьми своего круга, даже преувеличивая привычные ужимки, оттого ли, что робость, которую он старался побороть, толкала его к крайнему высокомерию, или же оттого, что, препятствуя ему владеть собой (мы чувствуем большее смущение в обществе человека не нашего круга), она его вынуждала разоблачать, обнажать свою природу, действительно надменную и немного тронутую безумием, как говорила герцогиня Германтская. «Чтобы не потерять ее из виду, — продолжал он, — я прыгаю, как школьный учитель, как молодой врач, в тот же трамвай, что и маленькая особа, о которой мы говорим в женском роде, только следуя обычаю (как о принцах говорят в среднем роде: «Как чувствует себя его высочество?»). Если особа пересаживается в другой трамвай, я беру, может быть с чумными микробами, невероятную вещь, называемую «пересадочным билетом», номер которого, хотя его вручают мне, не всегда бывает номером первым! Я меняю таким образом вагон до трех и четырех раз. Иногда я оказываюсь в одиннадцать часов на Орлеанском вокзале, и тут надо возвращаться! Хорошо еще, если это только Орлеанский вокзал! Но однажды, например, не имея возможности завязать разговор раньше, я докатил до самого Орлеана в одном из тех гнусных вагонов, где перед вашими глазами, между треугольниками изделий, называющихся «сетками», водружена фотография главных архитектурных шедевров области, обслуживаемой железной дорогой. Было только одно свободное место, и в качестве исторического памятника я принужден был любоваться «видом» орлеанского собора, самого безобразного во Франции; это было не менее утомительно, чем разглядывать башни этого собора в стеклянных шариках оптических ручек для перьев, от которых бывает воспаление глаз. Я вышел в Обре одновременно с моей юной особой, которую, увы, на перроне встречала ее семья (тогда как я предполагал у нее какие угодно недостатки, только не семью)! В ожидании обратного поезда мне оставалось утешаться домом Дианы де Пуатье. Хотя эта дама пленила одного из моих царственных предков, я все же предпочел бы какую-нибудь более живую красоту. Вот потому-то, чтобы было не так скучно возвращаться в одиночестве, мне хотелось бы познакомиться с каким-нибудь проводником спальных вагонов, с каким-нибудь кондуктором омнибуса. Впрочем, пусть это вас не шокирует, — заключил барон, — все это вопрос жанра. Что касается, например, светских молодых людей, то я не желаю никакого физического обладания, но я не бываю спокоен, пока я их не затрону, я не хочу сказать материально, нет, — пока я не затрону чувствительной их струны. Когда, вместо того чтобы оставлять мои письма без ответа, молодой человек непрестанно мне пишет, когда он морально в моем распоряжении, я успокаиваюсь, или по крайней мере я бы успокоился, если бы мое внимание не было тотчас поглощено другим. Любопытно, не правда ли? Кстати, по поводу светских молодых людей, тех, что ходят сюда, вы никого из них не знаете?» — «Нет, крошка. Впрочем, одного знаю, брюнет, очень высокий, с моноклем, он всегда смеется и оборачивается». — «Не понимаю, кого вы имеете в виду». Жюпьен дополнил портрет, но г. де Шарлюс так и не мог догадаться, о ком идет речь: он не знал, что бывший жилетник принадлежит к числу тех людей, более многочисленных, чем это кажется, которые не запоминают цвета волос малознакомых людей. Но для меня, знавшего эту слабость Жюпьена, портрет жилетника, стоило мне только подменить брюнета блондином, в точности воспроизвел герцога де Шательро. «Возвращаясь к молодым людям не из народа, — продолжал барон, — должен вам признаться, что в настоящее время мне вскружил голову один странный мальчик из интеллигентных буржуа, который поразительно невежливо ведет себя со мной. Он не имеет ни малейшего представления о расстоянии, отделяющем меня от такого микроскопического вибриона, как он. В конце концов, бог с ним, этот осленок может реветь сколько ему вздумается перед моей царственной епископской мантией». — «Епископской! — воскликнул Жюпьен, ничего не понявший из последних фраз г-на де Шарлюса, но озадаченный словом «епископский». — Но ведь это мало вяжется с религией». — «В моем роду было трое пап, — отвечал г. де Шарлюс, — и я имею право носить красную мантию на основании одного кардинальского титула, так как племянница моего двоюродного дяди кардинала принесла моему деду титул герцога, который перешел к наследникам. Я вижу, метафоры ничего вам не говорят, и вы равнодушны к истории Франции. Впрочем, — прибавил барон, не столько, может быть, в качестве заключения, сколько для осведомления, — притягательность в моих глазах молодых особ, которые от меня бегут, — из страха, разумеется, ибо единственно почтение мешает им закричать, что они меня любят, — эта притягательность требует от них выдающегося общественного положения. Но и при этих условиях их притворное равнодушие может все-таки произвести на меня диаметрально противоположное действие. Затягиваясь глупым образом, оно вызывает во мне отвращение. Вот вам пример, я беру его из лучше вам известного общественного класса. Чтобы не возбуждать ревности между всеми этими герцогинями, оспаривавшими друг у друга честь приютить меня на время, когда отделывали мой особняк, я прожил несколько дней в так называемом «отеле». Там у меня был знакомый коридорный, и я указал ему на любопытного маленького «курьера», закрывавшего дверцы экипажей, который упорно отвергал все мои предложения. В конце концов я рассердился и, желая доказать малышу, что намерения у меня чистые, пообещал ему до смешного крупную сумму за то только, чтобы он на пять минут зашел поговорить ко мне в комнату. Ожидания мои были напрасны. Тогда я проникся к нему таким отвращением, что выходил по черной лестнице, лишь бы только не видеть рожи этого негодного постреленка. Впоследствии я узнал, что он не получил ни одного моего письма, так как они были перехвачены, первое — коридорным, который был завистлив, второе — дневным консьержем, который был добродетелен, а третье — ночным консьержем, который любил юного курьера и коротал с ним час, когда всходила Диана. Но отвращение «мое от этого не стало меньше, и хотя бы мне подали негодного мальчишку на серебряном блюде, я бы с гадливостью его отверг. Но вот несчастье, мы с вами говорили о серьезных вещах, и теперь между нами кончено в отношении того, на что я надеялся. Однако вы можете оказать мне большую услугу, быть моим посредником; впрочем, одна эта мысль раззадоривает меня, и я чувствую, что еще ничего не кончено».
С самого начала этой сцены с г-ном де Шарлюсом на моих разверзшихся глазах молниеносно произошло такое полное превращение, точно кто прикоснулся к нему волшебной палочкой. До сих пор, оттого что я не понимал, я не видел. Порок (так говорится для удобства речи), порок сопровождает каждого подобно тому гению, который был для людей невидим, пока они не знали об его присутствии. Доброта, плутовство, имя, светские отношения не выходят наружу, все эти качества мы носим в себе скрытыми. Даже Одиссей не узнавал сначала Афину. Но боги сразу замечают богов, подобное мгновенно узнается подобным, г. де Шарлюс немедленно был узнан Жюпьеном. До сих пор я вел себя по отношению к г-ну де Шарлюсу, как рассеянный человек, который нескромно допытывается у беременной женщины: «Что с вами?» — не замечая ее отяжелевшей талии, между тем как она с улыбкой повторяет ему: «Да, сейчас я немного устала». Но достаточно кому-нибудь сказать: «Она в положении», — как он вдруг замечает ее живот и уже ничего больше не видит. Открывает глаза разум; рассеявшееся заблуждение наделяет нас новым органом чувства.
Лицам, не любящим ссылаться в качестве примера этого закона на господ Шарлюсов из числа своих знакомых, которых в течение долгого времени они ни в чем таком не подозревали, пока на одноцветной поверхности индивидуума, похожего на всех остальных, не проступают начертанные невидимыми до тех пор чернилами письмена, образующие дорогое древним грекам слово, — лицам этим стоит только вспомнить, сколько раз в своей жизни случалось им быть на волосок от совершения какой-нибудь бестактности, и тогда они убедятся в том, что окружающий их мир предстает им сначала голым, лишенным тысячи украшений, которые он являет существам более сведущим. Лишенное письмен лицо того или иного человека ничем не могло навести их на мысль, что он брат или жених, или любовник женщины, о которой они собирались сказать: «Какая стерва!» К счастью, мигнувший вовремя сосед останавливает у них на губах роковое восклицание. Тотчас появляются, как мане, текел, фарес, слова: он — жених, или: он — брат, или: он — любовник женщины, которую неудобно назвать при нем «стерва». И одно это новое представление повлечет за собой полную перегруппировку представлений, которые были у нас до сих пор об остальных членах этой семьи. Пусть с г-ном де Шарлюсом сочеталось другое существо, отличавшее его от прочих людей, как в кентавре с человеком сочетается лошадь, пусть существо это сливалось с бароном в одно целое, до сих пор я его никогда не замечал. Теперь же отвлеченность материализовалась, наконец уловленное существо утратило свою способность оставаться невидимым, и превращение г-на де Шарлюса в новое лицо оказалось настолько полным, что не только контрасты его лица и его голоса, но ретроспективно также все благородное и низменное в его отношениях со мной, все, что до сих пор казалось моему уму бессвязным, сделалось понятным, очевидным, подобно тому как фраза, лишенная всякого смысла, поскольку она разложена на беспорядочно расставленные буквы, выражает, если разместить эти буквы в должном порядке, определенную мысль, которую нельзя уже после этого забыть.
Больше того: я понимал теперь, почему сейчас, когда г. де Шарлюс выходил от г-жи де Вильпаризи, я мог найти в нем сходство с женщиной: он и был женщиной! Он принадлежал к породе тех вовсе не столь противоречивых, как это кажется, существ, идеал которых мужественный именно потому, что темперамент у них женский, которые в жизни только по внешности похожи на других мужчин; если в глазах, через которые преломляется все, что мы видим, каждый из нас носит силуэт, напечатленный на гранях наших зрачков, то у них это силуэт не нимфы, а эфеба. Порода, на которой тяготеет проклятие и которая должна жить во лжи и клятвопреступлении, так как знает, что ее желания, составляющие для каждой твари величайшую прелесть жизни, считаются вещью наказуемой и постыдной, в которой нельзя сознаться; порода, вынужденная отрекаться от своего Бога, ибо, даже будучи христианами, люди эти, когда их привлекают к суду, должны перед Христом и во имя его защищаться, как от клеветы, от того, что является самой их жизнью; сыновья без матери, которые принуждены ей лгать всю жизнь, даже закрывая ей на смертном ложе глаза; друзья без дружбы, несмотря на все дружеские чувства, нередко внушаемые их личным обаянием и живо ощущаемые их часто добрым сердцем; но можно ли назвать дружбой отношения, прозябающие лишь под покровом лжи, отношения, которым положит конец первый же порыв искренности и доверчивости; в такую минуту от них не отшатнется с отвращением разве только ум беспристрастный и даже сочувствующий, но и он, сбитый с толку условной психологией, выведет из порока, в котором ему признались, самую привязанность, в действительности ему совершенно чуждую, вроде того как некоторые судьи легче допускают и оправдывают убийство у людей с извращенными половыми наклонностями и предательство у евреев, выводя то и другое из первородного греха и расовой обреченности. Наконец, — по крайней мере согласно первоначальной теории, которую я набросал и которая впоследствии, как будет видно, подвергнется изменениям, теории, гласящей, что это их больше всего огорчало бы, если бы отмечаемое противоречие не было скрыто от их глаз самой иллюзией, двигавшей их зрением и жизнью, — любовники с почти закрытой для них возможностью той любви, надежда на которую дает им силу совершать столько рискованных шагов и выносить долгое одиночество, — ведь их прельщают как раз те мужчины, в которых нет ничего женского, мужчины не извращенные и, следовательно, неспособные их любить; таким образом желание их никогда бы не утолялось, если бы деньги не доставляли им настоящих мужчин, а воображение не выдавало в конце концов за настоящих мужчин людей им подобных, которым они продавались. Честные лишь в зависимости от случая, свободные лишь временно, пока не открыто их преступление; занимающие лишь неустойчивое положение в обществе, как тот поэт, которого накануне радушно принимали во всех лондонских салонах и встречали овациями во всех лондонских театрах, а на другой день выкинули даже из меблированных комнат, так что ему негде было главу преклонить и, подобно Самсону, он принужден был вращать мельничный жернов и говорить: «Оба пола умрут каждый на своей половине»; лишенные даже (кроме дней какого-нибудь большого несчастья, когда вокруг жертвы собирается толпа, как евреи собрались вокруг Дрейфуса) сочувствия — а то и общества — себе подобных, ибо людям такой породы противно видеть в них свое изображение, как в зеркале, беспощадно показывающем все изъяны, которых они не желали в себе замечать, и открывающем, что то, что они называли любовью (и к чему, играя словом, отнесли все, что поэзия, живопись, музыка, рыцарство, аскетизм когда-нибудь прилагали к любви), вытекает не из идеала красоты, ими избранного, а из неизлечимой болезни; тоже подобно евреям (исключая тех, которые не желают водиться ни с кем, кроме соплеменников, и у которых всегда на языке обрядовые слова и освященные обычаем шутки) избегающие друг друга, ищущие людей наиболее им противоположных, которые не хотят с ними знаться, прощающие этим людям их грубости и упивающиеся их благосклонностью; но также собирающиеся вокруг себе подобных вследствие остракизма, которому их подвергают, позора, которым их покрывают, и под конец вырабатывающие, вследствие гонений, подобных гонениям на евреев, целый ряд физических и душевных особенностей, иногда прекрасных, но чаще отвратительных, — находящие (несмотря на все насмешки, которыми тот, кто, лучше ассимилировавшись с обыкновенными людьми, с виду кажется менее извращенным, осыпает того, кто остался им в большей степени) своего рода успокоение в обращении с себе подобными и даже поддержку в их существовании, настолько, что, усердно отрицая свою принадлежность к этой породе (самое имя которой является для них величайшим оскорблением), они охотно разоблачают тех, кому удается это скрыть, не столько чтобы им повредить, хотя и этим они не гнушаются, сколько чтобы самим оправдаться, — отыскивающие извращенность, как врач аппендицит, даже в истории и с удовольствием напоминающие, что Сократ был одним из них, как, евреи говорят это про Христа, упуская из виду, что ненормальность не существовала в те времена, когда гомосексуализм был нормой, как до Христа не существовало противников христианства, что только позор создает преступление, ибо он позволил уцелеть лишь тем, в ком никакие проповеди, никакие примеры, никакие наказания не могли сломить врожденной наклонности, которая своей странностью сильнее отталкивает других людей (хотя она может сопровождаться высокими нравственными качествами), чем самые безнравственные пороки, вроде воровства, жестокости или недобросовестности, более понятные, а потому и более простительные с точки зрения обыкновенного человека; образующие своего рода масонскую ассоциацию, гораздо более обширную и деятельную, хотя и менее заметную, чем масонские ложи, ибо она основывается на тожестве вкусов, потребностей, привычек, опасностей, выучки, знания, действий, словаря, — ассоциацию, в которой даже те ее члены, что не желают знаться между собой, сразу узнают друг друга по естественным или условным знакам, вольным или невольным, выдающим нищему ему подобного в важном барине, которому он закрывает дверцу кареты, отцу — в женихе его дочери, человеку, пожелавшему лечиться, исповедаться или защищаться на суде, — в докторе, в священнике, в адвокате, к которым он обратился; вынужденные охранять свою тайну, но посвященные в тайну других, о которой остальные люди не подозревают и благодаря которой самые невероятные авантюрные романы кажутся им правдоподобными, ибо в их романической и анахроничной жизни посол оказывается приятелем каторжника, а принц, выйдя из салона герцогини, отправляется на свидание с апашем с непринужденностью, которую дает аристократическое воспитание и которой не нашлось бы у трепещущего маленького буржуа; отщепенцы, однако рассеянные повсюду, присутствие которых подозревают там, где их нет, но которые нагло и безнаказанно выставляют себя напоказ там, где о них никто не догадывается; насчитывающие единомышленников повсюду: в народе, в армии, в храмах, на каторге, на троне; живущие, наконец (по крайней мере в большом числе), в ласкающей и опасной близости с людьми другой породы, подзадоривающие их, в шутку заводящие с ними разговоры о своем пороке, как если бы они им не страдали, — игра, облегченная ослеплением или двоедушием их собеседников, игра, которая может длиться годы, пока не разразится скандал и эти укротители не окажутся растерзанными; все время принужденные скрывать свою жизнь, отворачиваться от того, на чем им хотелось бы сосредоточить свои взоры, и сосредоточивать их на том, от чего им хотелось бы отвернуться, менять в своем словаре род многих прилагательных — социальное принуждение, ничтожное по сравнению с принуждением внутренним, которое на них возлагает порок, или то, что неудачно называется пороком, уже не по отношению к другим, а по отношению к самим себе, так чтобы он им не казался пороком. Но некоторые, более практичные, более нетерпеливые, которым некогда ходить на рынок и которые не желают отказываться от упрощения жизни и выигрыша времени, создаваемых сотрудничеством, устраивают себе два общества, причем второе составляется исключительно из существ им подобных.
Это бросается в глаза у людей бедных, приехавших из провинции, без связей и без других ресурсов, кроме честолюбивого желания сделаться со временем знаменитым врачом или адвокатом, — у людей, чей ум еще не заполнен мнениями, а тело лишено манер, которыми они рассчитывают вскоре украситься, вроде того как они обзаведутся мебелью для своей комнаты в Латинском квартале по образцам, подмеченным у людей, уже сделавших карьеру на том полезном и почтенном поприще, на котором сами они собираются подвизаться и прославиться; особенный вкус этих людей, бессознательно заложенный в них, подобно способностям к рисованию и музыке или предрасположению к слепоте, является, может быть, единственным оригинальным их свойством, живучим и деспотическим; свойство это в иные вечера заставляет их пренебрегать полезной для их карьеры встречей с людьми, которым они подражают во всем прочем, перенимая их манеру говорить, думать, одеваться, причесываться. В своем квартале, где они бывают только у товарищей по школе, учителей и какого-нибудь устроившегося земляка-покровителя, эти приезжие вскоре обнаруживают других молодых людей, которых с ними сближает тот же особенный вкус, подобно тому как в провинциальном городке завязывают знакомство преподаватель лицея и нотариус, оказавшиеся оба любителями камерной музыки или средневековых изделий из слоновой кости; прилагая к предмету своего развлечения тот же практический инстинкт, тот же профессиональный дух, которые ими руководят в их карьере, они встречаются друг с другом в собраниях, куда закрыт доступ непосвященным, как на собрания любителей старых табакерок, японских гравюр или редких цветов, и где, благодаря приятности взаимоосведомления, полезности обменов и боязни конкуренции, царит одновременно, как на бирже почтовых марок, тесное соглашение специалистов и жестокое соперничество коллекционеров. Впрочем, никто в кафе, где у них свой стол, не знает, что это за собрание: общества ли рыболовов, секретарей редакции или уроженцев Эндра, — настолько корректны их манеры, настолько сдержанный и холодный у них вид, и так несмело, лишь украдкой, поглядывают они на модных молодых людей, светских «львов», которые в нескольких метрах от них шумят о своих любовницах, — и разве только через двадцать лет, когда одни будут завтра академиками, а другие — старыми завсегдатаями клубов, наши провинциалы узнают, что самый обаятельный среди блестящей молодежи, которой они восхищались, не смея поднять на нее глаза, — самый обаятельный из этих аристократов, теперь растолстевший и седеющий Шарлюс, был в действительности таков же, как и они, только принадлежал к другому миру, с другими внешними символами, другими признаками, что и ввело их в заблуждение. Но эти группировки бывают более и менее передовыми; как «Союз левых» отличается от «Социалистической федерации» и, скажем, Мендельсоновское музыкальное общество от Schola cantorum, так в иные вечера за другим столом появляются экстремисты, которые дают надеть себе браслет под манжету, иногда даже колье в разрез воротничка, которые своими упорными взглядами, своим кудахтаньем, своим смехом и взаимными ласками обращают в поспешное бегство кучку школьников, а прислуживающий им с подчеркнутой вежливостью и затаенным возмущением кельнер, как и в те вечера, когда ему приходится подавать дрейфусарам, с удовольствием кликнул бы полицию, если бы не рассчитывал на щедрые чаевые.
Таким профессиональным организациям разум противополагает наклонности отшельников, не прибегая к особенным натяжкам, так как тут он лишь подражает самим отшельникам, полагающим, что ничто так не отличается от организованного порока, как то, что им кажется непонятой любовью, но все же не обходясь без некоторых натяжек, ибо эти различные классы соответствуют не только разным физиологическим типам, но и последовательным моментам своеобразной патологической или только социальной эволюции. Действительно, редко бывает, чтобы рано или поздно отшельники не растворялись в подобных организациях, иногда просто от скуки, ради удобства (вроде того как наиболее упорно сопротивлявшиеся в конце концов ставят у себя телефон, принимают князей Иенских или покупают у Потена). Впрочем, их обыкновенно принимают довольно плохо, ибо при относительно чистой жизни недостаток опытности и чрезмерная мечтательность, которой они насыщены, явственнее обозначили в них специфические черты женской изнеженности, которые профессионалы постарались в себе изгладить. И надо признать, что у некоторых из этих новоприбывших женщина не только внутренне соединена с мужчиной, но отвратительно проступает наружу, например, когда они заливаются в истерическом припадке пронзительным смехом, от которого у них судорожно трясутся колени и руки; в такие минуты они похожи на мужчин не больше, чем мартышки с меланхолическим взором и синевой под глазами, одетые в смокинг и носящие черный галстук; словом, гораздо менее целомудренные профессионалы считают общение с этими новобранцами компрометирующим и допускают их с трудом; их принимают, однако, и тогда они пользуются всеми удобствами, при помощи которых торговля и крупные предприятия преобразили жизнь индивидуумов, сделали для них доступными товары, до тех пор очень дорого стоившие и даже с трудом добывавшиеся; теперь у них изобилие того, что в одиночку им не удавалось найти в самых больших толпах. Но даже при наличии этих бесчисленных предохранительных клапанов социальные стеснения слишком тяжелы еще для иных, — тех, что вербуются преимущественно среди людей, не привыкших стеснять своего воображения и считающих свойственный им род любви вещью более редкой, чем это имеет место в действительности. Оставим пока в стороне, тех, что, основываясь на своеобразии своих наклонностей, считают себя существами высшими, презирают женщин и обращают гомосексуализм в привилегию великих гениев и блестящих исторических эпох; присматриваясь, с кем бы разделить свою наклонность, они останавливаются не столько на тех, кто им кажется к этому предрасположенным, как это делает морфинист в отношении морфия, сколько на тех, кто им кажется достойным, они с жаром апостолов распространяют свои взгляды, как другие проповедуют сионизм, отказ от военной службы, сен-симонизм, вегетарианство и анархию. Иные, если их застаешь утром еще в постели, показывают вам изумительную женскую голову, — настолько выражение ее обобщенное и символизирует весь пол; даже волосы это подтверждают, они вьются так женственно, а рассыпавшись, так естественно падают косами на щеки, что при виде этой молодой женщины, этой молодой девушки, этой Галатеи, бессознательно пробуждающейся в мужском теле, в котором она заточена, диву даешься, с каким искусством, самостоятельно, ни у кого не учившись, сумела она воспользоваться малейшими выходами из своей темницы, найти все необходимое для своей жизни. Конечно, молодой человек, обладатель этой прелестной головы, не говорит: «Я — женщина». Если даже — а для этого столько найдется причин — он живет с женщиной, он может ей отрицать, что он женщина, может ей клясться, что он никогда не имел сношений с мужчинами. Но пусть она увидит его так, как мы только что его показали, лежащим на кровати, в пижаме, с обнаженными руками, с голой шеей, обрамленной черными волосами. Пижама обратилась в женскую кофту, голова молодого человека сделалась головкой хорошенькой испанки. Любовницу приводят в ужас эти немые признания, которые правдивее всяких слов и даже действий, хотя последние, если еще не подтвердили, не могут этого не подтвердить, ибо каждое существо поступает согласно своим вкусам, и если существо это не слишком порочно, то оно ищет наслаждения с противоположным полом. Для человека с извращенными наклонностями порок начинается не тогда, когда он завязывает сношения с женщинами (для этого у него может быть много причин), но когда получает с ними наслаждение. Молодой человек, которого мы попробовали нарисовать, — столь явная женщина, что женщины, взирающие на него с вожделением, обречены (если только сами они не обладают извращенным вкусом) на то разочарование, какое испытывают героини комедий Шекспира, обманутые переряженной девушкой, которая выдает себя за юношу. Обман — такой же, сам извращенный это знает, он догадывается о разочаровании, которое испытает женщина, когда снят будет маскарадный костюм, и чувствует, насколько это заблуждение насчет пола является источником поэтической фантазии. Стоит нам только увидеть его вьющиеся волосы на белой подушке, и мы можем быть уверены, что если этот молодой человек ускользнет вечером от своих родителей, вопреки их воле, вопреки собственной воле, то не для того, чтобы пойти к женщинам. Любовница может его наказывать, запирать на замок, на другой день мужеженщина найдет средство прильнуть к мужчине, как вьюнок выпускает свои усики всюду, где встречает мотыгу или грабли. Зачем же, восхищаясь на лице этого человека нежными чертами, которые нас трогают, восхищаясь в нем несвойственными мужчине фацией и любезностью, зачем нам огорчаться, узнав, что он ищет знакомства с боксерами? Ведь это различные аспекты одной и той же действительности. И тот, что нас отталкивает, даже наиболее трогателен, трогательнее всяких тонкостей, ибо он представляет достойное удивления бессознательное усилие природы: пол сам узнает себя, вопреки своей обманчивости, он бессознательно пытается добраться до того, что общество по ошибке поместило вдали от него. Одни из них, с детства очень робкие, мало интересуются материальной стороной получаемого ими удовольствия, лишь бы только они могли связать его с каким-нибудь мужским лицом. Другие же, люди более бурного темперамента, нуждаются непременно в локализации материального наслаждения. Эти последние, пожалуй, шокировали бы своими признаниями среднего человека. Пожалуй, они не живут всецело под спутником Сатурна, ибо для них женщины не исключены полностью, как для первых, для которых женщины не существовали бы, не будь разговоров, кокетства, головной любви. Но вторые ищут женщин, которые любят женщин, женщины могут свести их с каким-нибудь молодым человеком и повысить удовольствие, которое они чувствуют, находясь в его обществе; больше того, они могут получить с женщинами то же удовольствие, что и с мужчиной. Отсюда ревность может быть возбуждена в первых лишь удовольствием, которое они могли бы получить с мужчиной, одно только это удовольствие кажется им изменой, потому что любить женщину для них вещь чуждая, и если они этим занимались, то лишь в силу привычки и чтобы сохранить себе возможность брака, но они так слабо представляют себе удовольствие, которое он способен дать, что не могут страдать от того, что им наслаждается человек, которого они любят; между тем как вторые нередко возбуждают ревность своими любовными связями с женщинами. Ибо в отношениях с последними они играют для женщины, любящей женщин, роль другой женщины, и в то же время женщина дает им почти то же, что они находят у мужчины; таким образом ревнивый друг страдает, воображая себе своего возлюбленного в объятиях той, что является для него почти мужчиной, и вдобавок такому ревнивцу кажется, что его возлюбленный от него ускользает, так как для подобного рода женщин он является чем-то ему неведомым: разновидностью женщины. Не будем говорить о тех юных безумцах, которые из ребячества, чтобы подразнить своих друзей и шокировать своих родных, с каким-то ожесточенным упрямством наряжаются в костюмы, похожие на женские платья, красят себе губы и подводят глаза; оставим их в стороне, ибо, вложив слишком много усердия в свое кривлянье, они потом всю жизнь будут тщетно пытаться исправить суровой, протестантской манерой держать себя вред, который они себе принесли, увлеченные тем же демоном, что толкает молодых женщин из Сен-Жерменского предместья вести скандальный образ жизни, порывать со всеми обычаями, осмеивать своих родных, пока не наступает день, когда они с упорной настойчивостью, но безуспешно начинают снова взбираться на откос, спуск с которого им представлялся когда-то заманчивым, или, вернее, на котором они не в силах были удержаться. Отложим, наконец, на последующее тех, что заключили соглашение с Гоморрой. Мы скажем о них, когда с ними познакомится г. де Шарлюс. Оставим все вообще разновидности этой породы, которые появятся в свое время, и чтобы покончить с этим первоначальным наброском, скажем несколько слов лишь о тех, которых мы только что коснулись, — об отшельниках. Считая свой порок чем-то более необыкновенным, чем он есть в действительности, они живут в одиночестве со дня его открытия в себе, после того как долго его носили, сами того не зная, дольше во всяком случае, чем другие. Ибо первоначально никто не знает, что он человек с извращенными наклонностями, или поэт, или сноб, или злодей. Иной школьник, начитавшийся эротических стихов или насмотревшись непристойных картинок, прижимается к товарищу, воображая, что с ним его объединяет лишь общее желание женщины. Может ли ему прийти в голову, что он не похож на других, если сущность им испытываемого он узнает в произведениях г-жи де Лафайет, Расина, Бодлера или Вальтера Скотта, будучи в то же время еще слишком мало способным к самонаблюдению, чтобы отдать себе отчет в том, сколько он привносит в книги своего, и что, если чувство одинаково, то предметы его различны, что то, чего он желает, — Роб Рой, а не Диана Вернон? Многие из этих юношей, инстинктивно руководясь благоразумием, которое действует в них раньше, чем начнет видеть яснее ум, увешивают зеркало и стены своей комнаты карточками актрис; они сочиняют стихи, вроде следующих: «Люблю лишь Хлою, блондинку Хлою, я всей душою». Надо ли на этом основании приписывать им в отрочестве вкус, которого нельзя будет обнаружить у них впоследствии, как белокурых локонов у детей, сделавшихся впоследствии брюнетами? Кто знает, не являются ли эти карточки женщин началом лицемерия, а также началом отвращения к другим гомосексуалистам? Но как раз для отшельников лицемерие мучительно. Пожалуй, даже пример евреев, общины иного рода, не является достаточно сильным, чтобы пояснить, как мало власти имеет над ними воспитание и с каким искусством ухитряются они вернуться (к вещи, может быть, не столь ужасной, как самоубийство, к которому, несмотря ни на какие предосторожности, возвращаются помешанные, так что, будучи вытащены из реки, они травятся, достают себе револьвер и т. д.) к жизни, удовольствия которой кажутся людям другой породы непонятными, странными и отвратительными, а наполняющие ее опасности и постоянно сопровождающее ее чувство стыда привели бы их в ужас. Чтобы дать представление об этих людях, надо, пожалуй, обратиться если не к животным, не поддающимся приручению, к мнимо-домашним львятам, которые остаются львами, то по крайней мере к чернокожим, на которых наводят тоску удобства жизни белых и которые предпочитают им опасности дикой жизни и ее непостижимые прелести. Когда, наконец, наши отшельники обнаруживают свою неспособность лгать одновременно другим и самим себе, они поселяются в деревне, избегая себе подобных (они считают, что их немного) из отвращения к их уродливости или из страха впасть в соблазн, а остальных людей — из стыда. Они так никогда и не достигают настоящей зрелости, впадают в меланхолию и время от времени, в безлунные воскресенья, совершают прогулки до перекрестка, куда, не обменявшись с ними ни словом, выходит им навстречу один из друзей их детства, живущий в соседнем замке. И они возобновляют прежние игры, на траве, ночью, по-прежнему не говоря ни слова. Иногда они заходят друг к другу, разговаривают о том, о сем, не делая, однако, ни единого намека на ночные встречи, как будто между ними ничего не произошло и не повторится, самое большее в отношениях их можно подметить капельку холодности, иронии, раздражительности и злобы, а иногда ненависть. Затем сосед отправляется в трудное путешествие верхом, взбирается на муле на горные пики, ночует в снегу; друг его, отожествляющий свой порок со слабостью характера, с робостью и домоседством, понимает, что порок этот не в состоянии будет выжить в его эмансипированном приятеле в стольких тысячах метров над уровнем моря. Действительно, приятель его женится. Однако покинутый не вылечился (хотя, как видно будет из дальнейшего, половая извращенность в иных случаях излечима). Он непременно хочет получать утром на кухне свежие сливки прямо из рук молочника, а по вечерам, когда желания слишком волнуют его, забывается до того, что показывает пьяному дорогу и поправляет блузу слепому. Правда, жизнь некоторых извращенных иногда как будто меняется; порок (как его называют) не проявляется больше в их привычках; но ничто не пропадает бесследно: запрятанная драгоценность отыскивается; когда у больного уменьшается количество мочи, значит он сильнее потеет, словом, выделения совершаются по-прежнему. В один прекрасный день такой гомосексуалист теряет молодого родственника, и по его неутешному горю вы понимаете, что желания его переключились в эту любовь, очень может быть целомудренную, в которой он больше дорожил сохранением уважения, чем добивался обладания, — переключились, подобно тому как в бюджете, без изменения его в целом, некоторые расходы переводятся на другой отчетный год. Как бывает с больными, у которых приступ крапивной лихорадки временно прекращает обычные их недомогания, чистая любовь гомосексуалиста к молодому родственнику, по-видимому временно заменила в нем, путем метастаза, привычки, которые рано или поздно снова займут место вылеченной болезни, исполнявшей их должность.
Тем временем вернулся женатый сосед отшельника; красота молодой жены и нежное обращение с ней мужа в день, когда ему пришлось пригласить их к обеду, вызывает в нем чувство стыда за прошлое. Уже находящаяся в интересном положении молодая женщина вынуждена рано вернуться домой, оставив своего мужа; последний, когда пришло время прощаться, просит друга немного проводить его; друг соглашается, сперва ничего не подозревая, но, едва они достигают перекрестка, как альпинист, который скоро станет отцом, ни слова ни говоря, опрокидывает его в траву. И встречи между ними происходят по-прежнему, пока невдалеке не поселяется родственник молодой женщины, с которым теперь всегда гуляет муж. Когда же покинутый хочет вечером подойти к нему, тот в сердцах его отталкивает, негодуя, что у его приятеля нехватило такта догадаться об отвращении, которое он ему теперь внушает. Впрочем, однажды к отшельнику является незнакомец, присланный неверным соседом; но покинутый очень занят, он не может его принять и лишь впоследствии соображает, с какой целью приходил этот незнакомец.
Тогда отшельник томится в одиночестве. У него нет другого развлечения, как только ходить на соседнюю станцию морских купаний и спрашивать разные сведения у одного железнодорожного служащего. Но последний получил повышение, назначен на другой конец Франции; отшельник не может больше узнавать у него время отхода поездов, цену билетов первого класса, и прежде чем вернуться мечтать на свою башню, подобно Гризельде, он задерживается на пляже — точно странная Андромеда, которую не придет освободить никакой аргонавт, точно бесплодная медуза, которая погибнет на песке, — или лениво остается на платформе перед отходом поезда, бросая на толпу пассажиров взгляд, который людям другой породы покажется равнодушным, пренебрежительным или рассеянным, но — подобно свечению некоторых насекомых, чтобы привлекать к себе других насекомых того же вида, или подобно медовому соку, вырабатываемому некоторыми цветами, чтобы привлекать насекомых, которые их оплодотворят, — взгляд этот не обманет редкого любителя предложенного ему своеобразного удовольствия, которое так трудно бывает осуществить, собрата, с которым наш специалист мог бы поговорить на необычном языке; самое большее, проявит к нему притворный интерес какой-нибудь стоящий рядом оборванец, но лишь по чисто материальным соображениям, как те люди, которые приходят в Коллеж де Франс на лекции не имеющего слушателей профессора санскрита, но только для, того, чтобы погреться. Медуза! Орхидея! Когда я руководился только инстинктивным чувством, медузы были мне противны в Бальбеке; но если бы я умел на них смотреть как Мишле, с естественно-исторической и эстетической точки зрения, я бы увидел в них прелестные лазурные канделябры. Разве они, со своими прозрачными бархатными лепестками, не являются как бы лиловыми орхидеями моря? Подобно стольким существам животного и растительного царства, подобно растению, которое произвело бы ваниль, но, оттого что женский и мужской органы разделены у него перегородкой, остается бесплодным, если колибри или особого вида пчелки не переносят пыльцу с одних органов на другие или если их не оплодотворяет искусственно человек, г. де Шарлюс (слово оплодотворение должно быть взято здесь в духовном смысле, потому что в смысле физическом соединение самца с самцом бесплодно, но для индивидуума не безразлична возможность встретить единственное удовольствие, которым он способен насладиться, не безразлично, «чтобы каждое существо на земле» могло дарить кому-нибудь «свою музыку, свои пламень или свой запах») — г. де Шарлюс принадлежал к числу тех людей, которых можно назвать исключительными, потому что, как их ни много, удовлетворение их половых потребностей, столь легкое для других, зависит в данном случае от сочетания многих условий, встречающихся очень редко. Для людей, подобных г-ну де Шарлюсу (и то лишь при известных компромиссах, которые мало-помалу раскроются и которые уже можно было предугадать, компромиссах, обусловленных потребностями удовольствия, готового мириться и с полусогласием), взаимная любовь, помимо больших, иногда непреодолимых затруднений, которые она встречает у обыкновенных людей, натыкается еще на затруднения столь специальные, что вещь вообще очень редкая в жизни каждого становится для них почти невозможной; таким образом, если им удается действительно счастливая встреча, или которую природа изображает им счастливой, то счастье их, гораздо больше еще, чем у нормальных влюбленных, представляется чем-то необычайным, провиденциальным, глубоко необходимым. Ненависть Капулетти и Монтекки была ничто по сравнению со всякого рода препятствиями, которые были преодолены, и специальными стеснениями, которым подвергла природа и без того редкие сочетания условий, приводящие к любви, прежде чем бывший жилетник, собравшийся рассудительно идти на службу, заколебался, ослепленный жиреющим пятидесятилетним бароном; эти Ромео и Джульетта справедливо могут считать, что любовь их не минутный каприз, а в подлинном смысле предопределена гармонией их темпераментов, не только их личных, но также темпераментов их предков, их наследственностью, настолько, что существо, с ними соединяющееся, принадлежит им еще до рождения, их притянула к нему сила, сравнимая с той, что управляет мирами, на которых протекли наши предшествующие существования. Г. де Шарлюс отвлек мое внимание от шмеля, и я не знал, принес ли он орхидее пыльцу, которую та давно ждала, но имела шанс получить лишь благодаря такой редкой случайности, что ее можно было назвать своего рода чудом. Однако встреча, которую я только что наблюдал, тоже была чудом и не менее удивительным. Как только я взглянул на нее с этой точки зрения, все в ней показалось мне исполненным красоты. Самые диковинные хитрости, на которые пускается природа, чтобы принудить насекомых к оплодотворению цветов, без этих насекомых обреченных на бесплодие, потому что мужской орган слишком удален у них от женского, а если переносить пыльцу должен ветер, устраивающая так, чтобы она легче отделялась от мужского цветка и улавливалась налету женским цветком, упраздняющая выделение медового сока, теперь бесполезного, так как не требуется привлекать насекомых, уничтожающая также притягательную для них яркую окраску цветочных венчиков и, чтобы приберечь цветок для нужной ему пыльцы, которая только и может оплодотворить его, заставляющая этот цветок выделять жидкость, которая делает его невосприимчивым к другим видам пыльцы, — все эти хитрости казались мне не более поразительными, чем существование разновидности извращенных, назначенной природой доставлять удовольствия любви стареющим мужчинам: разновидности, которую привлекают не все мужчины, но — в силу соответствия и гармонии, подобных тем, что определяют оплодотворение гетеростильных триморфных цветов, вроде lythrum salicoria, — лишь мужчины значительно старше их. Впрочем, Жюпьен являлся менее разительным экземпляром этой разновидности, чем другие, которых, несмотря на их редкость, каждый собиратель человеческих растений, каждый ботаник людской породы может наблюдать в образе хрупкого юноши, ждущего предложений от дюжего толстеющего мужчины пятидесяти лет и остающегося столь же равнодушным к предложениям своих сверстников, как остаются бесплодными двуполые цветы с коротким пестиком primula veris, если они принимают пыльцу других primula veris тоже с коротким пестиком, между тем как их всегда оплодотворяет пыльца primula veris с длинным пестиком. Что же касается г-на де Шарлюса, то впоследствии я пришел к выводу, что для него существовали различные виды соединений, причем некоторые из них по своей многочисленности, по своей едва уловимой мгновенности и особенно по отсутствию контакта между двумя действующими лицами чрезвычайно напоминали те цветы, что оплодотворяются в саду пыльцой соседнего цветка, с которым они никогда не войдут в соприкосновение. В самом деле, бывали люди, которых ему достаточно было пригласить к себе, продержать несколько часов под властью своего слова, чтобы его желание, вспыхнувшее во время какой-нибудь встречи, было утолено. Соединение при помощи одних только слов совершалось так же просто, как оно может совершаться у инфузорий. Иногда, как это, вероятно, случилось во время свидания со мной в тот вечер, когда он меня вызвал к себе после обеда у Германтов, желание его утолялось гневным выговором, который барон бросал в лицо посетителя, как некоторые цветы при помощи особого аппарата обрызгивают на расстоянии озадаченное насекомое, бессознательно делающееся их сообщником. Превращаясь из порабощенного в поработителя, г. де Шарлюс чувствовал себя очищенным от своего возбуждения и успокоившимся, он отсылал гостя, который сразу утрачивал для него всякую прелесть. Наконец, поскольку извращение проистекает от того, что извращенный слишком похож на женщину, чтобы иметь с ней полезные сношения, оно подчиняется более общему закону, в силу которого столько двуполых цветов остается неоплодотворенными, — закону бесплодности самооплодотворения. Правда, в поисках самца гомосексуалисты часто довольствуются таким же, как и они, женоподобным существом. Им достаточно, чтобы существо это не было существом женского пола, эмбрион которого они в себе носят, не будучи в состоянии им пользоваться; подобная вещь наблюдается у большого количества двуполых цветов и даже у некоторых двуполых животных, вроде улитки, которые не могут оплодотворить себя сами, но могут быть оплодотворены другими гермафродитами. Тем самым гомосексуалисты, любящие ссылаться на Древний Восток или на золотой век Греции, оказываются отнесенными еще дальше вглубь веков, в те «пробные» эпохи, когда не существовало ни двудомных цветов, ни однополых животных, к изначальному гермафродитизму, следы которого как будто сохраняют рудименты мужских органов в анатомии женщины и женских органов в анатомии мужчины. Непонятная сначала мимика Жюпьена и г-на де Шарлюса заинтересовала меня, как те приманки, которыми привлекают насекомых, по мнению Дарвина, не только так называемые сложноцветные растения, вздымающие цветочки своих головок, чтобы их было видно издали, но и те гетеростильные, которые выворачивают свои тычинки и загибают их, чтобы очистить дорогу насекомым, или те, что предлагают им омовение, а то и просто привлекают насекомых запахом своего сока или яркой окраской своих венчиков, вроде цветов растения, стоявшего в эту минуту на дворе. С этого дня г-ну де Шарлюсу пришлось переменить час своих визитов к г-же де Вильпаризи, не потому, что он не мог видеть Жюпьена в другом месте и в более удобной обстановке, но потому, что, как и для меня, с его воспоминанием, вероятно, связались послеполуденное солнце и цветы выставленного во дворе растения. Кроме того, г. де Шарлюс не ограничился рекомендацией Жюпьенов г-же де Вильпаризи, герцогине Германтской и целому кругу блестящих заказчиц, которые тем усерднее принялись ухаживать за молодой вышивальщицей, что кое-кто из не откликнувшихся или не сразу откликнувшихся дам подверглись жестокому гонению со стороны барона, чтобы другим было не повадно — или потому что они привели барона в бешенство своим сопротивлением его властным затеям: он устроил Жюпьена на доходное место и в заключение взял его себе секретарем на условиях, о которых будет сказано дальше. «Вот счастливец этот Жюпьен», — говорила Франсуаза, у которой была наклонность преуменьшать или преувеличивать благодеяния, смотря по тому, ей ли их оказывали или другим. Впрочем, в данном случае она не испытывала потребности преувеличивать, как не испытывала и зависти, потому что искренно любила Жюпьена. «Ах, какой это добрый человек барон, — такой хороший, такой набожный, такой порядочный. Если бы у меня была дочка на выданье и я была из богачей, я бы отдала ее за барона с закрытыми глазами». — «Однако, Франсуаза, — мягко замечала мама, — у этой дочери был бы не один муж. Вспомните, что вы уже обещали ее Жюпьену». — «Ну, что ж, — отвечала Франсуаза, — это тоже человек, который сделал бы женщину счастливой. Богатый ли будет негодяй или бедный, разницы никакой нет. А барон и Жюпьен одной породы люди, оба хорошие». Впрочем, пораженный открывшимся мне зрелищем, я тогда сильно преувеличил исключительный характер такого редкостного соединения. Конечно, люди, подобные г-ну де Шарлюсу, — существа необыкновенные, так как, если они не идут на компромиссы с жизнью, то ищут главным образом любви мужчин другой породы, то есть мужчин, любящих женщин (которые, следовательно, не могут их полюбить); однако в противоположность тому, что я думал во дворе, где Жюпьен вертелся вокруг г-на де Шарлюса, делая ему авансы, как орхидея шмелю, эти исключительные существа, которых жалеют, вовсе не редкость, их — толпы, как это будет видно из дальнейших частей этого произведения, по причине, которую мы раскроем лишь в конце, — да и сами они жалуются скорее на то, что их слишком много, а не на то, что их мало. Ибо два ангела, поставленные, как говорится в Книге Бытия, у ворот Содома, чтобы узнать, точно ли жители его поступали так, каков был вопль на них, дошедший до Всевышнего, эти два ангела были, чему можно только порадоваться, очень плохо выбраны Господом, который должен был поручить это дело какому-нибудь содомлянину. Такие оправдания: «Я — отец шести детей, у меня две любовницы», — не заставили бы его доброжелательно опустить огненный меч и смягчить кару; он бы отвечал: «Да, и жена твоя терзается муками ревности. Но даже когда эти женщины выбираются тобой не в Гоморре, ты проводишь ночь с пастухом стад Хеврона». И он бы немедленно вернул его в город, обреченный на истребление огненным и серным дождем. Между тем позволено было бежать всем стыдливым содомлянам, и даже если, заметив какого-нибудь юношу, они оборачивались, подобно жене Лота, то не были обращены за это, как она, в соляные столпы. И вот от них осталось многочисленное потомство, у которого движение это сделалось привычным, подобно жесту развратных женщин, которые, делая вид, будто они рассматривают выставку обуви, размещенной за витриной, косятся на проходящего мимо студента. Эти потомки содомлян, столь многочисленные, что к ним можно приложить другой стих из Книги Бытия: «Если кто может сосчитать песок земной, то потомство твое сочтено будет», — расселились по всей земле, получили доступ ко всем занятиям и с такой легкостью проникают в самые закрытые клубы, что, когда какого-нибудь содомлянина туда не допускают, большинство черных шаров ему кладут содомляне же, которые всячески стараются осудить содомию, унаследовав от предков своих ложь, позволившую им уйти из проклятого города. Возможно, что они когда-нибудь туда вернутся. Во всех странах они образуют некую восточную колонию, просвещенную, музыкальную, злоречивую, обладающую пленительными достоинствами и отвратительными недостатками. Более углубленное представление о них дано будет на следующих страницах; но мы хотели уже здесь предотвратить пагубную оплошность, заключающуюся в поощрении содомистского движения вроде того, как поощряют движение сионистов, и в намерении отстроить заново Содом. Ведь, едва туда прибыв, содомляне покинут город, чтобы не иметь вида людей, живущих в нем, возьмут жену и будут содержать любовниц в других городах, где, впрочем, они найдут все подходящие развлечения. Они будут отправляться в Содом лишь в дни крайней необходимости, когда город их запустеет, в такие времена, когда голод гонит волка из леса, иными словами, все будет происходить в общем так, как происходит это в Лондоне, в Берлине, в Риме, в Петрограде или в Париже.
Во всяком случае в тот день, перед моим визитом к герцогине, я так далеко не загадывал и был огорчен тем, что, уделив столько внимания союзу Жюпьен — Шарлюс, упустил, может быть, зрелище оплодотворения цветка шмелем.
Примечания
1
Bac — по-французски значит паром (прим. пер.).
(обратно)2
Непереводимый каламбур. Французское слово taquin (задира), напоминает Tarquin (Тарквиний) — имя одного из римских царей, прозванного Гордым (прим. пер.).
(обратно)3
Истребитель драконов ваятель Анубис (пер. с лат.)
(обратно)
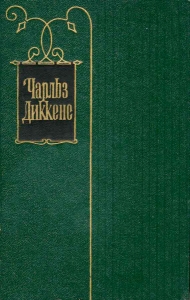


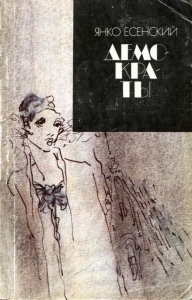
Комментарии к книге «Германт», Марсель Пруст
Всего 0 комментариев