ПИСЕЦ БАРТЛБИ. Уолл-стритская повесть
Я человек уже немолодой. По роду моих занятий мне за последние тридцать лет довелось близко познакомиться с любопытным и довольно-таки своеобычным разрядом людей, о которых, сколько мне известно, ничего до сих пор не написано. Я имею в виду писцов, то есть переписчиков судебных бумаг. Я знавал их великое множество, как по должности, так и в частной жизни, и при желании мог бы рассказать не одну историю, которая вызвала бы у благодушных людей улыбку, а у чувствительных женщин — слезы. Однако я оставляю в стороне биографии всех других писцов ради нескольких страниц из жизни Бартлби — самого странного писца, какого я видывал или о каком слыхивал на своем веку. Что касается других, я мог бы дать их полное жизнеописание, но с Бартлби об этом и думать нечего. Полную биографию этого человека просто не из чего сложить. Это — непоправимая утрата для литературы. Бартлби был одним из тех людей, о которых ничего нельзя установить с точностью, разве что из документальных источников, а таковые в данном случае почти отсутствуют. О Бартлби я знаю только то, что, к великому моему удивлению, видел собственными глазами, если, впрочем, не считать одного непроверенного слуха, о котором речь пойдет в своем месте.
Прежде нежели познакомить читателя с Бартлби, каким я впервые увидел его, мне следует сказать несколько слов о себе, о моих служащих, моем деле, моей конторе и всей обстановке, меня окружающей: без такого описания главное действующее лицо моего рассказа может оказаться вовсе непонятным.
Итак, я — человек, с молодых лет проникшийся твердым убеждением, что из всех путей в жизни предпочтительнее самый спокойный. А поэтому, хотя представители моего сословия и вошли в поговорку как люди деятельные и нервозные, а порою даже неуравновешенные, сам я превыше всего ценю и оберегаю свой душевный покои. Я — один из тех скромных, не зараженных честолюбием юристов, которые никогда не выступают в суде, не гоняются за рукоплесканиями, но в прохладной тишине своей солидной конторы ведут солидные дела богатых людей — устанавливают право собственности, составляют купчие и закладные. Все, кто меня знает, считают меня самым надежным человеком. Покойный Джон Джейкоб Астор,[1] личность, заведомо чуждая поэтических восторгов, решительно заявил однажды, что первое мое великое достоинство — осмотрительность, а второе — методичность. Говорю это не из тщеславия, а лишь отмечая то обстоятельство, что покойный Джон Джейкоб Астор тоже пользовался моими услугами. Сознаюсь, мне приятно повторять это имя — в нем есть что-то законченное, округлое, напоминающее звон золотых монет. Охотно добавлю, что доброе мнение покойного Джона Джейкоба Астора для меня в высшей степени лестно.
Незадолго до того времени, когда начинается эта история, круг моих занятий значительно расширился. На меня была возложена старинная и благородная должность, ныне отмененная в штате Нью-Йорк, — должность члена совестного суда,[2] не слишком обременительная, однако же приносившая весьма приятный доход. Я редко выхожу из себя; еще реже даю я волю опасному возмущению всяческим злом и беззаконием; но здесь я позволю себе некоторую резкость и прямо скажу, что столь неожиданную отмену должности члена совестного суда по новой конституции считаю, черт возьми, мерой преждевременной: ведь я рассчитывал пожизненно получать с нее доход, пользовался же этим доходом всего каких-то несколько лет. Но это между прочим.
Контора моя помещалась на Уолл-стрит, в доме под номером **. С одной стороны окно ее выходило в просторный белый колодец со стеклянной крышей, прорезавший все здание сверху донизу. Можно, конечно, сказать, что вид из этого окна был скучноватый; художник-пейзажист сказал бы, что в нем «мало жизни». Но недостаток этот сторицею возмещался видом, открывавшимся из моей конторы в противоположную сторону. Здесь перед окнами расстилался ничем не заслоненный вид на высокую кирпичную стену, почерневшую от времени и никогда не освещаемую солнцем; для того чтобы рассмотреть все ее красоты, не требовалось даже подзорной трубы, ибо воздвигнута она была, для удобства близоруких зрителей, на расстоянии десяти футов от моих окон. А поскольку окружающие здания были весьма высокие, моя же контора помещалась всего на втором этаже, то пространство между этой стеной и нашим домом сильно напоминало огромный квадратный ствол шахты.
В пору, предшествовавшую появлению Бартлби, у меня служили два переписчика и подающий надежды мальчик на побегушках: Индюк, Кусачка и Имбирный Пряник. Могут возразить, что таких имен не найти ни в одном справочнике. Но это и были не имена, а клички, которые трое моих служащих дали друг другу, тем самым, как им казалось, определяя наружность или нрав каждого из них. Индюк был низенький толстенький англичанин примерно одного со мною возраста, то есть лет около шестидесяти. По утрам лицо его, можно сказать, радовало своим здоровым румянцем, но после полудня — в этот час он обедал — оно пылало, как угли в камине на рождество, и продолжало пылать, хотя и все менее жарко, до шести часов вечера, после чего я уже не видел обладателя этого лица, которое, достигая своего зенита вместе с солнцем, как будто с ним вместе и закатывалось, а на следующий день опять всходило, поднималось и клонилось к закату во всей своей непреходящей славе. Мне довелось наблюдать в жизни немало странных совпадений, среди которых не последним было, что именно с той минуты, когда красная, блестящая физиономия Индюка начинала излучать самое жаркое сияние, ценность его как работника значительно убывала на все остальное время суток. И не то чтобы он начинал бездельничать или отлынивать от работы. Напротив того, скорее он проявлял излишнее рвение. Им овладевала какая-то странная, лихорадочная, суетливая, бесшабашная жажда деятельности. Он макал перо в чернильницу, не глядя, что делает. Все кляксы, какие он посадил на моих бумагах, были посажены после полудня. Мало того. После полудня он не только забывал об осторожности и сажал кляксы, но порой шел дальше — поднимал шум. И лицо его в такие дни пылало жарче обычного, словно бы поверх антрацита насыпали еще кеннельского угля. Он со стуком переставлял свой стул, опрокидывал песочницу; принимаясь чинить перья, от нетерпения расщеплял их и в запальчивости швырял на пол; вставал и, наклонившись над своим столом, ворошил и расшвыривал бумаги, что уж вовсе не пристало такому пожилому человеку. Однако ж, поскольку был он во многих отношениях мне полезен и с утра до полудня писал не отрываясь и весьма быстро, так что успевал сдать очень много работы, притом безупречно выполненной, — по всем этим причинам я смотрел сквозь пальцы на его чудачества, хотя подчас и выговаривал ему. Делал я это, впрочем, очень мягко, потому что он, будучи по утрам самым вежливым, более того, самым кротким и почтительным человеком, во второй половине дня становился по малейшему поводу несколько невоздержан на язык, а вернее сказать — дерзок. И поскольку я очень ценил его утреннюю работу и ни в коем случае не хотел ее лишаться, а с другой стороны, его буйное поведение после полудня было мне очень уж не по душе и поскольку я, как человек мирный, не хотел своими замечаниями вызывать его на неприличные споры, я и решился очень деликатно намекнуть ему как-то в субботу (по субботам он бывал хуже всего), что он-де стареет и не лучше ли ему сократить свой рабочий день; иными словами, что он может впредь не возвращаться в контору после полудня, а, пообедав, идти домой и отдыхать до вечернего чая. Но нет: он не пожелал отказаться от послеполуденных трудов. Лицо его приняло нестерпимо огненный оттенок, и, жестикулируя длинной линейкой, он стал велеречиво уверять меня с другого конца комнаты, что ежели утром его услуги мне нужны, так после обеда они тем более совершенно необходимы.
— Осмелюсь сказать, сэр, — заявил мне Индюк по этому случаю, — я считаю себя вашей правой рукой. Утром я только собираю и строю свои войска; а после обеда я становлюсь во главе их и храбро атакую неприятеля — вот так. — И он сделал бойкий выпад линейкой.
— Но кляксы, Индюк, — тихо напомнил я.
— Да, верно, но осмелюсь сказать, сэр, взгляните на мои седины. Я старею. Неужели же, сэр, одна-две кляксы в жаркий день не простятся этим сединам? Старость почтенна, даже несмотря на кляксы. Осмелюсь сказать, сэр, мы оба стареем.
Трудно было устоять против таких доводов. Во всяком случае, я понял, что добром он не уйдет. И решил оставить его, но последить за тем, чтобы во второй половине дня самые важные мои бумаги к нему не попадали.
Другой мой клерк, Кусачка, был молодой человек лет двадцати пяти, довольно-таки пиратского вида, с желтым лицом и с бородой. Я всегда полагал, что им владеют две злые силы: честолюбие и несварение желудка. Честолюбие проявлялось в некотором презрении к обязанностям рядового переписчика и в предосудительных попытках заняться чисто профессиональными делами — например, составлением судебных бумаг. Несварение желудка сказывалось по временам в нервной раздражительности, заставлявшей его, при всякой ошибке в переписывании, громко скрежетать зубами; в ненужных проклятиях, которые в самый разгар работы вырывались у него не как слова, а скорей как шипение; и главное — в том, что он никогда не бывал доволен высотою стола, за которым работал. При всей своей изобретательности Кусачка никак не мог приспособить этот стол себе по вкусу. Он подкладывал под него щепки, чурбашки, куски картона, даже испробовал хитроумное приспособление из сложенных листов промокательной бумаги, но ничто его не удовлетворяло. Если он, чтобы не напрягать спину, поднимал крышку стола под углом к самому подбородку и писал так, словно столом ему служила острая крыша голландского дома, — тогда он заявлял, что у него останавливается кровообращение в плече и руках. Если он опускал стол до уровня своей талии и писал согнувшись крючком, у него начинала жестоко ныть спина. Словом, дело было в том, что Кусачка сам не знал, чего ему нужно. А если ему что и нужно было, так это вовсе избавиться от стола, за которым переписывают бумаги. Его болезненное честолюбие выражалось, между прочим, и в том, что он любил принимать каких-то сомнительных посетителей в изношенных сюртуках, которых называл своими клиентами. Более того, мне было известно, что он не только занимается иногда мелкими политическими махинациями, но по временам обделывает кое-какие делишки в суде или торчит у дверей Гробницы.[3] Однако у меня имеются основания полагать, что один из субъектов, явившихся к нему в мою контору, о котором он с важностью отзывался как о клиенте, был попросту кредитором, а юридический документ, им принесенный, самым обыкновенным счетом. Но при всех своих недостатках, на которые я частенько досадовал, Кусачка, так же как и его соотечественник Индюк, был мне очень полезен; писал он быстро и аккуратным почерком и, когда давал себе труд, умел держаться не без благородства. К тому же он всегда был одет как подобает джентльмену и этим косвенно способствовал доброй славе моей конторы. Что же касается Индюка, то, если б я не держал ухо востро, он мог серьезно повредить моей репутации. Платье его вечно лоснилось и пахло трактиром. Панталоны в летнюю пору сидели мешком. Сюртуки были из рук вон, к шляпе прикоснуться противно. Но шляпа его была мне безразлична, поскольку он, как из врожденной вежливости, так и по скромному своему положению, снимал ее, не успев войти в комнату. Не то сюртук — о сюртуках его я неоднократно заводил разговор, но без всякого толку. Дело, вероятно, заключалось в том, что ему было просто не по карману щеголять одновременно и таким лучезарным лицом, и в лучезарных сюртуках. По остроумному замечанию Кусачки, свои деньги Индюк тратил главным образом на красные чернила. И вот однажды зимой я подарил Индюку вполне приличный сюртук со своего плеча — серый сюртук на вате, необыкновенно теплый и с застежкой от колен до самого горла. Я надеялся, что Индюк оценит такое внимание и умерит свое буйное поведение в послеобеденные часы. Но нет. Я даже склонен к мысли, что этот мягкий и теплый стеганый сюртук возымел на него пагубное действие — ведь известно же, что лошадь вредно перекармливать овсом. Да, да, точно так же, как про норовистую лошадь говорят, что она бесится от овса, так Индюк стал беситься от нового сюртука. Он сделался положительно дерзок. Он был из тех людей, которым довольство не впрок.
Насчет тайных грешков Индюка у меня давно сложилось свое мнение, зато в отношении Кусачки я был твердо убежден, что при всех прочих своих пороках он был по крайней мере человеком непьющим. Но сама природа, казалось, взялась быть при нем виноторговцем и при рождении столь щедро наделила его раздражительным, спиртуозным нравом, что никаких последующих возлияний ему уже не требовалось. Когда я вспоминаю, как в тишине моей конторы Кусачка, бывало, внезапно вскакивал с места и, согнувшись над своим столом, широко раскинув руки, хватал его и принимался со скрипом и стуком возить по полу, словно бы стол этот был злобным одушевленным существом, взявшим за правило во всем поступать ему наперекор, мне становится ясно, что ни в каких горячительных напитках Кусачка не нуждался.
На мое счастье, раздражительность и нервозность Кусачки, в силу особой своей причины — несварения желудка, проявлялись главным образом по утрам, тогда как во вторую половину дня он вел себя более или менее смирно. Таким образом, поскольку Индюк начинал куражиться лишь после полудня, мне не приходилось терпеть их чудачества одновременно. Приступы их сменяли друг друга, как караул. Когда накатывало на Кусачку, Индюк был тих, и наоборот. И естественный этот порядок вполне меня удовлетворял.
Третий мой подчиненный, Имбирный Пряник, был мальчуган лет двенадцати. Отец его, ломовой извозчик, лелеял честолюбивую мечту еще при жизни увидеть своего сына не на козлах, а в судейском кресле. Поэтому он определил его ко мне в контору изучать право, а также быть на побегушках и подметать помещение за плату один доллар в неделю. У мальчика был в конторе свой столик, но он мало им пользовался. В ящике этого стола при осмотре обнаружилось большое количество ореховой скорлупы. В самом деле, для этого сметливого юнца вся высокая наука права как будто сводилась к щелканью орехов.
Одной из важнейших обязанностей Имбирного Пряника, которую он к тому же выполнял особенно ретиво, было поставлять Индюку и Кусачке яблоки и прочую снедь. Переписывание судебных бумаг — работа, как известно, иссушающая, и оба моих писца любили промочить горло сочным зимним яблоком, какие во множестве продавались с лотков близ таможни и главного почтамта. Нередко они посылали мальчишку и за теми особыми пряниками — маленькими, плоскими, круглыми и очень острыми на вкус, — от которых и пошло его прозвище. Когда выдавалось утро посвободнее, Индюк уплетал эти пряники дюжинами, как облатки, — их и продают-то по шесть, если не по восемь штук на цент, — и скрип его пера сливался с аппетитным хрустом пряника на зубах. Из всех оплошностей, какие Индюк допустил в пылу послеобеденной горячки, мне особенно запомнилось, как он однажды подышал на имбирный пряник и пришлепнул его на закладную вместо печати. В тот раз я совсем было его рассчитал. Однако он умилостивил меня, отвесив мне изысканный восточный поклон и заявив:
— Осмелюсь сказать, сэр, с моей стороны это даже щедрость — ведь я за свой счет снабжаю вас канцелярскими принадлежностями.
Повторяю: когда получил я должность члена совестного суда, прежний круг моих обязанностей — как нотариуса, ходатая по имущественным делам и составителя всяких сложных документов — значительно расширился. И переписки прибавилось соответственно. Мало того, что приходилось торопить клерков, которые уже работали у меня, но потребовалась и дополнительная помощь. И вот, в ответ на помещенное мною объявление, в дверях моей конторы, раскрытых настежь, благо время было летнее, возник неподвижный молодой человек. Как сейчас, он стоит у меня перед глазами — аккуратный и бледный, до жалости чинный, безнадежно несчастный. Это был Бартлби.
После нескольких вопросов касательно его подготовки я нанял его, довольный тем, что среди моих писцов будет человек, по виду столь положительный, который, как я надеялся, благотворно повлияет на ветреного Индюка и неистового Кусачку.
Я забыл рассказать, что контора моя состояла из двух комнат, соединенных между собой двустворчатой дверью с матовым стеклом; одну из комнат занимали мои переписчики, другую — я сам; дверь же я держал то отворенной, то закрытой — как мне было удобнее. Бартлби я решил посадить в углу возле двери, но в своей комнате, чтобы этот спокойный человек всегда был под рукой, если он мне потребуется для какого-нибудь поручения. Я поставил для него стол у бокового окошка, из которого некогда открывался вид на грязные задние дворы, теперь же, с постройкой новых домов, не открывалось никакого вида, но все же проникал свет. В трех футах от окошка была стена, так что свет шел сверху, между двух высоких зданий, словно из небольшого отверстия в куполе собора. Для полного удобства я отгородил тот угол зелеными ширмами, которые совершенно скрывали Бартлби от моих глаз, хотя голос мой он всегда мог слышать. Так мне удалось сочетать обособленность и приятное общество.
Сначала Бартлби писал невероятно много. Он, казалось, изголодался по переписке и буквально пожирал мои бумаги, не давая себе времени их переваривать, работал без передышки, и при дневном свете, и при свечах. Усердие его радовало бы меня еще больше, будь он повеселее. Но он писал молча, безучастно, как машина.
В обязанности переписчика входит, разумеется, и проверка написанного им, слово за словом. Когда в конторе двое или больше писцов, они помогают в этом друг другу: один читает копию, другой следит по оригиналу. Дело это скучное, томительное и усыпляющее. Я легко могу себе представить, что некоторым людям сангвинического темперамента оно было бы просто не под силу. Так, например, едва ли столь горячий и беспокойный человек, как поэт Байрон, уселся бы по своей воле проверять с Бартлби юридический документ, страниц этак на пятьсот, исписанных убористым кудрявым почерком.
Временами, когда работа бывала спешная, я сам сличал какой-нибудь короткий документ, вызывая в помощь себе Индюка или Кусачку. Поместив Бартлби за ширмами так близко от себя, я, между прочим, имел в виду пользоваться его услугами в таких вот пустячных случаях. И вот на третий, помнится, день его пребывания у меня, еще до того, как возникла нужда сличать что-либо им написанное, я, торопясь закончить одно небольшое дело, кликнул Бартлби. Поскольку я спешил и, естественно, ожидал, что он немедля повинуется, я не отрывал глаз от документа, лежавшего передо мной на столе, а правую руку с копией протянул вбок, так, чтобы Бартлби, появившись из своего убежища, мог тотчас же схватить бумагу и без задержки приступить к делу.
И вот, сидя в этой позе, я окликнул его и быстро объяснил, что мне от него нужно, — а именно, проверить со мной небольшой документ. Каково же было мое удивление, вернее, мой ужас, когда Бартлби, не двинувшись с места, ответил необыкновенно тихим, ясным голосом:
— Я бы предпочел отказаться.
Минуту я сидел молча, как громом пораженный. Потом мне пришло в голову, что я ослышался или что Бартлби меня не понял. Я повторил свое распоряжение как можно отчетливее. Но не менее отчетливо прозвучал и прежний ответ:
— Я бы предпочел отказаться.
— Предпочли отказаться? — переспросил я и, от волнения встав с места, в два шага пересек комнату. — Что вы мелете? В своем ли вы уме? Я хочу, чтобы вы считали со мной этот лист, — вот, держите. — И я сунул ему бумагу.
— Я бы предпочел отказаться, — повторил он.
Я пристально посмотрел на него. Худое лицо его было невозмутимо; серые глаза смотрели спокойно. Ни одна жилка в нем не дрогнула. Будь в его манере держаться хоть капля смущения, гнева, раздражительности или нахальства — словом, будь в нем хоть что-то по-человечески понятное, я бы, несомненно, вспылил и велел ему убираться с глаз долой. Но сейчас мне это и в голову не пришло — это было бы все равно как выгнать за дверь мой гипсовый бюст Цицерона. Я постоял, глядя на Бартлби, который тем временем уже опять углубился в переписку, потом вернулся к своему столу. Это очень странно, думал я. Как же мне поступить? Однако спешные дела не ждали. Я решил пока забыть об этом случае и обдумать его на досуге. Я вызвал из другой комнаты Кусачку, и скоро бумага была проверена.
Спустя несколько дней Бартлби закончил переписывание в четырех экземплярах длинного документа — свидетельских показаний, которые я в течение недели собирал как член совестного суда. Их нужно было сличить. Тяжба была серьезная, и требовалась сугубая точность. Подготовив все, что нужно, я вызвал Индюка, Кусачку и Пряника, решив раздать копии моим четырем клеркам, а самому читать вслух подлинник. И вот Индюк, Кусачка и Пряник уселись в ряд, каждый со своими бумагами, а я позвал Бартлби, чтобы он присоединился к этой живописной группе.
— Бартлби! Поживее, я жду.
Я услышал, как ножки стула медленно проскребли по голому полу, и Бартлби появился у входа в свое убежище.
— Что нужно? — спросил он тихо.
— Копии, копии, — отвечал я нетерпеливо. — Сейчас будем их сличать. Берите. — И я протянул ему четвертый экземпляр.
— Я бы предпочел отказаться, — сказал он и бесшумно скрылся за ширмы.
Я превратился в соляной столб.[4] Но, простояв так несколько мгновений возле моих трех застывших в ожидании клерков, я очнулся, подошел к ширмам и пожелал узнать причину столь несуразного поведения.
— Почему вы упрямитесь?
— Я бы предпочел отказаться.
Будь передо мною другой человек, я бы страшно вспылил и без дальних слов с позором выставил его вон. Но в Бартлби было что-то, что не только меня обезоруживало, но странным образом смущало и трогало. Я стал его урезонивать.
— Вы же сами снимали копии, которые мы должны просмотреть. Это сбережет вам время, ведь за один раз будут проверены все четыре. Так всегда делается. Каждый переписчик обязан участвовать в проверке своей работы. Разве нет? Ну, что же вы молчите? Отвечайте!
— Я предпочту отказаться, — ответил он своим нежным голосом.
У меня было впечатление, что, пока я с ним говорил, он старательно обдумывал каждую мою фразу; вполне понимал ее смысл; не мог не согласиться и с выводом. Но в то же время, подчиняясь каким-то высшим соображениям, продолжал твердить свое.
— Так, значит, вы окончательно решили не слушаться меня, хотя мое требование не противоречит ни заведенному порядку, ни здравому смыслу?
Он кратко дал мне понять, что я не ошибаюсь. Да, решение его бесповоротно.
Когда человек получает отпор, притом неожиданный и до крайности неразумный, ему случается усомниться в собственной правоте. В мозг его закрадывается смутное подозрение, что, как это ни удивительно, правда и разум не на его стороне. И если есть поблизости беспристрастные лица, он, естественно, обращается к ним, ища подкрепить свое пошатнувшееся суждение.
— Индюк, — сказал я, — что вы об этом думаете? Разве я не прав?
— Осмелюсь сказать, сэр, — ответил Индюк с утонченной вежливостью, — на мой взгляд, вы совершенно правы.
— Кусачка, — сказал я, — а вы что об этом думаете?
— Думаю, что вышвырнул бы его к черту.
(Проницательный читатель, вероятно, отметит, что, поскольку дело было утром, ответ Индюка прозвучал вежливо и спокойно, Кусачкин же — весьма раздраженно. Или, возвращаясь к уже употребленному сравнению, у Кусачки его норов стоял на карауле, а у Индюка уже сменился.)
— Имбирный Пряник, — сказал я, стремясь завербовать любую поддержку, — ну а ты что об этом думаешь?
— Я думаю, сэр, что он маленько рехнулся, — ответил Имбирный Пряник, расплываясь в улыбке.
— Вы слышали, что здесь было сказано, — проговорил я, повернувшись к ширмам. — Идите сюда и исполняйте свой долг.
Но он не удостоил меня ответом. Горестное недоумение овладело мною. Однако и сейчас дело не терпело отлагательства. И я опять решил обдумать эту загадку когда-нибудь после, на досуге. Мы кое-как приспособились сличать копии без Бартлби, хотя Индюк через каждые две-три страницы позволял себе вполне учтиво заметить, что это непорядок и никуда не годится, а Кусачка, ерзая на стуле от беспокойства в животе, поскрипывал зубами и время от времени шипел что-то весьма нелестное по адресу упрямого невежи за ширмой. Что до него (Кусачки), то это он в первый и последний раз выполняет задаром чужие обязанности.
Бартлби же тем временем сидел у себя в келье, слепой и глухой ко всему, кроме собственного своего дела.
Прошло несколько дней, в течение которых мой писец был занят новой объемистой работой. Непонятное его поведение заставило меня внимательнее к нему приглядеться. Я приметил, что он никогда не уходит обедать; более того, что он вообще никуда не уходит. Я не мог припомнить ни одного случая, чтобы он отлучился из конторы. Он был как бессменный часовой в своем углу. Однако я замечал, что часов в одиннадцать утра Имбирный Пряник заглядывал за ширмы, словно его неслышно оттуда поманили, сделав знак, которого я со своего места не мог увидеть. Затем мальчик исчезал из конторы, позвякивая в кармане мелочью, и вскоре появлялся вновь с пригоршней имбирных пряников, которые и сдавал в келью, получая два пряника за труды.
Значит, он питается имбирными пряниками, подумал я; никогда по-настоящему не обедает; как видно, вегетарианец; впрочем, нет, он и овощей никогда не ест, не ест ничего, кроме имбирных пряников. И я предался туманным размышлениям относительно того, как может отразиться на существе человека диета из одних имбирных пряников. Пряники эти названы так потому, что в состав их входит имбирь, который и придает им особый вкус. Что же такое имбирь? Острый и пряный корень. Есть ли в Бартлби что-нибудь острое и пряное? Отнюдь нет. Значит, имбирь не оказывает на Бартлби никакого действия. Вероятно, он предпочитает, чтобы это было так, а не иначе.
Ничто так не ожесточает уважающего себя человека, как пассивное сопротивление. Однако если тот, кому оказывают такое сопротивление, не лишен гуманности, а сопротивляющийся — личность вполне безобидная, то первый, сколько хватит у него терпения, будет милосердно пытаться силою воображения представить себе то, что он не может постичь рассудком. Именно так я обычно и подходил к Бартлби. «Бедняга! — думал я. — В нем нет коварства. Ясно, как день, что дерзость его не преднамеренная. И чудит он без всякой задней мысли, это сразу видно. Он мне полезен. Я научился с ним ладить. Если я его уволю, он, чего доброго, попадет к менее снисходительному хозяину и тот обойдется с ним грубо, прогонит его, быть может, обречет на голодную смерть. Да. Мне представляется случай задешево купить восхитительное ощущение собственной праведности. Обласкать этого Бартлби, потворствовать его странному упрямству мне почти ничего не стоит, а у меня будет чем при случае успокоить свою совесть». Но не всегда мне удавалось сохранить такую ясность духа. Порою пассивность Бартлби выводила меня из терпения. Меня так и подмывало нарочно его раззадорить, вызвать и у него ответную вспышку гнева. С тем же успехом я стал бы тщиться выбить пальцами искру из куска душистого мыла. Но иногда соблазн бывал слишком велик, и однажды после обеда в конторе разыгралась следующая сценка.
— Бартлби, — сказал я, — когда вы кончите переписывать эту бумагу, мы с вами ее сличим.
— Я бы предпочел отказаться.
— Что? С вас еще не соскочила эта блажь?
Ответа не последовало.
Я распахнул дверь и воскликнул в сердцах, обращаясь к Индюку и Кусачке:
— Он опять говорит, что не будет сличать копии. Что вы об этом думаете, Индюк?
Как уже сказано, время было после полудня. Индюк сидел раскаленный, как медный котел, от лысой его головы шел пар, руки ворошили закапанные чернилами бумаги.
— Думаю?! — взревел Индюк. — Я думаю, что вот зайду к нему сейчас за ширмы да поставлю ему фонарь под глазом!
С этими словами Индюк поднялся и высоко занес сжатый кулак. Он шагнул к двери, готовый привести свою угрозу в исполнение, но я остановил его — я уж сам был не рад, что так опрометчиво разбудил его послеобеденную воинственность.
— Сядьте, Индюк, — сказал я, — и послушаем, что скажет Кусачка. Что вы об этом думаете, Кусачка? Разве нет у меня оснований немедля дать Бартлби расчет?
— Прошу прощенья, сэр, вам виднее. Я нахожу, что он ведет себя необычно, а по отношению к Индюку и ко мне нехорошо. Но возможно, что это каприз и скоро обойдется.
— Ах, вот как! — воскликнул я. — Вы, значит, изменили свое мнение? Теперь вы отзываетесь о нем очень снисходительно.
— Это все пиво! — крикнул Индюк. — Вся мягкость от пива: мы с Кусачкой сегодня вместе обедали. Вы сами видите, какой я стал мягкий. Ну, поставить ему фонарь?
— Вы, очевидно, имеете в виду Бартлби? Нет, Индюк, лучше в другой раз. Прошу вас, уберите кулаки.
Я затворил дверь и снова подошел к Бартлби. Меня неудержимо тянуло испытать судьбу. До смерти хотелось еще раз встретить отпор. Я вспомнил, что Бартлби никогда не отлучается из конторы.
— Бартлби, — сказал я, — Имбирный Пряник куда-то ушел. Будьте добры, сходите на почтамт (туда было три минуты ходу) и узнайте, нет ли для меня писем.
— Я бы предпочел не ходить.
— Вы не пойдете?
— Предпочту не ходить.
Я, шатаясь, добрел до своего кресла и погрузился в задумчивость. Тупое упрямство завладело мною. Что бы еще такое придумать, чтобы получить унизительный отказ от этого хилого, нищего призрака? От клерка, которому я плачу жалованье? Какую еще разумную просьбу он непременно откажется выполнить?
— Бартлби!
Никакого ответа.
— Бартлби! (Громче.)
Никакого ответа.
— Бартлби! — заорал я.
Как заправское привидение, согласно всем колдовским законам появляющееся по третьему зову, он выглянул из своего убежища.
— Пойдите в соседнюю комнату и вызовите ко мне Кусачку.
— Я предпочту отказаться, — ответил он почтительно, с расстановкой и тихо исчез.
— Хорошо же, Бартлби, — произнес я сурово и сдержанно, тоном своим давая понять, что близок час неотвратимого и ужасного возмездия. В ту минуту я, кажется, и сам это чувствовал. Но так как мне уже почти пора было идти обедать, я счел за лучшее надеть шляпу и отправиться домой в великой растерянности и смятении.
Признаться ли? Кончилось тем, что в конторе у меня скоро установился следующий порядок: бледнолицый молодой писец по имени Бартлби имел там рабочий стол; он переписывал для меня бумаги за обычную плату — четыре цента лист (то есть сто слов), но он раз и навсегда был освобожден от обязанности проверять им же выполненную работу, каковая обязанность перешла к Индюку и Кусачке, — надо полагать, в награду за их отличные способности; более того, вышеназванного Бартлби никогда и никуда не посылали, будь то даже с самым пустяковым поручением, ибо всем было известно, что, ежели и обратиться к нему с покорной о том просьбой, он предпочтет ее не выполнить — иными словами, откажется наотрез.
Время шло, и я почти что примирился с Бартлби. Его порядочность, полное отсутствие легкомыслия, неустанное прилежание (кроме случаев, когда он вдруг замечтается о чем-то за своими ширмами), его крайняя скромность, неизменность его поведения при любых обстоятельствах — все это заставляло считать его ценным приобретением для конторы. А главное, он всегда был на месте: раньше всех являлся по утрам, не уходил весь день, дольше всех сидел вечерами. В его честности я почему-то никогда не сомневался. Я спокойно доверял ему самые важные мои документы. Бывало, конечно, что я просто не мог сдержаться и крепко его распекал: очень уж трудно было постоянно помнить о тех странностях, привилегиях и неслыханных поблажках, которые Бартлби как бы поставил неписаным условием своего пребывания у меня в конторе. Иногда, желая поскорее покончить с каким-нибудь спешным делом, я, позабывшись, окликал Бартлби и в резких, торопливых выражениях просил его, к примеру, придержать пальцем красную тесьму, которой я обвязывал пачку бумаг. Из-за ширм, конечно же, раздавался обычный ответ: «Я предпочту отказаться»; и мог ли тогда простой смертный, наделенный присущими человеку слабостями, не дать волю своему возмущению такой строптивостью, таким неразумием! Впрочем, после каждого полученного мною афронта становилось все менее вероятным, что я еще раз проявлю такую забывчивость.
Здесь следует сказать, что я, подобно большинству юристов, снимающих конторы в битком набитых зданиях, для этого отведенных, имел не один ключ от своей двери, а несколько. Один находился у женщины, которая жила на чердаке и ежедневно подметала и стирала пыль в конторе, а раз в неделю мыла полы. Второй для удобства был передан Индюку. Третий я сам носил в кармане. У кого был четвертый — я не знал.
И вот однажды в воскресенье утром я отправился в церковь Троицы послушать знаменитого проповедника, а прибыв на Уолл-стрит немного раньше, чем нужно, решил ненадолго зайти к себе в контору. Ключ у меня, по счастью, был с собой, но, вставляя его в замочную скважину, я обнаружил, что она занята ключом изнутри. У меня вырвался возглас удивления; и тут, к моему ужасу, ключ повернулся, из-за двери высунулась тощая физиономия, и Бартлби, появившийся передо мной без сюртука и в сильно потрепанном дезабилье, спокойно сообщил, что он сожалеет, но очень занят и… предпочтет пока меня не впускать. Он добавил и еще несколько слов в том смысле, что мне, пожалуй, стоит два-три раза пройтись до угла и обратно, а к тому времени он, вероятно, успеет закончить свои дела.
Потрясающее открытие, что Бартлби расположился у меня в конторе в воскресное утро, его замогильно-беспечный тон в сочетании с твердостью и полным самообладанием — все это так странно на меня подействовало, что я тот же час поплелся прочь от своей двери и поступил точно по его указаниям. Однако нет-нет да и поднимался во мне бессильный ропот против тихой наглости этого непостижимого писца. В самом деле, именно его поразительная тихость больше всего меня обезоруживала и даже в некотором роде лишала самообладания. Ибо я считаю, что, если человек позволяет своему клерку распоряжаться собой и приказывать ему покинуть собственную контору, этот человек поистине лишен самообладания. Кроме того, меня сильно тревожил вопрос — что мог Бартлби делать у меня в конторе в воскресенье утром, без сюртука и вообще в таком виде. Неужто тут творятся некрасивые дела? Нет, это исключено. Заподозрить Бартлби в безнравственности просто немыслимо. Но чем же он там занимался? Переписыванием? Опять-таки нет. У Бартлби было много причуд, но он неукоснительно соблюдал приличия. Ничто не заставило бы его сесть за рабочий стол в состоянии, близком к наготе. К тому же было воскресенье. А в Бартлби было что-то, не позволявшее предположить, что он способен нарушить торжественность этого дня какими-нибудь светскими занятиями.
И все же на душе у меня было неспокойно, и тревожное любопытство владело мною, когда я наконец вернулся к двери. Без всякой помехи я вставил ключ в замок, отворил дверь и вошел. Бартлби не было видно. Я с опаской огляделся, заглянул за ширмы; было ясно, что он ушел. Более внимательный осмотр помещения убедил меня в том, что Бартлби уже давно и ест, и одевается, и спит у меня в конторе, притом без тарелок, без зеркала и без кровати. Шаткая старая кушетка в углу хранила слабый отпечаток длинного, худого тела. Под столом у Бартлби я обнаружил скатанное одеяло; в давно не топленном камине — банку с ваксой и щетку; на стуле — жестяной таз, мыло и рваное полотенце; а в газете — крошки от имбирных пряников и небольшой кусок сыра. Да, подумал я, нет сомнений, что Бартлби здесь обосновался; устроил себе, можно сказать, холостую квартиру. И тут же меня пронзила мысль: о каком бесконечно тоскливом одиночестве это свидетельствует! Бедность его велика. Но одиночество — сколь ужасно! Подумать только. По воскресеньям Уолл-стрит безлюдна, как Петра,[5] и каждый вечер она словно вымирает. Самое это здание, где в будние дни кипит работа и жизнь, по ночам дает приют только гулкому эху, и все воскресенье оно необитаемо. И здесь-то Бартлби нашел себе пристанище; одинокий созерцатель пустыни, которая на его памяти кишела народом, — некий простодушный Марий нашего века, предающийся мрачным раздумьям на развалинах Карфагена.[6]
Впервые в жизни меня охватило чувство тягостной, щемящей печали. Раньше мне приходилось испытывать только не лишенную приятности грусть. Теперь же сознание родственной связи с другими людьми невыразимо меня угнетало. Печаль брата! Ведь мы с Бартлби оба были сынами Адама. Мне вспомнились яркие шелка и веселые лица, которые в тот день праздничной вереницей, как лебеди, проплывали передо мной по широкой реке Бродвея; и, сопоставляя их с бледным моим переписчиком, я думал: «Да, счастье ищет света, поэтому мы считаем, что мир — веселое место; но нужда и горе прячутся от людских глаз, и поэтому мы считаем, что нужды и горя нет». Эти горькие мысли — химеры глупого, воспаленного мозга — привели к другим, более определенным, касающимся странностей Бартлби. Горестные предчувствия сжимали мне сердце. Мне виделось изможденное тело переписчика, окутанное холодным саваном, лежащее среди чужих, равнодушных людей.
Внезапно внимание мое привлек закрытый стол Бартлби с торчащим в замке ключом.
«У меня нет дурных намерений, я не ищу удовлетворить праздное любопытство, — подумал я. — Кроме того, стол принадлежит мне и содержимое его также, вот я и загляну в него». Все было в безупречном порядке, бумаги аккуратно сложены. Ящики были глубокие; я вытащил пачки документов и обследовал стол до последнего уголка. В одном из ящиков я что-то нащупал. Это оказался старый клетчатый платок, тяжелый, связанный узелком. Я развязал его и убедился, что он служит сберегательной кассой.
Тут я припомнил, как много загадочного я уже отмечал в Бартлби. Я вспомнил, что он никогда не разговаривает — только отвечает на вопросы; что, хотя у него бывает свободное время, он никогда ничего не читает, даже газет; что он подолгу простаивает у своего тусклого окна за ширмами, вперив глаза в глухую кирпичную стену. Я был уверен, что он никогда не ходит ни в трактир, ни в закусочную, а бледное его лицо без слов говорило, что он никогда не пьет пива, как Индюк, ни даже чая и кофе, как другие люди. Я вспомнил, что на моей памяти он вообще никуда не ходил, даже на прогулку, разве что вот сейчас пошел прогуляться; что он не пожелал сообщить мне, кто он, откуда приехал и есть ли у него родные; что он, хотя крайне худ и бледен, никогда не жаловался на здоровье. А самое главное — я вспомнил присущее ему выражение бессознательной, вялой… — как бы это сказать? — вялой надменности или, вернее, суровой сдержанности, которая и устрашила меня до того, что я покорно сносил его причуды и боялся попросить его о малейшей услуге даже тогда, когда по затянувшейся тишине за ширмами знал наверняка, что он стоит, неизвестно о чем задумавшись, вперив глаза в кирпичную стену за окном.
Я перебирал все это в уме, сопоставлял с только что сделанным открытием, что он превратил мою контору в постоянное свое жилище и местопребывание, думал и о болезненной его замкнутости; и постепенно во мне заговорил инстинкт самосохранения. Первыми моими чувствами были чистая печаль и искренняя жалость: но по мере того как я все яснее представлял себе, до какой степени Бартлби несчастен и одинок, печаль переходила в страх, а жалость в неприязнь. Как это верно — и как ужасно! — что до известной черты чужие муки будят в нас лучшие побуждения; но дальше этой черты, в иных случаях, дело не идет. И не правы те, кто стал бы утверждать, что это объясняется лишь свойственным человеку себялюбием. Скорее это проистекает от сознания, что ты бессилен излечить слишком далеко зашедший недуг. Человеку чувствительному жалость, которую он испытывает, нередко причиняет боль. И когда наконец становится ясно, что жалостью не поможешь, здравый смысл приказывает вырвать ее из сердца. Все увиденное мною в то утро убедило меня, что мой переписчик — жертва врожденного и неизлечимого душевного расстройства. Я мог подать ему милостыню; но тело его не страдало — мучилась его душа, а душа его была для меня недосягаема.
В то утро я, вопреки своему намерению, так и не попал в церковь Троицы. После того, что я видел, мне было как-то не до церкви. Я пошел домой, раздумывая о том, что мне делать с Бартлби. Наконец я порешил так: утром я спокойно задам ему несколько вопросов касательно его прошлого и т. п.; но буде он откажется откровенно на них ответить (а я полагал, что он предпочтет отказаться), дам ему двадцать долларов сверх того, что я ему должен за работу, и скажу, что более не нуждаюсь в его услугах, но что если я могу как-нибудь иначе ему помочь, я с радостью это сделаю; в частности, если он хочет вернуться к себе на родину, где бы это ни было, я охотно оплачу ему проезд. Более того, если он, приехав домой, окажется в стесненных обстоятельствах, пусть только напишет мне, и я тотчас откликнусь.
Настало следующее утро.
— Бартлби, — ласково сказал я, глядя на ширмы.
Ответа не последовало.
— Бартлби, — сказал я еще ласковее, — подите сюда. Я не собираюсь просить вас ни о чем, чего вы предпочли бы не делать, я просто хочу побеседовать с вами.
Тогда он бесшумно выдвинулся из-за ширм.
— Скажите мне, Бартлби, где вы родились?
— Я предпочел бы не говорить.
— Вы мне ничего не хотите о себе рассказать?
— Предпочел бы не рассказывать.
— Но чем вы объясняете такое нежелание говорить со мною? Ведь я к вам хорошо отношусь.
Пока я говорил, он не смотрел на меня, — взгляд его был прикован к бюсту Цицерона, стоявшему за моей спиной, дюймов на шесть выше моей головы.
— Какой же будет ваш ответ, Бартлби? — спросил я, переждав довольно продолжительное время, в течение которого лицо его оставалось неподвижным, только по тонким бескровным губам пробегала едва заметная дрожь.
— Пока я предпочел бы не давать ответа, — сказал он и скрылся в свое убежище.
Пусть это было слабостью, но, признаюсь, в этот раз его тон уязвил меня. Мало того, что в нем сквозило холодное высокомерие — такое упорство уже граничило с неблагодарностью: ведь нельзя отрицать, что я был к нему до крайности снисходителен.
И снова я сидел, соображая, как быть. Хоть и очень меня раздражало его поведение, хоть я и шел в контору с твердым решением рассчитать его, однако же какое-то суеверное чувство меня удерживало, какой-то голос твердил, что я буду последним злодеем, если посмею хоть словом обидеть этого самого несчастного на свете человека. Наконец, с шумом вдвинув стул к нему за ширму, я сел и сказал:
— Ну хорошо, Бартлби, можете не рассказывать мне о своей жизни. Но прошу вас как друг, подчиняйтесь вы порядку, заведенному в этой конторе. Пообещайте, что завтра или послезавтра будете вместе со всеми сличать бумаги, короче говоря, что через день-другой проявите хоть каплю благоразумия. Ну же, Бартлби, обещайте!
— Пока я предпочел бы не проявлять капли благоразумия, — последовал тихий, замогильный ответ.
В эту самую минуту дверь отворилась, и вошел Кусачка. Он явно не выспался — как видно, несварение желудка мучило его ночью больше обычного. Последние слова Бартлби донеслись до его слуха.
— Предпочел бы, говоришь? — прошипел он. — Уж я бы его предпочел, сэр, — обратился он ко мне, — я бы его предпочел, я бы ему, ослу упрямому, такое оказал предпочтение… Чего он еще предпочитает не делать, сэр?
Бартлби и бровью не повел.
— Мистер Кусачка, — сказал я, — я бы предпочел, чтобы вы пока отсюда ушли.
В последнее время я стал ловить себя на том, что употребляю это слово «предпочитать» по всякому поводу, даже и не вполне подходящему. И я трепетал при мысли, что общение с переписчиком уже успело отразиться на моем рассудке. Не последует ли за этим и более серьезное помрачение ума? Это опасение отчасти и заставило меня решиться на крутые меры.
Только что Кусачка с весьма кислой и расстроенной миной исчез в дверях, как подошел Индюк, услужливый и смирный.
— Осмелюсь сказать, сэр, — начал он, — я тут вчера думал об этом самом Бартлби и надумал, что если б он только предпочел каждый день выпивать по кварте доброго эля, это, наверное, пошло бы ему на пользу и помогло бы проверять бумаги.
— Значит, и вы подхватили это слово, — сказал я не без легкой тревоги.
— Осмелюсь спросить: какое слово, сэр? — заговорил Индюк, почтительно протискиваясь в узкое пространство за ширмами и так прижав меня, что мне поневоле пришлось толкнуть плечом Бартлби. — Какое слово, сэр?
— Я бы предпочел, чтобы меня оставили здесь одного, — сказал Бартлби, словно оскорбленный нашим вторжением.
— Вот это самое слово, Индюк, — сказал я.
— А-а, «предпочел»? Да, да, чуднóе слово. Я-то его никогда не употребляю. Так вот, сэр, я и говорю, если б он только предпочел…
— Индюк, — перебил я, — будьте добры выйти отсюда.
— Слушаю, сэр, конечно, если вы так предпочитаете.
Когда он отворил дверь, Кусачка увидел меня со своего места и спросил, как я предпочитаю — чтобы он переписал такой-то документ на голубой бумаге или на белой. Слово «предпочитаю» он произнес без всякого озорства или подчеркивания. Ясно было, что оно слетело у него с языка само собой. Нет, подумал я, пора избавиться от сумасшедшего, который и мне, и моим клеркам уже свихнул если не мозги, то язык. Но я почел за лучшее не сразу сообщать ему об отставке.
На следующий день я заметил, что Бартлби ничего не делает, а все время стоит у окна, вперившись в глухую стену. На мой вопрос, почему он не пишет, он ответил, что решил больше не писать.
— Что такое? — воскликнул я. — Что вы еще придумали? Больше не писать?
— Не писать.
— А по какой причине?
— Разве вы сами не видите причину? — сказал он равнодушно.
Я внимательно посмотрел на него и заметил, что глаза у него мутные, без блеска. Меня осенила догадка, что работа у темного окна, да еще при том беспримерном усердии, какое проявлял он в первые недели, плохо отразилась на его зрении.
Я был растроган. Я сказал ему какие-то слова утешения, дал понять, что он правильно сделает, если на время воздержится от переписывания, и советовал воспользоваться передышкой и побольше бывать на воздухе. Этому совету он, впрочем, не последовал. Спустя немного дней, когда мне потребовалось срочно отправить по почте несколько писем, а другие мои клерки уже ушли, я подумал, что раз Бартлби решительно нечего делать, он, конечно же, не станет упорствовать, как обычно, а снесет эти письма на почтамт. Но он отказался. Волей-неволей пришлось мне идти самому.
Прошло еще несколько дней. Лучше ли стало у Бартлби с глазами или нет, я не знал. Мне казалось, что получше. Но когда я спросил его, так ли это, он не соизволил ответить. Писать он, во всяком случае, не писал и наконец на мои настойчивые вопросы сообщил мне, что навсегда покончил с перепиской бумаг.
— Что? — воскликнул я. — А если зрение у вас совсем восстановится, — будет лучше, чем раньше, — вы и тогда не станете работать?
— Я покончил с перепиской, — сказал он и отвернулся.
По-прежнему он никуда не трогался из моей конторы. Более того, он как будто еще крепче прирос к ней. Что было делать? Работать он не желал, так чего ради было ему здесь оставаться? Он, попросту говоря, стал жерновом у меня на шее, бесполезным, как ожерелье, и достаточно обременительным. И все же мне было жаль его. Я не отступлю от правды, если скажу, что я за него тревожился. Назови он хоть одного своего родственника или друга, я немедля написал бы им, настаивая, чтобы они поместили беднягу в какой-нибудь приют. Но, по-видимому, он был один, совершенно один на свете. Обломок крушения посреди океана. В конце концов требования дела перевесили все остальные соображения. Я как мог деликатнее сказал Бартлби, что через шесть дней он должен во что бы то ни стало покинуть контору. Я предупредил его, чтобы он за это время подыскал себе другое жилище. Я предложил помочь ему в этом, если он сам предпримет хотя бы первый шаг.
— И когда мы будем расставаться, Бартлби, — добавил я, — уж я позабочусь о том, чтобы не оставить вас на мели. Помните: шесть дней, считая от этого часа.
Когда истекло назначенное время, я заглянул за ширмы — и что же? Бартлби был там.
Я застегнул сюртук, приосанился, медленно подошел к нему, тронул его за плечо и сказал:
— Время пришло. Вам нужно уходить отсюда. Мне вас жаль. Вот деньги. Но вам нужно уйти.
— Я бы предпочел не уходить, — отвечал он, все еще стоя спиной ко мне.
— Нужно.
Он промолчал.
Я уже говорил, что я был глубоко убежден в честности этого человека. Не раз он возвращал мне монеты и в двадцать пять и в пятьдесят центов, которые мне случалось обронить, — я бываю очень беспечен в обращении с мелочью. Поэтому никого не должно удивить то, что произошло дальше.
— Бартлби, — сказал я, — за работу я вам должен двенадцать долларов. Я даю вам тридцать два: остальные двадцать тоже ваши. Вот, возьмите. — И я протянул ему деньги.
Но он не пошевелился.
— Тогда я их оставляю здесь. — Я положил деньги на стол, под пресс-папье. Потом, взяв шляпу и трость, направился к двери и уже с порога добавил спокойно: — Когда вы унесете отсюда свое имущество, Бартлби, вы, конечно, запрете дверь — ведь в конторе больше никого не осталось — и, будьте добры, суньте ключ под коврик, чтобы я утром мог его там найти. Мы с вами больше не увидимся. Значит, прощайте. Если там, где вы поселитесь, вам понадобится моя помощь, непременно дайте мне знать письмом. Прощайте, Бартлби, желаю вам всего хорошего.
Но он не ответил ни слова. Как последняя колонна разрушенного временем храма, он стоял, немой и одинокий, посреди опустевшей комнаты.
В задумчивости я шел домой, и постепенно самодовольство победило во мне жалость. Я похвалил себя за то, как искусно сумел отделаться от Бартлби. Именно искусно, всякий непредубежденный человек должен с этим согласиться. Вся прелесть моего образа действий заключалась в полнейшем спокойствии. Я не пускал в ход ни грубого запугивания, ни бравады, ни желчных назиданий; не шагал взад-вперед по комнате, резко выкрикивая, чтобы Бартлби выкатывался прочь со своими нищенскими пожитками. Ничего подобного. Вместо того чтобы громко приказать Бартлби уйти — так сделал бы человек более низкого разбора, — я взял за предпосылку, что уйти ему необходимо; и на этой предпосылке построил все, что имел ему сказать. Чем больше я думал о своем образе действий, тем больше им восхищался.
Однако же, проснувшись наутро, я ощутил кое-какие сомнения, словно самодовольство мое развеялось вместе со сном. Всего трезвее и хладнокровнее человек рассуждает по утрам, когда только что проснется. Мой образ действий показался мне все таким же безупречным… но лишь в теории. Вся загвоздка была в том, что из него получится на практике. Взять уход Бартлби за предпосылку было, конечно, блестящей мыслью; однако ведь предпосылка-то эта была моя, а не Бартлби. Главное заключалось не в том, предположил ли я, что он уйдет, а в том, предпочтет ли он это сделать. Предпочтения для него значили больше, чем предпосылки.
После завтрака я пошел в контору, по дороге взвешивая все доводы pro и contra.[7] То мне казалось, что ничего из моей затеи не вышло и я, как всегда, застану Бартлби в конторе, в следующую минуту я был уверен, что стул его окажется пуст. Так я и бросался из одной крайности в другую. На углу Бродвея и Кэнэл-стрит я увидел взволнованную кучку людей, серьезно что-то обсуждавших.
— Пари держу, что нет, — услышал я, проходя мимо.
— Что он не уйдет? — сказал я. — Пари. Ставьте деньги.
Я и сам уже потянулся было в карман за деньгами, когда вдруг вспомнил, что сегодня — день выборов. Слова, мною услышанные, относились не к Бартлби, а к шансам какого-то кандидата на пост мэра. Я же, в своей одержимости одной мыслью, вообразил, как видно, что весь Бродвей разделяет мою тревогу и занят тем же вопросом, что и я. Я пошел дальше, благодаря судьбу за то, что в уличном шуме моя рассеянность осталась незамеченной.
В тот день я нарочно вышел из дому раньше обычного. У дверей конторы я прислушался. Все было тихо. Как видно, Бартлби ушел. Я попробовал дверную ручку — заперто. Да, мой образ действий оправдал себя на славу — видно, он и в самом деле скрылся. Но к торжеству моему примешивалась грусть: я уже почти жалел о своей блестящей удаче. Разыскивая под ковриком ключ, который Бартлби должен был там оставить, я нечаянно стукнул коленом о дверь, и в ответ на этот стук до меня донесся голос:
— Обождите, я занят.
Это был Бартлби.
Я окаменел. Секунду я стоял, уподобившись тому человеку, которого когда-то давно, в безоблачный летний день, убило молнией в Виргинии: убило в окне его собственного дома, где он стоял в тот душный день, покуривая трубку, и так и продолжал стоять, пока к нему не притронулись, а тогда упал.
— Не ушел! — пробормотал я наконец. И, снова повинуясь тому странному влиянию, которое имел на меня этот непостижимый переписчик и от которого я не мог вполне освободиться, как бы оно меня ни стесняло, я медленно спустился по лестнице и пошел до угла и обратно, раздумывая о том, что же мне предпринять в этих неслыханных обстоятельствах. Просто вытолкать Бартлби за дверь я не мог; выгнать его, осыпая бранью, считал для себя неприемлемым; звать полицию не хотелось. Но допустить, чтобы этот выходец из могилы торжествовал надо мною победу — нет, так тоже не годится. Что же делать? Или, если сделать ничего нельзя, не выручит ли какая-нибудь новая предпосылка? Да, как раньше я наперед предположил, что Бартлби уйдет, так теперь можно предположить задним числом, что он уже ушел. Действуя согласно этой предпосылке, я могу войти в контору так, словно очень спешу, и, сделав вид, будто не вижу Бартлби, налететь прямо на него, точно он не человек, а пустое место. Такой поступок, несомненно, возымеет действие. Едва ли Бартлби устоит против столь ощутительного применения методы предпосылок. Но по некотором размышлении успех этой затеи показался мне сомнительным. Я решил, что лучше будет еще раз с ним поговорить.
— Бартлби, — сказал я, входя в контору с видом спокойным и строгим, — я очень вами недоволен. Я обижен, Бартлби. Этого я от вас не ожидал. Мне казалось, что у вас благородная натура и что в любом затруднительном деле для вас достаточно мягкого намека, короче — предпосылки. Но я вижу, что заблуждался. О, — добавил я, невольно вздрогнув, — вы даже не притронулись еще к деньгам. — И я указал на стол, где оставил их накануне вечером.
Он не ответил.
— Уйдете вы от меня или нет? — спросил я, внезапно вспылив и подступая к нему.
— Я бы предпочел не уходить от вас, — отвечал он, мягко выделив слово «не».
— Какое право вы имеете здесь оставаться? Вы что, оплачиваете помещение? Платите за меня налоги? Или, может быть, все это — ваша собственность?
Он не ответил.
— Готовы вы сейчас же сесть за работу? Глаза у вас поправились? Можете вы переписать мне небольшой документ? Или сличить со мной несколько строк? Или сходить на почтамт? Короче говоря, готовы ли вы хоть чем-нибудь оправдать свое упорное нежелание выселиться отсюда?
Он молча удалился за ширмы.
Гнев и обида во мне достигли такого накала, что я решил, из благоразумия, воздержаться от дальнейших препирательств. Мы с Бартлби были одни. Я вспомнил трагедию злополучного Адамса и еще более злополучного Кольта,[8] разыгравшуюся в пустой конторе последнего; и как бедный Кольт, доведенный Адамсом до белого каления, не сумел вовремя сдержать свой безумный гнев и, не помня себя, совершил роковой поступок, о котором впоследствии никто не сокрушался больше, чем он сам, его совершивший. Размышляя об этом случае, я часто думал, что, случись их ссора на людной улице или в частном доме, она не кончилась бы столь прискорбно. То обстоятельство, что они были одни в пустой конторе, на верхнем этаже, в здании, не освященном согревающими душу напоминаниями о домашнем очаге, — и контора-то наверняка была без ковров, голая и пыльная, — именно это, я полагаю, содействовало взрыву слепой ярости у злосчастного Кольта.
И вот, когда я почувствовал, что и во мне воспылал гневом древний Адам, искушая меня поднять руку на Бартлби, я схватился с ним и поборол его. Как? Да просто вспомнив божественные слова: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Право же, только это и спасло меня. Помимо более высоких своих достоинств, милосердие зачастую оказывается и весьма благоразумным принципом — надежной защитой тому, кто им обладает. Человек совершает убийство, движимый ревностью, злобой, ненавистью, себялюбием, гордыней; но я не слышал, чтобы хоть кого-либо толкнуло на зверское убийство святое милосердие. А следовательно, всем, особенно же людям вспыльчивым, должно хотя бы ради собственной пользы, если уж нет у них более благородных побуждений, стремиться к милосердию и добрым делам. Так или иначе, я обуздал свою ярость, постаравшись объяснить поведение моего переписчика как можно благожелательнее. Бедный малый, думал я, он не понимает, что делает; да и жилось ему нелегко, и нельзя с него строго спрашивать.
Я решил поскорее заняться делами и этим придать себе хоть немного бодрости. Мне все представлялось, что в течение утра, в какое-нибудь время, которое он найдет для себя подходящим, Бартлби сам выберется из своего убежища и начнет передвигаться по направлению к двери. Но нет. Наступила половина первого; Индюк уже, как водится, излучал жар, опрокидывал чернильницу и вообще буянил; Кусачка присмирел и стал отменно учтив; Имбирный Пряник жевал румяное яблоко; а Бартлби все стоял у своего окна, точно в каком-то забытьи, вперив глаза в глухую стену. Признаться ли? Этому трудно поверить, но в тот вечер я ушел из конторы, не сказавши ему больше ни одного слова.
В последующие дни я, когда выдавалась свободная минута, просматривал Эдвардса «О воле»[9] и Пристли «О необходимости».[10] Книги эти подействовали на меня как бальзам. Мало-помалу я проникся убеждением, что все мои заботы и неприятности, связанные с Бартлби, были суждены мне от века, что он послан мне всемудрым провидением в каких-то таинственных целях, разгадать которые недоступно простому смертному. «Да, Бартлби, — думал я, — оставайся за своими ширмами, я больше не буду тебе досаждать, ты безобиден и тих, как эти старые кресла; да что там — я никогда не ощущаю такой тишины, как когда ты здесь. Теперь я хотя бы увидел, почувствовал, постиг, для чего я живу на земле. Я доволен. Пусть другим достался более высокий удел; мое же предназначение в этой жизни, Бартлби, заключается в том, чтобы отвести тебе уголок в конторе на столько времени, сколько ты пожелаешь здесь находиться».
Я бы, вероятно, так и пребывал в этом возвышенном и отрадном состоянии духа, если бы мои деловые знакомые, бывавшие у меня в конторе, не стали мне навязывать своих непрошеных и негуманных советов. Но ведь частенько бывает, что лучшие намерения людей доброжелательных в конце концов разбиваются о постоянное противодействие менее великодушных умов. Впрочем, как подумаешь, не приходится особенно удивляться тому, что посетители мои бывали поражены странным видом необъяснимого Бартлби и, не подумав, отпускали на его счет какое-нибудь неприятное замечание. Вот, предположим, заходит ко мне в контору адвокат, с которым я веду дела, и, не застав никого, кроме Бартлби, пытается у него узнать поточнее, где меня можно найти; а Бартлби неподвижно стоит посреди комнаты, как будто и не слыша, что он там болтает. И адвокат, полюбовавшись некоторое время на это зрелище, уходит ни с чем.
Или, скажем, у меня разбирается апелляция. Комната полна юристов и свидетелей, дело подвигается быстро, и какой-нибудь сильно занятый стряпчий, заметив, что Бартлби сидит сложа руки, просит его сбегать в его (стряпчего) контору за нужными бумагами. Бартлби преспокойно отказывается, однако и за работу не берется. Стряпчий делает большие глаза и обращается ко мне. А что я могу сказать?
Наконец до меня дошло, что в кругу моих собратьев под шумок ведутся оживленные пересуды по поводу диковинного создания, которое я держу у себя в конторе. Это сильно меня обеспокоило. И когда мне пришло в голову, что Бартлби, возможно, доживет до глубокой старости и так все и будет обретаться у меня в конторе; и отказывать мне в повиновении; и ставить в тупик моих посетителей; и бросать тень на мое доброе имя; и распространять вокруг себя уныние; и будет кое-как кормиться на свои сбережения (ведь он тратит не больше пяти центов в день!); и, чего доброго, переживет меня, да еще вздумает притязать на мою контору, ссылаясь на бессменное там проживание, — когда эти мрачные мысли стали все более завладевать мною, между тем как мои знакомые не уставали чесать языки насчет привидения, которое я у себя держу, тогда во мне произошла большая перемена. Я решил собраться с духом и раз навсегда избавиться от этого невыносимого кошмара.
Однако, прежде нежели составить какой-нибудь сложный план кампании, я еще раз сказал Бартлби, что ему следует со мною расстаться. Я очень серьезно советовал ему обдумать эту перспективу, тщательно и не торопясь. Но, употребив на размышления три дня, он сообщил мне, что первоначальное его решение не изменилось, иначе говоря, что он и сейчас предпочитает остаться у меня.
Как же быть? — спросил я себя, застегивая сюртук на все пуговицы. Что делать? Как подсказывает мне совесть поступить с этим человеком или, вернее, призраком? Избавиться от него необходимо, и я это сделаю. Но как? Ты же не выбросишь за порог это беззащитное создание, этого жалкого, бледного, безобидного человека? Не унизишься до такой жестокости? Нет, не выброшу, не могу. Скорее я позволю ему жить и умереть здесь, а потом замурую его останки в стене. Так как же ты поступишь? Твои уговоры на него не действуют. Взятки он оставляет у тебя на столе, под пресс-папье. В общем, совершенно ясно, что он предпочитает не покидать тебя.
В таком случае надо принять строгие, чрезвычайные меры. Как! Неужели ты распорядишься, чтобы констебль взял его за шиворот и, безвинного, препроводил в тюрьму? Да и на каком основании ты стал бы этого требовать? Бродяжничество? Но разве он бродяга? Это он-то, который не желает сдвинуться с места, — бродяга, шатун? Ты его потому и хочешь записать в бродяги, что он не хочет бродяжничать. Это уж совсем глупо. Ну хорошо, тогда — отсутствие видимых средств к существованию. Опять не выходит: ведь он несомненно существует, а это единственное бесспорное доказательство того, что у человека есть к тому средства. Нет, довольно. Раз он не желает меня покидать, придется мне самому его покинуть. Я сниму другую контору, перееду, а его предупрежу, что если обнаружу его по новому своему адресу, то поступлю с ним, как со всяким нарушителем порядка, пойманным в чужих владениях.
Верный своему намерению, я наутро обратился к нему с такой речью:
— Мне неудобно, что моя контора так далеко от городской управы; и воздух здесь нездоровый. Словом, на будущей неделе я переезжаю, и ваши услуги мне больше не понадобятся. Говорю вам об этом заранее, чтобы вы могли подыскать себе другое место.
Он не ответил, и более ничего не было сказано.
В назначенный день я нанял людей и подводы, и так как мебели в конторе было мало, с укладкой справились быстро. Все время, пока уносили вещи, переписчик стоял за ширмами — я распорядился, чтобы их забрали в последнюю очередь. Но вот и их унесли, сложив, как огромную папку, и в оголившейся комнате не осталось ничего, кроме недвижимого Бартлби. Я постоял на пороге, глядя на него и прислушиваясь к внутреннему голосу, в чем-то меня упрекавшему.
Потом я вернулся в комнату. Руку я держал в кармане, а в сердце ощущал непонятный страх.
— Прощайте, Бартлби, я уезжаю. Прощайте, и уж да благословит вас как-нибудь бог. Вот, возьмите-ка. — И я сунул ему в руку денег. Но они упали на пол, и тут я — странно сказать — с болью душевной расстался с тем, от кого так мечтал избавиться.
Устроившись на новом месте, я первые дни держал дверь на запоре и всякий раз вздрагивал от шагов на лестнице. Возвращаясь в контору после недолгой отлучки, я замирал перед дверью и прислушивался, прежде чем поднести ключ к замку. Но страхи мои были излишни: Бартлби не показывался.
Мне уже представлялось, что все идет хорошо, когда однажды ко мне явился какой-то взбудораженный незнакомец и спросил, не я ли до недавнего времени имел контору на Уолл-стрит, в доме номер**.
Сразу почуяв недоброе, я ответил утвердительно.
— В таком случае, сэр, — продолжал незнакомец, оказавшийся юристом, — вы отвечаете за человека, которого там оставили. Он не желает переписывать бумаги, не желает вообще ничего делать; говорит, что предпочтет отказаться; и уходить тоже не желает.
— Очень сожалею, сэр, — сказал я с притворным спокойствием, хотя и содрогнувшись в душе, — но, уверяю вас, человек, о котором вы говорите, для меня ничто. Он мне не родственник и не состоит у меня в учении, так что вы напрасно считаете меня ответственным за него.
— Да кто же он такой, прости господи?
— Не могу вам сказать. Мне о нем ничего не известно. Раньше он служил у меня переписчиком, но теперь я уже давно не пользуюсь его услугами.
— В таком случае я от него отделаюсь. Всего хорошего, сэр.
Прошло несколько дней, все было тихо; и хотя голос милосердия не раз подсказывал мне, что нужно повидать бедного Бартлби, какое-то странное отвращение меня удерживало.
Теперь я о нем больше не услышу, решил я наконец, когда миновала еще неделя, а никаких новых сведений о Бартлби до меня не дошло. Но на следующий же день, подходя к дверям своей конторы, я увидел там группу людей, ожидавших меня и, видимо, чем-то взволнованных.
— Вот он, вот он идет! — воскликнул тот, что стоял всего ближе, и я узнал в нем юриста, который ранее приходил ко мне один.
— Забирайте его, сэр, и притом немедля, — громко заговорил, подступая ко мне, дородный мужчина — владелец дома номер** по Уолл-стрит. — Эти джентльмены, мои съемщики, не могут больше терпеть такое положение. Мистер Б., — он указал на юриста, — выставил его из своей конторы, так теперь он бродит по всему дому — днем сидит на лестнице, ночью спит в подъезде. Нам всем от этого большие неприятности. Клиенты разбегаются. Пошли разговоры — боятся, как бы над ним не учинили самосуд. Вы просто обязаны что-нибудь предпринять, и как можно скорее.
Перепуганный, я отступил перед этим потоком слов и, будь моя воля, заперся бы в своей новой конторе. Напрасно я твердил, что Бартлби для меня чужой человек, так же как и для всех здесь присутствующих. Нет, я последним имел к нему какое-то отношение, и мне не уйти от ответа. Опасаясь, что имя мое может попасть в газеты (как пригрозил один из моих разгневанных посетителей), я подумал немного и наконец сказал, что если юрист позволит мне поговорить с переписчиком с глазу на глаз в его (юриста) конторе, я сегодня же приложу все усилия к тому, чтобы избавить их от предмета их жалоб.
Поднимаясь по знакомой лестнице, я действительно увидел Бартлби, молча сидящего на перилах площадки.
— Что вы здесь делаете, Бартлби? — спросил я.
— Сижу на перилах, — ответил он тихо.
Я сделал ему знак пройти со мною в контору, и юрист оставил нас одних.
— Бартлби, — сказал я, — известно ли вам, что вы причиняете мне кучу хлопот, оставаясь в этом доме после того, как я вас рассчитал?
Он не ответил.
— Теперь возможно одно из двух: либо вы что-то сделаете, либо что-то сделают с вами. Скажите же мне, чем бы вы хотели заняться? Хотите снова поступить к кому-нибудь в переписчики?
— Нет, я бы предпочел ничего не менять.
— Хотите пойти сидельцем в мануфактурную лавку?
— Там мало свежего воздуха. Нет, сидельцем я не хотел бы; а впрочем, мне все равно.
— Что? — вскричал я. — Да вас на свежий воздух калачом не выманишь!
— Я предпочел бы не идти в сидельцы, — сказал он, словно давая понять, что с этим вопросом покончено.
— А место буфетчика в ресторане вас не прельщает? По крайней мере не утомительно для глаз.
— Совсем не прельщает. А впрочем, как я уже сказал, мне все равно.
Необычная словоохотливость его придала мне мужества. Я снова пошел в атаку:
— Ну, тогда вы, может быть, хотите поездить, получать для купцов деньги по счетам с иногородних покупателей? Это бы вам и для здоровья было полезно.
— Нет, я предпочел бы что-нибудь другое.
— А что, если вам поехать в Европу с каким-нибудь молодым человеком, которому нужен спутник, — это бы вам подошло?
— Отнюдь нет. Мне кажется, в этом есть что-то неопределенное. Я люблю оставаться на месте. А впрочем, мне все равно.
— Ну и оставайтесь на месте! — вскричал я, потеряв терпение и в первый раз за время наших с ним нелегких отношений давая волю своей ярости. — Если вы нынче же не уберетесь из этого дома, я буду вынужден… я… я вынужден… сам отсюда уйти, — закончил я довольно-таки глупо, не зная, какой угрозой запугать его и сдвинуть с мертвой точки. Отчаявшись в успехе дальнейших попыток, я уже бросился было к двери, но тут вспомнил еще одну возможность, мысль о которой и раньше у меня мелькала.
— Бартлби, — сказал я, вложив в свой голос всю мягкость, какая была возможна в столь напряженную минуту, — пойдемте ко мне — не в контору, а домой, и поживите у меня, пока мы не спеша придумаем для вас что-нибудь подходящее. Ну, пойдемте же прямо сейчас, не откладывая.
— Нет. Пока я предпочел бы оставить все как есть.
Я ничего не ответил; но, ошеломив всех внезапностью своего бегства, ринулся вниз по лестнице и вон из подъезда, пробежал по Уолл-стрит до Бродвея и, вскочив в первый попавшийся омнибус, вскоре ушел от погони.
Стоило мне немного успокоиться, и я понял, что сделал все возможное как по отношению к домовладельцу и его съемщикам, так и по отношению к Бартлби, которого из чувства долга и просто из жалости пытался до сих пор оградить от грубых преследований. Теперь я решил дать себе полный отдых от этих забот и треволнений, но это оказалось не так-то легко, хотя совесть меня ни в чем не упрекала. Я до того боялся, как бы разъяренный домовладелец и доведенные до отчаяния съемщики не вздумали снова меня настигнуть, что, передав дела Кусачке, несколько дней разъезжал в своей карете по северной части города и предместьям, переправлялся в Джерси-Сити и Хобокен и лишь украдкой наведывался в Манхэттенвилл и Асторию.[11] Можно сказать, что я прожил эти дни, почти не выходя из кареты.
Когда я снова появился в конторе, на столе меня ждало письмо от домовладельца. Я вскрыл его дрожащими руками. Домовладелец сообщал мне, что он обратился в полицию и Бартлби препровожден в Гробницу за бродяжничество. А поскольку я знаю о нем больше, чем кто бы то ни было, мне следует там побывать и сообщить все известные мне факты. Весть эта произвела на меня смешанное впечатление. Сперва я возмутился, потом пришел к выводу, что возмущаться нечем. Домовладелец, в силу своего энергического, решительного характера, поступил так, как сам я, вероятно, не отважился бы поступить; а между тем при столь необычайных обстоятельствах ничего иного как будто и не оставалось.
Как я узнал впоследствии, бедный переписчик не оказал ни малейшего сопротивления, услышав, что его поведут в Гробницу, но подчинился, по своему обыкновению, молча и безучастно.
К нему присоединилось несколько прохожих — жалостливых и просто любопытных, — и безмолвная процессия, возглавляемая одним из констеблей рука об руку с Бартлби, потянулась по шумным, жарким улицам, среди бурлящей полуденной толпы.
Получив письмо, я в тот же день поехал в Гробницу, или, выражаясь более правильно, в городскую тюрьму. Я разыскал нужного чиновника, изложил ему цель своего приезда, и он подтвердил, что тот, о ком я говорю, действительно здесь. Тогда я заверил его, что Бартлби — честнейший человек, чудак, пусть и безответственный, но достойный всяческого сочувствия. Я рассказал все, что мне было известно, и в заключение добавил, что, по моему мнению, содержать его следует возможно менее сурово и в дальнейшем постараться смягчить его участь, как именно — я, в сущности, и сам не знал. На худой конец, его нужно поместить в богадельню. Затем я попросил о свидании.
Поскольку никакого тяжкого обвинения Бартлби не было предъявлено и поведения он был спокойного, его не запирали в камере и даже разрешали ему свободно выходить на поросшие травой внутренние тюремные дворики. Здесь я и нашел его — он стоял один в самом пустынном дворике, повернувшись лицом к высокой стене, и мне чудилось, что со всех сторон, из узких тюремных окошек, на него смотрят глаза убийц и воров.
— Бартлби!
— Я вас знаю, — сказал он, не оборачиваясь. — Я не хочу с вами разговаривать.
— Не моя вина, что вы здесь, Бартлби, — сказал я, уязвленный подозрением, которое прозвучало в его словах. — А вам здесь, должно быть, не так уж худо. И доброе имя ваше ничуть не пострадает. Да и не такое уж это унылое место, как можно бы ожидать. Взгляните, вон небо, а вот трава.
— Я знаю, где нахожусь, — ответил он, но больше не сказал ничего, и я оставил его в покое.
Когда я входил со двора в коридор, ко мне приблизился дородный, краснолицый мужчина в фартуке и, ткнув большим пальцем через плечо, спросил:
— Ваш приятель?
— Да.
— Он что, хочет с голоду умереть? Тогда пусть живет на тюремной пище, вот и все.
— Кто вы такой? — спросил я, с удивлением услышав в этих стенах столь неофициальную речь.
— Я — кухмистер. Господа, у которых приятели сюда попадают, платят мне, чтобы я кормил этих пташек повкуснее.
— Это правда? — спросил я, обращаясь к тюремщику.
Он сказал, что правда.
— В таком случае, — сказал я, отсыпая кухмистеру в руку немного серебра, — я прошу вас отнестись к моему другу с особым вниманием. Давайте ему лучшие обеды, какие у вас есть. И будьте с ним как можно вежливее.
— А вы нас познакомьте, ладно? — сказал кухмистер с таким выражением, точно ему не терпелось мне показать, как он отменно воспитан.
Я согласился, полагая, что это будет полезно для переписчика, и, спросив у кухмистера, как его фамилия, подошел вместе с ним к Бартлби.
— Познакомьтесь, Бартлби, это мистер Котлетс; он может быть вам очень полезен.
— К вашим услугам, сэр, к вашим услугам, — заговорил тот, шевеля руками под фартуком и отвешивая низкий поклон. — Надеюсь, вам здесь нравится, сэр, — обширное здание, прохладные комнаты, — надеюсь, сэр, вы у нас погостите; постараемся угодить. Разрешите от своего имени и от имени миссис Котлетс пригласить вас отобедать с нами?
— Я предпочту сегодня не обедать, — сказал Бартлби, отворачиваясь. — Мне это вредно; я не привык обедать.
Он медленно отошел в дальний конец дворика и остановился лицом к стене.
— Это что же такое? — произнес удивленный кухмистер. — Какой-то он чудной, а?
— Кажется, он немного помешан, — сказал я печально.
— Помешан, говорите? Ну и ну! А я думал, он фальшивомонетчик из хорошей семьи — они всегда этакие бледные и благородного вида. Очень я их жалею, сэр, очень жалею. Вы Монро Эдвардса знали? — добавил он умильно и помолчал. Потом, соболезнующе положив мне руку на плечо, вздохнул. — Умер от чахотки в Синг-Синге.[12] Так вы не знали Монро?
— Нет, среди моих знакомых не было ни одного фальшивомонетчика. Но мне пора. Позаботьтесь о моем друге. Вы об этом не пожалеете. Я еще к вам наведаюсь.
Спустя несколько дней я опять получил пропуск в Гробницу и стал бродить по коридорам в поисках Бартлби; он мне все не попадался.
— Я недавно видел, как он выходил из своей камеры, — сказал встретившийся мне тюремщик. — Может, слоняется по дворам.
Я пошел в ту сторону.
— Это вы молчальника ищете? — спросил другой тюремщик. — Вон он лежит во дворе — видно, заснул. Он минут двадцать, не больше, как улегся, я видел.
Во дворике стояла тишина. Других заключенных сюда не выпускали. Сквозь окружающие стены не проникал ни один звук, такой они были поразительной толщины. Египетский стиль построек угнетал меня своей мрачностью. Но под ногами росла мягкая узница-трава. Словно здесь было сердце вечных пирамид, в трещинах которого, как по волшебству, проросли семена, оброненные птицами.
И вдруг я увидел, что у самой стены, весь скрючившись, поджав колени, головой касаясь холодного камня, лежит бледный, исхудавший Бартлби. Совершенно неподвижный. Я замер на месте; потом подошел к нему, наклонился и увидел, что мутные глаза его открыты, а сперва мне показалось, что он крепко спит. Что-то побудило меня коснуться его. Я дотронулся до его руки, и дрожь пробежала у меня к плечу, вниз по спине, к ногам.
Тут на меня глянуло круглое лицо кухмистера.
— Обед ему готов. Или он сегодня тоже не будет обедать? Он что же, так и живет, не обедая?
— Живет, не обедая, — сказал я и закрыл невидящие глаза.
— Эге, да он спит?
— Опочил с царями и советниками земли, — прошептал я задумчиво.
Как будто и нет нужды продолжать эту повесть. Краткий рассказ о похоронах бедного Бартлби легко восполнить воображением. Но, прежде нежели расстаться с читателем, я все-таки добавлю, что если эта история его заинтересовала и ему захотелось узнать, кто же был Бартлби и какова была его жизнь до знакомства с рассказчиком, я могу только сказать, что полностью разделяю его любопытство, однако удовлетворить его не могу. И я даже затрудняюсь, следует ли мне передать один незначительный слух, который дошел до меня через несколько месяцев после кончины переписчика. На чем он был основан, мне так и не удалось установить, а значит, и о достоверности его судить не берусь. Но, поскольку смутный этот слух не лишен был для меня известного своеобразного интереса, — пусть вызванные им мысли и были печального свойства, — возможно, что им заинтересуются и другие; поэтому я в нескольких словах все же упомяну о нем. Заключался он в следующем: будто бы Бартлби состоял младшим клерком в Отделе невостребованных писем в Вашингтоне и был оттуда неожиданно уволен в связи со сменой начальства. Не могу выразить, какие чувства охватывают меня, когда я думаю об этом слухе. Невостребованные письма! Разве это не те же мертвецы? Представьте себе человека, от природы и под влиянием жизненных невзгод склонного к вялой безнадежности; есть ли работа, более способная усилить такую склонность, чем бесконечная разборка этих невостребованных писем, предшествующая их сожжению? А сжигают их каждый год целыми возами. Порою из сложенного листка бумаги бледный клерк вынимает кольцо, — палец, для которого оно предназначалось, возможно, уже истлел в могиле; или кредитный билет, посланный в порыве сострадания, — тот, кого он должен был выручить, уже не ест и не знает голода. В этих письмах — прощение для тех, кто умер, во всем изверившись; надежда для тех, кто умер в отчаянии; добрые вести для тех, кто умер, задохнувшись под гнетом несчастий. Посланцы жизни, эти письма гибнут в огне.
О, Бартлби! О, люди!
Примечания
1
Джон Джейкоб Астор (1763–1848) — один из первых американских миллионеров, чья жизнь стала национальным мифом, доказывающим «неограниченные» возможности предприимчивого человека в стране буржуазной демократии.
(обратно)2
Совестный суд — первоначально верховный судебный орган Англии, подчинявшийся только лорду-канцлеру; превратился со временем в учреждение, параллельное обычному суду. США сохраняли эту двойную английскую систему до первых десятилетий XIX в.
(обратно)3
Гробница — нью-йоркская городская тюрьма.
(обратно)4
В соляной столб превратилась, согласно библейскому преданию, жена Лота, которая, вопреки запрету, оглянулась, чтобы посмотреть на город Содом, сожженный богом за грехи его жителей (Быт., 19).
(обратно)5
Петра — имеются в виду находящиеся в Аравийской пустыне развалины древнего города Петра; обнаружены в 1812 г.
(обратно)6
Римский военачальник и политик Гай Марий (157–86 гг. до н. э.) бежал в 88 г. до н. э. от преследования политических противников в Северную Африку и скрывался в развалинах Карфагена, разрушенного римлянами в 146 г. до н. э.
(обратно)7
За и против (лат.)
(обратно)8
Я вспомнил трагедию… — В 1841 г. в Нью-Йорке литератор Джон Кольт застрелил издателя Сэмюэла Адамса.
(обратно)9
Эдвардс Джонатан (1703–1758) — американский теолог; в своих трудах, в частности в трактате «Тщательное и подробное исследование… свободы воли» (1754), обосновал постулат предопределения.
(обратно)10
Пристли Джозеф (1733–1804) — английский философ-материалист, эмигрировал в США (1794) и сыграл заметную роль в американском Просвещении; в таких работах, как «О свободе и необходимости» (1777) выдвигал идею строжайшей причинной обусловленности явлений.
(обратно)11
Джерси-Сити, Хобокен — во времена Мелвилла городки к северу от Нью-Йорка, теперь — его районы; Манхэттенвилл, Астория — центральные районы города, его старейшая часть.
(обратно)12
Синг-Синг — тюрьма штата Нью-Йорк, одна из самых старых и известных тюрем США.
(обратно)


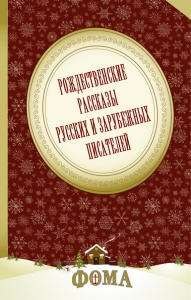

Комментарии к книге «Писец Бартлби. Уолл-стритская повесть», Герман Мелвилл
Всего 0 комментариев