Генри Джеймс Зрелые годы
Апрельский день был мягким, ясным, и бедный Денкомб, обрадованный иллюзией вновь обретенных сил, стоял в гостиничном садике и неторопливо, с примесью вялости, размышлял о прелестях легкой прогулки. Ему нравилось чувствовать по-северному сдержанное присутствие юга; нравились песчаные обрывы и сосновые пятна на них; ему даже нравилось бесцветное море. Борнмут мог сойти за оздоровительный курорт разве только на рекламном объявлении, но теперь Денкомб был рад и самому незамысловатому пристанищу. Общительный деревенский письмоноша, проходивший через сад, только что вручил ему маленький пакет, который Денкомб взял с собой. Оставив гостиницу по правую руку, он поковылял к давно облюбованной скамье, верному убежищу над обрывом. Скамья смотрела на юг, на бледные бока Острова; сзади ее защищало покатое плечо откоса. Добравшись до скамьи, он ощутил усталость. На минуту им овладело разочарование: конечно, он чувствовал себя лучше, но лучше, чем когда? Ему уже не превзойти того Денкомба, каким он был в великие минуты своего прошлого. Бесконечная жизнь миновала, и все, что осталось от его доли, — это по-аптекарски отмеренная мелкая склянка. Он сидел и смотрел на море, плоское, мерцающее, такое мелкое в сравнении с человеческим духом. По-настоящему глубокой, необнажаемой была лишь бездна людских иллюзий. Присланный издателем пакет он держал на колене нераспечатанным. Сейчас, когда так много радостей недоступно ему, когда болезнь заставила почувствовать возраст, — мысль о том, что пакет здесь, у него, доставляла удовольствие. Денкомб заранее готов был к тому, что когда увидит себя «выпущенным», юношеский восторг не возродится в нем с прежней силой. Писатель с именем, Денкомб издавался нередко и заранее знал свои ощущения.
Появившаяся внизу группка — две дамы и молодой джентльмен — дала Денкомбу повод еще промедлить с пакетом. Молча и вразброд они шли по дюнам. Джентльмен склонял голову над книгой; время от времени он останавливался, поглощенный чтением. Книжный переплет, как Денкомб разглядел даже на таком расстоянии, был пленительно красным. Спутницы джентльмена, ушедшие вперед, поджидали, пока тот поравняется с ними. Они воткнули зонты в песок и оглядывали море и небо, любуясь красотой дня. Тем контрастнее проявлялось равнодушие к природе у молодого человека с книгой; мешкотный, легковерный, увлеченный, он вселял зависть в наблюдателя, связь которого с литературой давно лишилась подобной непосредственности. Одна из дам была крупной и в возрасте; другую отличали моложавость и, по всей видимости, подчиненное положение. Облик крупной дамы напомнил Денкомбу о веке кринолинов; дама носила шляпу, украшенную голубой вуалью. Казалось, что она, не без удалой агрессивности, сохраняет верность устаревшей моде или безвозвратному прошлому. Вскоре ее спутница извлекла из складок накидки мягкое переносное кресло, распрямила, и крупная дама воссела на него. Благодаря этой сцене, как равно и жестам обеих дам, тотчас обозначились их роли, — ведь они актерствовали ему на потеху: имущая матрона и скромная приживалка. Чем еще, как не умением определить связь между героями, может отличиться именитый романист? Весьма неглупое предположение: молодой человек приходится имущей матроне сыном, а скромная приживалка, дочь священника или офицера, питает к нему тайную страсть. Разве не видно, как она прячется за спину покровительницы, чтобы тайком бросить на него взгляд? -посмотреть туда, где он остановился, пока мать его присела отдохнуть. Книга в руках юноши была романом в дешевом ярком переплете; романтика самой жизни стояла незамеченная подле него, а он искал романтики в библиотеках. Юноша механически подался туда, где песок был мягче, и даже поворошил его, чтобы с удобством закончить главу. Скромная приживалка, расстроенная его отдалением, понуро побрела в другую сторону, а пышная леди, наблюдавшая за волнами, приобрела смутное сходство с разобранным летательным аппаратом.
Когда действо себя исчерпало, Денкомб вспомнил, что у него, в конце концов, есть собственное развлечение. Хотя такое проворство со стороны издателя и редкость, сегодня Денкомб уже мог извлечь из обертки свою «свежую», а может быть, и последнюю. Обложка «Зрелых лет» была вполне достойной, в запахе страниц улавливался аромат вечности. Денкомб на минуту замер: он вдруг почувствовал странное отчуждение. Он забыл, о чем эта книга. Неужели приступом застарелого недуга, на который он тщетно искал управы в Борнмуте, напрочь было стерто его прошлое? Он закончил редактуру перед отъездом из Лондона, но последующие две недели вычеркнули из памяти все. Денкомб не мог напеть себе ни одного предложения, не мог найти — с любопытством или уверенностью — ни одной памятной страницы. Предмет книги ускользнул от него бесследно. Вдохнув холодной темной пустоты, Денкомб издал глухой стон, — таким безнадежно близким показался ему зловещий финал. Его кроткие глаза наполнились слезами; что-то драгоценное покинуло его. Жало утраты язвило его несколько последних лет — чувство отступающего времени, упущенных возможностей; он чувствовал: счастье не сейчас уходит от него, оно уже ушло. Он сделал все, что был должен, но не сделал того, что хотел. Ощущение конца пути мучило его, тисками сжимая горло. Охваченный ужасом, он порывисто поднялся со скамьи и тотчас беспомощно осел. Нервно раскрыл свою книгу. Один том: Денкомб предпочитал однотомники и, как немногие, стремился к сжатому письму. За чтением он мало-помалу успокоился и вновь обрел уверенность. Все вернулось к нему, вернулось и изумление, и, прежде всего, ощущение высокой и могущественной красоты. Он читал собственную прозу, перелистывал свои страницы; сидя на весеннем солнцепеке, он был объят редкими по насыщенности эмоциями. Его карьера несомненно завершена, но завершилась она, в конце концов, этим.
За время болезни он позабыл работу прошлого года; но, главное, позабыл, сколь необычайно хороша она. Денкомб вновь погрузился в сюжет и был увлечен им, словно рукой сирены, туда, где в тусклой преисподней литературы, в застекленном водоеме искусства плавают странные молчаливые предметы. Он вспомнил свой замысел и отдал дань своему дарованию. Никогда еще его талант, в границах, отмеренных Денкомбу судьбой, не достигал такого совершенства. В этой книге он не избежал обычных своих огрехов, но было в ней и мастерство, которое — как понял он, но, увы, не поймет никто другой — их искупало. В той творческой мощи, которой он сейчас удивленно восторгался, брезжила надежда на возможную отсрочку. Эта мощь далеко не исчерпана: в ней есть еще жизнь, она еще послужит. Денкомб нелегко наработал мастерство, добывал его окольными путями, задним умом. Его творческая сила — дитя постепенности, питомец промедлений; как он сражался за нее и страдал, приносил бесчисленные жертвы! Теперь, когда она вызрела, должен ли он отказаться от плодов, должен ли признать жестокое поражение? Денкомб переживал бесконечное очарование доселе неведомого чувства, что усердие vincit omnia[1]. Эта маленькая книга в какой-то мере вышла за пределы его замысла: как будто он посеял семена, доверился своей методе, и теперь дар его окреп и сладостно расцвел. Но путь к нынешним достижениям, хотя и бесспорным, оказался весьма болезненным. Сегодня он ясно видел, и это мучило его, словно гвоздь, вбитый в тело, что только теперь, в самом конце, вступил он во владение своим даром. Его писательское развитие было ненормально медленным, чуть ли не гротескно постепенным. Ему препятствовал и чинил задержки опыт; он подолгу останавливался, чтобы нащупать свой путь. Слишком много жизни он потратил, воплощая слишком малую толику своего мастерства. Мастерство пришло, но пришло под конец. При таком ритме первая жизнь оказалась чересчур короткой — ее хватило только, чтобы собрать материал; чтобы плодоносить, нужен второй век, нужно продолжение. О нем-то и кручинился Денкомб. Переворачивая последние страницы, он бормотал: «Еще одна попытка, еще один шанс».
Трое, приковавшие его внимание к пескам, исчезли и появились снова; они шли по искусственно проложенной пологой тропинке, что вела на вершину утеса. Скамья Денкомба помещалась на уступе на полпути к вершине, и крупная леди, массивное хаотичное существо со смелыми черными глазами и мягкими розовыми щеками, задержалась у скамьи отдохнуть. На ней были грязные краги и огромные бриллиантовые серьги; на первый взгляд она казалась вульгарной, но это впечатление нарушал приятный открытый тон ее голоса. Она расправила юбки, опустившись на край скамьи, а ее компаньоны остановились невдалеке. Молодой человек носил золотые очки, через которые он, все еще закладывая пальцем свою книгу в красной обложке, вперился в покоящийся на коленях Денкомба том в переплете того же цвета и оттенка. Мгновение спустя Денкомб почувствовал, что сходство томов ошеломило молодого человека: тот узнал золотую эмблему на малиновой материи, увидел, что кто-то читает «Зрелые годы» одновременно с ним. Незнакомец был удивлен, даже раздражен, что не ему одному достался свежий экземпляр. Взгляды обоих собственников встретились на миг, и Денкомб принял то же выражение изумления, что и его соперник и, как можно было догадаться, поклонник. Каждый признался себе, что возмущен, — оба, казалось, говорили: «Черт побери, он уже заполучил ее? Наверняка, он — критик, из свирепых». Денкомб передвинул свой экземпляр из поля зрения незнакомца, а полная матрона, вставая, прервала молчание: «Этот воздух пошел мне на пользу!»
— Я не могу сказать того же, — отозвалась угловатая дама, — я чувствую слабость.
— Я ужасно голодна. На который час вы назначили обед? — осведомилась патронесса.
Молодой человек проигнорировал вопрос.
— Доктор Хью всегда делает заказы, — произнесла ее спутница.
— Я ничего не заказал на сегодня. Я назначил вам диету, — подал голос молодой человек.
— Тогда я отправлюсь домой и лягу спать. Qui dort dine![2]
— Могу ли я доверить вас мисс Вернхам? — спросил доктор Хью у старшей компаньонки.
— Разве я не могу довериться вам? — насмешливо парировала та.
— Видимо, не слишком! — дерзко объявила мисс Вернхам, опустив глаза долу. — Вы должны проводить нас хотя бы до дома, — продолжила она, когда крупная леди, объект их ухаживаний, продолжила подъем. Едва та покинула пределы слышимости, мисс Вернхам уже менее отчетливо (для Денкомба, во всяком случае) пробормотала молодому человеку: «Мне кажется, вы не осознаете, сколь многим обязаны графине!»
Доктор Хью отсутствующе поглядел на нее сквозь блестящие, оправленные золотом очки.
— Такое-то впечатление я произвожу на вас? Понятно, понятно!
— Она крайне добра к нам, — продолжила мисс Вернхам, из-за промашки собеседника вынужденная стоять вблизи от незнакомца, хотя обсуждаемые материи были сугубо частными. Умение Денкомба улавливать тончайшие оттенки было бы посрамлено, если бы он не связал этой сцены с выздоравливающей тихой старухой в широкой твидовой накидке. Мисс Вернхам, должно быть, тоже почувствовала эту связь и добавила: «Если вы хотите принимать здесь солнечные ванны, то сможете сюда вернуться, проводив нас домой».
После этих слов доктор Хью заколебался, и Денкомб, вопреки своему желанию притвориться глухим, рискнул украдкой взглянуть на врача. Его встретили странные, совершенно пустые глаза молодой леди; она напоминала ему какой-то персонаж — он не мог вспомнить, какой — из пьесы или романа, некую зловещую гувернантку или трагедийную старую деву. Она как будто разглядывала его, бросала ему вызов, говорила со злобой: «Что тебе до нас?». В ту же минуту сочный голос графини настиг их: «Идите, идите, мои ягнятки; вы должны следовать за вашей старой bergere[3]». Мисс Вернхам повернулась к ней и начала подъем, а доктор Хью, после очередной немой перепалки с Денкомбом и очевидного минутного замешательства, положил книгу на скамейку, то ли чтобы занять место, то ли в залог непременного возвращения, и без труда последовал за дамами, к крутой части откоса.
Удовольствие от наблюдения за жизнью и способы ее изучения одинаково невинны и бесконечны. Бедного Денкомба, бездельничающего на теплом воздухе, занимало ожидание, он верил, что скоро ему откроются глубины молодого утонченного разума доктора. Он вглядывался в книгу на краю скамьи, но не коснулся бы ее ни за что на свете. Он довольствовался построением теорий, не подвергая их проверке. Меланхолия его развеивалась; он, по собственной старой формуле, словно бы выглянул из окна. Графиня, старшая из возвращающихся дам, проходя мимо, нарисовала в воображении Денкомба картину: великанша, сопровождаемая караваном. Удручали одни только общие размышления, частные же наблюдения, вопреки мнению некоторых, были отрадой, лекарством. Доктор Хью — не кто иной, как рецензент, у которого была договоренность о свежих поступлениях либо с издателями, либо с газетами. Доктор вернулся через четверть часа с видимым облегчением от того, что Денкомб все еще на месте, и с белозубой, несколько смущенной, но щедрой улыбкой. Он был явно разочарован исчезновением второго экземпляра книги: это отнимало повод заговорить с молчаливым джентльменом. Но он все равно заговорил; взял свой экземпляр и просительно начал: «Согласитесь, это лучшее из того, что он до сих пор создал!»
Денкомб ответил смехом: это «до сих пор» изумило его, ведь оно предполагало будущность. Молодой человек принял его за критика, — тем лучше. Денкомб извлек «Зрелые годы» из-под накидки, но инстинктивно удержался от предательского отцовского выражения, отчасти потому, что требовать оценки своих трудов значит выставлять себя дураком. «Вы так и напишете?», — спросил он гостя.
— Я не уверен, что стану писать. Как правило, я не пишу критики, а мирно наслаждаюсь. Но это действительно прекрасно.
Денкомб обдумывал положение. Если бы молодой человек стал оскорблять его, он немедленно открылся бы ему; но не будет вреда в том, чтобы побудить юношу к похвалам. Денкомб так преуспел в этом, что через несколько минут его новый знакомый, присевший рядом, откровенно признался, что сочинения этого автора — единственное, что он может перечитывать дважды. Доктор только вчера прибыл из Лондона, где его друг, журналист, одолжил ему экземпляр новой книги — экземпляр, посланный в редакцию газеты и уже ставший предметом «сообщения», подготовка которого отняла у журналиста — с поправкой на похвальбу — целую четверть часа. Доктор намекнул, что ему стыдно за друга и его дурные манеры по отношению к труду, достойному изучения. Свежесть оценок и столь редкая готовность их изложить превратили доктора в важного и желанного собеседника. Случай свел усталого литератора лицом к лицу с величайшим юным поклонником, каким и гордиться незазорно. Поклонник и в самом деле был необычным: так редко встретишь язвительного молодого врача, — а этот выглядел, как немецкий физиолог, — влюбленного в литературу. Это был счастливый случай, счастливее многих; так что Денкомб целых полчаса с воодушевлением и смятением слушал собеседника, — сам же молчал. Обладание свежим экземпляром «Зрелых лет» он объяснил дружбой с издателем, который, зная, что Денкомб отправляется в Борнмут на лечение, оказал ему таким образом благородное внимание. Он признал, что болен, иначе доктор Хью сам безошибочно определил бы это. Он зашел еще дальше, поинтересовавшись, не сможет ли получить какой-нибудь гигиенический совет от лица, предположительно сочетающего столь пылкий энтузиазм со знанием модных нынче снадобий. С его убеждениями не пристало относиться серьезно к врачу, который настолько всерьез воспринимал его, но ему нравился этот фонтанирующий современный юнец, и он уязвленно думал, что в мире, где возможны столь странные сочетания, есть еще место для его трудов. Неверно было то, в чем он пытался убедить себя в порыве самоотречения, — будто все комбинации исчерпаны. Это не так, они бесконечны, — исчерпан лишь жалкий художник.
Доктор Хью, пламенный физиолог, был пропитан духом своего времени, иными словами, он только что получил степень. Его интересы были независимы и разнообразны; он говорил как человек, всему предпочитавший литературу. Он с радостью принялся бы нанизывать изящные периоды, но природа обделила его этим умением. Лучшие места в «Зрелых годах» поразили его сверх меры, и он, заручившись позволением Денкомба, зачитывал некоторые, чтобы подкрепить свои суждения. На мягком воздухе курорта доктор оживлял одиночество Денкомба; казалось, он был послан для развлечения больного. Особенно ярко доктор описывал, как недавно и как скоро в него вселил вдохновение тот единственный, кто облек плотью худые бока искусства, истощенного предрассудками. Доктор так и не собрался написать автору, его стесняла почтительность. При этом известии Денкомб сильнее, чем когда-либо, обрадовался тому, что никогда не поддавался на просьбы фотографов. Отношения с молодым визитером дарили ему роскошь общения, хотя писатель и был уверен, что на деле свобода доктора Хью в немалой степени будет зависеть от графини. Ему незамедлительно открылось, какой тип являла собой графиня и какой природы узы связывали это любопытное трио. Крупная дама, англичанка по крови, дочь прославленного баритона, чьему вкусу — но не таланту — она наследовала, была вдовой французского вельможи и владелицей всего, что осталось от отцовского изрядного состояния, назначенного ей в приданое. Мисс Вернхам, странное существо и сложившаяся пианистка, состояла на жалованье у аристократки. Графиня была щедра, независима и эксцентрична; она путешествовала с собственным менестрелем и лекарем. Невежественная и необузданная, она, тем не менее, в иную минуту бывала почти неотразима. Денкомб наблюдал, как она позирует доктору Хью для портрета, и схема отношений молодого друга с этой особой сложилась в его голове. Его собеседник, представитель новой психологии, сам был легко внушаем, и его чрезмерная общительность — лишь признак податливости. Денкомб легко управлялся с ним, даже и не обнаруживая своего имени.
Занемогшая во время швейцарской поездки, графиня подобрала доктора в отеле: ему случилось угодить больной. Происшествие это дало ей повод с властной щедростью предложить условия, которые вскружили голову врачу без практики, чьи карманы были опустошены занятиями. Не так предполагал он проводить свои дни, но этот период должен был миновать быстро, а графиня была так чудесно мила. Она требовала неослабного внимания, но не любить ее было невозможно. Доктор делился подробностями о своей чудаковатой пациентке: к ее буйной тучности и болезненному напряжению неистовой и бесцельной воли примешивалось тяжелое органическое расстройство. Но доктор неизменно возвращал разговор к любимому романисту, которого любезно провозгласил поэтом большим, нежели многие, выбравшие стихи своим поприщем. Пыл доктора, как и его неосторожность, подогревался симпатией Денкомба и сходством их занятий. Денкомб признался, что немного знаком с автором «Зрелых лет», но почувствовал, что не готов делиться подробностями, которых жаждал его собеседник, ранее не встречавший столь привилегированных людей. Он даже уловил в глазах доктора Хью блеск подозрения. Впрочем, молодой человек слишком волновался, чтобы быть проницательным, и снова и снова брался за книгу, восклицая: «Заметили ли вы это?» или «Разве вас не поразило то?». «Ближе к концу есть чудесный пассаж», — объявил доктор и снова взял в руки том. Переворачивая страницы, он наткнулся на что-то иное, и Денкомб увидел, как цвет его лица изменился. Врач взял вместо своего экземпляр Денкомба, лежащий на скамье, и писатель моментально угадал причину испуга молодого человека. Доктор Хью на мгновение помрачнел; затем он произнес: «Я вижу, вы правили текст!» Денкомб был страстным корректором, апологетом стиля; для него идеалом было бы втайне отпечатать книгу, а затем, по напечатанному, предаться свирепой правке — всегда приносить в жертву первую редакцию, а потомству и даже бедолагам коллекционерам отправлять лишь вторую. Этим утром его карандаш оставил вмятины на доброй дюжине книжных страниц. Денкомба потряс упрек молодого человека; писатель в тот же миг побледнел. Он пробормотал что-то невнятное и увидел, краем ускользающего сознания, заинтригованные глаза доктора Хью. Денкомб лишь успел понять, что недуг вновь овладевает им, — что эмоции, возбуждение, усталость, жар от солнца, обманчивый воздух соединились, чтобы сыграть с ним дурную шутку, — он протянул руку к собеседнику с жалобным стоном и разом лишился чувств.
Позже он узнал, что упал в обморок и что доктор Хью доставил его домой в инвалидном кресле; служка, хозяин кресла, прогуливавшийся по своему обычаю невдалеке от гуляющих больных, вспомнил, что видел Денкомба в саду отеля. Чувства вернулись к Денкомбу по пути в гостиницу, и, лежа тем вечером в постели, он смутно припомнил юное лицо доктора Хью, который, провожая Денкомба, склонился над ним с утешительным смехом и словами разоблачения. То, что нельзя больше скрывать свою личность, наполняло Денкомба печалью и страданием. Он был опрометчив, глуп, слишком удалялся от гостиницы, чересчур долго оставался на воздухе. Ему не следовало делить общество незнакомцев, лучше было взять с собой слугу. Ему казалось, что он падает в бездну столь глубокую, что даже клочка неба не увидать. Он не знал наверняка, сколько времени прошло; он собирал воедино обрывки событий. Его посетил доктор, тот, что пользовал Денкомба и ранее. Доктор был очень предупредителен. Наученный происшествием, слуга Денкомба ходил на цыпочках. Слуга не раз говорил что-то про умного молодого джентльмена. Остальное терялось в сумерках неопределенности, если не безысходности. Сумеречность отчасти оправдывалась его долгими снами, дремотой, которая внезапно вынесла его к реальности темной комнаты и зажженной свечи.
— Вы поправитесь. Теперь-то я все о вас знаю, — произнес близкий и, как определил Денкомб, молодой голос. Встреча с доктором Хью вернулась в его сознание. Писатель был слишком подавлен, чтобы смеяться над случившимся, но интерес его к посетителю был силен.
— Конечно, я не могу пользовать вас регулярно, — у вас есть свой врач. Я говорил с ним, он отличный доктор, — продолжил доктор Хью. — Но вы должны позволить мне навещать вас на правах доброго друга. Сейчас я заглянул к вам перед тем, как отправиться спать. Ваши дела идут прекрасно, но было очень кстати, что я оказался рядом с вами на утесе. Я приду завтра рано утром. Я хочу что-нибудь сделать для вас. Вы сделали для меня так много, — молодой человек, нависая над больным, взял его руку, и бедный Денкомб, еле почувствовавший это живое пожатие, слабо ответил на него. Он испытывал нужду в этих знаках преданности — уж очень ему требовалась поддержка.
Мысль о помощи, в которой он нуждался, со всей отчетливостью сложилась той ночью, проведенной им в некой прозрачной неподвижности. Сила его мысли как будто возмещала часы ступора. Он пропал, пропал — он пропал, если только его не спасут. Он не боялся ни страдания, ни смерти, он даже не испытывал любви к жизни; но в нем таилось одно глубинное желание. В долгие тихие часы болезни он уверился, что лишь в «Зрелых годах» он воспарил; лишь в тот день он, посещенный бессловесной вереницей образов, обозрел свои владения. Его пределы открылись ему. Страшился он той лишь мысли, что репутация его будет покоиться на незавершенном деле. Это касалось не прошлого, но будущего. Болезнь и возраст выросли перед ним как два идола с безжалостными очами: какое мыто даст он Паркам, чтобы пожаловали его вторым веком? У него был один шанс, данный людям, — жизнь. Он опять уснул очень поздно, а когда проснулся, доктор Хью сидел рядом. На этот раз близость к доктору показалась Денкомбу особенно прекрасной.
— Не думайте, что я отвадил вашего врача, — сказал гость. — Я действую с его разрешения. Он был здесь и наблюдал вас. Кажется, он мне доверяет. Я рассказал ему, как вчера мы вместе добирались сюда, и он признает мои особые права.
Денкомб почувствовал стеснение:
— Как вам удалось обхитрить графиню?
Молодой человек покраснел, но справился с собой:
— Ах, не думайте о графине!
— Вы говорили мне, что она очень капризна.
Доктор Хью помедлил с ответом.
— Так и есть.
— А мисс Вернхам — intrigante.
— Как вы это узнали?
— Я все знаю. Чтобы прилично писать, приходится разбираться в таких вещах.
— Я думаю, она сумасшедшая, — сказал доктор Хью без обиняков.
— Все же не ссорьтесь с графиней. Сейчас она для вас — главная поддержка.
— Я не ссорюсь, — парировал доктор Хью. — Я не лажу с глупыми женщинами.
Затем он добавил:
— Вы ведь совсем одиноки.
— Это часто случается в моем возрасте. Я пережил всех, я все растерял по пути.
Доктор Хью запнулся, затем преодолел сомнения:
— Кого вы потеряли?
— Всех.
— Нет, — выдохнул юноша и положил руку на плечо Денкомба.
— У меня была жена, был сын. Жена умерла родами, а сына, еще в школе, унес тиф.
— Как жаль, что меня там не было! — воскликнул доктор Хью.
— Что ж, вы ведь здесь, — ответил Денкомб с улыбкой, которой показал, как он ценит теперешнее присутствие собеседника.
— Вы странно говорите о своем возрасте. Вы не стары.
— Как рано вы стали лицемерить!
— Я говорю о физиологии.
— Да, именно это я твержу себе в последние пять лет. Мы говорим, что еще молоды, только когда состаримся.
— Ну я-то знаю, что я молод, — ответил на это доктор Хью.
— Но знаете не так хорошо, как я, — рассмеялся пациент. Посетитель его столь же искренно сменил точку зрения и заметил, что одна из прелестей возраста — по крайней мере, для выдающихся личностей — в ощущении успеха, достигнутого трудом. Доктор Хью употребил расхожую фразу о заслуженном отдыхе, и она почти привела в ярость бедного Денкомба. Он взял себя в руки, чтобы объяснить, весьма доходчиво, что его это утешение, увы, обошло, и только оттого, что он впустую растратил бесценные годы. Он с самого начала определил себя в литературу, но ему понадобилась целая жизнь, чтобы поравняться с ней. Лишь сегодня, наконец, он стал видеть, что весь прежний его путь был беспорядочным блужданием. Он созрел слишком поздно и оказался так неуклюже устроен, что вынужден был учиться на собственных ошибках.
— В таком случае, я предпочту ваши цветы чужим плодам и ваши ошибки иным успехам, — сказал галантный доктор Хью. — Из-за ваших ошибок я и восторгаюсь вами.
— Вы — счастливый человек. Вы не знаете, что говорите, — ответил Денкомб.
Посмотрев на часы, молодой человек поднялся; он назвал вечерний час, когда он собирается вернуться. Денкомб предостерег его от слишком глубокой привязанности и снова выразил опасение, что из-за него доктор пренебрегает графиней и, того гляди, навлечет на себя ее недовольство.
— Я хочу, как вы, учиться на собственных ошибках, — рассмеялся доктор Хью.
— Смотрите не увлекайтесь! Но и возвращайтесь, — прибавил Денкомб, у которого забрезжила новая идея.
— Вам нужно больше досуга! — его друг говорил так, словно знал, сколько досуга полагается литераторам.
— Нет, нет — мне нужно больше времени. Мне нужна другая попытка.
— Другая попытка?
— Я хочу отсрочки.
— Отсрочки? — доктор Хью эхом вторил словам Денкомба — словам, которые его поразили как гром.
— Неужели не понимаете — я хочу, что называется, «жить».
Молодой человек взял на прощание его руку; пожатие Денкомба было сильным. Они посмотрели друг на друга в упор.
— Вы будете жить, — сказал доктор Хью.
— Не бросайтесь словами. Это слишком серьезно.
— Вы должны жить! — провозгласил визитер, побледнев.
— Так-то лучше! — и, когда доктор вышел, больной рухнул с беспокойным смешком.
Весь остаток дня и всю ночь он размышлял над своим шансом. Приходил его доктор, слуга проявлял заботливость, но мысли Денкомба были прикованы к его юному наперснику. Обморок Денкомба на утесе нашел правдоподобное объяснение, и завтрашний день обещал улучшение и освобождение. При всей напряженности раздумий он оставался спокоен и безразличен. Хотя мысль, занимавшая его, и была болезненной фантазией, от этого она не казалась менее привлекательной. Ему предстало дитя нового века, искусное и пылкое; этот юноша возвеличит его, доставив ему преклонение ценителей. Этот слуга у его престола наделен ученостью нового знания и благоговением старой веры; неужели он не употребит свою науку во имя сострадания, не использует ремесло на благо своей любви? Верно ли, что он изыщет средство для бедного художника, чьему искусству отдает дань? Если нет, то участь Денкомба будет тяжела: его примет молчание, непобедимое и безраздельное. Остаток дня и следующий день он забавлялся этою тщетной мыслью. Кто сотворит для него чудо, как не юноша, сочетающий в себе такой блеск и такую страсть? Денкомб думал о волшебных сказках, сотворенных наукой, и обольщал себя чудом, которого — он забыл — на этом свете не существовало. Доктор Хью явился, как дух, и не подчинялся привычным законам. Он продолжал приходить и уходить, а больной, теперь уже сидя, провожал его молящим взглядом. Знакомство со знаменитым автором заставило юношу вновь прочесть «Зрелые годы» и помогло найти новый смысл на страницах книги. Денкомб рассказал доктору, к чему он «стремился»; при всем своем уме доктор Хью не разгадал авторского замысла в первом чтении. Раздосадованная знаменитость вопрошала, кто в таком случае мог прийти к разгадке; в который раз писатель поражался тому, как можно не узреть его замысла во внятной тяжести слов. Впрочем, Денкомб не стал сетовать на современный вкус, пусть это и было обычным утешением: осознание собственной медлительности делало для него неподсудной любую глупость.
Через несколько дней доктор Хью начал выказывать озабоченность и после расспросов признал, что поводом к замешательству служат его домашние. «Держитесь графини, забудьте обо мне», — многократно повторял Денкомб доктору, откровенно описывавшему настроения леди. Она была возмущена этаким вероломством — и ревновала так сильно, что слегла. Она платила за его преданность столько, что рассчитывала на нее безраздельно: она отказывала ему в праве на другие увлечения, обвиняла его в происках, заявляла, что он оставил ее умирать в одиночестве, — стоит ли говорить, каким слабым утешением в трудную минуту была мисс Вернхам. Когда доктор Хью отметил, что графиня давно покинула бы Борнмут, если бы он не держал ее в постели, Денкомб задержал его руку в своей и решительно сказал: «Увезите ее». Они вместе вышли к укромному уголку, где встретились на днях. Молодой человек, поддерживавший спутника, твердо объявил, что совесть его чиста, — он мог бы управиться с двумя больными. Не он ли мечтал о том будущем, где их будет пятьсот? Стремясь быть честным, Денкомб указал, что в этом золотом веке никто из пациентов не будет претендовать на безраздельное внимание доктора. Разве не законны притязания графини? Доктор Хью возразил, что их не связывает контракт, одно лишь соглашение, и что жалкое рабство противно его щедрому духу. Гораздо больше хотелось ему говорить об искусстве, — этим предметом он старался увлечь автора «Зрелых лет», когда они присели на залитую солнцем скамью. Денкомб, воспаряя на слабых крыльях выздоровления и по-прежнему преследуемый счастливой идеей готовящегося избавления, еще раз напряг свое красноречие, дабы ораторствовать о своем роскошном «последнем стиле» — будущей цитадели его репутации, твердыне, в которой он соберет свои сокровища. Собеседник Денкомба уделил ему все утро, и огромное тихое море словно бы застыло — за монологом писатель переживал прекраснейший час своей жизни. Он и сам вдохновился, повествуя о том, из чего сложит он сокровищницу: он добудет драгоценные металлы из копей, редкие каменья, между колонн своего храма развесит он жемчужные нити. Он удивлял себя убежденностью речей, но еще более удивлял он доктора Хью, который при этом уверял писателя, что свежеизданные страницы ничуть не меньше усыпаны самоцветами. И все же у поклонника захватывало дух от грядущих сочетаний слов, и — при свете восхитительного дня — он еще раз дал Денкомбу зарок, что его ремесло обязано защитить жизнь такого человека. Внезапно доктор похлопал по кармашку для часов и попросил о получасовой отлучке. Денкомб остался ждать его возвращения; к действительности его вернула упавшая на землю тень. Тень сгустилась до контуров мисс Вернхам, юной леди под опекой графини. Денкомб так ясно видел, что она пришла говорить с ним, что поднялся со скамьи и отдал ей дань любезности. Мисс Вернхам вовсе не выглядела любезной: она казалась необычно возбужденной, и характер ее теперь угадывался безошибочно.
— Вы простите мое любопытство, — сказала она, — если я спрошу, есть ли надежда убедить вас, чтобы вы оставили в покое доктора Хью? — и прежде, чем наш бедный, глубоко обескураженный друг смог возразить: — Вы должны знать, что стоите у него на пути, что можете причинить ему ужасный вред.
— Вы имеете в виду, что графиня может отказаться от его услуг?
— Она может лишить его наследства.
Денкомб затих в изумлении. Мисс Вернхам, подбодренная произведенным впечатлением, продолжала:
— От него одного зависело, получит ли он изрядную сумму. У него были прекрасные возможности, но, кажется, вам удалось пустить их под нож.
— Ненамеренно, я уверяю вас. Неужели нет надежды исправить положение? — спросил Денкомб.
— Она была готова сделать для него все. У ней бывают причуды, и она дает им волю — такая у нее манера. У нее нет родственников, она свободна распоряжаться своими средствами и она очень больна, — сказала мисс Вернхам в довершение.
— Мне горько это слышать, — пробормотал Денкомб.
— Возможно ли, чтобы вы покинули Борнмут? Я за этим пришла.
Он опустился на скамью.
— Я и сам очень болен, но я попытаюсь.
Мисс Вернхам возвышалась над ним — с бесцветным взглядом и беспощадностью чистой совести. «Пока не поздно, пожалуйста», — сказала она и повернулась, чтобы стремительно, словно готова была уделить этому делу лишь одну драгоценную минуту, скрыться из виду.
О да, после разговора Денкомб и впрямь почувствовал себя тяжело больным. Мисс Вернхам принесла ему жестокую и болезненную весть; для него было потрясением осознать, что ставил на кон этот способный безденежный юноша. Денкомб сидел на скамье дрожа; он смотрел на пустые воды, и боль от прямого удара переполняла его. Он и в самом деле был слишком слаб, слишком неустойчив, слишком встревожен. Но он попытается уйти. Он не возьмет на себя вину за это вмешательство; его честь задета. Сейчас, во всяком случае, он поковыляет домой, а там поразмыслит, что ему делать. Он добрался до дому; по дороге ему открылось, чем была движима мисс Вернхам. Разумеется, графиня ненавидела женщин, — это было ясно Денкомбу; поэтому у алчной пианистки не могло быть видов на наследство, и она утешала себя дерзкой мыслью помочь доктору Хью сейчас, чтобы, когда он получит деньги, выйти за него замуж или иным способом заставить врача признать ее притязания и дать ей отступного. Если бы она стала его другом, в критический момент он, в ком она угадала человека деликатного, должен был бы рассчитаться с ней.
В гостинице слуга настоял, чтобы Денкомб вернулся в постель. Больной говорил о поезде, велел укладывать вещи, но затем его расстроенные нервы не выдержали, и он поддался недугу. Он согласился на визит своего врача, за которым тотчас же послали, но твердо дал понять, что его двери бесповоротно закрыты для доктора Хью. У него появился план, такой тонкий, что Денкомб, уложенный в кровать, еще долго восторгался им: доктор Хью, внезапно обнаружив, что его безжалостно осадили, естественным образом оскорбится и восстановит лояльность к графине — на радость мисс Вернхам. От прибывшего врача Денкомб узнал, что у него лихорадка и что это очень скверно: он должен сохранять спокойствие и, насколько возможно, не думать. Остаток дня Денкомб посвятил безмыслию; но ему не давала забыться одна рана — он принес в жертву свою «отсрочку», положил предел собственной жизни. Его врач был весьма удручен: рецидивы болезни выглядели все более угрожающими. Он наказал своему подопечному бестрепетно выбросить доктора Хью из головы — это будет ох как полезно для его спокойствия. Волнующее имя более не произносилось в комнате больного; но все его благополучие зиждилось на подавляемом страхе, и страх этот не ослабел, когда в десять часов вечера слуга Денкомба прочел хозяину лондонскую телеграмму за подписью мисс Вернхам. «Умоляю Вас использовать свое влияние, чтоб заставить нашего друга присоединиться к нам в Лондоне завтрашним утром. Графине хуже от ужасной дороги, но все еще можно спасти». Две дамы собрались с силами и мстительно переломили ход событий. Они отправились в столицу, и если старшая из них и была тяжело больна, как заявляла мисс Вернхам, то это не убавило в ней безрассудности. Бедный Денкомб, который не был безрассудным и хотел только того, чтобы все было «спасено», переправил это послание прямиком в квартиру молодого человека, а на следующее утро с удовлетворением узнал, что доктор покинул Борнмут ранним поездом.
Два дня спустя он вырвался в Борнмут с литературным журналом в руках. Доктор вернулся, будучи озабочен состоянием друга и ради удовольствия показать больному большой обзор «Зрелых лет». Статья была на высоте — наконец-то она отвечала масштабу книги, была одобрением, подобающим возмещением, попыткой критика поместить писателя на заслуженный пьедестал. Денкомб покорился и принял дар; он не возразил, не предложил никакого вопроса, ибо тягостные соображения вновь настигли его, и он провел два мрачных дня. Теперь писатель был убежден, что никогда не покинет постели, что его состояние извиняет присутствие молодого друга и что терпение его соперников будет уязвлено самым умеренным образом. Доктор Хью побывал в Лондоне, и Денкомб пытался найти в его взгляде подтверждение тому, что графиня успокоена и будущность молодого человека обеспечена; но все, что писатель видел, — это лишь блеск юношеской радости от двух-трех газетных фраз. Денкомб не мог пробежать их глазами, но после того как его посетитель настоял на повторном чтении, больному хватило сил, чтобы покачать незатуманенной головой:
— Ах, нет, эти слова — о том, что я мог бы написать.
— То, что мы «могли бы сделать», это, как правило, то, что мы сделали, — возразил доктор Хью.
— Как правило, это так, но я был так глуп! — ответил Денкомб.
Доктор Хью остался; конец был близок. Двумя днями позже больной заметил ему, едва облекая свои слова в форму шутки, что теперь нет и речи о втором шансе. Молодой человек застыл, затем воскликнул:
— Почему это случилось так? — случилось так! Второй шанс принадлежит публике — шанс найти верный подход, подобрать жемчужину.
— Ах, жемчужину! — тяжело вздохнул бедный Денкомб. Улыбка, холодная, как зимний закат, заиграла на его искаженных усилием губах, когда он добавил:
— Жемчужина — в ненаписанном; жемчужина — в незамутненном, в несозданном, в утерянном!
С этого часа он становился все более и более безучастным, равнодушным ко всему, что происходило вокруг. Его болезнь определенно была смертельной, а действие ее после краткой передышки, когда он встретился с доктором Хью, стало неудержимым, словно течь в большом корабле. Он безвозвратно погружался, а его гость, человек незаурядных способностей, теперь уже сердечно принятый домашним врачом, проявлял редкую искусность, ограждая Денкомба от боли. Денкомб не выказывал ни внимания, ни небрежения; не выражал ни сожаления, ни каких-либо мнений. Все же перед концом он дал понять, что заметил двухдневное отсутствие доктора Хью, — открыл глаза и задал вопрос, провел ли доктор эти дни у графини?
— Графиня умерла, — ответил доктор Хью. — Я знал, что ее организму не перенести такого состояния. Я ходил на ее могилу.
Денкомб расширил глаза:
— Она оставила вам деньги?
Молодой человек издал смешок, почти неуместный у смертного одра:
— Ни пенни. Она прямо прокляла меня.
— Прокляла вас? — простонал Денкомб.
— За то, что я отказался от нее. Я отказался ради вас. Я должен был выбирать, — объяснил собеседник.
— Вы дали наследству уйти?
— Я решил принять последствия своего увлечения, какими бы они ни были, — улыбнулся доктор Хью. Затем, с большей шутливостью, добавил:
— Черт с ним, с наследством! Это вы виноваты, что я не могу выбросить из головы ваши творения.
Немедленным откликом на его юмор был стон замешательства; после этого много часов, много дней Денкомб пролежал недвижно, безучастно. Такой самоотверженный шаг, такой блестящий результат, такая честь — все это соединилось в его разуме и, произведя необычное потрясение, медленно подточило и преобразило его отчаяние. Ощущение холодного погружения оставило его — ему показалось, что он сам может держаться на поверхности. Случай этот был невероятным знаком, он пролил свет на всю его жизнь. Наконец Денкомб показал, что хочет говорить, и, когда доктор Хью встал на колени у его подушки, поманил его ближе.
— Из-за вас я подумал, что все это мираж.
— Только не ваша слава, мой дорогой друг, — пробормотал молодой человек.
— Моя слава — что в ней! Слава в том, чтобы подвергаться испытаниям, сохранять свои черты, сотворить маленькое чудо. Слава в том, что кто-то заботится о тебе. Вы, разумеется, сумасшедший, но это не опровергает правила.
— Ваша жизнь удалась! — сказал доктор Хью, и в его голосе прозвучал звон свадебного колокола.
Денкомб лежал, впитывая эти слова. Он набрался сил, чтобы заговорить вновь.
— Второй шанс — вот обман. Шанс есть только один. Мы трудимся впотьмах — мы делаем, что в наших силах, — мы отдаем, чем владеем. В наших сомнениях — наша страсть, и в нашей страсти — наш удел. Все остальное — безумие искусства.
— Если ты сомневался, если отчаивался — ты творил, — еле слышно возразил его гость.
— Все мы творим — так или иначе, — уступил Денкомб.
— Так или иначе — это все, что нам доступно. Вы достигли всего!
— Притворщик! — иронически выдохнул бедный Денкомб.
— Но это правда, — настаивал друг.
— Это правда. Разочарование не в счет.
— Разочарование — это жизнь, — сказал доктор Хью.
— Да, и она проходит.
Бедного Денкомба было едва слышно, но этими словами он отметил конец своего первого и единственного шанса.
1893
Перевод с английского Виктора Купермана
Опубликовано в журнале Солнечное Сплетение №14-15
Примечания
1
Побеждает все (лат.). — Примеч. перев.
(обратно)2
Кто спит, обедает (фр.). — Примеч. перев.
(обратно)3
Пастушка (фр.). — Примеч. перев.
(обратно)


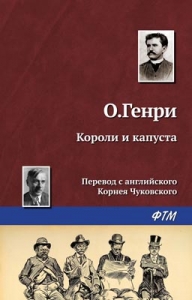
Комментарии к книге «Зрелые годы», Генри Джеймс
Всего 0 комментариев