Гессе Герман • КНУЛЬП Три истории из жизни Кнульпа
Канун весны
В начале девяностых годов случилось нашему другу Кнульпу несколько недель пролежать в больнице; когда он оттуда выбрался, уже стоял февраль, погода была отвратительная, так что, проскитавшись всего несколько дней, он опять ощутил озноб и поневоле стал подумывать о пристанище. В друзьях у него недостатка не было, его приветили бы в любом городке округи, но он был горд, слишком горд, за честь можно было считать, если он что-нибудь принимал от друга.
На сей раз Кнульп вспомнил о благородном дубильщике Эмиле Ротфусе из Лехштеттена и в его-то запертые двери постучался однажды поздним ненастным вечером. Дубильщик приоткрыл ставень наверху и громко крикнул в темноту улицы: «Кто там барабанит? Неужто нельзя подождать до утра?»
Голос старого друга сразу же возвратил бодрость утомленному Кнульпу. Ему вспомнился стишок, сложенный им много лет назад, когда однажды он целый месяц странствовал вместе с Эмилем Ротфусом, и он пропел его прямо в приоткрытое окно:
Сидит усталый странник, Сидит в большой пивной. То блудный сын — изгнанник, И уж не кто иной.Дубильщик рывком распахнул ставень и наполовину высунулся из окна.
— Кнульп! Это ты или твой призрак?
— Я, я! — закричал Кнульп. — Но, может, ты спустишься или непременно нужно орать через окно?
Друг с радостью поспешил вниз, распахнул входные двери и коптящей масляной лампой посветил прямо в лицо пришельцу, так что тот заморгал.
— Входи же! — взволнованно воскликнул хозяин и потянул Кнульпа в дом. Рассказывать будешь после. От ужина тебе еще кое-что осталось, и постель получишь. Боже милосердный, в такую собачью погодку! Послушай, а башмаки-то у тебя хоть крепкие?
Кнульп предоставил ему вволю задавать вопросы и удивляться, на лестнице он аккуратно подвернул свои подшитые тесьмой брюки и уверенно двинулся впотьмах вверх, хотя не был в этом доме вот уж четыре года.
В верхних сенях, перед дверью в горницу, он немного помедлил и за руку придержал дубильщика.
— Слушай, — зашептал он, — ты теперь женат, это правда?
— Чистая правда.
— Вот то-то и оно. Понимаешь, жена твоя меня не знает, может, вовсе и не обрадуется. Не хотел бы я быть вам в тягость.
— Какое там в тягость! — засмеялся Ротфус, распахнул дверь и подтолкнул Кнульпа в ярко освещенную горницу.
Там над большим обеденным столом висела на трех цепях керосиновая лампа, легкий табачный дым еще парил в воздухе и тонкими струями уходил в горячий цилиндр, где спиралью вился вверх и исчезал. На столе лежала газета и сыромятный кисет с табаком, а с маленького узкого канапе у стены вскочила молодая хозяйка; вид у нее был смущенный, но нарочито бодрый, как будто ее потревожили среди дремоты, а она не хотела этого показывать. Кнульп, ослепленный, замигал на яркий свет, взглянул в серые глаза женщины и с вежливым поклоном подал ей руку.
— Вот она, — радостно объявил мастер. — А это Кнульп, дружище Кнульп, помнишь, мы с тобой еще давеча о нем говорили? Само собой, он наш гость, переночует в комнате подмастерьев — она ведь пустая. Но прежде мы все выпьем сидру, и ты попотчуешь Кнульпа. Ливерная колбаса у нас еще осталась?
Хозяйка выбежала из комнаты, и Кнульп проводил ее взглядом.
— Все-таки я ее чуток напугал, — тихонько сказал он, но Ротфус с ним не согласился.
— Детей еще нет? — спросил Кнульп.
В этот миг она снова появилась, принесла колбасу на оловянной тарелке и деревянный поднос, посередке которого лежали добрые полкаравая ржаного хлеба, заботливо положенные початою стороною вниз, а по краю было вырезано замысловатыми готическими буквами: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».
— Лиз, а ты знаешь, какой вопрос только что задал мне Кнульп?
— Оставь! — воспротивился тот и с улыбкою обернулся к хозяйке. — Итак, разрешите приступить, сударыня?
Но Ротфус не унимался.
— Он спросил, есть ли у нас дети.
— Ой, да про что вы! — выкрикнула она со смехом и сразу же опять убежала.
— Так что же, нет еще? — повторил Кнульп свой вопрос.
— Нет. Она, знаешь ли, не торопится, на первых порах так оно и лучше. Ну давай, принимайся за дело, приятного тебе аппетита!
Теперь хозяйка принесла голубой фаянсовый кувшин с сидром, поставила три стакана, которые тут же и наполнила до краев. Она проделала все это так споро и ловко, что Кнульп невольно улыбался, на нее глядя.
— Твое здоровье, старый друг! — провозгласил мастер и потянулся чокнуться с Кнульпом. Тот, однако, учтиво отклонил здравицу:
— Сначала за дам! Ваше драгоценное здоровье, сударыня! Будь здоров, старина!
Они чокнулись и выпили, и Ротфус просто сиял от радости, подмигивая своей хозяйке: заметила ли она, какие великолепные манеры у его друга?
Она, оказывается, давно это заметила.
— Видишь, — сказала она мужу. — Господин Кнульп вежливее, чем ты. Он знает, что такое настоящее обращение.
— Ну что вы, — не согласился гость. — Каждый поступает, как обучен. Что до манер, то тут вы меня легко посрамите, сударыня. До чего же красиво вы все сервировали, точно в самом лучшем отеле!
— Так и есть, — засмеялся мастер. — В точку попал, этому-то она обучалась.
— Вот как, и где же? Уж не трактирщик ли ваш батюшка?
— Нет, и он давно уже на том свете, я едва его помню. Но я и вправду несколько лет работала в «Быке», если вы такой знаете.
— «Бык»? Да это же была лучшая гостиница в Лехштеттене, — похвалил Кнульп.
— Она и сейчас такова. Разве не правда, Эмиль? И номера там берут только важные баре, коммивояжеры и туристы.
— Могу себе представить, сударыня. Вам, верно, там было хорошо, и заработки приличные. Но свое хозяйство все же лучше?
Он медленно, смакуя, намазывал мягкую ливерную колбасу на хлеб, откладывая тонко срезанную шкурку на самый край тарелки и время от времени прикладываясь к прекрасному светло-желтому сидру. Хозяин одобрительно смотрел, как аккуратно Кнульп со всем управлялся, как легко, играючи сновали его белые тонкие пальцы, да и на хозяйку это произвело благоприятное впечатление.
— Выглядишь ты не ахти как, — стал затем выговаривать ему Эмиль Ротфус, и Кнульп вынужден был призваться, что верно, последнее время дела его шли неважно, он был в больнице. О неприятных подробностях он умолчал. Когда друг осведомился, что же он намерен предпринять в ближайшее время, и от души на любой срок предложил ему стол и приют, то гость, хотя именно на то и рассчитывал и того желал, все же не дал ответа, как бы сробев, смущенно поблагодарил и отложил обсуждение этого вопроса на завтра. — Успеем поговорить завтра или послезавтра, — бросил он другу. — Слава богу, еще не конец света, а некоторое время я у тебя так или иначе пробуду.
Он не любил строить планы или давать наперед обещания. Ему бывало не по себе даже, если завтрашним днем он не мог располагать по своему выбору.
— Ежели я и в самом деле поживу здесь, — снова завел он разговор, отметь меня в управе как своего подмастерья.
— Еще чего, — захохотал мастер. — Ты — и вдруг мой подмастерье! Да, кроме всего прочего, какой же ты дубильщик?
— Не в том дело, разве ты не понимаешь? К дубильному ремеслу я и верно отношения не имею, хоть и считаю, что ремесло это почтенное. У меня к работе вообще таланта нет. Но вот моему паспорту такая запись бы не повредила. Это важно и для оплаты лечения.
— Можно мне взглянуть на твой паспорт?
Кнульп полез во внутренний карман своей почти новой куртки и вытащил оттуда книжечку в аккуратной клеенчатой обертке.
Дубильщик посмотрел на нее и сказал с усмешкой:
— Как всегда, не придерешься! Можно подумать, ты только вчера покинул родимое гнездо.
Затем внимательно изучил все записи и печати и восхищенно пожал плечами.
— Вот это порядочек! Все-то у тебя должно быть благородно!
Содержать свой дорожный паспорт в образцовом порядке было одним из пристрастий Кнульпа. Эта книжечка была в своей безупречности чудесным вымыслом, поэмой, все записи в ней, заверенные должностными лицами, обозначали славные этапы почтенной трудовой жизни, и лишь любовь к путешествиям, проявлявшаяся в очень частой перемене мест, бросалась в глаза стороннему наблюдателю. Но жизнь эта, обозначенная в дорожном паспорте, была сочинена самим Кнульпом, она продлевалась им с помощью тысячи уловок и частенько висела на волоске, в то время как в действительности он, хоть и не делал ничего запретного, влачил презренное и не вполне законное существование бездельника и бродяги. Конечно, ему вряд ли бы удавалось без помех сочинять свою прекрасную поэму, если бы все жандармы в округе не были настроены к нему в высшей степени снисходительно. Они по возможности оставляли в покое этого веселого забавного малого, чье умственное превосходство, а порой и серьезность внушали им уважение. У него не было ни одной судимости, воровства или нищенства за ним не числилось, а влиятельные друзья были повсюду; его терпели, как в хорошем хозяйстве снисходительно терпят красавицу кошку, а она живет себе среди усердных, замученных работой людей, как барыня, легко и грациозно, без забот, без труда.
— Вы давно бы уж легли, если бы я не пришел, — виновато сказал Кнульп, пряча паспорт. Он встал и поклонился хозяйке. — Пойдем, Ротфус, покажешь, где мое место.
Мастер с лампой провел его по узким крутым ступеням на чердак, в каморку подмастерьев. Там стояла у стены голая железная кровать, и рядом еще одна — деревянная, застеленная.
— Грелку не надо? — заботливо осведомился хозяин.
— Обойдусь, — засмеялся Кнульп. — А господину мастеру она уж точно не нужна, при такой-то женушке.
— Да, вот видишь, — с искренним жаром заговорил Ротфус, — ты сейчас уляжешься в холодную свою кровать, а порой даже и в худшую ложиться приходится, а то и вовсе никакой нет, так что ночуешь ты на сене, под открытым небом. У таких же, как я, и дом свой, и хозяйство, и жена славная. А ведь ты и сам давно бы мог стать мастером и добился бы куда больше, чем я, если бы только постарался.
Кнульп между тем поспешно скинул платье и, дрожа от холода, забрался в постель.
— У тебя еще много за душой? — спросил он. — Мне здесь лежать удобно, могу и послушать.
— Кнульп, я серьезно тебе говорю.
— Я тоже, Ротфус. Не воображай, пожалуйста, что ты первым придумал жениться. Спокойной ночи!
На следующий день Кнульп с утра остался в постели. Он чувствовал еще некоторую слабость, да и погода была такая, что одеваться и выходить не хотелось. Дубильщика, который заглянул к нему около полудня, он попросил, чтобы его не тревожили и, если возможно, прислали в обед тарелку супа.
Так весь день он покойно провел в сумрачной каморке, ощущая, как отдаляются и уходят в прошлое холода и невзгоды страннической жизни, отдаваясь блаженному чувству покоя, тепла, безопасности. Он прислушивался к шуму дождя, прилежно барабанившего по крыше, к прихотливым порывам душного беспокойного ветра. В промежутках немного дремал или, пока хватало света, читал что-нибудь из своей походной библиотечки; она у него состояла из разрозненных листков, на которые он списывал стихи или изречения, и из целого вороха газетных вырезок. Среди последних было несколько картинок, которые он отыскал и вырезал в иллюстрированных журналах. Две из них были им особенно любимы, от частого вытаскивания обе обветшали и обтрепались. На одной была изображена актриса Элеонора Дузе, на другой — парусник в открытом море при сильном ветре. С детских лет Кнульп испытывал сильнейшую тягу к морю и к северу; он не раз пускался в дорогу, чтобы увидать их своими глазами, однажды добрался до самого Брауншвейга. Но вместе с тем этого перекати-поле, который всегда был в пути и терпеть не мог задерживаться на одном месте, постоянно гнала назад странная тоска и любовь к родным местам, и быстрыми переходами он всякий раз возвращался в Южную Германию. Может быть, обычная беззаботность покидала его в местностях с чужим диалектом и чужими обычаями, где никто его не знал и где ему было нелегко сохранять в порядке свой фиктивный паспорт.
В обед дубильщик принес ему на чердак супу и хлеба. Он вошел на цыпочках, говорил испуганным шепотом, так как считал Кнульпа тяжело больным, — сам он с детских лет среди бела дня никогда не лежал в постели. Кнульп, который чувствовал себя преотлично, не стал затрудняться объяснениями и только заверил, что назавтра встанет и наверняка будет здоров.
К вечеру в дверь каморки легонько постучали, и так как Кнульп был погружен в дремоту и не откликнулся, хозяйка вошла осторожно и, забрав суповую тарелку, поставила на тумбочку у кровати чашку кофе с молоком,
Кнульп, который слышал, как она вошла, то ли из-за усталости, то ли из каприза продолжал лежать с закрытыми глазами, делая вид, будто крепко спит. Жена дубильщика, с пустой тарелкой в руках, украдкой бросила взгляд на Кнульпа, который положил голову на руку, прикрытую до локтя синей клетчатой рубашкой. Она невольно отметила, как мягки его темные волосы, как почти по-детски прелестно беззаботное лицо, — и все стояла и любовалась этим красивым малым, о котором муж рассказывал ей столько удивительных историй. Она разглядывала его широкие брови над сомкнутыми веками, высокий чистый лоб, смуглые, чуть впалые щеки, красивые яркие губы и стройную шею, и ей вспомнились те времена, когда, работая кельнершей в «Быке», она нередко по весне пускалась во все тяжкие с таким вот пригожим заезжим гостем.
Замечтавшись и чувствуя легкое волнение, она наклонилась, чтобы получше разглядеть лицо, как вдруг оловянная ложка соскользнула с тарелки и громко стукнула об пол, этот звук в тишине и укромной уединенности комнаты особенно сильно напугал ее.
Кнульп открыл глаза, медленно и с таким видом, как будто сейчас только пробудился от глубокого сна. Он повернул к ней голову, заслонив глаза ладонью, и сказал с улыбкой:
— Вот те на, оказывается, вы здесь, сударыня! Да еще кофе мне принесли, горячий кофе! Как раз то, о чем я сей миг мечтал. Большое спасибо, госпожа Ротфус! Не скажете ли, который час?
— Четыре, — быстро ответила она. — Пейте поскорее, пока горячий, а я унесу посуду.
Сказав это, она выбежала из комнаты с таким видом, будто у нее минуты нет лишней. Кнульп проводил ее взглядом и услышал, как она торопливо сбегает по лестнице. Он задумался над этим, легонько покачав головой, слегка присвистнул на птичий манер и принялся за кофе.
Через час после наступления сумерек он, однако, заскучал, чувствуя себя вполне бодрым и отдохнувшим, и его потянуло на люди. Он неторопливо встал, оделся, тихо, как куница, спустился впотьмах по лестнице и незаметно выскользнул со двора. Все еще дул влажный юго-западный ветер, но дождь прекратился, на небе видны были чистые и светлые прогалины.
Все разведывая, вынюхивая, Кнульп слонялся по вечерним улицам; он пересек опустевшую рыночную площадь, постоял в дверях кузни, наблюдая, как прибираются ученики, вступил в разговор с подмастерьями и погрел озябшие руки над темно-красным остывающим горном. При этом он как бы невзначай расспросил о своих былых знакомцах, осведомился о похоронах и свадьбах, а в беседе с кузнецом легко мог сойти за его собрата по ремеслу, настолько хорошо он знал язык и тайные знаки каждого цеха.
Тем временем госпожа Ротфус поставила на плиту похлебку, погремела ухватами, начистила картошку, и когда вся работа была переделана и кастрюля надежно стояла на слабом огне, пошла, с кухонной лампой в руках, в горницу и стала у зеркала. В нем она увидела то, что желала увидеть: свежее, миловидное личико с голубовато-серыми глазами, — и умелыми пальцами быстро привела в порядок прическу. Затем еще раз отерла руки о передник, захватила лампу и отправилась на чердак.
Она легонько постучала в дверь каморки, и еще раз — чуть посильнее; так как ответа не последовало, она поставила лампу на пол и осторожно обеими руками приоткрыла дверь, чтобы та не скрипела. Затем на цыпочках вошла, сделала шаг-другой и нащупала стул у кровати.
— Вы спите? — спросила она вполголоса и повторила еще раз: — Вы спите? Я пришла только забрать посуду.
Так как все было по-прежнему тихо, не доносилось даже легкого дыхания, она протянула руку к кровати, но, внезапно с испугом ее отдернув, выбежала за лампой. Теперь она увидела, что каморка пуста, а кровать тщательнейшим образом застелена, даже подушки и перина безупречно взбиты, — и растерянно вернулась в кухню, охваченная не то тревогой, не то разочарованием.
Полчаса спустя, когда дубильщик поднялся к ужину и сел за стол, она начала беспокоиться, но все никак не могла набраться храбрости и сказать мужу, что поднималась в каморку. Тут внизу как раз отворились ворота, легкие шаги простучали по мощеной дорожке, по ступеням витой лестницы, и Кнульп был тут как тут. Сняв с головы свою красивую коричневую шляпу, он пожелал всем приятного аппетита.
— Откуда ты? — удивленно воскликнул мастер. — То болен, а то бегает по ночам! Так и помереть недолго.
— Правда твоя, — согласился Кнульп. — Бог в помощь, госпожа Ротфус! Я, кажется, поспел вовремя. Запах вашей похлебки я учуял еще на рыночной площади, а уж отведав ее, помереть невозможно.
Сели на ужин. Хозяин был словоохотлив, он хвалился домом, хозяйством, званием мастера. Он поддразнивал гостя и затем вновь принимался всерьез его убеждать, что пора бросить наконец вечные странствия и заняться делом. Кнульп слушал его и почти не отвечал, хозяйка тоже помалкивала. Она досадовала на мужа, он казался ей грубоватым в сравнении с изящным благовоспитанным Кнульпом, и свое благоволение к гостю она проявляла тем, что усердно подкладывала ему на тарелку. Когда пробило десять, Кнульп поднялся, пожелал хозяевам спокойной ночи и попросил дубильщика одолжить ему бритву.
— Ты, однако, чистоплотен, — похвалил Ротфус, давая бритву. — Чуть оброс — и сразу же бриться. Ну, доброй тебе ночи, поправляйся!
Прежде чем войти в каморку, Кнульп помедлил у маленького оконца на площадке чердачной лестницы, хотел еще раз взглянуть на местность и угадать завтрашнюю погоду. Ветер почти стих, между крышами виднелось черное небо, на нем влажным блеском мерцали яркие звездочки.
Только он хотел отодвинуться и захлопнуть оконце, как вдруг осветилось точно такое же в доме напротив. Он разглядел маленькую низкую каморку, во всем подобную его собственной, и дверь, в которую только что вошла молоденькая служанка; в правой руке она несла свечу в медном подсвечнике, а в левой держала кувшин с водой, который тут же опустила на пол. Она осветила узкую девичью кровать, скромную и опрятную, уютно застланную грубошерстным красным одеялом. Затем поставила подсвечник — от Кнульпа ускользнуло, куда именно, — и уселась на низкий, выкрашенный зеленой краской сундучок, какой непременно есть у каждой служанки.
Как только перед его глазами начала разыгрываться эта неожиданная сцена, Кнульп загасил свою лампу, чтобы его не приметили, и выжидающе притаился у окошка.
Молодая девушка из каморки напротив была как раз того типа, который ему особенно нравился: лет восемнадцати — девятнадцати, не слишком высокая, с загорелым личиком, карими глазами и густыми темными волосами. Спокойное славное лицо ее глядело, однако, невесело, и вся она, притулившаяся на жестком зеленом сундучке, казалась такой пришибленной и унылой, что Кнульп, хорошо знавший жизнь и молодых женщин, догадался, что девушка эта со своим сундучком недавно на чужбине и тоскует по дому. Она сложила на коленях худые смуглые руки и, по-видимому, находила некоторое утешение в том, чтобы перед сном посидеть спокойно на своем добре и повспоминать об уютной горнице в родимом доме.
Кнульп замер у окошка так же неподвижно, как и она в своей каморке, и со странным волнением всматривался в эту маленькую чужую жизнь, которая столь простодушно прятала свою трогательную грусть в тусклом свете огарка и не помышляла ни о каком зрителе. Приветливые карие глаза ее то глядели прямо, то затенялись длинными пушистыми ресницами, на смуглые, детски округлые щеки ложился красноватый отблеск, а худые юные руки, такие натруженные и усталые, всё медлили, казалось, выполнить последнюю назначенную на сегодня нетрудную работу — раздеть свою хозяйку — и неподвижно лежали на темно-синей холщовой юбке.
Наконец девушка вздохнула и подняла головку с тяжелыми, сколотыми узлом косами, задумчиво, но не менее озабоченно уставившись в пустоту, и низко наклонилась, чтобы развязать шнурки на ботинках.
Кнульпу не хотелось уходить, но продолжать наблюдение, в то время как бедная девушка собралась раздеваться, казалось ему непорядочным и даже жестоким. Он охотно бы ее окликнул, поболтал перед сном и утешил доброю шуткой, но он боялся, что она испугается и сразу же погасит свет, как только он что-нибудь крикнет.
Вместо этого он решил пустить в ход один из своих многочисленных талантов. Он начал свистеть, необыкновенно мелодично и нежно, как будто издалека, и насвистывал он песенку «Там на лугу зеленом всё мельница шумит», и песня эта звучала у него так нежно и так мелодично, что девушка заслушалась, даже не сознавая толком, что это и откуда, и только на третьем куплете выпрямилась, встала и подошла к окну.
Она высунула голову и прислушалась: Кнульп между тем продолжал свистеть. Некоторое время она покачивала головкой в такт, затем вдруг взглянула вверх и сразу поняла, откуда исходит музыка.
— Там кто-то есть? — вполголоса спросила она.
— Всего только подмастерье дубильщика, — последовал столь же тихий ответ. — Я не хотел бы мешать вам уснуть, барышня, просто я немного загрустил о доме и вспомнил песенку. Я знаю и другие — повеселее. Девонька, а ты тоже нездешняя?
— Я из Шварцвальда.
— Вот так удача, из Шварцвальда! И я оттуда, оказывается, мы земляки. Как тебе нравится в Лехштеттене? Мне не слишком.
— Ой, пока я ничего не могу сказать, я здесь только восьмой день. Но мне тоже не очень нравится. А вы здесь давно?
— Всего три дня. Но землякам положено говорить друг другу ты, не так ли?
— Нет, я не могу, мы ведь еще совсем не знакомы.
— Это дело недолгое. Как говорится, гора с горой не сходится, а уж человек с человеком… Откуда же вы родом, фрейлейн?
— Да вы, наверно, и не слыхали.
— Как знать? Или это секрет?
— Из Ахтхаузена. Это всего только хутор.
— Красный хутор, верно? Перед ним на повороте стоит часовенка, а еще там есть мельница или лесопилка, не помню; у них живет большой такой рыжий сенбернар. Точно я говорю?
— Ну да, это Белло!
Когда она увидела, что он и вправду знает ее родные места и бывал там, недоверие и подавленность почти тотчас ее покинули, она оживилась и охотно вступила в беседу.
— А Андреаса Флика вы знаете? — быстро спросила она.
— Нет, я никого оттуда не знаю. Но держу пари, что это ваш батюшка.
— Верно.
— Так, значит, тогда вас зовут барышня Флик; если бы мне знать еще ваше имя, я бы мог послать вам открытку, когда опять забреду в Ахтхаузен.
— А вы уже собираетесь отсюда уходить?
— Нет, не собираюсь, хочу только узнать ваше имя, фрейлейн Флик.
— Что вы, ведь и вашего я тоже не знаю…
— Сожалею, но это легко исправить. Меня зовут Карл Эберхард, теперь, если мы встретимся среди бела дня, вы знаете, как меня окликнуть. А как мне вас величать?
— Барбара.
— Спасибо, вот и познакомились. Однако имечко ваше выговорить нелегко, бьюсь об заклад, что дома вас кличут Бербели.
— Точно так. Если вы все знаете, зачем тогда спрашиваете? Ну ладно, пора и прощаться. Спокойной ночи, дубильщик.
— Спокойной ночи, фрейлейн Бербели. Спите сладко, и раз уж вы тут, просвищу для вас еще одну песенку. Не убегайте, денег это не стоит.
И он принялся насвистывать, исполнив такую искусную мелодию на тирольский манер, с двойными нотами и трелями, что она вся сверкала и искрилась, как плясовая музыка. Девушка подивилась такой виртуозности, а когда все замолкло, осторожно закрыла и заперла на задвижку ставень, а Кнульп впотьмах удалился в свою каморку.
На следующее утро Кнульп пробудился в самом бодром настроении и сразу же воспользовался бритвой дубильщика. Тот уже несколько лет как отпустил бороду, бритва так затупилась, что Кнульпу пришлось чуть ли но полчаса править ее на своем ремне, прежде чем ему удалось наконец побриться. Когда он с этим справился, он надел куртку, взял в руки башмаки и спустился в кухню, где было уже натоплено и откуда доносился аромат кофе.
Он попросил хозяйку дать ему ваксу и сапожную щетку, чтобы почистить башмаки, но она горячо запротестовала: «Да как же можно! Это не мужская работа. Позвольте уж мне». Он ей, однако, не позволил, и когда она с неловкой улыбкой все же подала ему сапожные принадлежности, принялся делать свое дело основательно, аккуратно, играючи, как человек, который берется за физическую работу редко и под настроение, но зато уж исполняет ее с великим тщанием и любовью.
— Вот такую работу люблю, — похвалила его жена дубильщика. — Все блестит и сверкает, будто вы сейчас собрались на свидание с милой.
— Да я бы не прочь.
— Еще бы. Небось, она у вас симпатичная. — Опять засмеявшись, она спросила с настойчивой фамильярностью: — Может, и не одна?
— Нет, это было бы нехорошо, — с веселым осуждением, в лад ей отвечал Кнульп. — Да я могу и карточку показать.
Она с любопытством подошла ближе, он же, вытащив из кармана свой клеенчатый пакет, отыскал в нем изображение Дузе. С жадным интересом хозяйка разглядывала фото.
— Выглядит очень благородно, — осторожно похвалила хозяйка. — Настоящая дама. Конечно, немного тоща. А она у вас не больна?
— Насколько мне известно, нет. А теперь пойдемте поздороваемся с хозяином, я слышу, он уже встал.
Он прошел в горницу и обменялся приветствиями с дубильщиком. Там было чисто подметено, светлые деревянные панели, часы, зеркало и фотографии на стенах придавали комнате обжитой и приветливый вид. «Какая приятная комната, — подумал Кнульп, — славно должно быть здесь зимой, но из-за этого жениться… пожалуй, что не стоит». Благосклонность, которую выказывала ему хозяйка, явно его тревожила.
Выпили кофе с молоком, после этого мастер Ротфус повел Кнульпа во двор и в сараи, чтобы показать ему свою дубильную мастерскую. Кнульп разбирался почти во всех ремеслах, его разумные понимающие вопросы удивили друга.
— Откуда тебе-то все это известно? — искренне недоумевал он. — Можно подумать, ты и впрямь подмастерье дубильщика или был им прежде.
— Когда странствуешь, чему не научишься, — степенно обронил Кнульп. — А что касается дубильного дела, тут ты сам был моим учителем, разве не помнишь? Шесть или семь лет назад, когда мы бродяжничали с тобой, ты мне все это рассказывал.
— И ты запомнил?
— Кое-что, Ротфус. А теперь не хочу тебе больше мешать. Жаль, я охотно бы тебе помог, но здесь так сыро и душно, а я все еще кашляю. До вечера, старина. Пойду поброжу по городу, пока нет дождя.
Когда он вышел со двора и неторопливой своей походкой зашагал переулком по направлению к рыночной площади, сдвинув на затылок коричневую шляпу, Ротфус, стоя в воротах, долго смотрел, как легко и весело он шагает, блестя башмаками и заботливо обходя лужи.
«Неплохо ему живется», — подумал мастер не без зависти. Направляясь к яме с квасцами, он все продолжал размышлять о чудаке-друге, который хочет от жизни одного: быть зрителем; и Ротфус все не мог решить, что это скромность или притязательность. Человеку, который работает и всего достигает собственным трудом, конечно, во многих отношениях лучше, но, с другой стороны, у него никогда не будет таких нежных холеных рук, такой легкой упругой походки. Нет, Кнульп прав, он живет, как требует его натура и как редко кому удается, он простодушен, как дитя, и покоряет сердца, он одаривает комплиментами девушек и женщин и каждый день превращает в праздник. Пусть живет, как хочет, а ежели ему придется туго и потребуется крыша над головой, так надо за честь считать приютить его у себя и еще быть благодарным судьбе, ибо человек этот вносит в дом ясность и радость.
Тем временем гость весело и с любопытством осматривал город, лихо насвистывая солдатский марш; не спеша, обстоятельно разыскивал места и людей, которых знавал прежде. По круто вздымавшейся вверх дороге он поднялся в предместье, где у него был знакомый портняжка, влачивший жалкое существование; никогда он не мог получить выгодных заказов и вечно латал старые штаны, хотя в юности кое-что умел, на многое надеялся и работал в солидных мастерских. Но он рано женился, пошли один за другим дети, а жена не очень-то ловко справлялась с хозяйством.
Портняжку по имени Шлотербек он отыскал на четвертом этаже в одном из задних дворов предместья. Маленькая мастерская под самой крышей висела над бездной, как птичье гнездо, потому что дом стоял на самом откосе, и если глядеть из окна, то глазу представали не только три этажа, но и крутой обрыв с отвесными садиками и травянистыми склонами, а ниже — серый лабиринт захламленных дворов с флигельками, курятниками, сарайчиками для коз и клетками для кроликов, так что ближайшие крыши домов видны были дальше этого запущенного участка, уже глубоко в долине, и казались совсем маленькими. Зато в портняжной мастерской было много света и вольно дышалось, и прилежный Шлотербек, сидя по-турецки на широком столе, парил над миром, как сторож на маяке.
— Привет, дружище, — входя, приветствовал его Кнульп, и мастер, щурясь от яркого света, некоторое время молча разглядывал вошедшего.
— О, да это Кнульп! — воскликнул он наконец, просияв, и протянул гостю руку. — Опять в наших краях? Интересно, чего это тебе понадобилось, не зря же ты забрался на мою верхотуру.
Кнульп придвинул к себе трехногий табурет и основательно на нем уселся.
— Одолжи мне иглу и коричневую нитку потоньше, я хочу кое-что подштопать и привести в порядок.
С этими словами он стянул с себя куртку и жилетку, подобрал нитку, вдел ее в иглу и зоркими глазами тщательно осмотрел свое платье, которое выглядело еще очень пристойным, почти что новым. Каждую будущую прореху, ослабевшую петлю, готовую оторваться пуговицу он закрепил, приладил прилежными ловкими пальцами.
— Как дела-то? — спросил Шлотербек. — Время года сейчас не из лучших. Но в конце концов, если человек здоров и нет семьи…
Кнульп протестующе кашлянул.
— Да, да, — начал он легко и небрежно. — Сказано ведь, господь посылает дождь на праведных и неправедных, только портняжки сидят в тепле. А тебе по-прежнему не везет, Шлотербек?
— Ах, Кнульп, что я могу сказать? Слышишь, за стеной орут ребятишки, их у меня уже пятеро. Сидишь тут, надрываешься с утра до ночи, а денег все равно ни на что не хватает. А ты все разгуливаешь?
— Не угадал, старина. Четыре или пять недель провалялся в больнице в Нейштадте, а они там, сам знаешь, держат, только покуда крайняя нужда, не дольше. Да, поистине неисповедимы пути господни, дружище Шлотербек!
— Ах, брось ты эти свои изречения!
— Ты что, все былое благочестие растерял? А меня как раз потянуло на благочестие, потому-то я к тебе и пришел. Как у тебя с этим, старина Шлотербек?
— Оставь меня в покое с твоим благочестием! Ишь ты, пролежал в больнице. Сочувствую.
— Не стоит, уже прошло. А теперь ответь: как это там говорится в книге сына Сирахова и в Откровении Иоанна? Знаешь, в больнице у меня было вдосталь времени, и Библия была под рукой, я почти все прочитал, могу теперь вести с тобой диспут. Ох и забавная же это книга, Библия!
— Вот тут ты прав. В самом деле забавная, и больше половины вранья, потому что одно с другим не сходится. Да ты, верно, лучше меня во всем этом разбираешься, ты ведь был в гимназии.
— Давно все забыл.
— Видишь ли, Кнульп… — Портной плюнул за окно в бездну и затем поглядел вниз ожесточенно и с досадой, — Видишь ли, Кнульп, ни черта не стоит все это благочестие. Ни черта, я плюю на него, говорю тебе честно! Плевать я на него хотел!
Бродяга задумчиво глядел на него.
— Так, так, крепко сказано, старина. Но сдается мне, в Библии есть и неглупые вещи.
— Это верно, но полистай дальше, и наткнешься на прямо противоположное. Нет, я с этим покончил, раз и навсегда.
Кнульп встал и поискал глазами утюг.
— Не подкинешь ли мне уголька? — попросил он.
— Зачем?
— Хочу подгладить куртку, да и шляпе моей это не повредит после всех дождей.
— Как всегда, с иголочки, — с некоторой даже досадой заметил Шлотербек. — И чего, спрашивается, прихорашиваешься, словно граф, если сам всего-навсего нищий бродяга!
Кнульп спокойно улыбнулся.
— Просто так красивее, и у меня от этого лучше на душе. А не хочешь помочь из благочестия, так помоги просто как добрый малый, по старой дружбе, идет?
Портной ненадолго вышел и вернулся с раскаленным утюгом.
— Вот и хорошо, — обрадовался Кнульп. — Спасибо тебе.
Он начал осторожно разглаживать края шляпы, но поскольку справлялся он с этим неважно, не так, как прежде со штопкой, портной выхватил у него утюг и сделал все сам.
— Это мне по нраву, — благодарно сказал ему Кнульп. — Опять шляпа прямо-таки воскресная. Но послушай, портной, от Библии ты требуешь слишком многого. Что есть истина, как жить на свете, — до этого каждый должен дойти сам, из книг этого не вычитаешь — вот каково мое мнение. Библия — книга древняя, раньше не знали всего того, что знают и могут теперь; но есть в ней и очень много прекрасного и честного, очень много справедливого. Знаешь, порою она мне кажется вроде детской книжки с картинками: вот девушка Руфь бредет через поле[1] и подбирает колоски — как это славно, так и чувствуешь лето, жару; или Спаситель присаживается к детишкам[2] и думает про себя: насколько же вы мне милее, чем взрослые с их чванством! Думаю, здесь-то он прав, этому у него можно поучиться.
— Да, вероятно, — нехотя согласился Шлотербек, все еще не желая сдаваться. — Но все же насколько проще иметь дело с чужой ребятней, чем со своими, да еще когда их пятеро и не знаешь, чем их накормить.
Он снова ожесточился, и Кнульпу было тяжело на него смотреть. Ему захотелось на прощание сказать портняжке что-нибудь доброе. Он немного подумал, затем наклонился к Шлотербеку, поглядел на него своими светлыми серьезными глазами и тихонько прошептал:
— Послушай, ты их совсем не любишь, что ли, своих ребятишек?
Портной испуганно от него отпрянул.
— С чего ты взял? Люблю, конечно, особенно старшего.
Кнульп удовлетворенно кивнул.
— Ну, мне пора, Шлотербек, очень тебе благодарен. Жилетка прямо как новая. А с детьми я тебе посоветую вот что: будь с ними поласковее, повеселее, и они уже наполовину сыты. А еще я тебе кое-что расскажу, чего никто на свете не знает и что ты должен хранить в секрете.
Его светлые глаза смотрели серьезно, он говорил так тихо, что покоренный им мастер с трудом различал слова.
— Погляди на меня! Ты, верно, мне завидуешь и думаешь про себя: ему-то легко, ни семьи, ни забот! На самом деле все обстоит не так. Представь себе, у меня есть сын, двухлетний мальчуган, его усыновили чужие люди, потому что никто не знал, кто его отец, а мать померла родами. Тебе не требуется знать, в каком это городе, но я знаю, и когда прихожу туда, я прокрадываюсь к тому дому, часами стою у забора и, ежели мне очень повезет и я увижу малыша, не смею даже протянуть ему руку и поцеловать, самое большее — мимоходом что-нибудь ему просвищу. Да, вот так-то, а теперь адью, и радуйся, что твои дети с тобой!
Кнульп продолжал бродить по городу; он постоял у окна столярной мастерской, любуясь, как быстро разлетаются в стороны кудрявые стружки, он поприветствовал мимоходом помощника полицейского, который благоволил к нему и даже дал ему понюхать табачку из своей березовой табакерки. Повсюду он собирал большие и малые новости из жизни семей и цехов, услышал о безвременной кончине жены городского казначея, о том, какой непутевый сын у бургомистра, а взамен рассказывал истории про другие места и радовался слабым причудливым нитям, которые, оказывается, связывают его как знакомца и посвященного с миром известных и почтенных людей. День был субботний, в воротах пивоварни он наткнулся на подмастерьев бочара и захотел у них узнать, не будет ли сегодня и завтра вечером случай потанцевать.
Сколько угодно, а лучшее место — трактир «Лев» в Гертельфингене, всего полчаса ходу. Именно туда он и решил пригласить юную Бербели из дома напротив.
Время уже близилось к обеду, и когда Кнульп поднимался по лестнице Ротфуса, в нос ему ударил приятный щекочущий аромат из кухни. Он остановился и радостно, с мальчишеским любопытством втянул в себя воздух чуткими ноздрями. Как ни тихо он вошел, его услышали, жена мастера распахнула кухонную дверь и стала в светлом проеме, окутанная заманчивыми парами.
— Здравствуйте, здравствуйте, господин Кнульп, — ласково заговорила она. — Как удачно, что вы пришли вовремя. Видите ли, у нас сегодня на обед печеночные клецки, и я подумала: может, вам поджарить отдельно кусочек печенки, если вы так больше любите? Что скажете?
Кнульп погладил подбородок и галантно поклонился.
— Да нет, упаси бог, зачем мне готовить особо, мне и супа за глаза довольно.
— Когда человек болен, его надобно хорошо кормить. Откуда он иначе возьмет силы? Но, может, вы вообще не любите печенку? Есть и такие.
Он скромно улыбнулся.
— Нет, я не из них, миска печеночных клецок — это же праздничная еда, дай бог мне каждое воскресенье такую.
— У нас вы не должны ни в чем нуждаться. Зачем же тогда было учиться стряпать? Но ответьте мне все же; вот кусочек печенки, я для вас его сберегла. Это бы вам не повредило.
Женщина подошла ближе и зазывно поглядела ему прямо в глаза. Он понимал, к чему она ведет, и была она к тому же прехорошенькой, но он делал вид, что ничего не понимает. Поигрывая своей красивой шляпой, которую ему так отлично отгладили, он смотрел в сторону.
— Спасибо, сударыня, на добром слове. Но клецки я, право же, люблю больше. Я уж и так вами разбалован.
Она засмеялась и погрозила ему пальцем.
— Не надо прикидываться таким тихоней, я вам не верю. Значит, пусть будут клецки, и лучку побольше, так?
— Отказаться свыше моих сил.
Она озабоченно вернулась к плите, а он прошел в горницу, где все уже было накрыто. Он сидел там и читал вчерашний еженедельник, пока не пришел мастер и не подали супа. Поели, потом втроем перекинулись в карты; Кнульп привел в изумление хозяйку новомодными ловкими и занимательными карточными фокусами. Он умел также с небрежностью заправского игрока тасовать и сдавать карты, клал карту на стол с элегантной легкостью, и время от времени его большой палец лихо перебирал карты, скользя по краю колоды. Мастер смотрел на это с восхищением и снисходительностью, подобно тому как рабочий или бюргер глядит на любое не приносящее заработка уменье. Жена его, напротив, оценивала все проявления светских талантов Кнульпа увлеченно и со знанием дела. Ее взгляд беспрестанно останавливался на его длинных белых кистях рук, не изуродованных тяжелой работой.
Сквозь маленькие оконца в комнату неуверенно пробивался вечерний солнечный луч, падал на стол и на карты, причудливо и бессильно перемежал светлые блики на полу с серыми расплывчатыми тенями, подрагивал легкими паутинками на голубом оштукатуренном потолке. Кнульп жмурился, вбирая в себя все это взглядом: игру февральского солнца, уют тихого дома, честное достойное лицо мастера Ротфуса и тайные взгляды, которые бросала на него хорошенькая жена друга. Последнее его не радовало, он отнюдь к этому не стремился. «Был бы я только здоров, — думал он, — да лето бы на дворе стояло — и часу бы здесь не остался».
— Пойду захвачу последнее солнышко, — сказал он, когда Ротфус смешал карты и посмотрел на часы. Вместе с мастером он спустился по лестнице, оставил его в сарайчике, где сушились кожи, и побрел в глубь пустынного участка, заросшего травой, на котором там и сям чернели ямы с дубильным раствором. Добравшись до небольшой речки, где дубильщик соорудил мостки для замачиванья кож, Кнульп уселся на досках, свесив ноги над привольно и быстро текущей водой, и с удовольствием наблюдал за юркими темными рыбешками, которые сновали прямо под ним, а затем стал с любопытством изучать местность, так как искал возможности повстречаться с молоденькой служанкой из соседнего дома.
Участки двух домов вплотную примыкали друг к другу, разделенные лишь шатким заборчиком из штакетника; внизу, у воды, где столбы давно уже подгнили и упали, можно было беспрепятственно проникнуть к соседям. Соседский участок казался более ухоженным по сравнению с пустынным, заросшим травой участком дубильщика. Там виднелись четыре грядки, на которых господствовали сорняки; грядки сильно осели, как всегда бывает после зимы. На двух из них торчали редкие кустики латука и перезимовавшего шпината; розовые кусты стояли поникшие, с вкопавшимися в землю верхушками. Перед самым домом, скрывая его от посторонних взглядов, росло несколько живописных сосен.
Кнульп, осмотрев чужой сад, бесшумно вторгся в него и прошел до самых сосен и теперь, стоя между деревьями, мог разглядеть дом, кухню, выходящую во двор, и не прошло и нескольких минут, как он увидел девушку с засученными рукавами, исполнявшую кухонную работу. Хозяйка была тут же, она беспрестанно отдавала приказы и поучала, как это водится у всех хозяек, не желающих оплачивать обученную прислугу и берущих ежегодно сменяющихся учениц, которых они усердно нахваливают после их ухода. Ее воркотня и сетования звучали, однако, довольно беззлобно, казалось, девушка к ним уже привыкла, так как она спокойно и с ясным лицом продолжала делать свое дело.
Незваный гость прислонился к стволу и вглядывался, вытянув голову, любопытный и чуткий, как охотник; он прислушивался терпеливо и без досады, ибо время его стоило дешево и он давно уже привык к своей роли — быть в жизни только слушателем, зрителем, посторонним. Ему было приятно глядеть на девушку, когда она показывалась в окне; по выговору хозяйки он заключил, что родом она не из Лехштеттена, а из долины повыше, часах в двух пути. Он стоял неподвижно, пережевывая пахучую еловую веточку, стоял полчаса и час, покуда хозяйка не удалилась из кухни и все не затихло.
Он выждал еще немного, затем осторожно двинулся вперед и постучал сухой веткой в окно кухни. Служанка не обратила на это внимания, пришлось постучать еще дважды. Тогда она подошла к приоткрытому окну, распахнула его и выглянула наружу.
— Ой, да что вы тут делаете? — вполголоса воскликнула она. — Я чуть было не испугалась, право.
— Чего меня бояться? — улыбаясь, сказал Кнульп. — Хотел поздороваться с вами и посмотреть, как идут дела. И поскольку сегодня суббота, осмелюсь спросить: если вы завтра вечером свободны, то не согласитесь ли со мною немного прогуляться?
Она взглянула на него и отрицательно покачала головой, а он в ответ состроил такое безнадежно огорченное лицо, что ей сделалось его жалко.
— Нет, — дружелюбно объяснила она. — Завтра я не свободна — только ненадолго утром, чтобы сходить в церковь.
— Так, — пробормотал он. — Тогда, может, сегодня вечером сходим, сегодня-то вы свободны.
— Сегодня вечером? Да, я свободна, но я собираюсь еще писать письмо моим старикам.
— Напишете попозднее, вечером оно все равно никуда не уйдет. Знаете, мне так бы хотелось опять с вами поговорить; сегодня вечерком, если только хляби небесные не разверзнутся, мы бы славно погуляли. Ну пожалуйста, ну будьте так добры! Вы же меня не боитесь?
— Не боюсь я никого, а уж вас тем паче. Только нельзя. Увидят, что я с мужчиной…
— Но, Бербели, вас же здесь никто не знает. И никакой это не грех, и никому до нас дела нет. Вы ведь уже не школьница, разве не так? Не забудьте, ровно в восемь жду вас у гимнастического зала, где ограда скотного рынка. Или мне пораньше прийти? Я могу.
— Нет, нет, не раньше. Вообще… не надо вам вовсе приходить, не смогу я, нельзя…
У него снова сделалось по-мальчишески огорченное лицо.
— Ну, уж если никак не можете, — сказал он печально. — А я-то думал, вы здесь одна, на чужой стороне, я тоже один, нам нашлось бы что рассказать друг другу; я бы с удовольствием послушал еще про Ахтхаузен — я ведь там был. Ну что же, принуждать я вас не могу, и вы тоже на меня не обижайтесь.
— Что вы, я совсем на вас не обижаюсь. Только я никак не могу.
— Но вы же свободны сегодня вечером, Бербели. Вы просто не хотите. Может, еще передумаете? Сейчас мне пора, а вечером жду вас у зала; если не придете, поброжу один и буду думать про вас, как вы пишете письмо в Ахтхаузен. Адью, не поминайте лихом.
Он кивнул ей и исчез, прежде чем она успела ответить. Она заметила только, как он быстро мелькнул между деревьями, и выражение лица у нее сделалось растерянным. Затем она снова принялась за работу и вдруг хозяйки-то близко не было — громко и мелодично запела.
Кнульп это слышал. Он снова сидел на мостках на участке дубильщика и скатывал хлебные шарики из того ломтя, что припрятал за обедом. Шарики он тихонько бросал в воду, один за другим, и задумчиво следил, как они медленно погружались, слегка относимые течением, и как у самого темного дна их хватали бесшумные призрачные рыбы.
— Итак, — объявил дубильщик во время ужина, — сегодня у нас суббота, ты и представить себе не можешь, как это прекрасно, после того как всю неделю не даешь себе передышки.
— Представить-то я могу, — улыбнулся Кнульп, и хозяйка подхватила его улыбку, бросив на него исподтишка лукавый взгляд.
— Сегодня вечером, — продолжал дубильщик торжественным тоном, — сегодня вечером мы разопьем добрый кувшин пива, — ты ведь поднесешь нам, старушка? А завтра, если погода будет хорошая, мы все втроем отправимся на прогулку. Что скажешь?
Кнульп дружески похлопал его по плечу.
— Скажу, что ты все отлично придумал, я заранее радуюсь прогулке. Но вот сегодня вечером, знаешь, к сожалению, я занят: у меня здесь есть друг, я непременно должен его повидать — он работал в верхней кузне и утром уходит из города. Мне, право, жаль, но ведь завтра мы целый день будем вместе, иначе я бы все отменил.
— Но не пойдешь же ты сейчас к нему, на ночь глядя, ты ведь еще и не выздоровел.
— Пустое, слишком разнеживать себя тоже не годится. Я вернусь не поздно. А куда вы кладете ключ, чтобы можно было попасть в дом?
— Ну и упрям же ты, Кнульп! Ладно уж, иди, а ключ мы положим за ставнем. Знаешь, где это?
— Конечно. Ну, так я пойду. Ложитесь спать вовремя. Спокойной ночи! Спокойной ночи, сударыня!
Он вышел, и когда уже был в воротах, хозяйка торопливо его догнала. Она принесла зонтик, Кнульп непременно должен его взять, желает он того или нет.
— Вам надобно поберечь себя, Кнульп, — сказала она. — А теперь я вам покажу, где будет лежать ключ.
В темноте она взяла его за руку и повела за угол дома, остановившись перед подвальным окошком, прикрытым деревянным ставнем.
— Вот здесь мы кладем ключ, — сказала она взволнованным шепотом и легонько погладила его руку. — Нужно только просунуть пальцы в прорезь, он лежит на карнизе.
— Вот как, большое спасибо, — смущенно ответил Кнульп, пытаясь освободить руку.
— Принести вам пива наверх перед вашим приходом? — снова зашептала она, легонько к нему прижимаясь.
— Нет, благодарю покорно, я обычно не пью на ночь пива. Спокойной ночи, госпожа Ротфус, еще раз большое спасибо.
— Чего это вам так не терпится? — сказала она нежным укоряющим шепотом и ущипнула его за руку. Ее лицо придвинулось сейчас совсем близко к его лицу, и в неловкой тишине, не решаясь применить силу, он провел рукой по ее волосам.
— Ну, а теперь мне пора, — внезапно громко объявил он и отступил назад.
Она улыбнулась, слегка приоткрыв рот, он видел, как во тьме белеют ее зубы. Совсем тихо она сказала: «Я подожду, пока ты вернешься. Ты милый».
Он быстро зашагал прочь по темной улице, неся зонтик под мышкой; на ближайшем перекрестке он засвистал, чтобы освободиться от дурацкого смущения. Свистал он такую песню:
Ты ждешь меня напрасно, Тебе я не гожусь. С тобою, распрекрасной, И выйти постыжусь.Воздух был все еще теплый, сырой, на черном небе временами проступали звезды. В трактире шумел молодой народ в преддверии воскресенья, в «Павлине» в окнах нового кегельбана он увидал много господ: они толпились, засучив рукава, взвешивая на руке шары, зажав в зубах сигары.
У гимнастического зала Кнульп остановился и огляделся. В голых каштанах глухо гудел сырой ветер, где-то в черной тьме неслышно текла река и слабо отражала два-три светлых окошка. Бродяга всеми фибрами души впивал в себя благодать этого теплого вечера; принюхиваясь, втягивал в себя воздух, предвкушая весну, тепло, сухие дороги и новые странствия. Его неисчерпаемая память озирала город, долину реки, округу — он знал ее всю, дороги и русла рек, деревни, хутора и усадьбы, гостеприимные ночлеги. Он напряженно все обдумывал, составляя в уме план ближайшего странствия, ибо его пребыванию в Лехштеттене пришел конец. Ему только хотелось, если хозяйка не будет слишком уж назойлива, провести здесь ради друга еще это последнее воскресенье.
«Может быть, — думал он, — следовало бы намекнуть дубильщику насчет его женушки». Но он не любил вмешиваться в чужие дела, не стремился помочь людям сделаться умнее и лучше. Ему было жаль, что все так вышло, и думал он о бывшей кельнерше из «Быка» без всякой приязни; в то же время он с легкой насмешкой припоминал и степенные речи дубильщика о домашнем очаге и семейном счастье. Он уже знал: если кто кичится и похваляется счастьем или добродетелью, значит, пиши пропало: ведь и с благочестием его друга портняжки когда-то было то же самое. Можно наблюдать людскую глупость, можно смеяться над ней или чувствовать к ней сострадание, но не надо мешать людям идти своей дорогой.
С задумчивым вздохом он отстранил от себя эти заботы и, втиснувшись в дупло старого каштана, что рос прямо напротив моста, продолжал обдумывать предстоящее путешествие. Хорошо бы постранствовать по Шварцвальду, но, пожалуй, в горах еще холодно и много снегу, чего доброго, погубишь башмаки, да и возможные пристанища там далеко одно от другого. Нет, ничего из этого не выйдет, придется идти долинами и держаться поближе к городам. На Оленьей мельнице, часа четыре отсюда вниз по реке, наверняка приютят его и в случае ненастья позволят задержаться на день-другой.
Пока он стоял так во тьме, погруженный в свои думы, почти позабыв, что кого-то ждет, посередине моста на сквозном ветру показалась маленькая боязливая фигурка и начала робко приближаться. Он узнал ее сразу, радостно и благодарно побежал ей навстречу и снял шляпу.
— Как славно, что вы пришли, Бербели! Я уж почти не надеялся.
Он пристроился слева от нее и повел ее вверх по аллее берегом реки. Она все еще не могла прийти в себя от смущения и робости.
— Не надо бы мне приходить, — снова и снова повторяла она. — Хоть бы никто нас не встретил!
У Кнульпа, однако, было множество вопросов на языке, и постепенно походка девушки сделалась ровнее и смелее, наконец она зашагала рядом с ним легко и бодро, как старый товарищ; согретая его вопросами и участливыми репликами, она горячо и жадно рассказывала ему о родных местах, об отце с матерью, о братце и о бабушке, об утках и курах, о недороде и болезнях, о свадьбах и об освящении церкви. Ее небольшой запас жизненных впечатлений раскрылся и оказался куда обширнее, чем она сама предполагала, и вот уже дело дошло до ее найма на работу, прощания с домом, до ее теперешнего места и привычек хозяев.
Они давно вышли из городка, но Бербели этого не заметила — она вовсе не обращала внимания на дорогу. Болтая, она как бы освобождалась от гнета долгой беспросветной недели молчания и терпения в чужом доме, — и постепенно совсем развеселилась.
— Где это мы? — вдруг воскликнула она с удивлением. — Куда мы идем?
— Если вы не возражаете, мы идем в Гертельфинген, почти что пришли.
— Гертельфинген? А что нам там делать? Не лучше ли повернуть назад, уже поздно.
— Когда вы должны быть дома, Бербели?
— Да в десять, не позднее. Мы так славно прогулялись!
— До десяти еще много времени, — сказал Кнульп, — я уж позабочусь, чтобы вы не опоздали. И раз мы так скоро снова не встретимся, может, рискнем, станцуем один танец? Или вы не любите танцевать?
Она взглянула на него изумленно и с любопытством.
— Танцевать-то я очень люблю. Но где же? Здесь, ночью, в темноте?
— Как вам уже известно, мы сейчас придем в Гертельфинген, а там в трактире «Лев» всегда есть музыка. Мы можем туда зайти, станцуем один-единственный танец и сразу домой, будет о чем вспомнить.
Бербели в раздумье остановилась.
— Как бы это было весело, — проговорила она. — Но что о нас подумают? Я не хочу, чтобы меня сочли за таковскую… или чтобы решили, что мы с вами парочка.
Она вдруг задорно рассмеялась и громко воскликнула:
— Если уж я выберу себе когда-нибудь милого дружка, он ни за что не будет дубильщиком! Не хочу вас оскорбить, но у дубильщика такая грязная работа.
— В этом вы, возможно, правы, — добродушно ответил Кнульп. — Но ведь вы не замуж за меня собираетесь. Да и ни одна душа здесь не знает, что я дубильщик и что вы такая гордая; руки я отмыл дочиста, так что если вы не прочь со мной потанцевать, я вас приглашаю. Если нет, воротимся назад.
В темноте из-за кустов показался первый дом деревни со светлым фронтоном. Кнульп вдруг прошептал: «Тс-с!» — и поднял палец, и они услышали доносившуюся из деревни музыку — звуки гармоники и скрипки.
— Ну, вперед! — засмеялась девушка, и оба прибавили шагу.
Во «Льве» танцевали четыре или пять пар, все молодежь. Кнульп их не знал. Было спокойно и прилично, никто не докучал незнакомой парочке, вставшей в ряд в начале очередного танца. Они сплясали лендлер и польку, затем на очереди был вальс, который Бербели танцевать не умела. Они смотрели на танцующих и выпили немного пива — на большее у Кнульпа не хватило наличности.
Бербели разгорячилась от танца и оглядывала маленький зал блестящими от возбуждения глазами.
— Кажется, теперь нам пора возвращаться, — напомнил ей Кнульп в половине десятого.
Она встрепенулась и сразу же погрустнела.
— Как жаль, — сказала она тихо.
— Можно побыть еще немного.
— Нет, нужно идти. Как было чудесно!
Они направились к выходу, в дверях девушка вдруг вспомнила:
— Мы же ничего не дали музыкантам.
— Да, — несколько смущенно отозвался Кнульп. — Они заслужили уж не меньше, чем двадцать пфеннигов, но, к сожалению, дела мои таковы, что у меня и пфеннига нет.
Она засуетилась и вытащила из кармана маленький вышитый кошелек.
— Что же вы сразу не сказали? Вот двадцать пфеннигов, дайте им!
Он взял монетку и отнес ее музыкантам, затем они вышли и некоторое время стояли у входа, пока в глубокой тьме не начали различать дорогу. Ветер усилился и приносил отдельные дождевые капли.
— Раскрыть зонтик? — спросил Кнульп.
— Нет, при таком ветре мы с места не сдвинемся. Как славно провели время! Дубильщик, а вы танцуете, как танцмейстер!
Она радостно и непринужденно болтала. Ее спутник, однако, притих, видимо, устал, а может быть, страшился предстоящего прощанья.
Внезапно она запела: «Кошу я на Неккаре, на Рейне траву…» Голос у нее был грудной и чистый, на втором куплете Кнульп присоединился к ней и так уверенно повел второй голос, так низко и красиво, что она слушала его с удовольствием.
— Ну что, тоска по дому немножко меньше? — спросил он в конце.
— Еще бы, — засмеялась она. — Давайте еще разок так погуляем.
— Очень сожалею, — ответил он совсем уже тихо. — Но на этом все и закончится.
Она остановилась. Она не все расслышала, но ее поразил скорбный тон его голоса.
— Но почему же? — спросила она с легким испугом. — Не угодила я вам чем-нибудь?
— Нет, Бербели. Но завтра я ухожу, я взял уж расчет.
— Да что вы такое говорите? Это правда? Как мне жалко.
— Обо мне вам жалеть не стоит. Долго я бы все равно здесь не пробыл, а потом — я ведь всего только дубильщик. А вы скоро заведете себе милого дружка, самого прехорошего, и тогда вам совсем уже не придется скучать по дому, вот увидите.
— Не надо так говорить. Вы же знаете, что вы мне очень понравились, хоть вы и не мой дружок.
Они помолчали, ветер завывал им прямо в лицо. Кнульп замедлил шаг. Они были уже у моста. Наконец он совсем остановился.
— Я хочу здесь с вами попрощаться, так будет лучше. Здесь уж рядом, дальше доберетесь одна.
Бербели глядела на него с искренним огорчением.
— Значит, вы всерьез говорили. Тогда я хочу вас поблагодарить. Я никогда этого не забуду. Желаю вам счастья.
Он взял ее руку и прижал к себе; затем, видя, как она смотрит на него, испуганно и удивленно, вдруг обхватил обеими руками ее голову с намокшими от дождя косами и зашептал:
— Адью, Бербели. На прощанье хочу вас только разочек поцеловать, чтобы вы меня не сразу забыли.
Она вздрогнула и попыталась освободиться, но его взгляд был добрым и печальным, и она только теперь заметила, какие красивые у него глаза. Не зажмуриваясь, она серьезно приняла поцелуй и, поскольку он медлил с рассеянной слабой улыбкой, сердечно поцеловала его в ответ.
Затем быстро пошла прочь и была уже на мосту, но внезапно передумала и возвратилась.
— В чем дело, Бербели? — спросил он. — Вам пора домой.
— Да, да, сейчас пойду. Вы не должны думать обо мне плохо.
— Я и не думаю.
— Я хочу спросить вас, дубильщик, как же так, вы сказали, что у вас нет денег. Вы получите еще жалованье до ухода?
— Нет, жалованья я больше не получу. Но это ничего, как-нибудь уж обойдусь, не тревожьтесь.
— Нет, нет. Что-нибудь да должно у вас быть про запас. Вот!
Она сунула ему в руку крупную монету, он почувствовал, что это не меньше, чем талер.
— Вы мне сможете отдать когда-нибудь или прислать.
Он задержал ее руку.
— Так не годится, Бербели. Не пристало так обращаться с деньгами. Подумать только, целый талер! Возьмите обратно! Нет, непременно! Вот так! Не нужно делать глупости. Вот если бы у вас была при себе какая-нибудь мелочь пфеннигов пятьдесят, я бы взял, у меня сейчас и правда ничего нет. Но не больше.
Они еще немного поспорили, и Бербели пришлось раскрыть свой кошелек, так как она утверждала, что у нее нет при себе ничего, кроме талера. Это оказалось неправдой, у нее была марка и маленькая серебряная монетка в двадцать пфеннигов, которая тогда еще имела хождение. Он согласился было взять монетку, но это ей показалось слишком мало, тогда он вообще отказался что-либо брать и хотел уйти, но в конце концов взял марку, и она опрометью бросилась бежать к дому.
При этом она все время думала, почему он не пожелал еще раз ее поцеловать. Это обстоятельство то причиняло ей огорчение, то, напротив, представлялось особенно добрым и благородным — на этом последнем она и остановилась.
Час спустя Кнульп возвратился в дом Ротфуса. Он увидел наверху в горнице свет — это значило, что хозяйка сидит и ждет его. Он даже плюнул с досады и готов был тотчас, невзирая на поздний час, уйти прочь. Но он сильно устал, на дворе собирался дождь, и неприятно было так обижать дубильщика, а кроме того, он вдруг почувствовал охоту сыграть небольшую шутку.
Он выудил ключ из укрытия, осторожно, как вор, отпер входные двери, запер их тихонько, со сжатыми губами, заботливо положив ключ на прежнее место. Затем поднялся по лестнице в одних носках, держа башмаки в руке, увидел полоску света, пробивающуюся из-под двери, и услышал, как протяжно дышит на канапе хозяйка, заснувшая от долгого ожидания. Он неслышно пробрался в каморку, тщательно заперся изнутри и улегся в постель. Но уж завтра, решено, он уходит.
Мои воспоминания о Кнульпе
Это было в пору моей прекрасной юности, и Кнульп тогда был еще жив. Мы странствовали, он и я, не зная забот, в разгар жаркого лета по плодородной местности. Днем мы медленно брели вдоль пожелтевших хлебов, либо отлеживались в тени под кустом орешника или на лесной опушке; вечером я слушал обычно, как Кнульп рассказывал крестьянам удивительные истории, показывал ребятишкам китайские тени и пел девушкам песни, которых знал без счета. Я с удовольствием его слушал и нисколько ему не завидовал, только порой, когда он оживленный стоял в кольце девушек и смуглое лицо его светилось радостью, а молодые барышни, хоть и шутили и насмешничали, провожали его упорными взглядами, мне казалось, что либо Кнульп редкий счастливчик, либо, наоборот, мне особенно не везет, и я незаметно отходил в сторонку, чтобы не быть в тягость, напрашивался на визит к какому-нибудь священнику ради умной беседы или ночлега, а то надолго усаживался в трактире, потягивая вино.
Помню, как-то в послеполуденные часы мы подошли к одинокому кладбищу с часовенкой, затерявшемуся вдали от деревень, среди полей; оно было окружено каменной стеной, через которую перевешивались темно-зеленые кусты, и среди голой жаркой долины от него веяло необыкновенной прохладой и миром. У решетчатых железных ворот росли два высоких каштана, ворота были заперты, и я уж хотел пройти мимо, но Кнульп этому воспротивился. Он проявил явное намерение перелезть через стену.
Я спросил его удивленно:
— Что, снова отдыхаем?
— Именно, именно, у меня прямо ноги отваливаются.
— И не иначе как на кладбище?
— Самое подходящее место, только полезай за мной. Понимаешь, крестьяне — народ непривередливый, но уж под землей они хотят лежать со всеми удобствами. Тут они труда не жалеют и чего только не сажают на могилы и вокруг них.
Я взобрался вместе с ним на стену и увидел, что он прав. Явно стоило перелезть через эту ограду. Внутри во все стороны тянулись неровные ряды могил с белыми деревянными крестами, а вокруг них было такое изобилие зелени — настоящий цветник. Ярко пламенели вьюнки и герань, в тенистых местах еще доцветали желтофиоли, розовые кусты были полны роз, а сирень и бузина были толстые и пышные, как деревья.
Некоторое время мы все это рассматривали, затем расположились в траве, местами очень высокой и еще не отцветшей, и уютно разлеглись на ней, ощущая прохладу и блаженство.
Кнульп прочитал нарисованное на ближайшем кресте имя и сказал:
— Его звали Энгельберт Ауэр, ему было за шестьдесят. Зато теперь он лежит среди резеды, — до чего же благородный цветок! — и ему хорошо. Я бы тоже мечтал когда-нибудь лежать среди резеды, — а покуда возьму с собой один цветок.
Я возразил:
— Оставь их, сорви что-нибудь другое, резеда быстро вянет.
Он тем не менее тут же сломал цветок и воткнул его в свою шляпу, лежавшую рядом на траве.
— Как здесь тихо! — вымолвил я.
— Да, тихо. Еще бы немного потише, и мы услышали бы, как разговаривают те, что лежат под землей.
— Ну нет. Они уже свое отговорили.
— Как знать? Считается, что смерть — это сон, а во сне ведь разговаривают, даже поют иногда.
— Это уж ты будешь петь в свое время.
— А почему бы и нет? Ежели я помру, обязательно дождусь воскресенья: придут девушки, и только сорвут цветочек с могилы, как я сразу же начну тихонечко петь.
— Вот как? И что же ты будешь петь?
— Да какую-нибудь песню.
Он растянулся на земле, прикрыл глаза и стал напевать тоненьким детским голоском:
Я умер рано по весне. О барышни, пропойте мне Песню на прощанье. Тогда я снова возвращусь, Тогда я снова возвращусь Пригожим парнем к вам.Я невольно расхохотался, хотя песенка мне понравилась. Он пел ее хорошо и с чувством, и, хотя слова были порой чуть ли не бессмысленны, мелодия была исполнена благородства и все скрашивала.
— Кнульп, — сказал я ему, — не обещай барышням слишком много, иначе они и слушать тебя не захотят. Возвратиться было бы неплохо, но ни один человек этого не знает, и еще вопрос, будешь ли ты тогда снова пригожим парнем.
— Ты прав, это вопрос. Но как бы мне этого хотелось! Помнишь, позавчера мы встретили мальчонку с коровой, мы еще дорогу у него спрашивали. Таким вот мальчонкой я и хотел бы вернуться. А ты разве нет?
— Я — нет. Я часто вспоминаю одного старика, ему уже за семьдесят, а глаза у него такие добрые и спокойные, что мне кажется, все в нем — ум, доброта и покой. Мне иногда приходит в голову, что вот таким стариком мне хотелось бы стать.
— Ну, тебе еще придется малость подождать. Вообще странная вещь желания. Если бы мне сейчас достаточно было кивнуть, чтобы стать тем мальчонкой, а тебе достаточно было бы кивнуть, и ты бы стал тем ласковым кротким стариком, я уверен — ни один из нас не кивнул бы. Мы предпочли бы остаться такими, каковы мы сейчас.
— И это верно.
— Ну еще бы. А вот тебе и другое. Я часто думаю: самое прекрасное, самое привлекательное на земле — это стройная белокурая девица. Но ведь это не так, часто видишь темноволосую, которая еще красивее. И, кроме того, иногда мне сдается совсем другое: самое прекрасное и возвышенное — это птица, вольно парящая в вышине. А другой раз всего удивительнее бабочка: вон та, например, белая с красными глазками на крыльях; или вечерний солнечный луч из-за облаков, когда все вокруг блестит, но не ослепляет и кажется таким радостным и невинным.
— Ты прав, Кнульп. Это все прекрасно, когда смотришь на это в хорошую минуту.
— Справедливо. Но вот о чем я еще думаю. Самое прекрасное — оно таково, что от него всегда чувствуешь не только удовольствие, но печаль и страх.
— Как это?
— По-моему вот как: красивая девушка не казалась бы и наполовину такой красивой, если бы не знать, что всему свой срок, что однажды она состарится и умрет. Если бы прекрасное оставалось таким же вечно, это бы нас радовало, но как-то и расхолаживало; ведь каждый думал бы: зачем торопиться это увидеть, еще успеется. А что бренно, что не сохранится, как есть, — на то я гляжу не только с радостью, но и с состраданием.
— Ну и что?
— Потому-то я и не знаю ничего прекраснее, чем фейерверк. Синие, зеленые ракеты взмывают вверх, во тьму, и когда они всего великолепней, описывают маленькую дугу, и их уж нет. Когда глядишь, ощущаешь радость и страх: вот сейчас пропадут! — и хорошо, что так, они еще прекраснее оттого, что столь недолговечны. Разве не правда?
— Правда, но не всегда и не во всем.
— Почему же не во всем?
— А вот, например: если двое любят друг друга и женятся или двое стали друзьями, это прекрасно потому, что надолго и не кончится сразу.
Кнульп внимательно выслушал меня, взмахнул своими темными ресницами и задумчиво продолжал:
— Да, это мне тоже нравится. Но ведь и это имеет свой конец, как все на земле. Сколько причин могут убить дружбу, а уж любовь тем более.
— Ну, об этом как-то не думают, пока оно не наступит.
— Не знаю. Послушай, я любил в жизни дважды — я имею в виду, по-настоящему, — и оба раза был убежден, что все это навеки и кончится только с моей смертью; и оба раза это кончилось, а я, как видишь, не умер. Был у меня и друг, еще дома, в нашем городке, я и помыслить не мог, что мы когда-нибудь расстанемся, пока живы. Но мы давно уж разошлись.
Он замолчал, и я не знал, что ему ответить. Ту боль, что таится в каждой людской связи, я еще не успел испытать, я еще не ведал, что двух людей, как бы ни были они близки, всегда разделяет бездна, которую шаг за шагом по хрупкому мостику пытается преодолеть одна только любовь. Я размышлял над тем, что сказал мой друг, и больше всего мне понравился его пример с ракетами — при взгляде на них я ощущал то же самое. Эти заманчивые цветные огни, взмывающие во тьму и мгновенно ею поглощаемые, представлялись мне символом всякого земного наслаждения, которое чем прекраснее, тем меньше удовлетворяет и тем быстрее проходит. Я сказал об этом Кнульпу.
Он, однако, не стал далее развивать эту тему.
— Да, да, — только и пробормотал он. И затем, после долгой паузы, приглушенным голосом: — Думать, размышлять — грош этому цена, ведь обычно поступают не так, как думают, на каждом шагу решают одно, а делают, как сердце прикажет. Но все-таки с дружбой и с любовью дело обстоит по-моему. В конце концов, у каждого человека есть что-то совсем свое, чем он не может поделиться с другим. Это особенно ясно видишь, когда кто-нибудь умирает. Порыдают, повоют день, месяц или год, а потом умерший умирает окончательно, его уж нет, и всем безразлично, кто там лежит в его гробу: он сам или безродный подмастерье.
— Слушай, Кнульп, мне такой разговор не по душе. Ведь мы часто говорили, что в конечном итоге должен быть какой-нибудь смысл в жизни, и добр ли человек и милосерден или жесток и зол, это не пустое. А ты сейчас утверждаешь, будто все едино, и с тем же успехом можно грабить и убивать.
— Нет, дружище, этого как раз нельзя. А ну-ка попробуй, убей хоть двоих из тех, что нам повстречаются… если сможешь. Или потребуй от желтого мотылька, чтобы он сделался синим. Да он тебя просто высмеет.
— Я не об этом. Но если все едино, то ведь незачем и стараться быть добрым и честным. О каком добре можно говорить, если что желтое, что синее, что доброе, что злое — все едино. Тогда каждый как зверь в лесу, поступает, как велит ему природа, и не знает ни вины, ни заслуги.
Кнульп вздохнул.
— Что тебе сказать? Может, все так, как ты говоришь. Потому-то порой так по-глупому и огорчаешься, что чувствуешь: твоя воля гроша ломаного не стоит, все идет как идет помимо тебя. Но вина-то все-таки существует, даже если человеку ничего не остается как быть плохим. Он ее ощущает внутри себя. И наверняка только добро и правильно, хотя бы потому, что от него нам радостно и совесть спокойна.
Я видел по его лицу, что ему опостылели эти разговоры. С ним часто так бывало: сам пустится рассуждать, разберет все доказательства за и против какого-нибудь положения, им же провозглашенного, и вдруг сам все оборвет. Раньше я полагал, что его раздражают мои неуклюжие ответы и возражения. Но на самом деле было не так, просто он чувствовал, что склонность к умствованию завлекает его в те области, где его знаний и его словаря явно недостаточно. Ибо хотя он читал немало, среди прочего даже Толстого,[3] он не всегда мог отличить истинные выводы от ложных, и сам это сознавал. О людях образованных он судил, как способный ребенок о взрослых, признавая, что они сильнее и могущественнее его, но втайне презирая их за то, что, при всем их могуществе, они ни на что путное не способны и, при всех своих талантах, так и не решили ни одной загадки.
Он снова лег, положив голову на руки, стал глядеть сквозь черную на солнце листву бузины в белесое жаркое небо и замурлыкал песенку, старинную песенку с Рейна. Я помню еще ее последний куплет:
Я красною юбкой бывала горда, Теперь мое платье черней, чем беда, Семь лет подряд Ношу я черный наряд.Поздно вечером мы сидели с ним друг против друга на прохладной лесной опушке, каждый с ломтем хлеба и куском охотничьей колбасы, усердно жевали и следили, как постепенно настает ночь. Только что дальние холмы еще сверкали отблесками желтого вечернего неба, и контуры их расплывались в густеющей световой дымке, но вот уж они темные, совсем черные, и их гребни, кусты и деревья четко вырисовываются на фоне неба, сохранившего остатки дневной голубизны, которая уже побеждена, однако, густой синевою ночи.
Пока было еще светло, мы читали друг другу вслух разные разности из забавной книжечки, украшенной гравюрами и носившей причудливое название «Напевы муз из немецкой шарманки»,[4] она содержала незатейливые веселые песенки из ходячего репертуара. Это занятие прекратилось с наступлением темноты. Когда мы насытились, Кнульпу вздумалось послушать музыку; я извлек из кармана губную гармонику, полную набившихся хлебных крошек, продул ее и сыграл на ней кое-что из того, что тогда приходилось особенно часто слышать. Тьма, в которую мы постепенно погрузились, заполнила углубления между холмами, слабое мерцание неба угасло, и в черноте одна за другой загорались первые звезды. Звуки гармоники легко и протяжно плыли над полями и исчезали в дальних просторах.
— Не завалимся же мы сразу спать, — сказал я Кнульпу. — Расскажи лучше какую-нибудь историю, не обязательно правдивую, а еще лучше — сказку.
Кнульп подумал.
— Историю и одновременно сказку, — сказал он. — Знаешь, я расскажу тебе один сон — он приснился мне прошлой осенью, потом снился еще два раза, почти в точности такой же; его-то я тебе и расскажу.
Снилась мне улица в маленьком городке, совсем как у нас дома, по обеим сторонам — здания с крутыми щипцами, но выше, чем обычно. Я шел по ней, как будто после долгих, долгих лет странствий наконец вернулся домой; но радовался я при этом как-то не до конца, потому что не все было в порядке, я не был вполне уверен, в самом ли деле это мой родной город или я попал совсем не туда. Некоторые перекрестки были в точности такие, как я их помнил, и я мгновенно их узнавал, но отдельные дома казались совсем чужими и непривычными, и я никак не мог отыскать, например, мост и выйти к базарной площади, а вместо этого миновал какой-то незнакомый сад и церковь с двумя высокими башнями — точно такую я припоминал не то в Кёльне, не то в Базеле. Наша церковь была вообще без всяких башен, только небольшое возвышение посередке с временным покрытием: деньги были истрачены, а на башню не хватило.
То же самое творилось и с людьми. Некоторые, когда я глядел на них издали, казались мне хорошо знакомыми, я припоминал их имена и уже готов был их окликнуть. Но внезапно, не дойдя до меня, они исчезали в каком-нибудь доме или сворачивали в боковую улицу, а кто подходил ближе, тот как-то менялся на глазах, и я видел чужое, незнакомое мне лицо; но когда он проходил мимо и снова удалялся, я готов был поклясться, глядя ему вслед, что все же я его знаю. Я встретил и нескольких женщин, они стояли перед раскрытой дверью лавки, мне показалось, что одна из них моя покойная тетка, а когда я приблизился, я ее не узнал и к тому же услыхал, что она говорит на каком-то чужом наречии, которое я и разбираю-то с трудом.
Наконец я подумал: пора мне выбираться из этого городка, какой-то он чудной, тот и в то же время не тот. Но я все не уходил, то подбегал к знакомому дому, то шел навстречу знакомому человеку и опять оставался в дураках. И притом я не чувствовал ни досады, ни гнева, а только печаль и глубокий страх; я хотел было прочитать молитву и стал вспоминать ее изо всех сил, но на ум шли одни только бесполезные дурацкие выражения, вроде «Милостивый государь» или «По независящим от меня обстоятельствам», — и я бормотал их про себя растерянно и печально.
Так все длилось, как мне показалось, несколько часов, я вспотел, выбился из сил, но, спотыкаясь на каждом шагу, безвольно брел дальше. Дело уже было к вечеру, и я решил спросить ближайшего прохожего, как мне пройти на постоялый двор или выйти на дорогу, но мне ни с кем не удавалось заговорить, все проходили мимо меня, как будто я бесплотный призрак. Скоро я почти что рыдал от усталости и отчаянья.
Вдруг я еще раз незаметно завернул за угол, и вот передо мной оказалась наша улица, немного, правда, перестроенная и приукрашенная, но теперь это меня почему-то не смущало. Я пошел по ней и отчетливо узнавал дома, один за другим, несмотря на завитушки, которыми их снабдил сон, и вот уж я стоял перед своим старым отцовским домом. Он тоже показался мне неестественно высоким, но в остальном был совсем как в прежние времена, и у меня прямо-таки мурашки по спине пробежали от радости и волнения.
В воротах стояла моя первая любовь, ее звали Генриетта. Она немного изменилась с тех пор, казалась выше, но стала еще красивее, чем прежде. Приближаясь, я обратил внимание, что красота ее подобна чудесному произведению искусства, кажется скорее ангельской, чем человеческой, заметил я также, что у нее белокурые волосы, а не каштановые, как были у Генриетты; и все же это была она, с головы до ног, хоть и преображенная.
— Генриетта! — воскликнул я и сдернул с головы шляпу; она ведь выглядела такой благородной дамой, что я не был уверен, захочет ли она меня узнать.
Она обернулась и поглядела мне прямо в лицо. Но когда она на меня поглядела, я поневоле был удивлен и пристыжен, ибо все же это была не она, не та, которую я окликнул, но Лизабет, вторая моя любовь, с которой мы долго были вместе.
— Лизабет, — закричал я снова и протянул ей руку.
Она взглянула на меня, как будто сам господь взглянул мне в душу: не строго, не свысока, а светло и покойно и в то же время таким одухотворенным, таким полным превосходства взором, что я показался себе жалким псом. И, глядя так на меня, она сделалась вдруг серьезною и печальной, покачала головой, будто я задал ей дерзкий вопрос, не взяла моей руки, а повернулась и ушла в дом, тихо затворив за собою ворота. Я услышал только, как щелкнул замок.
Тогда я побрел прочь, и хоть от слез и боли едва мог что-либо различать, было странно, как снова удивительно переменился город. Теперь уже каждая улочка и каждый дом стояли в точности такими, как были прежде, а искажавший все морок исчез. Щипцы были не такие неестественно высокие и выкрашены как раньше, люди тоже стали настоящими, они радовались и изумлялись, встречая меня, многие окликали меня по имени. Но сам я не мог им ответить, не мог даже остановиться. Вместо этого я мчался что было сил по знакомой дороге — через мост и прочь из города, — ничего не видя перед собой, потому что глаза мои были мокры от слез и скорбь охватила мне сердце. Я не знал, почему все это, только чувствовал: для меня здесь все потеряно, и мне остается только со стыдом бежать прочь.
Затем, уже покинув город и оказавшись под тополями, я немного замедлил бег и сообразил, что ведь я сейчас был возле нашего дома, перед самым порогом, и даже не вспомнил ни об отце, ни о матери, ни о братьях и сестрах, ни о друзьях юности. И такое смятение и стыд воцарились в моем сердце, как никогда прежде. Но вернуться и все исправить было уже невозможно, потому что я проснулся и сон кончился.
Кнульп сказал:
— У каждого человека своя душа, ей невозможно слиться ни с какою другою. Двое могут повстречать друг друга, говорить друг с другом и быть рядом. Но души их как два цветка, выросших порознь, каждый из своего корня; они не способны сблизиться, не то им пришлось бы оторваться от корней, а этого они как раз и не могут. Они только посылают свой аромат и свои семена, потому что их тянет друг к другу, но куда попадет семечко, зависит уже не от самого цветка, это зависит от ветра, а он прилетает и улетает, как хочет.
И еще:
— Сон, который я тебе рассказал, возможно, имеет тот же самый смысл. Ни Генриетту, ни Лизабет я с умыслом не обижал. Но по той причине, что я их обеих когда-то любил и хотел их удержать, они и соединились для меня во сне в один образ, — он похож на обеих сразу, но он и ни Генриетта, и ни Лизабет. Этот образ принадлежит мне, но с живым человеком у него ничего общего нет. И тут кстати будет сказать еще о моих родителях. Они были убеждены, что я их дитя, их частичка, и посему должен быть таким же, как они. Но я, хоть и любил их, был другим, особым и непонятным для них человеком. То, что было во мне главным, что как раз и было моею душою, они считали второстепенным и приписывали молодости или прихоти. При этом они меня тоже очень любили и всё бы для меня сделали. Но отец может передать в наследство сыну нос, или глаза, или способности, но не душу. Душа каждого человека рождается заново.
Мне нечего было на это возразить, ибо тогда еще я в такие рассуждения, во всяком случае по собственному моему почину, не пускался. Такое глубокомыслие, хоть и было мне по душе, но по-настоящему не задевало, а посему я полагал, что и для Кнульпа это не борение, а всего лишь игра. Кроме того, было так покойно и прекрасно лежать рядом с другом на сухой траве в ожидании ночи и глядеть на первые звезды.
Я сказал:
— Кнульп, да ты настоящий философ. Тебе бы профессором стать.
Он засмеялся и покачал головой.
— Скорее я вступлю когда-нибудь в Армию спасения, — задумчиво вымолвил он.
Это было уж слишком.
— Слушай, пожалуйста, не прикидывайся! — сказал я ему. — Не хочешь ли ты заодно сделаться святым?
— То-то и дело, что хочу. Каждый человек, который серьезно относится ко всему, что думает и делает, — святой. Вот как ты считаешь правильным, так и следует поступать. И если однажды я сочту правильным вступить в Армию спасения, то я, верно, так и сделаю.
— Далась тебе эта Армия спасения!
— Именно, далась. Сейчас объясню почему. Мне пришлось в жизни говорить с многими людьми и слышать много речей. Я слышал, как говорят священники и учителя, бургомистры, социал-демократы и либералы; но не было среди них ни одного, кто бы серьезно — до конца серьезно — относился к тому, что говорит, — так, чтобы я поверил: в случае нужды этот на костер пойдет за свои убеждения. А в Армии спасения, между прочим, со всей ее нелепой музыкой и шумихой, я встречал несколько раз людей, для которых все было серьезно.
— Откуда ты знаешь?
— Да уж это видно. Один, например, — помню, он держал речь в какой-то деревне, в воскресенье, под открытым небом — вокруг жарища, пыль, так что вскоре он совершенно охрип. Да особенно крепким он и не выглядел. Когда он не в состоянии был произнести ни слова, он просил своих трех товарищей немного попеть, а сам выпивал глоток воды. Полдеревни собралось вокруг, дети и взрослые, все считали его за дурака и всячески критиковали. Позади других стоял молодой дюжий батрак, в руках он держал кнут и время от времени оглушительно им щелкал, специально, чтобы позлить оратора и посмешить публику. Но бедный малый не давал волю гневу, хотя вовсе не был глуп, он пытался своим голосишком пробиться к зевакам и улыбался там, где другой бы выл или сыпал проклятиями. Знаешь, так стараются не за деньги и не ради удовольствия, но когда несут в себе великую уверенность и ясность.
— Изволь. Но ведь одно и то же не годится для всех. А человек чувствительный, тонкий, вроде тебя, вообще не создан, чтобы выступать перед зеваками.
— А может, как раз и создан. Ежели он во что-то верит, что-то имеет за душой, что выше и прекраснее чувствительности и тонкости. Ты прав, одно и то же не годится для всех, но истина — она ведь для всех одна.
— Ах, истина! Откуда тебе известно, что эти, с их аллилуйей, владеют истиной?
— Это мне неизвестно. Я утверждаю только: если я однажды сочту, что истина у них, я за ними последую.
— Если… Но ведь ты каждый день открываешь очередную мудрость, а назавтра ей не следуешь.
Он с обидой посмотрел на меня.
— Знаешь, то, что ты сказал сейчас, очень зло.
Я хотел извиниться, но он воспротивился и замолк. Вскоре он шепотом пожелал мне доброй ночи, улегся тихонько, но, по правде говоря, я не верил, что он спит. Я тоже долго не мог заснуть, больше часу не смыкал глаз и, подперев подбородок ладонями, неотрывно глядел в ночную даль.
С утра я сразу приметил, что у Кнульпа сегодня выдался счастливый денек. Я не умолчал об этом, и он, по-детски просияв и окинув меня радостным взглядом, сказал:
— Ты угадал. А знаешь, по какой причине у человека бывает счастливый день?
— Нет. А по какой?
— Да просто потому, что он ночью отлично спал и видел хороший сон. Но этот сон потом никогда не помнишь. Так и сегодня: мне снилась какая-то роскошь и веселье, но что именно — все позабыл, знаю только, что это было прекрасно.
Еще прежде, чем мы добрались до ближайшей деревни и ощутили во рту вкус парного молока, он спел натощак, легко и свободно, грудным теплым голосом три-четыре самых новеньких своих песни. Если бы эти песенки были записаны и напечатаны, они бы, возможно, ничего особенного собой не представляли. Но хотя Кнульп не был большим поэтом, поэтом он все же был, и его песенки в его собственном исполнении были похожи на самые прекрасные песни в мире, как их хорошенькие сестрицы. Отдельные отрывки, которые сохранились в моей памяти, и в самом деле хороши и все еще мне дороги. Ничего из этого не было записано, стихи его рождались, жили и умирали невинно и безответственно, как порывы ветра, но они скрасили не один час не только ему и мне, но и многим другим людям, детям и взрослым.
Словно девица-краса Появилась из ворот Из-за елей в небеса Солнце красное плывет,пел он в тот день о солнце, которое почти всегда присутствовало в его песнях и которому он возносил хвалы. И странное дело, насколько в беседе он обожал всяческую философию, настолько наивны и непосредственны были его стишки, которые выпрыгивали на свет, подобно чистеньким ребятишкам, в светлых летних одеждах. Часто это бывала забавная бессмыслица, она служила лишь для того, чтобы дать выплеснуться переполнявшему его задору.
Тот день был весь для меня окрашен его ликующим настроением. Мы шутливо приветствовали и задирали встречных и поперечных, так что вслед нам неслись то смех, то брань, и весь день проходил как праздник. Мы наперебой рассказывали друг другу о шутках и проделках школьных лет, давали насмешливые прозвища проходящим мимо крестьянам, а также их лошадям и волам, досыта полакомились у пустынной ограды ворованным крыжовником и почти каждый час устраивали привалы, щадя свои силы и подметки.
Мне представилось, что со времени моего сравнительно недавнего знакомства с Кнульпом я никогда еще не видал его таким веселым и обаятельным, и я всячески радовался предстоящему странствию, считая, что с сегодняшнего дня, собственно, и начнется наша совместная жизнь и наше веселье.
Полдень сделался на редкость знойным, мы больше валялись на траве, чем шагали вперед, а к вечеру стало парить и собралась гроза, так что решено было поискать ночлега под крышей.
Кнульп постепенно затих, по-видимому, устал, но я этого почти не заметил, так как он с прежним воодушевлением вторил моему смеху и подхватывал песню, когда я ее запевал, а сам я веселился пуще прежнего, и в груди у меня, подавляя все другие чувства, разгорался какой-то праздничный фейерверк. Очевидно, у Кнульпа было все наоборот, его радостные огни уже угасали. У меня же всегда так: в праздничные дни я особенно расхожусь к вечеру, просто удержу не знаю и ради какого-нибудь нового удовольствия готов пуститься в путь на ночь глядя, когда все другие уже угомонились и спят.
Подобная лихорадка охватила меня и в тот раз, и, когда, спустившись в долину, мы подошли к большой нарядной деревне, я обрадовался, предвкушая веселый вечер. Сначала мы высмотрели амбар, стоявший особняком и вполне подходящий для ночлега, затем вошли в деревню и расположились за столиком в трактирном саду, так как я пригласил своего друга на ужин и готов был расщедриться на омлет и пару бутылок пива — ведь это был поистине счастливый день.
Кнульп охотно принял мое приглашение, но, когда мы уселись под красивым платаном, несколько смущенно заметил:
— Слушай, мы ведь не станем затевать кутеж, не так ли? Одну бутылку я охотно выпью, это полезно, но больше я не переношу.
Я согласился и подумал про себя: «Зачем загадывать наперед? Выпьем, сколько захочется». Мы ели горячий омлет с пахучим ржаным хлебом, и вскоре я заказал себе еще пива, хотя в бутылке Кнульпа осталось больше половины. У меня было преотличное настроение от того, что я раскошелился и по-господски восседаю за этим обильным столом, я рассчитывал еще долго предаваться веселью в тот вечер.
Когда Кнульп допил свою бутылку, он, несмотря на мои просьбы, не захотел брать вторую и предложил мне пойти погулять по деревне, а затем пораньше отправиться спать. Это вовсе не входило в мои планы, но мне не хотелось прямо ему противоречить. Поскольку я еще не допил пива, я согласился, чтобы он отправился вперед, а затем мы встретимся.
Он ушел. Я глядел ему вслед, как легко он спустился по ступеням, непринужденной походкой человека, привыкшего наслаждаться ходьбой, и, подтянутый, заткнув цветок за ухо, неторопливо зашагал по деревенской улице. И хоть я был раздосадован тем, что он не пожелал распить со мной вторую бутылку, я невольно подумал, растроганный и охваченный нежностью: «Ах ты, миляга!»
Между тем духота еще усилилась, хоть солнце давно уже село. В такую погоду приятно было мирно посиживать и попивать холодное пиво, и я решил еще немного задержаться за столиком. Я был теперь почти единственным посетителем в трактире, у кельнерши было довольно свободного времени, чтобы поговорить со мной. Я попросил ее принести мне еще две сигары, одну из которых я сначала предназначал для Кнульпа, но затем по рассеянности выкурил сам.
Еще раз, пожалуй, через часок, Кнульп заглянул в трактир и хотел меня увести. Но я так прочно уселся, что мне было лень вставать, и, поскольку он все равно устал а хотел спать, мы договорились, что он отправится на место ночлега. Он удалился. Кельнерша тотчас же принялась меня про него расспрашивать, все девушки без исключения всегда его примечали. Я ничего не имел против этого, ведь он был мой друг, а она мне была никто; наоборот, я превозносил его до небес, ибо я был тогда в благодушном настроении и любил весь свет.
Уже погрохатывал вдалеке гром и ветер шумел в листьях платана, когда я наконец поздно ночью поднялся и собрался уходить. Я расплатился, дал девушке еще десять пфеннигов и не спеша отправился восвояси. Во время ходьбы я все время отчетливо ощущал, что бутылку я, пожалуй, перебрал, — последнее время я вообще отвык от крепких напитков. Но это меня отнюдь не огорчало, наоборот, я гордился своей лихостью я пел всю дорогу, пока не отыскал наш амбар. Я тихонько забрался наверх и в самом деле нашел Кнульпа спящим. Он лежал в одной рубашке на своей расстеленной коричневой куртке и ровно дышал. В полутьме слабо белели его лоб, шея и вытянутая рука.
Я улегся как был, в одежде, но возбуждение и тяжелая голова еще долго не давали мне сомкнуть глаз, и уже чуть светало, когда я наконец заснул, точно провалился, тяжелым глубоким сном. Спал я крепко, но не здорово, ощущая себя усталым и разбитым, и мне снились какие-то неясные мучительные сны.
Утром я проснулся поздно, на дворе уже был ясный день, и солнечный свет бил мне прямо в глаза. В голове было пусто и смутно, руки и ноги болели. Я долго зевал, тер глаза и до хруста разминал члены. Несмотря на усталость, я ощущал в душе какие-то отзвуки вчерашнего возбуждения и собирался окончательно смыть с себя похмелье у первого чистого колодца.
Все, однако, обернулось иначе. Когда я огляделся, я не обнаружил Кнульпа. Я был сначала вполне спокоен, покричал ему, посвистел. Но когда крик, свист и поиски ничего не дали, я вдруг понял, что он меня покинул. Да, он покинул меня, ушел тайно, он не хотел больше со мной оставаться. То ли ему был неприятен мой кутеж, то ли он стыдился своей собственной вчерашней резвости, а может, просто под настроение, засомневавшись во мне или поддавшись внезапной необоримой тяге к одиночеству. И все же мое сидение в трактире несомненно было тому виной. Радость меня оставила, я весь был во власти стыда и отчаянья. Где мой друг? Вопреки его рассуждениям, я смел думать, что все же немного его понимаю, разделяю его чувства. Теперь он ушел, и я остался один, горько разочарованный, и винить в этом должен был скорее себя, чем его; я сам, на своем опыте, ощутил теперь то самое одиночество, которое, по словам Кнульпа, есть удел каждого на земле и в которое я так долго не хотел верить. Оно было горестным, это одиночество, и не только в тот первый день, иногда оно ослабевало, но полностью уже не покинуло меня с тех пор никогда.
Конец
Был светлый октябрьский день; прозрачный, пронизанный солнцем воздух чуть колебался под проказливыми порывами ветра, от садов и полей тонкими лентами вился голубоватый дымок осенних костров и наполнял округу терпким сладковатым запахом горелой травы и листьев. В палисадниках еще цвели пышным цветом пестрые яркие астры, бледноватые поздние розы и георгины, порой из-за изгороди среди уже увядшей и побуревшей зелени пламенел огненный цветок настурции.
По дороге в Булах медленно катил одноконный экипаж доктора Махольда. Дорога плавно поднималась в гору, с левой стороны тянулись убранные поля только картошку еще продолжали копать, справа высился молодой и густой сосняк, почти задохнувшийся от густоты, — плотная коричневая стена прижатых друг к другу стволов и сухих ветвей, земля внизу, густо усыпанная толстым слоем светло-желтой высохшей хвои. Впереди дорога уводила прямо в бледно-голубое осеннее небо; казалось, будто там наверху конец света.
Доктор отпустил поводья и предоставил своей старой кобылке плестись как бог на душу положит. Он возвращался от умирающей, которой уже нельзя было помочь и которая все же упорно цеплялась за жизнь до последнего дыхания. Он устал и теперь наслаждался спокойной ездой и приветливым осенним деньком; его мысли дремали, приглушенно и покорно следуя зовам, исходившим от полевых костров и пробуждавшим смутные приятные воспоминания об осенних каникулах и еще более далекие — звонкие, но совсем уж бесплотные видения сумеречной поры детства. Ибо он вырос в деревне, и его чувства легко и охотно улавливали все приметы, связанные с временем года и крестьянскими работами.
Он почти совсем погрузился в дрему, когда возок вдруг остановился. Водосток пересекал дорогу, в нем увязли передние колеса, и благодарная лошадка стала, опустив голову и наслаждаясь передышкой.
Махольд пробудился от того, что внезапно смолкло громыхание колес; он натянул поводья, с улыбкой взглянул, как после минутной хмури вновь сияют в солнечном блеске небо, лес, и привычным щелканьем языка заставил кобылу двинуться дальше. Он подтянулся, выпрямился — он не любил дремать среди бела дня — и сунул в зубы сигару. Езда продолжалась в том же медлительном темпе, какие-то две женщины в широкополых шляпах прокричали ему с поля приветствие из-за длинного ряда мешков с картошкой.
Конец подъема был уже близок, лошадь приободрилась и подняла голову, предвкушая пологий спуск с седловины холма и близость дома. И вдруг на фоне близкого светлого горизонта с той стороны возник человек, путник; он как бы вырос на миг, застыв на самой вершине, залитый голубым сиянием, а затем стал постепенно спускаться, сразу сделавшись маленьким и серым. Он приближался, худой мужчина с редкой бородкой, бедно одетый, явно из тех, для кого проселочные дороги служат домом; он брел усталой походкой, с трудом передвигая ноги, но вежливо снял шляпу и поклонился.
— День добрый! — сказал доктор, поглядел вслед незнакомцу, уже начавшему удаляться, и вдруг с ходу остановил бричку, привстал на козлах и, глядя поверх кожаного верха, закричал: — Эй, послушайте! Вернитесь-ка на минуту!
Запыленный путник остановился и оглянулся. Он улыбнулся доктору слабой улыбкой и хотел было продолжить свой путь, однако передумал и покорно повернул назад.
Теперь он стоял рядом с низким экипажем, все еще держа шляпу в руке.
— Нельзя ли узнать, куда вы путь держите? — спросил его Махольд с козел.
— Да все прямо по этой дороге, на Бертольдзег.
— Мне сдается, мы с вами знакомы. Только никак не могу вспомнить имя. Вам ведь известно, кто я?
— Полагаю, что вы доктор Махольд.
— Ну вот. А сами-то вы кто? Как вас зовут?
— Сейчас вы меня вспомните, господин доктор. Мы сидели когда-то рядом у латиниста Глохера, и господин доктор еще списали у меня упражнение.
Махольд соскочил с козел и пристально вгляделся в лицо прохожего. Затем облегченно рассмеялся и похлопал его по плечу.
— Точно! Значит, ты и есть знаменитый Кнульп, и мы с тобой однокашники. А ну-ка, друг, дай пожать твою руку! Мы наверняка не виделись больше десяти лет. Все еще странствуешь?
— Странствую. Когда становишься старше, трудно менять привычки.
— Это верно. А куда направляешься сейчас? Уж не в родные ли наши места?
— Угадали. Хочу взглянуть на Герберзау, остались у меня там кое-какие делишки.
— Так, так. Из стариков твоих жив еще кто-нибудь?
— Нет, никого.
— Что-то не молодо ты выглядишь, Кнульп! А ведь нам всего только за сорок, если не ошибаюсь, и тебе, и мне. Подумать только, просто хотел пройти мимо — не хорошо это с твоей стороны. Знаешь, мне сдается, что доктор-то тебе как раз и нужен.
— Да что там! Все у меня в порядке, а что не в порядке, того ни один доктор не поправит.
— Посмотрим. А сейчас давай-ка залезай и поедем со мной, там все и обсудим.
Кнульп в нерешительности отступил и надел шляпу. Он отстранился со смущенным видом, когда доктор захотел помочь ему взобраться в бричку.
— Что вы, да этого вовсе не требуется. Не рванется же этот конек с места в карьер, пока мы тут разговариваем?
На него вдруг напал приступ кашля, и врач, который уже смекнул, в чем дело, без церемоний подхватил его под руки и усадил в бричку.
— Ну вот, — сказал он, когда они покатили, — сейчас будем на вершине, оттуда — рысью, и через полчаса дома. Не трудись отвечать при таком кашле, дома побеседуем. Что? Никаких возражений! Больным полагается лежать в постели, а не бродить по дорогам. Я припоминаю, тогда по латыни ты мне часто помогал, — теперь мой черед.
Они миновали гребень и под визг тормозов стали спускаться по склону; напротив уже виднелись среди плодовых деревьев крыши Булаха. Махольд крепко держал поводья и следил за дорогой, а Кнульп устало и с некоторым даже облегчением предался удовольствию езды и насильственному гостеприимству. «Завтра, — думал он, — в крайнем случае, послезавтра пойду дальше на Герберзау, если только ноги будут держать». Это уже не был былой ветрогон, расточавший дни и годы. Теперь это был старый больной человек, не имевший более никаких желаний, кроме одного-единственного: еще раз перед кончиной повидать родину.
В Булахе друг провел его сначала в гостиную, заставил выпить молока и подкрепиться ветчиной с хлебом. При этом они поболтали и постепенно обрели былую непринужденность. Лишь после этого врач приступил к осмотру, а больной добродушно, хотя и не без доли насмешки, ему это дозволил.
— Ты хоть знаешь, что у тебя не в порядке? — спросил Махольд, закончив обследование. Он спросил это легко, без нажима, и Кнульп был ему за это благодарен.
— Да, Махольд, знаю. Чахотка. И мне известно также, что долго мне не протянуть.
— Ну, кто знает? Но тогда ты должен понимать, что тебе нужны постель и уход. Пока погостишь у меня, а тем временем исхлопочу тебе место в ближайшей больнице. Ты что, рехнулся, мой милый? Так нельзя, нужно взять себя в руки, чтобы выкарабкаться.
Кнульп снова натянул на себя куртку. Обратив к доктору посеревшее заострившееся лицо, он добродушно заметил с выражением легкого лукавства:
— Ты стараешься изо всех сил, Махольд! Воля твоя. Но на меня ты особенно не рассчитывай.
— Поживем — увидим. А теперь посиди в саду на солнышке, пока оно светит. Лина сейчас пойдет приготовит тебе постель, уж мы с тебя глаз не спустим, бедолага. Чтобы человек всю жизнь провел на свежем воздухе, на солнце, и заболел легкими — невероятно!
Сказав это, он удалился.
Домоправительница Лина не была в восторге и не желала укладывать в комнате для гостей бродягу. Но доктор решительно ее оборвал:
— Полно, Лина! Ему недолго осталось жить, пусть понежится у нас напоследок. Он всегда был чистюля, да и прежде, чем отправить его в постель, мы его сунем в ванну. Дайте ему одну из моих ночных рубашек и, если можно, теплые туфли. И не забудьте: этот человек — мой друг!
Кнульп проспал одиннадцать часов подряд и долго еще дремал в кровати хмурым туманным утром, прежде чем ему удалось сообразить, у кого он находится. Когда выглянуло наконец солнце, Махольд позволил ему встать, и теперь, после завтрака, они рассиживали за стаканом красного вина на освещенной солнцем террасе. Кнульп от хорошей еды и выпитого полустакана вина приободрился и стал явно разговорчивей, доктор же нарочно выкроил себе часок, чтобы поболтать с чудаком-однокашником и поподробнее узнать об этой, столь необычной жизни.
— Значит, ты доволен тем, как ты жил, — сказал он с улыбкой. — Если это так, все в порядке. Иначе я бы считал, что о таком человеке, как ты, следует пожалеть. Тебе незачем было становиться непременно священником или учителем, но из тебя мог бы выйти естествоиспытатель или даже поэт. Не знаю, нашел ли ты применение своим дарованьям, развил ли их, но уж точно, что польза от них была тебе одному. Разве не так?
Кнульп подпер рукой подбородок с редкой бороденкой и следил, как от стакана вина на солнечной скатерти вспыхивают и гаснут красные искры.
— Не совсем так, — задумчиво проговорил он. — Мои дарованья, как ты их называешь, не так уж они велики. Что я умею: немножко свистеть, немножко играть на гармонике, порою сложить стишок, еще я был раньше бегуном и неплохим танцором. Вот и все. И не мне одному это приносило радость — вокруг всегда оказывались друзья, девушки, дети, им все это было в забаву, и они меня благодарили. Оставим этот разговор — довольно и того, что есть.
— Хорошо, — согласился доктор. — Но еще один вопрос я хочу тебе задать. Ты ведь тогда учился с нами в гимназии до пятого класса, я отлично помню, и учеником ты был хорошим, хоть и не был примерным пай-мальчиком. И вдруг исчез ни с того ни с сего, болтали, что ты перешел в народную школу; это нас и разлучило — гимназист не мог ведь дружить с мальчишкой из народной школы. Что же тогда произошло? Позже, когда до меня доходили вести о тебе, я всегда думал: если бы он остался в гимназии, все было бы иначе. Что же случилось? Опротивела ли тебе учеба, что ли, или у твоего старика не стало денег платить за тебя, или что еще?
Больной поднял стакан исхудалой обветренной рукой, но не выпил, а лишь поглядел сквозь вино на сверкавшую зелень и осторожно поставил его обратно на стол. Затем молча прикрыл глаза и погрузился в свои мысли.
— Тебе что, тяжело говорить об этом? — спросил друг. — Тогда не надо.
Но Кнульп тут же открыл глаза и взглянул на него долгим испытующим взглядом.
— Пожалуй, надо, — начал он, все еще колеблясь, — полагаю, что надо. Я еще не рассказывал об этом ни одному человеку, но, может, как раз и хорошо, чтобы кто-то узнал. Впрочем, это всего только детская история, хотя для меня она оказалась очень важной — я годами не мог с этим разделаться. Странно как-то, что ты меня как раз сейчас об этом спросил.
— Почему?
— Все последние дни я только об этом и думаю, потому и оказался на пути в Герберзау.
— Вот как? Ну, рассказывай!
— Помнишь, Махольд, как мы с тобой дружили — по крайней мере, класса до третьего — до четвертого. Потом уже мы встречались все реже и реже, и ты напрасно высвистывал меня у нашей калитки.
— Бог мой, все точно! Я не вспоминал об этом, по крайней мере, лет двадцать. Ну и память же у тебя, приятель! А что дальше?
— Сейчас расскажу тебе, как все вышло. Знаешь, во всем были виноваты девчонки. Они очень рано начали привлекать мое любопытство. Ты небось еще верил в басенки об аисте и капусте, а я уже приблизительно верно представлял себе, как обстоит с ними дело. Это сделалось для меня самым важным, потому-то я не так уж часто играл с вами в индейцев.
— Тебе было тогда лет двенадцать, верно?
— Почти что тринадцать — я ведь на год тебя старше. Так вот: однажды я заболел и лежал в постели, а к нам как раз приехала погостить родственница, тремя, четырьмя годами старше меня; она стала заигрывать со мной, и когда я выздоровел и вновь был на ногах, я ночью тайком пробрался к ней в комнату. Тут я впервые увидел, как выглядит женщина, до смерти перепугался и сбежал. С той родственницей я больше слова не сказал, она мне опротивела, я ее боялся, но все же это запало мне в душу, и с тех пор я начал бегать за девчонками. У дубильщика Хаазиса были две дочки, мне ровесницы, к ним приходили подружки, и мы играли все вместе, прятались на чердаках — было вдосталь хихиканья, щекотки и всяких там нежностей. Я почти все время был единственным мальчиком в их компании, порой какая-нибудь из девчонок заставляла меня заплетать ей косички, другая одаривала поцелуем, — мы ведь были дети и не знали толком, что к чему, а все вокруг было полно влюбленности, и во время купанья я забивался в кусты и тайком за ними подглядывал. И вот однажды среди них появилась новенькая, из предместья, отец ее работал там в вязальной мастерской. Звали ее Франциска, и она понравилась мне с первого взгляда.
Доктор перебил его:
— Как, скажи мне, звали ее отца? Может, я знаю…
— Извини, Махольд, об этом мне не хотелось бы говорить. К моей истории это отношения не имеет, и я не желаю, чтобы кому-то что-то о ней стало известно. Так вот, дальше. Она была повыше и посильнее меня, время от времени мы с нею боролись, и когда она меня к себе прижимала, у меня прямо пол уходил из-под ног, я становился как пьяный. Я влюбился в нее, и так как была она двумя годами старше и уж поговаривала, что пора ей завести дружка, я ничего в мире так не желал, как сделаться ее дружком. Однажды я ее застал в саду дубильщика, она сидела одна на бережку, болтала ногами в воде, видно, только что искупалась, на ней и не было ничего, юбчонка да лифчик. Я подошел, подсел к ней. Тут-то я вдруг набрался храбрости и объявил ей, что ничего так не желаю, как стать ее дружком. Она в ответ взглянула на меня своими карими глазами и сказала как-то даже с состраданием: «Ты еще мальчонка, из коротких штанишек не вырос. Что ты понимаешь в любви?» На это я ответил, что-де понимаю все, что, если она меня не полюбит, скину ее сейчас в речку и сам утоплюсь вместе с ней. Тогда она посмотрела на меня повнимательнее, как взрослая, и заявила: «Хорошо, увидим. Целоваться-то, по крайней мере, умеешь?» Я ответил утвердительно и поцеловал ее прямо в губы, считая, что этого достаточно, но не тут-то было: она стиснула мою голову, держала ее крепко-крепко и принялась целовать меня взасос, как опытная женщина, так что у меня голова закружилась. Потом расхохоталась гортанным своим смехом и объявила: «Ты бы мне, пожалуй, подошел, паренек, но ничего у нас не выйдет. Мне не нужен дружок, который ходит в гимназию, там стоящих людей не встретишь. Хочу полюбить настоящего парня, ремесленника или рабочего, а не школьника. Так что рассчитывать тебе не на что!» А сама как притянет меня к себе, и так мне сделалось тепло и уютно в ее объятиях, что я даже подумать не мог с нею расстаться. Я пообещал Франциске, что сейчас же брошу ходить в гимназию и стану ремесленником. Она только хохотала в ответ, по я все же не отставал со своими уверениями, и под конец она меня вновь поцеловала и поклялась: ежели я и впрямь уйду из гимназии, она станет моею, и мне будет с ней хорошо.
Тут Кнульп остановился и закашлялся. Его друг внимательно за ним наблюдал, оба молчали. Затем Кнульп продолжал:
— Теперь ты, в сущности, знаешь всю историю. Конечно, это произошло не так мгновенно, как я рассчитывал. Когда я объявил отцу, что не желаю больше ходить в гимназию, он отвесил мне две хорошие оплеухи. Я не знал, что делать; порой даже подумывал, уж не поджечь ли мне школу. Затея детская, но, по сути, дело обстояло для меня вполне серьезно. Наконец мне пришел в голову единственный возможный выход: я просто перестал учиться. Ты этого не помнишь?
— В самом деле, что-то такое припоминаю. Тебя почти каждый день оставляли без обеда.
— Да. Я прогуливал, скверно отвечал уроки, не делал заданий и нарочно терял тетради — словом, каждый день что-нибудь да выкидывал, и в конце концов даже стал получать от этого удовольствие, а уж учителям портил жизнь, как только мог. Латынь и все прочее потеряли для меня всякую важность. Знаешь, я всегда был таков: ежели что-нибудь меня всерьез захватит, все остальное просто перестает существовать. Так было с гимнастикой, потом с ловлей форели, с ботаникой, и вот теперь пришла очередь девчонок, и покуда я не перебесился и всего не испробовал, ничто другое меня не волновало. В самом деле, ведь это нелепо — сидеть за партой и спрягать глаголы, когда все твои мысли там, возле купальни, где ты вчера подглядывал за девочками. Ну, item.[5] Учителя, по-видимому, кое-что смекнули, они неплохо ко мне относились и щадили меня, пока было возможно, так что из моих замыслов ничего бы не вышло, если бы я не свел дружбу с братом Франциски. Он учился в народной школе в последнем классе и был в самом деле испорченным парнишкой; я многому у него научился, но ничему хорошему, и много от него натерпелся. Но за полгода я достиг своей цели: отец избил меня до полусмерти, однако из гимназии меня исключили, и я учился теперь в том же классе, что и брат Франциски.
— А она? Эта девушка? — спросил Махольд.
— Да в том-то и горе. Она так и не сделалась моей подружкой. С тех пор как я стал приходить к ним с ее братом, она начала обходиться со мной все хуже, как будто я теперь стоил еще меньше, чем прежде, и только на второй месяц моего учения в новой школе, когда я изловчился удирать по вечерам из дому, я узнал всю правду. Как-то поздно вечером я, но моему недавнему обыкновению, шатался по Ридервальду и приметил на скамейке какую-то парочку, а когда подкрался поближе, обнаружил, что это Франциска с подмастерьем механика. Они меня и не заметили, он обнял ее за шею, в руке — сигаретка, блузка у нее расстегнута, противно смотреть. Так что все оказалось напрасно.
Махольд ободряюще похлопал друга по плечу.
— Слушай, может, все вышло к лучшему.
Кнульп яростно затряс головой.
— Нет, не так. Я бы и сегодня отдал правую руку, только бы все тогда обернулось по-другому. Не смей мне ничего плохого говорить про Франциску, я не желаю. Если бы все было как надо, я узнал бы любовь иначе — прекрасную, счастливую, — и, может, тогда бы поладил и с отцом и со школой. Потому что, знаешь, — как бы это тебе объяснить? — были у меня с тех пор друзья, и приятели, и женщины тоже, но ни разу я уже не полагался на человеческое слово и себя самого словом не связывал. Ни разу. Я прожил жизнь, как было мне по нраву, была у меня свобода, было немало хорошего, но с тех пор я всегда был один.
Он опять взял стакан, осторожно выцедил последний глоток и встал.
— Если не возражаешь, пойду прилягу, не хочу больше об этом говорить. Да и тебя, наверно, уже дела ждут.
Доктор кивнул.
— Послушай, только одно. Я хочу сегодня же исхлопотать место в больнице, тебе это, может, и не улыбается, но тут уж ничего не поделаешь. Если тебя срочно не поместить под надзор врача, ты помрешь.
— Вот что, — сказал Кнульп с необычной для него твердостью, — позволь уж мне помереть, как мне хочется. Ты ведь знаешь, мне все равно ничего не поможет, почему я должен напоследок дать запереть себя в четырех стенах?
— Кнульп, не надо так, будь же благоразумен! Грош мне была бы цена, если бы я, врач, отпустил тебя странствовать. В Оберштеттене мы наверняка получим место, я дам тебе с собой рекомендательное письмо, а через недельку сам приеду тебя проведать. Обещаю.
Бродяга как-то поник на своем стуле, казалось, он вот-вот заплачет; при этом он потирал худые руки, как бы желая согреться. Затем взглянул на доктора молящим, детским взором.
— Да, конечно, — сказал он совсем тихо. — Я не прав, ты ведь так стараешься, и красное вино тоже… все было даже слишком хорошо и слишком для меня роскошно. Не сердись, но у меня к тебе еще одна последняя просьба.
Махольд положил руку ему на плечо.
— Образумься, старина! Никто за горло тебя не берет. В чем же просьба?
— Ты не рассердишься?
— Помилуй, за что?
— Тогда очень прошу тебя. Махольд, сделай одолжение, не посылай меня в Оберштеттен! Если уж непременно в больницу, так пусть это будет Герберзау, там меня знают, там я дома. Да и в смысле попечительства о бедных это, верно, удобнее: я тамошний уроженец, да и вообще…
Его глаза настойчиво молили, он едва мог говорить от волнения.
«У него, верно, жар», — подумал Махольд. И ответил спокойно:
— Если это все, о чем ты просишь, то не беспокойся. Ты прав, я лучше напишу в Герберзау. А сейчас иди и ложись, ты устал, ты чересчур много говорил.
Он следил, как тот побрел в дом, волоча ноги, и вдруг припомнил лето, когда Кнульп учил его ловить форель: разумные, немного властные повадки, весь пыл и обаяние этого пленительного двенадцатилетнего мальчика.
«Бедняга», — подумал он с умилением, которое ему как-то мешало, быстро поднялся и поспешил по делам.
На следующее утро все вокруг затянуло туманом, и Кнульп целый день пролежал в постели. Доктор дал ему почитать несколько книг, которые он, впрочем, едва раскрыл. Он был удручен, раздосадован, ибо с тех пор, как он лежал, окруженный заботливым уходом, получая лучшую пищу, он особенно явственно чувствовал, что дела его плохи.
«Если я еще так пролежу, — мрачно размышлял он, — я, пожалуй, уж и не встану». Не так уж он дорожил своей жизнью, в последние годы дорога потеряла для него большую часть своей былой привлекательности, но он не хотел умирать, не повидав еще раз Герберзау и тайно со всем не попрощавшись: с речкой и с мостом, с базарной площадью, с садом, когда-то принадлежавшим его отцу, и с той самой Франциской. Все его более поздние увлечения были позабыты, вообще вся длинная череда его страннических лет вдруг сократилась для него и стала казаться маловажной, зато далекие мальчишеские годы обрели новый блеск и волшебство.
Он внимательно оглядел простое убранство комнаты, уже много лет он не жил в такой роскоши. Деловито разглядывал он и ощупывал полотно простынь, тонкие наволочки, некрашеное шерстяное одеяло. Его занимал и пол из крепких дубовых досок, и фотография на стене, изображавшая Дворец дожей в Венеции и вставленная в рамочку с мозаикой.
Затем он вновь лежал с открытыми глазами, ничего не видя вокруг, бессильный, всецело поглощенный тем, что незримо происходило в его больном теле. Потом внезапно приподнялся и, наклонившись, лихорадочно стал шарить под кроватью; дрожащими пальцами вытащив оттуда свои башмаки, он подверг их тщательному придирчивому осмотру. Новыми они давно уже не были, но сейчас на дворе октябрь, до первого снега, пожалуй, выдержат. А потом уж не надо. Ему пришла в голову мысль, что можно было бы попросить у Махольда пару старой обуви, но нет, тот только насторожится, ведь для больницы обувь не нужна. Он осторожно ощупывал трещины на передке. Хорошенько смазать их жиром, и башмаки продержатся еще месяц. Он зря беспокоится, быть может, эти старые башмаки переживут его самого и будут служить, когда он давно уж исчезнет со здешних проселков.
Он уронил башмаки и попытался глубоко вздохнуть, но ему стало так больно, что он закашлялся. Тогда он замер в ожидании чего-то, коротко дыша, опасаясь, как бы ему сейчас не стало до того худо, что он не успеет выполнить последние свои желания.
Он попытался думать о смерти, как уже неоднократно пытался прежде, но голова у него устала, и он задремал. Когда он проснулся через час, ему показалось, что он проспал целые сутки, и он почувствовал себя успокоенным и освеженным. Он вспомнил о Махольде, и ему пришло в голову оставить доктору какой-нибудь знак своей благодарности, когда он его покинет. Он хотел было переписать ему одно из своих стихотворений, благо доктор вчера о них спрашивал, но оказалось, что ни одно он сейчас не помнит до конца и ни одно ему не нравится. В окно ему был виден ближний лес и туман, клубящийся между деревьями, — он смотрел на него так долго, пока его не осенило. Подобранным вчера в доме огрызком карандаша на листе белой бумаги, прикрывавшем дно выдвижного ящика в его тумбочке, он написал несколько строк:
Цветам приходит Пора увядать, Когда ложится туман. И людям приводит Пора умирать, Тогда их в могилу кладут. Но ведь и люди — те же цветы, И они взойдут из земли, Когда наступит весна. И никто никогда не будет болеть, И простится любая вина.Он кончил и перечел написанное. Настоящей песни не вышло, отсутствовали рифмы, но здесь было именно то, что он желал выразить. Он еще послюнил карандаш и приписал снизу: «Господину доктору Махольду, его благородию, с благодарностью от друга К.». Затем спрятал листок в ящик тумбочки.
На следующий день туман усилился, но воздух был обжигающе ледяной и к полудню можно было ожидать солнца. В ответ на мольбы Кнульпа доктор разрешил ему подняться и сообщил, что место в больнице Герберзау для него уже приготовлено и его там ждут.
— Тогда сразу после обеда можно и отправляться, — решил Кнульп. — Туда ходу всего часа четыре, от силы пять.
— Этого еще не хватало, — рассмеялся Махольд. — Нет, пешие походы теперь не для тебя, поедешь со мной в бричке, если не представится другой оказии. Сейчас пошлю к Шульце, он, верно, отправит в город овощи или картофель. Один день тут ничего не решает.
Гость вынужден был подчиниться, и когда выяснилось, что назавтра работник Шульце и впрямь поедет в Герберзау, повезет двух телят на продажу, решено было, что Кнульп отправится с ним.
— Тебе бы еще сюртук потеплее, — сказал Махольд. — Мой возьмешь или будет широк?
Кнульп не имел ничего против сюртука доктора, его принесли, примерили и нашли впору. Поскольку он был почти новый и хорошего сукна, прежнее ребяческое тщеславие вдруг овладело Кнульпом: он немедля уселся и стал переставлять пуговицы. Доктор с улыбкой предоставил ему этим заниматься и еще подарил вдобавок манишку.
После обеда Кнульп украдкой примерил свой новый костюм, и так как выглядел он в нем щеголевато, почти как в прежние времена, его взяла досада, что он так давно не брился. Обратиться к домоправительнице и попросить докторскую бритву он не решался, но в этой деревне он когда-то знал кузнеца и решил сделать попытку.
Вскоре он без труда отыскал кузню, вошел внутрь и с порога произнес старинное цеховое приветствие:
— Чужой кузнец не прочь поковать!
Мастер смерил его холодным испытующим взглядом.
— Вовсе ты не кузнец, — равнодушно ответил он. — Заливай другому!
— Верно, — согласился бродяга. — У тебя зоркий глаз, мастер, и все же ты меня не узнал. Припомни, я был прежде музыкантом, и не один субботний вечер ты отплясывал в Хайтербахе под мою гармонику.
Кузнец насупил брови, сделал еще несколько машинальных движений напильником, потом провел Кнульпа к свету и внимательно его оглядел.
— Да, теперь я тебя признал, — усмехнулся он. — Значит, ты Кнульп. Видно, чем дольше не видишься, тем больше стареешь. Чего тебе надо в Булахе? Впрочем, за десятью пфеннигами и за стаканчиком сидра я не постою.
— Это прекрасно с твоей стороны, кузнец, считай, что я это оценил. Но пришел я за другим. Не одолжишь ли ты мне на четверть часа свою бритву, я, видишь ли, собрался на танцы.
Мастер погрозил ему пальцем.
— Ну и здоров же ты врать! Если судить по твоему виду, тебе сейчас не до танцев.
Кнульп удовлетворенно захихикал.
— Ты замечаешь все! Просто жаль, что ты у нас не окружной судья. Да, верно, мне завтра отправляться в больницу, Махольд меня туда посылает, и понятно, я не хочу явиться к ним обросшим как медведь. Дай мне бритву, через полчаса я тебе ее верну.
— Вот как? А куда ты с ней пойдешь?
— Да к доктору, я у него ночую. Слушай, дашь ты мне ее?
Кузнецу все это казалось сомнительным, он глядел недоверчиво.
— Ладно уж, бери. Только помни, это не простая бритва, а настоящая золингенская сталь. Я хочу, чтобы она непременно ко мне вернулась.
— Да не беспокойся ты!
— Ну хорошо. Я вижу, дружок, на тебе отличный сюртук, для бритья он тебе не нужен. Вот что я тебе скажу: разденься и оставь сюртук, а принесешь бритву, получишь его назад.
Бродяга поморщился.
— Согласен. Особым благородством ты, кузнец, не отличаешься, но пусть будет по-твоему.
Кузнец притащил наконец бритву, и Кнульп оставил за нее в залог сюртук, хотя ему было неприятно, что кузнец трогал его своими черными от сажи ручищами. Через полчаса он возвратился и принес назад золингенскую бритву клочковатая бородка его исчезла, и выглядел он совсем по-другому.
— Теперь тебе гвоздику за ухо, и можешь свадьбу играть, — одобрил его кузнец.
Но Кнульп больше не был расположен к шуткам, он надел свой сюртук, коротко поблагодарил и удалился.
На обратном пути перед домом он встретил доктора, который удивился, увидев его:
— Где это тебя носит? И как ты выглядишь? Никак, побрился! Ох, Кнульп, ты еще совсем ребенок!
Но ему это понравилось, и вечером Кнульп снова получил красное вино. Друзья пили на прощанье, оба шутили, как могли, оба старались скрыть внутреннюю подавленность.
Утром в назначенный час подкатил батрак Шульце на телеге, где в дощатой клетке качались на дрожащих ножках два теленка и пристально вглядывались в холодное утро. Впервые в тот день на лугах выпал иней. Кнульпа посадили на козлы рядом с батраком, колени прикрыли одеялом, доктор пожал ему руку и сунул батраку полмарки; телега загрохотала навстречу лесу, батрак раскурил трубку, а Кнульп, моргая сонными глазами, воззрился в белесое стылое небо.
Позже проглянуло солнце, к полудню вовсе распогодилось. Двое на козлах отлично поладили друг с другом, и когда они подъехали к Герберзау, батрак непременно желал сделать крюк со своими телятами и подвезти Кнульпа прямо к больнице. Кнульп, однако, его отговорил, и они дружески расстались перед въездом в город. Кнульп остался стоять на дороге и долго глядел вслед телеге, пока она не скрылась за кленами у самого скотного рынка.
Он улыбнулся и мгновенно нырнул на узкую заросшую тропку между садами, известную только местным уроженцам. Он снова на воле! В больнице могут обождать.
И вот воротившийся странник вновь вбирал в себя свет и дыхание, звуки и запахи родины, волнующее и насыщающее чувство, что ты дома; возню крестьян и бюргеров на скотном рынке, сквозные тени пожелтевших каштанов, предсмертный полет темных осенних бабочек над городскою стеной, пение четырехструйного фонтана на базарной площади, запах вина и звонкий деревянный перестук из сводчатого подвала бочарной мастерской. И такие знакомые названия улиц, над каждой из которых обильно роятся воспоминания. Всеми фибрами впивал в себя бездомный это многогранное волшебство: ощущать себя дома, знать, узнавать, вспоминать, быть на «ты» с каждым перекрестком и с каждой уличной тумбой. Всю вторую половину дня он без устали обходил улицы, одну за другой, слушал гудение точила на берегу реки, постоял у окошка токарной мастерской, прочитал на свежих табличках старые знакомые имена почтенных семейств. Он окунул руку в каменный бассейн фонтана, но утолить жажду решился лишь в «Настоятельском источнике», который все так же таинственно, как в былые времена, вытекал прямо из-под фундамента старинного дома и журчал между каменных плит в светлом сумраке навеса. Он долго стоял у реки, опираясь на деревянную ограду, и следил за текущей водой: в ней качались длинные пряди темных водорослей, и узкие спинки рыб неподвижно чернели над вздрагивающей галькой. Он ступил на ветхие деревянные мостки и на самой середке их встал на колени, как когда-то мальчишкой, чтобы ощутить прекрасную живую упругость дерева. Не спеша пустился он дальше, бродил, ничего не пропуская: ни церковной липы посреди небольшого зеленого газона, ни плотины на верхней мельнице, где в прежние годы он больше всего любил купаться. Он постоял перед домиком, в котором когда-то жили его родители, нежно коснулся спиной выщербленной двери и через новую унылую ограду из проволоки глядел на сад, засаженный по-новому, — но каменные ступеньки, изъеденные дождями, и раскидистое айвовое дерево у ворот были все те же. Здесь Кнульп провел лучшие дни своей жизни, еще до того, как он добился, чтобы его выгнали из гимназии, здесь он изведал когда-то полное, неограниченное счастье, свершение без предела, блаженство без горечи, сладостный летний вкус краденой вишни на языке, короткие мирные радости садовода, наблюдающего и ухаживающего за своими цветами: милые желтофиоли, задорные вьюнки, нежные бархатистые анютины глазки, — а клетки для кроликов, а верстак, а постройка и запуск змея, водопровод из бузинных трубок и мельничное колесо из катушки и щепок. Не было ни одного чердака, на котором он бы не играл с кошками, не было сада, плодов которого он не попробовал бы на вкус, не было дерева, на которое он бы не взобрался, в ветвях которого не обрел бы уютное зеленое гнездышко. Эта частичка света принадлежала ему, вся была им познана и любима; каждый куст, каждая изгородь здесь имели для него свое неповторимое значение, свой смысл и могли рассказывать множество историй, каждый дождь и снегопад что-то говорили его душе, здешние земля и воздух пребывали в его снах и мечтах, отвечали на них, вдыхали в них жизнь. И сегодня еще, думал Кнульп, не найдется владельца дома или сада, которому все это принадлежало бы больше, чем ему, было бы более важно, более ценно, больше говорило бы душе, больше пробуждало бы воспоминаний.
Зажатый между двумя крышами, отвесно вздымался серый остроконечный щипец узкого дома. В те времена там жил дубильщик Хаазис, и там нашли конец детские игры и мальчишеские радости Кнульпа, сменившись первыми секретами и нежной возней с девчонками. Оттуда он возвращался вечерами по темной улице с бьющимся сердцем и робким предчувствием любовных наслаждений, там он расплетал косички дочерям дубильщика и пьянел от поцелуев прекрасной Франциски. Он пойдет туда вечером, попозднее, или завтра. Эти воспоминания сейчас не так его привлекали, он охотно отдал бы их все за память об одном-единственном часе более ранней, мальчишеской своей поры.
Час и долее он просидел у забора, глядя в сад, но видел вовсе не этот чужой незнакомый сад с молодыми ягодными кустами, по-осеннему голый и некрасивый. Перед глазами у него стоял сад отца, его собственные цветы на маленькой клумбочке, посаженные на пасху примулы и остекленевшие бальзамины, галечные горки, на которые он, наверное, сто раз сажал пойманных ящериц, сокрушаясь, что ни одна не желает жить тут и быть его домашним зверьком, но преисполняясь новых надежд и ожиданий всякий раз, как притаскивал еще одну. Пусть бы ему подарили сегодня все дома и сады, все цветы, всех ящериц и пичуг на свете, — какая этому цена в сравнении с волшебством того единственного цветка, который рос в его садике и медленно распускал из бутона свои драгоценные лепестки. А смородиновые кусты, каждый из которых он знал на память! Их больше нет, они не были вечными, неистребимыми, и вот кто-то выкопал их из земли и вырвал с корнем, развел костер, и все разом сгорело — ветви, корни, увядшие листья, — и никто о них не пожалел.
Да, здесь у него бывал Махольд. Теперь он доктор и важный господин, ездит в собственной бричке с визитами к больным и при этом остался добрым искренним человеком; но даже он, даже этот умный подтянутый мужчина, — какая цена ему в сравнении с тем доверчивым, робким, полным ожиданий и нежности мальчуганом? Здесь Кнульп учил его искусству строить клетки для мух и домики для улиток, был его наставником, его старшим, умным, обожаемым другом.
Соседская сирень состарилась и высохла, а дощатый домик в соседнем саду развалился, и что ни построй взамен, оно никогда не будет так радовать взгляд, не будет таким прекрасным и уместным, каким все было когда-то.
Начало смеркаться и похолодало, когда Кнульп покинул наконец заросшую тропку между садами. С башни новой церкви, сильно изменившей вид города, громко и отчетливо бил новый колокол.
Через ворота он прокрался в сад дубильщика, был субботний вечер, в этот час здесь не было ни души. Неслышно прошел он по мягкой раскисшей земле, меж зияющих ям со щелочным раствором, где мокли кожи, до невысокой ограды, за которой уже темнела река, обтекая большие, обросшие мохом зеленые камни. Это было то самое место — здесь в вечерний час сидела тогда Франциска, болтая в воде голыми ногами.
Если бы только она меня не морочила понапрасну, думал Кнульп, все могло бы быть иначе. Пусть я упустил гимназию, учение, — у меня бы достало сил и воли хоть кем-то стать. Как проста, как ясна была жизнь! Тогда он отказался от всего, ни о чем но захотел знать, и жизнь легко с этим согласилась и ничего от него не потребовала. И он оказался вне ее, бездельник, сторонний наблюдатель, столь любимый в щедрые юные годы и столь одинокий в старении и болезни.
Его охватила великая усталость, он присел на ограду, и река шумела не внизу, а в его мыслях. Над ним осветилось оконце, напомнив, что поздно, нельзя, чтобы его здесь застали. Он бесшумно выбрался из сада, выскользнул из ворот, запахнул сюртук поплотнее и стал размышлять о ночлеге. У него были при себе деньги, доктор подарил ему, и после краткого раздумья он выбрал один из постоялых дворов. Он мог, конечно, заночевать в «Ангеле» или в «Лебеде», там бы его узнали, он встретил бы друзей, но это ему сейчас вовсе не улыбалось.
Много перемен нашел он в родном городе, раньше он обо всем бы осведомился с величайшим интересом, но сейчас не желал ни видеть, ни слышать, ни знать ничего, что не относилось бы к его прошлому. После коротких расспросов он выяснил, что Франциски уже нет в живых, и все для него поблекло, ему вдруг показалось, что он возвратился только ради нее. Нет, не имело более смысла бродить по улицам, пробираться между садами и выслушивать участливые шутки тех, кто знал его раньше. И когда он в переулке возле почты повстречал ненароком окружного врача, ему пришло в голову, что его могут хватиться в больнице и объявить розыск. Тогда он поскорее купил у булочника две сайки, запихал их в карманы и еще до полудня покинул город, начав подъем по крутой горной дороге.
Там наверху, у самого края леса, у последнего большого поворота дороги сидел на куче камней запыленный человек и длинным молотком раскалывал глыбы серо-голубого ракушечника.
Кнульп поздоровался и остановился возле него.
— Бог в помощь! — отозвался тот, не поднимая головы и продолжая стучать.
— Пожалуй, погода долго не простоит, — попробовал завязать разговор Кнульп.
— Все может быть, — пробурчал каменотес и поднял на миг голову, жмурясь от света. — Куда путь держите?
— В Рим, к папе, — бодро отозвался Кнульп. — Далеко мне еще идти?
— Сегодня не дойдете. А ежели будете останавливаться и отрывать людей от работы, вам и за год не добраться.
— Вы так думаете? Впрочем, я, слава богу, не спешу. Ох, до чего же вы прилежный человек, господин Андрес Шайбле.
Каменотес поставил ладонь козырьком и еще раз внимательно оглядел путника.
— Стало быть, вы меня знаете, — проговорил он степенно и осторожно. Сдается мне, что и я вас знаю. Только вот имя никак не припомню.
— Спроси хозяина «Краба», где мы с тобой посиживали anno[6] девяносто; только его небось уж на свете нет.
— Давно уж нет. Теперь мне что-то брезжит, старый приятель. Ты Кнульп. Посиди немного, в ногах правды нет.
Кнульп присел на камень, он слишком быстро поднимался и сейчас трудно дышал; он теперь только заметил, как уютно и красиво расположился городок в долине: сияющая голубая река, скопление темно-красных крыш и между ними маленькие зеленые островки.
— Славно у тебя здесь наверху, — сказал он, борясь с одышкой.
— Да ничего, грех жаловаться! А у тебя как дела? Небось раньше-то в горку поднимался полегче? Ты пыхтишь, как паровоз, Кнульп. Что, снова потянуло поглядеть на родные места?
— Верно, Шайбле, в последний разочек.
— Почему так?
— Да легкие совсем никуда… Не знаешь ничего против этой хвори?
— Сидел бы ты дома, мой милый, работал бы день за днем, завел жену, ребятишек и каждый вечер ложился бы в свою кровать, — глядишь, все было бы по-другому. Ну, что я об этом думаю, то я тебе еще когда высказал. Теперь уж ничего не поправишь. А что, совсем худо стало?
— Да не знаю. Нет, вру, знаю отлично: дела мои идут под горку, и с каждым днем все шибче. Потому, может, и лучше, что я один, никому не в тягость.
— Да с какой стороны поглядеть; впрочем, это дело твое. Но мне тебя жаль.
— Не стоит жалеть. Всем придет черед помирать, даже и каменотесам. Послушай, старина, мы сидим сейчас с тобой один на один, и незачем так уж задаваться. Ты ведь когда-то тоже мечтал о другом, разве ты не хотел работать на железной дороге?
— Ах, да это когда было!
— А дети твои здоровы?
— А как же. Якоб уже сам зарабатывает.
— Вот как? Ну и бежит время! Ладно, думаю, что мне пора дальше.
— Не спеши! Ведь так давно не видались. Скажи мне, Кнульп, могу я тебе хоть чем-нибудь помочь? Много-то я при себе не имею, а полмарки есть.
— Они тебе самому пригодятся, дружище! Благодарю, мне не надо.
Он хотел было еще что-то добавить, но словно обруч стиснул ему сердце, и он замолк; каменотес дал ему отхлебнуть из своей фляги. Некоторое время оба молчали и глядели вниз на город; пруд возле мельницы ослепительно сверкал на солнце, по мосту медленно ехала груженая телега, а из-под плотины не спеша выплывал выводок белых гусенят.
— Теперь уж я точно отдохнул, пора двигаться дальше, — снова начал Кнульп.
Каменотес, погруженный в свои мысли, только покачал головой.
— Послушай, — сказал он, с трудом подбирая слова, — ты ведь мог не только не дойти до такой бедности, а просто-таки многого достичь. Чертовски за тебя обидно. Знаешь, Кнульп, я, конечно, не штундист, но я верю тому, что написано в Библии. Вспомни и ты об этом: когда надо будет держать ответ, нелегко тебе придется! Дарований у тебя было больше, чем у любого другого, и ничего из тебя не вышло. Ты не должен на меня сердиться, что я так говорю.
Кнульп усмехнулся, искорка прежнего озорства промелькнула в его глазах. Он дружески похлопал каменотеса по плечу и встал.
— Поживем — увидим, Шайбле. Может, господь бог вовсе не станет меня допрашивать: почему ты, такой-сякой, не стал судьей? Может, он только скажет: «Ты снова здесь, Кнульп, дитя неразумное?» — и даст мне работенку полегче — присматривать за ребятишками или еще что.
Андрес Шайбле только пожал плечами под своей синей в белую клетку рубашкой.
— С тобой невозможно говорить серьезно. Ты воображаешь, что стоит явиться Кнульпу, и сам господь станет шуточки шутить.
— Вовсе нет. Но ведь может и так случиться, не правда ли?
— Не говори этого!
На прощанье они пожали друг другу руки, и каменотес все же ухитрился всучить ему монетку, которую незаметно выгреб из кармана. Кнульп взял ее, не сопротивляясь, чтобы не портить ему радость.
Он кинул прощальный взгляд на родную долину, еще разок кивнул Андресу Шайбле, сильно закашлялся и быстрым шагом зашагал прочь, вскоре исчезнув за верхним выступом леса.
Через две недели, после того как туман и холода еще раз сменились солнечными днями с поздними колокольчиками и переспелой ежевикой, внезапно наступила зима. Ударил сильный мороз, на третий день, когда в воздухе чуть потеплело, начали падать частые тяжелые хлопья снега.
Кнульп все эти дни проскитался без цели по родной округе, он еще дважды, спрятавшись в лесу, видел неподалеку от себя каменотеса Шайбле, наблюдал за ним, но окликать его больше не стал. Слишком много ему приходилось думать — и во время этих долгих, трудных и бесполезных переходов он все больше запутывался в терновых дебрях своей впустую растраченной жизни, не находя ни смысла, ни утешения. Затем на него с новой силой обрушилась болезнь, и дело дошло до того, что в один прекрасный день он чуть было сам не явился в Герберзау и не постучал в двери больницы. Но когда после многодневного одиночества он снова увидел внизу родной город, все от него исходившее звучало так чуждо и враждебно душе Кнульпа, что ему стало ясно: там ему делать нечего. Время от времени он заходил в деревни и покупал немного хлеба, а лесных орехов было везде вдоволь. Ночи Кнульп проводил в опустевших хижинах лесорубов или просто на поле, зарывшись в скирду соломы.
На этот раз в сильную метель он спустился с Волчьей горы и вышел к нижней мельнице, разбитый и усталый, но все еще на ногах, как будто обязан был до предела прожить недолгий остаток жизни и все мчаться вперед по лесным просекам и дорогам. Как он ни был болен и слаб, его глаза и ноздри сохраняли былую живость, и еще сейчас, безо всякой цели, он приглядывался и принюхивался, как чуткий охотничий пес, не пропуская ни одного бугорка, ни одного звериного следа, ни одного порыва ветра. Он делал это помимо воли, и ноги его шли сами собой.
В мыслях же своих, как все последние дни, он опять предстоял перед господом богом и непрерывно с ним беседовал. Страха он не испытывал, он знал, что бог ничего не может нам сделать. Они беседовали друг с другом, бог и Кнульп, о бесполезности прожитой Кнульпом жизни и о том, как все могло бы быть по-другому и почему то или это случилось так, а не иначе.
— С той поры все и началось, — упорствовал Кнульп, — с той поры, как мне было четырнадцать и Франциска меня бросила. Тогда из меня еще что угодно могло получиться. Но что-то во мне умерло или сломалось, и я уже был ни на что не годен. Ах, нечего говорить, ошибка в том, что ты не дал мне умереть в четырнадцать лет. Тогда моя жизнь была бы такой же прекрасной и совершенной, как спелое яблоко.
Господь бог, однако, все время улыбался, слушая Кнульпа, и по временам его лицо пропадало в метели.
— Нет, Кнульп, — говорит он назидательно, — вспомни свои юношеские скитания, вспомни лето в Оденвальде и лехштеттенские деньки. Разве же ты не отплясывал там, как молодой олень, не чувствовал, как благодатная жизнь играет во всех твоих помыслах? Разве ты не пел и не играл на гармонике так, что девушки глаз с тебя не сводили? А помнишь еще летнюю пору в Бауэрсвилле? А первую подружку твою, Генриетту? Разве всего этого не было?
И Кнульп припоминал все это, и, как дальние огни на вершинах гор, смутно и прекрасно мерцали ему радостные дни его юности; от них исходил тяжелый сладкий аромат, как от вина и меда, и пели они низкими голосами, как ночной ветер в пору оттепели в преддверье весны. О, господи, это было прекрасно, и радость была прекрасна и печаль, и мучительно жаль каждого дня, который упущен!
— Да, это было прекрасно, — вынужден признать он, но говорит он это капризно и упрямо, как усталый ребенок. — Тогда было прекрасно. Конечно, и чувство вины бывало, и грусть тоже. Правда твоя, это были славные годы, и немногие, наверно, так осушали стаканы, отплясывали такие танцы и праздновали ночами такие свадьбы, как я тогда. Но потом, потом пусть бы на этом все и кончилось! Уже и тогда на розе были шипы, а после и вовсе не было таких хороших времен. Нет, с тех пор не было.
Господь почти совсем исчез за густой пеленой снега. Только когда Кнульп остановился ненадолго, чтобы перевести дух и сплюнуть в снег маленькие красные сгустки крови, господь снова был тут как тут и незримо подал голос.
— Скажи на милость, Кнульп, разве ты не неблагодарный человек? Смех берет, до чего ты забывчив! Мы сейчас вспоминали о той поре, когда ты был первым танцором, и о твоей Генриетте, и тебе поневоле пришлось согласиться, что это было и прекрасно, и славно, и уж ничуть не бессмысленно. Но если вспоминать так про Генриетту, мой милый, то что уж сказать про Лизабет? Или ее ты совсем позабыл?
И снова, как дальние горы, встало перед ним прошлое, и хоть выглядело оно теперь не так весело и радостно, зато сияло теплее и задушевнее, словно женщина улыбалась сквозь слезы, и из могил вставали дни и часы, о которых он давно уж не вспоминал. А посреди всего стояла Лизабет, с прекрасными, печальными глазами, и держала на руках крошечного мальчонку.
— Какой я, однако, был негодяй! — снова стал сетовать Кнульп. — Нет, после того как умерла Лизабет, жить мне уж вовсе не следовало!
Но господь не дал ему продолжать. Он посмотрел на него проницательным взглядом светлых глаз и сказал:
— Оставь, Кнульп! Ты причинил Лизабет много горя, что верно, то верно, но ты ведь прекрасно знаешь, что она видела от тебя больше хорошего, чем плохого, и никогда на тебя не гневалась. Ты все еще не догадался, дитя неразумное, в чем был смысл всего? Ты все еще не догадался, мой милый, зачем тебе суждено было пройти по жизни легкомысленным бездельником и бродягой. Да затем, чтобы внести в мир хоть малую толику детского сумасбродства и детского смеха. Затем, чтобы люди тебя повсюду чуточку любили, чуточку поддразнивали и чуточку были тебе благодарны.
— В конечном счете это правда, — чуть слышно согласился Кнульп, немного помолчав. — Но все это было раньше, когда я был еще молод. Почему, ну почему ничто меня не научило и я так и не стал порядочным человеком? Еще можно было успеть.
Снегопад на некоторое время прекратился. Кнульп передохнул и хотел было смахнуть с одежды и шляпы толстый слой снега, но так и не сделал этого, был слишком утомлен и рассеян. Господь стоял теперь совсем близко, светлые его глаза были широко раскрыты и сияли, как солнце.
— Когда же ты будешь доволен, — наставлял его господь, — к чему эти непрерывные жалобы? Ты что, и в самом деле не понимаешь, что все было хорошо и не могло быть иначе? Неужто тебе сейчас хочется быть почтенным господином или мастером, иметь жену и детей, читать по вечерам газету? Да разве мог бы ты не удрать от всего этого куда глаза глядят, в чащу лесную спать вместе с лисами, ставить ловушки на птиц и дрессировать ящерок?
Кнульп снова побрел вперед, от усталости он качался из стороны в сторону, но не замечал этого. На душе у него стало теперь гораздо легче, и он благодарно кивал головой на все, что говорил господь.
— Слушай, — говорил ему господь, — ты мне был нужен такой, какой ты есть. Во имя мое ты странствовал и пробуждал в оседлых людях смутную тоску по свободе. Во имя мое ты делал глупости и бывал осмеян; это я сам был осмеян в тебе и в тебе любим. Ты дитя мое, брат мой, ты частица меня самого, все, что ты испытал и выстрадал, я испытал вместо с тобой.
— Да, — отвечал Кнульп, с трудом кивая головой. — Да, это так, я всегда это знал.
Он спокойно лежал в снегу, усталые члены его обрели необыкновенную легкость, а воспаленные глаза улыбались.
И когда он их закрыл, чтобы хоть немного поспать, он все еще продолжал слышать голос и видеть ясные глаза господа.
— Значит, жаловаться больше не на что? — спрашивал голос.
— Не на что, — послушно кивал Кнульп и смущенно смеялся.
— И все хорошо? Все как должно быть?
— Да, — кивал он. — Все как должно быть.
Голос господа становился все тише и звучал теперь то как голос его матери, то как голос Генриетты, то как добрый мелодичный голос Лизабет.
Когда Кнульп вновь приоткрыл глаза, сияло солнце и так слепило, что он опять быстро сомкнул веки. Он почувствовал, как на его руках тяжело лежит снег, и хотел было сбросить его, но непобедимое желание уснуть пересилило в нем все другие желания.
Комментарии
Тип романтического бродяги и скитальца, воспетый еще немецким романтизмом («Из жизни одного бездельника» И. Эйхендорфа и др.), появляется в творчестве Гессе уже в начале века. Первыми обработками темы, как бы подготавливающими «Кнульпа», можно считать «Юность Петера Бастиана» (1902), «Письмо господину Килиану Шванкшеделю» (1902–1903) и «Записки подмастерья шорника» (1904).
В 80-90-х гг. прошлого века бродяжничество стало в Германии повседневным явлением, приобрело настолько большие размеры, что только на территории Саксонии полиция ежегодно задерживала около двадцати тысяч бездомных. Гессе с юности с большой симпатией относился к этим оборванцам, обитателям больших дорог, воспринимая этот образ в чисто романтическом духе: бродяга и странник представлялся ему выражением протеста против мещански-упорядоченного быта бюргерства, попыткой сохранить свободу и независимость в мире потребительских идеалов поздне-капиталистического мира.
Над «Кнульпом» («Тремя историями из жизни Кнульпа») Гессе работал в 1907–1913 гг. Первые две истории были созданы в Гайенхофене, на Боденском озере, где писатель поселился в 1904 г. и провел восемь лет жизни. «Конец Кнульпа» завершен в Берне. Первая часть «Кнульпа» впервые печаталась в 1908 г. в журнале «Нойе рундшау», «Мои воспоминания о Кнульпе» были напечатаны в 1913 г. в штутгартском журнале «Дер грайф», «Конец Кнульпа» впервые опубликовала «Дойче рундшау» в 1914 г. Отдельной книгой «Три истории из жизни Кнульпа» вышли в серии «Библиотека современного романа» в берлинском издательстве С. Фишера в 1915 г.
Примечания
1
…вот девушка Руфь бредет через поле… — Ветхий завет, Кн. Руфь.
(обратно)2
…Спаситель присаживается к детишкам… — Имеется в виду евангельский эпизод благословения детей Христом.
(обратно)3
…среди прочего даже Толстого… — В период работы над «Кнульпом» и ранее Гессе был усердным читателем Толстого. Именно эти чтения определили, наряду с некоторыми другими факторами, склонность молодого Гессе к сельской идиллии.
(обратно)4
«Напевы муз из немецкой шарманки» — действительно существовавший популярный сборник сатирических стихов и балаганных песен, изданный в 1849 г. Маленькая книжечка с иллюстрациями продолжала традиции оппозиционных союзов в Германии 30-40-х гг. XIX в.
(обратно)5
Так вот (лат.).
(обратно)6
в году (лат.).
(обратно)
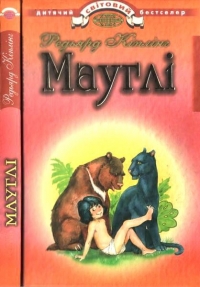



Комментарии к книге «Кнульп», Герман Гессе
Всего 0 комментариев