Первому изданию этого произведения, вышедшему без имени автора, были предпосланы только нижеследующие строки:
«Есть всего две возможности истолковать появление этой книги: либо в самом деле существовала пачка пожелтевших листков бумаги разного формата, на которых были записаны последние мысли несчастного страдальца; либо нашелся такой человек, мечтатель, изучающий жизнь в интересах искусства, философ, поэт, словом, человек, который увлекся этой мыслью, или, вернее, эта мысль, однажды придя ему в голову, настолько, увлекла его, что он мог избавиться от нее, лишь изложив ее в книге.
Пусть читатель остановится на том из двух объяснений, которое ему больше по вкусу».
Как явствует из этих строк, в момент выхода книги автор не считал нужным до конца высказать свою мысль. Он предпочел выждать, чтобы ее поняли, и выяснить, поймут ли ее. Ее поняли. И теперь автор считает своевременным, раскрыть ту политическую и социальную идею, которую он хотел довести до сознания общества а доступной и невинной форме литературного произведения. Итак, он заявляет, или, вернее, открыто признает, что Последний день приговоренного к смерти – это прямое или косвенное, считайте, как хотите, ходатайство об отмене смертной казни. Цель его – и он хотел бы, чтобы потомство, если только оно остановит свое внимание на такой малости, так и восприняло это произведение, – цель его не защита какого-то одного определенного преступника, что не так уж сложно осуществить от случая к случаю; нет, это общее ходатайство о всех осужденных настоящих и будущих, на все времена; это коренной вопрос человеческого права, поднятый и отстаиваемый во весь голос перед обществом, как перед высшим кассационным судом; это грозная преграда, abhorrescere a sanguine[1], воздвигнутая навеки перед всеми судебными процессами; это страшная, роковая проблема, которая скрыта в недрах каждого смертного приговора, под тройным слоем трескучего, кровожадного красноречия королевских прислужников; это, повторяю, проблема жизни и смерти, открытая, обнаженная, очищенная от мишуры звонких прокурорских фраз, вынесенная на яркий свет, помещенная там, где ее следует рассматривать, в ее подлинной жуткой среде – не в зале суда, а на эшафоте, не у судьи, а у палача.
Вот какова была цель автора. И если будущее покажет, что он достиг ее, на что он не смеет надеяться, то иного венца, иной славы ему не нужно.
Итак, он заявляет и повторяет, что его роль – роль ходатая за всех возможных подсудимых, виновных или невинных, перед всеми судами и судилищами, перед всеми присяжными, перед всеми вершителями правосудия. Книга эта обращена ко всем, кто судит. И для того, чтобы ходатайство соответствовало по масштабам самой проблеме, автор писал Последний день приговоренного к смерти так, чтобы в нем не было ничего случайного, частного, исключительного, относительного, изменяемого, эпизодического, анекдотического, никаких фактов, собственных имен, он ограничился (если можно назвать это ограничением) защитой первого попавшегося приговоренного к смерти, казненного в первый попавшийся день, за первое попавшееся преступление. И он счастлив, если одним только орудием своего слова ему удалось проникнуть в защищенное тройной броней сердце судейского чиновника и сердце это начало кровоточить. Счастлив, если он сделал милосердными тех, кто считает себя справедливыми. Счастлив, если ему выпала удача под оболочкой судьи откопать человека!
Три года тому назад, когда эта книга вышла в свет, некоторые люди нашли нужным оспаривать авторство основной идеи. Одни ссылались на какое-то английское, другие на американское произведение. Странная фантазия искать первоисточники невесть где и доказывать, что ручеек, протекающий вдоль вашей улицы, питается водами Нила. Увы! Ни английские, ни американские, ни китайские труды тут ни при чем. Не из книг вынес автор основную мысль Приговоренного к смерти, не в его обычае ходить за мыслями так далеко, он взял ее там, где все вы могли ее взять, где она и напрашивалась, быть может, у вас (ибо кто мысленно не сочинял или не продумывал Последний день приговоренного?) – попросту на Гревской площади. Проходя однажды по роковой площади, он подобрал эту мысль в луже крови, под кровавыми обрубками с гильотины.
И с тех пор всякий раз, как после зловещего четверга в кассационном суде по Парижу во всеуслышание объявлялся смертный приговор, всякий раз, как автор слышал у себя под окнами хриплые крики глашатаев, собиравшие зрителей на Гревскую площадь, – мучительная мысль возвращалась к нему, захватывала его целиком, напоминала ему о жандармах, о палачах, о черни, час за часом рисовала ему предсмертные муки страдальца – вот сейчас его исповедуют, сейчас ему стригут волосы, связывают руки, – побуждала скромного поэта высказать все это обществу, которое спокойно занимается своими делами, пока творится такое чудовищное злодеяние; торопила, толкала его, не давала ему покоя; если он сочинял стихи, все та же мысль изгоняла их из сознания и убивала в зародыше, мешала всем его занятиям, вторгалась повсюду, преследовала, осаждала его, держала в плену. Это была пытка, настоящая пытка, она начиналась с рассветом и длилась, как и терзания несчастного мученика, вплоть до четырех часов. И только когда погребальный бой часов оповещал, что страдалец ponens caput expiravit[2], автор мог перевести дух и обратить мысли на что-то другое. И наконец как-то, кажется на следующий день после казни Ульбаха, он сел писать настоящую книгу. После этого точно бремя свалилось с его плеч. Когда теперь совершается одно из этих общественных преступлений, именуемых исполнением судебного приговора, совесть говорит ему, что он больше не является соучастником; на своем челе он уже не ощущает той капли крови с Гревской площади, которая падает на головы всех, кого объединяет данный общественный строй.
Однако этого недостаточно. Хорошо умыть руки, но важнее сделать так, чтобы не проливалась человеческая кровь.
И в самом деле, разве есть цель лучше, выше, достойней, чем эта – добиться отмены смертной казни? Поэтому автор всей душой присоединяется к стремлениям и стараниям благородных людей всех наций, уже много лет прилагающих все силы к тому, чтобы свалить виселичные столбы – единственные устои, не свергнутые даже революциями. И он счастлив, что при немощи своей может все-таки глубже всадить топор в надрез, семьдесят лет назад сделанный Беккариа в старой виселице, столько веков возвышающейся над христианским миром.
Мы только что сказали, что эшафот – единственное сооружение, которое не разрушают революции. В самом деле, революциям редко удается не пролить человеческой крови; их назначение – очистить общество, подрезать его ветви и верхушку, и им трудно обойтись без такого орудия очистки, как смертная казнь.
Однако, на наш взгляд, из всех революций наиболее достойна и способна отменить смертную казнь была Июльская революция. Казалось бы, именно этому самому гуманному из народных движений современности скорее всего пристало упразднить варварскую карательную систему Людовика XI, Ришелье и Робеспьера и поставить во главе законов неприкосновенность человеческой жизни. 1830 год вправе был сломать нож гильотины 1793 года.
Был момент, когда мы на это надеялись. В августе 1830 года в воздухе чувствовались великодушные, благодетельные веяния, общество было проникнуто духом просвещения и гуманности, сердца так и раскрывались навстречу светлому будущему, и нам казалось, что смертная казнь будет отменена непременно, немедленно, по молчаливому, единодушному соглашению, как пережиток всего дурного, что мешало нам жить. Народ устроил потешные огни из лоскутьев старого режима. Этот лоскут был кровавый. Мы решили, что он попал в одну кучу с остальными и тоже сожжен. В течение нескольких недель мы доверчиво уповали, что в будущем и жизнь и свобода станут неприкосновенны.
И в самом деле, не далее как через два месяца была сделана попытка претворить в действительность чудесную утопию Цезаря Бонесана и облечь ее в законную форму. К несчастью, попытка была неловкой, неумелой, пожалуй неискренней, и преследовала отнюдь не общий интерес.
Всем памятно, как в октябре 1830 года палата, несколько дней назад отклонившая предложение похоронить прах Наполеона под Колонной, дружно принялась вопить и стенать. На обсуждение был поставлен вопрос о смертной казни – ниже мы поясним, в какой связи; и тут вдруг, словно по волшебству, сердца законодателей преисполнились милосердия. Все наперебой брали слово, вопияли, воздевали руки к небу. Смертная казнь! Боже, что за ужас! Какой-нибудь генеральный прокурор, поседевший в красной судейской мантии, всю жизнь питавшийся хлебом, смоченным в крови жертв своих обвинительных речей, вдруг строил жалостливую мину и клялся всеми святыми, что он ярый противник гильотины. В течение двух дней трибуну осаждали слезливые болтуны. Это были сплошные сетования, елейные вздохи, скорбные псалмы, и Super flumina Babylonis[3], и Stabat Mater dolorosa[4], целая симфония в миноре с хором, исполненная оркестром ораторов, украшающих передние скамьи палаты и разливающихся соловьями в дни важных заседаний. Кто басил, кто тянул фистулой. Ничего не было забыто. Все получилось как нельзя более мелодраматично и чувствительно. Вечернее заседание было особенно слащаво и душещипательно, точь-в-точь пятый акт из пьесы Лашоссе. Простодушная публика ничего не понимала и только умилялась до слез.[5]
О чем же шла речь? Об отмене смертной казни?
И да, и нет.
Вот как было дело.
Четыре светских человека, вполне корректных и благовоспитанных, из тех, с кем встречаешься в гостиных и обмениваешься несколькими учтивыми словами, итак, четыре таких человека предприняли в высших политических сферах дерзкую попытку, которая по Бэкону квалифицируется как «преступление», а по Макиавелли как «предприятие». Так или иначе, закон, одинаково неумолимый для всех, карает это смертью. И вот четверо несчастных оказались пленниками закона, заключенными под пышные своды Венсенского замка, под охраной трехсот трехцветных кокард. Как тут быть? Какой найти выход? Сами понимаете, нельзя же четырех человек, как вы и я, четырех человек из общества, отправить на Гревскую площадь, в телеге, унизительно связанными грубой веревкой, спиной к спине с тем служителем закона, которого и назвать-то зазорно. Если бы еще нашлась гильотина из красного дерева!
Ничего не поделаешь! Придется отменить смертную казнь! И палата начинает действовать.
Припомните, господа, что вчера еще вы считали отмену смертной казни утопическими и теоретическими бреднями, безумной фантазией. Припомните, что не раз уже делалась попытка привлечь ваше внимание к позорной телеге, к толстым веревкам и к гнусной ярко-красной машине. Странно, что все эти отвратительные атрибуты только теперь бросились вам в глаза.
Э! Что там докапываться! Не ради тебя же, народ, отменяем мы смертную казнь, а ради нас самих, депутатов, – ведь каждый из нас может стать министром! Мы не хотим, чтобы машина Гильотена покусилась на высшие классы. Мы предпочитаем сломать ее. Тем лучше, если это пойдет на пользу и остальным, но мы-то думали только о себе. Дворец Укалегона в огне. Надо тушить пожар. Надо немедленно упразднить палача и подчистить уголовный кодекс.
Вот каким образом примесь личных соображений извращает и марает лучшие общественные начинания. Это черная прожилка в белом мраморе; она тянется повсюду и каждый миг обнаруживается под резцом. В результате статую надо делать заново.
Излишне заявлять здесь, что мы не принадлежим к числу тех, кто требовал казни четырех министров. После того, как несчастных арестовали, негодующее возмущение их преступной попыткой сменилось у нас, как и у всех, глубокой жалостью. Мы вспомнили, какие предрассудки привиты некоторым из них воспитанием, как слабо развит ум их главаря, тупого, неисправимого фанатика, уцелевшего от заговоров 1804 года, раньше времени поседевшего в темноте и сырости государственных казематов; вспомнили, какие обязательства неизбежно налагало на всех занимаемое ими положение, как трудно, даже невозможно, было удержаться на крутом спуске, по которому монархия собственными стараниями стремительно катилась с 8 августа 1829 года, какое влияние имела личность короля, – это обстоятельство мы до тех пор недостаточно принимали в расчет, – а главное, вспомнили, с каким достоинством держался один из заговорщиков, прикрывая им, точно пурпурной мантией, общее несчастье. Мы принадлежим к числу тех, кто искренне желал им сохранения жизни и готов был приложить к этому все усилия. Если бы случилось невероятное и для них на Гревской площади был воздвигнут эшафот, мы не сомневаемся, – а если это заблуждение, то нам хочется сохранить его, – мы не сомневаемся, что произошел бы мятеж, и эшафот был бы свергнут, и автор настоящих строк принял бы участие в этом праведном мятеже. Ибо надо также сказать, что эшафот, воздвигаемый во время общественно-политических кризисов, самый отвратительный, самый вредоносный, самый пагубный из всех эшафотов, и его надо упразднить во что бы то ни стало.
Такого рода гильотина пускает корни в мостовой и в скором времени дает повсеместно ростки.
Во время революции остерегайтесь снести первую голову. Она разжигает в народе жажду крови.
Итак, мы лично были вполне солидарны с теми, кто хотел спасти четырех министров, солидарны со всех точек зрения, как с гуманистической, так и с политической. Только мы бы предпочли, чтобы палата воспользовалась другим случаем для отмены смертной казни.
Если бы эту долгожданную отмену выдвинули не ради четырех министров, скатившихся из Тюильрийского дворца в Венсенский замок, а ради первого встречного разбойника с большой дороги, ради одного из тех отверженных, которых вы даже не замечаете при встрече на улице, с которыми вы не разговариваете, боясь, как бы не запачкаться от их мимолетного прикосновения; ради одного из тех горемык, которые все свое нищенское детство месили босыми ногами уличную грязь, дрогли зимой у парапета набережных, грелись под отдушинами кухни того самого г-на Вефура, у которого вы обедаете; в кои-то веки откапывали корочку хлеба из мусорной ямы и обтирали ее, прежде чем съесть; по целым дням ковыряли гвоздем в сточной канаве в надежде найти медяк; не знали других развлечений, кроме двух даровых зрелищ: королевских празднеств и казней на Гревской площади; ради одного из тех обездоленных, которых голод толкает на воровство, а воровство на все прочее; тех пасынков общества, которые в двенадцать лет спознаются с тюрьмой, в восемнадцать – с каторгой, в сорок – с эшафотом; одного из тех обойденных судьбой, которых учение и труд могли бы сделать порядочными, честными, полезными людьми, а вы, не зная, как от них избавиться, сбрасываете их, как бесполезный груз, то в красный муравейник Тулона, то в безмолвную обитель Кламара, отнимаете у них жизнь, лишив их свободы, – вот, если бы ради одного из них вы предложили отменить смертную казнь, о! тогда ваше собрание было бы поистине достойным, почтенным, благородным и величавым. Со времен Тридентских отцов церкви, пригласивших еретиков на вселенский собор во имя милосердия господня, per viscera Dei, в надежде обратить их, quoniam sancta synodus sperat haereticorum conversionem[6], ни одно собрание не явило бы миру зрелища более доблестного, возвышенного и человеколюбивого. Тем, кто поистине силен и поистине велик, всегда подобало заботиться о слабых и малых. Как прекрасно было бы собрание браминов, берущих под свою защиту интересы париев! А интересы париев – это интересы народа. Если бы вы отменили смертную казнь для блага народа, а не потому, что тут задеты вы сами, это был бы не только политический акт, но и большое общественное; дело.
А теперь это нельзя назвать даже политическим актом, потому что вы пытались отменить смертную казнь не ради самой отмены, а для того, чтобы спасти четырех незадачливых министров, пойманных с поличным при попытке совершить государственный переворот!
И что же получилось? Так как вы были неискренни, к вам отнеслись с недоверием. Увидев, что его хотят обмануть, народ принял в штыки все начинание в целом и – как это ни удивительно – встал на защиту смертной казни, хотя все ее бремя полностью падает на него. Ваша собственная неосмотрительность привела к этому. Подойдя к делу окольным, не прямым путем, вы надолго набросили на него тень. Вы разыграли комедию. И ее освистали.
Однако некоторые по доброте своей приняли этот фарс всерьез. Сейчас же после пресловутого заседания министр юстиции, человек прямодушный, отдал прокурорам – приказ не приводить в исполнение смертных приговоров, отсрочив их на неопределенный срок. По всей видимости, это был серьезный шаг. Противники смертной казни вздохнули с облегчением. Но их иллюзии быстро рассеялись.
Суд над министрами закончился. Не знаю? к чему их присудили. Во всяком случае жизнь сохранили всем четверым. Крепость Гам была признана золотой серединой между смертью и свободой. После того как все это было улажено, у государственных деятелей, стоящих у власти, исчез всякий страх, а вместе со страхом испарились и человеколюбивые порывы. Вопрос об отмене смертной казни больше не поднимался; и поскольку он утратил остроту, утопия снова стала утопией, теория – теорией, фантазия – фантазией.
А между тем в тюрьмах так и осталось несколько осужденных из числа простых смертных: несчастные уже месяцев пять-шесть гуляли по тюремному двору, дышали свежим воздухом, окончательно успокоившись, считая, что им дарована жизнь, принимая отсрочку за помилование. Но не тут-то было.
Правду сказать, палач сильно перетрусил. Услышав в тот знаменательный день разговоры законодателей о человеколюбии, гуманности, прогрессе, он решил, что дело его плохо, и скрылся, забился под свою гильотину. Ему стало не по себе на ярком июльском солнце, как ночной птице – при свете дня. Он старался не напоминать о себе, сидел притаясь, не подавая признаков жизни, заткнув уши, боясь дышать. Целых полгода его не было видно. Но мало-помалу он успокоился в своей норе. Прислушался к тому, что делается в палате, и больше не услышал ни упоминаний своего имени, ни тех громких, звучных слов, которые так напугали его. Прекратились словесные упражнения на тему О преступлениях и наказаниях, палата занималась совсем другими, куда более важными общественными делами – прокладкой проселочной дороги, субсидией Комической опере или кровопусканием в сто тысяч франков из апоплектического полуторамиллиардного бюджета. О нем, о головорезе, не вспоминал больше никто. Увидев это, он окончательно успокоился, высунул из норы голову и огляделся; потом сделал один шаг, второй, совеем как мышь в какой-то из басен Лафонтена, потом осмелел, вылез из-под помоста, вскочил на него и принялся чинить, исправлять, начищать до блеска, оглаживать все сооружение, пускать в ход, смазывать салом старый заржавевший механизм, совсем пришедший в негодность от бездействия; а затем обернулся, наугад, в первой попавшейся тюрьме схватил за волосы одного из тех несчастных, которые рассчитывали, что им дарована жизнь, втащил его к себе, раздел, связал, скрутил, и – казни возобновились как ни в чем не бывало.
Этому страшно поверить, но это правда.
Да, многострадальным узникам дали отсрочку в полгода и тем самым ни за что ни про что усугубили их муки, вселив в них надежду на жизнь; а потом, без всякого основания, безо всякой необходимости, так, здорово живешь, в одно прекрасное утро отсрочку отменили и хладнокровно бросили этих несчастных под нож. Скажите на милость, чем нам мешали эти люди? Господи боже! Неужто во Франции не хватит воздуха на всех?
Чтобы ни с того ни с сего какой-то чиновнишка из министерства юстиции встал со стула и сказал: «Что ж! Никто больше не заикается об отмене смертной казни. Пора пускать в ход гильотину!» – для этого надо, чтобы сердце человека стало вдруг сердцем зверя.
Следует подчеркнуть, что никогда в самом процессе казни не наблюдалось такой жестокости, как после июльской отсрочки. Никогда Гревская трагедия не обставлялась так омерзительно и не доказывала с большей наглядностью всю гнусность смертной казни. Этот усугубленный ужас по справедливости лежит на совести людей, восстановивших кровавый закон. Пусть сами казнятся делом рук своих. Поделом им.
Приведем два-три примера зверского, безбожного отношения к приговоренным, хотя бы для того, чтобы расстроить нервы супругам королевских прокуроров. Женщина зачастую играет роль совести.
В конце сентября прошлого года на юге Франции – точно мы не можем указать ни место, ни день казни, ни имя приговоренного, но если самый факт будет оспариваться, мы беремся все это установить, – помнится, дело было в Памье, – итак, в конце сентября в тюрьму к одному заключенному, спокойно игравшему в карты, явились с заявлением, что через два часа он должен умереть; человека охватила дрожь – полгода о нем не вспоминали, и он считал, что страшная кара миновала его; его обстригли, обрили, связали, исповедали, затем посадили на телегу и с четырьмя жандармами по бокам повезли сквозь толпу зевак на место казни. До сих пор все шло, как обычно, как полагается. Около эшафота палач принял страдальца из рук священника, втащил его на помост, привязал к доске, – говоря языком каторги, «заложил в печь», – и спустил нож. Тяжелый железный треугольник с трудом сдвинулся с места, ежесекундно застревая, пополз вниз и – вот где начинается настоящий ужас – не убил, а только поранил несчастного. Услышав его отчаянный крик, палач растерялся, поднял нож и опустил снова. Нож вторично вонзился в шею мученика, но не перерубил ее. К воплям несчастного присоединились крики толпы. Палач опять подтянул нож кверху, рассчитывая, что третий удар окажется успешным. Ничуть не бывало. Кровь в третий раз хлынула из шеи приговоренного, но голова не отлетела. Короче говоря – пять раз поднимался и опускался нож, пять раз вонзался в шею приговоренного, и после каждого удара приговоренный испускал отчаянный вопль, дергал все еще не снесенной головой и молил о пощаде! Народ, не стерпев этого издевательства, принялся забрасывать палача камнями. Палач соскочил с помоста и спрятался за лошадьми жандармов. Но это еще не все. Осужденный, увидев, что он на эшафоте один, насколько мог поднялся с доски и, стоя так, страшный, залитый кровью, поддерживая наполовину отрубленную голову, которая свешивалась ему на плечо, чуть слышным голосом умолял отвязать его. Толпа, исполнившись сострадания, собралась было оттеснить жандармов и спасти страдальца, пять раз претерпевшего смертную казнь, но в этот миг подручный палача, малый лет двадцати, поднялся на эшафот, велел приговоренному лечь ничком, чтобы удобнее было отвязать его, а сам, воспользовавшись доверчивостью умирающего, вскочил ему на спину и принялся неумело перерезать остаток шеи чем-то вроде кухонного ножа.
Это не выдумка. Этому были очевидцы. Да.
Согласно закону при казни обязан был присутствовать судья. Ему достаточно было сделать знак, чтобы положить этому конец. Что же делал, забившись в угол кареты, этот человек, пока зверски резали другого человека? Что делал судья, призванный карать убийц, пока среди бела дня, у него на глазах, под самыми окошками его кареты совершалось убийство?
И такого судью не предали суду! Не предали суду и палача! И никто не подумал произвести следствие по поводу такого чудовищного, попирающего все законы, издевательства над священной личностью создания божия!
В семнадцатом веке, при Ришелье и Кристофе Фуке, когда был в силе варварский уголовный кодекс и когда маркиза де Шале казнил в Нанте неумелый солдат, нанесший ему вместо одного удара шпагой тридцать четыре удара[7] бочарным топором, – это все-таки показалось незаконным парижскому парламенту, ввиду чего было наряжено следствие, и хотя Ришелье остался безнаказанным, как безнаказанным остался и Кристоф Фуке, солдат все-таки был наказан. Конечно, это несправедливость, но в основе ее заложено зерно правосудия. Тут же ни намека на правосудие. Дело было после июльского переворота, в эпоху прогресса и смягчения нравов, через год после громогласных ламентаций палаты по поводу смертной казни. И что же! Это событие прошло совершенно незамеченным! Парижские газеты забыли о нем, как о незначительном эпизоде. Никто не обеспокоился. Выяснили только, что гильотина была умышленно испорчена кем-то, кто хотел подставить ножку палачу, а именно одним из его подручных. Палач выгнал его, а он придумал такую месть.
Итак, это была просто милая шутка. Дальше.
Три месяца назад в Дижоне казнили женщину. (Женщину!) И на этот раз механизм доктора Гильотена действовал неисправно. Голова не была отрублена сразу. Тогда подручные палача ухватили женщину за ноги, и, под отчаянные вопли несчастной, до тех пор дергали и тянули, пока не оторвали голову от туловища.
У нас в Париже возвращаются времена тайных казней. После июльских дней из страха, из трусости уже не решаются рубить головы публично, на Гревской площади, и поэтому придумали такой выход. Недавно из Бисетра взяли человека, приговоренного к смерти, если не ошибаюсь, некоего Дезандрие; его впихнули в какой-то ящик на двух колесах, закрытый наглухо, запертый на замки и засовы; затем, с жандармом впереди и жандармом позади, без огласки и без сборищ доставили поклажу к пустынной заставе Сен-Жак. Дело происходило в восемь утра, едва светало, но на месте уже ждала только что поставленная гильотина, а публику составляли с десяток мальчишек, взгромоздившихся на груды камней и глазевших на невиданную машину. Приговоренного вытащили из повозки и, не дав ему опомниться, поспешно, постыдно, тайком, отрубили ему голову. И это именуется открытым и торжественным актом высшей справедливости! Гнусное издевательство!
Что же прислужники короля понимают под словом цивилизация? До чего мы дошли? Правосудие сведено к махинациям и уловкам! Закон изворачивается, как умеет! Неслыханное дело.
Очевидно, приговоренный к смерти представляет собой опасность, раз общество старается разделаться с ним исподтишка. Однако будем справедливы: казнь не была полностью сохранена в тайне. С утра на парижских перекрестках, как обычно, продавали листки со смертным приговором, громко зазывая покупателей. Значит, есть люди, которые живут с их продажи. Вы слышите? Преступление, совершенное каким-нибудь несчастливцем, понесенная им кара, его страдания, его предсмертные муки превращаются в товар, в печатную бумажку, которую продают за медяк. Можно ли представить себе что-нибудь страшнее этих монет, протравленных кровью? И кто же те, что их собирают?
Но довольно фактов. С избытком довольно. Разве все они не ужасны? Какие доводы можете вы после этого выставить в защиту смертной казни?
Мы задаем этот вопрос не для красного словца; мы ждем на него ответа; мы задаем его криминалистам, а не болтунам-литераторам. Мы знаем, что есть люди, для которых преимущество смертной казни, как любая другая тема, служит поводом для упражнения в блестящих парадоксах. Есть и такие, что стоят горой за смертную казнь из ненависти к ее противникам. Для них это только вопрос литературной полемики, вопрос определенных имен и лиц. Это попросту завистники, в которых хорошие законоведы, как и большие художники, никогда не терпят недостатка. У Филанджиери всегда найдется свой Джузеппе Гриппа, у Микеланджело – свой Торреджани, у Корнеля – свой Скюдери.
Но мы обращаемся не к ним, а к законникам в подлинном значении этого слова, к софистам, к умникам, к почитателям смертной казни, видящим в ней красоту, человеколюбие, благородство.
Выслушаем их доводы.
С точки зрения тех, кто судит и осуждает, смертная казнь необходима. Прежде всего потому, что надо изъять из человеческого общества того, кто уже нанес ему вред и может наносить в дальнейшем. Но для этого достаточно и пожизненного заключения. К чему же смерть? Вы говорите, что из тюрьмы можно бежать? Сторожите получше. Если вы не доверяете прочности решеток, как вы решаетесь заводить зверинцы?
Палач ни к чему там, где довольно и тюремщика.
Нам возразят, что общество должно мстить, должно карать. Ни в коем случае. Мстить может отдельный человек, карать может бог.
Общество же занимает промежуточную ступень. Кара – выше его, месть – ниже. Ни такое возвышенное, ни такое низменное дело ему не пристало; его обязанность не «карать, чтобы отомстить», а воспитывать, чтобы исправить. Измените в таком духе формулу криминалистов, и мы поймем и поддержим ее.
Остается третий и последний довод – пресловутая теория примера. Надо показать пример! Надо внушить страх, наглядно показав, какая участь ждет тех, кто вздумал бы подражать преступникам. Вот почти дословно то, что на все лады повторяется во всех обвинительных речах всех пятисот судов Франции. Так вот! Прежде всего мы отрицаем самую идею примера. Мы отрицаем, что зрелище казни оказывает то действие, какого от него ожидают. Оно играет отнюдь не назидательную, а развращающую роль, оно убивает в народе жалость, а следовательно, и все добрые чувства. Мы могли бы привести множество доказательств, если бы не боялись перегрузить наше изложение. Упомянем лишь об одном факте, потому что он имел место совсем недавно, ровно десять дней назад, 5 марта, в последний день карнавала. В Сен-Поле толпа масок затеяла хоровод вокруг гильотины, еще не остывшей после казни некоего поджигателя Луи Камю. Вот и показывайте пример! Разгульный карнавал открыто смеется над вами!
Но если, наперекор действительности, вы все еще цепляетесь за свою закоснелую теорию устрашающего примера, так уж будьте последовательны в деле устрашения, возродите XVI век, возродите весь арсенал пыток, возродите и Фариначчи и заплечных дел мастеров, возродите виселицу, колесо, костер, дыбу, отрезайте уши, четвертуйте, заживо закапывайте людей в яму, бросайте в кипящий котел, откройте на всех парижских перекрестках, наряду с витринами лавок, витрину страшных трофеев палача, куда постоянно будет поставляться свежее мясо. Возродите Монфокон, его шестнадцать столбов на подпорах из нетесаного камня, его подвалы, полные костей, его брусья, крюки, цепи, остатки скелетов, меловой холм, загаженный воронами, все разновидности виселиц и трупный запах, который разносится по всему Тампльскому предместью, когда ветер дует с северо-востока. Возродите в исконном виде эту гигантскую вотчину парижского палача. Вот уж поистине всем примерам пример! Вот вам смертная казнь, разработанная до тонкости. Вот вам система пыток со всеми должными градациями. Вот ужас, устрашающий по-настоящему.
Или же последуйте английскому образцу. В Англии, стране торговой, захваченного на побережье близ Дувра контрабандиста вешают для примера и для примера же оставляют на виселице; но, дабы труп не пострадал от перемен погоды, его обертывают в холст, просмоленный для прочности. Вот это коммерческая сметка! В какой другой стране придумают смолить повешенных?
Однако тут все-таки есть подобие логики. Это наиболее гуманное решение теории устрашающего примера.
Но вы-то, неужели вы всерьез думаете о примере, тайком перерезая горло какому-нибудь горемыке в самом безлюдном закоулке внешних бульваров? Пускай уж на Гревской площади, среди белого дня; но у заставы Сен-Жак! И в восемь часов утра! Кто там проходит? Кто там бывает? Кому известно, что вы собрались убивать там человека? И для кого это может быть примером? Очевидно, для деревьев на бульваре.
Неужели вы сами не замечаете, что совершаете публичные казни крадучись, прячась ото всех? Неужели вы не сознаете, что вам страшно и стыдно творить такое дело? Что ваш лепет Discite justitiam moniti[8] смешно слушать, что в сущности вы смущены, растеряны, сбиты с толку, не убеждены в своей правоте, 'заражены общим сомнением, рубите головы по привычке и сами не понимаете, зачем это делаете? Неужели вы не чувствуете в глубине души, что вами утрачена общественная и нравственная оценка той кровавой миссии, которую предшественники ваши, судьи былых времен, осуществляли с невозмутимо спокойной совестью? Неужели вы по ночам не чаще их ворочаетесь в постели? Те, что раньше вас выносили смертный приговор, были уверены в правоте, справедливости и благодетельности этого приговора. Жувенель дез Юрсен почитал себя судьей; Эли де Торет почитал себя судьей; Лобардемон, Ла Рейни, Лафемас, и те почитали себя судьями; а у вас, в тайниках души, нет уверенности, что вы не убийцы!
Вы сменили Гревскую площадь на заставу Сен-Жак, толпу – на уединение, ясный день – на предрассветную мглу. Вы делаете свое дело, и руки у вас дрожат. Вы прячетесь – посмейте это отрицать!
Итак, все доводы в пользу смертной казни уничтожены, все умствования прокуроров сведены к нулю. Весь сор обвинительных речей обращен в пепел и выметен вон. В свете логики мгновенно рассеиваются все ложные заключения. Так пусть же королевские прислужники не смеют больше требовать от нас, как от присяжных, от нас, как от людей, вынесения смертных приговоров, медоточивыми голосами заклиная нас во имя безопасности общества, во имя торжества правосудия и ради устрашающего примера. Все это красоты риторики – мыльные пузыри и больше ничего! Достаточно проткнуть их булавкой, и они лопнут в один миг. Под всем этим слащавым красноречием кроется черствость, варварская жестокость, желание выслужиться, необходимость отработать свое жалование. Замолчите, царедворцы! Под бархатной лапкой судьи чувствуются когти палача.
Нельзя хладнокровно говорить о том, что такое королевский прокурор по уголовным делам. Это человек, который зарабатывает себе на жизнь тем, что отправляет других людей на смерть. Это штатный поставщик эшафота. И в то же время это господин, притязающий на образование и литературный слог, а главное, на ораторское красноречие, умеющий к случаю, перед тем как потребовать смертного приговора, ввернуть латинскую цитату, жаждущий произвести впечатление и потешить свое жалкое самолюбие там, где для других решается вопрос жизни; у него есть свои классические образцы, свои недосягаемые идеалы, для него Белар и Маршанжи то же, что для иного поэта Расин или Буало. Он склоняет судебные прения в сторону гильотины, такова его роль, его должность. Обвинительная речь для него – литературное упражнение, он расцвечивает ее метафорами, уснащает цитатами, заботясь о том, чтобы пленить публику, а главное дам. У него в запасе имеется набор пошлостей, которые воспринимаются неискушенными провинциалами как новинка, он щеголяет изысканными ораторскими приемами, манерностью и жеманством. Ему ненавистна простота и ясность не меньше, чем авторам трагедий, последователям Делиля. Не бойтесь, он не станет называть вещи своими именами. Фи, как это можно! Все понятия, которые в обнаженном виде вас бы покоробили, он умеет ловко замаскировать эпитетами и прилагательными. Он придает г-ну Сансону вполне презентабельный вид. Он окутывает флером нож гильотины, он затушевывает помост, он обвивает гирляндами красноречия кровавую корзину. Получается умильно и пристойно. Вообразите себе, как он сидит вечером у себя в кабинете, кропотливо и тщательно подготовляя такую речь, чтобы через полтора месяца после нее был воздвигнут эшафот. Вообразите себе, как он из кожи вон лезет, чтобы подвести голову подсудимого под самую зловещую статью уголовного кодекса. Вообразите себе, как он перепиливает шею несчастного с помощью негодного закона. Обратите внимание, как он вводит в мешанину из иносказаний и обещаний две-три ядовитые цитатки, чтобы всеми правдами и неправдами выжать из них письменный приговор другому человеку. Не кажется ли вам, что под письменным столом, в темном уголке у его ног сидит на корточках палач, и он, время от времени, останавливаясь, говорит палачу, как хозяин прожорливому псу:
– Погоди! Погоди! Получишь свою кость!
Впрочем, не исключено, что в частной жизни этот прислужник короля – честнейший человек, хороший отец, хороший сын, хороший муж, хороший друг, как гласят все надписи на нагробных памятниках кладбища Пер-Лашез.
Будем надеяться, что недалек тот день, когда закон упразднит эту гнусную должность. Самый воздух современной цивилизации рано или поздно должен уничтожить смертную казнь.
Временами невольно думается, что защитники смертной казни не отдают себе ясного отчета в том, что это такое. Да сравните вы хоть раз любое преступление с тем возмутительным правом, которое общество самовластно присвоило себе, с правом отнимать то, чего оно не давало, с этой карой, которая сама по себе является самым непоправимым из всех непоправимых зол!
Одно из двух:
Либо у человека, которого вы караете, нет семьи, нет родных, нет никого близкого на свете. Значит, он не получил ни воспитания, ни образования, никто не позаботился направить на верный путь его ум и сердце. По какому же праву вы убиваете в таком случае этого злосчастного сироту? Вы наказываете его за то, что он с детства прозябал без опоры и поддержки. Вы вменяете ему в вину одиночество, в котором сами же оставили его. Его несчастье вы возводите в преступление! Никто не научил его оценивать свои поступки. Он ничего не знает. Так вините же его судьбу, а не его самого. Не карайте невинного!
Если же у этого человека есть семья, неужели вы думаете, что, нанося ему смертельный удар, вы не задеваете больше никого? Что его отец, мать, дети не пострадают от этого? Нет! Убивая его, вы обезглавливаете целую семью. А значит, и в этом случае вы караете невинных.
Слепой, нелепый закон, при всех обстоятельствах карающий невинных!
Изолируйте преступника, у которого есть семья. Сидя в тюрьме, он будет работать на нее. Из могилы он ведь ничем уже не в силах ей помочь. Как можете вы без содрогания подумать о том, что станется с малолетними детьми, мальчиками и девочками, которых вы лишаете отца, иначе говоря, насущного хлеба? Или вы рассчитываете, что через пятнадцать лет мальчики созреют для каторги, а девочки – для шантана? Невинные страдальцы! Когда в колониях казнят раба, владельцу его выплачивают тысячу франков в возмещение убытков. Так, значит, хозяина вы считаете нужным компенсировать, а семью нет? А разве здесь вы не отнимаете человека у тех, кому он принадлежит по праву? По праву куда более незыблемому, чем раб – своему господину, принадлежит он отцу, является достоянием жены, собственностью детей.
Мы уже уличили ваш закон в убийстве, а теперь уличаем его в грабеже.
Но и этого мало, А душа приговоренного? О ней вы думаете? Знаете вы, что творится в ней? Как же вы смеете так беспечно отправлять ее на тот свет? В прежние времена в народе бытовала какая-то вера. Носившиеся в воздухе религиозные веяния могли в роковую минуту смягчить самого закоснелого злодея. Приговоренный преступник в то же время был и кающийся грешник. Религия открывала перед ним потусторонний мир в тот миг, когда общество закрывало для него здешний; душой каждый ощущал бога. Эшафот был лишь гранью между землей и небом. А какие же упования можете вы связать с эшафотом теперь, когда в большинстве своем народ перестал веровать? Когда все религии обрастают плесенью, как старые корабли, что гниют в наших гаванях, а раньше, быть может, открывали новые земли? Когда малые дети насмехаются над богом? По какому праву швыряете вы в то неведомое, в котором сомневаетесь сами, темные души осужденных вами, души, ставшие тем, что они есть, по милости Вольтера и Пиго-Лебрена? Вы вверяете их тюремному священнику, спору нет, достойнейшему старцу; но верует ли он сам и может ли вселить веру? Что, если для него эта священная миссия превратилась в докучную повинность? Как можете вы считать духовным пастырем того старичка, который сидит на телеге бок о бок с палачом? Писатель, обладавший большим талантом и чуткой душой, сказал еще до нас: «Жестокое дело – оставить палача, отняв духовника».
Разумеется, все это доводы «сентиментального порядка», как презрительно выражаются некоторые умники, черпающие свои доводы только из головы, но, на наш взгляд, доводы чувства наиболее убедительны, и мы зачастую предпочитаем их доводам разума. Впрочем, между теми и другими существует неразрывная связь, и этого не следует забывать.
Трактат о преступлениях отпочковался от Духа законов. Монтескье породил Беккариа.
Разум за нас, чувство за нас, и опыт тоже за нас. В государствах, которые могут служить образцом и где смертная казнь отменена, количество уголовных преступлений идет на убыль с каждым годом. Задумайтесь над этим.
Однако мы не требуем немедленной и окончательной отмены смертной казни, мы не хотим повторять необдуманный шаг палаты депутатов. Наоборот, мы настаиваем на предварительных пробах, на всяческих предосторожностях, на сугубой осмотрительности. К тому же мы добиваемся не только отмены смертной казни, а коренного пересмотра всех видов наказаний, сверху донизу, от тюремного запора до ножа гильотины, а одним из необходимых условий добросовестного осуществления такого дела является время. Мы собираемся в другом месте подробно изложить, какой системы в данном случае следовало бы придерживаться. Но независимо от того, будет ли смертная казнь отменена для отдельных родов преступников, как то для фальшивомонетчиков, для поджигателей, для взломщиков и т. д., мы настаиваем, чтобы уже теперь во всех уголовных процессах председателю суда вменялось в обязанность задавать присяжным вопрос:
«Действовал ли обвиняемый в состоянии аффекта или из корыстных побуждений?» И если присяжные ответят, что «обвиняемый действовал в состоянии аффекта», ему не может быть вынесен смертный приговор. Такое решение по крайней мере избавило бы нас от некоторых вопиющих случаев казни. Ульбах и Дебакер были бы спасены. Не стали бы гильотинировать и Отелло.
Кстати, имейте в виду, что вопрос о смертной казни назревает с каждым днем. Недалеко то время, когда общество в целом решит его в том же смысле, что и мы.
Самым упрямым криминалистам следует призадуматься над тем, что за последнее столетие смертная казнь явно вырождается, она становится все мягче. Признак упадка. Признак слабости. Признак близкого конца. Исчезли пытки. Исчезло колесование. Исчезла виселица. Это звучит дико, но сама гильотина является своего рода прогрессом.
Господин Гильотен был филантроп. Да, жестокая, зубастая, прожорливая Фемида Фариначчи и Вуглана, Деланкра и Исаака Луазеля, Оппеда и Машо чахнет на глазах. Она тощает. Она того и гляди испустит дух.
Вот уже и Гревская площадь открещивается от нее. Гревская площадь жаждет реабилитироваться. Старая кровопивица отлично вела себя в июле. Она хочет начать новую жизнь, стать достойной своего благородного поведения. Три столетия кряду она проституировалась всеми видами эшафотов, а теперь вдруг к ней вернулось целомудрие. Она устыдилась своего прежнего ремесла и хочет, чтобы забыли ее позорную репутацию. Она изгоняет палача. Она отмывает свою мостовую.
В настоящее время смертная казнь уже удалена из пределов Парижа. А, скажем смело, очутиться за пределами Парижа – значит очутиться за пределами цивилизации.
Все говорит в нашу пользу. По всем данным, и сама она что-то охает и кряхтит, эта гнусная машина, или, вернее, это чудище из дерева и камня, которое оказалось для Гильотена тем же, чем Галатея для Пигмалиона. С определенной точки зрения можно рассматривать описанные нами чудовищные казни как весьма благоприятный признак. Гильотина колеблется, неисправно выполняет свои обязанности. Весь старый механизм смертной казни трещит по швам.
Мы надеемся, что мерзкая машина уберется из Франции, и если богу будет угодно, уберется хромая, потому что мы постараемся нанести ей основательный удар.
Пусть ищет пристанища у каких-нибудь варваров, не в Турции, нет, турки приобщаются к цивилизации, и не у дикарей, те не пожелают ее[9] пусть спустится еще ниже с лестницы цивилизации, пусть отправится в Испанию или в Россию.
Общественное здание прошлого держалось на трех опорах: священник, король, палач. Давно уже прозвучал голос: «Боги уходят!». Недавно другой голос провозгласил: «Короли уходят!». Пора, чтобы третий голос произнес: «Палач уходит!».
Так старый строй разрушится камень за камнем; так само провидение довершит гибель прошлого. В утешение тем, кто жалел об ушедших богах, можно было сказать: остается бог. Тем, кто жалеет о королях, можно сказать: остается отечество. Тем, кто пожалеет о палаче, сказать нечего.
Порядок не исчезнет вместе с палачом – этого вы не бойтесь.
Здание будущего общества не рухнет оттого, что не будет этой постыдной подпоры. Цивилизация не что иное, как ряд последовательных преобразований. И вам предстоит быть свидетелями преобразования уголовного кодекса, который проникнется Христовым законом и озарится его благостным светом. Преступление будет впредь рассматриваться как болезнь, и против этой болезни найдутся свои врачи, которые заменят ваших судей, найдутся больницы, которые заменят вашу каторгу. Свобода уподобится здоровью. Маслом и бальзамом будут врачевать раны, которые прижигали железом и огнем. То зло, на которое ополчались гневом, начнут лечить милосердием. Это будет просто и величаво. Вместо виселицы – крест. Вот и все.
15 марта 1832 г.
Комедия по поводу трагедии[10]
Действующие лица
Госпожа де Бленваль.
Шевалье.
Эргаст.
Элегический поэт.
Философ.
Толстый господин.
Тощий господин.
Дамы.
Лакей.
Светская гостиная.
Элегический поэт (читает)
… В лесу был слышен чей-то робкий шаг Да над потоком хриплый лай собак; Когда же вновь печальная Изора, С тревогой в сердце и тоской во взоре, На башню древнюю взошла без цели, Лишь ропот волн услышала она, Но не звенела нежная струна Пленительного менестреля!Слушатели (хором). Браво! Прелестно! Чудесно!
Рукоплескания.
Г-жа де Бленваль. В конце есть что-то неуловимо таинственное, от чего хочется плакать.
Элегический поэт (скромно). Трагедия окутана флером.
Шевалье (качая головой). Струна, менестрель – сплошная романтика!
Элегический поэт. Да, романтика, но романтика рациональная, подлинная романтика. Что поделаешь? Надо идти на уступки.
Шевалье. Идти на уступки! Так можно дойти до безвкусицы. Я лично все романтические стихи отдам за одно это четверостишие:
Бернар-красавчик был разбужен Известьем с Пинда, что в зеленый грот Любви искусство вечером придет К искусству нравиться на ужин.Вот истинная поэзия! «Любви искусство вечером придет к искусству нравиться»! Это я одобряю! А теперь пошли какие-то «струны», «менестрели». Никто не сочиняет мадригалов. Будь я поэт, я сочинял бы мадригалы. Но, увы, я не поэт.
Элегический поэт. Что ни говорите, а элегии…
Шевалье. Нет, сударь, только мадригалы.
Какой-то гость (элегическому поэту). Разрешите маленькое замечание. Вы пишете «древняя башня». Почему не написать «готическая»?
Элегический поэт. «Готическая» не подходит для стихов.
Тот же гость. Ну, это дело другое.
Элегический поэт (сел на своего конька). Видите ли, сударь, надо держать себя в узде. Я не принадлежу к числу тех, кто ломает французский стих и тянет нас назад, к Ронсарам и Бребефам. Я романтик, но умеренный. То же самое и в отношении чувств. Я признаю только нежные чувства, мечтательность, грусть. Никакой крови, никаких ужасов. Трагедию надо окутывать флером. Я знаю, есть такие безумцы, необузданные фантазеры, которые… Кстати, сударыни, вы читали новую книгу?
Дамы. Какую?
Элегический поэт. Последний день…
Толстый господин. Замолчите, сударь. Я знаю, что вы имеете в виду. Одно заглавие расстраивает мне нервы.
Г-жа де Бленваль. Мне тоже. Отвратительная книга. Вот она.
Дамы. Покажите, покажите.
Книга переходит из рук в руки.
Одна из дам (читает). Последний день при…
Толстый господин. Сударыня, пощадите!
Г-жа де Бленваль. Ваша правда, это опасная книга. После нее ходишь как в кошмаре, чувствуешь себя разбитым.
Одна из дам (тихо). Непременно прочту.
Толстый господин. Приходится признать, что нравы портятся день ото дня. Господи, какая дикая мысль! Проследить, продумать, разобрать одно за другим, не упуская ничего, все физические страдания, все нравственные муки, какие должен испытать приговоренный в самый день казни! Ведь это же ужас! И поверите ли, сударыни, нашелся писатель, которого увлекла эта мысль. И у такого писателя нашлись читатели.
Шевалье. В самом деле, непостижимая наглость.
Г-жа де Бленваль. А кто автор книги?
Толстый господин. Первое издание вышло безыменным.
Элегический поэт. У этого же автора есть еще два романа… Признаюсь, я не запомнил названий. Один начинается в морге, а кончается на Гревской площади. И в каждой главе людоед пожирает младенца.
Толстый господин. Вы сами это читали, сударь?
Элегический поэт. Читал, сударь; действие происходит в Исландии.
Толстый господин. В Исландии! Какой ужас!
Элегический поэт. Кроме того, он сочиняет оды, баллады и еще что-то, где дело касается Бунаберды.
Шевалье (смеясь). Белиберды! Воображаю, как это звучит в стихах.
Элегический поэт. Он напечатал также драму – если можно назвать это драмой. Там имеется такая поэтическая строка:
Двадцать пятого июня пятьдесят седьмого года.Какой-то гость. Вот так поэзия!
Элегический поэт. Гораздо проще изобразить это цифрами. Взгляните, сударыни:
25-го июня 57 года.(Смеется).
Все смеются.
Шевалье. Да, современную поэзию трудно понять.
Толстый господин. Ну, об этом субъекте нечего говорить. Он просто плохой версификатор. Как, бишь, его зовут?
Элегический поэт. Его фамилию не только трудно запомнить, но и произнести трудно. Что-то близкое к готам, вестготам или остготам. (Смеется.)
Г-жа де Бленваль. Дурной человек.
Толстый господин. Отвратительный.
Молодая женщина. Мне говорил один его знакомый…
Толстый господин. Вы знакомы с его знакомым?
Молодая женщина. Да. И этот знакомый говорил, что он тихий, простой человек. Живет уединенно и по целым дням возится со своими детьми.
Поэт. А по ночам он трудится над мрачными стихами. Как странно; у меня сама собой сложилась стихотворная строка:
А по ночам он трудится над мрачными стихами.И цезура на месте. Остается только найти рифму. Нашел! «Грехами».
Г-жа де Бленваль. Quidquid tentabat dicere, versus erat[11] (лат.).
Толстый господин. Вы сказали, что у этого писаки есть маленькие дети. Не верю, сударыня! У сочинителя такой книги! Такого гнусного произведения!
Один из гостей. А с какой целью он написал эту книгу?
Элегический поэт. Почем я знаю?
Философ. Он, кажется, думает этой книгой способствовать отмене смертной казни.
Толстый господин. Я же вам говорю, просто безобразие!
Шевалье. Ага! Понимаю! Поединок с палачом.
Элегический поэт. Он яростно ополчился на гильотину.
Тощий господин. Верно, всё высокопарные разглагольствования?
Толстый господин. Не угадали. Смертной казни, как таковой, там посвящено не больше двух строчек. Все остальное – только ощущения.
Философ. Крупная ошибка. По этому вопросу можно многое сказать. А драма или роман отнюдь не убедительны. Кстати, я читал книжку. Плохо написана.
Элегический поэт. Отвратительно! Разве это можно назвать искусством? Это значит перейти все границы и лезть напролом. Если бы еще преступник был какой-нибудь известный. Ничуть не бывало. Что он сделал? Никто не знает. А вдруг это какой-нибудь отпетый мерзавец? Как можно заставлять меня заниматься кем-нибудь, кого я не знаю?
Толстый господин. Никто не имеет права навязывать читателю чисто физические страдания. Когда я смотрю трагедию со всякими смертоубийствами, меня это не трогает. Но от этой книжки у человека волосы шевелятся на голове и мороз подирает по коже, а потом всю ночь мерещатся кошмары. Я два дня был болен после того, как прочел ее.
Философ. Заметьте вдобавок, что это холодное, рассудочное литературное произведение.
Поэт. Литературное произведение!! Что вы!
Философ. Да, да. Но, как вы правильно изволили заметить, оно лишено подлинной художественности. Меня не волнует голая абстракция, идея в чистом виде. Я не вижу здесь личности, созвучной моей. А в самом слоге нет ни простоты, ни ясности. В нем чувствуется архаический душок. Ведь вы так и говорили?
Поэт. Ну, да, разумеется. Личности здесь ни к чему.
Философ. Приговоренный – совсем неинтересная фигура.
Поэт. Как он может кого-нибудь заинтересовать? Он совершил преступление и не раскаивается. Я бы написал совсем по-иному. Я бы рассказал историю жизни приговоренного. Сын благородных родителей. Отличное воспитание. Любовь. Ревность. Преступление, которое нельзя назвать преступлением. А потом угрызения, угрызения, бесконечные угрызения. Но человеческие законы неумолимы; он должен умереть. И вот тут-то я бы коснулся вопроса о смертной казни! Тут он был бы у места!
Г-жа де Бленваль. Так! Так!
Философ. Простите. В таком виде, как предлагаете вы, сударь, книга ничего бы не доказывала. Нельзя идти от частного к общему.
Поэт. Что ж! Можно придумать лучше; например, сделать героем книги Мальзерба, добродетельного Мальзерба! Описать его последний день, его казнь! Какое возвышенное, назидательное зрелище! Я бы плакал, трепетал, мне бы самому хотелось последовать за ним на эшафот.
Философ. А мне нет.
Шевалье. И мне тоже. В сущности, ваш господин де Мальзерб был революционер.
Философ. И казнь Мальзерба не может служить доводом против смертной казни вообще.
Толстый господин. А зачем заниматься смертной казнью? Какое вам дело до смертной казни? Должно быть, автор книги очень низкого происхождения, если он вздумал досаждать нам этим вопросом.
Г-жа де Бленваль. Да, да, ужасно неделикатный человек!
Толстый господин. Он водит нас по тюрьмам, по каторге, по Бисетру. Сомнительное развлечение. Всем известно, что это клоаки. Но какое до этого дело обществу?
Г-жа де Бленваль. Законы тоже не дети писали.
Философ. Ну, все-таки, если изложить факты правдиво…
Тощий господин. Ага! Именно правды тут и не видно. Откуда поэту быть осведомленным в таких делах? Для этого надо по меньшей мере занимать должность королевского прокурора. Вот, к примеру: в одной газете я прочел выдержки из этой книги; там сказано, что приговоренный не произносит ни слова, когда ему читают смертный приговор; а между тем я собственными глазами видел приговоренного, который в эту минуту громко вскрикнул. Какая же это правда?
Философ. Но позвольте…
Тощий господин. Послушайте, господа, писать о гильотине, о Гревской площади – просто дурной тон. Доказательство налицо: судя по всему, эта книга портит вкусы, не дает читателю чистых, свежих, простодушных радостей. Когда же, наконец, явятся ревнители здоровой литературы? Вот будь я членом Французской академии – к слову сказать, своими обвинительными речами я, пожалуй, и заслужил это право… А вот, кстати, и господин Эргаст, он ведь академик. Интересно узнать его мнение о Последнем дне приговоренного к смерти.
Эргаст. Я его не читал и не собираюсь читать. Вчера на обеде у госпожи де Сенанж я слышал, как маркиза де Мориваль беседовала об этой книжке с герцогом де Мелькуром. Говорят, там есть выпады против судейского сословия и лично против председателя суда д'Алимона. И целая глава там будто бы направлена против религии, а другая – против монархии. Нет, будь я королевским прокурором…
Шевалье. При чем тут прокурор! А хартия? А свобода печати? И все же, согласитесь, это возмутительно, что поэт вздумал отменять смертную казнь. Посмел бы кто-нибудь при прежнем режиме опубликовать книгу против пыток!.. Но после взятия Бастилии все можно писать! Книги – это страшное зло.
Толстый господин. Страшное зло. Судите сами: жили люди спокойно, ни о чем не думая. Время от времени где-нибудь во Франции рубили кому-нибудь голову, не больше чем двум в неделю. Все это тихо, без огласки. Никто не роптал. Никого это не волновало. Так нет же, появляется книга, да такая, от которой только головную боль наживешь.
Тощий господин. Ни один присяжный, прочтя ее, не станет выносить смертный приговор!
Эргаст. Напрасное смущение умов.
Г-жа де Бленваль. Ах, книги, книги! Кто бы ждал этого от литературного произведения?
Поэт. Ну что вы! Иные книги – сущий яд, они прямо способствуют ниспровержению общественного порядка.
Тощий господин. Не говоря уже о языке, в котором господа романтики тоже пытаются произвести переворот.
Поэт. Позвольте, сударь: романтики романтикам рознь.
Тощий господин. Во всем царит дурной тон.
Эргаст. Вы правы. Дурной тон.
Тощий господин. С этим невозможно спорить.
Философ (склоняясь над креслом одной из дам). О таких вещах теперь не говорят даже на улице Муфтар.
Эргаст. Фу! Какая отвратительная книга!
Г-жа де Бленваль. Стойте, не бросайте ее в огонь. Она из библиотеки.
Шевалье. Вспомните, как было в наше время. Как все испортилось с тех пор – и вкусы и нравы! Вы помните, как было в наше время, госпожа де Бленваль?
Г-жа де Бленваль. Нет, не помню.
Шевалье. Какой миролюбивый, веселый и остроумный народ были мы, французы! Пышные празднества, грациозные стихи! Прелестная жизнь! Что может быть изящнее, чем мадригал, написанный господином де Лагарпом по случаю большого бала, который супруга маршала де Мальи дала в тысячу семьсот… в год казни Дамьена!
Толстый господин (со вздохом). Блаженные времена! Теперь и нравы стали ужасны и книги не лучше того. Вспомните прекрасную строку из Буало:
Упадок искусства идет за падением нравов.Философ (поэту, тихо). В этом доме кормят ужином?
Элегический поэт. Да, потерпите немножко.
Тощий господин. Подумайте, до чего теперь дошли: задумали отменить смертную казнь и для этого пишут грубые, безнравственные книги, самого дурного тона, вроде этой, как ее: Последний день приговоренного, что ли?
Толстый господин. Прошу вас, друг мой, прекратим разговор об этой ужасной книге. А кстати, раз мне посчастливилось встретить вас, скажите, что вы собираетесь сделать с тем подсудимым, чью жалобу мы отклонили три недели назад?
Тощий господин. Ради бога, пощадите! Я сейчас в отпуску. Дайте мне вздохнуть свободно. Потерпите до моего возвращения. Однако, если там будут тянуть, я напишу своему заместителю…
Лакей (входя). Сударыня, кушать подано.
Последний день приговоренного к смерти
Бисетр
I
Приговорен к смерти!
Пять недель живу я с этой мыслью, один на один с ней; она ни на миг не покидает меня, леденит меня, тяжестью своей пригибает к земле.
Когда-то – мне кажется, с тех пор прошли не недели, а годы, – я был человеком, как все люди. На каждый день, на каждый час, на каждую минуту находилась у меня новая мысль. Мой ум, свежий и молодой, был богат выдумками. Он изощрялся, развертывая их передо мной беспорядочной и бесконечной вереницей, расшивая все новыми узорами грубую и хрупкую ткань жизни. Мелькали там девичьи лица, пышные епископские облачения, выигранные битвы, шумные, горящие огнями театральные залы, и снова девичьи лица и уединенные прогулки в темноте под лапчатыми ветвями каштанов. Пир моего воображения никогда не иссякал. Я мог думать о чем хотел, я был свободен.
Теперь я пленник. Мое тело заковано в кандалы и брошено в темницу, мой разум в плену у одной мысли. Ужасной, жестокой, неумолимой мысли! Я думаю, понимаю, сознаю только одно: приговорен к смерти!
Что бы я ни делал, жестокая мысль всегда здесь, рядом, точно гнетущий призрак, одна она, лицом к лицу со мной, несчастным, она ревниво гонит прочь все, чем можно отвлечься, и стоит мне отвернуться или закрыть глаза, как ее ледяные пальцы встряхивают меня. Она проскальзывает во все грезы, в которых мое воображение ищет прибежища от нее, страшным припевом вторит всем обращенным ко мне словам, вместе со мной приникает к ненавистным решеткам темницы, не дает мне покоя наяву, подстерегает мой тревожный сон и тут, во сне, предстает мне под видом ножа.
Вот я проснулся в испуге и подумал: «Слава богу, это только сон!» И что же! Не успел я приподнять тяжелые веки и увидеть подтверждение роковой мысли в окружающей меня ужасной яви, в мокрых и осклизлых плитах пола, в тусклом свете ночника, в грубой ткани надетого на меня балахона, на угрюмом лице стражника, чья лядунка поблескивает сквозь решетку камеры, как уже мне почудился чей-то шепот над самым моим ухом: «Приговорен к смерти!»
II
Это было ясным августовским утром. За три дня до того начался надо мной суд, и три дня подряд туча зрителей собиралась каждое утро на приманку моего имени и моего преступления и располагалась на скамьях зала заседаний, точно воронье вокруг трупа; три дня подряд передо мной непрерывно кружил фантастический хоровод судей, свидетелей, защитников, королевских прокуроров, то карикатурный, то кровожадный, но неизменно мрачный и зловещий. Первые две ночи я не мог заснуть от возбуждения и ужаса; на третью заснул от скуки и усталости. Меня увели в полночь, когда присяжные удалились на совещание. Как только я очутился опять на соломе своей темницы, так сразу же уснул глубоким сном, сном забвения. Это был первый отдых за много дней.
Я был погружен в глубочайшие глубины сна, «когда пришли меня будить. Топот подбитых гвоздями башмаков тюремщика, бренчание связки ключей, пронзи– тельный скрежет засова не разбудили меня, как обычно; проснулся я, только когда надзиратель грубо потряс меня за плечо и грубо крикнул мне в самое ухо: «Да вставай же!» Я открыл глаза и в испуге привскочил на своей подстилке. В этот миг сквозь высокое и узкое оконце камеры на потолке коридора, заменявшем мне небо, я увидел желтоватый отблеск – признак солнца для тех, кто привык к тюремным потемкам. Я люблю солнце.
– Погода хорошая, – сказал я тюремщику.
Он сперва не ответил, как будто не решил, стоит ли потратить на меня хоть одно слово; потом пробурчал нехотя:
– Все может быть.
Я не двигался с места, еще не вполне очнувшись, улыбаясь и не спуская глаз с легких золотистых бликов на потолке.
– Хороший денек, – повторил я.
– Да, – ответил он, – вас там дожидаются.
Как паутина пресекает полет мотылька, так эти слова разом вернули меня к беспощадной действительности. Словно при вспышке молнии я увидел мрачный зал заседаний, полукруг судейского стола и на нем груду окровавленных лохмотьев, три ряда свидетелей, их тупые лица, двух жандармов на двух концах моей скамьи, увидел, как суетятся черные мантии, как проходит зыбь по головам толпы в темной глубине зала, как буравит меня взгляд двенадцати присяжных, которые бодрствовали, пока я спал.
Я поднялся; зубы у меня стучали, дрожащие руки не могли нащупать одежду, ноги подкашивались. На первом же шаге я споткнулся, точно носильщик под непосильным грузом. Тем не менее я пошел за тюремщиком.
У порога камеры меня ждали оба жандарма. Мне опять надели наручники. Там был очень хитрый замочек, который долго запирали. Я стоял безучастно – машинку прилаживали к машине.
Мы прошли через внутренний двор. Свежий утренний воздух подбодрил меня. Я поднял голову. Небо было голубое, жаркие солнечные лучи, пересеченные длинными трубами, ложились огромными треугольниками света поверх высоких и мрачных тюремных стен. Погода в самом деле была хорошая.
Мы поднялись по винтовой лестнице; прошли один коридор, потом второй, третий; потом перед нами раскрылась низкая дверца. Горячий воздух вместе с шумом вырвался оттуда и ударил мне в лицо; это было дыхание толпы в зале заседаний. Я вошел.
При моем появлении лязгнуло оружие, загудели голоса. С грохотом задвигались скамьи; затрещали загородки; и пока я шел через длинный зал между двумя рядами солдат и толпившимися по обе стороны зрителями, у меня было такое чувство, словно на мне сходятся все нити, которые управляют этими повернутыми в мою сторону лицами с разинутыми ртами.
Только тут я заметил, что кандалов на мне нет; но не мог вспомнить, как и когда их сняли.
Вдруг настала полная тишина. Я дошел до своего места. В тот самый миг, когда улеглась сумятица в зале, улеглась и сумятица в моих мыслях. Я сразу отчетливо понял то, что лишь смутно представлял себе раньше, понял, что настала решительная минута – сейчас мне произнесут приговор.
Как ни странно, но тогда мысль эта не ужаснула меня. Окна были раскрыты, воздух и шум города свободно вливались в них; в зале было светло, как на свадьбе; веселые солнечные лучи чертили тут и там яркие отражения оконных стекол, то вытянутые на полу, то распластанные по столам, то перегнутые по углам стен; от окон, от этих ослепительных прямоугольников, как от огромной призмы, тянулись по воздуху столбы золотистой пыли.
Судьи сидели впереди с довольным видом – верно, радовались, что дело близится к концу. На лице председателя, мягко освещенном отблеском оконного стекла, было мирное, доброе выражение; а молодой член суда; теребя свои брыжи, почти что весело болтал с хорошенькой дамой в розовой шляпке, по знакомству сидевшей позади него.
Только присяжные были бледны и хмуры – надо полагать, утомились от бессонной ночи, некоторые зевали. Так не ведут себя люди, только что вынесшие смертный приговор; на лицах этих добродушных обывателей я читал только желание поспать.
Напротив меня окно было распахнуто настежь. Я слышал, как пересмеиваются на набережной продавщицы цветов; а у наружного края подоконника из щели в камне тянулся желтенький цветочек и заигрывал с ветерком, весь пропитанный солнечным светом.
Откуда было взяться мрачной мысли посреди таких ласкающих впечатлений? Упиваясь воздухом и солнцем, я мог думать только о свободе; этот сияющий день зажег во мне надежду; и я стал ждать приговора так же доверчиво, как ждет человек, чтобы ему даровали свободу и жизнь.
Между тем явился мой адвокат. Его дожидались Он только что позавтракал плотно и с аппетитом. Дойдя до своего места, он с улыбкой наклонился ко мне.
– Я надеюсь, – сказал он.
– Правда? – спросил я беспечно и тоже улыбнулся.
– Ну да, – подтвердил он, – их заключения я еще не знаю, но они, несомненно, отвергнут преднамеренность, и поэтому можно рассчитывать на пожизненную каторгу.
– Что вы говорите! – возмутился я. – Тогда уж во сто крат лучше смерть!
«Да, смерть! Кстати, я ничем не рискую, говоря так, – нашептывал мне внутренний голос. – Ведь смертный приговор непременно должны выносить в полночь, при свете факелов, в темном мрачном зале, холодной дождливой зимней ночью. А в ясное августовское утро, да при таких славных присяжных это невозможно!» И я снова стал смотреть на желтенький цветочек, освещенный солнцем.
Но тут председатель, поджидавший только адвоката, приказал мне встать. Солдаты взяли на караул; словно электрический ток прошел по залу – все как один поднялись. Невзрачный плюгавый человечек, сидевший за столом пониже судейского стола, очевидно, секретарь, стал читать приговор, вынесенный присяжными в мое отсутствие. Холодный пот выступил у меня по всему телу; я прислонился к стене, чтобы не упасть.
– Защитник! Имеете ли вы что-либо возразить против применения наказания? – спросил председатель.
Я-то мог бы возразить против всего, только не находил слов. Язык прилип у меня к гортани.
Защитник встал. Я понял, что он старается смягчить заключение присяжных и подменить вытекающую из него кару другой, той, о которой он мне говорил только что, а я даже слушать не захотел.
Как же сильно было мое возмущение, если оно пробилось сквозь все противоречивые чувства, волновавшие меня! Я хотел вслух повторить то, что раньше сказал защитнику: во сто крат лучше смерть! Но у меня перехватило дыхание, я только дернул адвоката за рукав и судорожно выкрикнул:
– Нет!
Прокурор оспаривал доводы адвоката, и я слушал его с глупым удовлетворением. Потом судьи удалились, а когда вернулись, председатель прочитал мне приговор.
– Приговорен к смерти! – повторила толпа; и когда меня повели прочь, все эти люди ринулись мне вслед с таким грохотом, будто рушилось здание. Я шел как пьяный, как оглушенный. Во мне произошел полный переворот. До смертного приговора я ощущал биение жизни, как все, дышал одним воздухом со всеми; теперь же я почувствовал явственно, что между мной и остальным миром выросла стена. Все казалось мне не таким, как прежде. Широкие, залитые светом окна, чудесное солнце, безоблачное небо, трогательный желтый цветочек – все поблекло, сделалось белым, как саван. И живые люди, мужчины, женщины, дети, теснившиеся на моем пути, стали похожи на привидения.
Внизу у подъезда меня ждала черная, замызганная карета с решетками. Прежде чем сесть в нее, я окинул площадь беглым взглядом.
– Смотрите! Приговоренный к смерти! – кричали прохожие, сбегаясь к карете. Сквозь пелену, словно вставшую между мной и миром, я различил двух девушек, впившихся в меня жадными глазами.
– Отлично! – воскликнула та, что помоложе, и захлопала в ладоши. – Это будет через шесть недель!
III
Приговорен к смерти!
Ну что тут такого? «Все люди, – помнится, прочел я в какой-то книге, где больше ничего не было примечательного, – все люди приговорены к смерти с отсрочкой на неопределенное время». Значит, ничто особенно не изменилось в моем положении. С той минуты, как мне прочли приговор, сколько умерло людей, располагавших прожить долгую жизнь! Сколько опередило меня молодых, свободных, здоровых, собиравшихся в урочный день посмотреть, как мне отрубят голову на Гревской площади! И сколько таких, которые еще гуляют, дышат свежим воздухом, уходят и приходят когда им вздумается и все же, может быть, опередят меня!
Да и о чем особенно жалеть мне в жизни? В самом деле, полумрак и черный хлеб темницы, ковшик Жидкой похлебки из арестантского котла, грубость обращения для меня, приученного к изысканной вежливости, ругань тюремщиков и надсмотрщиков, ни единого человека, который пожелал бы перемолвиться со мной словом, непрерывное внутреннее содрогание при мысли, что сделал я и что за это сделают со мной, – вот почти единственные блага, которые может отнять у меня палач.
Нет! Все равно это ужасно!
IV
Черная карета доставила меня сюда, в этот гнусный Бисетр.
На расстоянии он имеет довольно величественный вид. Расположено все здание по гребню холма, и когда оно высится вдалеке, на горизонте, в нем еще чувствуется что-то от горделивой пышности королевского замка. Но чем ближе, тем явственнее дворец превращается в лачугу. Выщербленные кровли оскорбляют глаз. На царственном фасаде лежит клеймо постыдного упадка; стены словно изъедены проказой. В окнах не осталось ни зеркальных, ни простых стекол; они забраны толстыми железными решетками, к переплетам которых то тут, то там льнет испитое лицо каторжника или умалишенного.
Такова жизнь, когда видишь ее вблизи.
V
Сейчас же по приезде я попал в железные тиски. Были приняты чрезвычайные меры предосторожности; за едой мне не полагалось ни ножа, ни вилки. На меня надели «смирительную рубашку», нечто вроде мешка из парусины, стеснявшего движения рук; тюремные надзиратели отвечали за мою жизнь. Я подал кассационную жалобу. Значит, им предстояло промучиться со мной недель шесть-семь, чтобы целым и невредимым сохранить меня до Гревской площади.
Первые дни мне выказывали особую предупредительность, нестерпимую для меня. Забота тюремщика отдает эшафотом. По счастью, через несколько дней давние навыки взяли верх: со мной начали обращаться так же грубо, как с остальными арестантами, перестав выделять меня и отбросив непривычную вежливость, поминутно напоминавшую мне о палаче. Положение мое улучшилось не только в этом. Моя молодость, покорность, заступничество тюремного священника, а главное, несколько слов по-латыни, сказанных мною привратнику и не понятых им, возымели свое действие: меня стали раз в неделю выпускать на прогулку вместе с другими заключенными и избавили от смирительной рубахи, сковывавшей меня. Кроме того, после долгих колебаний мне разрешили иметь чернила, бумагу, перья и пользоваться ночником.
Каждое воскресенье после обедни, в назначенный для прогулки час, меня выводят на тюремный двор. Там я разговариваю с заключенными. Иначе нельзя. К тому же эти горемыки – славные малые. Они рассказывают мне свои проделки, от которых можно прийти в ужас, но я знаю, что они просто бахвалятся. Они учат меня говорить на воровском жаргоне, «колотить в колотушку», по их выражению. Это самый настоящий язык, наросший на общенародном языке, точно отвратительный лишай или бородавка. Иногда он достигает своеобразной выразительности, живописности, от которой берет жуть: «На подносе пролит сок» (кровь на дороге), «жениться на вдове» (быть повешенным), как будто веревка на виселице – вдова всех повешенных. Для головы вора имеется два названия: «Сорбонна», когда она замышляет, обдумывает и подсказывает преступление, и «чурка», когда палач отрубает ее; иногда в этом языке обнаруживается игривый пошиб: «ивовая шаль» – корзина старьевщика. «врун» – язык; но чаще всего, на каждом шагу, попадаются непонятные, загадочные, безобразные, омерзительные слова, неведомо откуда взявшиеся: «кат» – палач, «лузка» – смерть. Что ни слово – то будто паук или жаба. Когда слушаешь, как говорят на этом языке, кажется, будто перед тобой вытряхивают грязное и пыльное тряпье.
И все-таки эти люди – единственные, кто жалеет меня. Надзиратели, сторожа, привратники, те говорят, и смеются, и рассказывают обо мне при мне, как о неодушевленном предмете, и я на них не обижаюсь.
VI
Я решил так:
Раз у меня есть возможность писать, почему мне не воспользоваться ею? Но о чем писать? Я замурован в четырех голых холодных каменных стенах; я лишен права передвигаться и видеть внешний мир, все мое развлечение – целый день безотчетно следить, как медленно перемещается по темной стене коридора белесый прямоугольник – отблеск глазка в моей двери и при этом, повторяю, я все время один на один с единственной мыслью, с мыслью о преступлении и наказании, об убийстве и смерти! Что же после этого я могу сказать, когда мне и делать-то больше нечего на свете? Что достойного быть записанным могу я выжать из своего иссушенного, опустошенного мозга?
Ну что ж! Пусть вокруг меня все однообразно и серо, зато во мне самом бушует буря, кипит борьба, разыгрывается трагедия. А неотступно преследующая меня мысль каждый час, каждый миг является мне в новом обличье, с каждым разом все страшней и кровожадней по мере приближения назначенного дня. Почему бы мне в моем одиночестве не рассказать себе, самому обо всем жестоком и неизведанном, что терзает меня? Материал, без сомнения, богатый; и как ни короток срок моей жизни, в ней столько еще будет смертной тоски, страха и муки от нынешнего и до последнего часа, что успеет исписаться перо и иссякнут чернила. Кстати, единственное средство меньше страдать – это наблюдать собственные муки и отвлекаться, описывая их.
А затем то, что я тут запишу, может оказаться небесполезным. Дневник моих страданий от часа к часу, от минуты к минуте, от пытки к пытке, если только я найду в себе сил довести его до того мгновения, когда мне будет физически невозможно продолжать, эта повесть, неизбежно неоконченная, но исчерпывающая, мне кажется, послужит большим и серьезным уроком. Сколько поучительного для тех, кто выносит приговор, будет в этом отчете о смертном томлении человеческого разума, в этом непрерывном нарастании мучений, в этом, так сказать, духовном вскрытии приговоренного! Быть может, прочтя мои записки, они с меньшей легкостью решатся в следующий раз бросить на так называемые весы Правосудия голову мыслящего существа, человеческую голову? Быть может, они, бедняги, ни разу не задумались над тем, какой длительный ряд пыток заключен в краткой формуле смертного приговора. Хоть на миг случалось ли им вникнуть в несказанный ужас той мысли, что у человека, которого они обезглавливают, есть разум; разум, предназначенный для жизни, и душа, не мирившаяся со смертью? Нет. Они во всем этом видят только падение по отвесу треугольного ножа и не сомневаются, что для приговоренного ничего нет ни до того, ни после. Эти строки доказывают противное. Если когда-нибудь их напечатают, они хоть в малой доле помогут осознать муки сознания – о них-то судьи и не подозревают. Судьи гордятся тем, что умеют убивать, не причиняя телесных страданий. Это еще далеко не все. Как ничтожна боль физическая по сравнению с душевной болью! И как жалки, как позорны такого рода законы! Настанет день, когда, быть может, эти листки, последние поверенные несчастного страдальца, окажут свое действие… А может статься, после моей смерти ветер развеет по тюремному двору эти вывалянные в грязи клочки бумаги или привратник заклеит ими треснувшее окно сторожки и они сгниют на дожде.
VII
Пусть то, что я пишу, когда-нибудь принесет пользу другим, пусть остановит судью, готового осудить, пусть спасет других страдальцев, виновных или безвинных, от смертной муки, на которую обречен я, – к чему это, зачем? Какое мне дело? Когда падет моя голова, не все ли мне равно, будут ли рубить головы другим?
Как мог я додуматься до такой нелепости? Уничтожить эшафот после того, как сам я взойду на него, – скажите на милость, мне-то какая от этого корысть! Как! Солнце, весна, усеянные цветами луга, птицы, пробуждающиеся по утрам, облака, деревья, природа, воля, жизнь – все это уже не для меня? Нет! Меня надо спасти, меня! Неужели же это непоправимо и мне придется умереть завтра или даже сегодня, неужели исхода нет? Господи! От этой мысли можно голову себе размозжить о стену камеры!
VIII
Подсчитаем, сколько мне осталось жить.
Три дня после вынесения приговора на подачу кассационной жалобы.
Неделя на то, чтобы так называемые судопроизводственные акты провалялись в канцелярии суда, прежде чем их направят министру.
Две недели они пролежат у министра, который даже не будет знать об их существовании, однако же предполагается, что по рассмотрении он передаст их в кассационный суд.
Там их рассортируют, зарегистрируют, пронумеруют; спрос на гильотину большой и раньше своей очереди никак не попадешь.
Две недели на проверку, чтобы в отношении вас не был нарушен закон.
Наконец, кассационный суд собирается обычно по четвергам, оптом отклоняет до двадцати жалоб и отсылает их министру, министр, в свою очередь, отсылает их генеральному прокурору, а тот уж отсылает их палачу. На это уходит три дня.
На четвертый день помощник прокурора, повязывая утром галстук, спохватывается: «Надо же закончить это дело». И тут, если только помощник секретаря не приглашен приятелями на завтрак, приказ о приведении приговора в исполнение набрасывают начерно, проверяют, перебеляют, отсылают, и назавтра на Гревской площади с раннего утра раздается стук топоров, сколачивающих помост, а на перекрестках во весь голос кричат осипшие глашатаи.
В общем шесть недель. Та девушка верно сказала.
А сижу я здесь, в Бисетре, уже пять, если не все шесть – боюсь подсчитать, – мне кажется, что три дня тому назад был четверг.
IX
Я написал завещание.
Зачем, собственно? Меня присудили к уплате судебных издержек, и все мое достояние едва покроет их. Гильотина – это большой расход.
После меня останется мать, останется жена, останется ребенок.
Трехлетняя девочка, прелестная, нежненькая, розовая, с большими черными глазами и длинными каштановыми кудрями.
Когда я ее видел в последний раз, ей было два года и один месяц.
Итак, когда я умру, три женщины лишатся сына, мужа, отца; осиротеют, каждая по-своему, овдовеют волею закона.
Допустим, я наказан по справедливости; но они-то, они, невинные, ничего не сделали. Все равно; они будут опозорены, разорены. Таково правосудие.
У меня болит душа не о старушке матери; ей шестьдесят четыре года, она не переживет удара. А если и протянет несколько дней, так ей было бы только немножко горячей золы в ножной грелке, она все примет безропотно.
Не болит у меня душа и о жене; у нее и так подорвано здоровье и расстроен ум. Она тоже скоро умрет, если только окончательно не лишится рассудка. Говорят, сумасшедшие долго живут; но тогда они хоть не сознают своего несчастья. Сознание у них спит, оно словно умерло.
Но моя дочка, мое дитя, бедная моя крошка Мари сейчас играет, смеется, поет, ничего не подозревая, и о ней-то у меня надрывается душа!
Х
Вот подробное описание моей камеры.
Восемь квадратных футов. Четыре стены из каменных плит, под прямым углом сходящихся с плитами пола, который на ступеньку поднят над наружным коридором. Когда входишь, направо от двери нечто вроде ниши – пародия на альков. Там брошена охапка соломы, на которой полагается отдыхать и спать узнику, летом и зимой одетому в холщовые штаны и тиковую куртку.
Над головой у меня – вместо балдахина – черный, так называемый стрельчатый свод, с которого лохмотьями свисает паутина.
Во всей камере ни окна, ни отдушины. Только дверь, где дерево сплошь закрыто железом.
Впрочем, я ошибся: посреди двери, ближе к потолку, проделано отверстие в девять квадратных дюймов с железными прутьями крест-накрест; на ночь сторож при желании может закрыть его. Камера выходит в довольно длинный коридор, который освещается и проветривается через узкие окошечки под потолком; весь этот коридор разделен каменными перегородками на отдельные помещения, сообщающиеся между собой через низенькие сводчатые дверцы и служащие чем-то вроде прихожих перед одиночными камерами, подобными моей. В такие камеры сажают каторжников, присужденных смотрителем тюрьмы к дисциплинарным взысканиям. Первые три камеры отведены для приговоренных к смерти, потому что они ближе к квартире смотрителя, что облегчает ему надзор.
Только эти камеры сохранились в нетронутом виде от старого бисетрского замка, построенного в XV веке кардиналом Винчестерским, тем самым, что послал на костер Жанну д'Арк. Об этом я узнал из разговоров «любопытствующих», которые на днях приходили сюда и смотрели на меня издали, как на зверя в клетке. Надзиратель получил пять франков за то, что пустил их.
Забыл сказать, что у двери моей камеры днем и ночью стоит караульный, и когда бы я ни поднял глаза на квадратное отверстие в двери, они встречаются с его глазами, неотступно следящими за мной.
Однако же считается, что в этом каменном мешке достаточно воздуха и света.
XI
Пока до рассвета еще далеко, на что убить ночь? Мне пришла в голову одна мысль. Я встал и принялся водить ночником по стенам камеры. Все четыре стены испещрены надписями, рисунками, непонятными изображениями, именами, которые переплетаются между собой и заслоняют друг друга. Должно быть, каждому приговоренному хотелось оставить по себе след, хотя бы здесь. Тут и карандаш, и мел, и уголь, черные, белые, серые буквы; часто попадаются глубокие зарубки в камне, кое-где буквы побурели, как будто их выводили кровью. Если бы я не был поглощен одной думой, меня, конечно, заинтересовала бы эта своеобразная книга, страница за страницей раскрывающаяся перед моим взором на каждом камне каземата. Мне любопытно было бы соединить в целое обрывки мыслей, разбросанных по плитам; из каждого имени воссоздать человека; вернуть смысл и жизнь этим исковерканным надписям, разорванным фразам, отсеченным словам, обрубкам без головы, подобным тем, кто их писал.
Над моим изголовьем изображены два пламенеющих сердца, пронзенных стрелой, а сверху надпись: «Любовь до гробовой доски». Бедняга брал на себя обязательство не на долгий срок.
Рядом неумело нарисована маленькая фигурка в подобии треуголки, а под ней написано: «Да здравствует император! 1824».
Потом опять пламенеющие сердца с надписью, типичной для тюрьмы: «Люблю, боготворю Матье Данвена. Жак».
На противоположной стене фамилия: «Папавуан». Заглавное «П» разукрашено всякими завитушками.
Куплет непристойной песенки. Фригийский колпак, довольно глубоко врезанный в камень, а под ним: «Бориес. Республика». Так звали одного из четверых ларошельских сержантов. Бедный юноша! Какая гнусность эти пресловутые требования политики! За идею. За фантазию, за нечто отвлеченное – жестокая действительность, именуемая гильотиной! Как же жаловаться мне, окаянному, когда я совершил настоящее преступление, пролил кровь! Нет, больше не буду заниматься изысканиями. Я только что увидел сделанный мелом рисунок, от которого мне стало страшно, – рисунок изображал эшафот, быть может, именно сейчас воздвигающийся для меня. Ночник едва не выпал у меня из рук.
XII
Я бросился на свое соломенное ложе, уткнулся головой в колени. Но мало-помалу детский мой ужас прошел, и болезненное любопытство побудило меня продолжать чтение этой стенной летописи.
Возле имени Папавуана я смахнул густую, окутанную пылью паутину, затянувшую весь угол. Под этой паутиной обнаружилось много имен, но от большинства из них на стене остались одни пятна, только четыре или пять можно было прочесть без труда. «Дотен, 1815. – Пулен, 1818. – Жан Мартен, 1821. – Кастень, 1823». Жуткие воспоминания связаны с этими именами: Дотен – имя того, кто разрубил на части родного брата, а потом ночью блуждал по Парижу и бросил голову в водоем, а туловище – в сточную канаву. Пулен убил жену; Жан Мартен застрелил старика отца, когда тот открывал окно; Кастень – тот самый врач, что отравил своего друга: под видом лечения он подбавлял ему отравы; и рядом с этими четырьмя – страшный безумец Папавуан, убивавший детей ударом ножа по черепу. «Вот какие у меня были здесь предшественники», – содрогаясь всем телом, подумал я. Стоя тут, где стою я, эти кровожадные убийцы додумывали свои последние думы! В тесном пространстве под этой стеной они, как дикие звери, метались в последние часы! Промежутки между их пребыванием были очень короткие; по-видимому, этой камере не суждено пустовать. По их непростывшему следу сюда явился я. И я в свой черед последую за ними на Кламарское кладбище, где растет такая высокая трава!
Я человек несуеверный и не склонный к галлюцинациям. Возможно, что такие мысли довели меня до лихорадки; только в то время как я был поглощен ими, мне вдруг почудилось, что роковые имена выведены на темной стене огненными буквами. В ушах зазвенело, глаза заволокло кровавым маревом, и вслед за тем мне померещилось, что камера полна людей, странных людей, которые держат собственную голову в левой руке, поддев ее за губу, потому что волос ни у кого нет. И все грозят мне кулаком, кроме отцеубийцы. Я в ужасе зажмурился, но от этого все стало еще явственнее.
Не знаю, был ли то сон, фантазия или действительность, но я, несомненно, сошел бы с ума, если бы меня вовремя не отрезвило какое-то непонятное ощущение. Я уже близок был к обмороку, как вдруг почувствовал у себя на голой ноге ползущие мохнатые лапы и холодное брюшко – потревоженный мною паук удирал прочь. Это окончательно отрезвило меня. Ах, какие страшные призраки! Да нет же, то был просто дурман, порождение моего опустошенного, исстрадавшегося мозга. Химера в духе Макбета! Мертвые мертвы, эти же тем более. Они накрепко замурованы в могиле, в тюрьме, из которой не убежишь. Как же я мог так испугаться? Двери гроба не открываются изнутри.
XIII
На днях я видел омерзительное зрелище.
Не успело еще рассвести, как тюрьма наполнилась шумом. Хлопали тяжелые двери, скрежетали засовы, щелкали висячие замки, звякали связки ключей у пояса надзирателей, сверху донизу сотрясались лестницы под торопливыми шагами, и голоса перекликались по длинным коридорам из конца в конец. Соседи мои по каземату, отбывавшие наказание, были веселее обычного. Казалось, весь Бисетр смеется, поет, суетится, пляшет.
Я один, безмолвный среди общего гама, недвижный среди общей беготни, внимательно и удивленно прислушивался.
Мимо прошел надзиратель. Я решился окликнуть его и спросить, не праздник ли сегодня в тюрьме.
– Пожалуй, что и праздник! – отвечал он. – Сегодня будут надевать кандалы на каторжников, которых завтра отправляют в Тулон. Хотите поглядеть? Малость развлечетесь.
В самом деле, одинокий узник рад любому зрелищу, даже самому отвратительному. Я согласился. Приняв, как полагается, меры, исключающие возможность побега, надзиратель отвел меня в маленькую пустую камеру безо всякой мебели с забранным решеткой окном, но с окном настоящим, из которого было видно небо.
– Ну вот, – сказал надзиратель, – отсюда все видно и слышно. Тут вы будете, как король в своей ложе.
Уходя, он запер меня на ключ, на засов и на замок.
Окно выходило на обширный квадратный двор, со всех четырех сторон, точно стеной, огороженный огромным каменным зданием в семь этажей. Какое безрадостное зрелище представлял собой этот обветшалый, голый четырехсторонний фасад, с множеством забранных решетками окон, к которым на всех этажах прижимались испитые, мертвенно бледные лица, одно над другим, словно камни в стене, и каждому служили своего рода рамкой железные переплеты решетки. Это были заключенные, зрители той церемонии, участниками которой они станут рано или поздно. Так, должно быть, души грешников льнут к окошкам чистилища, выходящим в ад.
Все молча смотрели во двор, пока еще безлюдный.
Все ждали. Среди хмурых лиц и тусклых взглядов изредка попадались зоркие, живые, горящие, как уголь, глаза.
Прямоугольник тюремных строений, окружающих двор, замкнут не наглухо. В одном крыле (в том, что обращено на восток) есть посередине проем, загороженный железной решеткой. За решеткой находится второй двор, поменьше первого, но тоже обнесенный стенами с потемневшими вышками.
Вокруг всего главного двора, вдоль стен тянутся каменные скамьи. А посредине врыт железный столб с изогнутым в виде крюка концом, на который полагается вешать фонарь.
Пробило полдень. Большие ворота, скрытые под сводом, внезапно распахнулись. Громыхая железом, во двор грузно вкатилась телега под конвоем неопрятных, отталкивающего вида солдат в синих мундирах с красными погонами и желтыми перевязями. Это стража привезла кандалы. Грохот телеги сразу же вызвал ответный шум во всей тюрьме; зрители, до той минуты молча и неподвижно стоявшие у окон, разразились улюлюканьем, угрозами, ругательствами, – все это вперемежку с куплетами каких-то песенок и взрывами хохота, от которого щемило сердце. Вместо лиц – дьявольские хари. Рты перекосились, глаза засверкали, каждый грозил из-за решетки кулаком, каждый что-то вопил. Я был потрясен, увидев, сколько непогасших искр таится под пеплом.
Тем временем полицейские, среди которых затесалось несколько зевак из Парижа, приметных по опрятному платью и перепуганному виду, невозмутимо принялись задело. Один из них взобрался на телегу и стал швырять остальным цепи, шейные кольца для дороги и кипы холщовых штанов. Затем они поделили работу: одни раскладывали на дальнем конце двора длинные цепи, называя их на своем жаргоне «бечевками», другие разворачивали прямо на земле «шелка», иначе говоря штаны и рубахи; а наиболее опытные, под надзором своего начальника, приземистого старикашки, проверяли железные ошейники, испытывали их прочность, выбивая ими искры из каменных плит. Язвительные возгласы заключенных перекрывал громкий смех каторжников, для которых все это готовилось и которые сгрудились у окон старой тюрьмы, выходивших на малый двор.
Когда приготовления были закончены, господин в расшитом серебром мундире, которого величали «господин инспектор», отдал какое-то распоряжение смотрителю тюрьмы; не прошло и минуты, как из двух или трех низеньких дверей одновременно во двор с воем хлынула орава ужасающих оборванцев. При их появлении улюлюканье из окон стало еще громче. Некоторых из них – прославленных представителей каторги – встречали приветственными криками и рукоплесканиями, а они принимали это как должное, с горделивым достоинством. Многие из каторжников нарядились в самодельные, сплетенные из тюремной соломы шляпы необычайной формы, чтобы, проезжая через города, шляпами привлекать к себе внимание. Обладатели шляп снискали еще большее одобрение. Особый взрыв восторга вызвал юноша лет семнадцати с девическим лицом. Он только что отсидел неделю в карцере и там сплел себе из соломенной подстилки полный костюм; во двор он вкатился колесом, показав змеиную гибкость. Это был уличный гимнаст, осужденный за кражу. Его приветствовали бурей рукоплесканий и восторженных криков. Каторжники отвечали такими же криками, и от этого обмена любезностями между каторжниками настоящими и каторжниками будущими вчуже становилось страшно.
Хотя общество и присутствовало здесь в лице тюремных надзирателей и перепуганных зевак, преступные отщепенцы нагло бросали ему вызов, превращая жестокое наказание в семейный праздник.
По мере появления осужденных, их гнали через два ряда стражников во второй двор, где им предстоял врачебный осмотр. И тут каждый делал последнюю попытку избежать отправки на каторгу, ссылался на какой-нибудь изъян: на больные глаза, на хромоту, на повреждение руки. Но почти во всех случаях их признавали годными для каторжных работ; и каждый беспечно покорялся, сразу же забывая о мнимом недуге, от которого якобы страдал всю жизнь.
Решетчатые ворота в малый двор распахнулись снова; один из стражников начал выкликать имена в алфавитном порядке; каторжники выходили один за другим, и каждый становился в дальнем углу большого двора рядом с тем, кого судьба назначила ему в товарищи только потому, что их фамилии начинаются с одной буквы. Таким образом, каждый предоставлен самому себе; каждый обречен нести свою цепь бок о бок с чужим человеком; и если судьба даровала каторжнику друга – цепь их разлучит. Это предел невзгод!
Когда набралось человек тридцать, ворота закрыли. – Полицейский выровнял весь ряд палкой и бросил перед каждым рубаху, куртку и штаны из грубой холстины, после чего, по его знаку, все начали раздеваться. По непредвиденной случайности это унижение превратилось в пытку.
До той минуты погода была сносная; правда, резкий октябрьский ветер нагонял холод, однако он же время от времени разрывал серую пелену туч, и сквозь просвет проглядывало солнце. Но едва только каторжники сбросили тюремное тряпье и предстали голыми перед бдительным оком надзирателей и любопытствующими взглядами посторонних, которые осматривали их со всех сторон и особенно интересовались плечами, небо внезапно потемнело и хлынул холодный осенний дождь, заливая потоками воды прямоугольник двора, непокрытые головы и обнаженные тела каторжников и убогую их одежду, разостланную на земле.
В один миг на тюремном дворе не осталось никого, кроме осужденных и стражников. Парижские зеваки спрятались под навесами над дверьми.
А ливень не унимался. На залитых водой плитах двора стояли теперь только голые, вымокшие до костей каторжники. Угрюмое молчание сменило шумный задор. Несчастные дрожали, у них зуб на зуб не попадал, их костлявые ноги и узловатые колени стукались; мучительно было смотреть, как они пытались прикрыть свои посиневшие тела насквозь мокрыми рубахами, куртками и штанами. Нагота была бы менее жалка.
Только один старик пытался еще зубоскалить. Утираясь промокшей рубахой, он заявил, что «это не входило в программу», потом громко расхохотался и погрозил кулаком небу.
Когда они оделись в дорожное платье, их разбили на группы в двадцать – тридцать человек и повели на другой конец двора, где оковы уже лежали наготове. Оковы представляют собой длинную и крепкую цепь, к которой через промежутки в два фута припаяны другие, поперечные, цепи покороче, заканчивающиеся четырехугольным железным ошейником; открывается ошейник с помощью шарнира, находящегося в одном его углу, запирается в противоположном углу железным болтом, который заклепывают на шее каторжника на все время пути.
Разостланные на земле оковы очень напоминают рыбий скелет.
Каторжников заставили сесть прямо в грязь на залитые водой плиты и примерили им ошейники; потом два тюремных кузнеца, вооруженных переносными наковальнями, закрепили болты холодной клепкой, изо всей силы колотя по ним железным брусом. Это страшное испытание, от которого бледнеют самые отважные. При каждом ударе молота по наковальне, прижатой к спине мученика, у него отчаянно дергается подбородок: стоит ему чуть отклонить голову, и череп его расколется, точно ореховая скорлупа.
После этой операции все пали духом. Теперь слышалось только звяканье цепей да временами чей-то крик и глухой удар палкой по спине непокорного. Некоторые плакали: старики дрожали всем телом и кусали губы. Я с содроганием смотрел на страшные профили в железной оправе.
Итак, после врачебного осмотра – осмотр тюремщиками, а после этого – заковка в цепи. Три действия трагедии.
Выглянуло солнце и как будто зажгло ореол вокруг голов арестантов. Все прикованные к пяти цепям поднялись сразу, одним судорожным движением. И все взялись за руки, так что вокруг фонарного столба вдруг сомкнулся огромный хоровод. Они кружились так, что рябило в глазах. И при этом пели песню каторжников, воровской романс, и напев был то жалобный, то бесшабашно-веселый; время от времени слышались взвизгивания, отрывистый, хриплый хохот вперемежку с загадочными словами; потом вдруг поднимался яростный крик, и размеренно звякавшие цепи вторили этому пению, режущему слух сильнее, чем лязг железа. Если бы я задумал описать шабаш, то изобразил бы его именно таким – не лучше и не хуже.
Во двор внесли огромный чан. Стражники палками разогнали хоровод и повели арестантов к этому чану, где какая-то зелень плавала в дымящейся грязной жидкости. Они принялись за еду.
Поев, они выплеснули на землю остатки похлебки, бросили корки пеклеванного хлеба и возобновили пение и пляску. Говорят, им разрешают петь и плясать весь день и всю ночь, после того как их закуют в кандалы.
Я наблюдал это необычайное зрелище с таким жадным, с таким трепетным и страстным интересом, что даже забыл о себе. Мне до глубины души было жаль их, а когда они смеялись, мне хотелось плакать.
И вдруг, сквозь глубокую задумчивость, овладевшую мной, я заметил, что орущий хоровод остановился и замолчал. Все взгляды обратились к моему окну…
– Смертник! Смертник! – хором завопили все, – указывая на меня пальцами, и радостный рев поднялся с удвоенной силой.
Я замер на месте. Не имею понятия, откуда они знали меня и как они могли меня узнать.
– Добрый день! Добрый вечер! – глумливо кричали они мне.
Один из них, совсем молодой парнишка с потным, прыщавым лицом, приговоренный к пожизненной каторге, с завистью посмотрел на меня и сказал:
– Хорошо ему! Чик и готово! Прощай, товарищ!
Невозможно описать, что происходило во мне. В самом деле – я их товарищ. Гревская площадь сродни Тулону. Вернее, я ниже их: они снисходят до меня. Я содрогнулся.
Да, их товарищ! Через несколько дней я сам мог бы доставить им не худшее зрелище.
Я застыл у окна, без сил, без движения, как парализованный. Но когда все пять цепей надвинулись, ринулись на меня с возгласами непрошеного, ненавистного мне дружелюбия, когда лязг кандалов и топота послышались под самым моим окном, мне показалось, что этот рой бесов сейчас взберется сюда, в мою беззащитную каморку, и я с отчаянным криком бросился к двери, стал изо всех сил трясти ее, но дверь не поддавалась. Засовы были задвинуты снаружи. Я стучал, я звал на помощь. А тем временем страшные вопли каторжников еще как будто приблизились. Мне, почудилось, что их дьявольские рожи заглядывают в мое окно, я вскрикнул еще раз и упал без; чувств.
XIV
Когда я очнулся, было темно. Я лежал на убогой койке; мерцавший под потолком фонарь освещал другие койки, стоявшие в ряд по обе стороны от моей. Я понял, что меня перенесли в лазарет.
Несколько мгновений я лежал с открытыми глазами, ни о чем не думал и не вспоминал, только наслаждался тем, что нахожусь в постели. Конечно, в былое время я бы с омерзением и обидой отшатнулся от такой больничной, тюремной постели; но теперь я стал другим человеком. Простыни были сероватые и шершавые, одеяло дырявое и тощее; сквозь жидкую ткань тюфяка выпирала солома, – все равно! Тело мое отдыхало и нежилось на грубых простынях, а как ни тонко было одеяло, под ним впервые за долгое время я перестал ощущать нестерпимый пронизывающий холод. Я снова уснул.
Разбудил меня сильный шум; только что начало светать. Шум доносился со двора; койка моя стояла у окна, я привстал посмотреть, что случилось.
Окно выходило на большой тюремный двор. Двор был полон народа; выстроившаяся в два ряда инвалидная команда с трудом сдерживала напор толпы, чтобы освободить узкий проезд через весь двор. Между шпалерами солдат медленно двигались, трясясь на булыжниках, пять длинных телег, набитых людьми, – это увозили каторжников.
Телеги были без навеса. На каждую цепь приходилось по телеге. Каторжники сидели боком, по обоим ее бортам, прислонясь друг к другу; их разделяла общая цепь, которая тянулась во всю длину телеги, а на конце стоял вооруженный стражник. Звякали кандалы, при каждом толчке дергались головы и мотались свисавшие ноги.
Мелкий ледяной дождь пронизывал людей насквозь, холщовые штаны из бурых стали черными и прилипли к коленям. С длинных бород и обритых голов стекала вода; лица посинели; видно было, что несчастные дрожат и скрипят зубами от ярости и холода. При этом они были лишены возможности даже пошевелиться. После того как человека закуют, он становится частью страшного механизма, именуемого общей цепью, где все двигаются как один. Разумное начало теряет право существовать, железный ошейник обрекает его на смерть; остается животное, которому разрешено утолять свои потребности и нужды только в определенные часы. Так, сидя без движения, беспомощно свесив ноги, полуголые люди с непокрытыми головами начинали двадцатипятидневное путешествие на тех же телегах и в той же одежде – ив июльский зной, и в ноябрьское ненастье. Человечество как будто стремится, чтобы небо разделяло с ним карательные функции.
Между толпой и сидевшими в телегах шел своеобразный диалог: поношения с одной стороны, похвальбы с другой и ругань с обеих сторон; но начальник конвоя сделал знак, и палочные удары без разбора посыпались на всех, кто сидел в телегах, на их головы и плечи, и вскоре видимость спокойствия, которая именуется порядком, была восстановлена. Однако в глазах несчастных отщепенцев горела жажда мести, а лежавшие на коленях кулаки яростно сжимались.
Пять телег, конвоируемых пешими стражниками и конными жандармами, одна за другой скрылись под высоким сводом тюремных ворот; за ними последовала еще одна, шестая, на которой были вперемежку свалены котлы, миски и запасные цепи. Несколько запоздавших стражников выбежали из харчевни и бросились догонять свой отряд. Толпа рассеялась. Все сразу исчезло, как фантастическое видение. В воздухе постепенно растаял грохот колес и стук копыт по мощеной дороге на Фонтенбло, щелканье бичей, бряцание кандалов и рев толпы, желавшей каторжникам несчастливого пути.
И это для них только начало! О чем толковал мне адвокат? О галерах! Нет, нет, во сто крат лучше смерть! Лучше эшафот, чем неволя, лучше небытие, чем ад; лучше подставить шею под нож Гильотена, чем под железное ярмо каторги. Боже правый, только не галеры!
XV
К несчастью, я не был болен. На другой день меня взяли из лазарета и снова заперли в темнице.
Не болен! Нет, я молод, здоров и силен. Кровью свободно течет у меня в жилах; все мышцы повинуются всем моим прихотям; я крепок духом и телом, создан для долгой жизни; все это несомненно; и тем не менее я болен, смертельно болен, и болезнь моя – дело рук человеческих.
С тех пор как я вышел из лазарета, меня терзает, сводит с ума одна мысль, безумная мысль, что я мог бы бежать, если бы меня оставили там. И врачи и сестры милосердия проявляли ко мне явный интерес. Такой молодой и обречен на такую смерть! Казалось, им жаль меня, так они суетились возле моей постели. Э! Что там! Просто любопытство! И потом эти целители обязаны исцелять от болезней, но не от смертного приговора. А как бы им это было легко! Только открыть дверь! Такое пустое дело!
Теперь уж ни малейшей надежды. Жалоба моя будет отклонена, потому что все делалось по закону; свидетели свидетельствовали правильно, защитники защищали правильно, судьи судили правильно. На это я не рассчитываю, разве что… Нет, вздор! Нечего надеяться! Кассационная жалоба – это веревка, которая держит человека над пропастью и ежеминутно грозит порваться, пока не оборвется в самом деле. Будто нож гильотины занесен над головой шесть недель подряд.
А вдруг меня помилуют? Помилуют! Но кто? Почему? И как?.. Не могут меня помиловать. Говорят, нужно показать пример.
Мне осталось всего три этапа: Бисетр, Консьержери, Гревская площадь.
XVI
За тот короткий срок, что меня продержали в лазарете, я успел посидеть у окна на солнце – оно показалось снова, – вернее, – пол учить от солнца то, что пропускали решетки на окне.
Я сидел, опустив отяжелевшую и одурманенную голову на руки, которым не под силу была их ноша, локтями опирался на колени, а ноги поставил на перекладину стула, ибо я так подавлен, что все время сгибаюсь и съеживаюсь, как будто в теле моем не осталось ни костей, ни мышц.
Спертый воздух тюрьмы душил меня больше, чем когда-либо, в ушах все еще звучал лязг кандалов, Бисетр стал мне нестерпим. Господь бог, думал я, мог бы сжалиться надо мной и послать мне хоть птичку, чтобы она попела немножко на крыше напротив окна.
Не знаю, господь или дьявол услышал меня, только почти в ту же минуту под моим окном зазвучал голос, – не птички, нет, гораздо лучше: чистый, свежий, нежный голос пятнадцатилетней девушки. Я встрепенулся, поднял голову и стал жадно вслушиваться. Напев был медлительный и томный, похожий на грустное и жалобное воркование; вот слова песни:
На улице Дю-Майль Зашился я в капкан. Жандармы поймали, Связали по рукам.Не могу выразить, как горько я был разочарован; а голос все пел:
Надели наручники, И кончен разговор. Спасибо, на дороге Стоял знакомый вор. Товарищ, товарищ, С тобой поговорю, Скажи моей девчонке, Что я сыграл игру. Скажи моей девчонке, Пусть денег не шлет, Убил я человека За толстый кошелек. За часики с цепочкой, За шляпу и пальто, За темную ночку, За черт знает что. Пускай в Версаль поедет, Попросит короля, Не даст ли снисхожденье Убийце, тру-ля-ля. Пускай подаст прошенье. За это, мой гонец, Я подарю ей туфли И ленту на чепец. Король читать не станет. Велит перед зарей Плясать мне мой танец Меж небом и землей.[12]Дальше я не слышал и не в силах был слушать. Наполовину внятный, а наполовину скрытый смысл этой омерзительной песенки о борьбе разбойника с жандармами, о встрече с вором, которого он посылает к жене со страшной вестью: я убил человека, и меня поймали, «зашился я в капкан»; о женщине, которая поспешила в Версаль с прошением, и о короле, который разгневался и велит преступнику «плясать свой танец меж небом и землей»; и при этом нежнейшая мелодия, пропетая нежнейшим голоском, когда-либо баюкавшим человеческий слух!.. Я оцепенел, я был подавлен, уничтожен… Противоестественны были такие гнусные слова на румяных и свежих устах. Точно след слизняка на лепестке розы.
Я не в силах передать свои чувства; мне было и больно и сладко слушать язык вертепа и каторги, жестокий и живописный говор, грязный жаргон в сочетании с девичьим голоском, прелестным переходом от голоса ребенка к голосу женщины! Слышать эти уродливые, исковерканные слова в плавных переливчатых звуках песни!
Ох, какая подлая штука – тюрьма! Своим ядом она отравляет все. Все в ней замарано – даже песенка пятнадцатилетней девушки! Увидишь там птичку – на крыле у нее окажется грязь; сорвешь красивый цветок – от него исходит зловоние.
XVII
Ах, если бы мне удалось вырваться отсюда, как бы я побежал в поля!
Нет, бежать не следует. Это привлечет внимание, наведет на подозрения. Надо, наоборот, идти m спеша, подняв голову, напевая песню. Хорошо бы добыть старый фартук, синий в красных разводах. В нем легче проскользнуть незамеченным. Все окрестные огородники ходят в таких.
Подле Аркейля есть густой лесок, а рядом болото, куда я, когда учился в коллеже, каждый четверг ходил с друзьями-школьниками ловить лягушек. Там я могу укрыться до вечера.
Когда совсем стемнеет, я пойду дальше. В Венсен. Нет, туда не пробраться из-за реки. Ну так я пойду в Арпажон. – Лучше было бы свернуть на Сен-Жермен и добраться до Гавра и оттуда отплыть в Англию. – Ах, не все ли равно! Допустим, я очутился в Лонжюмо. Проходит жандарм; спрашивает у меня паспорт. – Все погибло!
Эх ты, злосчастный мечтатель! Сломай сперва стены в три фута толщиной, в которых ты заточен. Нет, смерть! Смерть!
Подумать только, что я совсем ребенком приезжал сюда, в Бисетр, смотреть на большой колодезь и на умалишенных!
XVIII
Пока я все это писал, свет лампы потускнел, настал день, на часах тюремной колокольни пробило шесть.
Что это значит? Дежурный надзиратель только что был у меня в камере; войдя, он снял картуз, попросил извинения, что потревожил меня, и спросил, сколько возможно смягчив свой грубый голос, чего я желаю на завтрак…
Дрожь охватила меня. Неужели это будет сегодня?
XIX
Это будет сегодня!
Сейчас ко мне пожаловал сам смотритель тюрьмы. Он спросил, чем может быть мне полезен или приятен, так как ему желательно, чтобы у меня не было поводов жаловаться на него или на его подчиненных, участливо осведомился, как я себя чувствую и как провел ночь; на прощание он назвал меня «сударь».
Это будет сегодня!
XX
Мой тюремщик считает, что у меня нет поводов жаловаться на него и на его помощников. Он прав. С моей стороны было бы дурно жаловаться на них – они исполняли свою обязанность, зорко стерегли меня; и потом они были учтивы при встрече и прощании. Чего же мне еще надобно?
Добродетельный тюремщик с благодушной улыбкой, с медоточивыми речами, со взглядом льстеца и шпиона, с большими мясистыми руками – это олицетворение тюрьмы. Это Бисетр в образе человека. Вокруг меня всюду тюрьма; я вижу тюрьму во всех возможных обличиях, в человеческом облике и в виде решеток и запоров. Вот стена – это тюрьма, выраженная в камне; вот дверь – это тюрьма, выраженная в дереве; а надзиратели – это тюрьма, претворенная в плоть и кровь. Тюрьма – страшное чудовище, незримое и по-своему совершенное, в котором человек дополняет здание. И я его жертва; оно схватило меня, обвило всеми своими щупальцами. Оно держит меня в своих гранитных стенах, под своими железными замками, и сторожит своими зоркими глазами, глазами тюремщика.
О господи, что ждет меня, горемычного? Что они сделают со мной?
XXI
Я успокоился. Все кончено, кончено бесповоротно. Я поборол жестокое смятение, в которое поверг меня приход смотрителя. Сознаюсь, тогда я еще надеялся. Теперь, благодарение Творцу, я больше не надеюсь.
Вот что за это время произошло. В ту минуту, когда часы били половину седьмого – нет, без четверти семь, – дверь камеры открылась снова. Вошел седовласый старик в коричневом рединготе. Он распахнул редингот. Я увидел сутану и брыжи. Это был священник.
Но не тюремный священник. Зловещий признак.
Патер сел напротив меня, приветливо улыбаясь; потом покачал головой и возвел глаза к небу, вернее к потолку темницы. Я понял его.
– Сын мой, вы приготовились? – спросил он. Я ответил ослабевшим голосом:
– Я не приготовился, но я готов.
И в то же время в глазах у меня потемнело, холодный пот выступил по всему телу, в висках застучало, в ушах начался шум.
Пока я, как сонный, качался на стуле, приветливый старик говорил. По крайней мере мне так казалось; насколько я припоминаю, он шевелил губами, размахивал руками, поблескивал глазами.
Дверь отворилась еще раз. Грохот засовов вывел меня из оцепенения и прервал его речь. В сопровождении смотрителя появился приличного вида господин в черном фраке и отвесил мне глубокий поклон. Лицо этого человека, как лица факельщиков, выражало казенную скорбь. В руках он держал свернутую бумагу.
– Сударь, – с учтивой улыбкой обратился он ко мне, – я судебный пристав при парижском королевском суде. Имею честь доставить вам послание от господина генерального прокурора.
Первое потрясение прошло. Присутствие духа полностью вернулось ко мне.
– Помнится, господин генеральный прокурор настойчиво требовал моей головы, – ответил я. – Весьма польщен, что он ко мне пишет. Надеюсь, моя смерть доставит ему истинное удовольствие. Иначе мне обидно было бы думать, что он с таким жаром добивался ее, а на самом деле ему это безразлично.
Вслед за тем я потребовал твердым голосом:
– Читайте, сударь!
Он принялся читать длинный документ, нараспев заканчивая каждую строку и запинаясь на каждом слове. Из документа явствовало, что моя жалоба отклонена.
– Приговор будет приведен в исполнение на Гревской площади, – добавил он, кончив читать и не поднимая глаз от гербовой бумаги. – Ровно в половине восьмого мы отправимся в Консьержери. Милостивый, государь! Надеюсь, вы не откажете в любезности последовать за мной?
Я с некоторых пор перестал слушать. Смотритель разговаривал со священником; судебный пристав не отрывал глаз от бумаги; а я смотрел на дверь, оставшуюся полуоткрытой… «Несчастный фантазер! В коридоре четверо вооруженных солдат!»
Судебный пристав повторил свой вопрос и на этот раз посмотрел на меня.
– К вашим услугам! Когда пожелаете! – ответил я.
Он поклонился мне:
– Через полчаса я позволю себе явиться за вами. После этого меня оставили одного. Господи, только бы убежать, убежать каким угодно способом! Я должен вырваться отсюда, должен не медля ни минуты. Через двери, через окна, через крышу, даже оставляя клочья мяса на стропилах!
О бессилье; проклятье, дьявольская насмешка! Месяцы нужны, на то, чтобы пробить эту стену хорошим Я инструментом, а у меня нет ни гвоздя, ни часа времени!
XXII
Из Консьержери
Говоря языком официальных бумаг, я переведен сюда.
Однако путешествие мое стоит описать. Едва пробило половину восьмого, как судебный пристав снова появился на пороге камеры.
– Сударь, я жду вас, – заявил он.
Увы! Меня ждал не только он!
Я встал, сделал шаг; мне казалось, что на второй у меня не хватит сил, – такую тяжесть я ощущал в голове и слабость в ногах. Немного погодя я овладел собой и пошел к двери довольно твердой поступью. С порога я бросил последний взгляд на свою убогую камеру. Она стала мне дорога. Я вышел, оставив ее пустой и незапертой. Непривычный вид для темницы.
Впрочем, она недолго будет пустовать. Сторожа говорили, что сегодня вечером ждут нового постояльца, которого в настоящую минуту суд присяжных спешит приговорить к смерти. За поворотом коридора нас нагнал тюремный священник. Он кончал завтрак.
При выходе из тюрьмы смотритель сердечно пожал мне руку и усилил мой конвой четырьмя инвалидами.
Какой-то умирающий старик крикнул мне с порога лазарета:
– До свидания!
Когда мы очутились во дворе, я вздохнул полной грудью, и мне стало лучше.
Но нам недолго пришлось идти по свежему воздуху. В первом дворе стояла запряженная почтовыми лошадьми карета, та самая, что доставила меня сюда, – это была двуколка продолговатой формы, разделенная поперек проволочной загородкой, частой, как вязание. В каждом отделении есть дверцы, в одном – впереди, в другом – позади. А все в целом до того грязно, засалено, пропылено, что похоронные дроги для бедняков покажутся коронационной каретой по сравнению с этой колымагой.
Прежде чем меня поглотил этот склеп на двух колесах, я окинул двор прощальным взглядом, полным такого отчаяния, от которого должны бы сокрушиться стены. Во двор, представлявший собою небольшую площадку, обсаженную деревцами, набилось еще больше зевак, чем в тот день, когда увозили каторжников. И тут уже толпа! Как и тогда, моросил осенний дождь, мелкий и холодный; он идет и сейчас, пока я пишу эти строки, и, наверно, будет идти весь день, который кончится после меня.
Дороги были размыты, двор – весь в лужах. Мне доставило удовольствие смотреть, как толпа топчется в грязи.
Мы сели, судебный пристав и один из жандармов – в первое отделение, я вместе со священником и другим жандармом – во второе. Четыре конных жандарма окружили карету. Итак, не считая кучера, восемь человек ради одного.
Садясь в карету, я слышал, как старуха с выцветшими глазами говорила в толпе:
– Это куда забавнее, чем каторжники.
Я ее понимаю. Это зрелище, которое схватываешь сразу, одним взглядом. Оно так же занимательно, но смотреть на него удобнее. Ничто не отвлекает и не рассеивает внимания. Тут один лишь участник, и в нем одном сосредоточено столько несчастья, сколько во всех каторжниках, вместе взятых. Это сгущенный и потому особенно пряный настой.
Повозка тронулась. Она гулко прокатилась под сводом главных ворот, потом выехала на аллею, и тяжелые створки Бисетра захлопнулись за ней. Я застыл в оцепенении и только чувствовал, что меня везут, как человек, впавший в летаргический сон, чувствует, что его хоронят заживо, и не может ни пошевелиться, ни крикнуть. Я смутно слышал, как отрывисто звякают связки бубенцов на шее у почтовых лошадей, как колеса грохочут по камням или стукаются об кузов на ухабах, как цокают вокруг повозки копыта жандармских коней, как щелкает бич. Все это сливалось в один вихрь, уносивший меня.
Сквозь прутья окошечка, проделанного напротив меня, я увидел надпись, высеченную крупными буквами над главными воротами Бисетра, и машинально прочел ее: «Убежище для престарелых».
«Вот как, – подумал я, – оказывается, тут люди доживают до старости».
И как бывает в полудремоте, мой мозг, скованный страданием, занялся этой мыслью, стал передумывать ее на все лады. Но тут карета свернула с аллеи на проезжую дорогу, и картина в окошечке изменилась. В нем возникли теперь башни Собора Богоматери, чуть синевшие, полустертые в дымке, окутавшей Париж. И сразу же, механически следуя за движением кареты, изменились мои мысли. Теперь я думал не о Бисетре, а о башнях Собора Богоматери. «Тем, кто заберется на башню, где поднят флаг, будет очень хорошо видно», – сказал я себе, бессмысленно улыбаясь.
Кажется, именно в эту минуту священник опять заговорил со мной. Я терпеливо слушал его. В ушах у меня и без того громыхали колеса, стучали копыта, щелкал бич. А теперь прибавился еще лишний шум, только и всего.
Я молча терпел этот однотонный поток слов, которые усыпляли мой мозг, как журчание фонтана, и скользили мимо меня, как будто бы разные и в то же время одинаковые, подобно искривленным вязам вдоль дороги, как вдруг скрипучий, заикающийся голос судебного пристава вывел меня из забытья.
– Что скажете, господин аббат, что слышно новенького? – почти веселым тоном обратился он к священнику.
Тот сам что-то неумолчно говорил мне и, не расслышав его слов из-за грохота колес, ничего не ответил.
– Вот проклятая таратайка! – во весь голос рявкнул пристав, стараясь заглушить громыхание повозки. В самом деле – проклятая.
– А все ухабы, – продолжал он, – трясет так, что самого себя не слышишь. О чем, бишь, я говорил? Будьте так добры, господин аббат, напомните мне, о чем я говорил? Да, знаете последнюю парижскую новость?
Я вздрогнул всем телом, словно речь шла обо мне.
– Нет, – ответил священник, наконец услышавший его, – я не успел с утра прочесть газеты. Прочитаю вечером. Когда у меня весь день занят, как сегодня, я прошу привратника сохранить мне газеты и, вернувшись, просматриваю их.
– Что вы! Быть не может, чтобы до вас не дошла такая новость! Свежая парижская новость! Тут я вступил в разговор:
– Мне кажется, я знаю ее. Судебный пристав посмотрел на меня.
– Вы? В самом деле! И каково же ваше мнение?
– Вы чересчур любопытны.
– Почему? – возразил судебный пристав. – У каждого свои политические убеждения. Я настолько уважаю вас, что не сомневаюсь – у вас они тоже имеются. Я лично всецело стою за восстановление националы ной гвардии. Я был сержантом в роте, и, право же, приятно вспомнить о тех временах.
– Я думал, что речь идет совсем о другом, – перебил я.
– О чем же еще? Вы говорили, что знаете последнюю новость.
– Я подразумевал другую новость, которая тоже занимает сегодня Париж.
Дурак не понял меня: любопытство его разгорелось.
– Другую? Какой же черт сообщает вам последние новости? Ради бога. скажите, что это за новость? А вы, господин аббат, не знаете? Может быть, вы осведомлены лучше меня? Умоляю вас, поделитесь со мной. Я так люблю новости. Я развлекаю ими господина председателя.
Он еще долго молол что-то в таком роде. И при этом оборачивался то ко мне, то к священнику, а я в ответ только пожимал плечами.
– Скажите на милость, о чем вы задумались? – рассердился он.
– Я задумался о том, что сегодня вечером уже не буду думать, – ответил я.
– Ах, вот о чем! – протянул он. – Полноте, нечего грустить! Господин Кастень – тот все время беседовал.
Помолчав немного, он заговорил опять:
– Господина Папавуана я тоже сопровождал; он был в бобровой шапке и курил сигару. Ларошельские молодые люди, те разговаривали только между собой. А все-таки разговаривали!
Он еще помолчал и начал снова:
– Сумасброды! Фантазеры! Послушать их, так они презирали всех на свете. А вот вы, молодой человек, зря задумываетесь.
– Молодой человек! Нет, я старше вас; каждые уходящие четверть часа старят меня на год, – ответил я.
Он обернулся, несколько минут смотрел на меня с тупым недоумением, потом грубо захохотал.
– Да вы смеетесь! Старше меня! Я вам в дедушки гожусь.
– И не думаю смеяться! – очень серьезно ответил я.
Он открыл табакерку.
– Не надо обижаться, милостивый государь! Угоститесь табачком и не поминайте меня лихом.
– Не бойтесь, долго мне не придется поминать. Протягивая мне табакерку, он наткнулся на разделявшую нас сетку. От толчка табакерка сильно стукнулась о сетку и раскрытой покатилась под ноги жандарму.
– Проклятая сетка! – воскликнул судебный пристав.
И обратился ко мне:
– Подумайте, какая беда! Весь табак растерял.
– Я теряю больше вашего, – с улыбкой ответил я. Он попытался собрать табак, ворча сквозь зубы:
– Больше моего! Легко сказать! До самого Парижа изволь сидеть без табака. Каково это, а?
Тут священник обратился к нему со словами утешения. Не знаю, может быть я плохо слушал, но мне показалось, что он продолжает те же увещевания, которые сначала изливались на меня. Мало-помалу между священником и приставом завязался разговор; я предоставил им говорить свое, а сам думал свои думы.
Когда мы подъезжали к городу, я, хоть и был поглощен своими мыслями, однако заметил, что Париж шумит сильнее обычного. Карета задержалась у заставы. Сборщики городских пошлин заглянули в нее. Если бы на убой везли быка или барана, пришлось бы раскошелиться; но за человеческую голову сборов не платят. Нас пропустили.
Проехав бульвар, повозка быстро покатила старинными кривыми переулками предместья Сен-Марсо и острова Сите, которые извиваются и пересекаются, как бесчисленные ходы в муравейнике. В этих тесных уличках грохот колес по камням раздавался так громко, что шум извне перестал доходить до меня. Когда я взглядывал в квадратное окошечко, мне казалось, что поток прохожих останавливается при виде кареты, а стаи ребятишек бегут за ней следом. Еще мне казалось, будто кое-где не перекрестках стоит оборванец или старуха в лохмотьях, а иногда и оба вместе, и будто они держат стопки печатных листков, из-за которых прохожие дерутся между собой, широко раскрывая рты, – верно, кричат что-то.
В ту минуту, как мы въехали во двор Консьержери, на часах Дворца правосудия пробило половину девятого. При взгляде на широкую лестницу, на мрачную часовню и зловещие сводчатые двери кровь застыла у меня в жилах. Когда карета остановилась, мне показалось, что сердце мое тоже остановится сейчас.
Я собрал все силы; дверца стремительно распахнулась, я выскочил из этой темницы на колесах и между двумя рядами солдат быстрым шагом прошел в ворота. Однако толпа уже успела скопиться на моем пути.
XXIII
Проходя по галереям для публики во Дворце правосудия, я чувствовал себя почти что свободным и независимым, но вся моя бодрость исчезла, как только передо мной открылись низенькие дверцы, потайные лестницы, внутренние переходы, глухие, замкнутые коридоры, куда имеют доступ лишь судьи и осужденные.
Судебный пристав не покидал меня, священник ушел, пообещав вернуться через два часа, – он был занят своими делами.
Меня привели в кабинет смотрителя тюрьмы, которому судебный пристав сдал меня с рук на руки, в порядке обмена. Смотритель попросил его подождать минутку, потому что у них сейчас будет новая «дичь», которую придется немедленно обратным рейсом везти в Бисетр. По всей вероятности, речь шла о том, кого должны приговорить сегодня и кто нынешней ночью будет спать на охапке соломы, которую я не успел до конца обмять.
– Вот и отлично, – сказал пристав смотрителю, – я обожду, и мы заодно составим оба протокола.
Пока что меня поместили в каморку, примыкающую к кабинету смотрителя. Тут меня оставили одного за крепкими запорами.
Не знаю, о чем я думал и сколько времени пробыл так, когда неожиданно громкий взрыв смеха вывел меня из задумчивости.
Я вздрогнул и поднял голову. Оказалось, что я не один. В камере, кроме меня, находился мужчина лет пятидесяти пяти, среднего роста, сгорбленный, морщинистый, с проседью, с бесцветными глазами, глядевшими исподлобья, с гримасой злобного смеха на лице. Весь грязный, полуголый, в лохмотьях, он самым своим видом внушал омерзение. Значит, дверь открыли и снова заперли, втолкнув его; а я ничего не заметил. Если бы смерть пришла так же!
Несколько мгновений мы в упор смотрели друг на друга. Новый пришелец – все с тем же хриплым, похожим на стон, смехом, а я – с удивлением и с испугом.
– Кто вы такой? – наконец спросил я.
– Вот так вопрос! – ответил он. – Как кто? Испеченный!
– Испеченный! Что это значит? От моего вопроса он захохотал еще пуще.
– Это значит, что кат скосит мою сорбонну через шесть недель, как твою чурку через шесть часов, – ответил он сквозь смех. – Эге! Видно, смекнул!
В самом деле, я побледнел, волосы поднялись у меня на голове. Это и был второй смертник, приговоренный сегодня, тот, кого ждали в Бисетре, мой преемник.
Он продолжал:
– Ничего не попишешь! Вот я тебе расскажу мою жизнь. Отец мой был славный маз[13]; жаль, что Шарло[14] не пожалел труда и затянул на нем галстук. Это случилось в те поры, когда милостью божьей царила виселица. В шесть лет я остался круглым сиротой; летом я ходил колесом в пыли, по обочине дороги, чтобы мне бросили медяк из окошка почтовой кареты; зимой шлепал босиком по грязи и дул на пальцы, красные от холода; через прорехи в штанах виднелись голые ляжки. С девяти лет я пустил в дело грабли[15], научился очищать ширманы[16], случалось мне свистнуть и одежу, к десяти годам я стал ловким воришкой. Потом попал в компанию: в семнадцать лет я был уже заправский громила – умел и лавку обчистить и ключ подделать. Меня сцапали и как совершеннолетнего отправили плавать на галерах» Тяжкое дело – каток спишь на голых досках, пьешь чистую воду, ешь черный хлеб, без всякой пользы волочишь за собой тяжеленное ядро – получаешь то солнечный удар, то палочные удары. Вдобавок каторжников бреют наголо, а у меня как на грех были хорошие русые кудри! Как-никак, я свой срок отбыл. Пятнадцать лет – не шутка. Мне минуло тридцать два года, когда я получил подорожную и шестьдесят шесть франков – все, что я заработал за пятнадцать лет каторги, трудясь шестнадцать часов в день, тридцать дней в месяц и двенадцать месяцев в году. Все равно, с этими шестьюдесятью шестью франками я хотел начать честную жизнь, и под моими отрепьями скрывались такие благородные чувства, каких не сыщешь под кабаньей рясой[17]. Вот только треклятый паспорт! Он был желтого цвета, и на нем стояла надпись: каторжник, отбывший срок. Эту штуковину надо было показывать дорогой в каждом городишке, а потом каждую неделю являться с ней к мэру того местечка, где меня водворили на жительство. Недурная аттестация. Каторжник! Я был пугалом – ребятишки бросались от меня врассыпную, двери захлопывались передо мной. Никто не хотел дать мне работу. Шестьдесят шесть франков пришли к концу. Как жить дальше? Я показывал, какие у меня крепкие рабочие руки, а передо мной захлопывали двери. Я предлагал работать за пятнадцать, за десять, за пять су в день. Все напрасно. Что делать? Однажды голод одолел меня. Я разбил локтем витрину булочной и схватил хлеб, а булочник схватил меня. Хлеба мне не дали съесть, зато приговорили к пожизненной каторге и выжгли на плече три буквы. Хочешь – покажу потом. По-судейски это называется рецидив. Значит, стал я обратной кобылкой[18]. Я решил бежать. Для этого нужно было пробуравить три стены и перепилить две цепи, а у меня ничего не было, кроме гвоздя. И я бежал. Вдогонку дали сигнал из пушки; наша братия все равно что римские кардиналы: мы тоже одеты в красное, и когда мы отчаливаем, тоже стреляют из пушек. Однако порох пустили на ветер. На этот раз я ушел без желтого билета, но и без денег. Я встретил товарищей – одни отбыли срок, другие дали тягу. Их главарь предложил мне работать заодно, а работали они ножом на большой дороге. Я согласился и стал убивать, чтобы жить. То на дилижанс нападешь, то на почтовую карету, то на верхового – торговца скотом. Деньги забирали, коня или упряжку отпускали на все четыре стороны, а убитого зарывали под деревом и только смотрели, чтобы не торчали ноги. Потом плясали на могиле, чтобы утоптать землю. Так вот я и состарился – ютился где-нибудь в чащобе, спал под открытым небом, и хоть меня травили и гнали из леса в лес, а все-таки был я вольная птица, сам себе хозяин. Однако же всему приходит конец. В одну прекрасную ночь шнурочники[19] накрыли нас. Фанандели[20] мои скрылись, а я был старше всех и попался в лапы этих самых котов в шляпах с галунами. Меня доставили сюда. Я прошел все ступени, кроме последней. И теперь уж не имело значения, украл ли я носовой платок, или убил человека – разве что мне пришили бы лишний рецидив. Мне осталось только пройти через руки косаря[21]. Дело мое провернули мигом. И правду сказать, стар я уже стал, не годен ни на что путное. Мой отец женился на вдове[22], а я удалюсь в обитель всех скорбящих радости![23] Так-то, брат!
Я был ошеломлен его рассказом. Он захохотал громче прежнего и попытался взять меня за руку. Я в ужасе отпрянул.
– Видно, ты, приятель, не из храбрых, – сказал он: – Смотри, не раскисни перед курносой. Что и говорить, несладко стоять на помосте, да зато недолго! Я бы рад пойти с тобой и показать, как лучше кувырнуться. Да я, ей-богу, не подал бы на кассацию, если бы нас скосили сегодня вместе. Кстати попа позвали бы одного на двоих; с меня хватило бы и твоих объедков. Видишь, какой я покладистый. Ну, отвечай? Согласен? От чистого сердца предлагаю!
Он подошел еще ближе.
– Благодарю вас, – ответил я, отстраняя его.
В ответ – новый взрыв хохота.
– Эге-ге! Ваша милость, видно, из маркизов, не иначе как из маркизов!
– Друг мой, не трогайте меня, мне хочется побыть наедине с самим собой, – прервал я его.
Он сразу притих и задумался, покачивая седой, плешивой головой. Потом почесал ногтями свою волосатую грудь, видневшуюся из-под раскрытой рубахи, и сквозь зубы пробормотал:
– Понятно, тут не без кабана[24] … – После минутного молчания он добавил почти робким тоном: – Послушайте, хоть вы и маркиз, однако же на что вам такой добротный сюртук? Все равно палач заберет его. Лучше отдали бы мне. Я его спущу и куплю себе табаку.
Я снял сюртук и отдал ему. Он обрадовался, как ребенок, и захлопал в ладоши. Но, заметив, что на мне одна рубашка и что я весь дрожу, он сказал:
– Вы замерзли. Вот, наденьте это, иначе промокнете, дождь идет. И потом, в телеге надо иметь приличный вид.
Он снял с себя толстую куртку из серой шерсти и надел на меня. Я не прекословил, но тотчас же поспешил отодвинуться к самой стене. Трудно описать, какие чувства вызывал у меня этот человек. Он рассматривал, мой сюртук и каждую секунду восторженно восклицал:
– Карманы целехоньки! Воротник совсем не потертый! Меньше пятнадцати франков ни за что не возьму. На все шесть недель запасусь табачком! Вот счастье-то!
Дверь опять отворилась. Пришли за нами обоими. За мной – чтобы отвести в комнату, где приговоренные ждут урочного часа, за ним – чтобы отправить в Бисетр. Он встал на свое место посреди конвоя и, смеясь, сказал жандармам:
– Только не ошибитесь. Мы с этим кавалером поменялись шкурами. Смотрите, не прихватите меня вместо него. Но теперь – шалишь! Я не согласен, раз у меня будет табак!
XXIV
Я и не думал отдавать сюртук этому старому разбойнику, он отнял его у меня, а взамен оставил мне свою гнусную куртку. На кого я буду похож в этом рванье?
Вовсе не из беспечности или жалости допустил я, чтобы он взял мой сюртук; нет, попросту он был сильнее. Если бы я отказался, он избил бы меня своими кулачищами.
Еще что – жалость! Злоба клокотала во мне. Я готов был задушить собственными руками, растоптать этого старого вора.
Душа моя полна гнева и горечи. Должно быть, желчь разлилась у меня. Смерть делает злым.
XXV
Меня привели в камеру, где, кроме четырех голых стен, нет ничего, не считая, понятно, бессчетных железных прутьев на окне и бессчетных запоров на двери.
Я потребовал себе стол, стул и письменные принадлежности. Мне все принесли.
Затем я потребовал кровать. Надзиратель поглядел на меня удивленным взглядом, ясно говорившим: «К чему это?»
Тем не менее в углу поставили складную кровать. Но одновременно в этом помещении, которое именуют «моей комнатой», водворился жандарм. Верно, боятся, что я удушу себя тюфяком.
XXVI
Сейчас десять часов.
Бедная моя доченька! Через шесть часов меня не станет! Я превращусь в ту падаль, которую расшвыряют по холодным столам анатомического театра. Здесь будут снимать слепок с головы, там будут вскрывать тело, остатками набьют гроб и все вместе отправят на Кламарское кладбище.
Вот что сделают люди с твоим отцом, а между тем ни один из них не питает ко мне ненависти, все меня жалеют, и все могли бы спасти. А они убьют меня. Понимаешь, Мари? Убьют хладнокровно, по всем правилам, во имя торжества правосудия. Боже правый!
Бедняжечка! Убьют твоего отца, того, кто так любил тебя, кто целовал твою нежную, ароматную шейку, кто без устали перебирал твои пушистые кудри, кто ласкал твое милое личико, кто качал тебя на коленях, а по вечерам складывал твои ручки для молитвы!
Кто приголубит тебя теперь? Кто будет тебя любить? У всех твоих маленьких сверстников будет отец, только не у тебя. Как отвыкнешь ты, детка моя, от новогодних подарков, от красивых игрушек, от сластей и поцелуев? Как отвыкнешь ты, горемычная сиротка, пить и есть досыта?
Ах, если бы присяжные увидели ее, мою милую Мари, они бы поняли, что нельзя убивать отца трехлетней крошки!
А когда она вырастет, если ей суждено выжить, что станется с нею? Парижская чернь запомнит ее отца. И ей, моей дочери, придется краснеть за меня, за мое имя, ее будут презирать, унижать, будут ею гнушаться, из-за меня, из-за меня, любящего ее всей силою, всей нежностью своей души. Любимая моя крошка! Моя Мари! Неужто в самом деле память обо мне будет для тебя постыдна и ненавистна? Какое же преступление совершил я, окаянный, и на какое преступление толкаю общество!
Боже! Неужто правда, что я умру до вечера? Я, вот этот самый я? И глухой гул голосов, доносящийся со двора, и оживленные толпы уже спешащих людей на набережных, и жандармы, которые снаряжаются у себя в казармах, и священник в черной рясе, и человек, чьи руки красны от крови, – все это из-за меня? И умереть должен я! Я, тот я, что находится здесь, живет, движется, дышит, сидит за столом, похожим на любой другой стол в любом другом месте; тот я, наконец, которого я касаюсь и ощущаю, чья одежда ложится такими вот складками!
XXVII
Хотя бы знать, как оно устроено, как умирают под ним! Ужас в том, что я не знаю. Самое название страшно, – не, понимаю, как мог я писать и произносить его.
Эти девять букв будто нарочно подобраны так, чтобы своим видом, своим обликом навести на жестокую мысль; проклятый врач, изобретатель этой штуки, носил поистине роковое имя.
У меня с этим ненавистным словом связано очень неясное и неопределенное, но тем более страшное представление. Каждый слог – точно часть самой машины. И я мысленно без конца строю и разрушаю чудовищное сооружение.
Я боюсь расспрашивать, но не знать, какая она и как это делается, – вдвойне нестерпимо. Говорят, она действует с помощью рычага, а человека кладут на живот. Господи! Голова у меня поседеет, прежде чем ее отрубят!
XXVIII
Однако я как-то мимолетно видел ее.
Я проезжал в карете по Гревской площади часов в одиннадцать утра. Карета вдруг остановилась. Я высунулся в окошко. Толпа запрудила площадь и набережную, весь парапет был занят женщинами и детьми. Над головами виднелся помост из красноватых досок, который сколачивали три человека.
В тот день должны были казнить кого-то, приговоренного к смерти, и для него готовили машину. Я поспешно отвернулся, чтобы не видеть ее.
Возле кареты женщина говорила ребенку:
– Вот погляди! Чтобы нож лучше ходил, они смажут пазы свечным салом.
Этим они, верно, заняты и сейчас. Только что пробило одиннадцать. Должно быть, они смазывают салом пазы.
Нет, сегодня мне, несчастному, не отвернуться.
XXIX
Ах, только бы меня помиловали! Только бы помиловали! Может быть, меня помилуют. Король не гневается на меня. Позовите моего адвоката. Позовите скорее! Я согласен на каторгу. Пусть приговорят к пяти годам или к двадцати, пусть приговорят к пожизненной каторге, пусть заклеймят. Только бы оставили жизнь!
Ведь каторжник тоже ходит, движется, тоже видит солнце.
XXX
Опять пришел священник. Он белый как лунь, приветливый, почтенный и кроткий на вид; он и в самом деле достойный, добросердечный человек. Сегодня утром я видел, как он роздал заключенным все, что у него было в кошельке. Почему же голос его не волнует и в нем не чувствуется волнения? Почему он до сих пор не сказал ни одного слова, которое задело бы за живое мой ум или, сердце?
Сегодня утром я был как потерянный. Я почти не слушал его. И все-таки мне показалось, что он говорит ненужные слова, и они не трогали меня; они скользили мимо, как этот холодный дождь по запотевшему стеклу. Но сейчас его приход подействовал на меня умиротворяюще. Из всех этих людей он один остался для меня человеком, – подумал я. И мне страстно захотелось послушать слова любви и утешения.
Мы сели – он на стул, я на кровать. Он сказал:
– Сын мой…
И сердце мое раскрылось навстречу ему.
– Сын мой, вы веруете в бога? – спросил он.
– Верую, отец мой, – ответил я.
– Веруете вы в святую апостольскую римскую католическую церковь?
– Готов веровать, – ответил я.
– Вы как будто сомневаетесь, сын мой, – заметил он.
И снова заговорил. Он говорил долго; он произнес много слов; потом, решив, что все сказано, он поднялся, впервые с начала своей речи посмотрел на меня и спросил:
– Что же вы мне ответите?
Клянусь, сначала я слушал его жадно, потом внимательно, потом смиренно. Я тоже встал.
– Прошу вас, оставьте меня одного, – сказал я. Он осведомился:
– Когда, мне прийти?
– Я позову вас.
Он вышел, не рассердившись, а только покачав головой, как будто сказал про себя:
– Нечестивец!
Нет, хотя я пал очень низко, однако нечестивцем не стал, бог мне свидетель – я верую в него. Но что сказал мне этот старец? Ничего прочувствованного, выстраданного, выплаканного, исторгнутого из души, ничего, что шло бы от сердца к сердцу, только от него ко мне. Напротив, все было как-то расплывчато, безлично, применимо к кому и к чему угодно, – высокопарно там, где нужна глубина, пошло там, где должно быть просто; словом, чувствительная проповедь или богословская элегия. И на каждом шагу вкраплены латинские изречения из святого Августина, из святого Григория, из кого-то еще. А главное, казалось, он в двадцатый раз повторяет один и тот же урок, настолько затверженный, что смысл его успел стереться. И все это без малейшего выражения во взгляде, без малейшего оттенка в голосе, без малейшего жеста.
Да и как может быть иначе? Ведь он состоит в должности тюремного священника. Его обязанность – утешать и увещевать, он этим живет. Каторжники и смертники входят в круг его красноречия. Он исповедует и напутствует их по долгу службы. Он состарился, провожая людей на смерть. У него давно уже вошло в привычку то, от чего содрогаются другие; волосы его, белые как снег, уже не шевелятся от ужаса, каторга и эшафот – для него вещи обыденные. Его не поразишь ими. Должно быть, у него заведена тетрадка: на одной странице – каторжники, на другой – приговоренные к смерти. Накануне ему сообщают, что завтра в таком-то часу надо утешить кого-то. Он спрашивает кого – каторжника или приговоренного к смерти? И прежде чем идти, прочитывает соответствующую страницу. Таким образом, те, кого отправляют в Тулон, и те, кого отправляют на казнь, стали для него чем-то безличным, а он безразличен им.
Нет, пусть пойдут наугад в первый попавшийся приход за каким-нибудь молодым викарием или стареньким кюре и, застав его врасплох за чтением книги у камелька, скажут ему:
– Есть человек, который должен умереть, и надо, чтобы вы, только вы, сказали ему слова утешения; чтобы вы присутствовали при том, как ему свяжут руки и остригут волосы; чтобы вы, держа в руках распятие, сели с ним в телегу и заслонили от него палача; чтоб вы вместе с ним тряслись по булыжной мостовой до самой Гревской площади; чтобы вы вместе с ним прошли сквозь жестокую, жаждущую крови толпу; что бы вы поцеловали его у подножия эшафота и не уходили, пока голова его не отделится от туловища.
И пусть тогда его приведут ко мне, потрясенного, трепещущего, пусть толкнут меня в его объятия, к его ногам; и он будет плакать, и мы поплачем вместе, и он найдет нужные слова, и я буду утешен, и он сердцем разделит скорбь моего сердца и примет мою душу, а я приму его бога.
А что для меня этот добросердечный старец? Что: я для него? Субъект из породы несчастных, одна из многих теней, прошедших мимо него, единица, которую надо прибавить к числу казненных.
Быть может, я не прав, что отталкиваю его; он-то не плох, плох я сам. Что поделать! Я не виноват. Мое дыхание, дыхание смертника, пятнает и портит все.
Мне принесли еду; верно, решили, что я проголодался. Кушанья все тонкие, изысканные – кажется цыпленок и что-то еще. Я попытался есть, но выплюнул первый же кусок, – таким он мне показался горьким и зловонным!
XXXI
Только что сюда входил господин; он не снял шляпы, даже не взглянул на меня; достав складной фут, он принялся сверху донизу измерять стены, приговаривая вслух: «Тут как надо», или же: «А тут нет».
Я спросил у жандарма, кто он такой. Оказалось, что он состоит чем-то вроде младшего архитектора при тюрьме.
Он в свою очередь заинтересовался мною. Обменявшись несколькими словами с привратником, сопровождавшим его, он на мгновение остановил на мне взгляд, беззаботно тряхнул головой и снова принялся обмерять стены и приговаривать вслух.
Окончив свое дело, он подошел ко мне и произнес зычным голосом:
– Знаете, приятель, через полгода тюрьма будет неузнаваема.
Выразительный жест его при этом говорил: «Жаль, вы ею не воспользуетесь». Еще немного, и он бы улыбнулся. Я ждал, что он того и гляди начнет подтрунивать надо мной, как подтрунивают над новобрачной в свадебный вечер.
Мой жандарм, старый солдат с нашивками, ответил за меня:
– Сударь, в комнате покойника не принято так громко говорить.
Архитектор удалился.
Я же застыл на месте, как те камни, которые он обмерял.
XXXII
Дальше со мной произошел комический случай.
Доброго старика жандарма пришли сменить, а я в своей черствой неблагодарности даже не пожал ему руки. Его место занял другой: низколобый человек с глазами навыкате и глупой физиономией.
Впрочем, я не обратил на него ни малейшего внимания. Я сидел за столом, спиной к двери, и старался охладить лоб ладонью; ум мой мутился от осаждавших меня мыслей.
Но вот меня тихонько тронули за плечо, и я обернулся. Это оказался новый жандарм; мы с ним были одни.
Он обратился ко мне примерно с такими словами:
– Преступник! Вы добрый человек?
– Нет, – сказал я.
Такой прямолинейный ответ, видимо, смутил его. Тем не менее он заговорил опять, менее уверенно:
– Сам по себе никто злым не бывает.
– Почему не бывает? – возразил я. – Если у вас нет ко мне другого дела, оставьте меня в покое. Что вам надобно?
– Уж вы меня простите, господин преступник. Всего два словечка. Скажем, вы можете принести счастье бедному человеку и оно для вас ничего не составит, неужто вы откажетесь?
Я пожал плечами.
– Вы что, из Шарантона явились? Странный источник счастья вы себе присмотрели. Как я могу кому-нибудь принести счастье!
Он понизил голос и принял таинственный вид, совсем не вязавшийся с его глупой физиономией.
– Да, да, преступник, и счастье и богатство. Все ко мне может прийти через вас. Вот послушайте. Я бедный жандарм. Хлопот много, а дохода мало; один конь чего стоит, он у меня собственный. Чтобы свести концы с концами, я ставлю в лотерею. Надо же чем-нибудь промышлять. Все бы ничего, да номера до сих пор выходили не те. Как я ни стараюсь угадать номер, каждый раз попадаю рядом. Ставлю на семьдесят шесть, а выходит семьдесят семь. Уж сколько я на них просадил, а все понапрасну… Потерпите маленечко, я сейчас договорю. Тут ведь случай мне прямо в руки идет. Не в обиду вам будь сказано, преступник, говорят, вы сегодня помрете. А всем доподлинно известно, что покойники, которых таким манером отправляют на тот свет, заранее знают, какой номер выйдет в лотерею. Не сочтите за труд, явитесь мне завтра вечером и назовите три номера, самых верных, ладно? Вам это ничего не стоит. А я привидений не боюсь, на этот счет не сомневайтесь. Вот вам мой адрес: Попенкурские казармы, подъезд А, номер двадцать шесть, в конце коридора. Вы ведь меня в лицо узнаете, правда? Приходите хоть сегодня, если вам так удобнее.
Я бы не стал даже отвечать этому болвану, но безумная надежда вдруг вспыхнула у меня в мозгу. В таком безвыходном положении, как мое, минутами кажется, что можно волоском перетереть цепи.
– Послушай, – сказал я, решив разыграть комедию, насколько это возможно на пороге смерти, – я в самом деле могу сделать тебя богаче короля. Я помогу тебе выиграть миллионы. Но при одном условии…
Он вытаращил глаза.
– На каком? Скажите, на каком? Я рад вам служить, чем прикажете, господин преступник.
– Обещаю назвать тебе не три номера, а целых четыре. Но сперва поменяйся со мной одеждой.
– Если только за этим дело! – воскликнул он и уже принялся расстегивать мундир.
Я встал со стула. Я следил за каждым его движением. Сердце у меня отчаянно билось. Мне уже виделось, как перед жандармским мундиром раскрываются двери, как площадь, и улица, и Дворец правосудия остаются позади!
Но тут он обернулся с видом сомнения.
– А на что вам это? Может, чтобы уйти отсюда? Мне стало ясно, что все погибло. Однако я сделал последнюю попытку, совершенно ненужную и нелепую.
– Ну да, зато твое благополучие обеспечено, – ответил я.
Он меня перебил:
– Э, нет! Постойте! А номера-то мои как же? Чтобы они были верные, вам надо быть покойником.
Я снова сел, еще сильнее подавленный безнадежностью от вспыхнувшей на миг надежды.
XXXIII
Я зажмурил глаза, прикрыл их ладонями и попытался забыться, уйти в прошлое от настоящего. И вот в мечтах одно за другим возникают воспоминания детства и юности, милые, мирные, веселые, точно цветущие островки среди водоворота черных, беспорядочных мыслей, кружащихся у меня в голове.
Видится мне, как я, ребенком, веселым, румяным школьником, вместе с братьями играю и бегаю по большой зеленой аллее запущенного сада, где прошли мои ранние годы; это бывшие монастырские владения, над ними возвышается свинцовая шапка мрачного собора Валь-де-Грас.
Спустя четыре года я снова там, все еще мальчиком, но уже мечтательным и пылким. В пустынном саду со мною вместе девочка-подросток.
Маленькая испаночка с большими глазами и длинными косами, с вишневыми губами и нежным румянцем на золотисто-смуглом личике, четырнадцатилетняя ан– далузка Пепа.
Наши мамы послали нас побегать, а мы чинно гуляем по саду. Нас послали резвиться, а мы беседуем. Мы дети одного возраста, но не одного пола.
А между тем еще год назад мы бегали, боролись Друг с другом. Я старался отнять у Пепиты лучшее яблоко с яблони; я дрался с ней из-за птичьего гнезда. Она плакала, а я говорил: «Так тебе и надо!» Потом мы оба шли жаловаться мамам, и они вслух сердились, а потихоньку умилялись.
Теперь она опирается на мою руку, а я и горд и смущен. Мы ходим медленно, мы разговариваем шепотом. Она роняет платочек, я его поднимаю. Руки у нас вздрагивают, соприкасаясь. Она говорит о птичках, о звездочке, которая мерцает вон там, вдали, об алом закате за стволами деревьев, о пансионских подругах, о платьях и лентах. Мы разговариваем на самые невинные темы и оба при этом краснеем. Девочка превратилась в девушку.
В тот вечер – то был летний вечер – мы гуляли под каштанами в самом конце сада. После долгого молчания, которым теперь были заполнены наши уединенные прогулки, она вдруг выпустила мою руку и сказала: «Бежим наперегонки!».
Как сейчас вижу ее: она была вся в черном, в трауре по бабушке. Ребяческая фантазия пришла ей в голову. Пепа снова стала Пепитой и сказала мне: бежим наперегонки!
И она понеслась вперед: я видел ее тонкий, как у пчелки, стан, стройные ножки, мелькавшие из-под платья, я догонял ее, она убегала; черная пелеринка раздувалась от быстрого бега и обнажала смуглую молодую спину.
Я не помнил себя, я настиг ее у старого развалившегося колодца; по праву победителя я схватил ее за талию и усадил на дерновую скамью; она не противилась; она смеялась, с трудом переводя дух; ане до смеха, я вглядывался в ее черные глаза под завесой черных ресниц.
– Сядьте рядом, – сказала она. – Еще совсем светло, можно почитать. У вас есть какая-нибудь книжка?
Со мной был второй том Путешествий Спалланцани. Я раскрыл его наугад и придвинулся к ней, она оперлась плечом о мое плечо, и мы стали читать вместе, каждый про себя. Всякий раз ей приходилось дожидаться меня, чтобы перевернуть страницу. Ум у нее был быстрее моего.
– Кончили? – спрашивала она, когда я только успевал начать.
А головы наши соприкасались, волосы смешивались, дыхание все сближалось, и вдруг сблизились губы.
Когда мы надумали читать дальше, все небо было в звездах.
– Ах, мама, мамочка! Если бы ты видела, как мы бежали! – говорила она, возвратясь. А я не говорил ни слова.
– Что же ты молчишь? И вид у тебя какой-то понурый, – заметила моя мать.
На душе у меня было как в раю. Этот вечер я буду помнить всю жизнь.
Всю жизнь!
XXXIV
Только что пробили часы. Не знаю сколько раз, – я плохо слышу их бой. В ушах у меня стоял гул как от органа. Это жужжат мои последние мысли.
В торжественные минуты благоговейного паломничества в прошлое я с ужасом наталкиваюсь на свое преступление; но мне кажется, я раскаиваюсь недостаточно. До приговора угрызения совести были сильнее; с тех пор мысли о смерти вытеснили все остальное. А я хотел бы каяться еще и еще.
Я забылся на миг, перебирая все, что было в моей жизни, а когда мысли мои вернулись к удару топором, который сейчас оборвет ее, я содрогнулся, будто узнал об этом впервые. Чудесное мое детство! Чудесная юность! Златотканый ковер, конец которого омочен в крови. Между прошлым и настоящим пролегла река крови – крови его и моей.
Кто бы ни прочел когда-нибудь повесть моей жизни, никто не поверит, чтобы после стольких лет беспорочного счастья мог наступить этот страшный год который начался преступлением и кончается казнью. Он никак не вяжется с остальными годами. Все же – подлые законы и подлые люди, – я не был дурным человеком!
О господи! Умереть через несколько часов, сознавая, что в этот самый день год назад я был свободен и безвинен, совершал прогулки и бродил под деревьями по опавшей осенней листве.
XXXV
Вот сейчас, в эту минуту, совсем рядом со мной, в домах, окружающих Дворец правосудия и Гревскую площадь, и во всем Париже люди приходят и уходят разговаривают и смеются, читают газету, обдумывают свои дела: лавочники торгуют, девушки готовят к вечеру бальные платья, матери играют с детьми!
XXXVI
Как-то в детстве я ходил смотреть большой колокол Собора Богоматери.
Голова кружилась у меня уже от подъема по темной винтовой лестнице, от перехода по хрупкой галерее, соединяющей обе башни, от зрелища Парижа подо мной, когда я очутился в клетке из камня и бревен, где висит большой колокол с языком весом в тысячу фунтов. Весь дрожа, ступал я по плохо пригнанному дощатому полу, издали разглядывая знаменитый колокол, который так славится среди ребят и простого народа; при этом я с ужасом убедился, что покатые шиферные кровли, окружающие колокольню, находятся на уровне моих ног. В просветы я видел, так сказать с птичьего полета, площадь перед собором и прохожих ростом не больше муравьев.
И вдруг гигантский колокол зазвонил, мощный звук потряс воздух, грузная башня дрогнула. Дощатый настил затрясся, заходил ходуном на балках. А я чуть не упал навзничь от внезапного грохота; я покачнулся и еле удержался, чтобы не покатиться по наклонной шиферной кровле. От испуга я лег на доски и крепко обхватил их обеими руками, у меня отнялся язык и перехватило дыхание, а в ушах раздавался оглушительный звон и перед глазами где-то глубоко, как бездна, зияла площадь, по которой с завидной безмятежностью сновали прохожие.
И вот сейчас я будто снова в башне большого колокола. Голова у меня кружится, в глазах темнеет, каждая извилина моего мозга сотрясается, как от колокольного звона; а та ровная мирная стезя жизни, с которой я свернул и по которой совершают свой путь другие люди, виднеется где-то вдали, сквозь расселины бездны.
XXXVII
Парижская ратуша – мрачное здание с островерхой, крутой кровлей, с неожиданно тоненькой колоколенкой, с огромным белым циферблатом, с рядом мелких колонн в каждом этаже, с бесчисленными окнами, с лестницами, истертыми от шагов, с двумя арками направо и налево; недаром на Гревскую площадь обращен ее зловещий, источенный старостью фасад, такой темный, что даже на солнце он не становится светлее.
В дни казней все ее двери ломятся от жандармов, все окна смотрят на приговоренного.
А вечером ее циферблат, показавший урочный час, продолжает светиться на черном фасаде.
XXXVIII
Пробило четверть второго.
Вот что я ощущаю сейчас:
Жестокую головную боль, озноб в спине и жар в висках. Всякий раз, как я встаю или наклоняюсь, мне кажется, будто в голове у меня переливается какая-то жидкость и мозг мой бьется о стенки черепа.
Судорожная дрожь проходит по всему телу, и перо часто выпадает из рук, как от гальванического толчка.
Глаза словно разъедает дым. Локти ломит.
Еще два часа и три четверти, и я буду исцелен.
XXXIX
Говорят, в этом ничего нет страшного, при этом не страдают, это спокойный конец, и смерть таким способом очень облегчена.
А чего стоит шестинедельная агония и целый день предсмертной муки? Чего стоит томление этого невозвратного дня, который тянется так медленно и проходит так быстро? Чего стоит эта лестница пыток, ступень за ступенью приводящая к эшафоту?
По-видимому, это не считается страданием. А неизвестно, что мучительнее – чтобы кровь уходила капля за каплей или чтобы сознание угасало мысль за мыслью.
И откуда у них такая уверенность, что при этом не страдают? Кто это им сказал? Слышал ли кто-нибудь, чтобы отрубленная голова, вся в крови, выглянула из корзины и крикнула в толпу: «Это совсем не больно!»?
Кто из умерших по их рецепту приходил выразить им благодарность и заявить: «Изобретение хоть куда, лучшего не ищите, механизм действует исправно»?
Уж не Робеспьер ли? Или Людовик XVI?
Ничего страшного! Полминуты, нет – полсекунды, и все кончено. А тот, кто так говорит, поставил ли себя даже мысленно на место человека, на которого падает тяжелое лезвие и впивается в тело, разрывает нервы, крушит позвонки?.. Как же! Полсекунды! Боль не чувствуется… Какой ужас!
XL
Непонятно, почему мысль о короле не покидает меня. Как я ни уговариваю себя, как ни отмахиваюсь, внутренний голос непрерывно нашептывает мне:
«В этом же городе, в это же время, недалеко отсюда, в другом дворце находится человек, чьи двери тоже охраняются часовыми, человек, как и ты, не имеющий себе равного в глазах народа с той разницей, что он первый, а ты последний из людей. Каждая минута его жизни полна торжества, величия, упоения и услады. Его окружает любовь, почет, благоговение. В беседе с ним самые громкие голоса становятся тихими и склоняются самые горделивые головы. Взгляд его ласкают золото и атлас. В этот час он, верно, совещается с министрами, и все согласны с его мнением, или же думает о завтрашней охоте, о сегодняшнем бале, не сомневаясь, что празднество состоится вовремя, и возлагая на других заботу об его увеселениях. А ведь он такой же человек, из плоти и крови, как ты! – И чтобы сию минуту рухнул проклятый эшафот, чтобы тебе было возвращено все – жизнь, свобода, состояние, семья, – достаточно, чтобы он вот этим пером начертал под листком бумаги четыре буквы своего имени, достаточно даже, чтобы его карета встретилась с твоей телегой. И он ведь добрый и, может быть, рад бы все сделать, но ничего этого не будет!
XLI
Ну что ж! Соберем все мужество перед лицом смерти и прямо взглянем ей в глаза. Пусть ответит нам, что она такое и чего от нас хочет, со всех сторон рассмотрим эту жестокую мысль, постараемся расшифровать загадку и заранее заглянуть в могилу. Когда глаза мои закроются, я увижу, мне кажется, яркое сияние, бездны света, в которых будет вечно парить мой дух. Небо, мне кажется, засветится само по себе, а звезды будут на нем темными пятнами, не золотыми блестками на черном бархате, как в глазах живых, а черными точками на золотой парче.
Или же мне, окаянному, откроется глубокая, страшная пропасть, со всех сторон окутанная мраком, и я буду вечно падать в нее и видеть, как во мгле шевелятся призраки.
А может быть, после того, как это свершится, я очнусь на плоской сырой поверхности и буду ползать в темноте, вращаясь, как вращается скатившаяся голова. Мне кажется, сильный ветер будет гнать меня и сталкивать с другими катящимися головами. Местами мне будут попадаться болота и ручьи, наполненные неизвестной тепловатой жидкостью, такой же черной, как все кругом. Когда во время вращения глаза мои обратятся вверх, они увидят сумрачное небо, все в тяжелых, низко нависающих тучах, а дальше, в глубине, огромные клубы дыма, чернее самого мрака. Еще увидят они мелькающие во тьме красные точки, которые вблизи обернутся огненными птицами. И это будет длиться вечность. Возможно также, что в памятные даты гревские мертвецы собираются темными зимними ночами на площади, по праву принадлежащей им. К толпе этих бледных окровавленных теней примкну и я. Ночь безлунная, все говорят шепотом. И перед нами снова обветшалый фасад ратуши, ее облупленная крыша и циферблат, который был неумолим ко всем нам. На площади воздвигнута адская гильотина, где черт должен казнить палача. Произойдет это в четыре часа утра, и теперь уж мы будем толпиться вокруг.
Допустим, что так оно и есть. Но если мертвецы возвращаются, в каком же облике возвращаются они? Что они сохраняют от своего урезанного, изувеченного тела? Что предпочитают? Голова или туловище становится призраком?
А что делает смерть с нашей душой? Какой природой наделяет ее? Что берет у нее или придает ей? Куда девает ее? Возвращает ли ей хоть изредка телесные очи, чтобы смотреть на землю и плакать?
О, найдите, найдите мне священника, который знал бы это! Мне нужен священник, мне нужно приложиться к распятию!
Господи, опять тот же самый!
XLII
Я сказал ему, что хочу спать, и бросился на постель.
От сильного прилива крови к голове я и в самом деле уснул. В последний раз я спал таким, а не иным сном.
И мне приснилось, будто сейчас ночь. Будто я сижу в своем кабинете с двумя-тремя друзьями, не помню уж с кем.
Жена легла спать и вместе с собой уложила ребенка.
Мы с друзьями шепотом разговариваем о чем-то страшном.
Вдруг мне слышится шум где-то, в соседних комнатах. Слабый, непонятный, неопределенный шум.
Друзья тоже услышали его. Мы прислушиваемся; кажется, кто-то осторожно открывает замок и потихоньку перепиливает засов.
В этом есть что-то жуткое – мы холодеем от страха. Не иначе как воры забрались ко мне в такой поздний час. Мы решаем пойти посмотреть. Я встаю и беру свечу. Друзья идут за мной следом.
Мы проходим через спальню. Жена и ребенок спят.
Мы в гостиной. Ни души. Портреты неподвижно висят в золоченых рамах на красных обоях. Мне показалось, что дверь из гостиной в столовую приотворена.
Мы входим в столовую; осматриваем ее. Я иду первым. Дверь на лестницу заперта, окна тоже. Подойдя к печке, я заметил, что бельевой шкаф открыт и что его распахнутая дверца заслоняет угол комнаты.
Это меня озадачило. Мы подумали, что за дверцей кто-то прячется.
Я потянул рукой дверцу; она не поддалась. Я удивился и дернул сильнее; дверца захлопнулась, и мы увидели сгорбленную старуху, стоящую неподвижно, с опущенными руками, с закрытыми глазами, словно приклеенную к углу. В этом было что-то невыразимо страшное, волосы и сейчас, при одном воспоминании, встают у меня дыбом.
Я спросил старуху:
– Что вы тут делаете? Она не ответила. Я спросил:
– Кто вы?
Она не ответила, не пошевелилась, не открыла глаз.
Друзья решили:
– Наверно, она сообщница тех, кто пришел сюда с дурными намерениями; остальные, услышав наши шаги, убежали, а она не успела и спряталась в углу.
Я снова принялся допрашивать ее – она не отвечала, не двигалась, не глядела.
Кто-то из нас толкнул ее – она упала.
Она рухнула, как кусок дерева, как безжизненный предмет.
Мы попытались сдвинуть ее ногой, потом двое из нас подняли ее и снова приставили к стене. Она не подавала признаков жизни. Ей кричали прямо в ухо. Она оставалась нема, словно ничего не слышала. Мы уже стали терять терпение, к ужасу примешивалась злоба. Кто-то посоветовал мне:
– Поднесите ей под нос свечу. Я поднес зажженный фитилек к ее лицу. Она полуоткрыла один глаз, тусклый, страшный, незрячий. Я отвел свечу и сказал:
– Ага! Наконец-то! Будешь теперь отвечать, старая колдунья? Кто ты?
Глаз закрылся, будто сам собой.
– Ну это уж наглость! – хором закричали мои друзья. – Давайте, давайте еще свечу! Заставьте ее отвечать!
Я снова поднес свечу к лицу старухи.
И вот она медленно открыла оба глаза, по очереди оглядела нас всех, потом, внезапно нагнувшись, задула свечу, дохнув на нее ледяным дыханием. В ту же секунду три острых зуба в темноте вонзились мне в руку.
Я проснулся, весь дрожа, обливаясь холодным потом.
Добрый священник сидел в ногах моей кровати и читал молитвы.
– Долго я спал? – спросил я.
– Вы проспали час, сын мой, – ответил он. – К вам привели дочку. Она дожидается в соседней комнате. Я не позволил вас будить.
– Моя дочка здесь! – вскричал я. – Приведите ее ко мне.
XLIII
Она такая свеженькая, розовенькая, у нее огромные глаза, она красотка!
На нее надели платьице, которое очень ей к лицу.
Я схватил ее, поднял на руки, посадил к себе на колени, целовал ее головку.
Почему она без мамы? – Мама больна, бабушка тоже больна. Так я и думал.
Она удивленно смотрела на меня и безропотно терпела ласки, объятия, поцелуи, только время от времени с беспокойством поглядывала на свою няню, которая плакала в уголке.
Наконец я нашел в себе силы заговорить.
– Мари! Крошка моя Мари! – прошептал я и крепко прижал ее к груди, из которой рвались рыдания. Она слабо вскрикнула.
– Мне больно, не надо так, дядя, – жалобно сказала она.
Дядя! Бедная детка, она почти год не видела меня. Она забыла мое лицо, интонации голоса; да и как меня узнать, обросшего бородой, бледного, в такой одежде? Значит, она уже не помнит меня! А ведь только в ее памяти мне и хотелось бы жить! Значит, я уже не отец! Мне не суждено больше слышать это слово детского языка, такое нежное, что оно не может перейти в язык взрослых, – слово «папа»!
Только бы еще раз, один раз услышать его из этих уст – вот все, чего я прошу за сорок лет жизни, которые отнимают у меня!
– Ну посмотри же, Мари, разве ты меня не помнишь. – спросил я, соединяя обе ее ручонки в своих руках.
Она подняла на меня прекрасные черные глазки и сказала:
– Совсем не помню!
– Посмотри получше, – настаивал я. – Неужели ты не знаешь, кто я?
– Знаю, вы чужой дядя.
Как это ужасно, когда единственное существо на свете, которое любишь беззаветно, любишь всей силой своей любви, смотрит на тебя, говорит с тобой, отвечает тебе и не узнает тебя! Ты жаждешь утешения только от него, а от него одного скрыто, что ты нуждаешься в утешении, потому что ты должен умереть!
– У тебя есть папа, Мари? – спросил я.
– Есть, – ответила девочка.
– Где же он?
Ее большие глаза удивленно посмотрели на меня.
– А вы разве не знаете? Он умер.
Она опять вскрикнула – я едва не уронил ее.
– Умер! – повторил я. – А ты знаешь. Мари, что значит – умер?
– Знаю, он в земле и на небе. – И добавила от себя: – Я каждое утро и каждый вечер молюсь за него боженьке у мамы на коленях.
Я поцеловал ее в лоб.
– Скажи мне, как ты молишься. Мари.
– Нельзя, дядя. Днем не молятся. Приходите к нам сегодня вечером, тогда я вам скажу молитву. Это было выше моих сил. Я перебил ее:
– Мари, я – твой папа.
– Ну-у! – протянула она. Я настаивал:
– Хочешь, чтобы я был твой папа? Девочка отвернулась.
– Нет, мой папа был красивее. Я осыпал ее поцелуями, облил слезами. Она пыталась высвободиться и кричала:
– У вас борода колючая!
Я снова усадил ее на колени и, не спуская с нее глаз, принялся расспрашивать:
– Ты умеешь читать. Мари?
– Умею, – ответила она. – Мама учит меня читать буквы.
– Ну-ка почитай, – предложил я, показывая на бумагу, которую она комкала в своих ручонках.
Она покачала прелестной головкой.
– Ну нет! Я умею читать только сказки.
– Попробуй. Почитай.
Она развернула бумагу и принялась, водя пальчиком, разбирать по складам:
– П, Р, И, при; Г, О, го; В, О, Р, вор – приговор…
Я вырвал у нее бумажку. Она читала мой смертный Я приговор. Нянька купила его за медяк. Мне-то он стоил дороже.
Словами не выразишь, что я испытывал. Мое резкое движение испугало Мари; она чуть не расплакалась и вдруг потребовала:
– Не трогайте бумагу, слышите! Это моя игрушка.
Я передал девочку няньке.
– Унесите ее.
А сам, опустошенный, полный мрачного отчаяния, снова упал на стул. Пусть скорее приходят; я больше ничем не дорожу; последняя нить, связывавшая меня с жизнью, порвана. Я готов к тому, что со мной собираются сделать.
XLIV
Священник – добрый человек, жандарм тоже. Кажется, они пролили слезу, когда я велел унести моего ребенка.
С этим покончено. Теперь мне надо собрать все душевные силы и заставить себя спокойно думать о палаче, о телеге, о жандармах, о зеваках на мосту, о зеваках на набережной, о зеваках у окон и о том, что воздвигнуто в мою честь на зловещей Гревской площади, которую можно вымостить головами, скатившимися на ней.
Кажется, у меня остался еще час, чтобы освоиться с этими мыслями.
XLV
Все эти толпы будут смеяться, хлопать в ладоши, ликовать. А среди стольких людей, свободных и незнакомых тюремщикам, с восторгом бегущих смотреть на казнь, среди этого моря голов, которое затопит площадь, не одной голове предопределено рано или поздно последовать за моей в кровавую корзину. Не один из тех, что пришел ради меня, придет сюда ради самого себя.
Для этих отмеченных роком людей есть на Гревской площади роковая точка, центр притяжения, ловушка. Они кружат вокруг, пока не попадут в нее.
XLVI
Крошка моя Мари! Она возвращается к своим забавам. Из окна фиакра она смотрит на толпу и уже совсем не думает о чужом дяде.
Может быть, я успею написать несколько страничек для нее, чтобы она прочла их в свое время и через пятнадцать лет оплакала то, над чем не плакала сегодня.
Да, она от меня должна узнать мою историю, должна знать, почему имя, которое я завещаю ей, запятнано кровью.
XLVII
Моя история
Примечание издателя. До сих пор не удалось отыскать соответствующие страницы. По-видимому, как можно заключить из последующих, приговоренный не успел их написать. Эта мысль возникла у него слишком поздно.
XLVIII
Из комнаты в ратуше
Из ратуши!.. Итак, я здесь. Страшный путь пройден. Площадь там, внизу, и ненавистная толпа под окном вопит и ждет меня и хохочет.
Как ни старался я быть стойким и неуязвимым, силы мне изменили. Когда я увидел поверх голов, между двумя фонарями набережной, эти поднятые кверху красные руки с черным треугольников конце, силы мне изменили. Я попросил, чтобы мне дали возможность сделать последнее заявление. Меня отвели сюда и послали за одним из королевских прокуроров. Я жду его; как-никак – выигрыш времени.
Вот как это было.
Пробило три часа, и мне пришли сказать, что пора. Я задрожал так, словно последние шесть часов, шесть недель, шесть месяцев думал о чем-то другом. Меня это поразило как нечто неожиданное. Они заставили мен идти по их коридорам, спускаться по их лестницам. Они втолкнули меня через одну, потом вторую дверцу нижнего этажа в мрачное сводчатое тесное помещение, куда едва проникал свет дождливого, туманного дня. Посередине был поставлен стул. Мне велели сесть; я сел.
Возле двери и у стен стояли какие-то люди, кроме священника и жандармов, и еще в комнате находилось трое мужчин.
Первый, краснощекий, толстый, выше и старше остальных, был одет в сюртук и продавленную треуголку. Это был он.
Это был палач, слуга гильотины, а двое других его слуги.
Едва я сел, как те двое по-кошачьи подкрались мне сзади; я внезапно почувствовал холод стали в волосах и услышал лязганье ножниц.
Волосы мои, обстриженные кое-как, прядями падали мне на плечи, а мужчина в треуголке бережно смахивал их своей ручищей.
Кругом переговаривались вполголоса.
Снаружи слышался глухой гул, словно набегавший волнами. Я было подумал, что это река; но по взрывам смеха понял, что это толпа.
Молодой человек у окна, что-то отмечавший карандашом в записной книжке, спросил у одного из тюремщиков, как называется то, что происходит.
– Туалет, приговоренного. – ответил тюремщик.
Я понял, что завтра это будет описано в газетах.
Вдруг один из подручных стащил с меня куртку, а другой взял мои опущенные руки, отвел их за спину, я почувствовал, как вокруг моих запястий обвивается веревка. Тем временем второй снимал с меня галстук. Батистовая сорочка, – единственный клочок, уцелевший от того, кем я был прежде, – на миг привела его в замешательство; потом он принялся срезать с нее ворот.
От этой жуткой предусмотрительности, от прикосновения к шее холодной стали локти мои дернулись и приглушенный вопль вырвался у меня. Рука палача дрогнула.
– Простите, сударь! – сказал он. – Неужели я задел вас?
Палачи – люди обходительные.
А толпа снаружи ревела все громче.
Толстяк с прыщавым лицом предложил мне понюхать платок, смоченный уксусом.
– Благодарю вас, я чувствую себя хорошо, – ответил я, стараясь говорить твердым голосом.
Тогда один из подручных нагнулся и надел мне на ноги петлю из тонкой бечевки, стянув ее настолько, чтобы я мог делать мелкие шажки. Конец этой веревки он соединил с той, которой были связаны руки. Потом толстяк накинул мне на плечи куртку и связал рукава у подбородка.
Все, что полагалось сделать, было пока что сделано.
Тут ко мне приблизился священник с распятием.
– Идемте, сын мой, – сказал он.
Помощники палача подхватили меня под мышки. Я встал и пошел. Ноги у меня были как ватные и подгибались, словно в каждой было два колена.
В этот миг наружная дверь распахнулась. Бешеный рев, холодный воздух и дневной свет хлынули ко мне. Из-под темного свода я, сквозь сетку дождя, сразу увидел все: тысячеголовую орущую толпу, запрудившую большую лестницу Дворца правосудия; направо, в уровень со входом, ряд конных жандармов, – низенькая дверца позволяла мне видеть только лошадиные ноги и груди; напротив – взвод солдат в боевом порядке; налево – задняя стенка телеги с приставленной к ней крутой лесенкой. Страшная картина, и тюремная дверь была для нее достойной рамой.
Этой минуты я боялся и для нее берег все свои силы. Я прошел три шага и появился на пороге.
– Вот он! Вот! Выходит! Наконец-то! – завопила толпа.
И те, кто был поближе, захлопали в ладоши. При всей любви к королю его бы не встретили так восторженно.
Телега была самая обыкновенная, запряженная чахлой клячей, а на вознице был синий в красных разводах фартук, какие носят огородники в окрестностях Бисетра.
Толстяк в треуголке взошел первым.
– Здравствуйте, господин Сансон! – кричали ребятишки, взгромоздившиеся на решетку. За ним последовал один из подручных.
– Здорово, Вторник! – опять закричали ребятишки.
Оба они сели на переднюю скамейку.
Наступил мой черед. Я взошел довольно твердой поступью.
– Молодцом держится! – заметила женщина, стоявшая около жандармов.
Эта жестокая похвала придала мне силы. Священник сел рядом со мной. Меня посадили на заднюю скамейку, спиной к лошади. Такая заботливость привела меня в содрогание.
Они и здесь стараются щегольнуть человеколюбием. Мне захотелось посмотреть, что делается кругом. Жандармы впереди, жандармы позади, а дальше толпы, толпы и толпы; одни сплошные головы на площади.
Пикет конной жандармерии ожидал меня у ограды Дворца правосудия. Офицер скомандовал. Телега вместе с конвоем тронулась в путь, вой черни как будто подталкивал ее.
Мы выехали из ворот. В ту минуту, когда телега свернула к мосту Менял, площадь разразилась криками от мостовой до крыш, а набережные и мосты откликнулись так, что, казалось, вот-вот сотрясется земля.
На этом повороте конный пикет присоединился к конвою.
– Шапки долой! Шапки долой! – кричали тысячи голосов. Прямо как для короля.
Тут и я рассмеялся горьким смехом и сказал священнику:
– С них – шапки, с меня – голову.
Телега ехала шагом.
Набережная Цветов благоухала – сегодня базарный день. Продавщицы ради меня побросали свои букеты.
Напротив, немного подальше квадратной башни, образующей угол Дворца правосудия, расположены кабачки; верхние помещения их были заполнены счастливцами, получившими такие хорошие места. Особенно много было женщин. У кабатчиков сегодня удачный день.
Люди платили за столы, за стулья, за доски, за тележки. Все кругом ломилось от зрителей. Торговцы человеческой кровью кричали во всю глотку:
– Кому место?
Злоба против этой толпы овладела мной. Мне захотелось крикнуть:
– Кому уступить мое?
А телега все подвигалась. Позади нас толпа рассеивалась, и я помутившимся взглядом смотрел, как она собирается снова на дальнейших этапах моего пути.
При въезде на мост Менял я случайно посмотрел направо и на противоположном берегу заметил над домами черную башню, которая стояла одиноко, ощетинясь скульптурными украшениями, а на верхушке ее мне были видны в профиль два каменных чудовища. Сам не знаю, почему я спросил у священника, что это за башня.
– Святого Якова-на-Бойнях, – ответил вместо него палач.
Не могу постичь, каким образом, несмотря на туман и частый мутный дождь, заволакивавший воздух точно сеткой паутины, до мельчайших подробностей видел все, что происходило вокруг. И каждая подробность была мучительна по-своему. Есть переживания, для которых не хватает слов.
Около середины моста Менял, настолько запруженного толпой, что при всей его ширине мы едва плелись, мною овладел безудержный ужас. Я испугался, что упаду в обморок, – последний проблеск тщеславия! И постарался забыться, ни на что не смотреть, ни к чему не прислушиваться, кроме слов священника, которые едва долетали до меня сквозь шум и крик.
Я потянулся к распятию и приложился.
– Господи, смилуйся надо мной! – прошептал я, стараясь углубиться в молитву.
Но от каждого толчка телеги меня встряхивало на жестком сиденье. Потом вдруг я ощутил пронизывающий холод, одежда промокла на мне насквозь, дождь поливал мою остриженную голову.
– Вы дрожите от холода, сын мой? – спросил священник.
– Да, – ответил я.
Увы! Я дрожал не только от холода. Когда мы свернули с моста, какие-то женщины пожалели мою молодость.
Мы выехали на роковую набережную. Я уже почти ничего не видел и не слышал. Беспрерывные крики, бесчисленные головы в окнах, в дверях, на порогах лавок, на фонарных столбах, жестокое любопытство зевак; толпа, в которой все меня знают, а я не знаю никого; человеческие лица подо мной и вокруг меня. Я был как пьяный, как безумный, я застыл как в столбняке. Нестерпимое бремя – столько упорных, неотступных взглядов.
Я трясся на скамейке, не замечая ни священника, ни распятия.
В окружающем меня шуме я не отличал уже возгласов жалости от возгласов злорадства, смеха – от вздохов, слов – от гама; все сливалось в общий гул, от которого голова у меня гудела, как медный инструмент.
Я бессознательно пробегал глазами вывески на лавках.
Один раз странное любопытство побудило меня обернуться и посмотреть на то, к чему я приближался. Это было последнее дерзание рассудка. Но тело не повиновалось, шея у меня точно окостенела, точно отмерла заранее.
Мне только удалось увидеть сбоку, слева на том берегу одну из башен Собора Богоматери, ту, на которой флаг, – вторая скрыта за ней. Там было много народа – оттуда, верно, все видно.
А телега все подвигалась и подвигалась, лавки проплывали мимо, вывески, писаные, рисованные, золоченые, сменяли одна другую, чернь зубоскалила и топталась в грязи, и я подчинялся всему, как спящие – воле сновидения.
Вдруг ряд лавок, по которому я скользил взглядом, оборвался на углу какой-то площади; рев толпы стал еще громче, пронзительнее, восторженнее; телега неожиданно остановилась, и я едва не упал ничком на дно. Священник удержал меня.
– Мужайтесь! – шепнул он.
К задней стенке телеги приставили лесенку; священник помог мне, я спустился, сделал шаг, повернулся, чтобы сделать второй, и не мог. Между двумя фонарями набережной я увидел страшную штуку.
Нет, это был не сон!
Я зашатался, словно мне уже нанесли удар.
– Мне надо сделать последнее заявление, – слабым голосом выкрикнул я.
Меня привели сюда.
Я попросил, чтобы мне разрешили написать мою последнюю волю. Мне развязали руки, но веревка тут; наготове, как и остальное там, внизу.
XLIX
Какое-то должностное лицо, не то судья, не то пристав, только что приходил ко мне. Я просил у него помилования, сложив руки, как на молитве, и ползая перед ним на коленях. А он с саркастической усмешкой заметил, что ради этого не стоило его звать.
– Добейтесь, добейтесь помилования! – твердил я. – Или, ради Христа, подождите хоть пять минут!
Кто знает? Помилование еще может прийти! Слишком страшно так умирать в мои годы! Не раз случалось, что помилование приходило в последнюю минуту. А кого ж и миловать, сударь, если не меня?
Безжалостный палач! Он подошел к судье и сказал, что казнь должна состояться в определенный час и час этот приближается, что он отвечает за все, а вдобавок идет дождь и механизм может заржаветь.
– Ради Христа, подождите еще минутку, пока придет помилование, а то я не дамся, я буду кусаться!
Судья и палач вышли. Я один – один с двумя жандармами.
О эта гнусная чернь! Она воет, как гиена. А вдруг я ускользну от нее? Вдруг я буду спасен? Помилован?.. Не могут меня не помиловать!
Проклятые! Я слышу на лестнице их шаги…
Четыре часа.
1829 г.
Примечания
1
Ужас перед кровью (лат.).
(обратно)2
Склонив голову, испустил дух (лат.).
(обратно)3
«На реках Вавилонских» (лат.) – начальные слова 136-го псалма.
(обратно)4
«Мать скорбящая стояла» (лат.) – начальные слова католического гимна.
(обратно)5
В наши намерения не входит огульно осмеивать все, что говорилось по этому поводу в палате. Кое-кем были сказаны прекрасные, поистине благородные слова. Мы вместе со всеми рукоплескали строгой, простой речи г-на де Лафайета и построенной совершенно в ином роде блистательной импровизации г-на Вильмена. (Прим. автора.).
(обратно)6
Потому что священный собор надеется на обращение еретиков (лат.).
(обратно)7
Лапорт говорит, что двадцать два, но Обери утверждает, что тридцать четыре. Де Шале кричал до двадцатого удара. (Прим. автора.)
(обратно)8
«Учитесь блюсти справедливость» (лат.) – 620-й стих 6-й песни «Энеиды» Вергилия: «Не презирайте богов и учитесь блюсти справедливость!».
(обратно)9
«Парламент» о. Таити только что отменил смертную казнь. (Прим. автора.)
(обратно)10
Мы сочли нужным напечатать здесь нижеследующее вступление в форме диалога, которое предшествовало четвертому изданию Последнего дня приговоренного к смерти. Читая его, следует помнить, какими возражениями политического, нравственного и литературного порядка были встречены первые издания этой книги. (Примечание к изданию 1832 г.)
(обратно)11
«Что ни начнет говорить, все выходило стихом» (лат.). Г-жа де Бленваль перефразирует стих из автобиографии Овидия, говорящего о себе (Овидий, «Скорби», кн. 4, элегия 10, стр. 26):
Что ни начну я писать, все выходило стихом. Et quod tentabam scribere versus erat. (обратно)12
Перевод Павла Антокольского.
(обратно)13
Вор. (Прим. автора.)
(обратно)14
Палач. (Прим. автора.)
(обратно)15
Руки. (Прим. автора.)
(обратно)16
Карманы. (Прим. автора.)
(обратно)17
Рясой священника. (Прим. автора.)
(обратно)18
Снова отправлен на каторгу. (Прим. автора.)
(обратно)19
Жандармы. (Прим. автора.)
(обратно)20
Товарищи. (Прим. автора.)
(обратно)21
Палача. (Прим. автора.)
(обратно)22
Был повешен. (Прим. автора.)
(обратно)23
На гильотину. (Прим. автора.)
(обратно)24
Священника. (Прим. автора.)
(обратно)

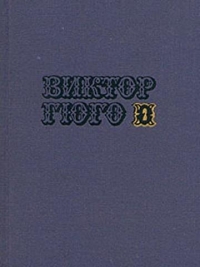

Комментарии к книге «Последний день приговоренного к смерти», Виктор Гюго
Всего 0 комментариев