Андре Жид Имморалист
ПРЕДИСЛОВИЕ
Выдаю эту книгу за то, что она есть. Это плод, полный горького пепла; она подобна колоквинтам пустыни, которые растут на сожженной почве и лишь сильнее разжигают жажду, но на золотых песках не лишены красоты.
Если бы я вздумал выдать своего героя за образец, надо было бы признать, что это мне плохо удалось; те немногие, которые заинтересовались историей Мишеля, возненавидели его всей силой своей доброты. Я недаром украсил Марселину столькими добродетелями; Мишелю не могли простить, что он не предпочел ее себе.
Если бы я вздумал выдать эту книгу за обвинительный акт против Мишеля, это мне удалось бы не лучше, так как никто не почувствовал ко мне благодарности за негодование, которое вызывал к себе мой герой; кажется, что это негодование испытывали вопреки моему намерению; с Мишеля оно переливалось на меня; еще немного – и меня смешали бы с ним.
Но я не хотел делать эту книгу ни обвинительным актом, ни похвальным словом – и воздержался от суда. Теперь публика уже больше не прощает автору, если он, описав какой-нибудь поступок, не высказывается ни за, ни против него; даже больше – хотели бы, чтобы в течение самой драмы он стал на чью-либо сторону, определенно высказался бы за Альцеста или Филинта, за Гамлета или Офелию, Фауста или Маргариту, Адама или Иегову. Разумеется, я не утверждаю, что нейтральность (я чуть было не сказал: нерешительность) есть знак великого ума; но я думаю, что многие великие умы испытывали отвращение к… выводам и что правильно поставить проблему не значит считать ее заранее разрешенной.
Я против желания употребляю слово «проблема». По правде сказать, в искусстве нет проблем, достаточным разрешением которых не было бы само произведение искусства.
Если под словом «проблема» подразумевать «драму», я скажу, что драма, которая описывается в этой книге, несмотря на то, что она разыгрывается в душе моего героя, достаточно обща, чтобы не оставаться замкнутой в единичной истории Мишеля. Я не притязаю на изобретение этой «проблемы»; она существовала до моей книги, и, торжествует или гибнет Мишель, «проблема» продолжает существовать, и автор не приписывает себе ни торжества, ни поражения.
Если некоторые тонкие умы усмотрели в этой драме только описание странного случая, а в герое только больного человека; если они не признали, что несколько очень насущных и общеинтересных мыслей могут заключаться в ней, – в этом не виноваты ни мысли, ни драмы, но лишь сам автор, то есть его неловкость – несмотря на то, что он вложил в эту книгу всю свою страсть, все слезы и все старания. Но реальная значительность произведения и интерес к нему публики нынешнего дня – вещи совершенно различные. И я думаю, что без особенного самомнения можно предпочесть опасность в первый день не заинтересовать вещами, воистину интересными, – тому, чтобы привести в кратковременный восторг публику, лакомую до безвкусицы.
В общем, я не пытался ничего доказать, а лишь хорошо живописать и правильно освещать свою живопись.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
(Господину Председателю Совета Д. Р.)
Сиди б. М. 30 июля 189…
Да, ты конечно и сам об этом догадался: Мишель говорил с нами, дорогой брат. Вот его рассказ. Ты просил меня его сообщить, и я обещал; но в эту минуту, когда я должен его отправить тебе, я еще колеблюсь, и чем больше я его перечитываю, тем ужаснее он мне кажется. Ах, что ты подумаешь о нашем друге. А что я сам о нем подумал?.. Просто ли мы осудим его, отрицая, что можно направить к добру свойства, которые проявляются в зле?.. Но я боюсь, что в наши дни найдется немало людей, способных узнать себя в этом рассказе. Можно ли изобрести применение такому уму и силе, или надо просто отказать всему этому в правах гражданства.
Как Мишель может служить государству? Признаюсь, что не знаю как… Ему нужно найти какое-нибудь занятие. Высокое положение, которого ты добился, благодаря твоим большим заслугам, власть, которой ты обладаешь, поможет ли тебе найти это занятие? Торопись. Мишель преданный человек, он еще пока преданный; скоро он будет предан одному себе.
Я пишу тебе под совершенно лазоревым небом; за двенадцать дней, что Дени, Даниэль и я здесь, не было ни одного облака, ни разу солнце не ослабевало; Мишель говорит, что небо чисто вот уже два месяца.
Я не грустен и не весел; здешний воздух наполняет смутным восторгом и приводит в состояние, которое кажется столь же далеким от веселья, как от печали; быть может, это счастье.
Мы здесь подле Мишеля: мы не хотим оставлять его; ты поймешь, почему, если захочешь прочитать эти страницы; здесь, в его доме, мы будем ждать ответа от тебя; не задерживай его.
Ты знаешь, какая глубокая школьная дружба, с каждым годом все растущая, связала Мишеля с Дени, с Даниэлем, со мной. Между нами четырьмя было заключено нечто вроде договора: на первый зов одного должны откликнуться трое остальных. И вот, когда я получил от Мишеля таинственный призыв, я тотчас сообщил о нем Даниэлю и Дени, и мы трое, все бросив, уехали.
Мы не видали Мишеля уже три года. Он женился, увез свою жену путешествовать, и во время его последнего пребывания в Париже Дени был в Греции, Даниэль в России, а я, как ты знаешь, возле нашего больного отца. Однако мы имели о нем вести; но то, что нам рассказали Силас и Билль, не могло не удивить нас. В нем произошла какая-то перемена, которую мы не могли еще себе уяснить. Это уже больше не был прежний ученый пуританин, с жестами неловкими, до того они были убежденные, с таким ясным взором, что перед ним часто замолкали наши слишком вольные разговоры. Это был… но зачем указывать на то, что ты узнаешь из его рассказа.
Я посылаю тебе этот рассказ в том виде, в каком Дени, Даниэль и я его услышали. Мишель говорил на террасе, где мы лежали около него в тени, при свете звезд. Когда рассказ подходил к концу, мы увидели восходящее солнце над равниной. Дом Мишеля возвышается над ней, так же как и деревня, от которой он находится недалеко. В жару, когда вся трава скошена, эта равнина похожа на пустыню.
Дом Мишеля, хотя и беден и причудлив, но очарователен. Зимой в нем пришлось бы страдать от холода, так как в окнах нет стекол или, вернее, совсем нет окон, а лишь громадные дыры в стенах. Так тепло, что мы спим на воздухе, на циновках.
Я должен тебе еще сказать, что доехали мы хорошо. Мы добрались сюда вечером, изнемогающие от жары, опьяненные новизной, так как мы едва остановились в Алжире, потом в Константине. В Константине мы пересели на новый поезд, в котором доехали до Сидиб. М., где ожидала нас тележка. Проезжая дорога прекращается далеко от деревни. Деревня торчит на вершине скалы, как некоторые умбрийские городки. Мы поднялись пешком; наши чемоданы были нагружены на двух мулов. Когда к деревне подходишь этим путем, дом Мишеля оказывается первым. Его окружает сад, замкнутый со всех сторон низкой стеной, вернее, просто двор, в котором растут три раскидистых гранатовых дерева и великолепный розовый олеандр. Там находился мальчик-кабил, который убежал при нашем приближении: он без стеснения перелез через стену.
Мишель принял нас, не выражая радости; он был очень прост и, казалось, боялся всякого проявления нежности; но на пороге он серьезно поцеловал каждого из нас троих.
До вечера мы не обменялись и десятью словами. Очень скромный обед был подан в гостиной, удивившей нас своим роскошным убранством, но эту роскошь объяснит тебе рассказ Мишеля. Потом он угостил нас кофе, позаботившись сам о его приготовлении. Потом мы поднялись на террасу, откуда открывался бесконечный вид, и все трое, подобно друзьям Иова, стали ждать, любуясь быстрым закатом над равниной в огне.
Когда наступила тишина, Мишель заговорил:
– Дорогие друзья, я знал, что вы верны. Вы пришли на мой призыв так же, как я пришел бы на ваш. Однако вот уже три года, как вы не видели меня. Если бы ваша дружба, столь стойкая в разлуке, устояла так же хорошо перед рассказом, который вы услышите! Ведь, если я вас так внезапно позвал и заставил ехать до моего далекого дома, это только для того, чтобы видеть вас, и для того, чтобы вы могли выслушать меня. Я не хочу иной помощи, кроме того, чтоб говорить с вами. Я дошел до такого предела моей жизни, который я не могу переступить. Это не усталость. Но я больше не понимаю. Мне нужно… Мне нужно говорить, как я вам сказал. Уметь освободиться, это – ничто, трудно уметь быть свободным. Позвольте мне говорить о себе; я расскажу вам мою жизнь, просто, без скромности и тщеславия, проще, чем если бы я говорил с самим собой. Слушайте:
Последний раз, когда мы виделись, это было, я помню, в окрестностях Анжера, в маленькой деревенской церкви, на моей свадьбе. Народу было много, и то, что это были исключительно друзья, превращало этот банальный обряд в обряд трогательный.
Мне казалось, что друзья были взволнованы, и это меня тоже волновало. В доме той, которая становилась моей женой, мы с вами соединились при выходе из церкви за краткой трапезой без смеха и шуток; потом заказанный экипаж увез нас, согласно обычаю, по которому наш ум всегда связывает представление о свадьбе с образом вокзала.
Я очень мало знал свою жену и думал, не очень страдая от этого, что она меня знает не больше. Я женился на ней без любви и, главным образом, – чтобы угодить моему отцу, беспокоившемуся перед смертью, что он оставляет меня одного. Я нежно любил своего отца; во время его агонии, в эти печальные минуты я думал только о том, чтобы облегчить его конец: таким образом, я связал свою жизнь, не зная, что такое жизнь. Наша помолвка у изголовья умирающего была не весела, но не лишена торжественной радости – до того велик был мир, обретенный благодаря этой помолвке моим отцом. Если я не любил, как я сказал вам, мою невесту, я, во всяком случае, никогда не любил никакой другой женщины. В моих глазах этого было достаточно, чтобы построить наше счастье, и, не зная еще самого себя, я думал, что весь отдаю себя ей. Она была тоже сиротой и жила со своими двумя братьями. Ее звали Марселиной, ей едва минуло двадцать лет; я был на четыре года старше ее.
Я сказал, что я не любил ее – я не испытывал к ней ничего из того, что называется любовью, но если называть любовью нежность, что-то вроде жалости и, наконец, некоторое уважение – я любил ее. Она была католичкой, а я протестантом… но я считал себя протестантом в такой малой степени!.. Священник согласился обвенчать меня, и я не возражал: все обошлось гладко.
Мой отец был тем, кто называется «атеистом» – по крайней мере, я предполагаю это, так как по непреодолимой стыдливости, которую, кажется, он разделял, я никогда не мог говорить с ним о его верованиях. Серьезное гугенотское воспитание, данное мне моей матерью, медленно стиралось в моем сердце вместе с ее прекрасным образом: вы знаете, что я рано потерял ее. Я еще не подозревал, насколько овладевает нами эта детская мораль и какие борозды она оставляет в душе. Некую суровость, которую привила мне моя мать, внушая свои принципы, я перенес целиком на ученье. Мне было пятнадцать лет, когда она умерла; отец стал заниматься мною, заботиться обо мне и вложил всю свою страсть в мое образование. Я уже хорошо знал греческий язык и латынь; с ним я научился древнееврейскому, санскриту, персидскому и арабскому языкам. Когда мне минуло двадцать лет, я был настолько натаскан, что он решил приобщить меня к своей работе. Его забавляло обращаться со мной, как с равным, и он захотел доказать мне это равенство. "Опыт о фригийских культах", появившийся под его именем, был моим произведением; он его лишь слегка проредактировал; никогда за прежние работы его столько не хвалили. Он был в восторге. Я же был смущен, видя удачу этого обмана. Но с этого момента я вошел в этот круг. Самые ученые профессора обращались со мной, как с коллегой. Я улыбаюсь, теперь вспоминая о всех почестях, которые мне воздавали… Таким образом, я достиг двадцати пяти лет, почти ничего не видав, кроме развалин, и почти ничего не зная о жизни. К работе у меня было необычайное усердие. Я любил нескольких друзей (вы были в числе их), но я более любил самое дружбу, чем друзей; моя привязанность к ним была велика, но это была лишь потребность благородства; я дорожил каждым своим прекрасным чувством. Впрочем, я так же не знал своих друзей, как не знал самого себя. Ни на одно мгновение мысль не приходила мне в голову, что я мог бы вести другой образ жизни или что вообще можно жить иначе.
Мой отец и я довольствовались очень простой жизнью; мы оба так мало тратили, что я достиг двадцати пяти лет, не зная, что мы богаты. Я воображал, не думая об этом часто, что наших средств нам едва хватает на жизнь, и, живя с отцом, я приобрел столь экономные привычки, что почти испытал стеснение, когда понял, что мы обладаем гораздо большим состоянием. Я до того невнимательно относился к этим вопросам, что уяснил себе более или менее точно размеры своего состояния даже не после смерти моего отца, единственным наследником которого я был, а лишь при подписании брачного договора; и одновременно с этим я узнал, что Марселина не принесла мне почти ничего в приданое.
Была еще одна вещь, быть может, еще более важная, которой я не знал: у меня было очень слабое здоровье. Как я мог бы знать это, никогда не подвергая себя испытанию? Время от времени у меня бывали насморки, к которым я относился небрежно. Слишком спокойный образ жизни, который я вел, ослаблял меня и в то же время предохранял. Марселина, напротив, казалась здоровой, – а что она была здоровее меня, мы в этом вскоре должны были убедиться.
В день нашей свадьбы мы уже ночевали в Париже, в моей квартире, где нам приготовили две комнаты. Мы пробыли в Париже лишь столько, сколько было необходимо для покупок, затем отправились в Марсель, где тотчас сели на пароход, отплывавший в Тунис.
Торопливые хлопоты, суматоха последних, слишком стремительных событий, неизбежное свадебное волнение, последовавшее столь быстро за более настоящим волнением моей потери, – все это меня обессилило. Только на пароходе почувствовал я усталость. До тех пор всякое занятие, увеличивая ее, отвлекало меня от нее… Вынужденный пароходный досуг позволил мне, наконец, подумать. Мне казалось, что это случилось в первый раз.
Также в первый раз я согласился надолго оторваться от своей работы. До тех пор я разрешал себе лишь краткие каникулы. Правда, путешествие в Испанию с отцом вскоре после смерти моей матери продолжалось более месяца, другое путешествие, в Германию, – шесть недель; были еще другие поездки – но уже чисто научного характера. Отец при этом не отвлекался от своих весьма точных изысканий; я же, если не принимал в них участия, читал. И все же, как только мы покинули Марсель, передо мной встали различные воспоминания о Гренаде, Севилье, о более чистом небе, более четких тенях, о празднествах, смехе и песнях. Вот то, что мы увидим, думал я. Я поднялся на палубу и смотрел, как удаляется Марсель.
Потом вдруг мне пришло в голову, что я обращаю слишком мало внимания на Марселину.
Она сидела на носу парохода; я подошел к ней и в первый раз посмотрел на нее по-настоящему.
Марселина была очень красива. Вы это знаете, вы видели ее. Я упрекнул себя, что этого раньше не замечал. Я слишком хорошо ее знал, чтобы видеть по-новому; наши семьи были дружны испокон веку; она выросла на моих глазах; я привык к ее очарованию… В первый раз я удивился, до того ее очарование показалось мне сильным.
На ее черной простой шляпе развевалась длинная вуаль. Она была белокурой и не казалась хрупкой. Ее юбка и корсаж были сделаны из шотландской шали, которую мы вместе выбирали. Я не хотел, чтобы она омрачала себя моим трауром.
Она почувствовала мой взгляд, повернулась ко мне… До тех пор у меня была по отношению к ней лишь внешняя предупредительность. Я более или менее хорошо заменял любовь чем-то вроде холодного ухаживания, которое, как я отлично видел, ее несколько раздражало. Почувствовала ли Марселина, что в этот момент я в первый раз посмотрел на нее иначе? Она тоже пристально посмотрела на меня, потом очень нежно мне улыбнулась. Ничего не говоря, я сел подле нее. До тех пор я жил для себя или, по крайней мере, по-своему; я женился, не думая, что моя жена может для меня стать не только товарищем, не думая ясно о том, что из-за нашего союза моя жизнь может измениться. Я наконец понял тогда, что здесь прекращается монолог.
Мы были одни на палубе. Она подставила мне свой лоб, и я тихо прижал ее к себе; она подняла глаза; я поцеловал их и вдруг почувствовал, благодаря этому поцелую, нечто вроде жалости; она залила меня так бурно, что я не мог удержаться от слез.
– Что с тобою? – спросила меня Марселина.
Мы начали разговаривать. Ее очаровательные суждения привели меня в восторг. Я посильно выработал себе кое-какое представление о женской глупости. В этот вечер, возле нее я сам показался себе неловким и глупым.
Итак, та, с которой я связал свою жизнь, обладала собственной и реальной жизнью! Эта важная мысль будила меня несколько раз в течение этой ночи; несколько раз я поднимался на своей койке, чтобы посмотреть, как на другой койке, нижней, спит Марселина, моя жена.
На следующий день небо было великолепно, море почти спокойно. Несколько неторопливых бесед еще уменьшили нашу стесненность. Брак начинал осуществляться по-настоящему. Утром в последний день октября мы приехали в Тунис.
Я намеревался пробыть там лишь несколько дней. Поведаю вам мою глупость; ничто в этой новой земле не привлекало меня, кроме Карфагена и некоторых римских развалин – Тимгат, о котором говорил мне Октав, Сусские мозаики и особенно Эль-Джемский амфитеатр, куда я собирался сразу же бежать. Надо было сначала добраться до Сусса, а там пересесть в почтовую карету; я хотел, чтобы ничто здешнее не удостоилось моего внимания.
Однако Тунис меня очень поразил. При новых впечатлениях, во мне волновались какие-то новые стороны моей души, дремавшие раньше, свойства, которые сохранили всю свою таинственную нетронутость, так как до тех пор не действовали. Все меня больше удивляло и ошеломляло, чем развлекало, и больше всего мне нравилась радость Марселины.
Все же мое недомогание с каждым днем увеличивалось, но мне казалось постыдным уступать ему. Я кашлял и чувствовал в верхней части груди странное стеснение. Мы едем на юг, думал я, – меня излечит жара.
Сфакский дилижанс отходит из Сусса в восемь часов и проезжает Эль-Джем в час ночи. Мы заказали себе места в карете. Я думал, что она окажется неуютным рыдваном; на самом деле мы устроились довольно удобно. Но какой холод!.. Что за ребячливое доверие к теплому южному воздуху побудило нас, легко одетых, захватить с собой лишь одну шаль? Как только мы выехали из Сусса и из-под прикрытия его холмов, начал дуть ветер. Он прыгал по равнине, выл, свистел, проникал через каждую щель в дверцах; ничто не могло спасти от него. Мы приехали совсем продрогшие, а я к тому же измученный толчками экипажа и ужасным кашлем, еще больше меня теперь терзавшим. Что за ночь! Когда мы добрались до Эль-Джема, там не оказалось гостиницы; ее заменяла отвратительная харчевня. Что делать? Дилижанс отправился дальше. Деревня спала. В ночи, казавшейся беспросветной, смутно виднелись мрачные громады развалин; выли собаки. Мы вошли в большую грязную комнату, в которой стояли две жалкие кровати. Марселина дрожала от холода, но здесь, по крайней мере, нас не настигал ветер.
Следующий день был очень унылым. Мы удивились, увидав сплошь серое небо. Ветер все еще дул, но не так яростно, как накануне. Дилижанс должен был приехать только вечером… Повторяю вам, это был мрачный день. Амфитеатр, который я бегло осмотрел, разочаровал меня; он даже показался мне уродливым под тусклым небом. Быть может, мое недовольство еще усиливалось от недомогания. В середине дня, не зная чем заняться, я вернулся к амфитеатру и стал тщательно искать какой-нибудь надписи на камнях. Марселина, укрывшись от ветра, читала английскую книгу, которую, к счастью, захватила с собой. Я вернулся и сел около нее.
– Какой грустный день! Ты не очень скучаешь? – спросил я ее.
– Нет, ты видишь, я читаю.
– Зачем мы сюда приехали? Тебе хоть не холодно?
– Не очень. А тебе? Правда, ты совсем бледный.
– Нет.
Ночью ветер снова усилился. Наконец прибыл дилижанс. Мы поехали.
После первых толчков я почувствовал себя совсем разбитым. Усталая Марселина вскоре заснула у меня на плече. Но я подумал, что мой кашель разбудит ее, и, тихонько высвободившись, я прислонил ее к стенке. Я уже больше не кашлял, нет, я отхаркивал; это была новость; я добивался этого без усилия; это приходило легкими приступами, через правильные промежутки времени. Это было такое странное ощущение, что в начале мне было почти забавно, но мне быстро опротивел незнакомый вкус, оставшийся потом во рту. Вскоре мой платок был полон мокроты, и я не мог им пользоваться, даже мои руки были выпачканы. Не разбудить ли Марселину?.. К счастью, я вспомнил о большом шелковом платке, который она носила за поясом. Я тихонько вытащил его. Я уже больше не удерживал мокроты, и она стала отделяться еще обильнее. Это меня необыкновенно облегчало. Это, должно быть, конец насморка, подумал я. Внезапно я почувствовал большую слабость, все начало кружиться передо мною, и мне показалось, что я теряю сознание. Разбудить ее? Ах, нет! (От моего пуританского детства у меня сохранилась ненависть ко всякой уступке слабости, я тотчас называл ее малодушием.) Я подобрался, крепко сжал руки и наконец победил свое обморочное состояние… Мне показалось, что я опять на море, и шум колес стал шумом волн… Но я перестал харкать.
Потом я впал в какое-то сонное забытье.
Когда я очнулся, утренняя заря разлилась по небу. Марселина еще спала. Мы подъезжали. Шелковый платок, который я держал в руке, был темный, так что сначала на нем ничего не было заметно. Но когда я вынул свой носовой платок, я с изумлением увидел, что он весь в крови.
Моей первой мыслью было скрыть эту кровь от Марселины. Но как? Я был весь перепачкан; я всюду видел теперь кровь, особенно на моих пальцах… У меня могла пойти кровь носом… Да, конечно, если она меня спросит, я скажу ей, что у меня шла кровь носом.
Марселина по-прежнему спала. Мы подъехали. Она сошла первой и ничего не заметила. Нам оставили две комнаты. Я вбежал в свою комнату, замыл, уничтожил следы крови. Марселина ничего не видела.
Однако я чувствовал большую слабость и приказал подать нам чай в комнаты. И в то время, когда Марселина разливала чай, улыбаясь, очень спокойная и сама немного бледная, меня охватило какое-то раздражение на то, что она могла ничего не заметить. Правда, я чувствовал, что я несправедлив, и убеждал себя: раз она ничего не видела, то лишь потому, что я это ловко скрыл; но все было тщетно, – это росло во мне как инстинкт, овладевало мною… Наконец это стало выше моих сил, я не мог выдержать и почти небрежно сказал ей:
– Сегодня ночью у меня было кровохарканье.
Она не вскрикнула, она только сильно побледнела, пошатнулась, захотела удержаться и тяжело опустилась на пол.
Я бросился к ней с каким-то бешенством: "Марселина! Марселина!" – Ну, вот что я наделал! Разве недостаточно было того, что я болен? Но, как я сказал, я был очень слаб, и еще немного – я тоже упал бы в обморок. Я открыл дверь, стал звать; на мой крик прибежали.
Я вспомнил, что у меня в чемодане было рекомендательное письмо к одному из гарнизонных офицеров; я воспользовался им, чтобы послать за военным врачом.
Между тем, Марселина пришла в себя; теперь она сидела у моей постели, где я дрожал в лихорадке. Врач пришел, осмотрел нас обоих. Он сказал, что у Марселины ничего нет и она вполне оправилась от своего обморока, а я тяжело болен. Он даже не захотел определить мою болезнь и обещал мне зайти под вечер.
Он вернулся, улыбаясь, говорил со мною и прописал различные лекарства. Я понял, что он приговаривает меня к смерти. Сознаться ли вам? Я даже не вздрогнул. Я устал. Просто, я отказался от борьбы. В конце концов, что мне сулила жизнь? Я хорошо работал, до конца твердо и страстно выполняя свой долг. А прочее… ах, не все ли мне равно, – думал я, достаточно одобряя собственный стоицизм. Но я страдал от безобразия внешней обстановки. "Эта комната ужасна", – и я стал рассматривать ее. Вдруг я вспомнил, что рядом, в такой же комнате, находится моя жена, Марселина, и я услышал, что она говорит. Доктор еще не ушел, он разговаривал с нею; он старался говорить тихо. Прошло некоторое время: я, должно быть, заснул…
Когда я проснулся, Марселина была около меня. Я понял, что она плакала. Я недостаточно любил жизнь, чтобы жалеть самого себя, но мне мешало безобразие этой комнаты; почти с наслаждением мой взгляд отдыхал на Марселине.
Теперь она писала, сидя рядом со мной. Она мне показалась красивой. Я видел, как она запечатала несколько писем. Потом она встала, подошла к моей кровати и нежно взяла меня за руку.
– Как ты теперь себя чувствуешь? – сказала она.
Я улыбнулся и грустно ответил:
– Выздоровею ли я?
Тотчас же она ответила мне:
– Выздоровеешь, – с такой уверенностью, что почти убедила меня, и я смутно почувствовал все, чем могла бы быть жизнь с ее любовью – неясное видение такой патетической красоты, что слезы брызнули у меня из глаз, и я долго плакал, не имея ни сил, ни желания сдерживать себя. Какой силой любви увезла она меня из Сусса! Какими очаровательными заботами окружала меня, защищала, спасала, не спала ночей… От Сусса до Туниса, потом от Туниса в Константину. Марселина была изумительна. Я должен был выздороветь в Бискре. Ее вера была непоколебима, а усердие не ослабевало ни на одно мгновение. Она все приготовляла, распоряжалась всеми переездами, устраивала помещения. Увы, она не могла сделать это путешествие менее ужасным! Несколько раз мне казалось, что надо остановиться и все кончить. Я потел, как умирающий, задыхался, подчас терял сознание… К концу третьего дня я добрался до Бискры полумертвый.
II
К чему рассказывать о первых днях? Что от них осталось? Ужасное воспоминание о них безгласно. Я уже больше не знал – ни кто я, ни где я. Я вспоминаю только склонившуюся над моим смертным ложем Марселину, мою жену, мою жизнь. Я знаю, что только ее страстные заботы, только ее любовь спасли меня. Однажды, наконец, как потерпевший кораблекрушение видит землю, я почувствовал, как пробуждается луч жизни; я мог улыбнуться Марселине. Зачем рассказывать все это? Важно было то, что смерть, как говорят, коснулась меня крылом. Важно, что для меня стало удивительным то, что я живу, и дневной свет стал для меня неожиданно ярким. Раньше, думал я, я не понимал, что живу. Я был перед животрепещущим открытием жизни.
Наступил день, когда я мог встать. Я был в полном восторге от нашего дома. Он почти весь состоял из террасы, но какой террасы! Моя комната и комната Марселины выходили на нее; она продолжалась над крышами. С наиболее высокой ее части видны были пальмы за домами, а за пальмами – пустыня. Городские сады находились по другую сторону террасы, и тень от ветвей соседских акаций падала на нее. С третьей стороны она тянулась вдоль маленького прямого дворика с шестью правильными пальмами и заканчивалась лестницей, которая соединяла ее с двором. Моя комната была просторна и полна воздуха; выбеленные стены, на которых ничего не висело; маленькая дверь вела в комнату Марселины, другая, большая и стеклянная, – на террасу.
Там протекали дни без часов. Сколько раз в моем одиночестве я вспоминал эти медленные дни!.. Марселина около меня. Она читает; она шьет; она пишет. Я ничего не делаю. Я смотрю на нее. О, Марселина! Я смотрю. Я вижу солнце; вижу тень; вижу, как граница тени передвигается; мне настолько не о чем думать, что я наблюдаю за нею. Я еще очень слаб; я плохо дышу; все меня утомляет, даже чтение; к тому же, что читать? Существовать – это уже достаточно занимает меня.
Однажды утром Марселина входит со смехом:
– Я веду к тебе друга, – говорит она.
Я вижу, как за нею входит маленький смуглый араб. Его зовут Бахир, у него большие молчаливые глаза, которые глядят на меня. Я немного стеснен, и это стеснение уже утомляет меня; я ничего не говорю, кажусь рассерженным. Мальчик смущен холодностью моего приема, он поворачивается к Марселине и с животной и ласковой грацией прижимается к ней, берет ее руку и целует; при этом движении обнажаются его голые руки. Я замечаю, что он совсем голый под своей тонкой белой гандурой {Мужская длинная рубаха белого цвета. (Прим. ред.)} и заплатанным бурнусом {Плащ с капюшоном. (Прим. ред.)}.
– Ну, садись здесь, – говорит Марселина, которая видит мое смущение. – Играй тихонько.
Мальчик садится, вынимает нож из капюшона своего бурнуса, кусок джерида {Пальмовая веточка, лишенная листьев. (Прим. ред.)} и начинает его строгать. Кажется, он хочет сделать свисток.
Через некоторое время меня уже больше не стесняет его присутствие. Я смотрю на него. Кажется, что он забыл, где он. Его ноги босы, щиколотки у него очаровательные, так же как и запястья. Он орудует своим дрянным ножом с забавной ловкостью… Неужели вправду это может меня заинтересовать… Волосы его выбриты на арабский лад; на голове рваная шешия{Солдатская шапка. (Прим. ред.)} с дыркой вместо кисти. Слегка сползшая рубашка обнажает нежные плечи. Мне хочется прикоснуться к нему. Я наклоняюсь, он оборачивается и улыбается мне. Я ему делаю знак, чтобы он дал мне свой свисток, беру его и делаю вид, что очень восхищен. Теперь он хочет уходить. Марселина дает ему пирожок, я – два су.
На следующий день я в первый раз скучаю; я жду, чего жду? Я чувствую пустоту, какое-то беспокойство. Наконец я не выдерживаю:
– Что же, Бахир не придет сегодня, Марселина?
– Если хочешь, я схожу за ним.
Она уходит, спускается по лестнице, через секунду возвращается одна. Что со мною сделала болезнь! Мне грустно до слез, потому что она пришла без Бахира.
– Уж слишком поздно, – говорит она, – дети ушли из школы и все разбрелись. Знаешь, среди них есть очаровательные. Кажется, они теперь уже все знают меня.
– По крайней мере, постарайся, чтобы завтра он был здесь.
На следующий день Бахир пришел. Он сел, как третьего дня, вытащил свой нож и стал обтачивать слишком твердое дерево так старательно, что вонзил себе лезвие в большой палец. Я вздрогнул от ужаса, он засмеялся, показал блестящий порез и стал забавляться, глядя, как течет кровь. Когда он смеялся, были видны его очень белые зубы; он с удовольствием облизал свою руку; у него был розовый язык, как у кошки. Ах, как он был здоров! Вот во что я влюбился: в его здоровье. Здоровье его маленького тела было прекрасно.
На следующий день он принес биллиардные шары. Ему хотелось заставить меня играть. Марселины не было; она бы меня удержала от этого. Я колебался, потом посмотрел на Бахира; малыш схватил меня за рукав, сунул мне шарики в руки и заставил меня взять их. Я очень задыхался, нагибаясь, но все же старался играть. Радость Бахира очаровывала меня. Наконец я изнемог. Я отбросил шары и упал в кресло. Бахир, немного смущенный, смотрел на меня.
– Болен? – мило спросил он.
У него был прелестный голос. Вошла Марселина.
– Уведи его, – сказал я, – я чувствую себя очень усталым сегодня.
Через несколько часов после этого у меня было кровохарканье. Это случилось, когда я с трудом ходил по террасе; Марселина была чем-то занята у себя в комнате; к счастью, она ничего не видела. Запыхавшись, я глубже вдохнул воздух, и вдруг это наступило. Мне залило весь рот… Но это уже больше не была светлая кровь, как во время первого кровохарканья, а ужасный сгусток, который я с отвращением выплюнул на землю.
Я сделал несколько шагов, пошатываясь. Я был ужасно взволнован. Я дрожал. Мне было страшно; и я пришел в ярость. Почему-то до сих пор я думал, что выздоравливаю понемножку и мне только надо подождать. Этот резкий припадок отодвигал меня назад. Странная вещь, но первые разы кровохарканье не производило на меня такого впечатления; я теперь вспоминал, что оставался после них почти спокойным. Откуда же мой страх, мое отвращение теперь? Увы, я начинал любить жизнь.
Я вернулся назад, нагнулся, отыскал свой плевок, взял соломинку и, приподняв сгусток крови, положил его в носовой платок. Я посмотрел. Это была гадкая, почти черная кровь, что-то скользкое, отвратительное… Я вспомнил о сверкающей, прекрасной крови Бахира… И вдруг меня охватило желание, жажда, какое-то более яростное, более настойчивое чувство, чем все, до сих пор испытанное мною: жить. Я хочу жить! Я хочу жить! Я стиснул зубы, кулаки, весть сосредоточился в безумном, отчаянном порыве к жизни.
Накануне я получил письмо от Т. в ответ на взволнованные вопросы Марселины. Письмо было полно медицинских советов. Т. далее присоединил к своему письму несколько популярных медицинских брошюрок и одну более специальную книгу, которая показалась мне поэтому более серьезной. Я небрежно прочел письмо и совсем не читал книжек; прежде всего, они были похожи на маленькие моральные трактаты, которыми меня изводили в детстве, и потому не располагали меня к чтению, затем потому, что все советы мне надоели, наконец, я не думал, чтобы все эти "советы туберкулезным", "практическое лечение туберкулеза" можно было применить ко мне. Я не считал себя туберкулезным. Я охотно приписывал свое первое кровохарканье другой причине, или, вернее, я ничему не приписывал его, избегал думать, вовсе об этом не думал и считал себя если не выздоровевшим, то очень близким к выздоровлению… Я прочел письмо; проглотил книгу, брошюры. Вдруг с ужасающей ясностью я увидел, что до сих пор я жил изо дня в день, отдаваясь смутной надежде; внезапно мне показалось, что моя жизнь в опасности, в ужасной опасности самая ее сердцевина. Многочисленный деятельный враг жил во мне. Я прислушался к нему, подстерег его, почувствовал его. Я не могу победить без борьбы… и я прибавил вполголоса, как бы для того, чтобы убедить самого себя: это дело воли.
Я перевел себя на военное положение.
Наступил вечер; я стал обдумывать свою стратегию. На некоторое время единственным предметом моего внимания должно стать мое выздоровление, моим долгом – мое здоровье; надо признавать хорошим, называть б_л_а_г_о_м все то, что для меня целебно, забывать и отталкивать все, что не способствует лечению. До ужина я выработал правила для дыхания, движения, еды.
Мы ели посреди террасы в беседке. Интимность наших обедов и ужинов была очаровательна, благодаря нашему одиночеству, покою и полной оторванности от всего. Из соседней гостиницы старый негр приносил нам довольно сносную еду. Марселина обдумывала меню, заказывала одни блюда, отвергала другие… Так как обыкновенно я не был очень голоден, я не особенно огорчался, если какое-нибудь блюдо не удавалось или пища была недостаточно обильна. Марселина, не привыкшая много есть, не понимала, не отдавала себе отчета, что я недостаточно питаюсь. Из всех моих решений первым было – много есть. Я собирался приводить его в исполнение, начиная с сегодняшнего вечера. Но это мне не удалось. Ужин состоял из какого-то несъедобного рагу и до безобразия пережаренного жаркого.
Я так сильно рассердился, что перенес свой гнев на Марселину и стал неумеренно обвинять ее. Слушая меня, можно было подумать, что она должна нести ответственность за дурное качество стола. Эта маленькая задержка в выполнении намеченного мною режима приобретала самое существенное значение; я забывал о предыдущих днях; этот неудавшийся ужин все портил. Я заупрямился. Марселине пришлось отправиться в город за консервами или каким-нибудь паштетом.
Она вскоре вернулась с маленьким паштетом, который я почти весь поглотил, как бы для того, чтобы доказать и ей, и себе, до какой степени мне необходимо много есть.
В тот же вечер мы договорились о следующем: питание будет значительно улучшено, более обильное и каждые три часа, начиная с 6 1/2 утра. Большой запас разнообразных консервов восполнит жалкую отельную пищу…
В эту ночь я не мог спать, до того предчувствие моих новых подвигов опьяняло меня. Я думаю, что у меня был небольшой жар; около меня стояла бутылка минеральной воды; я выпил стакан, потом второй, потом докончил в один прием всю бутылку. Я повторил свое решение, как повторяют урок; я заучивал свою вражду, направлял ее на разные вещи; я должен был бороться против всего – мое спасение зависело от одного меня.
Наконец, я увидел, как бледнеет ночь; рассвело.
Это было мое всенощное бдение перед боем.
Следующий день был воскресенье. До сих пор, должен признаться, я мало размышлял о верованиях Марселины; из равнодушия или скромности я думал, что это меня не касается; к тому же я не придавал этому значения.
В этот день Марселина пошла к обедне. Когда она вернулась, я узнал от нее, что она молилась за меня. Я пристально посмотрел на нее, потом сказал ей со всею нежностью, на какую был способен:
– Не надо молиться за меня, Марселина.
– Почему? – спросила она, немного смутившись.
– Я не люблю покровительства.
– Ты отвергаешь Божью помощь?
– После Он имел бы право на мою благодарность. Это создает обязательства, а я их не хочу.
Это имело вид шутки, но мы ничуть не заблуждались относительно важности наших слов.
– Ты не выздоровеешь без помощи, мой бедный друг, – сказала она со вздохом.
– Тем хуже для меня.
Затем, видя ее печаль, я добавил менее резко:
– Ты поможешь мне.
III
Я буду много говорить о своем теле. Я буду столько говорить о нем, что вам сначала покажется, что я забыл о душе. В моем рассказе это пренебрежение намеренно, тогда же оно было реальным. У меня не было достаточных сил, чтобы поддерживать двойную жизнь; о духе и тому подобном, говорил я, подумаю потом, когда мне станет лучше.
Я был еще далек от выздоровления. Из-за всякого пустяка я обливался потом, из-за всякого пустяка простуживался; у меня было "короткое дыхание", как говорит Руссо; подчас небольшой жар; часто с утра у меня было ощущение ужасной усталости, и тогда я оставался неподвижно в кресле, равнодушный ко всему, эгоистичный и с единой заботой о правильном дыхании. Я дышал тяжело, систематически и старательно; мои выдыхания происходили с двумя перерывами, которых моя сверхнапряженная воля не могла вполне устранить; еще долго после я избегал их лишь благодаря внимательному усилию.
Но больше всего я страдал от моей болезненной чувствительности ко всякому изменению температуры. Теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, что общее нервное расстройство сопровождало мою болезнь; иначе я не могу объяснить целый ряд явлений, которые нельзя вывести из простого туберкулеза. Мне постоянно было или слишком жарко или слишком холодно; тогда я до смешного плотно закутывался, переставал дрожать лишь начиная потеть, снова раскрывался немного и сразу же начинал дрожать, как только переставал потеть. Части моего тела застывали, становились, несмотря на пот, холодными как мрамор; ничто не могло их согреть. Я был до того чувствителен к холоду, что простуживался, если несколько капель воды падали мне на ногу, когда я мылся; в такой же мере я был чувствителен к жаре. У меня сохранилась эта чувствительность, сохранилась до сих пор, но теперь она стала для меня источником наслаждения. Всякая повышенная восприимчивость, мне кажется, может стать, в зависимости от крепости или слабости организма, поводом для наслаждения или мучения. Все, что прежде волновало меня, стало для меня теперь сладостным.
Не знаю, как я спал до тех пор с закрытыми окнами; по совету Т. я попробовал их открывать ночью; совсем немного сначала; вскоре я стал их широко раскрывать; еще некоторое время это сделалось такой настойчивой потребностью, что я задыхался, как только закрывал окно. С каким наслаждением впоследствии я чувствовал, как проникает ко мне ночной ветер, лунный свет…
Я тороплюсь покончить с этим первым лепетом выздоровления. Действительно, благодаря непрестанному уходу, свежему воздуху, улучшенной пище, я стал быстро поправляться. Раньше, боясь одышки при подъеме на лестницу, я не смел уходить с террасы; в последние дни января я наконец вышел и решился погулять по саду.
Марселина сопровождала меня с шалью в руках. Было три часа дня. Ветер, часто очень резкий в этих краях и сильно беспокоивший меня, в последние три дня спал. Мягкий воздух был очарователен.
Городской сад… Его пересекла широчайшая аллея, обсаженная двумя рядами деревьев, что-то вроде высоких мимоз, называемых там кассиями. В тени этих деревьев – скамейки. Река в виде канала, – я хочу сказать, более глубокая, чем широкая, и почти прямая, – текла вдоль аллеи; потом другие каналы, поменьше, распространяя воду, несли ее через весь сад к насаждениям, – тяжелую воду цвета земли, цвета розово-серой глины. Почти полное отсутствие иностранцев, лишь несколько арабов; они прохаживаются, и как только удаляются с солнечной стороны их белые плащи окрашиваются тенью.
Необычайная дрожь охватила меня, как только я вступил в эту странную тень; я закутался в шаль; однако я не почувствовал никакого недомогания, напротив… Мы сели на скамейку. Марселина молчала. Мимо нас проходили арабы; потом появилась целая компания детей. Марселина знала некоторых из них и сделала им знак; они подошли. Она мне назвала их имена; последовали вопросы, ответы, улыбки, гримасы, игры. Все это меня немного раздражало, и я снова стал себя плохо чувствовать; я утомился и покрылся потом. Но сознаться ли мне в этом, – меня стесняли не дети, меня стесняла она. Да, хоть и едва-едва, но я был стеснен ее присутствием. Если бы я встал, она пошла бы за мною; если бы я снял шаль, она захотела бы ее нести; если бы я снова надел ее, она спросила бы: "Тебе холодно?" И затем я не смел говорить с детьми перед нею; я видел, что у нее были свои любимцы; невольно, из духа противоречия, меня влекло к другим.
– Пойдем домой, – сказал я ей, и про себя решил, что вернусь в сад без нее.
На следующий день ей надо было выйти около десяти часов утра: я воспользовался этим. Маленький Бахир, который почти каждое утро приходил к нам, взял мою шаль; я почувствовал себя бодрым, и на сердце у меня было легко. Мы были почти одни в аллее, я медленно шел, присаживался на секунду, потом снова шел. Бахир, болтая, следовал за мной, верный и податливый как собака. Я добрался до того места канала, куда женщины приходят стирать; посреди течения лежал плоский камень, а на нем девочка, наклонившись над водой, бросала в нее веточки и затем вылавливала их. Ее босые ноги побывали в воде; от этого купания на них оставался след, и в этом месте ее кожа казалась темнее. Бахир подошел к ней и заговорил; она обернулась, улыбнулась мне и ответила Бахиру по-арабски.
– Это моя сестра, – сказал он мне.
Потом он объяснил мне, что его мать должна прийти стирать и что его сестренка ждет ее. Ее звали Радра, что значит по-арабски Зеленая. Все это он рассказывал голосом прелестным, ясным и детским, как и то волнение, которое я от этого испытывал.
– Она просит, чтобы ты дал ей два су, – прибавил он.
Я дал ей десять су и собирался уже уходить, когда вдруг появилась их мать, прачка. Это была великолепная женщина с татуированным голубой краской большим лбом; она несла на голове корзину с бельем и была похожа на античных канефор; как и они, она была прикрыта только широким куском синей материи, поднимающейся к поясу и спадающей прямо до ног. Как только она увидела Бахира, она грубо закричала на него. Он резко ответил ей, вмешалась девочка, между ними завязался громкий спор. Наконец Бахир, видимо побежденный, дал мне понять, что он нынче утром нужен своей матери; он грустно протянул мне шаль, и мне пришлось возвращаться одному.
Не прошел я и двадцати шагов, как моя шаль показалась мне невыносимой тяжестью; весь в поту, я опустился на первую попавшуюся скамейку. Я надеялся, что встретится какой-нибудь мальчик, который освободит меня от этого груза. Скоро появился большой четырнадцатилетний мальчишка, черный как суданец, и нисколько не застенчивый, который сам предложил свои услуги. Его звали Ашур. Он бы мне показался красивым, если бы не был кривым. Он оказался разговорчивым, сообщил мне, откуда текла река, и то, что по выходе из общественного сада она течет в оазис и прорезает его насквозь. Я слушал его, забыв свою усталость. Каким прелестным ни казался мне Бахир, я теперь уже слишком хорошо знал его и был рад перемене. Я даже решил про себя, что в другой раз отправлюсь совсем один в сад и буду, сидя на скамейке, поджидать случайной счастливой встречи…
После нескольких минутных остановок мы добрались, Ашур и я, до моих дверей. Мне хотелось пригласить его к себе, но я не решился, не зная, что скажет Марселина.
Я застал ее в столовой с очень маленьким мальчиком, таким тщедушным и хилым, что сначала почувствовал к нему больше отвращения, чем жалости. Немного робко Марселина сказала мне:
– Бедный мальчик болен.
– Надеюсь, это не заразно? Что с ним?
– Я еще точно не знаю. Он жалуется, что у него всюду немножко болит. Он довольно плохо говорит по-французски. Когда Бахир завтра приедет, он будет нашим толмачом. Я хочу напоить его чаем.
Потом, как бы извиняясь и потому, что я стоял, ничего не говоря, она добавила:
– Я уже давно знаю его, но я не смела его позвать к нам; я боялась, что это утомит тебя или, может быть, не понравится тебе.
– Почему же? – воскликнул я. – Приводи сюда всех детей, каких хочешь, если это тебе приятно!
И я подумал, немного сердясь на то, что этого не сделал, что я отлично мог бы привести Ашура.
Тем временем, я смотрел на свою жену; она была по-матерински нежна. Ее сердечность была так трогательна, что мальчик ушел совсем обласканный. Я заговорил о своей прогулке и осторожно дал понять Марселине, почему я предпочитаю гулять один.
По ночам я еще по нескольку раз просыпался окоченевший или мокрый от пота. Эту ночь я спал очень спокойно, почти без просыпу. На следующее утро я был готов, чтобы выйти из дому, с десяти часов. Была хорошая погода; я чувствовал себя отдохнувшим, не слабым, радостным или, вернее, весело настроенным. Воздух был спокойный и теплый, но я все же взял свою шаль, как предлог для знакомства с тем, кто мне понесет ее. Я уже говорил, что сад прилегал к нашей террасе; таким образом, я сразу в него спустился. Я с восторгом вошел в его тень. Воздух был пронизан светом. Акации, цветы которых распускаются значительно раньше листьев, благоухали, – если только это не был лившийся отовсюду легкий аромат, который проникал в меня, приводя в экстаз. Вообще, я дышал свободнее; походка моя становилась от этого легче. Однако я сел на первую же скамейку, но скорее от опьянения и головокружения, чем от усталости. Я огляделся. Тень была легка и подвижна, она не падала на землю, а, казалось, едва касалась ее. О, свет! Я прислушался. Что я услышал? Ничего. Все. Меня радовал каждый шорох… Я вспоминаю деревцо, кора которого показалась тогда мне такой странной, что мне пришлось встать, чтобы подойти пощупать ее. Я прикоснулся к ней движением, каким ласкают; я в этом нашел восторг. Я вспоминаю… Не в это ли утро, наконец, суждено мне было родиться?
Я забыл, что я один, я ничего не ждал, забыл время. Мне казалось, что до этого дня я так мало чувствовал, – ради того, чтобы только думать, что под конец я удивился: мое ощущение становилось таким же сильным, как мысль.
Я говорю: мне казалось – потому что из глубины моего раннего детства поднялись, наконец, тысячи воспоминаний о тысячах забытых ощущений. Это новое ощущение моих чувств приоткрывало мне их тревожное познание. Да, мои чувства, отныне пробудившиеся, вспоминали всю свою историю, воссоздавали свое прошлое. Они жили. Они жили. Они никогда не переставали жить и обнаруживали, даже сквозь мои годы учения, свою скрытную и лукавую жизнь.
В этот день я никого не встретил и был рад этому. Я вынул из кармана маленький томик Гомера, который я не открывал со времени отъезда из Марселя, прочел три фразы из Одиссеи, хорошенько запомнил их, потом, найдя достаточную пищу в их ритме и насладившись ими вволю, я закрыл книгу и продолжал сидеть, дрожащий, более живой, чем мог вообразить, с душой, онемевшей от счастья…
IV
Марселина, видевшая с радостью, что мое здоровье, наконец, восстанавливается, уж несколько дней рассказывала мне о чудесных фруктовых садах оазиса. Она любила воздух и ходьбу пешком. Свобода, которой она пользовалась благодаря моей болезни, давала ей возможность совершать длинные прогулки, и она возвращалась из них в восторге; до сих пор она о них вовсе не говорила, не решаясь меня увлекать за собой и боясь огорчить рассказом об удовольствиях, которыми я еще не мог пользоваться. Но теперь, когда я начал поправляться, она рассчитывала на их привлекательность, чтобы ускорить мое выздоровление. Меня влекло к прогулкам мое возродившееся желание ходить и глядеть. И уже на следующий день мы вышли вместе.
Она повела меня по причудливой дороге, подобной ей я никогда не видел ни в какой стране. Она извивается как бы беспечно между двумя высокими земляными стенами; очертания садов, огражденных этими стенами, изменяют ее направление; после первого же поворота вы теряетесь и не знаете, откуда и куда вы идете. Верная речка следует за дорожкой, течет вдоль стен; они сделаны из самой земли оазиса, из розоватой или нежно-серой глины, темнеющей от воды и трескающейся от солнца; они твердеют во время жары, но размякают от первого ливня и становятся тогда материалом для ваяния, на котором отпечатываются босые ноги. Над этими стенами высятся пальмы. Когда мы подходили, над ними летали горлицы. Марселина смотрела на меня.
Я забыл свою усталость и слабость. Я шел в каком-то экстазе, в молчаливом ликовании, в восторге всех чувств и всего тела. В этот момент поднялся легкий ветерок; все пальмы заколебались, и мы увидели, как наклонились самые высокие из них; потом весь воздух снова успокоился, и я ясно услышал за стеной звуки флейты. Пробоина в стене. Мы вошли.
Это было место, полное тени и света; оно было спокойным и казалось скрытым от бега времени; оно было полно тишины и трепетаний, легкого шума текущей воды, которая поит пальмы и бежит от дерева к дереву, нежных призывов горлиц, звуков флейты, на которой играл ребенок. Он пас стадо коз; он сидел на обрубке пальмы; он не смутился при нашем приближении, не убежал и только на мгновение перестал играть.
Во время этой краткой тишины я заметил, что издали вторит другая флейта. Мы прошли еще немного, затем Марселина сказала:
– Не стоит идти дальше; все эти фруктовые сады похожи один на другой; может быть, только в конце оазиса они становятся немного обширнее…
Она разостлала шаль на земле.
– Отдохни.
Сколько времени мы там оставались? Я не помню, – что нам часы? Марселина была около меня; я лег и положил ей голову на колени. Звуки флейты все струились, прерывались на мгновение, затем возобновлялись. Шум воды… Иногда блеяла коза. Я закрыл глаза; я почувствовал на лбу прохладную руку Марселины, я чувствовал пламенное солнце, нежно ослабленное пальмами; я ни о чем не думал; к чему думать? – Я чувствовал необычайно…
И мгновениями новый шум; я открывал глаза: это был легкий ветерок в пальмах, он не доходил до нас, а лишь колебал верхушки деревьев…
На следующее утро я вернулся в этот сад с Марселиной, а вечером пошел туда же один. Пастух, игравший на флейте, был там. Я подошел, заговорил с ним. Его звали Лассиф, ему было только двенадцать лет, он был красив. Он назвал мне имена своих коз, рассказал, что каналы называются «сегиями», что они не все текут каждый день; воду распределяют разумно и бережно, утоляют жажду деревьев и тотчас прекращают течение. У корней каждой пальмы вырыт узкий водоем, содержащий воду, которая поит дерево; остроумная система каналов, которую мальчик объяснил мне, наглядно приводя ее в действие, сдерживает воду и направляет ее туда, где слишком сильная жажда.
На следующий день я увидел брата Лассифа, он был немного старше, менее красив, звали его Лахми. При помощи своеобразной лестницы, которую образуют на стволе рубцы срезанных ветвей, он взобрался на самую верхушку обезглавленной пальмы, потом ловко спустился, обнаруживая под развевающейся одеждой свою золотистую наготу. Он нес с верхушки укороченной пальмы маленький глиняный кувшин; он был привешен наверху под свежей рамой, чтобы в него вытекал пальмовый сок, из которого делают сладкое вино, очень любимое арабами. По приглашению Лахми, я попробовал его, но его приторный, терпкий и сиропный вкус мне не понравился.
В следующие дни я пробрался дальше; я видел другие сады, других пастухов и других коз. Как Марселина сказала, все эти сады были одинаковы, и однако все они отличались один от другого.
Иногда Марселина сопровождала меня, но чаще, как только мы выходили в сады, я расставался с нею, убеждая ее, что я устал и мне хочется сесть, что ей не надо меня ждать и следует больше гулять; таким образом, она доканчивала прогулку без меня. Я оставался с детьми. Вскоре я со многими из них познакомился; я подолгу говорил с ними, я узнавал их игры, учил их новым, проигрывая им всю свою мелочь в «пробку». Некоторые меня далеко провожали (каждый день я удлинял свои прогулки), указывали мне на обратном пути новые дорожки, несли мое пальто и шаль, когда я брал с собой и то и другое; перед тем, как с ними расстаться, я раздавал им монетки; иногда они шли за мной, все время играя, до моих дверей, иногда даже они заходили ко мне.
Потом Марселина стала сама приводить других детей. Она приводила школьников, которых она поощряла к учению; по выходе из школы, послушные и примерные, заходили они к нам; те, которых приводил я, были другие, но игры соединяли их. У нас всегда бывали приготовлены для них сиропы и лакомства. Вскоре дети стали приходить уже без зова. Я помню каждого из них; они стоят у меня перед глазами…
В конце января погода внезапно испортилась; подул холодный ветер, и это сразу отозвалось на моем здоровье. Большой открытый пустырь, отделяющий оазис от города, стал для меня непреодолимым, и мне снова пришлось довольствоваться общественным садом. Потом пошли дожди, ледяные дожди, и на самом горизонте, на севере, горы покрылись снегом.
Я проводил эти печальные дни около огня, унылый, яростно борясь с болезнью, бравшей верх надо мной в плохую погоду. Мрачные дни. Я не мог ни читать, ни работать; малейшее усилие вызывало мучительный пот, всякое напряжение внимания меня истощало. Как только я переставал старательно следить за своим дыханием, я задыхался.
В эти грустные дни дети были для меня единственным доступным развлечением. Во время дождя заходили лишь наиболее привязанные к нам, их одежда была промокшей насквозь, они садились кружком у огня. Все подолгу молчали. Я был слишком утомленным, слишком больным, чтобы что-нибудь делать, я мог только смотреть на них; но их здоровье вливало в меня силы. Те, которых ласкала Марселина, были слабы, хилы и слишком благоразумны, я раздражался на нее и на них и под конец отталкивал их. По правде сказать, я их боялся.
Однажды утром я сделал любопытное открытие в самом себе: Моктир, единственный из питомцев моей жены, который не раздражал меня (может быть потому, что он был красив), был один со мной в моей комнате; до тех пор я его не очень любил, но его блестящий и темный взгляд меня занимал. Любопытство, которое я сам себе не мог объяснить, заставило меня следить за каждым его движением. Я стал у огня, облокотившись о камин, на котором лежала книга; я казался очень занятым, но видел в зеркале все движения мальчика, к которому стоял спиной. Моктир не догадывался, что за ним наблюдают, и думал, что я углублен в чтение. Я увидел, как он бесшумно подошел к столу, на который Марселина положила рядом со своей работой маленькие ножницы, украдкой схватил их и мгновенно спрятал под свой бурнус. Мое сердце на секунду сильно забилось, но самые благоразумные рассуждения не могли меня привести ни к малейшему возмущению. Больше того, я не мог себя убедить в том, что чувство, наполнившее меня тогда, не было радостью. Дав Моктиру достаточное время, чтобы спокойно обокрасть меня, я повернулся к нему и заговорил, как ни в чем не бывало. Марселина очень любила этого мальчика; однако мне кажется, что не страх огорчить ее заставил меня не только не выдать Моктира, но еще придумать какую-то небылицу, чтобы объяснить пропажу ножниц. С этого дня Моктир стал моим любимцем.
V
Нам предстояло уже недолго оставаться в Бискре. Когда прошли февральские дожди, вдруг наступила сильнейшая жара. После нескольких тяжелых дней непрерывных ливней однажды утром я проснулся под сплошной лазурью. Как только я встал, я поспешил на самый верх террасы. Небо от края до края было чисто. Под пламенным уже солнцем поднималась дымка; весь оазис дымился; вдали шумел вышедший из берегов Уэд. Воздух был так чист и так прекрасен, что я тотчас же почувствовал себя лучше. Пришла Марселина; мы хотели выйти, но нас удержала дома в этот день грязь.
Через несколько дней мы отправились в плодовый сад Лассифа. Стебли казались тяжелыми, мягкими и набухшими от воды. Африканская земля, залитая в течение долгого времени водой, теперь просыпалась от зимы, разрываемая новыми соками; она смеялась от яростной весны, отзвук которой я чувствовал в самом себе. Сначала нас сопровождали Ашур и Моктир; я еще наслаждался их легкой дружбой, стоившей только полфранка в день; но вскоре они мне надоели, так как я уже не был так слаб, чтобы нуждаться в примере их здоровья, и, не находя больше в их играх нужной пищи для радости, я обратил к Марселине свой духовный и чувственный экстаз. По радости, которую она от этого испытывала, я заметил, что раньше она была печальна. Я просил у нее прощения, как ребенок, за то, что часто оставлял ее, объясняя свое непостоянное и странное настроение слабостью, утверждал, что до тех пор я был слишком усталым для любви, но что отныне я чувствую, что моя любовь будет крепнуть вместе с моим здоровьем. Я говорил правду, но должно быть был еще очень слаб, так как только через месяц я стал желать Марселину.
Между тем, с каждым днем увеличивалась жара. Ничто нас не удерживало в Бискре, – кроме очарования, которое меня снова должно было туда привести. Наш отъезд был решен внезапно. За три часа мы уложились. Поезд шел на следующий день на рассвете…
Я вспоминаю последнюю ночь. Было почти полнолуние; через мое широко открытое окно лунный свет заливал комнату. Мне казалось, что Марселина спала. Я лежал, но не мог спать. Я чувствовал, как меня жгла какая-то счастливая горячка – это была просто жизнь… Я встал, опустил руки в воду и вымыл лицо, потом вышел через стеклянную дверь.
Было уже поздно; ни шума, ни вздоха; даже воздух казался заснувшим… Издали едва был слышен лай арабских собак, рявкающих всю ночь, как шакалы. Передо мною – маленький дворик; на стене напротив меня лежала косая тень; правильные пальмы, бесцветные и безжизненные, казались навсегда неподвижными… Но даже во сне можно найти трепет жизни, – здесь ничто не казалось мертвым. Я пришел в ужас от этого покоя и вдруг меня снова охватило в этой тишине возмущенное, утверждающее, отчаянное, трагическое ощущение жизни, страстное почти до боли и такое настойчивое, что я крикнул бы, если бы мог кричать, как зверь. Я взял свою руку, я помню, левую руку правой рукой; мне захотелось поднести ее к голове, и я это сделал. Почему? Чтобы убедить себя в том, что я вижу, и признать это изумительным. Я прикоснулся к своему лбу, к векам и вздрогнул. Придет день, думал я, когда у меня не хватит даже сил, чтобы поднести к губам воду, которую я буду желать больше всего на свете… Я вошел в комнату, но еще не сразу лег; мне хотелось запомнить эту ночь, навязать своей памяти воспоминание о ней, удержать ее; не зная еще, что для этого сделать, я взял книгу со своего стола, Библию, и открыл ее наугад; я прочел слова Христа Петру, слова, которые, увы, мне не суждено было забыть: "Теперь ты сам перепоясываешься и идешь туда, куда хочешь идти, но когда ты будешь стар, ты протянешь руки…" Ты протянешь руки…
На следующий день на рассвете мы уехали.
VI
Я не буду говорить о всех этапах путешествия. Некоторые из них оставили о себе неясное воспоминание: мое здоровье, то улучшавшееся, то ухудшавшееся, колебалось еще от холодного ветра, омрачалось от тени облака, и мое нервное состояние служило причиной частых недомоганий; но, по крайней мере, мои легкие поправлялись, каждый рецидив был менее долгим и серьезным, чем предыдущий; его натиск был столь же сильным, но мой организм был лучше вооружен против него.
Мы из Туниса добрались до Мальты, потом до Сиракуз; я возвращался в античную землю, язык и прошлое которой были мне знакомы. С начала моей болезни я жил без проверки, без законов, просто стараясь жить, как живет животное или ребенок. Менее поглощенная болезнью, моя жизнь становилась теперь устойчивой и сознательной. После этой долгой агонии мне казалось, что я возрождаюсь прежним и скоро свяжу свое настоящее с прошлым. Благодаря полной новизне незнакомой страны, я мог так заблуждаться; здесь же – нет; все говорило мне о том, что меня удивляло: я изменился.
Когда в Сиракузах и дальше я захотел снова вернуться к своим занятиям, погрузиться, как прежде, в кропотливое изучение прошлого, я обнаружил, что нечто если не уничтожило, то, по крайней мере, изменило мой вкус к нему; это было ощущение настоящего. История прошлого принимала в моих глазах неподвижность, пугающую застылость ночных теней маленького дворика в Бискре, неподвижность смерти. Прежде мне нравилась самая эта застылость, которая делала точнее мою мысль; все исторические события казались мне предметами из музея или, вернее, растениями из гербария, окончательная омертвелость которых помогала мне забывать, что некогда, полные соков, они росли под солнцем. Теперь, если я находил какой-нибудь интерес в истории, то только представляя ее себе в настоящем. Большие политические события тревожили меня теперь меньше, чем возрождающееся волнение, которое возбуждали во мне поэты или некоторые люди сильной воли. В Сиракузах я перечел Феокрита и думал о том, что его пастухи с прекрасными именами – те же, которых я любил в Бискре.
Моя ученость, пробуждавшаяся на каждом шагу, загромождала меня, мешая моей радости. Я не мог смотреть на греческий театр или храм, не воссоздавая его тотчас, же мысленно. Сохранившиеся развалины на местах, где некогда устраивались античные праздники, печалили меня, что они мертвы; а смерть мне была отвратительна.
Я дошел до того, что стал избегать развалин; стал предпочитать самым прекрасным памятникам прошлого низкие сады, называемые латомиями, где растут лимоны с кислой сладостью апельсинов, и берега Кианы, которая течет среди папирусов такая же голубая, как в тот день, когда оплакивала Прозерпину.
Я дошел до того, что стал презирать в себе ученость, бывшую прежде моей гордостью; наука, прежде составлявшая всю мою жизнь, теперь мне казалась случайной и условной. Я открыл, что стал другим и существую – о, радость! – вне науки. В качестве специалиста я казался себе тупицей. В качестве человека – знал ли я себя? Я едва еще рождался и не мог еще знать, что рождаюсь. Вот что мне надо было узнать.
Ничто не может быть трагичнее для того, кто думал умереть, чем медленное выздоровление. После того как человека коснулось крыло смерти, то, что казалось важным, перестает им быть; другие вещи становятся важными, которые ими не казались и о существовании которых он даже не знал. Скопление всяких приобретенных знаний стирается с души, как краска, и местами обнажается самая кожа, настоящее, прежде скрытое существо.
Тогда я стал искать познания «его», настоящего существа, "древнего человека", которого отвергло Евангелие; того, которого все вокруг меня – книги, учителя, родители и я сам – старались раньше упразднить. И мне казалось, благодаря напластованиям, очень хитрым и трудным делом открыть его, но тем более это открытие становилось полезным и достойным. С этого времени я стал презирать существо, усвоенное мною, наложенное на меня образованием. Надо было стряхнуть с себя этот груз.
Я сравнивал себя с палимпсестом; я испытывал радость ученого, находящего под более новыми письменами на той же бумаге древний, несравненно более драгоценный текст. Каков был этот сокровенный текст? И для того, чтобы прочесть его, не надо ли было стереть новый?
Я уже не был тем хилым трудолюбивым существом, которому подходила его прежняя суровая и ограничительная мораль. Это было больше чем выздоровление, это было приобретение, рост жизни, приток более щедрой и горячей крови, которая должна была прилить к моим мыслям, прилить к ним, к каждой из них, все проникнуть, взволновать, окрасить самые дальние, тонкие и тайные фибры моего существа. Ибо к здоровью или слабости привыкаешь; человек создает себя в зависимости от своих сил; но как только они прибывают, как только они разрешают большее, тотчас же… Всех этих мыслей у меня еще тогда не было, и здесь мое изображение неправильно. По правде сказать, я не думал, я не наблюдал за собой, меня вел счастливый рок. Я боялся, что слишком быстрый взгляд нарушит таинство моего медленного превращения. Надо было дать время стертым письменам снова появиться, а не стараться их писать самому. Не отбросив вовсе свою мысль, а оставив ее под паром, я с наслаждением отдавался себе, вещам, всему, и это казалось мне божественным. Мы оставили Сиракузы; я бежал по крутой дороге, соединяющей Таормину и Молу, и кричал, призывая к себе: "Новый человек! Новый человек!"
Мое единственное усилие, усилие в ту пору постоянное, состояло в систематическом изгнании или уничтожении того, что мне казалось относящимся лишь к старому моему воспитанию, к прежней морали. Из решительного пренебрежения к своей науке, из презрения к своим ученым вкусам, я не хотел видеть Агригента, а несколько дней спустя, по дороге в Неаполь, не остановился перед прекрасным храмом в Пестуме, в котором еще дышит Греция и куда я отправился два года позже молиться какому-то Богу.
Что я говорю я о единственном усилии? Мог ли я так интересоваться собою, если бы я не был существом, способным к совершенствованию? Никогда моя воля, направленная к этому неведомому совершенству, которое я смутно представлял себе, не была так страстно напряжена; всю эту волю я прилагал к укреплению моего тела и закалению его. Удалившись от берега около Салерно, мы добрались до Равелло. Там более свежий воздух, прелесть скал, полных расщелин и неожиданностей, неведомая глубина долин, помогая моей силе, моей радости, благоприятствовали моему порыву.
Более близкий к небу, чем удаленный от берега, Равелло стоит на отвесной горе против далекого и плоского побережья Пестума. Под нормандским владычеством это был почти значительный город; теперь это маленькая деревушка, в которой, кажется, мы были единственными иностранцами. Мы поселились в бывшем монастыре, нынче превращенном в отель; он построен на краю скалы, и его террасы и сад кажутся парящими в небе. За стеной, увитой виноградом, сначала видно только море; надо подойти к стене, чтобы заметить искусственный спуск, который скорее лестницами, чем дорожками, соединяет Равелло с берегом. За Равелло продолжаются горы. Оливковые деревья, огромные рожковые; в их тени – цикламены; повыше множество каштанов; свежий воздух, северные растения; ниже, у моря, лимонные деревья. Они посажены маленькими группами из-за уклона почвы; эти сады-лестницы почти не отличаются один от другого; узкая аллея посредине разрезает их от одного конца до другого; туда входишь без шума, как вор. В этой зеленой тени мечтаешь; листва – густая и тяжелая; ни один яркий луч не проникает сквозь нее; душистые лимоны висят, как капли застывшего воска; в тени они кажутся белыми и зеленоватыми; нужно только протянуть руку, почувствовав жажду; они сладкие, терпкие; они освежают.
Тень была так непроницаема под ними, что я после ходьбы, от которой у меня еще появлялась испарина, побоялся в ней задерживаться. Однако лестницы уже не утомляли меня; я упражнялся в том, что поднимался с закрытым ртом; я все увеличивал расстояние между моими передышками и убеждал себя: "дойду до такого-то места, не ослабевая"; потом, дойдя до цели и находя награду в своей удовлетворенной гордости, я дышал глубоко, сильно, так что мне казалось, что воздух проникает более активно в мои легкие. Я переносил на этот уход за телом всю мою прежнюю старательность. Я делал успехи.
Я подчас удивлялся такому быстрому возвращению здоровья. Я приходил к мысли, что я вначале преувеличивал тяжесть своей болезни, я доходил до того, что сомневался в самой своей болезни, смеялся над своим кровохарканьем, жалел, что мое выздоровление было недостаточно трудным.
Я сначала очень глупо лечился, не зная потребностей своего организма. Я терпеливо изучил их и дошел в осторожности и заботах о себе до такой изощренности, что забавлялся этим, как игрой. То, от чего я еще сильно страдал, это была моя болезненная чувствительность к малейшим изменениям температуры. Теперь, когда мои легкие были здоровы, я приписывал эту болезненную чувствительность моей нервозности, наследию болезни. Я решил это побороть. Прекрасная загорелая кожа, как бы насыщенная солнцем, крестьян, работавших с небрежно открытой грудью в поле, возбудила во мне желание так же загореть. Однажды утром, раздевшись догола, я посмотрел на себя; вид моих слишком худых рук, плеч, которых величайшие мои усилия не могли выпрямить, особенно же белизна или, вернее, бесцветность моей кожи наполняли меня стыдом и довели до слез. Я быстро оделся и, вместо того чтобы отправиться в Амальфи, пошел по направлению к скалам, поросшим низкой травой и мохом, подальше от жилищ, подальше от дорог, туда, где, я знал, меня не могли увидеть. Придя туда, я медленно разделся. Воздух был очень свежий, но солнце жгло. Я подставил все свое тело его огню. Я садился, ложился, поворачивался. Я чувствовал под собой твердую землю; трепещущие травы прикасались ко мне. Несмотря на то, что я был защищен от ветра, я дрожал и трепетал от каждого дуновения. Скоро меня обволокла восхитительная жара; все мое существо приливало к коже.
Мы прожили в Равелло две недели; каждое утро я возвращался на скалы лечиться. Вскоре избыток одежды, бывшей на мне, стал для меня стеснительным и ненужным; моя выдубленная кожа перестала непрерывно потеть и стала защищаться собственным теплом.
Утром в один из последних дней (это было в середине апреля) я решился еще на большее. В расщелине скалы, о которой я вам рассказывал, бежал прозрачный родник. Он тут же падал водопадом, правда не очень большим, но дальше, под водопадом, образовался более глубокий водоем, в котором задерживалась совсем чистая вода. Три раза я приходил туда, наклонялся, ложился на берегу, полный жажды и желаний; я подолгу разглядывал каменное, гладкое дно, где не было ни малейшей грязи, ни травы, и где, дрожа и блестя, светилось солнце. На четвертый день я подошел, заранее решившись, к воде, еще более прозрачной, чем обычно, и без долгого раздумья сразу окунулся в нее. Быстро охладившись, я вышел из воды и лег на траву на солнце. Там росла душистая мята; я сорвал ее, смял ее листы, растер ею свое влажное, но пылающее тело. Я долго смотрел на себя уже без всякого стыда, с радостью. Я находил себя если еще не сильным, то на пути к силе, гармоничным, чувственным, почти прекрасным.
VII
Таким образом, вместо деятельности, вместо работы, я довольствовался физическими упражнениями, которые, конечно, были связаны с моей изменившейся моралью, но которые казались мне теперь только устремлением, средством и не удовлетворяли меня уже больше сами по себе.
О другом моем поступке, быть может, смешном в ваших глазах, я вам все же расскажу, так как в своей ребячливости он подчеркивает мучившее меня желание проявить во мне изменение моего существа: в Амальфи я побрился.
До этого дня я носил бороду и усы, а волосы на голове коротко стриг. Мне не приходило в голову, что я могу иметь другой вид. И вдруг, в тот день, когда в первый раз я лег голым на скале, борода мне помешала; это было как бы последней одеждой, которой я не мог снять; она казалась мне фальшивой; она была тщательно подстрижена не клинышком, а квадратно, и внезапно мне показалась неприятной и смешной. Вернувшись к себе в гостиницу, я посмотрелся в зеркало и не понравился себе; у меня был вид того, кем я был до сих пор, – археографа. Сразу после завтрака я спустился в Амальфи с готовым решением. Город очень невелик; мне пришлось удовольствоваться дрянной цирюльней. Был базарный день; помещение было полно народу; мне пришлось бесконечно долго ждать; но ничто, ни сомнительная бритва, ни желтая кисточка, ни скверный запах, ни болтовня цирюльника – ничто не могло заставить меня отступить. Когда я почувствовал, как под ножницами падает моя борода, мне показалось, что я снимаю маску. И все же, когда я потом увидел себя, чувство, охватившее меня, еле сдерживаемое, было не радостью, а страхом. Я не объясняю этого чувства, я констатирую его. Я нашел свои черты довольно красивыми… нет, страх происходил от того, что мне казалось, будто моя голая душа видна всем, и от того, что она вдруг показалась мне страшной.
Зато я отпустил волосы на голове.
Вот все, что мое новое, еще праздное существо могло совершить. Я думал, что из него родятся удивительные для меня самого поступки; но это попозже, говорил я себе, попозже, когда мое существо станет более полным. Принужденный жить в ожидании, я как Декарт, придерживался предварительного образа действий. Таким образом, Марселина могла еще ошибиться. Правда, мой изменившийся взгляд и особенно в тот день, когда я появился без бороды, новое выражение моего лица способны были обеспокоить ее, но она уже слишком меня любила, чтобы как следует меня видеть; к тому же я успокоил ее, как мог. Необходимо было, чтобы она не мешала моему возрождению; чтобы скрыть его от ее глаз, надо было притворяться.
Ведь тот, кого Марселина любила, тот, за кого она вышла замуж, это было не мое "новое существо". И я повторял себе это, чтобы заставить себя скрываться. Таким образом, я отдавал ей только свой образ, который становился изо дня в день тем лживее, чем более он был неизменен и верен прошлому.
Итак, пока что мои отношения с Марселиной оставались прежними, хотя с каждым днем все более взволнованными, потому что росла любовь. Даже мой обман (если можно назвать обманом потребность охранять мою душу от ее суда), даже мой обман усиливал нашу любовь. Я хочу сказать, что благодаря этой игре я непрерывно думал о Марселине. Быть может, эта необходимость лжи меня слегка тяготила; но я быстро пришел к убеждению, что худшие на свете вещи (ложь, например, не говоря о другом) трудны только до тех пор, пока их делаешь, но что каждая из них, и очень скоро, становится удобной, приятной, легкой к повторению и скоро совсем естественной. Как во всякой вещи, первоначальное отвращение к которой побеждено, я кончил тем, что стал находить удовольствие в самом этом обмане, увлекаться им, как игрой моих, еще неведомых мне, способностей. И с каждым днем я продвигался, в моей все более богатой и полной жизни, к более сладостному счастью.
VIII
Дорога из Равелло в Сорренто так прекрасна, что я в то утро не пожелал бы ничего более прекрасного в мире. Горячая жесткость скал, обилие воздуха, ароматы, прозрачность – все наполняло меня чудесным обаянием жизни, и этого было до такой степени достаточно, что, казалось, одна лишь легкая радость жила во мне; воспоминания и сожаления, надежды и желания, будущее и прошлое – молчали; я знал тогда о жизни только то, что приносило с собой и уносило мгновение. "О, телесная радость! – восклицал я. – Уверенный ритм моих мускулов! Здоровье!"
Я вышел рано утром без Марселины – ее слишком спокойная радость умерила бы мою, как и ее шаги замедлили бы мои. Она должна была приехать в экипаже в Позитано, где мы условились завтракать.
Я подходил к Позитано, когда шум колес, вторивший странному пению, заставил меня обернуться. Сначала я ничего не увидел из-за поворота дороги, которая в этом месте идет вдоль берегового обрыва; потом внезапно появился беспорядочно несущийся экипаж; это был экипаж Марселины. Кучер пел благим матом, размахивая руками, привставал на козлах и дико хлестал обезумевшую лошадь. Какое животное! Он проехал мимо меня, так что я едва успел посторониться, и не остановился на мой окрик… Я бросился вперед, но экипаж несся слишком быстро. Я одинаково трепетал, что Марселина выскочит из коляски или что она в ней останется; сделав скачок, лошадь могла вбросить ее в море… Вдруг лошадь надает. Марселина вскакивает, хочет бежать, но я уже подле нее. Кучер, завидев меня, накидывается на меня с ужасной бранью. Взбешенный поведением этого человека, я при первом же его ругательстве бросился на него и стащил с козел. Я покатился на землю вместе с ним, но не потерял превосходства над ним; он, казалось, растерялся от падения и вскоре был совсем ошеломлен, когда, видя, что он хочет укусить меня, я ударил его кулаком прямо в лицо. Я по-прежнему не отпускал его, придавив его грудь коленом и стараясь овладеть его руками. Я смотрел на его мерзкое лицо, еще более обезображенное моим ударом; он плевался, пускал слюну, ругался, у него текла кровь, у, гнусное существо! Поистине, я считал себя вправе задушить его, и, быть может, я бы это сделал… по крайней мере, я считал себя способным на это, и я почти уверен, что только мысль о полиции меня удержала.
Мне не без труда удалось крепко связать этого бесноватого. Я бросил его в экипаж, как мешок.
Ах, каким взглядом и какими поцелуями обменялись мы тогда с Марселиной! Опасность была невелика; но мне пришлось выказать свою силу – для того, чтобы защитить ее. Мне в эту минуту казалось, что я мог бы отдать свою жизнь за нее… и отдать ее с радостью… Лошадь поднялась. Предоставив коляску пьянице, мы оба уселись на козлах и, кое-как правя, добрались до Позитано, а потом до Сорренто.
В эту ночь я обладал Марселиной.
Ясно ли это вам, или я должен еще раз повторить вам, что я был новичком в делах любви. Быть может, именно моя неопытность придала такое очарование нашей брачной ночи… Потому что мне кажется, когда я теперь вспоминаю, что эта первая ночь была единственной, до такой степени ожидание и неожиданность любви усилили прелесть наслаждения, до такой степени одной ночи достаточно, чтобы воплотилась величайшая любовь; вот почему мое воспоминание так упорно возвращается только к этой одной ночи. Это было единое мгновение смеха, в котором слились наши души… И мне кажется, что в любви есть черта, единственная, которую душа позже, – ах, напрасно! – старается переступить; и что усилие, которое она делает, чтоб воскресить свое счастье, изнашивает ее; и что ничто так не мешает счастью, как память о счастье. Увы, я помню эту ночь…
Наша гостиница была за городом, окруженная рощами и плодовыми садами, наша комната выходила на обширный балкон; ветви деревьев касались его. Заря свободно вошла в наше широко раскрытое окно. Я тихонько приподнялся и нежно склонился над Марселиной. Она спала и во сне будто улыбалась. Я показался себе сильным рядом с нею, более хрупкой, и я почувствовал, что ее прелесть была непрочной. Неспокойные мысли закружились в моей голове. Я думал о том, что она не лжет, говоря, что я – все для нее; потом сразу же: "Что я делаю, чтобы принести ей радость? Почти каждый день я ее покидаю одну; она ждет от меня всего, а я ее бросаю… Ах, бедная, бедная Марселина!.." Мои глаза наполнились слезами. Напрасно я искал оправдания в моей прошедшей болезни; имел ли я теперь право на постоянные заботы о себе, имел ли право на эгоизм? Не был ли я теперь сильнее, чем она?
Улыбка сошла с ее лица. При свете все позолотившей зари она показалась мне теперь грустной и бледной; а может быть, приближение утра располагало мою душу к тоске. "Не придется ли мне в свою очередь когда-нибудь ухаживать за тобой, беспокоиться о тебе, Марселина?" – воскликнул я в глубине души. Я вздрогнул и, весь цепенея от любви, жалости, нежности, тихонько коснулся ее закрытых глаз самым нежным, самым влюбленным, самым набожным поцелуем.
IX
Те несколько дней, что мы прожили в Сорренто, были радостны и очень спокойны. Вкушал ли я когда-нибудь такой покой, такое счастье? Испытаю ли это когда-нибудь еще? Я был непрерывно подле Марселины. Занимаясь больше ею, чем собою, я испытывал от беседы с нею такую радость, как от молчания предыдущих дней.
Сначала я был удивлен, почувствовав, что нашу бродячую жизнь, как я думал, вполне меня, удовлетворяющую, она принимала лишь как нечто временное; но сразу же я понял бездеятельность этой жизни; я признал, что она должна быть временной, и в первый раз желание работать, порожденное долгим безделием и моим окрепшим здоровьем, заставило меня заговорить серьезно о возвращении; по той радости, которую выказала Марселина, я понял, что она давно думала об этом.
Между тем, некоторые труды по истории, о которых я снова стал подумывать, утратили для меня свою привлекательность. Я вам уже говорил, что со времени моей болезни отвлеченное и равнодушное познание прошлого казалось мне пустым. И если прежде я мог заниматься филологическими изысканиями, стараясь, например, определить степень готского влияния на изменение латинского языка и, пренебрежительно отворачиваясь от образов Теодориха, Кассиодора, Амаласунты и их поразительных страстей, восхищался лишь следами, памятниками, оставшимися от их жизни, – теперь эти самые следы и вся филология в целом стали для меня средством проникновения в открывшееся мне дикое величие и благородство. Я решил серьезно заняться эпохой и ограничиться на некоторое время изучением последних лет готского владычества, воспользовавшись предстоящей нам остановкой в Равенне, которая была главной ареной этой трагедии.
Признаться ли вам, меня больше всего привлекал образ юного короля Аталариха. Я представлял себе пятнадцатилетнего мальчика, глухо подстрекаемого готами на возмущение против матери его Амаласунты; представлял, как он брыкается против своего латинского воспитания, сбрасывает культуру, как жеребец сбрасывает стесняющую его сбрую, предпочитая обществу слишком мудрого и старого Кассиодора грубых готов; как он в обществе жестких своих сверстников-любимцев вкушает несколько лет бурной, страстной и разнузданной жизни, чтоб окончательно испорченным и погрязшим в разврате умереть в восемнадцать лет. Я находил в этом трагическом порыве к более дикой цельной жизни что-то общее с тем, что Марселина, улыбаясь, называла "моим переломом". Я искал в этом удовлетворение для своего ума, раз я не занимал этим своей плоти; и в ужасной смерти Аталариха я изо всех сил старался найти жизненный урок.
Перед Равенной, где мы должны были поселиться на две недели, мы решили быстро осмотреть Рим и Флоренцию, потом, не заезжая в Венецию и Верону, поспешить уже без всяких остановок в Париж. Мне доставляли какое-то совсем новое удовольствие разговоры о будущем с Марселиной; была еще некоторая неуверенность в вопросе о лете; мы оба устали от путешествий, и нам не хотелось снова уезжать; мне хотелось полнейшего покоя для моих занятий; и мы вспоминали об одном доходном имении между Лизье и Пон-Левеком в самой лесистой части Нормандии: это имение принадлежало когда-то моей матери, и я с ней несколько раз в детстве проводил там лето, но после ее смерти больше туда не возвращался. Мой отец поручил заведывание этим имением старому управляющему, который взимал в нашу пользу арендную плату с фермеров и аккуратно нам ее высылал. У меня сохранились чудесные воспоминания о большом и очень удобном доме, окруженном садом с ручьями; имение называлось Ла Мориньер; я подумал, что там было бы приятно пожить.
Я замышлял провести следующую зиму в Риме, но уже не в качестве путешественника, а ради научной работы… Но этот план быстро рухнул: в числе важных писем, давно ожидавших нас в Неаполе, было одно, в котором внезапно мне сообщили о том, что мое имя усиленно называлось в связи с вакантной кафедрой в Колеж де Франс; это было только заместительство, но именно оно должно мне предоставить в будущем большую свободу; приятель, сообщавший мне это, указывал несколько нетрудных шагов, которые надо было предпринять в случае моего согласия, и очень уговаривал меня принять эту должность. Я колебался, видя в этом прежде всего рабство: потом подумал, что было бы интересно изложить в виде лекций мою работу о Кассиодоре… В конце концов, меня убедила мысль об удовольствии, которое я этим доставлю Марселине. И, как только я принял решение, я стал видеть в нем одни лишь хорошие стороны.
В ученом мире Рима и Флоренции мой отец поддерживал связи, а я был в переписке с некоторыми его знакомыми. Они дали мне возможность произвести нужные мне разыскания в Равенне и других местах; в эти дни я думал только о работе. Марселина старалась облегчить мне ее тысячами милых и трогательных забот обо мне. Наше счастье в конце этого путешествия было таким ровным и спокойным, что я ничего не могу рассказать о нем. Лучшие человеческие творения неизбежно дышат скорбью. Чем был бы рассказ о счастье? Лишь то, что подготовляет его, потом то, что его разрушает, подлежит рассказу.
И теперь я рассказал вам все, что его подготовило.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Мы приехали в Ла Мориньер в первых числах июля, остановившись в Париже лишь на столько времени, сколько потребовали необходимые покупки и кое-какие визиты.
Как я уже говорил вам, Ла Мориньер расположен между Лизье и Пон-Левеком, в самом мокром месте, какое я знаю. Ряд узких и мягко изогнутых лощинок тянется до очень широкой Ожской долины, которая полого спускается к самому морю. Никакого горизонта; таинственные лесные чащи; кое-где поля, но особенно много лугов, пажитей на мягких склонах, где густую траву косят два раза в год, где сливаются тени от множества яблонь в часы заката и где пасутся свободные стада; в каждом углублении – вода; пруд, болото и речка; непрерывно слышно журчанье.
Ах, как легко я узнал этот дом, голубую крышу, кирпичные и каменные стены, наполненные водою рвы, отражения в спящей воде… Это был старый дом, в котором могло бы поместиться больше двадцати человек. Нам с Марселиной и тремя слугами было трудно, хотя я иногда и помогал этому, оживить хотя бы часть дома; наш старый управляющий, которого звали Бокаж, приготовил уже для нас, как мог, несколько комнат; мебель просыпалась от двадцатилетнего сна; все оставалось таким, каким оно жило в моей памяти; отделка не слишком обветшала, и комнаты были совсем жилыми. Чтобы лучше нас принять, Бокаж наполнил цветами все вазы, какие нашел. Он велел выполоть и вычистить внутренний двор и ближайшие к дому аллеи парка. Когда мы подъезжали, дом был освещен последними лучами солнца, и к нему поднимался из долины неподвижный туман, одновременно скрывающий реку, выдавая ее. Еще не доехав до места, я вдруг узнал запах травы, и когда я снова услышал вокруг дома пронзительные крики ласточек, внезапно встало передо мной все прошлое, будто оно ожидало меня и, узнав, захотело сомкнуться при моем приближении.
Через несколько дней дом стал почти совсем обитаемым; я мог бы уже приняться за работу; я медлил, прислушиваясь к подробно напоминающему о себе прошлому, потом вскоре отдавшись слишком новому волнению: через неделю после нашего приезда Марселина призналась мне, что она беременна.
С тех пор мне стало казаться, что я обязан окружить ее новыми заботами и что она имеет право на большую нежность; по крайней мере, первое время после того, как она доверила мне это, я проводил подле нее почти целые дни.
Мы направлялись с ней к лесу и садились на ту скамейку, на которой я когда-то сиживал с матерью; там каждое мгновение нам казалось сладостнее, и более незаметно текли часы. От этого периода моей жизни у меня не сохранилось ни одного отчетливого воспоминания, и это не потому, что я менее благодарен ему, – но только потому, что все смешивалось, сливалось в одно общее чувство благосостояния: вечер сменялся утром без резкого разрыва и дни без неожиданностей сплетались с днями.
Я постепенно принялся за свою работу со спокойной, ясной душой, уверенный в своей силе, глядя доверчиво и без волнения на будущее с как бы смягченной волей и прислушиваясь к советам этой мягкой природы.
"Нет никакого сомнения, – думал я, – что пример этой земли, где все готовится к плоду, к полезной жатве, окажет на меня превосходное влияние". Я восхищался спокойным будущим, которое обещали эти мощные быки, эти тельные коровы на обильных лугах. Правильно рассаженные на удобных склонах холмов яблони сулили в это лето превосходный урожай; я мечтал о богатом грузе плодов, под которыми скоро склонятся их ветви. В этом упорядоченном обилии, в этом радостном подчинении, в этих веселых всходах, гармонии не случайная, а установленная, красота человеческая и вместе с тем природная, и непонятно было, чем восхищаешься, до такой степени сочетались в совершенном согласии плодоносный взрыв свободной природы и умелое усилие человека, управлявшего ею. Чем было бы это усилие, думал я, без могучей, дикой мощи, которую оно обуздывает? Чем был бы дикий порыв бьющих через край соков без разумного усилия, которое сдерживает их и смеясь приводит к изобилию? И я предавался мечтам о странах, где силы были бы так напряжены, всякий расход так возмещен, всякий обмен так точен, что малейший убыток был бы ощутим; потом, применяя мои мечты к жизни, я строил систему нравственности в виде науки о наилучшем применении своих сил, управляемых сдерживающим разумом.
Куда уходило, где пряталось тогда мое недавнее буйство? Я был так спокоен, что, казалось, его никогда не было. Волна моей любви залила его без остатка…
Между тем, старый Бокаж изо всех сил старался; он распоряжался, следил, советовал; до крайности чувствовалось его желание казаться необходимым. Чтобы его не обижать, приходилось проверять его счета, слушать без конца его бесконечные объяснения. Но и этого ему было недостаточно; мне приходилось сопровождать его в поля. Его прописная добросовестность, его постоянные разговоры, явное довольство собой, выставление напоказ своей честности – все это через некоторое время мне наскучило; он становился все более и более назойливым, и все средства казались мне хороши, чтобы снова добиться покоя, – когда вдруг неожиданное событие изменило мои с ним отношения. Однажды вечером Бокаж сообщил мне, что ждет завтра своего сына Шарля.
– А, – сказал я равнодушно, не особенно интересуясь детьми, которые могли быть у Бокажа; потом, видя, что мое равнодушие его огорчает и что он ждет от меня выражения некоторого интереса или удивления, я спросил:
– А где он сейчас?
– На одной образцовой ферме около Алансона, – ответил Бокаж.
– Ему должно быть теперь около… – продолжал я, словно прикидывая возраст этого сына, о существовании которого я до сих пор не подозревал, и достаточно растягивая слова, чтобы он мог меня перебить…
– Семнадцать лет, – продолжал Бокаж, – ему было немного больше четырех, когда скончалась ваша матушка. О, он большой парень теперь; скоро он будет умнее своего отца… – И, раз начав говорить, Бокаж не мог уже больше остановиться, как ни явно показывал я ему знаки усталости.
На следующий день я успел уж забыть об этом, как вдруг под вечер только что приехавший Шарль появился засвидетельствовать Марселине и мне почтение. Это был красивый малый такого цветущего здоровья, такой гибкий и так хорошо сложенный, что даже ужасное городское платье, которое он надел в нашу честь, не могло сделать его слишком смешным; его застенчивость слегка усиливала его природный румянец. Ему можно было дать не больше пятнадцати лет – настолько его взгляд сохранил детское выражение; он объяснялся свободно, без ложного стыда, и в противоположность отцу не болтал без толку. Я не помню, о чем мы говорили в первый вечер; занятый тем, что разглядывал его, я не находил, что сказать ему, и предоставлял Марселине с ним разговаривать. Но на следующий день я в первый раз не стал ждать, чтоб старик Бокаж зашел за мной и повел на ферму, где, как я знал, были начаты работы.
Надо было починить бассейн. Бассейн этот, обширный, как пруд, дал течь; место течи было известно, и его должны были залить цементом. Надо было прежде всего спустить воду из бассейна, чего не делалось целых пятнадцать лет. В нем в изобилии водились карпы и лини, некоторые очень большие, не всплывавшие на поверхность. Мне хотелось развести их во рвах и оделить ими рабочих, чтобы таким образом удовольствие рыбной ловли присоединилось на этот раз к работе; это вызвало необычайное оживление на ферме; из окрестностей пришло несколько детей и смешалось с рабочими. Даже Марселина должна была попозже присоединиться к нам.
Вода уже давно стала понижаться, когда я пришел. Порой сильная рябь морщила ее поверхность, и просвечивали коричневые спины потревоженных рыб. Дети, плескавшиеся в прибрежных лужах, ловили блестящую рыбешку и бросали ее в ведро с чистой водой. Вода, которую окончательно замутило волнение рыб, была землистого цвета и с каждой секундой становилась все темнее. Обилие рыб превзошло все ожидания, четверо работников с фермы вытаскивали их, опуская наудачу руки. Я жалел о том, что Марселина запаздывает, и уже собирался сбегать за ней, когда вдруг кто-то закричал, что появились угри. Их не удавалось схватить, они выскальзывали из рук. Шарль, который до тех пор стоял на берегу возле своего отца, не выдержал; он вдруг снял башмаки, носки, скинул куртку и жилет, затем, высоко закатав штаны и рукава рубашки, храбро влез в тину. Я тотчас же последовал за ним.
– Ну, Шарль, – крикнул я, – не правда ли, вы хорошо сделали, что приехали вчера?
Он ничего не ответил, но посмотрел на меня, смеясь, уже сильно увлеченный рыбной ловлей. Вскоре я попросил его помочь мне изловить большого угря; мы соединили наши руки, чтобы схватить его… Покончив с этим, мы принялись за другого; тина перепачкала наши лица; порой мы внезапно проваливались, и вода доходила нам до икр; скоро мы промокли насквозь. В пылу игры мы едва обменивались немногими восклицаниями, немногими словами, но под конец дня я заметил, что говорю «ты» Шарлю, не зная сам, как это началось. Это общее занятие ближе нас познакомило друг с другом, чем мог сделать долгий разговор. Марселина все не приходила, и так и не пришла, но я уже не жалел об ее отсутствии; мне казалось, что она немного помешала бы нашей радости.
На следующее утро я уже пошел на ферму за Шарлем. Мы направились вместе к лесу.
Я плохо знал свои владения и не очень старался их узнать; поэтому я был весьма удивлен, увидев, что Шарль отлично их знает, так же как и все, касающееся аренды; он сообщил мне, – я едва подозревал это, – что у меня шесть фермеров и я мог бы получать от шестнадцати до восемнадцати тысяч франков арендной платы, а если я получал только половину, то это потому, что все поглощали всяческий ремонт и оплата посредников. Улыбка, с которой он подчас поглядывал на засеянные поля, скоро заставила меня усомниться в том, что обработка моих владений так превосходна, как я сначала думал, судя по словам Бокажа; я стал наводить Шарля на эти темы, и тот практический склад ума, который меня раздражал в Бокаже, почему-то был мне приятен в этом мальчике. Мы стали гулять вместе каждый день, поместье было обширно, и, хорошенько осмотрев все его уголки, мы начали сначала, но уже более систематически. Шарль не скрывал от меня своего раздражения при виде некоторых плохо обработанных полей, пустырей, заросших дроком, чертополохом, всякими сорными травами; он заразил меня ненавистью к земле под паром и сумел внушить мне мечту о более высоких способах обработки.
– Но, – возражал я ему сначала, – ведь никто не страдает от этой плохой обработки. Только фермер, не правда ли? Если даже изменится доход с его фермы, ведь это не изменит аренды.
Шарль начинал сердиться:
– Вы в этом ничего не понимаете, – позволял он себе ответить, на что я тотчас начинал смеяться. – Беря в расчет только доход, вы не замечаете, что капитал от этого страдает. Ваша земля из-за плохой обработки постепенно обесценивается.
– Если бы она могла при лучшей обработке приносить больший доход, сомневаюсь, чтобы арендатор не сделал всего от него зависящего; я знаю, он слишком корыстен, чтобы не извлечь все, что возможно.
– Вы не учитываете, – продолжал Шарль, – что это требует добавочной рабочей силы. Часто земля лежит далеко от фермы. Ее обработка ничего или почти ничего не принесла бы, но по крайней мере сама земля не портилась бы…
И беседа продолжалась. Иной раз в течение часа, шагая по полям, мы повторяли все одно и то же; но я прислушивался и понемногу учился.
– В конце концов, это дело твоего отца, – сказал я ему однажды с раздражением.
Шарль слегка покраснел.
– Мой отец стар, – отвечал он. – У него и так много дела; ему приходится следить за выполнением договоров, за ремонтом построек, за правильным поступлением арендной платы. Не его дело здесь что-нибудь менять.
– А ты какие предложил бы перемены? – продолжал я.
Но он только отнекивался, уверяя, что мало в этом понимает, и лишь после долгих настояний я заставил его сказать то, что он думает.
– Отобрать у фермеров все земли, которые они не обрабатывают, – посоветовал он. – Если фермеры оставляют часть своих полей под паром, это доказывает, что у них больше земли, чем они могут оплатить; а если они захотят сохранить ее всю, повысьте арендную плату. Они все здесь лентяи, – добавил он.
Из шести моих ферм я охотнее всего заходил на ту, которая была расположена на холме, господствующем на Ла Мориньер; она называлась Ла Вальтри; арендатор, занимавший ее, не был мне антипатичен, и я охотно беседовал с ним. Ближе к Ла Мориньер находилась ферма, называвшаяся "Замковой фермой", сданная с половины по системе полуаренды, что позволяло Бокажу, ввиду отсутствия владельца, распоряжаться частью скота. Теперь когда во мне зародилось недоверие, я начал подозревать даже самого честного Бокажа в том, что, если он и не сам надувает меня, то по меньшей мере позволяет надувать меня другим. Правда, мне были предоставлены конюшни и коровник, но мне начало казаться, что это сделано лишь для того, чтобы фермер мог кормить своих коров моим овсом и сеном. До тех пор я добродушно выслушивал самые неправдоподобные новости, которые мне сообщал Бокаж: падежи, прирожденные уродства, болезни – я всему этому верил. Мне еще не приходило в голову, что стоило одной из фермерских коров заболеть, чтобы стать моей коровой, или моей корове быть совсем здоровой, чтобы тотчас стать фермерской; однако несколько личных наблюдений кое-что разъяснили мне; потом, уже насторожившись, я пошел быстро по этому пути.
Марселина, которой я сообщил свои предположения, аккуратно проверила все счета, но не нашла в них ни одной погрешности; счета были убежищем честности Бокажа. – Что делать? – Махнуть рукой. – Но теперь я с глухим раздражением наблюдал за лошадьми и коровами, не слишком это показывая.
У меня было четыре лошади и десять коров; этого было достаточно, чтобы меня терзать. Одну из моих четырех лошадей все еще называли «жеребенком», хотя ей было уже больше трех лет; ее в это время выезжали; это начинало меня интересовать, но в один прекрасный день мне пришли сказать, что с ним абсолютно нельзя справиться, никогда ничего нельзя будет сделать и что самое лучшее для меня будет избавиться от этого жеребенка. Как бы для того, чтобы опровергнуть мои возможные сомнения, ему дали разбить передок тележки и раскровянить себе ноги под коленями.
Мне было трудно в этот день сохранить спокойствие, и меня удерживало только то, что я стеснялся Бокажа. "В конце концов, – думал я, – он больше грешит слабостью, чем злой волей, а виноваты слуги; но они не чувствуют никакой узды".
Я вышел во двор посмотреть жеребенка. Слуга, державший и бивший его, при моем приближении стал его ласкать, я сделал вид, что ничего не заметил. Я не очень знал толк в лошадях, но этот жеребенок казался мне красивым; он был полукровка, светло-гнедой, изумительно стройный; у него был очень резвый взгляд, грива и хвост почти светлые. Я убедился в том, что он не ранен, потребовал, чтобы перевязали его ссадины, и ушел, не прибавив ни слова.
Вечером, когда я увиделся с Шарлем, я постарался узнать от него, что он думает о жеребенке.
– Я считаю его очень смирным, – сказал он, – но они не умеют с ним обращаться; он совсем сбесится у них.
– А ты бы как за него взялся?
– Не хотите ли доверить его мне на неделю? Я ручаюсь за него.
– Что ты с ним станешь делать?
– Вы увидите.
На следующий день Шарль повел жеребенка на луг в то место, где его огибала река и падала тень от великолепного орешника; я отправился туда тоже вместе с Марселиной. Это одно из моих самых ярких воспоминаний. Шарль привязал жеребенка веревкой длиною в несколько метров к крепко вбитому в землю колу. Слишком нервный, жеребенок сначала яростно стал рваться; затем, утомившись и присмирев, он стал бегать по кругу более спокойно; его удивительно упругая рысь ласкала взор и очаровывала как танец. Шарль, стоя в центре круга и перепрыгивая через веревку при каждом обороте, возбуждал его или успокаивал голосом; в руках его был длинный хлыст, но я не замечал, чтобы он пользовался им. Все в его фигуре и движениях, благодаря его молодости и веселью, придавало этой работе вид увлекательной забавы. Вдруг, каким-то образом, он оказался верхом; лошадь замедлила ход, потом остановилась; он слегка ее погладил, потом внезапно я увидел его уверенно сидящим верхом; он еле держался за гриву, смеялся и, наклонившись, продолжал ласкать животное. Одно мгновение жеребенок начал было брыкаться; теперь он снова шел такой ровной, красивой и гибкой рысью, что я позавидовал Шарлю и сказал ему это.
– Еще несколько дней дрессировки, и седло не будет уже беспокоить его; через две недели даже ваша жена сможет ездить на нем: он будет смирный, как ягненок.
Шарль был прав: через несколько дней лошадь доверчиво позволяла себя гладить, седлать, направлять; и в самом деле, Марселина могла бы кататься на ней, если бы позволяло состояние ее здоровья.
– Вы должны были бы, сударь, сами испробовать жеребенка, – сказал мне Шарль.
Я ни за что не сделал бы этого один, но Шарль предложил оседлать для себя другую лошадь с фермы; удовольствие сопровождать его увлекло меня.
Как я был благодарен моей матери за то, что она водила меня в детстве в манеж! Мне помогло воспоминание об этих давних уроках. Я не слишком удивился, очутившись верхом на лошади; через несколько секунд у меня прошел всякий страх, и я почувствовал себя вполне удобно. Лошадь Шарля была тяжелее, не породистая, но на вид приятная, особенно потому, что Шарль хорошо держался в седле. Мы усвоили привычку кататься немного каждый день; большей частью мы выезжали рано утром, когда трава была покрыта прозрачной росой; мы достигали опушки леса; нас обдавали брызгами совсем мокрые кусты орешника, которые мы задевали; вдруг открывался горизонт; то была широкая Ожская долина; вдали чувствовалось море. Мы останавливались на минуту, не слезая с коней; восходящее солнце окрашивало, отодвигало, рассеивало туман; потом мы крупной рысью ехали назад; мы немного отдыхали на ферме; работа едва начиналась; мы наслаждались гордой радостью, что мы первые и показываем пример рабочим; потом мы быстро оставляли их; я возвращался в Ла Мориньер к тому времени, когда Марселина вставала.
Я приезжал пьяный от воздуха и быстроты, с немного онемевшим телом от какой-то сладостной усталости, с душой, полной здоровья, жадности, свежести. Я заходил к ней, не снимая верховых сапог, и приносил к ее постели, где она лежала, ожидая меня, запах мокрых листьев; он ей нравился, по ее словам. Она слушала мои рассказы о нашей прогулке, о пробуждении полей, о начале работы… И казалось, что она тоже радуется тому, что я живу, как тому, что она сама живет. Вскоре я стал злоупотреблять и этой радостью, наши прогулки стали затягиваться, и иногда я возвращался только к полудню.
Однако я усердно посвящал остаток дня и вечер подготовке моего курса. Работа моя подвигалась вперед; я был ею доволен и не считал невозможным издать впоследствии мои лекции отдельной книгой. По какой-то естественной реакции, в то время как моя жизнь налаживалась, усваивала определенный порядок, и я с удовольствием налаживал все вокруг себя и руководил им, – я все больше и больше увлекался стародавней этикой готов, и в то время, как в своих лекциях со смелостью, в которой меня потом достаточно упрекнули, восторгался дикостью и строил ее апологию, я тогда же старательно пытался победить, если не совсем уничтожить, все то, что могло напомнить мне ее вокруг меня или во мне самом. До каких пределов доводил я эту мудрость или это безумие?
Двое из моих фермеров, срок аренды которых истекал к Рождеству, желая возобновить ее, пришли ко мне; надо было, согласно обычаю, подписать бумаги, так называемое "обещание аренды". Так как я был решительно настроен, благодаря доводам Шарля, и возбужден ежедневными беседами с ним, я уверенно ожидал арендаторов. Они, твердо помня, что арендатора не так легко заменить новым, потребовали сначала снижения арендной платы. Тем сильнее они были поражены, когда я прочел им «обещание», мною самим составленное, где я не только отказывался уменьшить арендную плату, но еще и отбирал у них некоторые участки земли, из которых они, как я полагал, не извлекали никакой пользы. Они сначала сделали вид, что принимают это за шутку… "Вы, конечно, шутите? Что вам делать с этими участками? Они ничего не стоят, и если мы с ними ничего не делаем, значит, с ними ничего и сделать нельзя…" Потом, видя, что я говорю серьезно, они заупрямились; я заупрямился тоже. Они думали напугать меня, грозя уйти. Я только и ждал этого.
– Хорошо, уходите, если желаете! Я вас не удерживаю, – сказал я им, взял обещание аренды и разорвал у них на глазах.
Итак, я остался с более чем ста гектарами земли на руках. Уже некоторое время я подумывал о том, чтобы поручить заведывание ими Бокажу, считая, что этим, хотя и косвенно, я передаю его Шарлю; я воображал также, что сам буду усиленно этим заниматься; впрочем, я почти не размышлял: самый риск предприятия соблазнял меня. Фермеры должны были уехать только около Рождества, до тех пор мы как-нибудь обернемся. Я сообщил об этом Шарлю; его радость сразу же не понравилась мне; он не мог скрыть ее; благодаря этому я еще сильнее почувствовал его чрезмерную молодость. Времени оставалось немного; наступила пора, когда снят урожай и земля свободна для запашки. По установившемуся обычаю, работы старого и нового фермера идут непрерывным порядком; первый оставляет свои владения участок за участком, как только снят урожай. Я боялся мести в качестве каких-нибудь проявлений враждебности со стороны обоих уволенных арендаторов, но они, наоборот, изображали по отношению ко мне полнейшую любезность (я только впоследствии узнал, из какой выгоды они это делали). Я пользовался этим, чтобы утром и вечером бродить по их полям, которые должны были скоро ко мне вернуться. Начиналась осень; пришлось взять больше рабочих, чтобы ускорить запашку и посев; мы купили бороны, катки, плуги; я разъезжал, наблюдал за работами, руководил ими, радовался тому, что сам распоряжаюсь и властвую.
Тем временем на соседних полях арендаторы начали сбор яблок; яблоки падали, катились в густую траву, их было так много, как еще никогда; не хватало работников; приходили из соседних деревень; их нанимали на неделю; Шарль и я иногда ради забавы помогали им. Некоторые сбивали с веток запоздалые плоды; отдельно складывали яблоки, которые сами падали от чрезмерной зрелости, иной раз подгнившие; часто они лежали побитые или раздавленные в высокой траве; не было возможности не наступать на них. Терпкий и сладкий запах, подымавшийся от полей, смешивался с запахом вспаханной земли.
Осень надвигалась. Утра последних ясных дней – самые свежие, самые прозрачные. Иногда влажный воздух синил даль, еще более отодвигая ее, и превращал прогулку в путешествие, неестественная прозрачность воздуха приближала горизонт; казалось, его можно было задеть крылом; я не знаю, что из двух наполняло душу большим томлением. Моя работа была почти закончена; по крайней мере я так говорил себе, чтобы иметь больше права отвлекаться от нее. Все время, которое я не проводил на ферме, я был около Марселины. Вместе мы выходили в сад; мы шли медленно; она томно и тяжело опиралась на мою руку; мы садились на скамейку, откуда видна была вся долина, которую вечер заливал светом. Она нежным движением опиралась на мое плечо, и мы так сидели до вечера, без жестов, без слов, чувствуя, как тает в нас день… Каким молчанием умела уже окутываться наша любовь! Это потому, что любовь Марселины была сильнее, чем выражающие ее слова, и я бывал подчас почти тоскливо взволнован этой любовью. Как иногда от дуновения трепещет совсем спокойная вода, так можно было прочесть на ее лице самое легкое волнение; таинственно она слушала в себе трепет новой жизни; я наклонялся над ней, как над глубоким и чистым водоемом, в самой глубине которого, насколько хватало зрения, видна была лишь одна любовь. Ах! Если только это было счастье, я знаю, что с той поры я хотел удержать его, как тщетно пытаешься удержать между рук убегающую воду; но я уже чувствовал рядом со счастьем что-то другое, что прекрасно расцвечивало нашу любовь, но так, как расцвечивает осень.
Осень надвигалась. Роса, с каждым утром все более мокрая, не высыхала на опушке леса; на заре она была белая. Утки на прудах били крыльями, они дико трепыхались, иногда видно было, как они поднимаются и с резким криком шумно летают над Ла Мориньер. Однажды утром они исчезли; Бокаж запер их. Шарль сказал мне, что их запирают каждую осень в пору перелета птиц. Через несколько дней погода переменилась. Как-то вечером вдруг поднялся сильный ветер, сильное, нераздельное дыханье моря, принесшее с севера дождь и унесшее перелетных птиц. Состояние здоровья Марселины, хлопоты об устройстве новой квартиры, подготовка к моим первым лекциям – все должно было торопить нас в город. Рано начавшаяся плохая погода прогнала нас.
Правда, из-за работ на ферме я должен был бы вернуться туда в ноябре. Я очень досадовал, узнав новые планы Бокажа; он объявил мне о своем желании снова отправить Шарля на образцовую ферму, на которой, как он считал, сыну надо было еще поучиться. Я долго спорил, пустил в ход все доводы, какие только мог придумать, но не мог его заставить уступить; он согласился только на то, чтобы несколько сократить это обученье, что позволило бы Шарлю вернуться немного раньше. Бокаж не скрывал от меня, что управление двумя фермами будет делом не легким; но он сообщил мне, что у него есть в виду два очень надежных крестьянина, которых он собирался взять к себе на службу; это будут почти фермеры, почти арендаторы, почти рабочие; дело было для нашего края слишком новым, чтобы он решался меня очень обнадеживать в смысле успеха; но, говорил он, "ведь вы сами этого захотели". Разговор этот происходил в конце октября. В первых числах ноября мы переехали в Париж.
II
Мы поселились на улице С., около Пасси. Квартира, которую нам подыскал один из братьев Марселины и которую мы осмотрели во время нашего последнего приезда в Париж, была гораздо больше перешедшей ко мне от отца, и Марселину немного беспокоила не только более высокая плата, но и всякие связанные с квартирой расходы. Ее страхам я противопоставлял свое притворное отвращение ко всему, что недоделано; я заставлял себя верить в это и намеренно это преувеличивал. Конечно, различные расходы по устройству превысят наш годовой доход. Но наше уже давно значительное состояние сейчас должно было еще увеличиться; я рассчитывал на свои лекции, на издание моей книги и даже – какое безумие! – на доходы со своих ферм. Поэтому я не останавливался ни перед какими тратами, убеждая себя при каждой из них, что я этим крепче связываю себя, и полагая, что вместе с тем я убиваю всякий вкус к бродяжничеству, который я ощущал – или боялся, что ощущаю – в себе.
Первые дни, с утра до ночи, у нас проходили в разъездах по делам; хотя вскоре брат Марселины очень любезно предложил взять некоторые из них на себя, Марселина быстро почувствовала сильную усталость. Потом, вместо отдыха, который ей был необходим, ей пришлось, как только мы устроились, принимать гостей за гостями; благодаря отдалению, в котором мы до сих пор жили, они теперь особенно охотно собирались у нас, а Марселина, отвыкшая от света, не умела сокращать визиты и не решалась вовсе не принимать; вечером я видел ее совсем замученной, и если я не беспокоился по поводу ее слабости, естественная причина которой мне была известна, то, по крайней мере, я старался ее уменьшить, часто принимая вместо нее, что доставляло мне мало удовольствия, а иногда отдавая визиты, что доставляло мне удовольствия еще меньше.
Я никогда не был блестящим собеседником. Салонное легкомыслие, дух салонов – вещь, которая мне никогда не нравилась; правда, я в прежнее время часто бывал в них – но это время было так далеко! Что произошло с тех пор? Я чувствовал себя рядом с другими тусклым, скучным, недовольным, стеснительным и вместе с тем стесненным… По несчастной случайности, вы, которых я тогда уже считал единственными моими друзьями, не были в Париже и должны были вернуться еще очень нескоро. Легче ли было бы с вами разговаривать? Быть может, вы бы меня лучше поняли, чем я понимал себя сам! Много ли я знал о том, что росло во мне и о чем я вам сегодня рассказываю? Будущее казалось мне вполне спокойным, и никогда я не считал себя настолько хозяином его, как тогда.
И даже если бы я был проницательнее, какую помощь против себя самого мог бы я найти в Гюбере, Дидье, Морисе и стольких других, которых вы знаете и цените не больше, чем я? Очень скоро, увы, я увидел невозможность быть понятым ими. С первых же бесед я увидел, что они как бы заставляют меня играть искусственную роль, заставляют, под страхом прослыть притворщиком, походить на того, кем я, с их точки зрения, был и остался; и для большего удобства я притворно принял мнения и вкусы, которые мне приписывали. Нельзя быть одновременно искренним и казаться им.
Я несколько охотнее встречался с людьми своей профессии, археологами и филологами, но в беседах с ними нашел немногим больше удовольствия и волнения, чем в перелистывании хороших исторических справочников. Вначале я еще надеялся найти более непосредственное понимание жизни у нескольких романистов и поэтов, но признаться, они его вовсе не обнаружили; мне казалось, что большинство из них не живет, а довольствуется тем, что кажется живущим, и еще немного – они стали бы рассматривать жизнь, как досадную помеху к сочинительству. Я не мог осуждать их за это; я не утверждаю, что ошибка была не с моей стороны… Впрочем, что я понимал под словом "жить"? – Это как раз то, чему мне хотелось, чтобы меня научили. Все они ловко рассуждали о разных жизненных событиях, но никогда о том, чем эти события определяются.
Что касается нескольких философов, которые должны были бы меня вразумить, я уже давно знал наперед, чего можно было ожидать от них; математики или неокантианцы, все они держались возможно дальше от волнующей действительности и интересовались ею не больше, чем математик интересуется реальным существованием величин, которые он измеряет.
Возвращаясь к Марселине, я не скрывал от нее скуки, которую рождали во мне эти встречи.
– Они все похожи друг на друга, – говорил я. – Каждый повторяет соседа. Когда я говорю с одним из них, мне кажется, что я говорю с несколькими.
– Но, мой друг, – отвечала Марселина, – вы не можете требовать от каждого из них, чтоб он отличался от всех остальных.
– Чем больше они похожи между собой, тем больше они отличаются от меня.
И потом я продолжал с печалью:
– Никто из них не сумел быть больным. Они живут так, как будто живут и не знают, что живут. Впрочем, я сам с тех пор, как бываю с ними, больше не живу. Например, сегодня что я делал? Я должен был оставить вас с девяти часов; перед уходом я едва поспел почитать немного; единственный хороший момент за день. Ваш брат ждал меня у нотариуса, и после нотариуса он уже не отставал от меня; я должен был отправиться с ним к обойщику; он мне мешал у краснодеревца, и я расстался с ним только у Гастона; я позавтракал в той части города с Филиппом, потом встретился с Луи, который ждал меня в кафе; прослушал с ним глупейшую лекцию Теодора, которого я осыпал похвалами по окончании; для того чтобы отказаться от его приглашения на воскресенье, мне пришлось проводить его к Артюру; с Артюром я смотрел выставку акварелей; завез карточки к Альбертине и Жюли… Измученный, я возвращаюсь и застаю вас такой же усталой, как я сам; вы видели Аделину, Марту, Жанну, Софи… и теперь вечером, когда я вспоминаю о всех занятиях этого дня, я чувствую, что этот день так напрасен, так пуст, что мне хочется схватить его на лету, начать его снова час за часом, – и мне грустно до слез.
Все же я не мог бы сказать, что я подразумевал под словом «жить», и не был ли причиной моего стеснения просто-напросто мой новый вкус к более просторной и свободной жизни, менее принужденной и связанной с другими людьми; причина эта казалась мне гораздо таинственнее; я думал, что это – тайна воскресшего, так как я оставался чужим среди людей, как выходец с того света. Вначале я испытывал лишь довольно мучительную растерянность, но скоро появилось совсем новое чувство. Я утверждаю, что раньше я не ощущал никакой гордости при выходе в свет моих трудов, за которые я получал столько похвал. Чувствовал ли я теперь гордость? Возможно, но к ней, во всяком случае, не примешивалось ни малейшего оттенка тщеславия. В первый раз в жизни у меня явилось сознание моей собственной ценности; важно было то, что отделяло, отличало меня от других. Мне надо было говорить то, чего никто, кроме меня, не говорил и не мог сказать.
Вскоре после этого я начал свой курс; так как меня побуждала к этому сама тема, я вложил в свою первую лекцию всю мою новую страсть. Заговорив о позднейшей латинской цивилизации, я изобразил тонкую культуру, подымающуюся над толщей народа, как некая секреция, которая вначале знаменует собою изобилие, избыток здоровья, потом сразу же застывает, твердеет, сопротивляется полному соприкосновению духа с природой и скрывает под упорной видимостью жизни ослабление самой жизни, создает футляр, в котором тоскует, прозябает, затем умирает стесненный дух. Словом, развивая до конца свою мысль, я заявил, что культура, рожденная жизнью, убивает жизнь.
Историки осудили мою тенденцию, как они говорили, к слишком поспешным обобщениям. Некоторые осудили мой метод; а те, кто хвалил меня, поняли меня еще меньше, чем все другие.
В первый раз я встретил Меналка при выходе из своей аудитории. Я с ним не был близок прежде, а незадолго до моей женитьбы он снова отправился в одну из своих дальних экспедиций, которые лишали нас его общества нередко на целые годы. Когда-то он мне совсем не нравился; он казался мне гордецом и не интересовался моей жизнью. Поэтому я был удивлен, увидев его на своей первой лекции. Даже его заносчивость, которая отталкивала меня от него раньше, понравилась мне, а улыбка, с которой он ко мне подошел, показалась мне тем более очаровательной, что я знал, как редко она у него бывает. Совсем недавно нелепый и позорный скандальный процесс послужил предлогом для газет, чтобы забрызгать его грязью; те, которых оскорбляло его пренебрежение и превосходство, ухватились за этот случай, чтобы отомстить ему; и больше всего раздражало их то, что он, казалось, не был огорчен этим.
– Надо позволить им выговориться, – отвечал он на оскорбления, – это утешает их в том, что они не могут предъявить ничего лучшего.
Но "хорошее общество" возмутилось, и те, кто, как говорится, "уважает себя", сочли нужным отвернуться от него, ответив на его презрение презрением. Это являлось для меня только лишним поводом: привлекаемый к нему тайной силой, я подошел и дружески обнял его на глазах у всех.
Увидев, с кем я разговариваю, последние из докучавших мне удалились; я остался один с Меналком.
После раздражающей критики и глупейших комплиментов я почувствовал отдых от немногих его слов по поводу моей лекции.
– Вы сжигаете то, чему поклонялись, – сказал он. – Это хорошо. Вы поздно к этому пришли, зато огню будет больше пищи. Я еще не знаю, хорошо ли я все понял; вы меня заинтересовали. Я не очень разговорчив, но мне хотелось бы побеседовать с вами. Давайте пообедаем вместе сегодня.
– Дорогой Меналк, – ответил я, – вы, кажется, забыли, что я женат.
– Да, это правда, – продолжал он, – видя сердечную простоту, с которой вы решились подойти ко мне, я мог вообразить, что вы более свободны.
Я испугался, что оскорбил его, но еще более побоялся показаться ему слабым; я сказал ему, что приду к нему после обеда.
Меналк жил в гостинице, так как бывал в Париже всегда только проездом; в свой последний приезд он велел приготовить себе несколько комнат в виде квартиры; у него были там собственные слуги, он питался отдельно, жил отдельно; он затянул стены и закрыл мебель, банальное безобразие которой оскорбляло его, драгоценными тканями, привезенными им из Непала и предназначаемыми им, – после того как он, по его собственному выражению, достаточно загрязнит их, – в дар какому-нибудь музею. Я так спешил к нему, что застал его еще за столом; и так как я извинился, что прервал его обед, он ответил мне:
– Но я вовсе не собираюсь прерывать его и надеюсь, что вы дадите мне его докончить. Если бы вы пришли к обеду, я бы угостил вас ширазским вином, воспетым Гафизом, но теперь слишком поздно: его можно пить только натощак; но, может быть, вы выпьете ликера?
Я согласился, думая, что он тоже будет пить; потом, видя, что принесли лишь одну рюмку, я выразил удивление.
– Извините меня, – сказал он, – но я почти никогда не пью.
– Вы боитесь опьянения?
– О, нет, напротив. Но я считаю трезвость более сильным опьянением; я тогда сохраняю ясность мысли.
– И вы подливаете вино другим…
Он улыбнулся и сказал:
– Я не могу от всех требовать своих добродетелей. Хорошо уже, если я нахожу в них свои пороки.
– Вы, по крайней мере, курите?
– Тоже нет. Это безличное, отрицательное опьянение, к тому же слишком легко достижимое; я в опьянении ищу возбуждающего расширения, а не ослабления жизни. Но оставим это. Знаете, откуда я приехал сейчас? Из Бискры. Узнав, что вы только что перед этим были там, я захотел найти следы вашего пребывания. Зачем приехал в Бискру этот слепой эрудит, этот начетчик? Я соблюдаю скромность лишь по части того, что мне доверили; относительно же того, что я сам узнаю, признаюсь, мое любопытство безгранично. Поэтому я искал, рылся, расспрашивал всюду, где мог. Моя нескромность сослужила мне службу, так как у меня явилось желание вас увидеть; так как вместо ученого рутинера, которого я видел в вас прежде, я знаю, что должен видеть теперь… вы должны сами сказать кого.
Я почувствовал, что краснею.
– Что же вы узнали обо мне, Меналк?
– Вы хотите знать? Значит, вы не боитесь! Вы достаточно знаете своих и моих друзей, чтобы быть уверенным, что я ни с кем не стану говорить о вас. Вы видели, как была понята ваша лекция.
– Но ничто еще не доказывает мне, что я мог говорить с вами больше, чем с другими, – возразил я с легким раздражением. – Ну, что же вы узнали обо мне?
– Прежде всего, что вы были больны.
– Но в этом нет ничего…
– О, это уже очень важно. Потом мне рассказали, что вы охотно гуляли один и без книги (вот здесь-то я начал восхищаться); или когда вы были не один, то вы охотнее гуляли с детьми, чем с вашей женой… Не краснейте, или я не стану рассказывать продолжение.
– Говорите, не глядя на меня.
– Один из мальчиков, – его зовут Моктир, если я верно запомнил, – красивый, как мало кто, вор и плут, как никто, мог, мне кажется, много порассказать; я привлек его, купил его доверие, что, как вы знаете, нелегко, так как мне кажется, что он лгал и тогда, когда уверял, что уже больше не лжет… Скажите же мне, правда ли то, что он рассказал мне про вас?
Меналк встал, вынул из ящика маленькую коробочку и открыл ее.
– Эти ножницы ваши? – спросил он, протягивая мне что-то бесформенное, ржавое, затупленное, испорченное; однако я без труда узнал маленькие ножницы, которые у меня украл Моктир.
– Да, это они самые, ножницы моей жены.
– Он уверяет, что взял их у вас, когда однажды вы были с ним вдвоем в комнате и отвернулись от него, но самое интересное не это; он утверждает, что в тот момент, когда он прятал их под свой бурнус, он понял, что вы наблюдали за ним в зеркале, и он поймал ваш взгляд, следивший за ним. Вы видели, как он крал, и ничего не сказали. Моктир был очень удивлен вашим молчанием… я тоже.
– Я не менее удивлен тем, что вы мне рассказываете. Как? Значит, он знал, что я его поймал?
– Не в этом дело; вы пытались перехитрить друг друга; но в этой игре дети нас всегда обыгрывают. Вы думали, что держите его, а на самом деле он держал вас в руках… Не в этом дело. Объясните мне ваше молчание.
– Я сам бы хотел, чтобы мне кто-нибудь его объяснил. Мы некоторое время молчали.
Меналк, ходивший взад и вперед по комнате, рассеянно зажег папиросу, потом тотчас ее бросил.
– По-видимому, – продолжал он, – есть одно «чувство», как говорится, «чувство», которого вы лишены, милый Мишель.
– Может быть, "нравственное чувство"? – сказал я, пробуя улыбнуться.
– О, нет, просто чувство собственности.
– Мне кажется, что оно не очень развито и в вас?
– Его во мне так мало, что здесь, как видите, мне ничто мне принадлежит; или даже, вернее, особенно не принадлежит мне постель, в которой я сплю. Мне отвратителен покой; собственность располагает к нему, и в безопасности засыпаешь. Я достаточно люблю жизнь, чтобы жить бодрствуя, и сохраняю даже в моем богатстве чувство непрочности, которым я обостряю или по крайней мере волную мою жизнь. Я не хочу сказать, что люблю жизнь полную случайностей, и хочу, чтобы она в любой момент могла потребовать от меня все мое мужество, все счастье и все здоровье.
– Тогда в чем же вы упрекаете меня? – перебил я.
– О, как вы меня плохо поняли, милый Мишель; не глупо ли с моей стороны проповедовать свои убеждения! Если я так мало считаюсь с одобрением или порицанием других, то не для того, чтобы одобрять или порицать в свою очередь; эти слова почти лишены смысла для меня. Я сейчас слишком много говорил о себе; мне показалось, что меня поняли, и это увлекло меня… Я хотел только сказать, что для человека, лишенного чувства собственности, вы обладаете слишком многим; это важно.
– Чего же у меня так много?
– Ничего, если вы говорите таким тоном… Но не начали ли вы ваш курс лекций? Разве у вас нет имения в Нормандии? Разве вы не устроились недавно, и очень роскошно, в Пасси? Вы женаты. Разве вы не ждете ребенка?
– Но, – сказал я нетерпеливо, – это просто доказываем что я сумел устроить себе более «опасную» (как вы говорите) жизнь, чем ваша.
– Да, просто, – повторил иронически Меналк, потом резко повернулся и протянул мне руку.
– Ну, прощайте; на сегодняшний вечер достаточно, и мы ничего лучшего не скажем. Но – до скорого свиданья.
Некоторое время я не видел его.
Новые хлопоты, новые заботы заняли меня; один итальянский ученый сообщил мне новые открытые им документы, которые я подробно изучал теперь для своих лекций. То, что моя первая лекция была плохо понята, подстрекнуло мое желание по-иному, лучшим образом осветить следующие; это меня побудило изложить как теорию то, что я решался предлагать раньше лишь как остроумную гипотезу. Сколько людей, утверждавших что-либо, обязаны своей силой тому, что, по счастью, их не поняли с полуслова! Я признаюсь, что не могу выделить долю упрямства, которая, быть может, примешивалась к моему естественному желанию утверждать. То новое, что я должен был сказать, показалось мне тем более важным и необходимым, чем труднее было мне говорить и особенно заставить себя понять.
Но увы, насколько слова бледнеют рядом с действием! Жизнь, малейший жест Меналка не были ли в тысячу раз красноречивее моих лекций? Ах, как хорошо понял я тогда, что учение великих древних философов, почти целиком нравственное, проявлялось больше на примере, чем в словах.
Я увидел вновь Меналка уже у себя, почти через три недели после нашей первой встречи. Это было в конце слишком многолюдного вечера. Чтобы избежать ежедневного беспокойства, Марселина и я широко открывали свои двери по четвергам вечером: нам таким образом было легче закрывать их в другие дни. И вот те, которые называли себя нашими друзьями, приходили каждый четверг; просторность наших гостиных позволяла нам принимать их в большом числе, и вечера эти затягивались далеко за полночь. Я думаю, что гостей привлекала восхитительная любезность Марселины и удовольствие разговаривать между собой; что же касается меня, то уже после второго такого вечера мне нечего было слушать, нечего говорить, и я плохо скрывал скуку. Я переходил из курительной в гостиную, из передней в библиотеку; иногда меня задевала какая-нибудь фраза, но я мало наблюдал и смотрел, как бы не видя.
Антуан, Этьен и Годфруа, развалясь в изящных креслах моей жены, обсуждали последний законопроект, внесенный в Палату депутатов; Гюбер и Луи неосторожно перебирали и мяли изумительные офорты из коллекции моего отца. В курительной Матиас, чтобы удобнее слушать Леонарда, положил горящую сигару на стол розового дерева. Рюмка кюрасо была опрокинута на ковер. Альбер, неприлично разлегшийся на диване, пачкал грязными башмаками материю. И пыль, вдыхаемая нами, возникала из отвратительной порчи вещей… Меня охватило яростное желание вытолкать всех моих гостей. Мебель, ткани, гравюры, все теряло для меня ценность после первого пятна; запятнанные вещи – это вещи, пораженные болезнью, как бы обреченные смертью. Мне хотелось все охранить, запереть, спрятать для себя. "Как счастлив Меналк, у которого нет ничего своего, – думал я. – Я страдаю потому, что хочу сохранить. Но что мне, в сущности, за дело до всего этого?" В маленькой, более слабо освещенной гостиной, отделенной стеклянной стеной, Марселина принимала на подушках; она была ужасно бледна и показалась мне такой усталой, что я вдруг испугался и решил про себя, что этот вечер будет последним. Было уже поздно. Я хотел вынуть часы, как вдруг почувствовал в своем жилетном кармане маленькие ножницы Моктира.
– Ну, а он, зачем он украл их, чтобы сразу же испортить и уничтожить?
В этот момент кто-то слегка ударил меня по плечу; я резко обернулся: это был Меналк.
Он был почти один во фраке. Он только что пришел. Он попросил меня представить его моей жене; по собственному желанию я бы этого, конечно, не сделал. Меналк был элегантен, почти красив; громадные, свисающие, уже седые усы перерезали его пиратское лицо; холодное пламя его взгляда выражало скорее мужество и решительность, чем доброту. Как только он очутился перед Марселиной, я понял, что он ей не понравился. После того как они обменялись несколькими банально-любезными словами, я увел его в курительную.
Только что утром я узнал о новом назначении, которое он получил в министерстве колоний; различные газеты по этому поводу, вспоминая его полную приключений карьеру, казалось, забыли низкие оскорбления, которыми они осыпали его еще вчера, и не находили достаточных слов для похвалы ему. Они наперерыв раздували его заслуги перед родиной, перед человечеством, его необычайные открытия в последних экспедициях, будто все это он делал единственно из гуманных побуждений; и они восхваляли его самоотверженность, преданность, храбрость так, как если бы он должен был найти награду в этих похвалах.
Я начал его поздравлять; он перебил меня с первых же слов.
– Как, вы тоже, милый Мишель! Вы же меня раньше не оскорбляли, – сказал он. – Предоставьте газетам эти глупости. Они, кажется, удивляются нынче, что человек столь обесславленных нравов может еще обладать некоторыми достоинствами. Я не признаю для себя оговорок и разграничений, которые они хотели бы установить, и существую лишь как нечто целое. Я желаю только быть естественным, и в каждом моем поступке удовольствие, которое я от него получаю, мне порукою, что я должен был его совершить.
– Это может далеко завести, – сказал я.
– Я на это и рассчитываю, – возразил Меналк. – Ах, если бы все окружающие нас могли убедиться в этом! Но большая часть из них надеется добиться от себя чего-нибудь хорошего только принуждением; они нравятся самим себе только искалеченными. Каждый старается меньше всего походить на самого себя. Каждый выдумывает себе хозяина, потом подражает ему; он даже не выбирает себе хозяина, которому подражает; он принимает уже указанного хозяина. Однако, я думаю, что можно иное прочесть в человеке. Но не смеют. Не смеют перевернуть страницу. Законы подражания; я называю их законами страха. Человек боится остаться одиноким; и совсем не находит себя. Эта нравственная агорафобия мне отвратительна; это худший вид трусости. Между тем создает всегда одинокий. Но кто здесь хочет создавать? То, что чувствуешь в себе отличного от других, это и есть редкость, которой обладаешь; она-то и придает каждому его собственную ценность, и именно это все стараются уничтожить. Подражают. И думают, что любят жизнь.
Я не прерывал Меналка; он говорил то же самое, что месяц тому назад я говорил Марселине; итак, мне следовало согласиться с ним. Почему, из какого малодушия я перебил его и сказал, подражая Марселине, слово в слово ту фразу, которой она тогда меня прервала:
– Вы же не можете, милый Меналк, требовать от каждого, чтобы он отличался от всех остальных…
Меналк сразу замолчал, странно посмотрел на меня, потом, в то время как Эузебий подходил ко мне, чтобы проститься, он бесцеремонно повернулся ко мне спиной и заговорил с Гектором о незначительных вещах.
Как только я произнес свою фразу, она показалась мне глупой; и я особенно огорчился тем, что Меналк из-за этого мог подумать, что меня задели его слова. Было поздно, гости расходились. Когда гостиная почти уже опустела, Меналк подошел ко мне и сказал:
– Я не могу расстаться с вами так. Без сомнения, я неправильно понял ваши слова. Позвольте мне, по крайней мере, надеяться…
– Нет, – ответил я, – вы правильно их поняли… Но они были лишены смысла; едва я произнес их, как уже стал страдать от их глупости, особенно потому, что они должны были в ваших глазах поставить меня как раз в ряды тех, кого вы только что обвиняли и кто мне так же отвратителен, как и вам, я утверждаю это. Я ненавижу всех принципиальных людей.
– Это, – ответил Меналк со смехом, – самая ненавистная вещь на свете. От них нельзя ждать никакой искренности, потому что они делают лишь то, что им повелевают делать их принципы, иначе же они смотрят на то, что сделали, как на плохое. От одного подозрения, что вы, может быть, в их лагере, я почувствовал, как слова застыли у меня на губах. Печаль, которая тотчас же охватила меня, открыла мне, насколько сильна моя привязанность к вам; я желал, чтобы это оказалось ошибкой, – не привязанность к вам, а мое суждение.
– Действительно, ваше суждение было неверно.
– Ах! не правда ли! – сказал он с живостью, беря меня за руку. – Послушайте, я должен скоро уезжать, но я хотел бы еще повидать вас. Мое нынешнее путешествие будет более продолжительным и полным случайностей, чем другие; я не знаю, когда вернусь. Я должен уехать через две недели; здесь никто не знает, как близок мой отъезд; я только вам сообщаю это. Я уезжаю рано утром. Ночь перед отъездом всегда для меня полна ужасной тоски. Докажите мне, что вы не принципиальный человек; могу ли я рассчитывать, что вы захотите провести эту последнюю ночь со мной?
– Но мы увидимся еще до этого, – сказал я немного удивленно.
– Нет. Эти две недели я никого не буду принимать; и даже не буду в Париже. Завтра я уезжаю в Будапешт; через шесть дней я должен быть в Риме. Там живут друзья, которых я хочу обнять перед отъездом из Европы. Еще один друг ждет меня в Мадриде.
– Я согласен, я проведу эту ночь бдения с вами.
– И мы будем пить ширазское вино, – сказал Меналк.
Через несколько дней после этого вечера Марселина стала хуже себя чувствовать. Я уже говорил, что она часто недомогала; но она не любила жаловаться, а так как я приписывал ее недомогание беременности, то оно казалось мне вполне естественным, и я старался не беспокоиться. Старый, довольно глупый или недостаточно образованный врач сначала нас чрезмерно успокоил. Между тем ее новое недомогание, сопровождаемое жаром, заставило меня позвать доктора Т., который считался тогда лучшим специалистом в этой области. Он удивился, что я не позвал его раньше, и предписал точный режим, на который ей следовало бы перейти уже некоторое время тому назад. Из-за своего очень неосторожного мужества Марселина до этого дня переутомлялась; теперь до разрешения от бремени, которое ожидалось в конце января, она должна была лежать. Немного взволнованная и более слабая, чем она в этом хотела признаться, Марселина очень покорно подчинилась самым стеснительным предписаниям. Все же она оказала кроткое сопротивление, когда Т. прописал: ей хину в таких дозах, от которых, она знала, мог пострадать ее ребенок. В течение трех дней она упорно: отказывалась принимать ее; потом ей и этому пришлось подчиниться, так как жар усилился; но сделала она это; с большой грустью, словно с мучительным отречением от будущего; какое-то религиозное смирение сломило волю, которая поддерживала до сих пор, так что ее состояние резко ухудшилось в несколько дней.
Я окружил ее еще большими заботами и, как мог, успокоил ее, ссылаясь на мнение самого Т., не находившего ничего опасного в ее болезни; но сила ее тревоги наконец испугала и меня. Ах, как шатко уже тогда покоилось наше счастье на надежде, – надежде на столь неверное будущее! Я, который прежде любил только прошлое, я был опьянен; однажды внезапно сладостью мгновения – так думал я, – но будущее отнимает чары у настоящего еще сильнее, чем настоящее отнимает чары у прошлого; а со времени нашейночи в Сорренто вся моя любовь, вся моя жизнь стремилась; к будущему.
Наступил вечер, который я обещал провести с Меналком; и несмотря на то, что мне было неприятно оставлять; Марселину на целую зимнюю ночь, я изо всех сил постарался убедить ее в торжественности свидания и в важности моего обещания. Марселине в этот вечер было немного лучше, но все же я беспокоился; сиделка сменила меня у ее постели. Но как только я очутился на улице, мое беспокойство вспыхнуло с новой силой; я отгонял его, боролся, сердясь на самого себя за то, что не могу освободиться от него. Таким образом я мало-помалу дошел до состояния чрезмерного напряжения, до странной восторженности, очень непохожей и все же близкой к мучительному беспокойству, породившему ее, но еще более близкой к счастью. Было поздно, я шел большими шагами; падал густой снег; я был счастлив, что дышу более свежим воздухом, что борюсь против холода, счастлив в борьбе с ветром, ночью, снегом; я наслаждался своей энергией.
Меналк, услышавший мои шаги, показался на площадке лестницы. Он ждал меня нетерпеливо. Он был бледен и казался взволнованным. Он снял с меня пальто и заставил переменить мокрые сапоги на мягкие персидские туфли. На столике около камина были приготовлены лакомства. Две лампы освещали комнату, но менее ярко, чем камин. Меналк прежде всего справился о здоровье Марселины; для упрощения я сказал ему, что она чувствует себя совсем хорошо.
– Вы скоро ждете ребенка? – спросил он.
– Через месяц.
Меналк наклонился к огню, словно желая скрыть лицо. Он молчал. Он так долго молчал, что под конец мне стало совсем неловко, и я тоже не знал, что мне ему сказать. Я встал, сделал несколько шагов, потом, подойдя к нему, положил ему руку на плечо. Тогда, как бы продолжая свою мысль, он прошептал:
– Нужно сделать выбор. Самое важное знать, чего хочешь.
– Как! Разве вы не собираетесь уезжать? – спросил я его, не будучи уверен в смысле его слов.
– Кажется.
– Разве вы колеблетесь?
– К чему? Вы, у которого есть жена и ребенок, оставайтесь… Из тысячи форм жизни каждый человек может изведать только одну. Безумие – завидовать счастью другого; им нельзя было бы воспользоваться. Счастье не продается готовым, а только по мерке. Я уезжаю завтра; я знаю: я старался выкроить это счастье по своему росту… сохраняйте мирное счастье домашнего очага.
– Я тоже по своему росту кроил свое счастье! – воскликнул я. – Но я вырос; теперь мое счастье давит меня; иногда я почти задыхаюсь в нем!..
– Ба, вы привыкнете к нему! – сказал Меналк; потом он встал передо мной, пристально посмотрел мне прямо в глаза, и, так как я ничего не мог сказать ему, он улыбнулся несколько печально и продолжал:
– Думаешь, что ты владеешь, а на самом деле тобой владеют. Налейте себе ширазского вина, милый Мишель, вам не часто придется пить его, и возьмите этих розовых сластей, которые персы едят вместе с ним. Сегодня вечером я хочу пить с вами, хочу забыть, что завтра уезжаю, и разговаривать так, как если бы эта ночь была долгой… Знаете ли вы, что делает нынешнюю поэзию и особенно философию мертвой буквой? То, что обе они оторваны от жизни. Греция, – она идеализировала одновременно и жизнь, так что жизнь артиста сама уже была поэтическим воплощением; жизнь философа – проведение в дело его философии; смешанная с жизнью, вместо того чтобы чуждаться ее, философия питала поэзию, поэзия выражала философию, и убедительность их была поразительна. Теперь красота больше не действенна; действие не заботится о том, чтобы быть прекрасным, а мудрость живет особняком.
– Почему, – сказал я, – вы, воплощающий в жизнь вашу мудрость, не пишете мемуаров? Или, проще, – прибавил я, заметив его улыбку, – воспоминаний о ваших путешествиях?
– Потому что я не хочу вспоминать, – ответил он. – Если бы я делал это, мне бы казалось, что я мешаю будущему свершаться и даю власть прошлому. Из совершенного забвения вчерашнего дня я создаю новизну каждого часа. Никогда мне не достаточно того, чтобы был я счастлив. Я не верю в умершее и смешиваю то, чего больше нет, с тем, чего никогда не было.
Меня наконец раздражили эти слова, слишком предвосхищавшие мою мысль, мне хотелось вернуть его назад, остановить, но я тщетно искал возражений; к тому же я сердился на себя еще больше, чем на Меналка. Поэтому я молчал. Он то ходил взад и вперед, как дикий зверь в клетке, то наклонялся к огню, то молчал подолгу, то вдруг начинал говорить:
– Если бы еще наш ничтожный мозг умел хорошо «бальзамировать» воспоминания! Но они плохо сохраняются – самые нежные распадаются, самые сладострастные гниют; самые прелестные становятся позже самыми опасными. То, в чем раскаиваешься, было сначала восхитительным.
Снова долгое молчание; потом он опять говорил:
– Сожаления, угрызения, раскаяния – все это прошлые радости, которые мы видим со спины. Я не люблю смотреть назад, и я далеко за собой оставляю свое прошлое, как птица покидает свою тень, улетая. Ах, Мишель, всякая радость ждет нас постоянно, но хочет застать ложе пустым, быть единственной, хочет, чтобы человек шел к ней как вдовец. Ах, Мишель, всякая радость похожа на манну пустыни, которая гниет в один день; она похожа на воду Амелейского источника, упоминаемого Платоном, – воду, которую нельзя было удержать ни в одном сосуде… Пусть каждое мгновение уносит то, что оно принесло с собой.
Меналк говорил еще долго; я не могу пересказать сейчас всех его слов; между тем многие из них тем крепче врезались мне в память, чем скорее мне их хотелось забыть; не то чтобы они научили меня чему-нибудь очень новому, но они внезапно обнажали мою мысль, мысль, которую я скрывал под столькими покровами, что почти надеялся задушить… Так протекла ночь.
Когда утром, проводив Меналка на поезд, я шел один домой к Марселине, я почувствовал себя полным ужасной печали, ненависти к циничной радости Меналка; мне хотелось, чтобы она была притворной; я старался отрицать ее. Я раздражался на то, что ничего не мог ему ответить; я раздражался на то, что сказал несколько слов, из-за которых он мог усомниться в моем счастье, в моей любви! И я цеплялся за мое сомнительное счастье, за мое "мирное счастье", как говорил Меналк; увы, я не мог отогнать от него беспокойства, но я думал, что это беспокойство будет пищей любви. Я наклонялся к будущему, и в нем я видел, как улыбается мне мой маленький ребенок; для него изменялась и крепла моя мораль… Решительно, я шел твердым шагом.
Увы, когда я вернулся домой в то утро, меня в первой же комнате поразил необычный беспорядок. Сиделка вышла ко мне навстречу и в сдержанных словах сообщила мне, что ночью мою жену охватило ужасное волнение, потом начались боли, хотя она и не думала, что наступил срок родов; почувствовав себя очень плохо, она послала за доктором; он, хотя и поспешно пришел ночью, еще до сих пор не оставлял больную; потом, видя мою бледность, сиделка, мне кажется, захотела меня успокоить и стала говорить, что все уже теперь идет на лад, что… Я бросился в комнату Марселины.
Комната была слабо освещена; сначала я различил только доктора, который движением руки велел мне молчать, потом в темноте еще что-то, чего я не знал. Взволнованно, без шума я подошел к постели. У Марселины были закрыты глаза; она была так ужасающе бледна, что сначала я подумал, что она мертва; но, не открывая глаз, она повернула ко мне голову. В темном углу комнаты незнакомая мне женщина убирала, прятала различные предметы; я увидел блестящие инструменты, вату; я увидел, мне показалоь, что я вижу белье в крови… Я почувствовал, что шатаюсь. Я едва не упал около доктора; он поддержал меня. Я понял; я боялся понять…
– А ребенок? – спросил я с тоской.
Он грустно пожал плечами. Не помня себя, я бросился к постели, рыдая. Ах, будущее!
Земля вдруг ушла у меня из-под ног; передо мной была только пустая дыра, которая меня всего поглотила.
Здесь все смешивается в одно туманное воспоминание. Вначале, однако, Марселина, казалось, довольно быстро поправлялась. Благодаря рождественским каникулам, давшим мне некоторый досуг, я мог проводить около нее почти целые дни. Подле нее я читал, писал или тихонько читал ей вслух. Я никогда не возвращался домой без цветов для нее. Я вспоминал о нежных заботах, которыми она окружала меня во время моей болезни, и я окружил ее такой любовью, что иногда она улыбалась от этого, как счастливая. Мы не обменялись ни одним словом о печальном событии, разбившем наши надежды…
Потом у нее началось воспаление вен; а когда оно пошло на убыль, внезапная закупорка сосудов поставила Марселину между жизнью и смертью. Была ночь. Я вспоминаю себя склонившимся над ней, чувствующим, как вместе с ее сердцем останавливается и мое, затем снова оживает. Сколько ночей бодрствовал я так около нее, – с пристально устремленным взглядом, надеясь силою любви перелить часть моей жизни в нее! И если я больше не думал о счастье, то единственной моей грустной радостью было видеть, как иногда улыбалась Марселина.
Мои лекции возобновились. Откуда брал я силы, чтобы приготовлять и читать их?.. Мое воспоминание теряется, и я не знаю, как недели сменились неделями. Все же я хочу рассказать об одном маленьком событии.
Это было утром, вскоре после закупорки сосудов; сижу около Марселины; ей как будто немного лучше, но ей предписана еще полнейшая неподвижность; она не должна шевелить даже руками. Я наклоняюсь, чтобы дать ей пить; когда она напилась, не успел я еще подняться, как она еще более слабым от волнения голосом просит меня открыть ящичек, на который указывает взглядом; он тут, на столе; я открываю его; он полон лент, лоскутков, дешевых безделушек. Что она хочет? Я приношу ящичек к ее постели; одну за другой я вынимаю каждую вещь. Это? Это? Нет, еще не то; и я чувствую ее легкое беспокойство. "Ах, Марселина, ты хочешь эти четки". Она пытается улыбнуться.
– Ты боишься, что я плохо за тобой ухаживаю?
– О, мой друг, – шепчет она.
А я вспоминаю о нашем разговоре в Бискре, об ее робком упреке, когда я отверг то, что она называла "Божьей помощью". Я продолжал несколько сурово:
– Я ведь выздоровел сам, без помощи.
– Я столько молилась за тебя, отвечает она.
Она говорит это нежно, печально; я чувствую в ее взгляде тоскливую мольбу… Я беру четки и кладу в ее ослабевшую руку, лежащую на простыне. Меня вознаграждает взгляд, полный слез и любви, но я не могу ответить на него; еще мгновение я медлю, не зная, что делать, чувствуя неловкость; наконец, не выдержав, говорю:
– Прощай. – И выхожу из комнаты с враждебным чувством, так, как будто меня выгнали.
Между тем закупорка сосудов серьезно нарушила деятельность ее организма; ужасный сгусток крови, отброшенный сердцем, утомлял и загружал правое легкое, затрудняя дыхание, делал его тяжелым и свистящим. Я подумал, что она уже не поправится. Болезнь вошла в Марселину, отныне жила в ней, поставила на ней свое клеймо, запятнала ее. Она стала испорченной вещью.
III
Наступило теплое время года. Как только я закончил мой курс, я перевез Марселину в Ла Мориньер, так как доктор утверждал, что непосредственная опасность прошла и для того, чтобы окончательно поправиться, ей нужен только более здоровый воздух. Я тоже очень нуждался в отдыхе. Бессонные ночи, которые я почти без отдыха проводил один около нее, длительное волнение и особенно то страдальческое сочувствие, которое во время закупорки сосудов у Марселины заставило меня ощущать в самом себе ужасные скачки ее сердца, – все это меня так утомило, как если бы я сам перенес болезнь.
Я предпочел бы увезти Марселину в горы; но она выразила живейшее желание снова поехать в Нормандию, уверяя, что никакой другой климат не будет ей так полезен, и напомнила мне, что мне надо посетить те две фермы, заботу о которых я несколько опрометчиво взвалил на себя. Она убедила меня, чтобы я взял на себя ответственность за них и что я перед самим собой обязан добиться каких-нибудь результатов. Как только мы приехали, она заставила меня бежать на поля… Я не знаю, не было ли в ее дружеской настойчивости большей доли самоутверждения, страха, что я почувствую себя недостаточно свободным благодаря заботам, в которых она еще нуждалась и которые привязали бы меня к ней… Впрочем, Марселина поправлялась; кровь снова приливала к ее щекам; и ничто не давало мне такого успокоения, как вид ее теперь гораздо менее грустной улыбки; я мог безбоязненно оставлять ее.
И вот я вернулся к своим фермам. Там начинался сенокос. От воздуха, напоенного цветеньем и ароматами, у меня сначала закружилась голова, как от опьяняющего напитка. Мне показалось, что с прошлого года я не дышал илидышал только пылью, до того проникал в меня этот медовый воздух. С откоса, на котором я присел как пьяный, я видел всю Ла Мориньер; я видел ее голубые крыши, сонные воды прудов; кругом – скошенные поля или еще не покрытые травой; подальше излучину ручья; еще дальше леса, в которых я прошлую осень ездил верхом с Шарлем. Приближался звук песни, которую я уже слышал некоторое время; это возвращались с сенокоса работники с граблями и вилами на плечах. Я почти всех их узнал, и это неприятно напоминало мне, что я здесь не очарованный странник, а хозяин. Я подошел, улыбнулся им, поговорил и подробно расспросил каждого из них о его делах. Еще утром Бокаж осведомил меня о состоянии посевов; впрочем, в своих аккуратных письмах он все время сообщал мне о малейших происшествиях на фермах. Работа на них шла неплохо, гораздо лучше, чем я мог надеяться вначале, судя по словам Бокажа. Однако меня ждали для принятия некоторых важных решений, и в течение нескольких дней я по мере сил всем управлял, без удовольствия, но кое-как наполняя этой видимостью работы мою растерзанную жизнь.
Как только Марселина поправилась настолько, что могла принимать, к нам приехали гостить несколько друзей. Их приветливое и нешумное общество нравилось Марселине, но привело к тому, что я еще охотнее, чем прежде, уходил из дому. Я предпочитал общество работников с фермы; мне казалось, что с ними я могу научиться чему-нибудь лучшему; не то, чтобы я их много расспрашивал, нет, но мне трудно выразить радость, которую я испытывал подле них; Мне казалось, что я чувствую их насквозь, – и тогда как разговоры наших знакомых были мне уже известны раньше, чем они начинали говорить, – один вид этих бедняков приводил меня в непрерывный восторг.
Если вначале они старались подлаживаться ко мне в своих ответах – чего я никогда не делал в своих вопросах, – то вскоре они привыкли свободнее чувствовать себя в моем присутствии. Я все ближе сходился с ними. Не довольствуясь тем, что я видел их работу, я захотел видеть их игры; их тупые слова вовсе не интересовали меня, но я присутствовал при их еде, слушал их шутки, любовно наблюдал за их удовольствиями. Это было тоже своего рода «сочувствие», подобное тому, которое заставляло учащенно биться мое сердце во время сердцебиения у Марселины, это было мгновенное эхо всякого чужого ощущения, но не смутное, а точное, острое. Я чувствовал в своих плечах ломоту косаря; я уставал его усталостью; глоток сидра, который он выпивал, утолял жажду; я чувствовал, как он вливается в его горло; однажды, натачивая косу, один из них глубоко порезал себе большой палец; я почувствовал до костей его боль.
И мне казалось, что таким путем, не одним лишь зрением я воспринимаю окружающую природу, но и неким осязанием, возможности которого, благодаря этому странному «сочувствию», становились неограниченными.
Присутствие Бокажа стесняло меня: когда он приходил, мне надо было разыгрывать хозяина, что мне совсем перестало нравиться. Я еще распоряжался – это было необходимо – и по-своему руководил работниками; но я уже не ездил верхом, боясь слишком возвышаться над ними. Но несмотря на все предосторожности, которые я принимал, чтоб их не стесняло мое присутствие и они не сдерживали себя передо мной, я, как и раньше, был полон дурного любопытства к ним. Существование каждого из них оставалось для меня таинственным. Мне все казалось, что часть их жизни была скрыта. И я каждому из них приписывал тайну, которую упорно желал узнать. Я бродил вокруг них, следил, подсматривал. Я привязывался к самым грубым из них, как будто ждал, что из темноты возникнет и откроется для меня озаряющий свет.
Особенно привлекал меня один из них: он был довольно красив, высокого роста, не туп, но руководил им только инстинкт, он все делал лишь по внезапному порыву и уступал всякому своему мимолетному побуждению. Он был не местный; его наняли случайно. Он превосходно работал два дня, а на третий напивался до бесчувствия. Раз ночью я тайком пробрался к нему на сеновал; он валялся на сене и спал тяжелым пьяным сном. Сколько времени я смотрел на него!.. В один прекрасный день он так же внезапно исчез, как появился. Мне хотелось узнать, по какой дороге он ушел… В тот же вечер я узнал, что Бокаж прогнал его. Я разозлился на Бокажа и велел позвать его.
– Кажется, вы прогнали Пьера? – начал я. – Почему вы это сделали?
Немного удивленный моим гневом, который я, однако, сдерживал, как мог, он сказал:
– Вы бы сами, сударь, не захотели держать у себя дрянного пьяницу, который развращает лучших рабочих…
– Я лучше знаю, чем вы, кого я желаю держать.
– Беспутный парень! Никто не знает даже, откуда он явился. У нас это никому не нравилось… Если бы как-нибудь ночью он поджег сеновал, были бы вы довольны, сударь?
– В конце концов, это – мое дело, и ферма, кажется, моя; я желаю управлять ею, как мне хочется. В будущем потрудитесь излагать мне основания, по которым вы увольняете людей, прежде, чем это делать.
Бокаж, как я уже упоминал, знал меня с раннего детства; как ни оскорбителен был мой тон, он слишком любил меня, чтобы очень на него рассердиться. Он даже не особенно всерьез принял все это. Нормандский крестьянин плохо верит тому, причины чего он не понимает, иначе говоря, всему тому, что не основано на выгоде. Бокаж просто счел придурью с моей стороны этот выговор.
Все же мне не хотелось кончить разговор на этом порицании, и, чувствуя, что я был слишком резок, я старался придумать, о чем бы поговорить еще.
– Ваш сын Шарль скоро возвращается? – решился я спросить после секундного молчания.
– Я думал, что вы забыли его, сударь, и потому о нем не спрашивали, – ответил Бокаж еще обиженным тоном.
– Забыть его! Как бы я мог забыть его, Бокаж, после всего того, что мы вместе делали в прошлом году? Напротив, я очень рассчитываю на его помощь на фермах.
– Вы очень добры, сударь. Шарль должен приехать через неделю.
– Я очень этому рад, Бокаж, – и я отпустил его.
Бокаж почти был прав: я, конечно, не забыл Шарля, но думал о нем очень мало. Как объяснить, что после такой пылкой дружбы я испытывал к нему только печальное равнодушие? Должно быть потому, что мои занятия и вкусы стали иными, чем в прошлом году. Мои две фермы, приходилось в этом признаться, интересовали меня гораздо меньше, чем люди, которых я нанимал для их обслуживания, а общению с ними присутствие Шарля должно было мешать. Он был слишком рассудителен и слишком заставлял себя уважать. И вот, несмотря на живое волнение, которое возбуждало во мне воспоминание о нем, я ожидал его возвращения с тревогой.
Он вернулся. Ах, как я был прав в своей боязни и как правильно поступал Меналк, отрекаясь от воспоминаний! Вместо Шарля явился какой-то нелепый господин в смешном котелке. Боже, как он изменился! Неловко и принужденно, я все же старался не слишком холодно ответить на радость, которую он проявил при встрече со мной, но даже эта радость мне не понравилась; она была неуклюжей и показалась мне неискренней. Я принял его в гостиной, и так как было уже темно, я неясно различал его лицо; но когда принесли лампу, я увидел с отвращением, что он отпустил бакенбарды.
В этот вечер разговор был довольно унылым; затем, зная, что он будет все время проводить на фермах, я в течение недели избегал ездить туда и сидел за своей научной работой или с гостями. Потом, когда я стал снова выходить, я был увлечен совсем новым делом.
Лес наполнился дровосеками. Каждый год продавали часть его; разделенный на двенадцать равных участков, лес каждый год давал вместе с несколькими переросшими деревьями, на рост которых нельзя было уже рассчитывать, двенадцатилетний лесосек, шедший на порубку.
Эта работа производилась зимой; затем, согласно договору, до весны дровосеки должны были очистить участки. Но дядюшка Эртеван, лесоторговец, так нерадиво руководил операцией, что иной раз наступала весна, а лес был завален срубленными деревьями; нежные новые побеги тянулись вдоль сухих стволов, и, когда дровосеки наконец очищали лес, они одновременно губили много молодых почек. В этом году небрежность Эртевана перешла все границы. Ввиду отсутствия других конкурентов, мне пришлось уступить ему порубку за очень низкую цену; и вот, уверенный в барыше, он не очень-то торопился забирать лес, за который так дешево заплатил. С недели на неделю он откладывал работу, объясняя это то отсутствием рабочих, то дурной погодой, потом заболевала лошадь, потом надо было платить налоги, потом являлась другая работа… всего не перечислить. Так что к середине лета ничего еще не было вывезено.
То, что в прошлом году рассердило бы меня в высшей степени, в этом году оставляло меня довольно спокойным; я не скрывал от себя убытка, наносимого мне Эртеваном; но этот порубленный лес был красив, я с удовольствием гулял в нем, следя, наблюдая за дичью, ловя гадюк, а иногда подолгу сидя на каком-нибудь сваленном стволе, который, казалось, жил еще, пуская из своих ран зеленые побеги.
Потом, вдруг, в начале августа, Эртеван собрался прислать своих рабочих. Их пришло сразу шесть человек, и они рассчитывали кончить работу в десять дней. Часть продажного леса почти примыкала к Ла Вальтри; чтобы облегчить работу дровосеков, я согласился на то, чтоб им доставляли еду с фермы. Поручено это было разбитному парню по имени Бют, который только что вернулся с военной службы насквозь прогнившим, – я говорю о его духе, так как тело его было замечательно здоровым; это был один из тех моих рабочих, с которыми я охотно беседовал. Таким образом, я мог с ним видеться, не бывая для этого на ферме, потому что именно в это время я стал снова выходить. И в течение нескольких дней я почти не покидал лес, возвращаясь в Ла Мориньер только к завтраку или к обеду, даже часто к нему опаздывая. Я делал вид, что наблюдал за работою, на самом же деле смотрел только на рабочих.
Иногда к этим шести дровосекам присоединялись двое сыновей Эртевана, один двадцати, другой пятнадцати лет, оба стройные, гибкие, с жесткими чертами лица. У них был какой-то иноземный тип, и впоследствии я действительно узнал, что их мать была испанкой. Я сначала удивился, как она могла попасть в эти места, но выяснилось, что Эртеван, бывший в молодости заядлым бродягой, женился на ней в Испании. По этой причине на него у нас косо смотрели. В первый раз я встретил его младшего сына, я это хорошо помню, в сильный дождь; он был один и сидел на самом верху высокой телеги, нагруженной вязанками хвороста; развалившись на сухих ветвях, он пел или, вернее, завывал какую-то странную песню; ничего подобного ей я никогда еще не слышал в наших краях. Лошади, запряженные в телегу, знали дорогу, и, хотя ими никто не правил, они подвигались вперед. Я не могу передать вам впечатления, которое произвела на меня эта песня, потому что похожие на нее я слышал только в Африке… Мальчуган казался возбужденным и пьяным; когда я проходил, он даже не взглянул на меня; на следующий день я узнал, что он один из сыновей Эртевана. Именно для того, чтобы снова увидеть его или, по крайней мере, чтобы дождаться его, я подолгу задерживался на порубке. Скоро весь лес был вывезен. Сыновья Эртевана приходили только три раза. Они держались гордо, и я не мог добиться от них ни слова.
Бют, напротив, был словоохотлив; я вел себя так, что он скоро понял, о чем со мною можно говорить; с тех пор он перестал стесняться и начал рассказывать все о жителях округи. Я жадно прислушивался к ее тайнам. Они и превосходили мои ожидания, и не удовлетворяли меня. Это ли бушевало под поверхностью? Или, быть может, это было тоже новым видом лицемерия? Не все ли равно? Я так же искал ответа у Бюта, как раньше искал его в диких готских хрониках. От его рассказов подымалось смутное дыхание бездны; оно уже кружило мне голову, и я тревожно вдыхал его. Прежде всего я узнал от него, что Эртеван живет со своей дочерью. Я боялся, что он перестанет быть откровенным со мной, если я проявлю малейшее осуждение, поэтому я улыбнулся; меня подталкивало любопытство.
– А мать? Она ничего не имеет против?
– Мать! Вот уже двенадцать лет, как она умерла… Он бил ее.
– Сколько их всех?
– Пятеро детей. Вы видели старшего и самого младшего. Есть еще один, которому шестнадцать лет; он хилый и хочет стать священником. Еще есть старшая дочь, и у нее уже двое детей от отца…
Мало-помалу я узнал многое другое, что превращало дом Эртевана в пламенное логово с сильным запахом, вокруг которого невольно кружилось мое воображение, как муха вокруг мяса. Однажды вечером старший сын попытался изнасиловать молодую служанку, а так как она сопротивлялась, вмешался отец и помог сыну, держа ее своими громадными ручищами; в это время второй сын этажом выше продолжал мирно читать свои молитвы, а младший, присутствовавший при этой драме, хохотал. Что касается насилия, я охотно верю, что его было не очень трудно совершить, так как Бют еще рассказывал, что через некоторое время служанка, войдя во вкус, попробовала соблазнить молоденького священника.
– И попытка не удалась? – спросил я.
– Он еще держится, но уже не очень крепко, – ответил Бют.
– Ты говорил, кажется, что есть еще одна дочь?
– Которая отдается всякому встречному и ничего за это не просит. Когда на нее это находит, она готова сама заплатить. Но только спать с ней в доме отца не следует: изобьет. Он говорит, что в своей семье можно делать, что хочешь, а остальных это не касается. Пьер, тот парень с фермы, которого вы велели прогнать, не хвастался этим, но раз ночью он вышел оттуда с дырой в голове. С этих пор приходится работать в замковом лесу.
Тогда, ободряя его взглядом, я спросил:
– А ты пробовал?
Он из приличия опустил глаза и ответил игриво:
– Случалось.
Потом, быстро подняв глаза, прибавил:
– Малыш Бокажа тоже.
– Какой малыш Бокажа?
– Альсид, тот, что спит на ферме. Разве вы не знаете его, сударь?
Я был совершенно поражен, узнав, что у Бокажа есть еще второй сын.
– Правда, – продолжал Бют, – в прошлом году он жил еще у дяди. Но все же удивительно, что вы его еще не встречали в лесу, сударь: он почти каждый вечер браконьерствует.
Бют произнес последние слова, понизив голос. Он пристально посмотрел на меня, и я понял, что мне нужно улыбнуться. Тогда Бют, довольный, продолжал:
– Я полагаю, вы прекрасно знаете, сударь, что на ваших землях охотятся. Но ведь лес так велик, что это, право, не приносит убытка…
Я проявил так мало неудовольствия, что очень скоро Бют, осмелевший и, как я теперь думаю, довольный тем, что можно слегка поддеть Бокажа, показал мне в нескольких ямах силки, расставленные Альсидом, а потом и место в изгороди, откуда я мог почти с полной уверенностью его поймать. Наверху косогора был узкий пролом в изгороди, ограничивавшей лес; через него-то Альсид и пробирался обыкновенно часов около шести. Бют и я, весело забавляясь, протянули здесь проволоку и ловко скрыли ее. Потом, заставив меня поклясться, что я не выдам его, Бют ушел, не желая обнаруживать своего участия. Я спрятался с той стороны откоса и стал ждать.
Три вечера прождал я напрасно. Я начинал думать, что Бют подшутил надо мной… Наконец на четвертый вечер, Я слышу приближение очень легких шагов. Мое сердце бьется, и я внезапно познаю жуткое наслаждение браконьера… Силок так хорошо расставлен, что Альсид прямо попадает в него. Я вижу, как он сразу же падает, силок захватил его ногу у щиколотки. Он хочет убежать, снова падает, бьется, как дичь. Это скверный мальчишка с зелеными глазами, с волосами, как кудель, с плутоватым выражением лица. Он брыкается ногами; потом, крепко схваченный мною, пытается меня укусить и, так как это ему не удается, начинает бросать мне в лицо самые необыкновенные ругательства, которые я когда-либо слышал. Под конец я не могу выдержать и хохочу. Тогда он вдруг останавливается, смотрит на меня и говорит тише:
– Скот этакий, вы меня искалечили.
– Покажи.
Он спускает чулок на деревянный башмак и показывает щиколотку, на которой еле заметен слабый, слегка розоватый след.
– Это пустяки.
Он слегка улыбается, потом говорит лукаво:
– Вот я расскажу отцу, что вы расставляете силки.
– Черт возьми! Это один из твоих силков.
– Уж конечно, это не вы его расставили.
– Почему же не я?
– Вы не сумели бы так хорошо это сделать. Покажите мне, как вы это сделали.
– Научи меня…
В этот вечер я сильно запоздал к обеду и Марселина беспокоилась, так как никто не знал, где я. Я все же не рассказал ей, что расставил шесть силков и что вместо того, чтобы выбранить Альсида, еще дал ему десять су.
На следующий день, когда я отправился вместе с ним осматривать силки, я с восторгом увидел в них двух кроликов; разумеется, я отдал их ему. Охота еще не была разрешена. Что же делал Альсид с этой дичью, которую нельзя было показывать, чтобы не попасться? В этом он не хотел мне признаться. Наконец я узнал, – и все от Бюта, – что Эртеван был скупщиком краденого и что младший сын его был посредником между ним и Альсидом. Не удастся ли мне теперь поближе познакомиться с этой дикой семьей? С какой страстью я браконьерствовал!
Я встречался с Альсидом каждый вечер: мы ловили кроликов в большом количестве и даже раз поймали косулю; она была еще полуживой… Я не могу вспомнить без ужаса радость, с которой убивал ее Альсид. Мы спрятали косулю в верное место, куда должен был прийти за ней ночью сын Эртевана.
С этого времени я менее охотно выходил из дому днем, так как опустошенные леса не так меня привлекали. Я даже старался работать; скучная работа без цели, так как, закончив свой курс, я отказался дальше замещать кафедру, – неблагодарная работа, от которой отвлекал меня сразу малейший звук песни, малейший шум в деревне; всякий крик становился для меня призывом. Сколько раз я вскакивал, бросая чтение, и бежал к окну для того, чтобы ничего не увидеть! Сколько раз, внезапно выходя… Единственное внимание, на которое я был способен, было внимание моих пяти чувств.
Но когда темнело – а в эту пору темнело уже рано – наступал наш час, красоты которого я до тех пор не знал; и я выходил, как выходят воры. Я приобрел зоркость ночной птицы. Я восхищался более подвижной и более высокой теперь травою, более густыми деревьями. Ночь все отдаляла, отодвигала землю, углубляла всякую поверхность. Самая гладкая дорожка казалась опасной. Чувствовалось всюду пробуждение того, что жило сумеречной жизнью.
– Как думает твой отец, где ты сейчас?
– В коровнике, сторожу скот.
Я знал, что Альсид спит там, совсем близко от голубей и кур, так как его там на ночь запирали, он вылезал через дыру в крыше, его одежда еще сохраняла теплый запах курятника…
Потом внезапно, как только мы забирали дичь, он проваливался в ночь, как в люк, не попрощавшись, не сказав даже – "до завтра". Я знал, что прежде чем вернуться на ферму, где собаки не лаяли на него, он встречался с мальчишкой Эртевана и передавал ему свою добычу. Но где? Вот этого я при всем желании не мог узнать. Угрозы, хитрости ни к чему не приводили; никак не удавалось к Эртевану приблизиться. И я не знаю, в чем больше всего проявлялось мое безумие: в старании доискаться ничтожной тайны, которая все ускользала От меня, или, быть может, в выдумывании этой тайны из любопытства? Но что делал Альсид, расставшись со мной? Шел ли он действительно спать на ферму? Или обманывал фермера? Ах, напрасно я ставил себя в глупое положение, я добился только того, что еще уменьшил его уважение к себе и не увеличил его доверия; это меня и бесило, и печалило…
Когда он внезапно исчезал, я оставался в унылом одиночестве; возвращался полями по траве, напоенной росой, я был пьян ночью, дикой жизнью, хаосом и приходил промокший, грязный, покрытый листьями. Издали, из спящей Ла Мориньер, указывала мне путь, словно спокойный маяк, лампа в моей рабочей комнате, где я, как думала Марселина, запирался, или свет из комнаты Марселины, которую я убедил, что без ночных прогулок я не могу заснуть. Это была правда: я ненавидел свою постель и предпочел бы сеновал.
В этом году было очень много дичи. Кролики, зайцы, фазаны сменяли друг друга. Видя, что все идет как нельзя лучше, Бют через три дня пожелал присоединиться к нам.
На шестой день нашего браконьерства мы из поставленных двенадцати силков нашли только два; остальные были похищены в течение дня. Бют попросил у меня пять франков, чтобы купить медной проволоки, так как железная никуда не годилась.
На следующий день я имел удовольствие увидеть свои десять силков в руках у Бокажа, и мне пришлось похвалить его за усердие. Самое неприятное было то, что я в прошлом году неосторожно пообещал платить по пятидесяти сантимов за каждый найденный в лесу силок; и вот, мне пришлось дать пять франков Бокажу. Тем временем Бют покупает на пять франков проволоки. Через четыре дня – та же история; снова найдено десять силков. Снова пять франков Бюту; снова пять франков Бокажу. И на мои поздравления по поводу находки он отвечает:
– Это не меня надо поздравлять, а Альсида.
– Вот как!
Слишком сильное удивление может нас выдать; я сдерживаюсь.
– Да, – продолжает Бокаж, – конечно, сударь, я старею и слишком занят фермой. Мальчишка за меня бегает по лесам; он знает их; он хитер и лучше моего знает, где надо искать и находить западни.
– Охотно верю этому, Бокаж.
– И вот из десяти су, которые вы платите, сударь, я пять отдаю ему за каждую западню.
– Конечно, он заслужил их. Двадцать силков за пять дней! Он славно поработал. Теперь держитесь, браконьеры! Ручаюсь, что они сделают передышку.
– О, нет, сударь, чем больше ловишь силков, тем больше их находишь. Дичь в этом году дорога, и за те несколько су, что это им стоит…
Меня так хорошо разыграли, что еще немного – и я подумал бы, что Бокаж тоже в заговоре. И досадна мне в этом деле была не тройная торговля Альсида, а то, что он так обманывал меня. И потом, что они с Бютом делают с деньгами? Я ничего не знаю; я ничего не узнаю об этих существах. Они всегда будут лгать; будут обманывать ради обмана. В этот вечер я дал Бюту не пять, а десять франков: я предупредил его, что это в последний раз, и если силки будут унесены, то тем хуже.
На следующий день приходит Бокаж, он кажется очень смущенным; я сразу же смущаюсь не меньше его. Что такое случилось? И Бокаж сообщает мне, что Бют вернулся только утром на ферму, пьяный вдребезги; едва Бокаж успел раскрыть рот, как Бют разразился грубыми ругательствами, потом бросился на него и ударил…
– И вот, – говорит Бокаж, – я пришел спросить вас, сударь, разрешаете ли вы мне, – (он останавливается секунду на этом слове), – разрешаете ли вы мне его уволить?
– Я подумаю об этом, Бокаж. Я очень огорчен, что он нагрубил вам. Я вижу… Дайте мне подумать одному; и возвращайтесь сюда через два часа.
Бокаж удаляется.
Оставить Бюта – значит тяжело оскорбить Бокажа; выгнать Бюта – значит толкнуть его на месть… Все равно; будь что будет; в сущности, я один виновник всего… И как только Бокаж возвращается, я говорю:
– Вы можете сказать Бюту, что он нам больше не нужен.
После этого я жду. Что делает Бокаж? Что говорит Бют? И только вечером до меня доходят некоторые отзвуки скандала. Бют все рассказал. Я это заключаю из криков, доносящихся из дома Бокажа: бьют маленького Альсида. Бокаж сейчас придет; он приходит; я слышу, как приближаются его старческие шаги, и мое сердце бьется сильнее, чем прежде из-за дичи. Несносная минута! Будут пущены в ход благородные чувства, мне придется все принимать всерьез. Какое объяснение придумать? Как я плохо разыгрываю свою роль! Ах, я хотел бы от нее отказаться… Бокаж входит. Я абсолютно ничего не понимаю в том, что он говорит. Это глупо: я заставляю повторить все снова. Наконец я уразумел следующее: он думает, что Бют один виноват; он не улавливает невероятной правды. Чтобы я дал десять франков Бюту, – и ради такой цели! – Бокаж слишком нормандец, чтобы допустить это. Конечно, Бют украл десять франков, уверяя, что я дал их ему, он прибавляет к воровству еще ложь; уловка, чтобы скрыть воровство; Бокажа не проведешь такими сказками… О браконьерстве нет уж больше речи. А Альсида Бокаж бил за то, что он не ночевал дома.
Ну, я спасен! В отношении Бокажа, по крайней мере, благополучно. Что за болван этот Бют! Разумеется, в этот вечер мне не очень хотелось браконьерствовать.
Я думал, что уже все кончено, но через час является Шарль. Вид у него серьезный; уже издали он кажется еще скучнее своего отца. Подумать, что в прошлом году…
– Ну, Шарль, что-то давно тебя не видно!
– Если бы вы хотели видеть меня, сударь, вам стоило только прийти на ферму. У меня, конечно, нет дел в лесах по ночам.
– А! Твой отец тебе рассказал…
– Отец мне ничего не рассказал, потому что он ничего не знает. Зачем ему знать в его возрасте, что хозяин издевается над ним?
– Осторожнее, Шарль! Ты слишком далеко заходишь…
– Ну, конечно, вы хозяин! Можете делать, что хотите!
– Шарль, ты прекрасно знаешь, что я ни над кем не издевался, и если я делаю то, что мне нравится, то только потому, что это мне одному вредит.
Он слегка пожимает плечами.
– Как вы хотите, чтобы охраняли ваши интересы, если вы сами нарушаете их? Вы не можете одновременно защищать сторожа и браконьера.
– Почему?
– Потому, что тогда… ах, послушайте, сударь, все это хитро для меня, и просто мне не нравится, что мой хозяин в одной шайке с теми, кого ловят, и портит с ними работу, которая делается для него.
Шарль говорит последние слова уже более уверенным голосом. Он держит себя почти благородно. Я заметил, что он сбрил бакенбарды. К тому же то, что он говорит, довольно справедливо. И так как я молчу (что мне ему сказать?), он продолжает:
– В прошлом году, сударь, вы меня учили, что у человека есть обязанности по отношению к тому, чем он владеет, но теперь вы, кажется, это забыли. Надо относиться серьезно к своим обязанностям и отказаться от игры с ними… или тогда не надо ничем владеть.
Молчание.
– Это все, что ты хотел сказать мне?
– На сегодня все, сударь; но в другой раз, если вы к этому меня принудите, может быть, я приду сказать вам, сударь, что мой отец и я уходим из Ла Мориньер.
И он удалился, низко поклонившись мне. Я едва поспеваю сообразить и кричу:
– Шарль!
Он прав, черт возьми… О! О! Если это называется – владеть!.. "Шарль!" И я бегу за ним; я нагоняю его в темноте и быстро, как бы для того, чтобы закрепить свое внезапное решение, говорю:
– Ты можешь сообщить своему отцу, что я продаю Ла Мориньер.
Шарль важно кланяется и удаляется, не говоря ни слова.
Все это нелепо! Нелепо!
Марселина в этот день не может выйти к обеду и посылает мне сказать, что она нездорова. Я быстро в волнении подымаюсь к ней в комнату. Она сразу меня успокаивает. Она надеется, "что это только насморк". Она простудилась.
– Что же, ты не могла что-нибудь надеть?
– Я сразу же надела шаль, как только почувствовала озноб.
– Надо было надеть ее до озноба, а не после.
Она смотрит на меня, пробует улыбнуться… Ах, быть может, так плохо начавшийся день предрасполагает меня к тоске. Если бы она мне громко сказала: "Разве ты так дорожишь моей жизнью?" – я бы не отнесся к этому более внимательно. Решительно, все вокруг меня разваливается; все, за что берется моя рука, не удерживается в ней… Я бросаюсь к Марселине и покрываю поцелуями ее бледный лоб… Она уже больше не сдерживается и рыдает у меня на плече…
– О! Марселина! Марселина! Уедем отсюда. В другом месте я буду тебя любить так, как любил в Сорренто… Ты подумала, что я изменился, правда? Но в другом месте ты почувствуешь, что ничто не изменило нашу любовь…
Я еще не исцелил ее печаль, но как она уже цепляется за надежду!..
Была еще ранняя осень, но становилось сыро и холодно, и последние розы гнили, не расцветая. Наши гости давно уехали от нас. Марселина чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы позаботиться об уборке дома на зиму, и пять дней спустя мы уехали.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
И вот я попробовал еще раз удержать руками свою любовь. Но к чему мне было спокойное счастье? То счастье, которое мне давала Марселина и которое воплощалось для меня в ней, было похоже на отдых не уставшего человека. Но так как я чувствовал, что она утомилась и нуждается в моей любви, я окутывал ее любовью и притворялся, что делаю это потому, что сам в этом нуждаюсь.
Я нестерпимо чувствовал ее страдание; для того чтобы излечить ее от него, я любил ее. Ах, страстные заботы! Нежные бессонные ночи! Как другие возбуждают и увеличивают свою веру, усиливая ее внешние проявления, так я развивал свою любовь. И Марселина тотчас же, я уверяю вас, начинала надеяться. Она была еще так молода, а я, как она думала, полн надежд. Мы бежали из Парижа, как будто уезжали в новое свадебное путешествие. Но с первого дня путешествия она стала себя гораздо хуже чувствовать; уже в Невшателе нам пришлось остановиться.
Как я любил это озеро с зелеными берегами, в котором нет ничего альпийского и воды которого, словно воды болота, долго еще тянутся по земле, просачиваясь между камышами. Я нашел для Марселины в очень приличной гостинице комнату с видом на озеро; я не оставлял ее весь день.
Она настолько плохо себя чувствовала, что на следующий день я пригласил доктора из Лозанны. Он совершенно напрасно расспрашивал меня, не знаю ли я, были ли в семье моей жены другие случаи туберкулеза. Я ответил, что были; между тем я знал, что их не было; но мне было неприятно говорить, что я сам был приговорен к смерти от туберкулеза и что Марселина никогда не болела до того, как стала ухаживать за мной. Я все приписывал закупорке вен, хотя врач видел в этом только случайный повод и утверждал, что болезнь началась гораздо раньше. Он настойчиво рекомендовал свежий воздух высоких Альп, где Марселина, по его уверениям, должна выздороветь; и так как это совпадало с моим желанием провести всю зиму в Энгадине, то, как только Марселина достаточно оправилась, чтобы перенести путешествие, мы уехали.
Я вспоминаю о событиях, о каждом дорожном ощущении. Погода была холодная и ясная; мы взяли с собой самые теплые меха… В Куаре мы почти совсем не могли уснуть из-за непрерывного шума в гостинице. Я бы легко перенес бессонную ночь, так как она бы не утомила меня; но Марселина… И меня не так раздражал шум, как то, что из-за него она не могла заснуть. Ей был так необходим сон! На следующий день мы уехали до восхода солнца; мы заказали купе в Куарском дилижансе; благодаря хорошо устроенным почтовым станциям можно добраться до Сан-Морица в один день.
Тифенкастен, Жюлье, Самаден… я помню все, час за часом… совсем иное качество воздуха и его жесткость; звук колокольчиков у лошадей; свой голод, остановку в полдень у гостиницы; сырое яйцо, которое я распустил в супе, полубелый хлеб и холодок кислого вина. – Эта грубая пища была не для Марселины, она почти ничего не могла съесть, кроме нескольких сухих бисквитов, которые я, к счастью, захватил в дорогу. – Я вспоминаю закат дня, быстрый рост теней на лесном склоне; потом еще остановку. Воздух становится все свежее и резче. Когда дилижанс останавливается, погружаешься по самое сердце в ночь и прозрачную тишину… прозрачную. Нет другого слова. Малейший звук в этой странной прозрачности становится совершенным и полнозвучным. Ночью едем дальше. Марселина кашляет… О, неужели она не перестанет кашлять! Я вспоминаю Сусский дилижанс. Мне кажется, что я не так скверно кашлял; она делает слишком большие усилия… Как она слаба и как изменилась; в тени, как теперь, я едва бы ее узнал. Как ее черты вытянулись! Разве прежде были так видны две черные дыры ее ноздрей? – О, как ужасно она кашляет! Вот ясный результат ее ухода за мной! Как отвратительна любовь; в ней прячется всякая зараза; следовало бы любить только сильных. – О, она совсем изнемогает! Скоро ли мы приедем?.. Что она делает?.. Берет платок; подносит его к губам; отворачивается… Ужас! Неужели она тоже будет харкать кровью? Я резко вырываю у нее платок… При слабом свете фонаря я смотрю… Ничего. Но я слишком выдал свое волнение; Марселина грустно пытается улыбнуться и шепчет:
– Нет; еще нет.
Наконец мы приезжаем. Давно пора; она едва держится на ногах. Комнаты, которые нам приготовили, мне не нравятся; мы переночуем в них, а завтра перейдем в другие. Ничто мне не кажется ни достаточно дорогим, ни слишком хорошим. А так как зимний сезон еще не начался, громадная гостиница почти пуста; я могу выбирать. Я беру две обширные, светлые и просто обставленные спальни, к ним примыкает большая гостиная с широкой стеклянной дверью, в которую видны уродливое голубое озеро и какая-то назойливая гора со слишком лесистыми или слишком голыми склонами. Здесь мы будем есть. Комнаты стоят невероятно дорого, но не все ли равно? Правда, я уже больше не читаю лекций, но я продаю Ла Мориньер. А там посмотрим… Впрочем, к чему мне деньги? К чему мне все это?.. Я теперь стал сильным. Я думаю, что полная перемена в материальном положении должна так же воспитывать, как полная перемена в состоянии здоровья… Вот Марселина – ей нужна роскошь; она слабая… Ах, для нее я хотел бы столько, столько тратить… Во мне одновременно просыпалось отвращение к этой роскоши и желание ее. Моя чувствительность купалась, плавала в роскоши, а потом мне хотелось, чтобы она бежала от нее как кочевница.
Между тем Марселина поправлялась, и мои постоянные заботы одерживали победу. Так как ей было трудно есть, я заказывал, чтобы возбуждать ее аппетит, изысканные, соблазнительные блюда; мы пили самые лучшие вина. Я убеждал себя, что они ей очень нравились, настолько меня забавляли эти чужеземные вина, которые мы пробовали каждый день. Это были терпкие рейнские вина; почти сиропообразные токайские, которые опьяняли меня крепким хмелем. Я вспоминаю о странном вине Барба-Гриска; нашлась всего лишь одна его бутылка, и я так и не знаю, оказался ли бы в других бутылках его неожиданный вкус.
Каждый день мы катались в коляске, потом, когда выпал снег, в санях, закутанные по горло в меха. Я возвращался с горящим лицом, очень голодный, потом меня клонило ко сну; однако я не отказывался от работы и каждый день находил час для размышлений о том, что мне надо сказать. Не было уж больше речи об истории; уже давно мои исторические занятия интересовали меня только, как способ психологического исследования. Я вам рассказывал, как я снова увлекся прошлым, когда мне показалось, что я вижу в нем смутные сходства с сегодняшним; я сообразил, что, допрашивая мертвых, я добуду у них тайные указания, как жить… Теперь сам юный Аталарх мог бы выйти из могилы для беседы со мной, – я не стал бы больше слушать прошлого. И как древний ответ мог бы разрешить мой новый вопрос? Что еще может человек? Вот что мне было важно узнать. То, что до сих пор сказал человек, – все ли это, что он мог сказать? Все ли он о себе знает? Остается ли ему только повторяться? И каждый день во мне росло смутное ощущение непочатых богатств, до сих пор скрытых, спрятанных, задушенных культурой, приличием, нравственностью.
И тогда мне казалось, что я родился для каких-то неизвестных открытий; и я необычайно увлекался моими темными изысканиями, для которых – я знал – искатель должен отречься и оттолкнуть от себя культуру, приличие, нравственность.
Я доходил до того, что мне в других людях нравились только самые дикие чувства, и сожалел, когда что-нибудь стесняло их проявление. Еще немного – и я стал бы видеть в честности лишь запрет, условность и страх. Мне хотелось бы любить ее, как великую трудность; наши нравы придали ей всеобщую и банальную форму контракта. В Швейцарии она составляет часть комфорта. Я понимал, что Марселина в ней нуждается, но я не скрывал от нее нового направления моих мыслей. Уже в Невшателе, когда она восхваляла эту честность, которая просачивается там из всех стен и написана на всех лицах, я отвечал ей:
Мне вполне довольно моей собственной честности; мне отвратительны честные люди. Если мне нечего бояться их, то и нечему учиться у них. Впрочем, им нечего сказать… Честный швейцарский народ! Ему ничего не стоит быть здоровым… Народ без преступлений, без истории, без литературы, без искусства… крепкий розовый куст без терний и без цветов…
То, что этот честный народ мне наскучит, я это уже знал наперед, но через два месяца эта скука стала чем-то вроде бешенства, и я только и думал об отъезде.
Была середина января. Марселине было лучше, гораздо лучше, постоянный маленький жар, медленно иссушавший ее, прекратился; более свежий румянец заиграл на ее щеках; она снова стала охотно, хотя и не много, ходить и не была, как прежде, вечно усталой. Мне не стоило очень большого труда убедить ее, что она уже извлекла всю возможную пользу из этого тонического воздуха и ничего не может быть для нее теперь полезнее Италии, где теплая весна довершит ее выздоровление; особенно же мне не стоило большого труда убедить в этом себя, – до того устал я от этих высот.
А между тем теперь, когда в моей праздности ненавистное прошлое крепнет, – именно эти воспоминания преследуют меня больше всего. Быстрая езда в санях; веселое хлестанье сухого ветра; комья летящего снега, аппетит; неверные шаги в тумане, причудливая звонкость голосов, внезапное появление предметов; чтение в запертой теплой гостиной, пейзаж сквозь стекло, застылый пейзаж; трагическое ожидание снега; исчезновение внешнего мира, сладострастно притаившиеся мысли… О, еще бы побегать на коньках с ней, там, совсем вдвоем, на чистом маленьком затерянном озере, окруженном лиственницами; потом вернуться с ней домой, вечером…
Этот спуск в Италию был для меня головокружителен, как падение. Стояла прекрасная погода. По мере того как мы погружались в более теплый и плотный воздух, прямые деревья горных вершин, лиственницы и правильные ели уступали место богатой и мягкой растительности. Мне казалось, что я покидаю абстракцию для жизни, и, хотя стояла зима, мне всюду мерещились ароматы. Ах, как давно мы улыбались лишь одним теням! Меня опьяняло мое воздержание, и я был пьян от жажды, как иные пьяны от вина. Запас, накопленный моей жизнью, был изумителен; на пороге этой ласковой и манящей земли просыпалась вся моя жадность. Меня наполнял громадный запас любви; иногда из глубины плоти он поднимался к моей голове и рождал бесстыдные мысли.
Эта иллюзия весны длилась недолго. Резкая перемена высоты могла обмануть меня на мгновение, но, как только мы покинули защищенные берега озер Белладжио, Комо, где мы задержались несколько дней, – мы увидели зиму и дождь. Холод, который мы переносили в Энгадине, сухой и легкий в горах, здесь стал влажным и унылым, и мы начали страдать от него. Марселина снова начала кашлять. Тогда, чтобы избежать холода, мы спустились еще южнее; мы оставили Милан для Флоренции, Флоренцию для Рима, Рим ради Неаполя, самого мрачного города в зимний дождь, какой я только знаю. Я томился несказанной скукой. Мы вернулись в Рим, надеясь за отсутствием тепла найти там хоть подобие комфорта. На Монте Пинчио мы наняли квартиру, чересчур просторную, но с замечательным видом. Уже во Флоренции, недовольные гостиницами, мы сняли на три месяца прелестную виллу на Виале деи Коли. Другой пожелал бы поселиться там всегда… Мы не остались там и двадцати дней. При каждой новой остановке я, однако, старался устроить все так, как будто бы мы не должны были больше уезжать. Более сильный демон толкал меня… Прибавьте к этому, что мы возили с собой не меньше шести сундуков. Один был наполнен только книгами, и за все наше путешествие я не открыл его ни разу.
Я не позволял, чтобы Марселина беспокоилась о наших тратах или старалась их уменьшить. Я, конечно, знал, что они чрезмерны и что это не может долго продолжаться. Я перестал рассчитывать на деньги из Ла Мориньер; она совсем перестала приносить доход, и Бокаж писал, что все не находит покупателя. Но всякие размышления о будущем меня приводили только еще к большим тратам. Ах, к чему мне столько денег, когда я останусь один!.. думал я и наблюдал с тоской и ожиданием, как идет на убыль еще быстрее, чем мое состояние, хрупкая жизнь Марселины.
Хотя она вполне полагалась на мои заботы, все эти быстрые переезды ее утомляли; но еще больше утомлял ее, – сейчас я могу себе в этом признаться, – страх перед моею мыслью.
– Я отлично вижу, – однажды сказала она мне, – я хорошо понимаю вашу теорию, потому что теперь это стало теорией. Она, может быть, прекрасна, – потом прибавила тихо и грустно: – но она унижает слабых.
– Это то, что нужно, – ответил я сразу же невольно.
Тогда я почувствовал, как от ужаса перед моими жестокими словами это нежное существо сжалось и вздрогнуло… Ах, быть может, вы подумаете, что я не любил Марселину? Я клянусь, что я ее страстно любил. Никогда еще не была она и не казалась мне такой прекрасной. Болезнь делала ее черты более тонкими и как бы экстратичными. Я ее почти не оставлял, окружал непрестанными заботами, защищал, охранял каждое мгновение ее дней и ночей. Как бы чуток ни был ее сон, я старался, чтобы мой был еще более чутким; я сторожил мгновение, когда она засыпала, и просыпался первым. Когда изредка, оставляя ее на час, я уходил один погулять за город или по улице, какая-то любовная забота и страх перед ее тоской заставляли меня быстро возвращаться; иногда я призывал на помощь свою волю, сопротивлялся этой власти, говорил себе: "Так это все, на что ты способен, лжевеликий человек!" и заставлял себя затягивать свое отсутствие; но после этого я возвращался, нагруженный цветами, ранними садовыми или оранжерейными… Да, я утверждаю, я нежно любил ее. Но, как бы это выразить… по мере того, как я все меньше уважал себя, я все больше почитал ее, и кто может счесть, сколько страстей и сколько враждебных мыслей могут одновременно уживаться в человеке?..
Плохая погода уже давно прекратилась; весна надвигалась, и вдруг зацвел миндаль. Это было первое марта. Утром я выхожу на Испанскую площадь. Крестьяне опустошили все деревенские сады, и белые ветви миндального цвета наполняют корзины торговцев. Я прихожу в такой восторг, что покупаю несколько кустов. Трое крестьян относят их ко мне. Я вхожу со всей этой весной. Ветви цепляются за двери, лепестки падают на ковер. Я ставлю цветы всюду, во все вазы; я покрываю этими белыми ветвями всю гостиную, где Марселины в эту минуту нет. Я наперед радуюсь ее радости… Я слышу ее шаги. Вот она. Она открывает дверь. Что с ней?.. Она шатается… Она рыдает…
– Что с тобой, моя бедная Марселина?
Я ласкаю ее, покрываю ее нежными поцелуями. Тогда, как бы прося прощения за свои слезы, она говорит:
– Мне тяжело от запаха этих цветов…
А это был тонкий, едва заметный медовый запах… Не говоря ни слова, я хватаю эти невинные, хрупкие ветви, ломаю их, выношу, бросаю, в ужасе, с налитыми кровью глазами. Ах, если она не может вынести даже такую весну!..
Я часто думаю об этих слезах, и мне кажется теперь, что, чувствуя уже себя обреченной, она оплакивала другие невозможные весны. Я также думаю, что есть сильные радости для сильных и слабые для слабых, которые неспособны вынести сильных радостей. Ее опьяняло самое маленькое удовольствие; немного больше блеска – и она уже не могла его перенести.
То, что она называла счастьем, я называл отдыхом, а я не хотел и не мог отдыхать.
Четыре дня спустя мы уехали в Сорренто. Я был разочарован, не найдя и там тепла. Казалось, что все дрожало. Непрестанный ветер очень утомлял Марселину. Мы решили остановиться в той же гостинице, как в прошлую нашу поездку; мы заняли ту же комнату… Мы с удивлением видели под тусклым небом всю лишенную чар декорацию и унылый сад, который нам казался таким прелестным, когда в нем бродила наша любовь.
Мы решили добраться морем до Палермо, так как нам хвалили его климат; мы вернулись в Неаполь, откуда должны были отплыть; там мы еще немного задержались. Но в Неаполе, по крайней мере, я не скучал. Неаполь живой город, где прошлое не владеет нами.
Я проводил почти целые дни с Марселиной. По вечерам она, утомившись, рано ложилась; я сторожил, когда она заснет, и иногда сам ложился, потом, когда по ее ровному дыханию я видел, что она заснула, я вставал без шума и одевался в темноте; я убегал на улицу, как вор.
На улицу! О, мне хотелось кричать от восторга! Что мне делать! Не знаю. Небо, днем пасмурное, теперь было свободно от туч, блестела почти полная луна. Я шел наугад, без цели, без желания, без принуждения. Я на все смотрел новыми глазами; улавливал каждый звук внимательным ухом; вдыхал ночную сырость; прикасался рукой к вещам; бродил.
В последний наш вечер в Неаполе я затянул распутное бродяжничанье. Вернувшись, я застал Марселину в слезах. Она сказала мне, что испугалась, внезапно проснувшись и почувствовав, что меня нет около нее. Я успокоил ее, как мог, объяснил ей свою отлучку и сам дал себе слово больше не оставлять ее. Но в первую же ночь в Палермо я не выдержал; я вышел… Цвели первые апельсинные деревья; малейшее движение воздуха приносило их запах…
Мы пробыли в Палермо только пять дней, потом, сделав большой крюк, вернулись в Таормину, которую нам обоим снова хотелось увидать. Я, кажется, говорил вам, что эта деревня лежит довольно высоко в горах, а станция находится на самом берегу моря. В том же экипаже, в котором мы приехали в гостиницу, я должен был сразу ехать опять на вокзал за нашими сундуками. Я ехал стоя, чтобы разговаривать с кучером. Это был молоденький сицилиец из Катаны, красивый, как стих Феокрита, яркий, ароматный, сладостный, как плод.
Com'e bella la Signora! {Как красива синьора (итал.).} – сказал он очаровательным голосом, глядя на удаляющуюся Марселину.
– Anche tu sei bello, ragazzo {Ты тоже красив, мальчик (итал.).},- ответил я; и, так как я стоял наклонившись к нему, я не мог удержаться и почти тотчас же, притянув его к себе, поцеловал. Он не противился и только засмеялся.
– I Francesi sono tutti amanti {Все французы – любовники (итал.).},- сказал он.
– Ma non tutti gli Italiani amati,{Но не все итальянцы достойны любви (итал.).} – продолжал я, тоже смеясь… В следующие за этим дни я его искал, но мне не удалось его больше встретить.
Мы уехали из Таормины в Сиракузы. Мы шаг за шагом повторяли наше первое путешествие, восходили к началу нашей любви. И как тогда, с недели на неделю, во время нашего первого путешествия, я приближался к выздоровлению, так же точно теперь, с недели на неделю, по мере того, как мы подвигались на юг, здоровье Марселины все ухудшалось.
В силу какого заблуждения, какого упрямого ослепления, какого добровольного безумия я убеждал себя и особенно старался убедить ее, что ей нужно еще больше света и жары, вспоминая о моем исцелении в Бискре!.. Тем временем в воздухе становилось теплее; Палермский залив ласков, и Марселине там было хорошо. Там, быть может, она бы… Но разве я был господином своей воли, своих решений и желаний?
В Сиракузах, из-за бурной погоды и шаткости расписания пароходных рейсов, нам пришлось задержаться на неделю. Все мгновения, которые я не посвящал Марселине, я проводил в старом порту. Маленький Сиракузский порт! Запах кислого вина, грязные улички, вонючий трактир, в котором валяются грузчики, бродяги, пьяные матросы… Компания самых последних людей была для меня сладостна. К чему мне было понимать их язык, когда я всем телом наслаждался! Грубость страсти еще принимала в моих глазах лицемерный облик здоровья, силы. И я напрасно убеждал себя в том, что их жалкая жизнь не может представлять для них такой прелести, как для меня… Ах, мне хотелось валяться с ними вместе под столом и просыпаться от унылой утренней дрожи. После этих людей во мне пробуждалось и росло все увеличивающееся отвращение к роскоши, комфорту, ко всему, чем я прежде себя окружал, ко всей той самозащите, которую вернувшееся ко мне здоровье делало теперь излишней, ко всем мерам предосторожности, принимаемым для хранения тела от опасных прикосновений жизни. Я заглядывал вперед в их жизнь. Мне хотелось проследить за ними дальше, проникнуть в их опьянение… Потом вдруг я вспомнил Марселину. Что она делает в эту минуту? Страдает, плачет, быть может… Я торопливо вставал; бежал; возвращался в гостиницу, и мне казалось, что на дверях написано: "Беднякам вход воспрещается".
Марселина встречала меня всегда ровно; без единого слова упрека или сомнения, несмотря на все стараясь улыбнуться. Мы ели отдельно; я заказывал для нее все, что было лучшего в этой неважной гостинице, и во время еды думал: "Им достаточно куска хлеба с сыром, пучка укропа, и мне этого было бы достаточно, как им. Быть может, здесь, совсем близко, есть голодные, у которых нет даже этой жалкой пищи… А на моем столе ее столько, что можно от нее на три дня опьянеть!" Мне хотелось сломать стены и впустить гостей… так как ощущение чужого голода становилось для меня ужасным страданием. И я шел в старый порт и разбрасывал направо и налево мелкие деньги, которыми были набиты мои карманы.
Человеческая бедность – раба; ради пищи она берется за труд без радости; я говорил себе: "Всякая работа без радости – уныла", – и я оплачивал отдых нескольких людей.
Я говорил:
– Не работай, тебе скучно от этого. – Я мечтал об этом досуге для всех, без которого не может расцвести никакая новизна, никакой порок, никакое искусство.
Марселина понимала мои мысли; когда я возвращался из старого порта, я не скрывал от нее, каких я там встречал жалких людей. Все заключено в человеке. Марселина смутно видела то, что я стремился открыть; и когда я упрекал ее в том, что она слишком охотно верит в добродетель, выкроенную ее мыслью по мерке каждого человека, она отвечала:
– А вы, вы довольны только тогда, когда заставляете их обнаружить какой-нибудь порок. Разве вы не понимаете, что наш взгляд развивает, преувеличивает в каждом человеке то, на что он устремлен? И мы заставляем его становиться тем, чем он нам кажется.
Мне хотелось, чтобы она была неправа, но я должен был признаться себе, что в каждом существе худший инстинкт казался мне самым искренним. При этом, что я называл искренностью?
Мы наконец уехали из Сиракуз. Воспоминание о юге и желании вернуться туда преследовали меня. На море Марселине стало лучше… Я снова вижу перед собой цвет моря. Оно так спокойно, что след корабля долго остается на нем. Я слышу звук падающей воды, текучий шум, мытье палубы, и на досках шлепанье босых ног матросов. Я снова вижу совсем белую Мальту; приближение к Тунису. Как я изменился!
Жарко. Хорошая погода. Все великолепно. Ах, мне хотелось бы, чтоб сейчас из каждой моей фразы излилась целая жатва наслаждения! Напрасно пытался бы я сей час навязать моему рассказу больше порядка, чем его было в моей жизни. Достаточно долго я старался показать вам, как я сделался тем, что я есть. Ах, освободить свой ум от этой нестерпимой логики!.. Я чувствую в себе только одно благородство.
Тунис. Свет более обильный, чем яркий. Даже тень напоена им. Самый воздух кажется светящимся потоком, в котором все купается, в который погружаешься, плаваешь в нем. Эта сладостная земля удовлетворяет, но не успокаивает желание, и всякое удовлетворение лишь возбуждает его.
Земля, где отдыхаешь от произведений искусства. Я презираю тех, кто видит красоту лишь написанную и истолкованную. В арабском народе изумительно то, что свое искусство он претворяет в жизнь, – живет, поет и расточает его изо дня в день; он его не закрепляет, не погребает ни в каком произведении. В этом – причина и следствие того, что там нет великих художников… Я всегда считал великими художниками тех, которые дерзают дать право красоты таким естественным вещам, что люди, увидев их, принуждены сказать: "Как я до сих пор не понимал, что это тоже прекрасно…"
В Керуане, где я еще не бывал и куда я отправился без Марселины, ночь была прекрасна. В тот момент, когда я собирался вернуться ночевать в гостиницу, я вспомнил о группе арабов под открытым небом на циновках перед маленьким кафе. Я пошел спать рядом с ними. Я вернулся покрытый паразитами.
Влажная приморская жара очень расслабляла Марселину, и я убедил ее в необходимости как можно скорее добраться до Бискры. Это было начало апреля.
Переезд – очень долгий. В первый день мы в один прием добрались до Константины, на следующий день Марселина почувствовала себя очень утомленной, и мы добрались только до Эль-Кантара. Там мы искали и нашли под вечер тень прелестнее и свежее, чем лунный свет ночью. Она была как неистощимый напиток; она струилась к нам. А с откоса, где мы сидели, была видна вся пламенная равнина. Эту ночь Марселина не могла уснуть; необычность тишины и малейшие шорохи беспокоили ее. Я боялся, нет ли у нее жара. Я слышал, как она ворочалась в постели. На другой день я заметил, что она стала еще бледнее. Мы уехали.
Бискра. Я подхожу к самому важному, о чем хочу рассказать… Вот я в городском саду; вижу скамейки… узнаю ту, на которой сидел в первые дни моего выздоровления. Что я читал здесь!.. Гомера. С тех пор я его не раскрывал. Вот дерево, кору которого я трогал. Какой слабый я был тогда!.. Ах, вот и дети!.. Нет, я ни одного из них не узнаю. Как Марселина печальна! Она тоже изменилась, как я. Почему она кашляет в такую прекрасную погоду? Вот гостиница. Вот наши комнаты, террасы. О чем думает Марселина? Она не сказала мне ни одного слова. Как только она добирается до своей комнаты, она ложится; она устала и говорит, что хочет немного поспать. Я выхожу.
Я не узнаю детей, но они узнают меня. Проведав о моем приезде, они сбегаются. Возможно ли, что это они? Какое разочарование! Что случилось? Они страшно выросли. В два года с лишним – это невозможно… Какая усталость, какие пороки, какая лень так обезобразили эти лица, на которых сияла юность? Какая черная работа так согнула эти прекрасные тела? Это – полное крушение… Я расспрашиваю. Бахир служит на побегушках в каком-то кафе; Ашур с трудом зарабатывает гроши, дробя камни для мостовой; Хамматар потерял глаз. Кто мог бы подумать – Садек остепенился! Он помогает старшему брату продавать хлеб на рынке: он заметно поглупел. Абжиб служит мясником в лавке своего отца; он жиреет; он уродлив; он богат; он не желает больше разговаривать со своими бедными товарищами… Как глупеют люди от почтенной жизни! Неужели я найду в них то самое, что ненавидел в нас? Бубакер? Он женат. Ему еще нет пятнадцати лет. Это смешно. Однако, нет, я видел его сегодня вечером. Он объясняет: его женитьба только для видимости. Он, кажется, отпетый распутник! Он пьет, теряет стройность форм… Это все, что осталось? Вот что делает с ними жизнь! По своей нестерпимой печали я замечаю, что ехал сюда в значительной степени для того, чтобы снова увидеть их. Меналк прав: воспоминание злосчастная выдумка.
А Моктир? О, этот только что вышел из тюрьмы. Он прячется. Другие с ним больше не водятся. Мне хотелось бы его увидеть. Он был самый красивый из них; разочаруюсь ли я в нем так же, как в других? Его разыскивают. Приводят ко мне. Нет, этот не пал. Даже в моем воспоминании он не был так великолепен. Его сила и красота совершенны… Увидев меня, он улыбается.
– А что ты делал до тюрьмы?
– Ничего.
– Ты крал?
Он протестует.
– Что ты теперь делаешь?
Он улыбается.
– Послушай, Моктир! Если тебе нечего делать, проводи нас в Туггурт. – И меня внезапно охватывает желание ехать в Туггурт.
Марселина себя плохо чувствует; я не знаю, что у нее в душе происходит. Когда я вечером возвращаюсь в гостиницу, она прижимается ко мне молча, с закрытыми глазами. Из-под завернувшегося широкого рукава видна ее исхудавшая рука. Я долго ласкаю и баюкаю ее, как ребенка, которого хотят усыпить. Отчего она так дрожит – от любви, тоски или лихорадки?.. Ах, быть может, еще не поздно… Не остановиться ли мне? Я искал, я нашел то, что составляет мою ценность; это какое-то упорство, влекущее к худшему. Но как сказать Марселине, что завтра мы едем в Туггурт?
Она спит в соседней комнате. Давно взошедшая луна заливает теперь всю террасу. Это почти страшный свет. От него нельзя спрятаться. В моей комнате белые каменные плиты, и на них он виднее всего. Волна света вливается через широко открытое окно. Я узнаю этот свет в комнате и тень от двери. Два года тому назад он продвинулся еще дальше… – да, как раз туда она сейчас приближается, – когда я встал, отказавшись от сна. Я прислонился плечом к косяку двери. Я узнаю неподвижность пальм… Какие слова прочел я в тот вечер?.. Ах, да! Слова Христа к Петру: "Теперь ты сам препояшешься и пойдешь, куда захочешь…" Куда я иду? Куда я хочу идти?.. Я вам не сказал, что из Неаполя, когда я в последний раз был там, я проехал в Пестум, на один-единственный день… Ах, я рыдал бы теперь перед этими камнями! Древняя красота казалась простой, совершенной, радостной – покинутой. Я чувствую, что от меня уходит искусство. Чтоб дать место – чему? Теперь это уже не радостная гармония, как прежде… Я больше не знаю темного Бога, которому служу. О, новый Бог! Дай мне узнать неведомые племена, неожиданные образы красоты!
На следующий день на рассвете мы уезжали в дилижансе. Моктир с нами. Моктир счастлив, как царь.
Чегга, Кефелдор, Дрейер… унылые остановки среди унылой бесконечной дороги. Признаюсь, я думал, что эти оазисы веселее. Но в них нет ничего, кроме камня и песка; еще несколько кустов-карликов с причудливыми цветами; порою несколько пальм, питаемых скрытым родником… Теперь я предпочитаю оазису пустыню… край смертельной славы и нестерпимого великолепия. Усилия человека кажутся там безобразными и жалкими. Теперь всякая другая земля мне скучна.
– Вы любите нечеловеческое, – говорит Марселина.
Но как она сама смотрит! С какой жадностью!
На второй день погода немного портится; это значит, что поднимается ветер и тускнеет горизонт. Марселина страдает; песок, который приходится вдыхать, жжет, раздражает ей горло; слишком сильный свет утомляет ее глаза; этот враждебный вид ранит ее. Но уже слишком поздно возвращаться. Через несколько часов мы будем в Туггурте.
Эту последнюю часть путешествия, такого еще недавнего, я помню хуже всего. Я не могу уже теперь припомнить ни пейзажей, ни того, что я сначала делал в Туггурте. Но я еще хорошо помню свое нетерпение и стремительность.
Утром было очень холодно. Под вечер подымается горячий самум. Марселина, измученная дорогой, легла сразу по приезде. Я надеялся найти гостиницу немного получше; наша комната ужасна; песок, солнце, мухи все сделали тусклым, грязным, несвежим. Так как мы почти ничего не ели с раннего утра, я сразу же заказываю обед; но все кажется скверным Марселине, и я не могу убедить ее съесть что-нибудь. Мы привезли с собой все нужное для приготовления чая. Я занимаюсь этими смешными хлопотами. Мы довольствуемся сухим печеньем и этим чаем, которому местная соленая вода придает отвратительный вкус.
Из последней видимости добродетели я остаюсь до вечера с ней. И вдруг я чувствую себя без сил. О, вкус пепла! О, усталость! Печаль сверхчеловеческого усилия! Я едва решаюсь смотреть на нее; я слишком хорошо знаю, что мои глаза вместо того, чтобы искать ее взгляда, устремятся на черные дыры ее ноздрей; выражение ее страдающего лица ужасно. Она тоже на меня не смотрит. Я чувствую ее страдание, как будто прикасаюсь к ней. Она сильно кашляет, потом засыпает. Моментами она резко вздрагивает.
Ночь грозит для нее быть тяжелой, и, пока еще не слишком поздно, я хочу узнать, к кому можно здесь обратиться. Я выхожу. Перед дверью гостиницы – городская площадь, улицы; самый воздух так странен, что мне почти кажется, что все это вижу не я. Через несколько минут я возвращаюсь. Марселина спокойно спит. Я напрасно испугался; в этой причудливой стране всюду мерещатся опасности; это бессмысленно. И, успокоившись, я снова выхожу.
Странное ночное оживление на площади; бесшумное движение; таинственно скользят белые бурнусы. Ветер моментами отрывает клочки странной музыки и доносит их неведомо откуда. Кто-то подходит ко мне… Это Моктир. Он ждал меня, по его словам, и был уверен, что я выйду. Он смеется. Он хорошо знает Туггурт; он часто ездит сюда и знает, куда меня вести. Я послушно следую за ним.
Мы идем в темноте; входим в мавританское кафе; отсюда и доносилась музыка. Танцуют арабские женщины – если можно назвать танцем это однообразное скользящее движение. Одна из них берет меня за руку; я следую за ней; это любовница Моктира; он гоже идет с нами… Мы втроем входим в узкую и глубокую комнату, где стоит только кровать… Очень низкая кровать, на которую мы садимся. Белый кролик, запертый в комнате, сначала пугается, потом привыкает, подходит и ест из рук Моктира. Нам подают кофе. Потом, в то время как Моктир играет с кроликом, женщина привлекает меня к себе, и я ей не противлюсь, как не противятся сну…
Ах, я мог бы солгать здесь или умолчать, но чем будет для меня этот рассказ, если он перестанет быть правдивым?..
Я один возвращаюсь в гостиницу; Моктир остается в кафе на ночь. Поздно… Дует сухой сирокко; этот ветер весь насыщен песком и зноем, несмотря на ночь. Сделав несколько шагов, я чувствую, что весь в поту; но вдруг я ускоряю шаги, почти бегу. Быть может, она проснулась… быть может, я нужен ей?.. Нет, ее окно не освещено. Я ловлю короткий промежуток между двумя порывами ветра, чтобы открыть дверь; тихонько вхожу в темноту. Что это за шум?.. Я не узнаю ее кашля… Она ли это?.. Я зажигаю свет.
Марселина полусидит на кровати; одной из своих худых рук она цепляется за перекладину кровати, чтобы удержаться; ее простыни, руки, рубашка залиты потоками крови; все ее лицо испачкано кровью; ее глаза безобразно расширены; предсмертный крик испугал бы меня меньше, чем ее молчание. Я ищу на ее потном лице маленькое местечко, где бы мог запечатлеть полный ужаса поцелуй; на губах у меня остается вкус ее пота. Я обмываю и освежаю ее лоб, щеки… Около кровати я чувствую что-то твердое под ногой; я наклоняюсь и поднимаю четки, которые она уронила; я кладу их ей в открытую руку, но ее рука тотчас же падает и снова роняет четки. Я не знаю, что делать; мне хочется позвать на помощь… Ее рука отчаянно цепляется за меня, удерживает; ах, неужели она думает, что я хочу ее покинуть? Она говорит мне:
– О, ты ведь можешь еще подождать немного.
Она видит, что я хочу ответить.
– Ничего не говори, – добавляет она, – все хорошо.
Я снова поднимаю четки; кладу их ей в руку, но она снова их роняет, нет, не роняет, бросает их. Я становлюсь на колени перед ней, прижимаю ее руку к себе.
Она опускается наполовину на матрас, наполовину на мое плечо и будто спит, – но глаза ее широко открыты.
Через час она вскакивает; освобождает свою руку из моих рук, хватается за рубашку и рвет кружево. Она задыхается.
Под утро снова кровавая рвота…
Я кончил свой рассказ. Что мне еще прибавить? Туггуртское кладбище безобразно, наполовину засыпано песками… Остаток воли, который у меня был, я приложил к тому, чтобы вырвать ее из этого скорбного края. Она похоронена в Эль-Кантате в тени сада, который ей нравился. С тех пор прошло не больше трех месяцев. Эти три месяца отодвинули мои воспоминания на десять лет.
Мишель долго молчал. Мы тоже все молчали, охваченные странным смущением. Нам казалось, увы, что, рассказав нам о своем поступке, Мишель узаконил его. То, что мы не знали, на каком месте того медленного объяснения, которое он привел, нам следовало осудить его, делало нас почти его сообщниками. Мы были как бы связаны. Он закончил свой рассказ без всякой дрожи в голосе, и ни единое выражение, ни жест не выдали ни малейшего его волнения – от того ли, что циничная гордость не позволяла ему показаться нам взволнованным, от того ли, что из какого-то целомудрия он не хотел вызвать наших слез своим волнением, от того ли, наконец, что он не был взволнован. Я не отличаю в нем даже теперь высокомерия от силы, черствости или стыдливости. Через несколько секунд он продолжал:
– То, что пугает меня, признаюсь вам, это то, что я еще очень молод. Мне иногда кажется, что моя настоящая жизнь еще не начиналась. Вырвите меня теперь отсюда и дайте смысл моему существованию. Я сам не знаю больше, где найти его. Я освободился, это возможно; но что из того? Я страдаю от этой свободы, не имеющей применения. Поверьте мне, это не усталость от моего преступления, если вам угодно так назвать его, но я должен доказать самому себе, что я не преступил своего права.
Когда прежде вы знавали меня, я обладал большим упорством мысли, и я знаю, что это свойство настоящих людей; теперь у меня его нет. Но мне кажется, что здешний климат виноват в этом. Ничто так не отнимает силу у мысли, как эта настойчивая лазурь. Здесь всякое усилие невозможно, настолько близко следует наслаждение за желанием. Окруженный великолепием и смертью, я ощущаю счастье слишком близким и забвение слишком похожим на него. Я ложусь спать посреди дня, чтобы обмануть унылую длительность дней и их невыносимый досуг.
Видите, у меня здесь белые камешки, которые я сначала кладу в тень, потом долго держу в ладони, пока не иссякнет их успокаивающая свежесть. Затем я меняю камешки, кладу в тень те, свежесть которых испарилась. Так проходит время, и наступает вечер… Вырвите меня отсюда; я сам не могу этого сделать. Что-то сломалось в моей воле; я даже не знаю, где я нашел силы покинуть Эль-Кантару. Иногда я боюсь, что уничтоженное мною отомстит мне. Я хотел бы начать заново. Я хотел бы избавиться от того, что еще осталось от моего состояния; видите – эти стены еще покрыты остатками его… Здесь я живу без расходов. Трактирщик, полуфранцуз, приготовляет мне много пищи. Мальчик, который убежал при вашем появлении, приносит мне ее, получая за это несколько грошей и ласку. Этот мальчик, такой дикий с чужими, со мной нежен и верен, как собака. Его сестра, Улед-Найль, каждую зиму ездит в Константину, где продает свое тело прохожим. Она очень красива, и первые недели я допускал, чтобы она проводила иногда ночи со мной. Но однажды утром ее брат, маленький Али, застал нас вместе в постели. Он очень рассердился и не хотел потом приходить ко мне целых пять дней. Между тем он знает, как и чем живет его сестра; он раньше говорил мне об этом тоном, в котором не было никакого смущения… Значит ли это, что он ревнует? Впрочем, этот плут добился своего, так как отчасти от скуки, отчасти из страха потерять Али, я уже больше не звал к себе этой девушки. Она на это не рассердилась; но каждый раз, как я встречаю ее, она смеется и шутит, что я предпочел ей мальчишку. Она уверяет, что это он удерживает меня здесь. Быть может, она отчасти права…

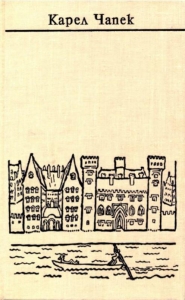


Комментарии к книге «Имморалист», Андре Жид
Всего 0 комментариев