1. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН
Меня тогда еще на свете не было, но в то время мой двоюродный брат Гаун был уже настолько большой, что мог все увидеть, запомнить и рассказать мне, когда я подрос и начал соображать. Или, вернее, не только Гаун, но и дядя Гэвин, или, пожалуй, не только дядя Гэвин, но и Гаун. Ему, Гауну, было тринадцать лет. Его дед приходился братом моему деду, а к тому времени, когда дошло до нас, мы с ним и не знали, кем друг другу доводимся. Поэтому он нас всех, кроме деда, звал «двоюродными» и мы все, кроме деда, звали его «двоюродным», и все.
Они жили в Вашингтоне, где его отец служил в государственном департаменте, а потом государственный департамент вдруг послал его отца в Китай, или в Индию, или еще куда-то далеко-далеко на целых два года; и мать его тоже поехала, а Гауна они отправили к нам, чтоб он у нас жил и учился в джефферсонской школе, покуда они не вернутся. В то время «к нам» – это значило к деду, маме, папе и дяде Гэвину. Я расскажу, что знал об этом Гаун, до того, как я родился и подрос настолько, чтобы тоже об этом знать. А когда я говорю «мы» и «мы думали», то имею в виду Джефферсон и то, что думали в Джефферсоне.
Сперва мы думали, что бак на водокачке – это только памятник Флему Сноупсу. Мы тогда еще ничего не понимали. И только потом мы поняли, что эта штука, которая виднеется над городом Джефферсоном, штат Миссисипи, вовсе не памятник, а след ноги.
Однажды летом Флем въехал в город по юго-восточной дороге в фургоне, запряженном парой мулов, везя с собой жену, ребенка и кое-что из домашней утвари. А на другой день он уже стоял за стойкой в маленьком ресторанчике, принадлежавшем В.К.Рэтлифу. Или, вернее, Рэтлиф владел этим ресторанчиком на паях еще с одним человеком, потому что он, Рэтлиф, агент по продаже швейных машин, должен был почти все время разъезжать по округе в своем фургончике (он тогда еще не купил форд первого выпуска) с образцом швейной машины. Или, вернее, мы думали, что Рэтлиф еще владеет ресторанчиком на паях, пока не увидели за стойкой незнакомца в засаленном переднике – он был приземистый, неразговорчивый, с крошечным аккуратным галстуком бабочкой, с мутными глазами и неожиданно маленьким носом, крючковатым, словно клюв у мелкого ястреба; а еще через неделю Сноупс поставил за ресторанчиком парусиновую палатку и стал жить там с женой и ребенком. И тогда-то Рэтлиф сказал дяде Гэвину:
– Дайте только срок. Через полгода он и Гровера Кливленда (Гровер Кливленд Уинбуш был его компаньон) выпрет из этого ресторана.
Это было самое первое лето, «первое лето Сноупсов», как назвал его дядя Гэвин. Сам он был тогда в Гарварде, уехал туда, чтоб выучиться на магистра искусств. А потом он собирался поступить на юридический факультет университета здесь, в штате Миссисипи, чтобы, когда кончит его, стать помощником своего отца. Но уже в каждые каникулы он помогал отцу, который был прокурором города; миссис Сноупс он тогда еще и в глаза не видел и не только не знал, что поедет в Германию учиться в Гейдельбергском университете, но не знал даже, что ему всерьез этого захочется: он говорил только, что не прочь поехать туда когда-нибудь, ему это казалось удачной мыслью, которую приятно держать про себя, а при случае и ввернуть в разговор.
Они с Рэтлифом часто разговаривали. Потому что Рэтлиф, хоть и школы не кончил толком и все время разъезжал по нашей округе, продавал швейные машины (или продавал, или выменивал, или покупал еще что-нибудь), они с дядей Гэвином оба интересовались людьми, или так, по крайней мере, говорил дядя Гэвин. Потому что я-то всегда думал, что они главным образом интересовались тем, как бы удовлетворить свое любопытство. То есть так было до сих пор. Потому что теперь это было посерьезнее простого любопытства. Теперь им стало страшно.
От Рэтлифа мы и узнали в первый раз о Сноупсе. Или, вернее, о Сноупсах. Или нет, неправда: в 1864 году был в кавалерийском эскадроне полковника Сарториса один Сноупс, в том эскадроне, который был отряжен, чтобы нападать на передовые посты янки и уводить у них лошадей. Только однажды его, этого самого Сноупса, схватили конфедераты, потому что он у них хотел лошадей угнать, и, по слухам, повесили. Но, видно, и это тоже неправда, потому что (как сказал Рэтлиф дяде Гэвину) лет десять назад Флем и какой-то старик, видимо его отец, появились в наших краях неизвестно откуда и арендовали маленькую ферму у Билла Уорнера, державшего в своих руках чуть не весь округ и деревушку Французову Балку в двадцати милях от Джефферсона. Ферма эта была такая маленькая и захудалая, земля на ней так истощилась, что только самые что ни на есть никудышные фермеры брали ее в аренду, да и те больше года никогда не удерживались. Но Эб с Флемом все же арендовали ее, и, видимо (как сказал Рэтлиф), он, или Флем, или оба они вместе нашли это самое…
– Что? – спросил дядя Гэвин.
– Сам толком не знаю, – сказал Рэтлиф. – То, что дядюшка Билл и Джоди зарыли, как им казалось, надежно, – потому что в ту же зиму Флем стал приказчиком в лавке у дядюшки Билла. И то, что они нашли там, на ферме, видно, пошло им впрок, или, может, оно им уже было ни к чему; может, Флем теперь нашел что-то такое, что, как казалось Уорнерам, было надежно спрятано под стойкой в самой лавке. Потому что еще через год Эб переехал на Французову Балку к сыну, и тут, откуда ни возьмись, появился новый Сноупс и поселился на арендованной ферме; а там, через два года, еще один Сноупс арендовал у Уорнера кузню. И стало на Французовой Балке Сноупсов столько же, сколько Уорнеров; а через пять лет после этого, в тот самый год, когда Флем переехал в Джефферсон, Сноупсов стало даже больше, чем Уорнеров, потому что одна из Уорнеров вышла замуж за Сноупса и теперь кормила грудью еще одного маленького Сноупсика.
Видно, теперь Флем нашел что-то уже в доме у дядюшки Билла. Нашел его единственную дочку, она была младшая из детей, не просто деревенская красавица, а первая красавица на всю округу. И он это сделал не только из-за земли и денег старого Билла. Потому что я тоже ее видел и знаю, какая она, хоть тогда она уже была взрослая и замужем и у нее уже была дочка старше меня, а мне было сперва только одиннадцать, потом двенадцать, а потом тринадцать лет. («Ну да, – сказал дядя Гэвин. – Даже в двенадцать лет глупо воображать, что ты первый сходишь с ума из-за такой женщины».) Она не была рослой, статной, похожей, как говорится, на Юнону. Просто трудно было поверить, что одна живая женская плоть может все это вместить и удержать в себе: слишком много белизны, слишком много женственности, быть может, слишком много сияния, не знаю уж, как это назвать: но только взглянешь на нее и сразу чувствуешь словно бы прилив благодарности за то, что ты мужчина и живешь на свете, существуешь вместе с ней во времени и пространстве, а в следующий миг (и уже навсегда) тебя охватывает какое-то отчаянье, потому что ты знаешь, что никогда одного мужчины не хватит, чтобы удостоиться, заслужить и удержать ее; и тоска навеки, потому что отныне и вовек ты ни о ком другом и помыслить не сможешь.
Вот что на этот раз нашел Флем. В один прекрасный день, как рассказывал Рэтлиф, на Французовой Балке узнали, что накануне Флем Сноупс и Юла Уорнер уехали в соседний округ, уплатили налог и поженились; и в тот же день, как рассказывал все тот же Рэтлиф, на Французовой Балке узнали, что трое парней, давние поклонники Юлы, тоже уехали ночью, – говорили, будто в Техас или еще куда-то на Запад, так далеко, что дядюшке Биллу или Джоди Уорнеру нипочем бы их не достать, даже если б они и вздумали попробовать. А через месяц Флем с Юлой тоже уехали в Техас (в этот край, как сказал дядя Гэвин, который в наше время служит убежищем для преступников, банкротов или просто оптимистов), а на другое лето вернулись с девочкой, которая была немного велика для трехмесячной…
– И еще эти лошади, – сказал дядя Гэвин. Это мы знали, потому, что не Флем Сноупс первый их сюда пригнал. Почти каждый год кто-нибудь пригонял в нашу округу откуда-нибудь с Запада, из прерии, табун диких необъезженных лошадей и продавал их с торгов. На этот раз с лошадьми приехал какой-то человек – видимо, из Техаса, и в тот же самый день оттуда вернулся Сноупс с женой. Только лошади были очень уж дикие, и кончилось тем, что эти зверюги, пестрые, как ситец, необъезженные, да объезжать их и думать нечего было, разбежались не только по Французовой Балке, но и по всей восточной части округа. И все же никто не доказал, что лошади были Флемовы. – Нет, нет, – сказал дядя Гэвин. – Вы ведь не задали деру, как те трое, как только вспомнили о дробовике дядюшки Уорнера. И не говорите мне, что Флем Сноупс выменял у вас вашу половину ресторанчика на одну из этих лошадей, потому что я все равно не поверю. На что он ее выменял?
Рэтлиф сидел перед ним в чистой рубашке, лицо приветливое, смуглое, гладко выбритое, и его умные, проницательные глаза избегали взгляда дяди Гэвина.
– На тот старый дом, – сказал он. Дядя Гэвин молчал. – На усадьбу Старого Француза. – Дядя Гэвин молчал. – Ну, где зарыты деньги. – И тут дядя Гэвин понял: ведь во всем Миссисипи и даже на всем Юге нет ни одного старого плантаторского дома довоенных времен, с которым не была бы связана легенда о деньгах и серебряной посуде, зарытых в саду, чтоб спасти их от янки, – на этот раз речь шла о разрушенном доме, который принадлежал Уорнеру, а в старину господствовал над деревушкой и дал ей свое имя, откуда и пошло название Французова Балка. Во всем был виноват Генри Армстид, это он вздумал расквитаться со Сноупсом за лошадь, которую тот техасец ему продал, а он, гоняясь за ней, сломал ногу. – Или нет, – сказал Рэтлиф, – я тоже виноват, как и всякий другой, как и все мы. Отгадать, на что Флему эта старая усадьба, которая торчит у всех на глазах, было не так-то просто. Я не о том говорю, зачем Флем стал бы ее покупать. Я о том, зачем он взял ее даром. Когда Генри стал ходить за Флемом по пятам и следить за ним и выследил наконец, что он копает в старом саду, то ему. Генри, не пришлось долго убеждать меня поехать туда назавтра и своими глазами убедиться, что Флем там копает.
– А когда Флем наконец бросил копать и ушел, вы с Генри вылезли из кустов и тоже принялись копать, – сказал дядя Гэвин. – И нашли. Нашли часть клада. Но этого было вполне довольно. Ровно столько, чтобы вы, едва дождавшись рассвета, бросились к Флему и обменяли свою половину ресторана на половину усадьбы Старого Француза. И долго вы с Генри еще потом копали?
– Я-то бросил на вторую ночь, – сказал Рэтлиф. – Как только сообразил да поглядел на эти деньги повнимательней.
– Так, – сказал дядя Гэвин. – На деньги.
– Мы с Генри откопали серебряные доллары. Среди них были и старые. Среди тех, что достались Генри, был один, отчеканенный почти тридцать лет назад.
– Понятно. Он, выходит, подсыпал вам золотишко в песок, как делают старатели, – сказал дядя Гэвин. – Старо как мир, и все же вы попались на эту удочку. Не Генри Армстид, а вы.
– Да, – сказал Рэтлиф. – Это почти так же старо, как тот платок, что уронила тогда Юла Уорнер. И почти так же старо, как дробовик дядюшки Билла. – И больше он тогда ничего не сказал. А еще через год он остановил дядю Гэвина на улице и сказал:
– Если суд ничего не имеет против, Юрист, я хотел бы внести поправку. Я хочу переменить «тогда» на «все еще».
– «Тогда» на «асе еще»?
– В прошлом году я сказал: «Платок, что уронила тогда миссис Флем Сноупс». А теперь я хотел бы переменить это «уронила» на «все еще роняет». Я знаю одного человека, который все еще не прочь его поднять.
А Сноупс за полгода не только выпер из ресторанчика компаньона, но и самого его там уже не было, а его место за грязной стойкой и в парусиновой палатке занял другой Сноупс, засосанный из Французовой Балки той пустотой, которая образовалась от продвижения первого, – он просочился сюда тем же способом, каким, как сказал Рэтлиф, они заполонили всю Французову Балку, сплошным потоком: каждый Сноупс на Французовой Балке поднимался на одну ступень, оставляя за собой свободное пространство для следующего Сноупса, который являлся неизвестно откуда и занимал его место, и без сомнения очередной Сноупс уже был там, хотя Рэтлиф еще не успел съездить туда и убедиться в этом.
Теперь Флем с женой арендовали домик на окраине города и Флем стал смотрителем городской электростанции, которая приводила в действие водокачку и давала городу ток. Сначала мы просто остолбенели; и не оттого, что Флем получил место, до этого мы тогда еще не дошли, а оттого, что мы до тех пор и не подозревали, что есть такое место, что существует такая должность в Джефферсоне – смотритель электростанции. Потому что с электростанцией – с котлами и машинами, которые приводили в действие насос для водопровода и генератор – управлялся старый моторист с лесопилки по фамилии Харкер, а за генератором и городской электросетью следил тогда электротехник, которому город платил по контракту, и все шло как по маслу с тех самых пор, как в Джефферсоне появились водопровод и электричество. И вдруг неожиданно на электростанции потребовался смотритель. И так же неожиданно, в то же самое время, какой-то чужак, который не прожил в городе и двух лет и (как мы думали) сроду не видел электрической лампочки до того самого вечера два года назад, когда приехал сюда, стал смотрителем.
Только это нас и удивило, а что этот чужак был Флем Сноупс, мы не удивились. Потому что к тому времени все мы уже видели миссис Сноупс, а видели мы ее редко, только за стойкой в ресторанчике, когда она, в таком же засаленном переднике, жарила котлеты, яичницу с ветчиной и жесткие бифштексы на грязной керосинке, – или раз в неделю на площади, где она всегда бывала одна; казалось, она никуда не шла: просто ходила, двигалась в ореоле благопристойности, и скромности, и одиночества, в десять раз более нескромная и в сто раз более волнующая, чем какая-нибудь молодая женщина в купальном костюме, вроде тех, что начали носить в начале двадцатых годов, словно лишь за секунду до того, как тебе на нее взглянуть, одежда настигала и окутывала ее стремительным, мятущимся, бешеным вихрем. Но только на один миг, потому что тотчас же, если идти за ней следом, одежда никла и спадала просто оттого, что шла она так, словно звезда, блуждая по небу, проглянула сквозь мокрые клочья докучливых облаков.
Ну а нашего мэра, майора де Спейна, мы знали давно. В Джефферсоне, штат Миссисипи, да и на всем Юге было в те времена полно людей, которые звались генералами, или полковниками, или майорами, потому что их отцы или деды были генералами, или полковниками, или майорами, или, может, просто рядовыми в армии Конфедерации, или внесли свою лепту в общее дело, с успехом послужив ему на посту губернатора штата. Но отец майора де Спейна действительна был майор кавалерии, и сам де Спейн окончил военную академию в Уэст-Пойнте и отправился воевать на Кубу младшим лейтенантом и вернулся оттуда раненый – длинный шрам тянулся у него от самых волос через левое ухо и через всю щеку, такой шрам могла оставить сабля или шомпол, – так что мы, естественно, думали, что его ранил в бою какой-нибудь испанец, – или же, как утверждали перед выборами мэра его политические соперники, его рубанул топором какой-то сержант, когда они играли в кости.
Потому что едва он вернулся и снял свою голубую форму, какую носили янки, мы сразу поняли, что он и Джефферсон ни в какую не подходят друг для друга и кому-нибудь придется капитулировать. И, уж конечно, не де Спейну: он не сбежит из Джефферсона и даже не подумает приспосабливаться к Джефферсону, а постарается так скрутить Джефферсон, чтобы город к нему приспосабливался, и – молодежь очень на это надеялась, – он добьется своего.
Прежде Джефферсон был, как все другие южные городки: здесь не происходило никаких событий с тех самых пор, как последний янки либо убрался восвояси, махнув рукой, либо стал самым настоящим миссисипцем. У нас, как полагается, был мэр и совет олдерменов, которые, как молодежи казалось, сидели на своих местах со времен Ноева ковчега или, уж во всяком случае, с тех пор как последний индеец племени чикасо отправился в Оклахому в 1820 году, и были тогда такими же старыми, как теперь, и даже не стали старее; мэр, старый мистер Адамс, с длинной, как у патриарха, седой бородой, наверно, казался молодым ребятам, вроде моего двоюродного брата Гауна, едва ли не древнее самого господа бога, словно он и в самом деле был первым человеком на земле; и дядя Гэвин говорил, что не одни только мальчишки по двенадцать и тринадцать лет, вроде моего двоюродного брата Гауна, фамильярно называли его «мистер Адам», отбрасывая конечное «с», а его толстую старую жену – «мисс Ева Адам», – впрочем, этой толстой старой Еве давно уже не грозила опасность вызвать у змея или еще у кого-нибудь желание искушать ее.
Нам было любопытно, каким же топором лейтенант де Спейн обтешет углы Джефферсона, чтобы город стал ему в самую пору. И однажды он нашел подходящий топор. Наш электротехник (тот, который следил за генераторами, динамо-машинами и трансформаторами) был гений. Однажды в 1904 году он выехал со своего заднего двора на улицу в первом автомобиле, какой мы видели, сработанном собственными его руками, целиком, от мотора и магнето до спиц, и появился на площади в тот самый миг, когда через нее ехал домой полковник Сарторис в своей банкирской коляске, запряженной кровными рысаками. Хотя полковник Сарторис и его кучер не пострадали и на лошадях, когда их удалось поймать, не было ни царапинки, а коляску электротехник предложил починить (говорили, что он предлагал даже поставить на нее бензиновый мотор), полковник Сарторис самолично выступил на очередном заседании совета олдерменов, и они вынесли указ, запрещавший ездить по улицам Джефферсона на каких бы то ни было средствах передвижения с мотором.
Этим и воспользовался де Спейн. И не он один. Этого только и дожидалось все нынешнее поколение молодых людей, не только в Джефферсоне, но и повсюду, видевшее в этих вонючих шумных самодельных и самодвижущихся драндулетах, которые мистер Баффало (электротехник) мастерил в свободное время из всякой рухляди у себя на заднем дворе, не просто явление, но предзнаменование, будущность Соединенных Штатов. Ему, де Спейну, не нужна была даже предвыборная кампания, чтобы стать мэром: ему нужно было только выставить свою кандидатуру. И старые, видавшие виды отцы города тоже это поняли, потому-то они и прибегли к отчаянному средству – выдумали, или откопали, или снова повторили (как угодно) эту историю про игру в кости на Кубе и про топор сержанта. И тогда де Спейн покончил с этим раз и навсегда, без всякой политики; сам Цезарь не мог бы сделать это чище.
Это было утром, когда приходит почта. Мэр Адамс и его младший сын Терон, который был моложе де Спейна и даже ненамного его здоровее, а только повыше ростом, выходили с почты, и тут им встретился де Спейн, Вернее, он стоял там, окруженный целой толпой зевак, и уже дотронулся пальцем до своего шрама, когда Адамс его увидел.
– Доброе утро, господин мэр, – сказал он. – Что это за слухи ходят по городу насчет игры в кости и топора?
– Именно этот вопрос и хотели бы задать вам избиратели Джефферсона, сэр, – сказал мистер Адамс, – Если у вас есть доказательства, что это не так и за ними не надо ехать на Кубу, я посоветовал бы вам их представить.
– Я знаю более простой способ, – сказал де Спейн. – Вы, ваша честь, староваты для этого, но Терон уже взрослый малый, с вашего позволения мы с ним сходим в скобяную лавку Маккаслина, возьмем пару топоров и живо выясним, кто прав.
– Бросьте, лейтенант! – сказал Терон.
– Не беспокойтесь, – сказал де Спейн. – Топоры за мой счет.
– До свиданья, джентльмены, – сказал Терон. И на том они покончили. А в июне де Спейна выбрали мэром. Это был целый переворот, потому что не в том было дело, что он победил, прошел на выборах. В Джефферсоне наступила новая эра, и он был лишь ее поборником, Годфридом Бульонским, Танкредом, джефферсонским Ричардом Львиное Сердце двадцатого века.
Он достойно носил эту мантию. Или нет; то была не мантия: то было знамя, стяг, и он нес его, он уже был впереди, прежде чем мы в Джефферсоне поняли, что готовы идти за ним. Он назначил мистера Баффало городским электротехником и положил ему месячный оклад. Но первое его официальное постановление касалось указа полковника Сарториса насчет автомобилей. Мы, конечно, думали, что он со своими новыми членами городского совета отменит указ хотя бы только потому, что этот старый пень полковник Сарторис велел другому старому пню, мэру Адамсу, издать его. Но они этого не сделали. Как я уже сказал, когда его выбрали, это был настоящий переворот; похоже, что этот разговор насчет топора со старым мэром Адамсом и Тероном возле почты раскрыл глаза всей джефферсонской молодежи. Я хочу сказать – всем тем, которые еще не владели лавкой или хлопкоочистительной машиной или не имели адвокатской или врачебной практики, но были всего лишь приказчиками и счетоводами в лавках, при хлопкоочистительных машинах и в конторах, стараясь скопить достаточно денег, чтобы жениться, и все они дружно провели де Спейна в мэры. И им удалось не только это, они сделали больше: прежде чем они сами поняли или успели подумать, они вытеснили дряхлых олдерменов и залезли на места отцов города, уцепившись за фалды Манфреда де Спейна или хотя бы за этот самый топор. Казалось, они первым делом должны бы навсегда выбросить на свалку этот автомобильный закон, но они, наоборот, велели написать его на куске пергамента, как диплом или грамоту, вставить в рамку и повесить на стену в городском управлении под стеклом с электрической лампочкой, и скоро люди, приезжавшие на автомобилям из самого Чикаго, стали смеяться над ним. Потому что, как сказал дядя Гэвин, в то сказочное, легендарное время автомобиль почитали чудом, это было еще до того, как автомобиль появился у каждого американца и под колесами стало гибнуть больше людей, чем на войне.
Он, де Спейн, сделал даже больше. Он сам пригнал в город первый настоящий автомобиль – красный открытый гоночный автомобиль, продал упряжных лошадей, которые достались ему от отца, разломал стойла, ясли и перегородки и устроил первый в Джефферсоне гараж и автомобильное агентство, так что теперь автомобили могли купить и члены городского совета и все прочие молодые люди, которым ни один банк не ссудил бы на это и цента ни под какое обеспечение. Да, да, век моторов вступил и в Джефферсон, и де Спейн возглавил шествие в этом красном открытом автомобиле, непривычном и привлекательном, который выглядел таким же закоренелым холостяком и ветреником, каким был сам де Спейн. И каким он всегда останется, один в своем большом деревянном доме, доставшемся ему от отца, с поваром и лакеем в белом сюртуке; он всегда был в первой паре в котильоне, и дамы первым выбирали его, а если бы в те времена уже собирались в кафе завсегдатай – не аристократы, не четыреста семейств, а именно завсегдатаи кафе, – и у нас в Джефферсоне узнали бы про это, он и тут был бы первым; родись он лет через тридцать, из него, наверное, сделали бы приторную олеографию и молились бы на него, как молятся на Гейбл, Харлоу и Монро, которых при жизни причислили к лику американских святых.
А миссис Сноупс мы в первый раз увидели, когда она шла по площади и, казалось, тело ее вот-вот, среди бела дня, воспламенит одежду и даже тонкой вуали пепла на нем не останется, и нам казалось, что мы видим судьбу, саму Судьбу, на которую обречены они оба, она и мэр де Спейн. Мы не знали, когда они встретились, когда впервые взглянули друг на друга. Нам это и не нужно было. Мы, можно сказать, и не хотели знать этого. Мы предполагали, конечно, что он приводит ее к себе в дом по ночам какими-то хитрыми путями и способами, но и этого мы не знали наверняка. Будь на его месте кто-нибудь другой, среди нас нашлись бы такие – какой-нибудь мальчишка или юноша, – что всю ночь пролежали бы в засаде, лишь бы узнать все. Но за ним мы не следили. Наоборот, мы были на его стороне. Мы не хотели ничего знать, мы были его союзниками, конфедератами; весь город был его сообщником, помогал ему наставлять рога Сноупсу, хотя мы никак не могли доказать, что не мы сами выдумали все это от начала до конца; мы не раз видели, как де Спейн и Сноупс дружелюбно идут рядом, и в то самое время (хотя мы этого еще не знали) де Спейн уже учреждал, или обдумывал, как бы учредить эту должность смотрителя электростанции, – мы-то не знали даже, что у нас ее нет, не говоря уж о том, что она нам нужна, – и потом предоставил ее мистеру Сноупсу. И не то чтобы мы были против мистера Сноупса, мы еще не прочли письмена и знамения, которые предупредили, предостерегли, побудили бы нас сплотиться и грудью защищать от него наш город, и мы вовсе не были за супружескую измену, за грех: мы просто были за де Спейна и Юлу Сноупс, за то, что Гэвин называл божественностью простой, безгрешной и безграничной бессмертной страсти, которую они воплощали; за этих двоих, которые нашли друг в друге суженых и поняли, что на всем свете они созданы друг для друга; и мы гордились, что все это разыгралось в Джефферсоне.
Даже дядя Гэвин удивлялся; да, и дядя Гэвин. Он сказал Рэтлифу:
– Наш город не так уж велик. Почему Флем их не поймает?
– Не хочет, – сказал Рэтлиф. – Ему это покамест без надобности.
А потом мы узнали, что город – мэр, совет олдерменов, не знаю уж, кто и как, – учредил должность смотрителя электростанции и назначил на нее Флема Сноупса.
По ночам на электростанции управлялся мистер Харкер, бывший моторист с лесопилки, вместе с Томовым Тэрлом Бьючемом, кочегаром-негром, который разводил огонь в топках котлов, пока мистер Харкер был там и следил за манометрами, потому что Томов Тэрл не мог или не хотел это делать, очевидно не допуская и мысли, что возможна какая-то связь между топкой под котлом и маленькими грязными часиками на котле, которые даже времени не показывают. А днем другой негр-кочегар, Том-Том Бэрд, управлялся на станции один, а мистер Баффало наведывался туда хоть и регулярно, но лишь для порядка, так как Том-Том не только топил котлы, он был настолько сведущ, что понимал показания манометров, а также чистил и смазывал паровой двигатель и динамо-машины не хуже мистера Баффало и мистера Харкера; удобней и придумать было нельзя, так как мистер Харкер, человек уже не молодой, не возражал против ночной смены или, может, даже предпочитал ее, а здоровенный, как бык, Том-Том, который весил двести фунтов и был шестидесяти лет от роду, хотя с виду ему больше сорока не дашь, года два назад женился в четвертый раз на молодой женщине, ревниво заточил ее, как турок, в хижине в двух милях от электростанции, если идти вдоль железнодорожного полотна, и слышать ни о чем не хотел, кроме дневной смены. И хотя к тому времени мои двоюродный брат Гаун тоже стал работать в ночную смену у Харкера, мистер Сноупс уже научился снимать показания с манометров и даже заливать масло в масленки.
Произошло это года через два после того, как он стал смотрителем электростанции. Гаун решил с осени начать играть за нашу футбольную команду, и ему взбрело в голову, – по-моему, он и сам не знал, с чего, – что подбрасывать по ночам на электростанции уголь в топку – это прекрасная тренировка, и он там живо научится обводить противника и перехватывать мяч. Мама и папа не были с этим согласны, пока не вмешался дядя Гэвин. (Он к этому времени окончил Гарвардский университет и был магистром искусств, а еще окончил юридический факультет университета в Миссисипи, был принят в коллегию адвокатов, и так как дед уже почти не занимался делами, прокурором города, можно сказать, был дядя Гэвин; прошел целый год – это было в июне, он только что вернулся из университета и в то лето еще не видел миссис Сноупс – с тех пор как он стал поговаривать о Гейдельберге, просто так, для красного словца.)
– Почему же нет? – сказал он. – Гауну пошел четырнадцатый год: пора уж ему проводить ночи вне дома. А разве найдешь более подходящее место, чем электростанция, где мистер Харкер и кочегар не дадут ему заснуть?
Гаун стал подручным Томова Тэрла, и мистер Харкер с первой же ночи не давал ему заснуть, все говорил о мистере Сноупсе, говорил с каким-то бесстрастным удивлением, как человек, видевший столкновение планет, стал бы рассказывать об этом. Мистер Харкер сказал, что началось это в прошлом году. Однажды Том-Том вычистил топки и сидел в коридоре, курил трубку, котлы топились, и из предохранительного клапана в среднем котле вырывался пар, и тут входит мистер Сноупс, встал и стоит, жует да поглядывает на свистящий клапан.
– Сколько весит этот свисток? – спрашивает.
– Ежели вы об этом вот клапане спрашиваете, то фунтов десять, – говорит Том-Том.
– Литая медь? – спрашивает мистер Сноупс.
– Все целиком, кроме той дырочки, через которую он, как вы сказали, свистит, – говорит Том-Том. И, как сказал мистер Харкер, этим покамест дело и кончилось; а через два месяца он, мистер Харкер, пришел вечером на дежурство и увидел, что со всех трех котлов исчезли предохранительные клапаны и на их место ввинчены дюймовые стальные болты, которые могут выдержать давление в тысячу фунтов, а Томов Тэрл знай себе шурует уголь в топках, потому что не слышит свистка.
– А днища всех трех котлов можно соломиной проткнуть, – сказал мистер Харкер. – Когда я взглянул на манометр первого котла, то был уверен, что отправлюсь на тот свет, прежде чем успею схватиться за регулятор.
И когда я наконец вдолбил Тэрлу в голову, что сто на этом циферблате означает, что он, Тэрл, не только потеряет работу, но потеряет ее так основательно, что никто уже не найдет ни его, ни работы, я настолько успокоился, что спросил, куда же подевались эти клапаны.
– Их взял мистер Сноупс, – сказал он.
– Но за каким дьяволом?
– А я почем знаю. Я только говорю то, что слышал от Том-Тома. Он сказал, что мистер Сноупс сказал, что поплавок в баке на водокачке слишком легкий. Сказал, что бак скоро начнет течь и он, мол, хочет приладить эти три предохранительных клапана на поплавок, чтоб он стал потяжелее.
– Ты хочешь сказать… – говорю я. И тут у меня застопорило. – Ты хочешь сказать…
– Это Том-Том так сказал. А сам я знать ничего не знаю.
Как бы там ни было, а клапаны исчезли; в баке они или нет, тогда, среди ночи, выяснить было нельзя. Мы с Тэрлом малость успокоились, когда давление упало и все кое-как обошлось. Но, ей-же-богу, мы всю ночь глаз не сомкнули. До утра просидели на угольной куче, откуда были видны все три манометра. И с самой полуночи, после того как упало давление, во всех трех котлах не хватило бы пара, чтобы раскалить жаровню для орехов. И даже когда я пришел домой и лег в кровать, спать я не мог. Только закрою глаза, мне сразу видится манометр величиной с таз, и красная стрелка с угольную лопату ползет к ста фунтам, и я просыпаюсь с криком, весь в поту.
А когда рассвело, я не стал посылать Тэрла: я сам залез на водокачку и осмотрел поплавок. На нем не было никаких клапанов, и, может, мистер Сноупс и не собирался привязывать их там, на виду, где всякий может их взять. И хоть бак этот глубиной в сорок два фута, я все же мог бы открыть кран и спустить воду. Но только я ведь простой моторист, а мистер Сноупс – смотрителе электростанции, и уже началась дневная смена, и я знал, что, если Джо Баффало зайдет и увидит заместо клапанов эти тысячефунтовые болты, Том-Том ему объяснит все как есть.
Так что я пошел домой, а на другую ночь насилу мог заставить Тэрла поднять давление пара настолько, чтобы сдвинуть с места поршень, не говоря уж о том, чтоб вертеть динамо-машины; и еще через ночь то же самое, и еще, и так прошло дней десять, а потом с товарной станции доставили ящик; Том-Том дожидался на электростанции, и мы вдвоем вскрыли ящик (на нем большими черными буквами было написано: «Наложенным платежом», но ярлык был сорван и исчез. «Я знаю, куда он его бросил», – сказал Том-Том), вывинтили болты и поставили новые предохранительные клапаны, а Том-Том и впрямь нашел скомканный ярлык: «Мистеру Флему Сноупсу, электростанция, Джефферсон, штат Миссисипи, наложенным платежом, двадцать три доллара восемьдесят один цент».
Но было в этом деле кое-что такое, чего не знал сам мистер Харкер, пока дядя Гэвин ему не рассказал, после того как Том-Том рассказал дяде Гэвину: однажды, когда Том-Том сидел на угольной куче и курил трубку, вошел мистер Сноупс, неся что-то, – Том-Том сперва подумал, что это подкова третий номер для мула, но мистер Сноупс отнес эту штуку в угол за котлы, где была целая груда негодных деталей – клапанов, стержней, втулок, которая накопилась, может, еще с того времени, когда в Джефферсоне впервые загорелся электрический свет; и, встав на колени, он (мистер Сноупс) каждую деталь пробовал магнитом и раскладывал их на кучки в проходе. А потом Том-Том видел, как он перепробовал магнитом каждый обломок металла в котельной, отделяя железо от меди. А потом Сноупс велел Том-Тому собрать медь и снести ее в контору.
Том-Том собрал медь в ящик. Сноупс ждал в конторе – сидел там и жевал. Том-Том сказал, что он ни на миг не переставал жевать и даже не сплюнул ни разу.
– Ты как с Тэрлом, ладишь? – спросил он.
– Я знаю свое дело, – ответил Том-Том. – А что делает Тэрл, это меня не касается.
– А вот Тэрл думает иначе, – сказал мистер Сноупс. – Он хочет, чтоб я перевел его в дневную смену, Говорит, что устает работать по ночам.
– Пускай поработает с мое, тогда и переходит в дневную смену, – сказал Том-Том.
– Тэрл не намерен дожидаться так долго, – сказал мистер Сноупс. А потом он рассказал Том-Тому, что Тэрл хочет украсть с электростанции железо и свалить на Том-Тома, чтоб его выгнали. Да, да. Том-Том говорил дяде Гэвину, что мистер Сноупс именно так и сказал: железо. Может быть, мистер Сноупс до того дня не слыхал о магните и поэтому думал, что и Том-Том никогда о нем не слыхал и не понимает, что он делал. Я хочу сказать, не слыхал ни о магнитах, ни о меди и не мог отличить медь от железа. Или, может, он просто думал, что Том-Тому, поскольку он негр, на это наплевать. Или, может, поскольку он негр, то, знает он или нет, наплевать ему или нет, он не станет совать нос в чужие дела, особенно если тут замешан белый. Только об этом уж мы, конечно, могли лишь догадываться. И это было не так уж трудно. Том-Том стоял, здоровенный, черный, голову нагнул – вылитый черный бык, да и глядел он по-бычьи. А Тэрл, наоборот, был цвета кожаного седла, и даже с целой лопатой угля в руках он едва ли потянул бы больше полутораста фунтов. – Вот что он задумал, – сказал Сноупс. – Поэтому я хочу, чтобы ты отнес все это к себе домой, и смотри никому ни слова. А я скоро соберу улики против Тэрла и выгоню его вон.
– Я знаю способ получше, – сказал Том-Том.
– Это какой же способ? – сказал Сноупс. А потом он сказал: – Нет, это не пойдет. Если ты затеешь скандал с Тэрлом, я выгоню вас обоих. Делай, как я тебе говорю. Если, конечно, тебе не надоело здесь работать и ты не хочешь уступить место Тэрлу. Хочешь?
– Кажется, пары я развожу исправно, никто еще не жаловался, – сказал Том-Том.
– Тогда делай, как я тебе говорю, – сказал Сноупс. – Снеси все это сегодня вечером домой. Да так, чтоб никто не видел, даже твоя жена. А ежели не хочешь, так и скажи. Я, пожалуй, найду кого-нибудь посговорчивей.
Том-Том послушался. И всякий раз, когда скапливалась куча негодных деталей, он видел, как Сноупс пробовал их магнитом и откладывал горку меди, а Том-Том нес ее домой и прятал. Потому что Том-Том работал кочегаром сорок лет, с тех самых пор, как стал взрослым, а эти три котла топил уже двадцать лет, и он же в первый раз развел под ними огонь. Сперва он топил один котел и получал за это пять долларов в месяц. Теперь котлов стало три, и он получал шестьдесят долларов в месяц, и ему было шестьдесят лет, и у него был собственный домик и клочок земли, засеянный кукурузой, и мул, и пролетка, на которой он ездил в церковь по два раза каждое воскресенье при золотых часах и с молодой женой, и к тому же это была последняя молодая жена, которую ему, вероятно, суждено было иметь.
Но в то время мистер Харкер знал только, что металлический хлам постепенно накапливается в углу за котлами, а потом вдруг исчезает за одну ночь, и теперь он каждый вечер повторял одну и ту же шутку – торопливо входил на электростанцию и говорил Тэрлу: «Ну, я вижу, машинка еще работает. Там во втулках и цапфах много меди, да только они слишком быстро вертятся, магнит к ним не приставишь. Но в этом нам, пожалуй, повезло. Он, пожалуй, продал бы и котлы, ежели б знал, как тебе с Том-Томом без них поддерживать пары».
И он, мистер Харкер, рассказал, что было потом, после Нового года, когда в городе была ревизия.
– Приехали сюда двое в очках. Проверили счетные книги и стали всюду совать нос, все подсчитывали и записывали. А потом вернулись в контору, и в шесть, когда я пришел, они еще были там. Кажется, чего-то у них не хватало: кажется, какие-то старые медные детали были записаны в книгах, и этой меди не нашли, или что-то в этом роде. По книгам они числились, и новые клапаны, и всякие мелкие части были налицо. Но провалиться мне на этом месте, если они нашли хоть одну старую деталь, кроме какой-то паршивой затычки, которая случайно завалилась куда-то, где магнитом ее было не достать, наверное, под скамью закатилась. Странное дело. Мы с ними снова пошли на электростанцию, и я держал фонарь, а они снова шарили во всех углах и здорово извозили в саже, дегте и копоти свои белые рубашки. Но вся эта медь, ясное дело, как в воду канула. С тем они и ушли.
А на другое утро приходят снова. И с ними чиновники из городского управления, и они требуют мистера Сноупса, но им пришлось дожидаться, покуда он пришел в своей клетчатой кепке, с табачной жвачкой во рту, жует и глядит на них, а они бормочут и мнутся, никак не решаются ему сказать. А потом рассыпаются в извинениях и снова мнутся и бормочут, – им, мол, право, неловко, но ничего другого не оставалось, как обратиться к нему как к смотрителю электростанции; угодно ли ему, чтобы меня, Тэрла и Том-Тома арестовали немедленно или можно обождать до завтра? А он стоял и жевал, и глаза у него были, как две капли из масленки на куске сырого теста, а ревизоры все рассыпались перед ним в извинениях.
– Сколько всего? – спросил он.
– Двести восемнадцать долларов пятьдесят два цента, мистер Сноупс.
– Полностью?
– Мы два раза проверили, мистер Сноупс.
– Хорошо, – говорит он. Лезет в карман, достает деньги и выкладывает двести восемнадцать долларов пятьдесят два цента наличными и просит расписку.
А на другое лето Гаун стал подручным Тэрла, так что теперь Гаун сам все видел или слышал от Тэрла, так сказать, из первых уст; однажды вечером мистер Сноупс вдруг показался в дверях котельной и поманил пальцем Тэрла, и теперь уже Тэрл и Сноупс очутились с глазу на глаз в конторе.
– Что там у тебя за неприятности с Том-Томом? – спросил он.
– У меня с ним? – сказал Тэрл. – Ежели бы я мог устроить Том-Тому неприятности, он давно ушел бы со станции и поступил еще куда-нибудь, хоть официантом. Чтобы была неприятность, нужны двое, а Том-Том только один, хоть и здоровенный, как бык.
– Том-Том думает, что ты хочешь перейти в дневную смену, – сказал мистер Сноупс.
У Тэрла глаза забегали.
– Я управляюсь с лопатой не хуже Том-Тома, – сказал он.
– И Том-Том это знает, – сказал мистер Сноупс. – Он знает, что становится стар. Но при этом он знает, что никто, кроме тебя, не может отнять у него работу. – И тут мистер Сноупс рассказал Тэрлу, как Том-Том уже целых два года ворует медь с электростанции, а вину хочет свалить на Тэрла, чтоб его выгнали; и не далее как сегодня Том-Том говорил ему, мистеру Сноупсу, что Тэрл вор.
– Врет он, – сказал Тэрл. – Раз я не крал, ни один черномазый не может обвиноватить меня, хоть он и здоровенный.
– Конечно, – сказал мистер Сноупс. – Ну так вот: надо вернуть эту медь.
– Это не по моей части, – сказал Тэрл. – За это мистеру Баку Коннорсу деньги платят.
А Бак Коннорс был городской шериф.
– Ну, тогда не миновать тебе тюрьмы, – сказал Сноупс. – Том-Том скажет, что и знать не знал об этой меди. И выйдет, что единственный, кто о ней знал, это ты. Как по-твоему, что подумает мистер Коннорс? Получится, что ты один знал, где она была спрятана, и Бак Коннорс поймет, что даже у дурака хватит ума не прятать краденое в собственном сарае. Тебе только одно и остается – принести медь назад. Сходи туда днем, когда Том-Том на работе, возьми ее и притащи мне, а я ее спрячу, и у меня будет улика против Том-Тома. Или, может, ты не хочешь работать в дневную смену? Тогда так и скажи. Я найду кого-нибудь другого.
Потому что Тэрл не проработал кочегаром сорок лет. И вообще он столько лет не проработал, потому что ему было всего тридцать. Но будь ему даже все сто, и тогда никто не мог бы упрекнуть его в том, что он сорок лет работал.
– Разве только если принять в соображение, сколько он шлялся по ночам, – сказал мистер Харкер. – Если Тэрл когда-нибудь на свое несчастье женится, ему все равно придется залезать в собственный дом через окно, а то он даже знать не будет, зачем пришел. Правда Тэрл?
Так что, как сказал мистер Харкер, это была не столько вина Тэрла, сколько ошибка Сноупса.
– Ошибка эта была в том, – сказал мистер Харкер, – что Сноупс позабыл вовремя вспомнить о молодой светлокожей жене Том-Тома. Подумать только, из всех джефферсонских негров он выбрал именно Тэрла, который хоть раз непременно залезал – или пытался залезть – в окно к каждой девушке на десять миль окрест, и послал его к Том-Тому домой, когда он знал, что Том-Том все это время до шести часов под присмотром самого мистера Сноупса шурует уголь, а потом пойдет пешком домой за две мили, и воображал, что Тэрл будет там зря терять время (Гаун теперь работал всю ночь. Ничего не поделаешь: надо же было Тэрлу поспать в угольной яме после полуночи. К тому же Тэрл худел, а для него это было еще хуже, чем бессонница) и шарить где-нибудь, кроме как в постели у Том-Тома. И когда я думаю о Том-Томе, который шурует в топках, а Тэрл ему тем временем по-дружески наставляет рога, совсем как мэр де Спейн с миссис Сноупс, если верить твоему дяде, и при этом Том-Том еще ворует медь, чтобы Тэрл не отнял у него работу, а Тэрл все это время среди бела дня трудится за Том-Тома у него на дому, мне кажется, что я сейчас лопну.
Но ему это не грозило: мы все знали, что так не может долго продолжаться. Неизвестно было только, что раньше: Том-Том поймает Тэрла, или мистер Сноупс поймает Тэрла, или же мистера Харкера действительно хватит удар. Победил мистер Сноупс. В тот вечер, когда мистер Харкер, Тэрл и Гаун пришли заступать смену, он стоял в дверях конторы; он снова поманил Тэрла пальцем, и снова они очутились с глазу на глаз в конторе.
– Ну, теперь нашел? – сказал Сноупс.
– Когда это – теперь? – сказал Тэрл.
– Сегодня в сумерки, – сказал мистер Сноупс. – Я стоял за углом сарая, когда ты прокрался через поле и залез в окно…
Тут у Тэрла глаза забегали.
– Может, ты не там ищешь, – сказал мистер Сноупс. – Ежели Том-Том спрятал это железо у себя в кровати, ты еще три недели назад должен был его найти. Поищи еще раз. А ежели и тогда не найдешь, я, пожалуй, попрошу Том-Тома тебе помочь. – Теперь у Тэрла глаза забегали еще быстрее.
– Завтра я там пробуду часа на три или четыре больше обычного, – сказал он. – Задержите Том-Тома, покуда я не вернусь.
– Ладно, это моя забота, – сказал Сноупс.
– Покрепче его держите, пока я сам сюда не явлюсь, и ежели меня долго не будет, все равно ждите.
– Ладно, это уж моя забота, – сказал Сноупс.
И на этом дело кончилось. На другой вечер Гаун и мистер Харкер пришли на электростанцию, и вдруг мистер Харкер быстро оглядел котельную. Но не успел он и слова сказать, а мистер Сноупс уж стоит в дверях конторы и спрашивает: «Где Том-Том?» Потому что в тот вечер смены ждал не Том-Том, а другой негр, который топил котлы по воскресеньям, пока Том-Том возил свою молодую жену в церковь; Гаун сказал, что мистер Харкер сказал:
– Сто чертей, – а сам уже рванулся с места, пробежал мимо мистера Сноупса в контору и схватил телефонную трубку. А потом снова выскочил из конторы и на бегу крикнул Гауну: – Договорился с Отисом! – Это его племянник, или двоюродный брат, или кем он там ему приходится, который поступил на его место на лесопилку, он заменял Харкера у котлов, когда тот хотел освободиться на ночь. – Отис через пятнадцать минут придет. А до тех пор управляйся сам как можешь.
– Постойте, – сказал Гаун. – Я с вами.
– К дьяволу, – сказал мистер Харкер, не останавливаясь. – Я первый заметил, – и уже выбежал с заднего двора, откуда колеи, проложенные угольными повозками, вели на дорогу, по которой Том-Том ходил каждый день утром и вечером из дому на работу и обратно, и теперь он (мистер Харкер) бежал в лунном свете, потому что было почти полнолуние. И на другой вечер все было залито лунным светом, когда мистер Харкер и Тэрл мирно пришли в урочный час, чтобы сменить Том-Томова заместителя.
– Да, брат, – сказал мистер Харкер Гауну. – Я подоспел как раз вовремя. Понимаешь, Тэрл вовсе ополоумел. Он туда отправился в последний раз. Решился найти эту медь или вернуться и сказать мистеру Сноупсу, что не может ее найти: в любом случае эта сельская идиллия должна была кончиться. Так что я подоспел в самое время, – он как раз пробрался через кукурузное поле, дошел до окна, весь в лунном свете, и влезал в него; и ему как раз хватило времени прокрасться через комнату до кровати, откинуть одеяло, ухватить лакомый кусочек и сказать: «Радость моя, лежи смирно, Папочка пришел». И Гаун сказал, что даже тогда, через сутки, он был напуган и удивлен не меньше, чем Тэрл, который был уверен, что Том-Том в этот миг на электростанции, в двух милях от дома, и останется там, покуда он (Тэрл) не придет его сменить, а когда откинул одеяло, то увидел, что Том-Том, совершенно одетый, лежит на кровати и в руке длиннющий нож, какими мясники скот режут.
– В самое время, – сказал мистер Харкер. – Точно по расписанию, как два паровоза, везущие товарные поезда. Том-Том изготовился прыгнуть, а Тэрл повернулся и давай бог ноги – выскочил из дома, на лунный свет, а Том-Том со своим ножом на нем верхом, и они были совсем… как это называется такой двойной зверь, наполовину конь, наполовину человек, какие бывают на картинках в старинных книгах?…
– Кентавр, – подсказал Гаун.
– …так вот, они были совсем как китавр, который скачет на задних ногах и норовит самого себя обскакать, с длиннющим ножом в переднем копыте, а потом они с лунного света нырнули в лес. Да, брат, Том-Том куда здоровее Тэрла, но, ей-же-богу, Тэрл вез его на себе. Ежели б он хоть на миг остановился, этот нож сам воткнулся бы в него, хотел этого Том-Том или нет.
– Том-Том здоровенный, как бык, – рассказывал потом Тэрл. – Раза в три здоровей меня. Но я его вез. Пришлось. Как оглянусь да увижу – нож блестит, чувствую, что могу подхватить еще двух таких, как он, и резвости ничуть не убавится. – Тэрл рассказывал, что сначала он просто бежал; и только когда он – или они – очутились меж деревьев, он подумал, что можно стряхнуть Том-Тома, стукнув его о ствол дерева. – Но он держался крепко, хоть и одной рукой, и я, как попробую стукнуть его о дерево, сам вместе с ним стукаюсь. И мы скакали дальше, а нож все сверкал под луной, и у меня было одно спасение – бежать.
– А Том-Том уже начал вопить, на землю проситься. Теперь уж он обеими руками держался за меня, и я понял, что как-никак, а от ножа я убежал. Но больно уж сильный я взял разгон; ноги меня не слушались, а уж Том-Тома и подавно, хоть он и орал во всю глотку. И тогда он ухватил меня обеими руками за голову и давай ее поворачивать, словно я был невзнузданный сбесившийся мул, тут уж и я овраг увидел. Он был глубиной футов в сорок и шириной казался в добрую милю, но только было уже поздно. Мои ноги даже не замедлили бег. Они пробежали в пустоте вот как отсюда до той угольной кучи, прежде чем мы начали падать. И они все еще загребали лунный свет, когда мы с Том-Томом грохнулись на дно.
Гаун первым делом поинтересовался, чем Том-Том заменил брошенный нож. И Тэрл ему сказал. Ничем. Просто они с Том-Томом сидели в лунном свете на дне оврага и разговаривали. И дядя Гэвин это объяснил: это священный трепет, прозрение, которое всякое животное, в том числе и человек, не просто обретают, но получают в награду, испытав невыносимые переживания, например, бешеную ярость или бешеный страх, и они оба сидели там, и не то было важно, что один из них, как говорил дядя Гэвин, дружески наставил другому рога, а то, что они заключили между собой нерушимый союз: в дом Том-Тома забрался не Томов Тэрл, а Флем Сноупс; жизнь Тэрла была в страшной опасности, но угрожал ему не Том-Том, а Флем Сноупс.
– Вот что было, когда я подоспел, – сказал мистер Харкер.
– Вы? – сказал Гаун.
– Он нам пособил, – сказал Тэрл.
– Как бы не так, – сказал мистер Харкер. – Вы, видно, уже забыли оба, что я сказал вам вчера вечером там, в овраге. Я знать ничего не знаю и знать не хочу, хоть режьте меня, понятно?
– Ну ладно, – сказал Гаун. – А потом что?
И Тэрл рассказал, как они с Том-Томом вернулись в дом, и Том-Том освободил свою жену, которую привязал к стулу на кухне, и они втроем запрягли мула, вынесли медь из сарая и погрузили в повозку. Ее было почти полтонны; они перевозили ее всю ночь, до самого утра.
– Куда перевозили? – спросил Гаун.
Но потом он, как он сказал, решил, – пусть мистер Сноупс сам об этом спросит; уже светало, и вскоре Том-Том свернул с дороги и пошел по колеям, неся ведерко с обедом, чтобы заступить дневную смену; и вот уж Том-Том подошел совсем близко, здоровенный, с маленькой, упрямой, круглой, как пушечное ядро, головой на длинной шее, и тут все обернулись и увидели, что мистер Сноупс стоит в дверях котельной. И Гаун сказал, что даже мистер Сноупс, видимо, понимал, что станет попусту терять время, если поманит кого-нибудь из них пальцем; и он прямо сказал Тэрлу:
– Ты почему ее не нашел?
– Потому что ее там не было, – сказал Тэрл.
– А ты почему знаешь, что ее там не было? – спросил мистер Сноупс.
– Мне Том-Том сказал, – ответил Тэрл.
Потому что теперь уж ни к чему было терять время. Мистер Сноупс поглядел с минуту на Том-Тома, а потом говорит:
– Куда вы ее подевали?
– Мы ее положили туда, где, как вы сказали, ей быть положено, – сказал Том-Том.
– Мы? – сказал мистер Сноупс.
– Да, мы с Тэрлом, – сказал Том-Том.
И тогда мистер Сноупс еще с минуту поглядел на Том-Тома и говорит:
– А когда я это говорил?
– Когда сказали, куда вы хотите девать предохранительные клапаны, – сказал Том-Том.
Хотя к тому времени вода в баке уже сильно отдавала медью и пора было кому-нибудь заняться этим, опорожнить бак и очистить его, мистер Сноупс и не подумал это сделать. Потому что он уже больше не был смотрителем электростанции, ушел в отставку «в интересах службы», как сказал бы мистер де Спейн, когда он еще был лейтенантом де Спейном, и теперь мог сидеть целыми днями на галерее своего домика, который арендовал на окраине города, и глядеть на бак, видневшийся над джефферсонскими крышами – глядеть на свой памятник, как подумали бы некоторые. Но это не был памятник: это был след ноги. Памятник означает только: «Вот чего я достиг», а след: «Вот где я был, когда двинулся дальше».
– И даже тогда он этого не сделал? – сказал дядя Гэвин Рэтлифу.
– Даже тогда, – сказал Рэтлиф. – Он не накрыл жену с Манфредом де Спейном, и для него это все равно, как если человек приколет двадцать долларов булавкой изнутри к рубахе, когда отправляется в первое плаванье и надеется, что оно приведет его в мемфисский публичный дом. Ему пока незачем отстегивать эту булавку.
2. ГЭВИН СТИВЕНС
Однако он еще не отстегнул булавку. И мы все недоумевали – на что же он живет, на какие деньги, сидя (как нам казалось) изо дня в день, все лето на ветхой галерее снятого им домика и глядя на водопроводный бак. И пока городские власти не додумались спустить воду и вычистить бак, чтобы уничтожить привкус меди в воде, мы даже не знали, сколько медных частей он отдал одному из негров-кочегаров, чтобы принудить другого помогать ему красть, и как оба эти негра, стакнувшись ради сохранения собственной шкуры, спрятали эти медяшки в бак, откуда он их не мог, не посмел вытащить.
Да и теперь мы не знаем, все ли медные части оказались там. Никогда нам не узнать, сколько именно он украл и продал на стороне (я хочу сказать – пока он не заставил Том-Тома или Тэрла пособлять ему), до того или после того, как кто-то (наверное, Баффало, потому что, если бы старик Харкер заметил, что частей не хватает, он, наверно, обставил бы Сноупса и загнал бы их сам, потому что, сколько бы он ни притворялся, что ему просто интересно наблюдать, на самом деле он клял себя за свою слепоту) сообщил в муниципалитет и напустил ревизоров на электростанцию. Знали мы только то, что в один прекрасный день все три предохранительные клапана с котлов пропали; нам оставалось только предположить, вообразить, что произошло потом: Манфред де Спейн – именно Манфред – посылает за ним и говорит: «Вот что, братец, – или «док», или «дружище», – словом, кто его знает, как Манфред называл своего… ну, скажем, напарника, может быть даже «инспектором»: «Вот что, инспектор, тут на двадцать три доллара и восемьдесят один цент медных частей», – он, конечно, сначала заглянул в каталог прежде, чем за ним послать, – «…пропало во время вашего правления, которое вы, конечно, желали бы сохранить незапятнанным, как жену Цезаря: а их можно просто прислать наложенным платежом». И, по словам Харкера, два ревизора мялись и мычали два дня, пока не собрались с духом и не сказали Сноупсу, на какую сумму, по их разумению и расчету, пропало медных частей, после чего Сноупс выложил деньги из своего кармана и заплатил им.
Значит, при окладе в пятьдесят долларов эта должность обошлась Сноупсу в двести сорок два доллара ж тридцать три цента его собственных, можно сказать, кровных денежек. Так что если бы он даже скопил все свое жалованье до единого цента, за вычетом тех двухсот с чем-то долларов, и если бы, предположим, он сумел за это время украсть медных частей еще на две сотни, то все равно на это недолго можно было бы содержать семью. И все же вот уже два года, как он сидел на своей галерее и смотрел (как нам казалось) на водонапорный бак. Ну, я и спросил про это у Рэтлифа.
– А он хозяйство разводит, – сказал Рэтлиф.
– Разводит? – сказал (ну, ладно, крикнул) я. – Что он может разводить? Он же от зари до зари сидит на галерее, смотрит на этот бак.
– Он Сноупсов разводит, – объяснил Рэтлиф. Разводит Сноупсов: весь ихний род, целиком, весь, скопом, подымается со ступеньки на ступеньку, вслед за ним, только вот тот из них, которому достался по наследству ресторан, вовсе и не Сноупс. Несомненно и неоспоримо, он не Сноупс; даже оспаривать это недопустимо, оскорбительно и никак, ни в какой мере непростительно, ибо его матушка, как и ее фантастическая родственница по мужу, в следующем поколении, вероятно, и даже наверняка, должна была, по выражению старинного буколического поэта, «распояша чресла свои» перед тем, как выйти замуж за того Сноупса, который считался законным отцом Эка.
Это его так звали – Эк. Тот самый, с переломанной шеей, он таким и пришел в наш город, когда заступил на место Флема, – в стальном ошейнике на кожаных ремнях. Ничего похожего на Сноупсов. Рэтлиф рассказывал, что случилось это с ним на лесопилке. (Понимаете, даже его родичи, и Флем тоже, знали, что он не Сноупс: и его загнали на лесопилку, где и хозяин-то должен быть финансовым гением, чтобы избежать банкротства, а жулику там вообще делать было нечего, потому что воровать можно только лес, а стибрить вагон тесу это все равно, что стибрить стальной сейф или вот… ну, да, этот самый водонапорный бак.)
Вот Флем и послал Эка на лесопилку дядюшки Билла Уорнера (иначе, как мне кажется, оставалось только усыпить или пристрелить его, как больного пса или негодного мула), и Рэтлиф рассказывал так: однажды Эк сказал, что за доллар на брата он и один из рабочих-негров (из тех, что поздоровее и, конечно, поглупей) подымут громадный кипарисовый ствол и положат его под пилу. Так они и порешили (я ведь уже говорил, что один из них был не из Сноупсов, а другой не из умников) и уже подняли было ствол, когда негр поскользнулся, что ли, словом, упал, и тут бы Эку только взять и выпустить свой конец и отскочить из-под бревна. Но он-то был не таков: уж не говоря о Сноупсах, но и вообще где нашелся бы такой черт, который уперся бы плечом и держал свой конец, принял на себя удар: негр грохнул свой конец оземь, а Эк все держал бревно, пока кто-то не догадался вытащить негра.
Но и тут у него не хватило обыкновенной смекалки, уж не говорю сноупсовской: ему надо бы отскочить, сообразить, что даже Джоди Уорнер не заплатит ему ни черта за спасение своего, уорнеровского негра: а он стоит, держит на себе все это треклятое бревно, у самого изо рта уже кровь пошла, хорошо, что кто-то сообразил подпереть бревно поленом и вытащить его оттуда, и он сидел, весь скорчившись, под деревом, плюя кровью и жалуясь на головную боль. («Только не говорите мне, что ему заплатили тот доллар, – сказал, ну, ладно, крикнул я Рэтлифу, – только не говорите!»)
Никакой он не Сноупс, этот Эк: жил он теперь с женой и сыном в палатке, за рестораном, ходил в засаленном фартуке и в своем ошейнике из стали с кожей (стоя за прилавком, он жарил на закопченной керосинке яичницу и мясо, хотя из-за жесткого ошейника не мог видеть, как оно прожарилось, и жарил просто по слуху, как играет слепой пианист), правда, и тут ему тоже было не место, еще меньше, чем на лесопилке, потому что там он мог только переломать себе кости, а тут он угрожал сломать давнюю традицию всего семейства – упорное и непреклонное хищничество, и все из-за немыслимого и наивного предположения, что люди бывают честными и смелыми, и причина тому простая: если будет иначе, все будут жить в страхе и смятении; именно так он вдруг и сказал, и не потихоньку, а вслух, громко, при чужих людях, даже не родственниках Сноупсам: «Ведь в котлеты как будто полагается класть мясо, верно? Не знаю, что мы сюда пихаем, но уж никак не мясо!»
Ну, и разумеется, они – а когда я говорю «они», я подразумеваю Сноупсов, а когда в Джефферсоне говоришь «Сноупсы», это значит Флем Сноупс, – они его выгнали. Иначе было нельзя, здесь он был просто неприемлем. Но, конечно, тут же встал вопрос: а где, в Джефферсоне, то есть не в джефферсонском хозяйстве, а в сноупсовском (да, да, когда говоришь в Джефферсоне «Сноупс», это значит Флем Сноупс) хозяйстве он будет приемлем, где Сноупсам от него не будет вреда? Рэтлиф и это знал. То есть все в Джефферсоне знали, потому что через двадцать четыре часа всему Джефферсону стала известна эта фраза насчет котлет, и, конечно, все понимали, что с Эком Сноупсом что-то надо сделать, и сделать поскорее, и, конечно (он был лицо заинтересованное), как только сам Флем узнал, так и другие тоже узнали, что и как. То есть мне об этом сказал Рэтлиф. Вернее, кто как не Рэтлиф должен был мне все рассказать: Рэтлиф, с этой своей непроницаемой физиономией, с этими своими лукавыми, ласковыми, невинными и умными глазами, чересчур невинными, чересчур умными:
– Служит ночным сторожем при нефтехранилище Ренфро, около вокзала. Ему там не придется шею напрягать, там не надо наклоняться к плите, смотреть, отчего это гарью запахло. Да и задирать голову не надо, глядеть – стоит ли бак на месте или нет, только и дела, что подойти да пощупать – цело дно или прохудилось. А то и просто посиживай себе на стуле у дверей и посылай своего мальчишку посмотреть. Этого, что похож на жеребенка, – сказал Рэтлиф.
– Кого, кого? – сказал, нет, крикнул я.
– Жеребенка, – сказал Рэтлиф. – Я про сынишку Эка. Про Уоллстрита-Панику. Я там тоже был, в день, когда тот малый из Техаса продавал с торгов диких сноупсовских лошаденок. Темень непроглядная, а мы только что поужинали у миссис Литтлджон, я уже совсем собрался лечь, стал раздеваться у себя в комнате, а тут Генри Армстид и Эк с мальчишкой пошли в загон – вылавливать своих лошадей; у Эка их было две: одну ему подарил этот самый техасец, для начала аукциона, а вторую Эк стал приторговывать, он считал, что так надо, раз первая ему даром досталась, ну, он и эту купил. А когда Генри Армстид позабыл закрыть ворота и весь табун чуть его не затоптал и вылетел вон, тут Эку, наверно в первый раз в жизни, пришлось сразу решать трудную задачу – за какой же лошадью ему гнаться: за той ли, что ему подарил техасец, то есть за чистой прибылью, если ее удастся поймать, либо за той, на которую он уже истратил не то пять, не то шесть долларов кровных денежек; то есть решить, что дороже стоит – сто процентов даровой лошади или же сто процентов шестидолларовой? Вернее, не лучше ли рискнуть той лошадью, которая, ежели ее даже поймаешь, уже стоила тебе шесть долларов, а поймать ту, которая будет тебе чистой прибылью?
А может, он решил, чтобы они с мальчишкой разделились и погнались за обеими лошадьми, пока он будет высчитывать. Словом, только я снял брюки и в одной рубахе выглянул в окно – узнать, что там стряслось, как вдруг слышу какой-то шум, оборачиваюсь – а в дверях – лошадь, стоит смотрит на меня, а за ней в коридоре этот мальчишка, сын Эка, с веревкой в руках. Наверно, мы все тут сразу бросились; я – из окошка в одной рубахе, лошадь – опрометью, назад, по коридору, гляжу – на мне брюк нет, лечу вокруг дома, к дверям, а тут – миссис Литтлджон, идет по веранде навстречу лошади, в одной руке охапка белья, в другой стиральная доска; рассказывали, будто она только и сказала: «Кыш отсюда, сукина дочь!» – да как треснет лошадь по морде доской, доска пополам, она ее как швырнет в лошадь, а та галопом назад, по коридору, я только успел подняться на ступеньки, а лошадь прыг через этого мальчишку с веревкой, волоска на нем не задела, и вон, на террасу, увидала меня, даже не остановилась: повернула и по галерее, скок через перила и в загон, чисто цирковой конь, – луна прямо на нее светит, а она взмыла ястребом, в два прыжка перелетела загон и вон из ворот – их никто и не догадался притворить; я только услыхал, как она промчалась по деревянному мостику, как раз у поворота к Букрайту. А тут и мальчик вышел из дому, веревку за собой тянет. «Здрасьте, мистер Рэтлиф, говорит. А куда она побежала?» Но в общем-то вы не правы.
Жеребенок, щенок, котенок, обезьяныш, – словом, кто угодно, только не сноупсенок. Но надо подумать, только подумать – подумаешь и задрожишь: пройдет еще одно поколение после Эка Сноупса с его наивностью; еще одно поколение – и наивная и нелепая вера в то, что честь и смелость вполне естественны, успеет охладеть и потускнеть, так что останутся только отвлеченные понятия честности и смелости, и тогда добавьте к этому холодное хищничество, унаследованное этим поколением, ставшее для него непроизвольным, как дыхание, и вас дрожь охватит при этой мысли: отвлеченные понятия – смелость и честь в соединении с хищничеством или хищничество, возведенное в энную степень самими понятиями смелости и чести: тут уж вырастет не жеребенок, а тигренок или львенок, Чингисхан, или Тамерлан, или же Аттила среди беззащитных жителей незащищенного Джефферсона. А Рэтлиф смотрел на меня. То есть он все время на меня смотрел. Но, понимаете, я вдруг в испуге подумал, а не забыл ли я про него на миг?
– Что? – переспросил я. – Что вы сказали?
– Сказал, что вы не правы. Насчет того, как Эк получил место ночного сторожа при нефтеналивном баке. На этот раз Манфред де Спейн тут ни при чем. Это все масоны.
– Что? – сказал, нет, крикнул я.
– Вот именно. Эк был самым что ни на есть главным масоном на Французовой Балке среди масонов дядюшки Билла Уорнера. Это дядя Билл велел джефферсонским масонам найти для Эка хорошую, легкую инвалидную работу.
– Это так опасно? – сказал я. – Неужто так опасно? Неужели тот, что идет вслед за Эком, настолько гадок, страшен и опасен, что самому Биллу Уорнеру, хотя он живет за двадцать две мили от Джефферсона, пришлось распространить свое влияние, чтобы спасти от него Французову Балку? Ведь вслед за Эком за ресторанную стойку встал А.О., кузнец, он же учитель, он же двоеженец, или продолжатель рода путем двоеженства, – тощий низкорослый и болтливый тип с лицом хорька, неумолчно извергавший поток избитых поговорок и присловий, совершенно бессвязных и ни к чему отношения не имеющих; сам он даже вместе с кузнечным молотом не потянул бы на весах столько, сколько весила наковальня, отнятая и присвоенная им; он (это все Рэтлиф, Рэтлиф всегда и везде) прибыл, без умолку болтая, на Французову Балку, вернее, явился, так и не закрывая рта, однажды утром в кузницу Уорнера, которой в течение пятидесяти лет заправлял старик Трамбл, за кузнеца и за подручного.
Но кузнец он был никакой, этот А.О. Он просто занимал место. Работал другой, наш Эк, его двоюродный брат (или кем он там ему приходился – а может быть, достаточно обоим носить фамилию Сноупс, пока не окажешься недостойным этого, как оказался Эк, – чтобы как два масона быть навеки клятвенно связанными в борьбе с жизнью, если не станешь вероотступником, как Эк), – он и делал всю работу, этот Эк. До того дня, того утра, когда «служка», Эк, еще не явился, а верховному пастырю, очевидно, пришло в голову, что это его право, его власть – самому служить обедню и никто ему помешать не может: то самое утро, когда Джек Хьюстон привел своего мощного жеребца и Сноупс сразу вогнал ему гвоздь под копыто, после чего Хьюстон схватил Сноупса и швырнул его в чан с водой вместе с его молотом, и как-то ухитрился сдержать взбешенного коня, и отодрать подкову вместе с гвоздем, а потом вывести коня на улицу, привязать его и, вернувшись в кузницу, снова швырнуть Сноупса в чан.
И учитель он был никакой. Причем он не просто узурпировал это место у какого-нибудь чужака, он буквально украл это звание у своего родственника. Правда, на Французовой Балке об этом еще не знали. Знали только, что не успел он вылезти из этой кузницы (или обсохнуть после чана, куда его зашвырнул Хьюстон), как уже устроился учителем («профессором», как их звали на Французовой Балке, конечно, если этот профессор ходил в брюках) в однокомнатной школе, которая тоже была неотъемлемой принадлежностью уорнеровского королевства – неотъемлемой не потому, что сам Уорнер или кто-либо другой на Французовой Балке считал, что воспитание юношества восполняет пробел в общественной жизни или вообще необходимо, но просто потому, что в его владениях для полноты картины необходима была школа, как в товарном поезде необходим тендер.
И вот А.О.Сноупс стал учителем; вскоре он женился на девице с Французовой Балки, и не прошло и года, как он стал возить по деревне самодельную колясочку, а его жена снова ходила в положении; сразу можно было сказать, что человек не то что прочно осел, но был, так сказать, обречен на оседлое существование, как вдруг, на третьем году его житья там, пухлая, белесая, хотя еще совсем не старая женщина, вместе с пухлым, белесым мальчишкой лет пяти, подъехала в тележке к лавке Уорнера.
– Это была его жена, – сказал Рэтлиф.
– Жена? – сказал, нет, крикнул я. – А я думал…
– Все мы думали, – сказал Рэтлиф. – У него, в этой самодельной колясочке и так уже сидело двое, на сей раз близнецы, окрестили их Бильбо и Вардаман да еще тот первенец – Кларенс. Да, брат, уже три парня, а тут еще другая жена, того и гляди, явится еще с одним отпрыском, а сам-то отец – маленький, сухой, чуть побольше краба, и вторая жена, – нет, я про ту, что он завел на Французовой Балке, до того как та, первая, приехала, про ту, что приходилась племянницей сестре миссис Талл, – тоже не бог весчь какая великанша, а он от нее уже имел двух совершенно таких же пухлых, белесых ребятишек, вроде того, что подъехал со своей мамашей в тележке, а эта мамаша обратилась к тем, кто сидел на галерее, и говорит: «Слышится мне, будто А.О. там, в лавке. (Он там и был. Мы слыхали его голос.) Будьте добры, говорит, скажите ему, что жена приехала».
И все. Достаточно, правда? Когда он – А.О. – три года назад приехал на Французиву Балку, у него был большой ковровый саквояж, а за три года он, наверно, подкопил еще кое-что. Не считая, конечно, трех новых ребятишек. Но он и не пошел за вещами. Сразу выскочил через заднюю дверь лавки. А Флем уже давным-давно подсудобил старику Трамблу Уорнерову кузню, но теперь им учитель понадобился другой, во всяком случае должен был понадобиться, как только А.О. скроется из виду за первым же углом и даст ходу. Видно, так он и сделал, но никто не заметил, как пыль заклубилась по дороге. Говорят, он даже трепаться перестал, хотя я этому не верю. Впрочем, когда-то надо остановиться, верно?
Надо-то надо. Но А.О. так и не остановился. То есть он уже опять не закрывал рта, когда, в свою очередь, появился за ресторанной стойкой в засаленном фартуке, стал принимать заказы и жарил все не так, вернее, жарил не то, что надо, и не оттого, что работал слишком быстро, а оттого, что не умолкал ни на миг, и его никто не успевал поправить или остановить, нет, он без умолку извергал непрерывный поток путаных и перековерканных поговорок и присказок, без всякого смысла, без всякой цели.
И тут же его жена, я говорю про жену номер первый, если можно так сказать, про основную жену, которая стояла номером первым в программе, хотя и оказалась номером вторым в порядке выхода на сцену. Та, другая, номер второй в программе, хотя и номер первый в порядке выхода на сцену, племянница сестры жены Талла, породившая вторую порцию белесых, как их называл Рэтлиф, ребятишек, – Кларенса и близнецов Вардамана и Бильбо, та осталась на Французовой Балке. Нет, речь идет о первой, которая появилась на Французовой Балке, восседая в тележке, и уехала оттуда, сидя в той же тележке, и появилась в Джефферсоне пять лет спустя, в том же сидячем положении, словно из тележки, в которой Рэтлиф увидел ее за двадцать две мили отсюда пять лет назад, ее, неизвестно как, перенесло прямо в кресло-качалку на галерее меблирашек, где она сидела у всех на глазах, согнув колени под прямым углом, словно суставы у нее в бедрах совсем не двигались, – и в этой женщине была какая-то совершенно особенная тяжесть, инертность, как в свинце или уране, так что перенести ее из тележки в качалку могла, очевидно, только сверхчеловеческая сила, тут и десяти А.О. было недостаточно.
А Сноупс продвигал вперед свои эшелоны на удивление быстро. Этот А.О. со своей рыхлой белесой супругой и пухлым белесым мальчишкой – звали его Монтгомери Уорд – даже не задержались в палатке при ресторане, где все еще жил Эк с женой и двумя сыновьями («А что тут такого? – сказал Рэтлиф. – Не только котлеты жарить, а еще много кой-чего можно делать, не глядя».) Они – семейство А.О. – обошли эту палатку, и его жена уже расселась в качалке на галерее меблированных комнат – большого, небрежно выкрашенного четырехугольного дома, где останавливались заезжие погонщики скота и барышники, промышлявшие мулами и лошадьми, и где держали под замком, кормили и поили присяжных и особо важных свидетелей во время судебной сессии, и там она сидела, раскачиваясь в качалке, и ничего не делала, – не читала, даже не смотрела, кто выходит и входит в двери, кто проходит по улице: просто качалась – и так все пять лет, до того, да и после того, как дом из меблированных комнат стал настоящим крольчатником, с прибитой к одному из столбов галереи сосновой доской, на которой громадными буквами от руки стояло:
ГАСТИНЕЦА СНОУПСА
Тогда Эк, который из-за своей честности, или наивности, или всего вместе, вылетел из ресторана и попал на место ночного сторожа при нефтехранилище, перевез свою жену и обоих сыновей (Уоллстрита-Панику, о, да, я тоже, как и Рэтлиф, ни за что не мог поверить, что есть такое имя, – и младшего, Адмирала Дьюи, – тут уж мы поверили) из палатки за рестораном. Но ресторан не стали продавать целиком, с потрохами, чохом, как говорится, нет, потроха из него вытащили сразу, даже незаметно для клиентов, не прекратив торговлю ни на сутки, и перенесли в новую харчевню, которой заправляла теперь миссис Эк; перенесли мимо сидящей в качалке на галерее фигуры, которая постепенно докачалась до того, что стала не только присловьем, но и указателем, как на вывесках старинных английских пивных, так что сельских жителей, приезжавших в город и спрашивавших, где гостиница Сноупса, просто посылали в ту сторону: как дойдут до женщины в качалке – там и гостиница.
И тут появился тот, чей титул, если не профессию, узурпировал А.О.Сноупс. Это был настоящий Сноупс – учитель. Нет: он был только похож на учителя. Или нет: похож он был на Джона Брауна, с одним неискоренимым и нескрываемым недостатком: это был высокий, сухопарый человек, в засаленном сюртуке, галстуке шнурком и широкополой шляпе политикана, с холодными яростными глазами и длинным подбородком говоруна, но у него был не словесный понос, как у его свояка (или кем там ему приходился А.О.; все они как будто не находились в определенном родстве друг с другом, они просто все были Сноупсы, как колонии крыс или термитов – это просто крысы и термиты), а какой-то безошибочный инстинкт выискивать самые подлые и низкие способы доказательств в споре и раскусывать людей, с которыми он сталкивался: инстинкт демагога – использовать каждого себе на потребу, причем все это обволакивал тонкий слой культуры и религии; самые имена его сыновей – Байрон и Вергилий – были не просто примером, но и предостережением.
Учителем он тоже не был. То есть, в противовес своему свояку, пробыл так недолго, что это уже не шло в счет. А может быть, он побыл у нас с начала лета и до осени, просто между одним местом работы и другим. А может быть, он вместо отдыха решил отдохнуть на той же работе. А может быть, он появлялся в харчевне и на площади лишь в короткие промежутки между своими истинными буколическими развлечениями, для которых ареной и местом действия служили заброшенные деревенские церквушки, берега ручьев и речек, где в жаркие летние дни шли молитвенные собрания и крестины: у него был неплохой баритон и, пожалуй, последняя в северном Миссисипи дудочка вместо камертона; он сам задавал тон и подсказывал слова, пока однажды толпа возмущенных отцов семейства не поймала его с четырнадцатилетней девчонкой в сарае и, вываляв в дегте и перьях, не выгнала из округи. Говорят, что его собирались кастрировать, но какой-то робкий консерватор уговорил остальных только пригрозить ему этим, если он вернется.
В общем, после него остались два сына – Байрон и Вергилий Но и Байрон недолго пробыл у нас – он уехал в Мемфис, где поступил в коммерческое училище. Учиться на бухгалтера. Мы никак не хотели поверить, что тут был замешан сам полковник Сарторис: сам, лично, полковник Сарторис, сидевший в задней комнате банка, где был его кабинет, – и наше неверие вызвало, вынудило расспросы, пока мы не вспомнили то, о чем старшие из нас, в том числе и мой отец, никогда не забывали: что первый из Сноупсов, Эб Сноупс, был тот самый патриот-ремонтер или просто конокрад (в зависимости от того, какая сторона об этом сообщала), которого повесили (и повесил не федеральный начальник военной полиции, а конфедеративный, как гласило предание), и что он тогда служил в кавалерийском отряде старого полковника Сарториса, настоящего полковника, отца нашего теперешнего банкира и почетного полковника, который еще не был произведен в офицеры и числился адъютантом при штабе отца в то смутное сумеречное время 1864 – 1865 годов, когда многие, а не только люди по фамилии Сноупс, должны были не то что стараться с честью сохранить жизнь, но просто выбирать между бесполезной честью и почти столь же бесполезной жизнью.
Словом, сверчок сел на свой шесток. О да, мы все так острили, все умники: мы ни за что не упустили бы такую возможность. Дело было не в том, верили мы или не верили, что оно так, но нам хотелось сохранить незапятнанной память старого полковника и самим сказать то, над чем, как нам казалось, посмеивается между собой вся сноупсовская клика. И действительно, никакой начальник полиции не мог бы переделать того первого Эба Сноупса, но сами Сноупсы сделали из его скелета жупел, чтобы, как говорится, «повесить собаку» на шею какого-нибудь из потомков Эбова командира, как только в его роду появится шея, подходящая для собаки; в данном случае ее повесили на шею банку, который учредил наш теперешний полковник Сарторис пять лет тому назад.
И не то чтобы мы взаправду так думали. Я хочу сказать, что нашего полковника Сарториса вовсе не надо было пугать тем скелетом. Ведь мы все, в нашем краю, даже пятьдесят лет спустя, идеализировали героев проигранного сражения, тех, что доблестно, неотвратимо, невосстановимо потерпели поражение, и они действительно стали для нас героями, – ведь это наших отцов и дедов, дядей и отцов дядей полковник Сарторис собрал в отряд тут, в соседних округах. А кто же имел больше права идеализировать их всех, как не наш полковник Сарторис, сын того самого полковника Сарториса, который собрал и обучил этот отряд и многим из них спасал, когда мог, жизнь в бою, а в промежутках между боями вытаскивал их из пучины собственных, будничных человеческих страстей и пороков. И Байрон Сноупс был не первым потомком старых служак из тех рот, батальонов и полков, и не первым он почувствовал на себе доброту нашего полковника Сарториса.
Но поговорка про сверчка, севшего на свой шесток, как-то больше тут подходит. И это была не острота, а скорее немедленный, единодушный, да, непоколебимо презрительный отпор всему тому, что воплощалось в слове «Сноупс» и для нас, и для всякого человека, для которого одно только упоминание этой фамилии в связи с чем угодно могло загрязнить и отравить все.
Во всяком случае, он (сверчок, севший на свой шесток) появился ко времени, во всеоружии диплома коммерческого училища; мы могли видеть его сквозь, через решетку, защищавшую наши деньги и всю сложную отчетность при них, чьим хранителем был полковник Сарторис, и он (этот Сноупс, Байрон) сидел, согнувшись над бухгалтерскими книгами, в такой позе, как будто он не то чтобы благоговел, пресмыкался и даже не то чтобы унижался перед блеском, перед слепым сверканием слепых монет, но скорее с уважением, не теряя достоинства, настойчиво, с почтительным и непоколебимым любопытством вникал в механику денежного учета; он не то чтобы вполз в нестерпимо яркий ореол, окружавший эту тайну, нет, он скорее пытался, не привлекая к себе внимания, приподнять подол ее одежды.
И, будучи последним человеком в этой сложной иерархии, он как бы наращивал на руку длинное бамбуковое удилище, пока не дотянулся куда надо; вытащив этот бамбук (приходится продолжать эту путаную, нелепую метафору) из того же колчана, в котором лежало также и место надзирателя электростанции, поскольку полковник Сарторис был одним из компании охотников старого майора де Спейна, ежегодно охотившихся на медведей и оленей в лагере, – майор разбил его в Большом Логе вскоре после войны; а когда полковник Сарторис пять лет назад основал свой банк, Манфред де Спейн вложил туда деньги своего отца и стал одним из первых акционеров и директоров этого банка.
О, да! Наконец-то сверчок вернулся на свой шесток, в амбар. А впоследствии (нам оставалось только ждать, хотя, сколько мы ни следили, мы, разумеется, не узнали – как, но, по крайней мере, более или менее точно, узнали – когда это случилось) он стал и владельцем амбара, а самого полковника Сарториса «отамбарили» от его ясель и кормушек, так же как Рэтлифа и Гровера Кливленда «отресторанили» от их ресторана. Мы, конечно, и не узнали, как, да и не наше это было дело; не скажу, что между нами не было таких, кто ничего и не хотел знать; таких, кто, поняв, что нам все равно никогда не защитить Джефферсон от Сноупсов, не говорил бы: давайте, мол, отдадим, уступим Сноупсам и Джефферсон, и банк, и должность мэра, и муниципалитет, и церковь, словом, все, чтобы, защищаясь от других Сноупсов, Сноупсы защищали и нас, своих вассалов, своих крепостных.
Колчан висел за спиной Манфреда де Спейна, во стрелы пускала другая рука, эта окаянная, немыслимая женщина, эта Елена Прекрасная с Французовой Балки, эта Семирамида – нет, не Елена, не Семирамида – Лилит: та, что была еще до Евы, и Творец, пораженный и встревоженный, вынужден был сам, лично, в смятении стереть, убрать, уничтожить ее, чтобы Адам мог населять землю, плодясь и размножаясь; а теперь мы сидим у меня в кабинете, куда я его не вызывал и даже не приглашал: он просто вошел следом за мной и сел за стол напротив меня, как всегда в чистой, выцветшей синей рубашке, без галстука, и лицо у него загорелое, гладкое, спокойное, а глаза следят за мной, до чертиков лукавые, до чертиков умные.
– Раньше вы тоже над ними подсмеивались, – сказал он.
– А что тут такого? – сказал я. – Что нам еще с ними делать? Конечно, вам-то повезло: больше не придется жарить котлеты. Но дайте им только время: может, среди них уже кто-нибудь учится заочно на юридическом факультете. Тогда и мне больше не придется работать прокурором округа.
– Я сказал «тоже», – сказал Рэтлиф.
– Что? – сказал я.
– Сначала и вы тоже над ними подсмеивались, – сказал он. – А может, я не прав, может, вы и сейчас, по-своему, смеетесь? – И смотрит на меня, следит, до черта хитрый, до черта умный. – Ну, чего же вы не говорите?
– Чего не говорю? – сказал я.
– «Выметайтесь из моего кабинета, Рэтлиф», – сказал он.
– Выметайтесь из моего кабинета, Рэтлиф, – сказал я.
3. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН
Может быть, оттого, что мама и дядя Гэвин были близнецы, мама поняла, что произошло с дядей Гэвином почти тогда же, когда и Рэтлиф.
Мы все жили тогда у дедушки. То есть дедушка был еще жив, и он с дядей Гэвином занимал половину дома, – дедушкина спальня и комната, которую мы всегда звали его кабинетом, были внизу, а дядины комнаты на той же стороне – наверху, и там он пристроил наружную лестницу, чтоб можно было входить и выходить со двора, а мама с папой и мой двоюродный брат Гаун жили с другой стороны, и Гаун учился в джефферсонской школе, готовясь к поступлению на подготовительные курсы в Вашингтоне, чтобы оттуда перейти в Виргинский университет.
Обычно мама сидела в конце стола, на бабушкином месте, дедушка – напротив, отец – с одной стороны, а дядя Гэвин и Гаун (я тогда еще не родился, а если бы и родился, то ел бы на кухне, с Алеком Сэндером) – с другой стороны, и, как рассказывал мне Гаун, в тот раз дядя Гэвин даже не притворялся, что ест; просто сидит и говорит про Сноупсов, как говорил про них за столом вот уже две недели. Казалось, будто он разговаривает сам с собой, словно заведенный, и завод никак не может кончиться, уж я не говорю остановиться, хотя казалось, что никому на свете так не хочется прекратить этот разговор, как ему самому. Нет, он не то что ругал их. Гаун никак не мог объяснить, что это было. Выходило так, будто дяде Гэвину надо о чем-то рассказать, но это настолько смешно, что он главным образом старается изобразить все это не в таком смешном виде, как было на самом деле, потому что если он расскажет так смешно, как оно было на самом деле, все, и он сам тоже, сразу расхохочутся и больше ничего не будут слушать. Мама тоже перестала есть: сидит, совсем тихо, не спуская глаз с дяди Гэвина, но тут дедушка вынул салфетку из-за воротника и встал, и отец, и дядя Гэвин, и Гаун тоже встали, и дедушка сказал маме, как всегда:
– Благодарю тебя за обед, Маргарет, – и положил салфетку на стол, и Гаун подошел к дверям и стоял там, пока дедушка выходил, как потом делал я, когда я уже родился и достаточно вырос. И обычно Гаун стоял у дверей, пока мама, отец и дядя Гэвин не выйдут из столовой. Но в тот раз все было не так. Мама даже не пошевельнулась, она все сидела и смотрела на дядю Гэвина; она смотрела на дядю Гэвина, даже когда сказала отцу:
– Разве ты и Гаун не хотите уйти за-за стола?
– Нет, мэм, – сказал Гаун. Потому что он был в этот день у дяди в кабинете и при нем пришел Рэтлиф и сказал:
– Добрый вечер, Юрист, зашел узнать последние новости про Сноупсов, – а дядя Гэвин спросил:
– Какие новости? – И Рэтлиф сказал:
– Вы хотите сказать – про каких Сноупсов? – Потом сел и стал смотреть на дядю Гэвина и наконец сказал: – Чего же вы мне опять не говорите? – И дядя Гэвин сказал: – Чего не говорю?
– «Выметайтесь-ка из моего кабинета, Рэтлиф».
Так что Гаун сказал:
– Нет, мэм!
– Тогда, может быть, ты мне разрешишь уйти? – сказал дядя Гэвин и положил на стол салфетку. Но мама и тут не двинулась.
– Ты хотел бы, чтобы я нанесла ей визит? – сказала она.
– Кому – ей? – сказал дядя Гэвин.
И даже Гауну показалось, что он сказал это слишком торопливо. Потому что тут даже мой отец сообразил, в чем дело. Впрочем, не знаю. Мне кажется, что, будь я при этом, пусть даже не старше Гауна, я бы сразу сообразил, что, если бы мне было лет двадцать или даже меньше, когда миссис Сноупс впервые прошла по городской площади, я бы не только понял, что происходит, я сам бы, наверно, очутился на месте дяди Гэвина. Но Гаун рассказывал мне, что отец заговорил так, будто он только что сообразил, в чем дело. Он сказал дяде Гэвину:
– А, черт подери! Так вот что тебя грызет последние две недели. – А потом сказал маме: – Нет, клянусь богом! Чтобы моя жена пошла к этой…
– Какой этой? – сказал дядя Гэвин резко и быстро.
А мама все еще не пошевельнулась: сидит себе между ними, а они стоят над ней.
– Сэр, – сказала она.
– Что? – сказал дядя Гэвин.
– Какой этой, сэр? – сказала мама. – Или, может быть, просто «сэр»? – вежливо, в виде вопроса.
– Ты за меня договори, – сказал отец дяде Гэвину. – Сам знаешь – какой. Знаешь, как ее называет весь город. И что весь город знает про нее и Манфреда де Спейна.
– Что значит – весь город? – сказал дядя Гэвин. – Кто, кроме вас? – Вы – и кто еще? Наверно, те самые, которые готовы даже Мэгги облить грязью, все те, что знают не больше вашего?
– Ты смеешь так говорить о моей жене? – сказал отец.
– Нет, – я смею так говорить о моей сестре и о миссис Сноупс.
– Мальчики; мальчики, мальчики, – сказала мама. – Пощадите хоть моего племянника. – И она обратилась к Гауну: – Гаун, ты никак не хочешь уйти из-за стола?
– Нет, мэм, – сказал Гаун.
– К черту племянника! – сказал отец. – Я не позволю его тетке…
– Значит, вы опять-таки говорите о своей жене? – сказал дядя Гэвин. Но тут мама тоже встала, а они оба перегнулись через стол и уставились друг на друга.
– А теперь действительно хватит, – сказала мама. – И оба извинитесь передо мной. – Они извинились. – А теперь извинитесь перед Гауном. – Гаун рассказывал мне, что они и перед ним извинились.
– И все же, черт меня дери, не позволю я… – сказал отец.
– Я только просила вас обоих извиниться, – сказала мама. – Даже если миссис Сноупс действительно такая, как ты про нее говоришь, то, если я такая, какой вы с Гэвином оба меня считаете, а по крайней мере, хотя бы в этом между вами разногласий нет, – то чем я рискую, просидев десять минут у нее в гостиной? Беда ваша та, что вы ничего не понимаете в женщинах. Женщин не интересует нравственность. Женщин даже не интересует безнравственность. Джефферсонским дамам безразлично, что она делает. Чего они ей никогда не простят, это того, как она выглядит. Нет: того, как джефферсонские джентльмены на нее глядят.
– Говори про своего брата, – сказал отец. – Я на нее ни разу и не взглянул за всю ее жизнь.
– Тем хуже для меня, – сказала мама, – значит, у меня муж какой-то крот. Нет: кроты теплокровные. А ты просто ископаемая рыба.
– А, черт меня раздери совсем! – сказал отец. – Так вот какой муж тебе нужен, да? Чтоб каждую субботу торчал в Мемфисе и всю ночь шнырял с Гэйозо на Малберри-стрит? [1]
– Вот теперь я попрошу вас уйти, хотите вы или не хотите, – сказала мама. Сначала вышел дядя Гэвин и поднялся наверх, в свою комнату, мама позвонила нашей Гастер, а Гаун стал у дверей, пропуская маму с отцом, и отец вышел, а за ним мама с Гауном вышли на веранду (стоял октябрь, но такой теплый, что днем можно было сидеть на веранде), и мама взялась за корзинку с шитьем, и тут вышел отец, уже в шляпе, и сказал:
– Жена Флема Сноупса въезжает в джефферсонское общество, держась за юбку дочери судьи Лемюэля Стивенса, – и ушел в город за покупками, и тут вышел дядя Гэвин и спросил:
– Значит, ты согласна?
– Конечно, – сказала мама. – Неужели все так плохо?
– Попробую сделать, чтобы было не так плохо, – сказал дядя Гэвин. – Даже если ты только женщина, ты же ее видела. Ты должна была ее видеть.
– Во всяком случае, я видела, как на нее смотрят мужчины, – сказала мама.
– Да, – сказал дядя Гэвин. И это слово прозвучало не как выдох, не как речь, а как вздох: – Да…
– Значит, ты собираешься спасти ее, – сказала мама, не глядя на дядю Гэвина, она внимательно рассматривала штопку на носке.
– Да! – сказал дядя Гэвин, быстро, торопливо: теперь уже без вздоха, так быстро, что чуть не выпалил все, прежде чем спохватился, так что маме оставалось только докончить за него:
– От Манфреда де Спейна.
Но тут дядя Гэвин уже спохватился, и голос его стал резким.
– И ты туда же! Ты и твой муж – вы тоже. Самые лучшие люди, самые чистые, самые непогрешимые. Чарльз, который, по его собственному утверждению, никогда даже не взглянул на нее, ты, по его же утверждению, не только дочь судьи Стивенса, но и жена Цезаря.
– А что именно… – начала мама, но тут, как рассказывал Гаун, она замолчала и посмотрела на него: – Не хочешь ли ты выйти на минуту? Сделай мне одолжение!
– Нет, мэм, – сказал Гаун.
– Значит, и ты туда же? – сказала она. – Ты тоже хочешь быть мужчиной, правда? – И потом она сказала дяде Гэвину: – А что же, собственно говоря, тебя так возмущает? То, что миссис Сноупс не так добродетельна, или то, что она, как видно, выбрала Манфреда де Спейна, чтобы потерять свою добродетель?
– Да! – сказал дядя Гэвин. – То есть нет! Все это ложь, сплетни. Все это…
– Да, – сказала мама. – Ты прав. Очевидно, это так. В субботу не очень легко попасть в парикмахерскую, но все-таки ты попробуй, когда пойдешь мимо.
– Спасибо, – сказал дядя Гэвин. – Но если я пойду крестовым походом, хоть с какой-то надеждой на успех, пускай уж я лучше буду нечесаным, лохматым, тогда больше поверят. Значит, сделаешь?
– Конечно, – сказала мама.
– Спасибо тебе, – сказал дядя Гэвин. И вышел.
– А теперь можно и мне уйти? – сказал Гаун.
– Теперь-то зачем? – сказала мама. Она смотрела, как дядя Гэвин прошел по дорожке и вышел на улицу. – Надо было ему жениться на Мелисандре Бэкус, – сказала она. Мелисандра Бэкус жила в шести милях от города, на плантации со своим отцом и с бутылкой виски. Я не хочу сказать, что он был пьяница. Нет, он был хороший хозяин. Просто все свободное время он проводил летом на веранде, а зимой в библиотеке, – с бутылкой, читая латинские стихи. А мисс Мелисандра училась вместе с моей мамой и в школе и в колледже. То есть мисс Мелисандра всегда была на четыре класса младше мамы. – Одно время я думала, что так и будет; но я, как видно, ничего не понимала.
– Кому, Гэвину? – сказал Гаун. – Ему жениться?
– Ну, да! – сказала мама. – Пока что он еще слишком молод. Он из тех мужчин, которые обречены жениться на вдовах со взрослыми детьми.
– Он еще может жениться на мисс Мелисандре, – сказал Гаун.
– Поздно, – сказала мама. – Он даже не замечает ее.
– Но они видятся всякий раз, как она приезжает в город, – сказал Гаун.
– Можно смотреть на что-нибудь и не видеть, так же как можно слушать и не слышать, – сказала мама.
– Ну, когда он в первый раз смотрел на миссис Сноупс, он все видел! – сказал Гаун. – А может, он решил подождать, пока у нее родится еще один ребенок, кроме Линды, и пока эти дети станут взрослыми?
– Нет, нет, – сказала мама, – на Семирамиде не женятся, ради нее лишь губят свою жизнь, так или иначе. Только джентльмены, которым вообще терять нечего, вроде мистера Флема Сноупса, могут пойти на такой риск и жениться на Семирамиде. Жаль, что ты уже совсем большой. Несколько лет назад я могла бы просто взять тебя с собой к ней в гости. А теперь ты должен сам признаться, что тебе очень хочется пойти, – может быть, даже попросить меня: «Возьмите, пожалуйста!»
Но Гаун напрашиваться не стал. В этот субботний вечер был футбольный матч, и хотя его еще не приняли в первый состав, никогда нельзя было предвидеть – а вдруг кто-нибудь сломает ногу или внезапно заболеет, а то и просто игроков не хватит. Кроме того как он говорил, мама не нуждалась в помощи, ей и так помогал весь город; он рассказывал, что не успели они на следующее утро дойти до площади, по дороге в церковь, как первая же дама, попавшаяся навстречу, весело сказала:
– А я уже слышала про вчерашний вечер! – И мама так же весело ответила ей:
– Неужели?
И вторая дама, которую они встретили, сказала (она была членом байроновского кружка и Котильонного клуба):
– Я всегда говорила, что нам жилось бы куда лучше, если бы мы верили только тому, что сами видели, своими глазами, да и то с опаской, – а мама все так же весело сказала:
– Да неужели? – Они – то есть байроновский кружок и Котильонный клуб – лучше оба вместе, но и поодиночке тоже годилось, – были мерилом всего. И дядя Гэвин уже перестал говорить про Сноупсов. То есть Гаун сказал, что он вообще почти перестал разговаривать. Как будто ему некогда было сосредоточиться и прекратить разговор в беседу, в искусство, – а это он считал долгом каждого. Как будто ему некогда было что-то делать и он только ждал, чтобы что-то само сделалось, и единственным способом, чтобы это сделалось, было ждать. Более того, не просто ждать: он не только все время не пропускал случая чем-нибудь помочь маме, он даже выдумывал всякие мелкие делишки для нее, так что, даже когда он и разговаривал, он как будто хотел убить двух зайцев сразу.
А разговаривал он теперь только вдруг, порывами, и часто его слова не имели никакого отношения к тому, о чем за минуту до того говорили мама, отец и дедушка; он не просто выпускал свою обычную пулеметную тираду, как он сам это называл. Он вдруг рассыпался в совершенно неумеренных похвалах, настолько неумеренных, что даже Гаун в свои тринадцать лет это понимал. Похвалы относились к какой-нибудь из джефферсонских дам, с которой и он и мама были знакомы всю жизнь, так что их отношение к каждой из них, их мнение было давным-давно известно. И все же весь месяц, каждые три-четыре дня, за столом, дядя Гэвин вдруг переставал энергично жевать и, так сказать, втаскивал чуть ли не за волосы очередную даму в разговор деда и мамы с отцом, о чем бы они ни говорили, и, обращаясь не к дедушке, не к отцу и не к Гауну, а прямо к маме, сообщал ей, какая добрая, или красивая, или умная, или занятная одна из тех женщин, с которыми мама вместе выросла или, по крайней мере, была знакома всю жизнь.
Да, да, все они были членами байроновского кружка и Котильонного клуба, а может быть, только одного из них (вероятно, только мама знала, что дядя Гэвин старался заполучить именно Котильонный клуб), и все наши понимали, что еще одна дама нанесла визит миссис Флем Сноупс. Но в конце концов Гаун стал удивляться, как же это дядя Гэвин всегда узнавал про визит очередной дамы, как он ее вычеркивал из списка тех, кто еще не побывал там, или же заносил в список тех, кто побывал, – словом, как это он все время вел им счет. И тут Гаун решил, что, может быть, дядя Гэвин следит за домом миссис Сноупс. А на дворе стоял ноябрь, отличная ясная погода для охоты, и так как Гаун наконец отстал от футбольной команды, то ему и Тапу (Тап был старшим братом Алека Сэндера, только Алек тогда тоже еще не родился. Я хочу сказать, что и Тап был сыном нашей Гастер, а так как ее мужа тоже звали Тап, то отца называли Тап-старший, а сына – Тап-младший) надо было бы все дни после школы охотиться на кроликов с терьерами, которых Гауну подарил дядя Гэвин. Но вместо этого Гаун почти целую неделю каждый вечер сидел в глубоком овражке за домом мистера Сноупса и следил не за домом, а за тем, не спрятался ли где-нибудь в овраге дядя Гэвин, чтобы подсматривать, какая дама нанесет очередной визит миссис Сноупс. Потому что Гауну было тогда всего тринадцать лет, и он выслеживал только дядю Гэвина: уже потом, много позже, он, по его словам, сообразил, что если бы он сидел там подольше или смотрел получше, он мог бы накрыть и мистера де Спейна, увидеть, как он влезает в заднее окошко или вылезает оттуда, – весь Джефферсон был убежден, что так оно и было, и вот тогда Гаун знал бы такое, за что можно было бы содрать со многих наших джефферсонцев доллар-другой.
Но если дядя Гэвин и прятался где-то в овражке, Гауну ни разу не удалось его поймать. Более того: и дядя Гэвин ни разу не поймал там Гауна. Потому что если бы моя мама когда-нибудь узнала, что Гаун прячется в овражке за домом мистера Сноупса, думая, что там прячется и дядя Гэвин, то, как мне потом говорил Гаун, неизвестно, что она сделала бы с дядей Гэвином, но то, что она сделала бы с ним, Гауном, он понимал отлично. Хуже того: вдруг мистер Сноупс узнал бы, что Гаун подозревал дядю Гэвина в том, что он прячется в овражке и следит за его домом. Или даже еще хуже: вдруг весь город узнал бы, что Гаун прячется в овражке, потому что подозревает, что там прячется дядя Гэвин.
Но когда человеку всего тринадцать лет, он сам не соображает, что делает, и ему ничего не страшно. Вот я, скажем, до сих пор вспоминаю, какие штуки мы выкидывали с Алеком Сэндером, не понимая, что мы вытворяем, и до сих пор я недоумеваю – как это мальчишки вообще доживают до взрослых лет. Помню, мне исполнилось двенадцать. Дядя Гэвин только что подарил мне ружье; это было уже после того (так объяснял отец), как миссис Сноупс заставила Гэвина заканчивать образование в Гейдельберге, и он побывал на войне, а потом вернулся домой и его выбрали прокурором округа, – самое для него подходящее место; и вот как-то в субботу мы впятером, я и еще три белых мальчика, и Алек Сэндер, охотились на зайцев. Было холодно, такой холодной погоды мы не знавали; подойдя к Хэррикен-Крик, мы увидели, что ручей сплошь покрылся льдом, и мы стали обсуждать, кто за сколько прыгнул бы на лед. Алек Сэндер сказал, что прыгнет, если каждый из нас даст ему доллар, и мы согласились, и в ту же минуту, прежде чем мы успели его остановить, Алек Сэндер вскочил и прыгнул в ручей, прямо сквозь лед, как был, во всей одежде.
Мы его вытащили, разожгли костер, пока он раздевался, закутали его в наши охотничьи куртки и стали сушить его одежду, чтобы она не смерзлась в комок, потом наконец одели его, и тут он говорит: – Ладно, а теперь гоните денежки.
Об этом мы не подумали. В те времена в Джефферсоне, штат Миссисипи, да и во всем Миссисипи ни у одного знакомого мне мальчишки сроду не бывало целого доллара, а чтобы у четырех мальчишек сразу оказалось по доллару на брата – и говорить нечего. Так что нам пришлось с ним поторговаться. Сначала с Алеком Сэндером сговорился Бак Коннорс: если Бак прыгнет на лед, Алек ему прощает доллар. Бак прыгнул, и, пока мы его сушили, я сказал:
– Раз нам приходится прыгать, давайте все прыгнем сразу и дело с концом, – и мы пошли было к ручью, но тут Алек Сэндер сказал – нет, мы, белые ребята, хотим его обжулить, потому что он – негр, оттого и уговариваем его простить нам долг, если мы сделаем то же самое, что и он. Пришлось опять с ним торговаться. Следующим был Эшли Ходком. Он полез на дерево, и когда Алек Сэндер сказал, что хватит лезть, он закрыл глаза и спрыгнул вниз, и Алек простил ему доллар. Потом пришла моя очередь и кто-то сказал, что раз мать Алека – наша повариха и мы с Алеком живем вместе, с тех пор как родились, – значит, Алек Сэндер с меня спросит какой-нибудь пустяк. Но Алек Сэндер сказал – нет, он уже сам об этом думал, и именно по этой причине ему придется спросить с меня больше, чем с Эшли, и он выбрал дерево, с которого мне прыгать, над самыми зарослями шиповника. Я, конечно, прыгнул; показалось, будто прыгнул я в холодное пламя, изодрал руки, лицо, порвал штаны, а вот охотничья куртка у меня была совсем новая, крепкая (дядя Гэвин прислал ее мне из Германии, как только получил от мамы телеграмму, что я родился; и когда я настолько вырос, что смог ее надеть, все сказали, что красивее этой куртки нет во всем Джефферсоне), и потому она не очень разорвалась, только отлетел карман. Остался Джон Уэсли Робек, и тут Алек Сэндер, наверно, сообразил, что пропадает его последний доллар, потому что Джон Уэсли предлагал все, что угодно, но Алек никак не соглашался. Наконец Уэсли предложил сделать все подряд: сначала прыгнуть на лед, потом с дерева Эшли, потом с моего, но Алек Сэндер все не соглашался. Наконец они порешили вот на чем, хотя, с какой-то стороны, это было не совсем справедливо по отношению к Алеку Сэндеру, потому что старый Эб Сноупс один раз уже стрелял дробью в спину Джона Уэсли, два года назад, так что Джону Уэсли это было не впервой, – может, потому он и согласился на это условие. Вот как они договорились: Джон Уэсли взял мою охотничью куртку, надел ее поверх своей, потому что мы уже сообразили, что моя куртка крепче всех, потом взял свитер у Эшли и обернул им голову и шею, мы отсчитали двадцать пять шагов, Алек Сэндер зарядил свое ружье одним патроном, и кто-то, может, и я, стал считать – раз, два, три – очень медленно, и когда кто-то сказал – раз, Джон Уэсли бросился бежать, а когда кто-то сказал – три, Алек Сэндер выстрелил Джону Уэсли в спину, и Джон Уэсли отдал мне и Эшли свитер и охотничью куртку, и мы (уже было поздно) пошли домой. Только мне пришлось всю дорогу бежать бегом, потому что такого холода в наших краях еще никогда не бывало, а мою охотничью куртку пришлось сжечь: легче было сказать, что куртка потерялась, чем объяснить, почему у нее вся спина изрешечена дробью номер шесть.
А потом мы узнали, откуда дядя Гэвин узнавал, кто из дам наносил визит миссис Сноупс. Счет вел за него мой отец. Я не хочу сказать, что отец шпионил в пользу дяди Гэвина. Меньше всего отец хотел помочь дяде Гэвину, снять с него эту заботу. Пожалуй, он еще больше сердился на дядю Гэвина, даже больше, чем на маму, в тот первый день, когда мама собралась навестить миссис Сноупс; казалось, он хочет отплатить им обоим – маме и дяде Гэвину: дяде Гэвину – за то, что он придумал, чтобы мама зашла к миссис Сноупс, а маме за то, что она сказала тут же, вслух, при дяде Гэвине и Гауне, что не только зайдет к ней, но и не видит в этом ничего дурного. По правде говоря, как рассказывал мне Гаун, отец гораздо больше думал о миссис Сноупс, чем дядя Гэвин. Стоило отцу войти в комнату, потирая руки, и сказать: «Ух ты, елки-палки!», или что-нибудь вроде: «Вот, двадцать два несчастья!», как мы уже знали, что он либо только что видел миссис Сноупс на улице, либо услышал, что еще одна дама из членов Котильонного клуба нанесла ей визит; если бы тогда выдумали «волчий присвист», отец, наверно, присвистывал бы на улице.
Наконец наступил декабрь; мама только что рассказала, что Котильонный клуб единогласно решил послать приглашения мистеру и миссис Сноупс на рождественский бал, и дедушка уже встал, положив салфетку, и сказал: «Благодарю тебя за обед, Маргарет», и Гаун открыл для него двери, ожидая, пока он выйдет, и тут отец сказал:
– На танцы? А вдруг она не умеет? – И Гаун сказал:
– А зачем ей уметь? – И тут все замолчали; Гаун рассказывал, что все они замолчали сразу и посмотрели на него, и он рассказывал, что хотя мама с дядей Гэвином приходятся друг другу братом и сестрой, но она женщина, а он мужчина, а отец вообще им не родной по крови. Но, как говорил мне потом Гаун, они все трое посмотрели на него с совершенно одинаковым выражением лица. Потом отец сказал маме:
– Подержи-ка его под уздцы, я посмотрю ему в зубы. Ты же говорила, что ему всего тринадцать.
– А что я такого сказал? – спросил Гаун.
– Да, – сказал отец. – Так о чем же мы говорили? Ах да, про танцы, про рождественский бал. – Теперь он обращался к дяде Гэвину: – Да, клянусь честью, ты обскакал Манфреда де Спейна на целую голову. Он же бедный сирота, у него нет ни жены, ни сестры-близнеца, основательницы всех джефферсонских литературных и снобистских клубов; и с женой Флема Сноупса он только и может что… – Гаун рассказывал, что до этих слов мама все время стояла между отцом и дядей Гэвином, упираясь каждому рукой в грудь, чтобы не подпустить их друг к другу. Но тут, рассказывал Гаун, оба – и мама и дядя Гэвин – обернулись к отцу, и мама одной рукой закрыла отцу рот, а другой пыталась зажать ему, Гауну, уши, и она с дядей Гэвином выпалили одно и то же, только дядя Гэвин сказал это не так, как мама:
– Не смей, слышишь!
– Ну, говори! Ну!
И отец смолчал. Но даже он не мог предвидеть, что еще затеял дядя Гэвин: он пробовал уговорить маму, чтобы Котильонный клуб вообще не приглашал Манфреда де Спейна на рождественский бал. – Сто чертей! – сказал отец. – Нельзя это делать!
– А почему нельзя? – сказала мама.
– Он – мэр города! – сказал отец.
– Мэр города – слуга народа, – сказала мама. – Конечно, он – главный слуга, мажордом. Но никто не приглашает мажордома в гости за то, что он мажордом. Его приглашают несмотря на это.
Но мэр де Спейн все же получил приглашение. Может быть, мама не отменила это приглашение, как того хотел дядя Гэвин, просто по той причине, которую она уже назвала, объяснила, уточнила: что она и ее Котильонный клуб вовсе не обязаны приглашать его за то, что он был мэром города, и в доказательство, в подтверждение этого они его и пригласили. Один только отец не верил, что это так. – Нет, – сказал он, – вы меня не проведете, вы никому очки не вотрете, бабье проклятое. Вам скандал нужен. Вам надо, чтобы что-нибудь случилось. Это вы любите. Вам надо, чтобы эти два петуха друг на дружку наскакивали, из-за вас, курочек. Вы готовы куда угодно их затолкать, только бы один, защищаясь, пустил кровь другому, потому что каждая капля крови, каждый подбитый глаз, или разорванный на виду у всех воротничок, или прореха, или вымазанные в грязи брюки – все это для вас еще одна отместка мужскому сословию, которое вас, женщин, поработило и держит круглые сутки, изо дня в день, в плену, где вам нечего делать, кроме как кормить ихнего брата, а в промежутках сплетничать по телефону. Клянусь честью, – сказал он, – если бы уже не существовал клуб, где через две недели можно устроить бал, вы бы, наверно, срочно организовали новый, лишь бы пригласить миссис Сноупс вместе с Гэвином Стивенсом и Манфредом де Спейном. Только на этот раз вы зря тратите время и деньги. Гэвин не сумеет затеять ссору.
– Гэвин – джентльмен, – сказала мама.
– Еще бы, – сказал отец. – Я же так и говорю: он не то что не хочет ссоры, он просто не умеет ее затеять. О нет, я вовсе не думаю, что он и пробовать не станет. Он сделает все, что в его силах. Но просто он не сумеет затеять такую ссору, которую человек, вроде Манфреда де Спейна, принял бы всерьез.
Но мистер де Спейн сделал все, что мог, чтобы научить дядю Гэвина, как затевать ссору. Начал он в тот день, когда разослали приглашения и он тоже его получил. Еще раньше, когда он купил свой красный гоночный автомобиль, первое, что он сделал, это поставил сирену, и до того дня, как он был выбран в первый раз мэром, сирена выла на весь город с той минуты, как он выезжал из дому. А вскорости после этого Люшьюс Хоггенбек кого-то уговорил (кажется, мистера Рота Эдмондса, а может, и мистера де Спейна, так как отец Люшьюса, старый Бун Хоггенбек, еще в те времена, когда майор де Спейн владел охотничьими угодьями, служил у этого майора де Спейна, и у отца мистера Рота – Маккаслина Эдмондса и у его дяди старика Айка Маккаслина, чем-то вроде доезжачего – псаря – верного Пятницы) дать ему вексель на покупку старого фордика-пикапа и занялся перевозкой грузов и пассажиров, и он тоже себе приделал сирену, а по воскресеньям в послеобеденные часы половина взрослого мужского населения Джефферсона удирала от своих жен, и все собирались на прямом отрезке дороги, милях в двух от города (а слышно их было даже за две мили, если ветер дул с той стороны), и мистер де Спейн пускался с Люшьюсом наперегонки. Люшьюс брал по никелю с пассажира за участие в гонках, но мистер де Спейн сажал всех бесплатно.
И вдруг первое, что сделал мистер де Спейн, когда его выбрали мэром, это – издал распоряжение, что воспрещается пользоваться сиреной в пределах города. Так что вот уже много лет, как никто не слыхал сирены. И вдруг, однажды утром, мы ее услыхали. То есть услыхали все наши – дедушка, мама, отец, дядя Гэвин и Гаун, – потому что сирена завыла прямо у нас под окнами. Время было раннее, все либо ушли в школу, либо на работу, и Гаун сразу узнал, чья это машина, даже прежде, чем подбежал к окошку, потому что машина Люшьюса гудела совсем иначе, а кроме того, один только мэр города мог себе позволить нарушать распоряжение, ставшее законом. Это и был он: красная машина уже скрылась за углом, и сирена смолкла, как только он проехал наш дом; а дядя Гэвин сидел себе за столом, кончал завтрак, словно никакого шума и не было.
А когда Гаун в полдень, возвращаясь из школы, завернул за угол у нашего дома, он опять ее услышал: мистер де Спейн сделал крюк в несколько кварталов, лишь бы промчаться мимо нашего дома на второй скорости, с завывающей сиреной. И еще раз, когда мама, отец, дядя Гэвин и Гаун кончали обедать и мама сидела, словно окаменев, и никуда не глядела, а отец смотрел на дядю Гэвина, а дядя Гэвин сидел и помешивал кофе ложечкой, будто на всем свете никаких звуков, кроме звяканья ложечки в чашке, и не существовало.
И опять, около половины шестого, уже в сумерки, когда лавочники, и врачи, и адвокаты, и мэры, вообще вся эта публика уже расходилась по домам, чтобы тихо и спокойно поужинать и уже больше никуда не выходить до завтрашнего утра, и на этот раз Гаун даже видел, что дядя Гэвин прислушивается к сирене, когда де Спейн промчался мимо дома. То есть на этот раз дядя Гэвин не скрывал ни от кого, что он слышит ее, он поднял глаза от газеты и держал газету перед собой, пока сирена выла и потом умолкла, когда мистер де Спейн проехал мимо нашего сада и отпустил педаль; и дядя Гэвин и дедушка подняли головы, когда машина проехала, но на этот раз дедушка только слегка нахмурился, а дядя Гэвин и того не сделал: просто ждал, с самым мирным видом, так что Гаун словно слышал его голос: «Ну вот и все. Надо же ему проехать в четвертый раз, чтобы попасть домой».
И действительно, ничего не было слышно ни во время ужина, ни позже, когда все перешли в кабинет, где мама, сидя в качалке, всегда что-то шила, хотя она как будто чаще всего штопала носки или чулки Гауна, а отец с дедом у письменного стола играли в шахматы, а иногда заходил и дядя Гэвин с книжкой, если только он не пытался в который раз научить маму играть в шахматы, что продолжалось до тех пор, пока я не родился и не подрос настолько, что он стал пробовать эту науку на мне. И вот уже наступило время, когда те, кто собирался в кино, туда пошли, а другие просто вышли после ужина из дому, в центр города, чтобы посидеть в кондитерской Кристиана или поболтать с коммивояжерами в холле гостиницы, а то и выпить чашечку кофе в кофейной; каждый мог бы подумать, что дяде Гэвину больше ничего не грозит. Но на этот раз уже не отец, а сам дедушка вскинул голову и сказал:
– Что за безобразие! Второй раз за день!
– Нет, пятый, – сказал отец. – Видно, у него нога соскользнула.
– Что? – сказал дедушка.
– Хотел нажать на тормоз, чтобы потише проехать мимо нас, – сказал отец. – Да, видно, нога у него соскользнула, и вместо тормоза он нажал педаль сирены.
– Позвони Коннорсу, – сказал дедушка. Он говорил про мистера Бака Коннорса. – Я этого не допущу.
– Это дело Гэвина, – сказал отец. – Он – главная юридическая власть города, когда вы заняты игрой в шахматы. Ему и говорить с начальником полиции. А еще лучше с самим мэром. Верно ведь, Гэвин, а? – И Гаун сказал, что все посмотрели на дядю Гэвина и что ему самому стала стыдно, не за дядю Гэвина, нет, а за наших, за всех остальных. Гаун говорил, что у него было такое же чувство, как бывает, когда видишь, как у человека брюки падают, а обе руки заняты: он крышу подпирает, чтобы на голову не упала; ему было и жалко, и смешно, и стыдно, но нельзя было не видеть, как дяде Гэвину вдруг, неожиданно, пришлось скрывать наготу лица, когда внезапно завыла эта сирена и машина снова проехала мимо дома на малой скорости, хотя все уже имели полное право думать, что тогда, за ужином, она проехала в последний раз, хотя бы до завтра, а тут сирена взвыла, словно кто-то захохотал, и хохотал, пока машина не завернула за угол, где мистер де Спейн всегда снимал ногу с педали. Но смех был настоящий: смеялся отец; сидел за шахматной доской, смотрел на дядю Гэвина и смеялся.
– Чарли! – сказала ему мама. – Перестань! – Но поздно. Дядя Гэвин уже вскочил, второпях пошел к двери, словно не видя ничего, и вышел.
– Это еще что за чертовщина? – сказал дедушка.
– Побежал к телефону звонить Баку Коннорсу, – сказал отец. – Раз такое происходит по пять раз на дню, значит, он, наверно, решил, что у этого молодчика нога вовсе и не соскользнула с тормоза. – Но мама уже стояла над отцом, в одной руке чулок и штопальный гриб, в другой иголка, как кинжал.
– Может быть, ты замолчишь, миленький? – сказала она. – Может быть, ты затк… к чер… Прости, папа, – сказала она деду. – Но он такой… – И опять на отца: – Замолчи, слышишь, замолчи сию минуту!
– Что ты, детка! – сказал отец. – Я сам за мир и тишину. – И тут мама вышла, и пора было ложиться спать, и Гаун мне рассказывал, как он видел, что дядя Гэвин сидит в темной гостиной, без лампы, только из прихожей свет, так что читать он не мог, даже если б захотел. Но, по словам Гауна, он и не хотел: просто сидел в полутьме, пока мама не спустилась вниз, уже в халате, с распущенными волосами, и не сказала Гауну:
– Почему ты не ложишься? Иди спать! Слышишь? – И Гаун ей сказал:
– Да, мэм. – А она прошла в гостиную, остановилась за креслом дяди Гэвина и говорит:
– Я ему позвоню, – а дядя Гэвин говорит:
– Кому позвонишь? – И мама вышла из гостиной и сказала: – Сейчас же иди спать, сию минуту! – и, пропустив Гауна впереди себя на лестницу, пошла за ним. А когда он уже лег и потушил свет, она подошла к его двери и пожелала ему спокойной ночи, и теперь им всем только оставалось, что ждать. Потому что, хотя пять – число нечетное, а нужно было четное число, чтобы вечер для дяди Гэвина закончился, все равно ждать, очевидно, надо было недолго, потому что кондитерская закрывалась, как только кончалось кино, а если кто засидится в холле гостиницы, когда все коммивояжеры уже улягутся спать, так тому придется объяснить всему Джефферсону, почему так вышло, хоть бы он сто раз был холостяком. И Гаун сказал, что он подумал; по крайней мере, хорошо, что им с дядей Гэвином так уютно, тепло, приятно ждать у себя дома, пусть даже дяде Гэвину приходится сидеть одному в темной гостиной, все же это лучше, чем торчать в кондитерской или в холле гостиницы и оттягивать как можно дольше возвращение домой.
Но на этот раз, рассказывал Гаун, мистер де Спейн пустил сирену, как только выехал на площадь: Гаун слышал, как она завывала все громче и громче, когда машина заворачивала за один, потом за другой угол к нашему дому, и звук был громкий, насмешливый, но, по крайней мере, машина шла не на второй скорости, и быстро промчалась мимо нашего дома, мимо темной гостиной, где сидел дядя Гэвин, завернула за угол и еще раз за угол, чтобы попасть на свою улицу, и сирена затихла, так что осталась только ночная тишина, и потом – шаги, когда дядя Гэвин тихо поднимался наверх. Потом свет в прихожей погас и все кончилось.
То есть кончилось на эту ночь, на этот день. Потому что даже дядя Гэвин не думал, что все совсем кончилось. Более того, все вскоре поняли, что дядя Гэвин вовсе и не хотел, чтобы все на этом кончилось; на следующее утро, за завтраком, именно дядя Гэвин первый поднял голову и сказал: – Вот и Манфред едет в наши соляные копи, – а потом Гауну: – Вот когда твой кузен Чарли заведет себе машину, ты тоже будешь развлекаться, как мистер де Спейн, верно, Чарли? – Только вряд ли это когда-нибудь могло случиться, потому что отец даже не дал дяде Гэвину договорить:
– Чтобы я завел себе такую вонючку? Нет, у меня на это смелости не хватит. Слишком много у меня клиентов, которые всю жизнь ездят лишь на мулах и на лошадях. – Но Гаун сказал, что если бы мой отец купил машину, пока Гаун у них жил, так он-то уж нашел бы, что с ней делать, не то что ездить туда-сюда перед домом и сигналить вовсю.
И опять то же самое, когда Гаун шел домой обедать, и опять – когда все сидели за столом. Но не только Гаун понял, что дядя Гэвин вовсе не собирается положить этому делу конец, потому что мама поймала Гауна, когда дядя Гэвин еще и отвернуться не успел. Гаун не понял, как это ей удалось. Алек Сэндер всегда говорил, что его мать сквозь стенку и видит и слышит (а когда он подрос, он уверял, что Гастер и по телефону чувствует запах, если он дыхнет) и, возможно, что любая женщина, став матерью или заменяя мать, – как приходилось моей маме заменять мать Гауну, пока он жил у нас, – тоже все чувствует, а мама сделала так: вышла из гостиной в ту самую минуту, когда Гаун засовывал руку в карман.
– Где оно? – сказала мама. – Где то, что Гэвин тебе дал? Это коробка с кнопками, так ведь? Коробка с кнопками? Чтобы ты рассыпал их на дороге и он проколол шины? Верно ведь? Гэвин ведет себя как мальчишка, как школьник. Нет, ему надо жениться на Мелисандре Бэкус, пока он всю семью не погубил.
– А раньше вы говорили, что уже слишком поздно, – сказал Гаун. – Вы сказали, что Гэвин обязательно женится на вдове с четырьмя детьми.
– Должно быть, я хотела сказать – слишком рано, – ответила мама. – У Мелисандры даже мужа еще нет. – А потом она, как бы не видя Гауна, сказала: – И Манфред де Спейн тоже хорош. Школьник, мальчишка. – Гаун говорил, что она смотрела на него, но совсем его не видела, и вдруг, как он рассказывал, она стала такая хорошенькая, совсем девочка: – Нет, все хороши, все одинаковы. – И тут она опять увидала Гауна. – Не смей это делать, слышишь? Только посмей!
– Хорошо, мэм! – сказал Гаун. Все было легче легкого. Ему с Тапом надо было только разделить кнопки на две пригоршни и побегать посреди дороги, будто они еще не решили, куда идти, а кнопки пусть сами сыплются у них из рук по автомобильной колее: мистер де Спейн уже проехал девять раз, так что, как говорил Гаун, образовались две настоящие колеи. Но ему с Тапом пришлось долго торчать на холоду, потому что им ужасно хотелось посмотреть, как это случится. Тап сказал, что, когда шины лопнут, весь автомобиль взлетит на воздух. Гаун не очень этому верил, но наверняка не знал, и Тап, может быть, хоть отчасти был прав, во всяком случае настолько, что стоило подождать.
Им пришлось спрятаться за высоким кустом жасмина; уже темнело и становилось все холоднее и холоднее, и Гастер открыла кухонную дверь и стала звать Тапа, а потом вышла на крыльцо и стала звать их обоих; уже было совсем темно и ужасно холодно, когда наконец они увидели свет фар, машина дошла до угла, а сирена все выла, и машина медленно, с шумом проехала мимо, а они все слушали и смотрели, но ничего не случилось, машина просто проехала и даже сирена умолкла; Гаун сказал, что, может быть, кнопки не сразу воткнулись и надо подождать, и они стали ждать, но все равно ничего не случилось. Да и Гауну давно пора было домой.
А после ужина все снова сидели в кабинете, но ничего вообще не произошло, даже никто не проехал мимо дома, и Гаун подумал: «Может быть, машина взорвалась, только когда приехала домой, и теперь дядя Гэвин и не узнает – можно ли ему уже уйти наверх из темной гостиной и лечь спать». И тогда Гаун ухитрился шепнуть дяде Гэвину: – Хочешь, я побегу к нему домой и посмотрю, как там? – Но тут отец сразу сказал:
– Что такое? О чем вы шепчетесь? – так что ничего не вышло. И на следующее утро тоже ничего не было, и сирена медленно провыла так близко от нашего дома, что казалось, в следующий раз она завоет прямо у нас в столовой. И еще два раза, в полдень, а после обеда, когда Гаун возвращался из школы, Тап кивнул ему головой, и они спустились в погреб; у Тапа были старые грабли, с куском черенка, торчавшим из них, так что им пришлось развести костер и спалить этот черенок, и, когда совсем стемнело, Гаун уже караулил на улице, а Тап вырыл канавку поперек колеи и воткнул грабли зубьями кверху, набросал сверху листьев, и они оба снова спрятались за кустом жасмина, пока машина не проехала мимо. И опять ничего не случилось, хотя они вышли на дорогу, когда машина проехала, и своими глазами увидели, что колеса прошлись прямо по граблям.
– Еще разок попробуем, – сказал Гаун. И они попробовали на другое утро: опять ничего. А после обеда Тап поработал над граблями старым напильником, и Гаун тоже поработал над ними, но они поняли, что придется пилить до того дня, в будущем году, когда Котильонный клуб опять будет устраивать рождественский бал. – Нужен точильный камень, – сказал Гаун.
– У дяди Нуна есть, – сказал Тап.
– Возьмем ружье, как будто идем зайцев бить, – сказал Гаун. Так они, и сделали: пошли до самой кузни дядюшки Нуна Гейтвуда, на окраине. Дядя Нун был высокий, желтый; одно колено у него было скрючено будто нарочно для того, чтобы подводить под ногу лошади, под переднюю бабку; он брал коня за ногу, упирался в нее коленом и одной рукой хватался за ближайший столб, и если столб выдерживал, то конь мог играть и брыкаться сколько угодно, и дядя Нун вместе с ним качался во все стороны, но нога с места не двигалась. Он разрешил Гауну и Тапу воспользоваться точилом, и Тап вертел колесо и поливал камень водой, а Гаун отточил все зубья так, что они прокололи бы все что угодно, не только автомобильную шину.
Гаун мне рассказывал, что после этого им непременно нужно было дождаться темноты. И темноты, и позднего часа, чтобы их никто не увидал. Потому что если отточенные зубья сработают, может случиться, что машина не очень пострадает и мистер де Спейн успеет сообразить, что тут дело неладно, – а вдруг он сразу начнет искать и найдет грабли? Сначала казалось, будто все сойдет отлично оттого, что стоял долгий декабрьский вечер и земля так замерзла, что пришлось снова прокопать канавку, и не такую короткую, как в тот раз, а много длиннее, так, чтобы можно было привязать к граблям веревку и успеть выдернуть их обратно, к нам во двор, в ту минуту, как лопнет шина, а мистер де Спейн еще не успеет оглядеться и найти причину аварии. Но Гаун сказал, что на следующий день была суббота, так что у них был весь день свободен и можно было пристроить грабли так, чтобы, спрятавшись за куст жасмина, увидеть все еще при дневном свете.
Там они и спрятались: они уже сидели за кустам», пристроив грабли, и Гаун сжимал в кулаке конец веревки, когда послышался шум и они увидели машину, а потом завыла сирена, и машина прошла мимо, а сирена весело говорила: «ХАхаХАхаХАха», и они уже решили, что и на этот раз все сорвалось, как вдруг шина сделала – «бамм», и Гаун рассказывал, что он не успел дернуть за веревку, потому что веревка сама дернулась, выскочила у него из рук и обвилась вокруг куста жасмина, как змея, а машина говорила: «Хаха, Хаха, Хаха, Хаха-бам», – каждый раз, как грабли, впившиеся в шину, стукались об крыло, пока мистер де Спейн не остановил машину. И тут, рассказывал Гаун, за их спиной открылось окно гостиной и мама с отцом показались в окне, а потом мама сказала:
– Ступайте-ка с Тапом и помогите ему; надо же тебе привыкнуть обращаться с машиной, скоро твой двоюродный брат Чарли, наверно, и себе купит автомобиль.
– Чтоб я купил эту дурацкую вонючую тарахтелку? – сказал отец. – Да я же потеряю всех покупателей, кто тогда купит у меня лошадь или мула?
– Глупости, – сказала мама. – Ты бы машину хоть сегодня купил, если б знал, что отец не будет возражать. Вот что, – сказала она Гауну, – ты один пойди помоги мистеру де Спейну. А Тап мне нужен в доме.
И Тап пошел в дом, а Гаун – к машине, около которой стоял мистер де Спейн, он разглядывал лопнувшую шину, держа грабли в руках и вытянув губы, будто посвистывая про себя, как рассказывал Гаун. Потом он покосился на Гауна, вынул ножик, перерезал веревку, сунул грабли в карман пальто и стал сворачивать веревку, глядя, как она выползает из нашего двора, и все еще вытягивая губы дудочкой, будто насвистывая про себя. Тут из дому вышел Тап. На нем была белая куртка, он ее всегда надевал, когда мама учила его, как прислуживать за столом, и он держал поднос с чашкой кофе, сливочником и сахарницей. – Мисс Мэгги велела сказать – не угодно ли чашечку кофе, пока отдыхаете тут, на холоду? – сказал Тап.
– Премного благодарен, – сказал мистер де Спейн. Он уже смотал нашу веревку, взял поднос у Тапа, поставил на крыло машины и потом отдал свернутую веревку Тапу. – Вот тебе веревка для удочки.
– А она вовсе не моя, – сказал Тап.
– Теперь твоя, – сказал мистер де Спейн. – Я ее тебе подарил. – И Тап взял веревку. Тогда мистер де Спейн сказал, чтоб Тап прежде всего снял свою чистую белую куртку, потом открыл багажник, показал Гауну и Тапу, где домкрат и пластырь для шины, а потом стал пить кофе, пока Тап лазил под машину и прилаживал домкрат и они с Гауном поднимали ее. Потом мистер де Спейн поставил пустую чашку, снял пальто и пристроился около проколотой шины с инструментами. Правда, как рассказывал Гаун, они за это время научились только одному – таким ругательствам, каких раньше и не слыхивали, а потом мистер де Спейн встал, отшвырнул инструменты и обратился на этот раз к Гауну: – Беги в дом, позвони Баку Коннорсу, пусть приведет Джеббо, да поживей! – Но тут уже подошел отец.
– Может, у вас слишком много помощников, – сказал он. – Заходите, выпейте с нами. Знаю, время раннее, но сейчас ведь рождество.
Тут все пошли в дом, и отец позвонил мистеру Коннорсу, чтобы он привел Джеббо. Джеббо был сыном дядюшки Нуна Гейтвуда. Он собирался стать кузнецом, но тут мистер де Спейн купил этот красный автомобиль и, как говорил дядя Нун, «сгубил малого». Хотя Гаун не понимал, как это так, потому что, когда Джеббо был всего-навсего кузнецом, он напивался и попадал в тюрьму не меньше трех-четырех раз в год, а теперь, когда в Джефферсоне появились автомобили, он стал лучшим механиком округа, и хотя по-прежнему напивался и попадал в тюрьму, но никогда больше суток там не сидел, потому что наутро оказывалось, что он до зарезу нужен кому-нибудь из владельцев машин, и тот сразу вносил за него штраф.
Все пошли в столовую, где мама уже поставила графин и стаканы. – Погодите, – сказал отец, – я позову Гэвина.
– Он уже ушел, – сказала мама очень быстро. – Садитесь, выпейте пуншу.
– А может, он еще дома, – сказал отец и вышел.
– Пожалуйста, не ждите их, – сказала мама мистеру де Спейну.
– Ничего, я подожду, – сказал мистер де Спейн. – Время еще раннее, можно и подождать несколько минут. – Но тут вернулся отец.
– Гэвин очень просит извинить его, – сказал отец, – его в последнее время мучает изжога.
– Скажите ему, что при изжоге соль очень помогает.
– Что? – сказал отец.
– Скажите, пусть идет сюда, – сказал мистер де Спейн. – Скажите ему, что Мэгги поставит между нами солонку. – На этом все и кончилось. Пришел мистер Коннорс с ружьем, а с ним Джеббо в наручниках, и все пошли к машине, и мистер Коннорс дал Джеббо подержать ружье, а сам достал ключ, чтобы отомкнуть наручники, а потом забрал у него ружье. Джеббо взялся за инструменты и в минуту снял покрышку с колеса.
– Надо бы вам вот что сделать, – сказал отец, – надо бы как-то набальзамировать Джеббо – ну, понимаете, чтоб он не мерз и есть не просил, – и привязать его сзади, как запасное колесо или мотор, и, если у вас прокол или мотор не заводится, вы его отвязываете, ставите на ноги и разбальзамировываете – так, кажется, надо говорить? Разбальзамировать?
– Когда заклеишь покрышку, – сказал мистер де Спейн, обращаясь к Джеббо, – принеси ее ко мне в контору.
– Слушаю, сэр, – сказал Джеббо. – А мистер Бак пусть захватит квитанцию на штраф.
– Поблагодари свою тетушку за кофе, – сказал мистер де Спейн Гауну.
– Она моя двоюродная сестра, – сказал Гаун, – а за пунш тоже?
– Я пройдусь с вами до центра, – сказал отец мистеру де Спейну.
Все это случилось в субботу. А Котильонный бал был назначен на среду. В понедельник, вторник и среду в Джефферсоне продали больше цветов, чем за весь год, даже больше, чем когда хоронили старого генерала Компсона, а ведь он был не только бригадным генералом, но и губернатором штата Миссисипи, хотя всего только два дня. Но мистер де Спейн, правда, не через нас, узнал, что надумал дядя Гэвин, и решил, что он, мистер де Спейн, должен сделать то же самое. Конечно, приятно было бы думать, что одна и та же мысль появилась у обоих сама по себе. Но это было бы уж слишком.
Значит, выдала все миссис Раунсвелл. Она держала цветочный магазин; не потому, как говорил дядя Гэвин, что любила цветы, и даже не потому, что любила деньги, а потому, что обожала похороны; сама похоронила двух мужей и на страховую премию за второго мужа открыла этот цветочный магазин и снабжала цветами всех покойников Джефферсона; она-то и сказала мистеру де Спейну, что дядя Гэвин хочет послать миссис Сноупс букет для бала, но мама сказала, что у миссис Сноупс есть муж и нельзя ей одной посылать цветы, и дядя Гэвин сказал: «Вот как, – может быть, мама хочет, чтобы он послал цветы и мистеру Сноупсу?» И папа сказал, что он отлично ее понимает, и дядя Гэвин сказал: хорошо, тогда он пошлет цветы всем дамам из Котильонного клуба. И тут мистеру де Спейну пришлось сделать то же самое, так что не только миссис Сноупс, но и все остальные дамы должны были получить по два букета каждая.
Не говорю уже об остальных жителях Джефферсона: не только о мужьях и ухажерах всех дам из клуба, но и о мужьях и ухажерах всех городских дам, которые были приглашены; особенно о тех, кто был женат давным-давно, они-то вовсе и не собирались посылать букеты своим женам, да жены и не ждали этого, если бы не дядя Гэвин и мистер де Спейн. Но главным тут был дядя Гэвин, потому что он все затеял. И если бы послушать разговоры мужчин в парикмахерской, когда они стриглись перед балом, или в портновской мастерской мистера Киленда, где они брали напрокат фраки, то можно было бы подумать, что они хотят линчевать дядю Гэвина.
Но были люди, которые не просто ругали дядю Гэвина: мистер Гренье Уэддел и миссис Морис Прист. Но об этом узнали позже; только на следующий день после бала мы обо всех услыхали. А пока что люди видели, что в лавке миссис Раунсвелл началась, как назвал это отец, «раунсвелловская паника». (Мне пришлось придумать эту остроту, рассказывал отец, хотя, собственно говоря, острить должен был бы Гэвин; ему надо было придумать эту шутку, но что-то у него чувство юмора ослабело, даже на такую примитивную остроту не хватило. А отец тоже клял дядю Гэвина вовсю, потому что теперь ему надо было посылать букет маме, чего он делать вовсе не собирался, но раз дядя Гэвин ей посылал, то и ему приходилось, так что мама должна была получить чуть ли не три букета, – а может статься, что и остальные мужчины перепугаются и решат, что надо послать всем хозяйкам клуба по букету.) А к понедельнику миссис Раунсвелл дочиста распродала все цветы; к тому времени, как во вторник прибыл поезд с юга, все соседние городишки к югу и к северу от Джефферсона тоже были насухо выдоены; и в среду с самого раннего утра специально нанятый автомобиль привез из Мемфиса столько цветов, что миссис Раунсвелл снова могла отправлять заказы и со своим посыльным, и на машине Люшьюса Хоггенбека, а потом она даже наняла самодельный фургончик у мисс Юнис Хэбершем, на котором та возила продавать овощи, чтобы вовремя разослать все букеты, и к нам на дом доставили целых пять штук, а дома решили, что все они для мамы, но тут она прочитала надписи на коробках и сказала:
– А этот не мне, этот для Гэвина. – И все стояли и смотрели на дядю Гэвина, а он не двинулся с места, и все смотрели на коробку, и рука у него поднялась было, но тут же повисла в воздухе. Но потом он разрезал бечевку, поднял крышку, снял папиросную бумагу и тут же, – Гаун сказал, что он сделал это неожиданно, однако неторопливо, – положил обратно папиросную бумагу, закрыл крышку и взял коробку.
– А нам ты не покажешь? – спросила мама.
– Нет, – сказал дядя Гэвин. Но Гаун уже все увидал. Там лежали грабли в виде бутоньерки с двумя цветками, и все это было связано какой-то тоненькой полоской или тесьмой, и Гаун увидел, что она резиновая, но лишь через год или два, когда он стал старше, взрослее, он понял, что это было такое; впрочем, он и тогда сообразил, что это такое, и в то же время понял, что оно уже было в употреблении; и тогда же он понял, что должен был подумать насчет этого дядя Гэвин, – именно для того мистер де Спейн и послал ему эту штуку: неважно – угадал ли дядя Гэвин правильно, как именно она была использована, или не угадал, но все равно он наверняка ничего узнать не мог, а потому покоя лишился навеки.
Гауну тогда было всего тринадцать лет; до этого он думал, что его ни за какие деньги, даже силком не затащить на бал Котильонного клуба. Но он рассказывал, что он уже столько всего насмотрелся, что теперь ему необходимо было попасть туда и поглядеть, что там еще может произойти, хотя он и не мог себе представить, что еще может случиться на обыкновенном балу. И вот он надел свой парадный синий костюм и стал смотреть, как мама, вся завитая, в бабушкиных бриллиантовых серьгах, требовала у отца, чтобы он ей сказал, какой из четырех букетов взять с собой: тот, что он ей преподнес, или выбрать из остальных трех тот, что больше шел к ее платью; потом Гаун зашел в комнату к дяде Гэвину, и тот достал такой же белый галстук, какой был на нем, и завязал его бабочкой на Гауне, вдел ему цветок в петлицу, и все спустились вниз, где уже ждал экипаж, и поехали по холоду до площади, к оперному театру, куда уже подъезжали другие экипажи или изредка автомобили, и оттуда выходили гости, – расфуфыренные, завитые, надушенные, в шалях, серьгах, в длинных белых перчатках, как моя мама, или во фраках, крахмальных рубашках и белых галстуках, только вчера подстриженные, как отец и дядя Гэвин, или в таком же белом галстуке, как сам Гаун, а зеваки, и негры, и белые мальчишки толпились у дверей, дожидаясь, пока заиграет оркестр.
Дирижировал профессор Хэнди с Билл-стрит, из Мемфиса. Его оркестр играл на всех балах в Северном Миссисипи, и Гаун рассказывал, что весь зал был убран по-рождественски, а дамы из Котильонного клуба со своими кавалерами стояли в ряд, принимая гостей. Он говорил, что запах цветов чувствовался уже внизу, на лестнице, и когда входили в бальный зал, казалось, что этот запах становился виден, как туман над болотом в холодное утро. И он рассказывал, что мистер Сноупс тоже был там, во фраке, взятом напрокат, и, наверно, весь Джефферсон сначала думал, что этот взятый напрокат фрак – просто отпечаток, след того, второго шага, который он сделал, и только потом все поняли, что этот фрак был вовсе не след, как водонапорная башня была вовсе не памятник: это был красный флажок. Нет: это был предупредительный знак на повороте у железнодорожного полотна, означающий: берегись поезда!
И, как рассказывал Гаун, моя мама в качестве председательницы Клуба на этот год (а к тому времени, как миссис-Раунсвелл наконец поняла, на какую золотоносную жилу она напала, никто в городе уже не сомневался в том, что происходит между мистером де Спейном, дядей Гэвином и миссис Сноупс), должна была, по мнению всех, отдать дяде Гэвину первый танец с миссис Сноупс. Но она этого не сделала. Она послала к ней Гренье Уэддела; он тоже был холостяком. Да и после этого она делила танцы поровну, между дядей Гэвином и мистером де Спейном, пока мистер де Спейн все не испортил. Ведь он был настоящий холостяк. Так всегда говорил дядя Гэвин: есть неисправимые, закоренелые холостяки, будь они хоть сто раз женаты, а есть обреченные, выхолощенные мужья, хоть бы ни одна женщина за них не вышла замуж. И мистер де Спейн был именно таким. То есть он принадлежал к первой категории: неисправимый, закоренелый холостяк, постоянная угроза, хоть бы с ним случилось что угодно, потому что, по словам дяди Гэвина, события, обстоятельства, условия не создаются для таких людей, как мистер де Спейн, наоборот – такие, как он, сами создаются для событий и обстоятельств.
На этот раз ему повезло. Меня там не было, я не мог ничего видеть, а теперь я понимаю, что и Гаун не понимал, что он видит. Но потом я родился, подрос и сам увидал миссис Сноупс, а потом настолько вырос, что почувствовал то, что и дядя Гэвин, и мистер де Спейн (и все другие мужчины в Джефферсоне, и на Французовой Балке, да, по-моему, и везде, где ее видели, даже те опасливые людишки, не такие смелые и невезучие, как дядя Гэвин, и не такие смелые и везучие, как мистер де Спейн, хотя они-то наверно считали себя более благоразумными), чувствовали, когда смотрели на нее. А через некоторое время она умерла и мистер де Спейн уехал из города, официально надев глубокий траур, словно она была его законной женой, и в Джефферсоне наконец перестали о ней говорить, но я ручаюсь, что не я один, а и многие другие джефферсонцы вспоминали ее и горевали. Огорчались. То есть огорчались оттого, что в ее дочери не было чего-то такого, что было в ней; но потом начинали понимать, что огорчались не из-за того, что в ее дочери этого не было; даже не из-за того, что мы это потеряли, а из-за того, что больше у нас этого никогда не будет; что весь Джефферсон, все эти слабые, ничтожные перепуганные людишки не могли бы выдержать еще одну миссис Сноупс на протяжении не то что года – ста лет. И мне кажется, что и у мистера де Спейна была сначала такая минута, когда он испугался, такая минута, когда даже он сказал себе: «Стой, удержись! А вдруг я тут столкнулся с чем-то, что не только чище меня, но даже смелее меня, смелее и крепче, оттого что чище, целомудреннее меня?» А ведь так оно и было.
Гаун потом говорил, что все вышло из-за того, каким манером миссис Сноупс стала танцевать с мистером де Спейном. Вернее, каким манером мистер де Спейн стал танцевать с миссис Сноупс. До этого, по словам Гауна, и дядя Гэвин, и мистер де Спейн, и все остальные мужчины, которых мама посылала записывать свои имена на бальной программе миссис Сноупс, танцевали с ней чинно, спокойно. И вдруг, рассказывал Гаун, все перестали танцевать и как-то расступились, и он увидел, что миссис Сноупс и мистер де Спейн танцуют вдвоем, а вокруг все стоят, онемев от изумления. А когда я уже вырос и мне стало четырнадцать, а может быть, пятнадцать – шестнадцать лет, я понял, что именно увидел тогда Гаун, сам не понимая, на что он смотрит: тот миг, когда мистер де Спейн, который сам не только удивился, изумился, но и не поверил, даже ужаснулся тому, что он делает, вдруг стал так танцевать с миссис Сноупс, чтобы отомстить дяде Гэвину за то, что тот напугал его, мистера де Спейна, заставил пойти на всякие мальчишеские выходки, вроде сирены, посылки граблей и той использованной штуки в букете цветов; заставил его испугаться самого себя, понять, что он вовсе не такой, каким считал себя все эти годы, раз он может пойти на такие дурацкие выходки; а миссис Сноупс танцевала так, вернее, разрешила мистеру де Спейну так с ней танцевать на людях, просто потому, что она была живой человек и не стыдилась этого, как стыдились в ту минуту, – а может быть, и всегда, – и мистер де Спейн, и дядя Гэвин; она была такая, какая есть, и выглядела так, как есть, и не стыдилась этого, не боясь и не стыдясь того, что она рада быть такой, и даже не стыдясь того, как проявляется эта радость, потому что она только так и могла ее проявлять, и она не боялась и не стыдилась того, что вдруг все станет понятно возмущенной толпе этих ничтожных людишек, которые, расступившись перед ними, стояли онемевшие, перепуганные, с возмущением глядя на них; и что у всех остальных ничтожных, обреченных и жалких, трусливо-женатых и неженатых мужей был такой возмущенный, такой оскорбленный вид, потому что они стремились скрыть друг от друга, что им больше всего хотелось плакать, рыдать из-за того, что им не хватало смелости, мужества, из-за того, что каждый из них знал, что, будь он даже единственным мужчиной на свете, не говоря уж – в этом бальном зале, он все равно не мог бы не то что выстоять, справиться, он не мог бы выжить рядом с этим великолепием, с этим великолепным бесстыдством.
Конечно, вмешаться должен был бы мистер Сноупс – ведь он был муж, господин, законный покровитель. Но вмешался дядя Гэвин, хотя он не был ни мужем, ни господином, ни рыцарем, ни защитником, ни покровителем, а просто-напросто самим собой: тут ему стало безразлично – не изомнут ли, не изранят ли миссис Сноупс во время схватки, лишь бы от нее хоть что-то осталось после того, как он выколотит, вытопчет последнюю искру жизни из мистера де Спейна. Гаун рассказывал, как дядя налетел, схватил мистера де Спейна за плечо и дернул так, что вокруг загудело, и, по словам Гауна, все мужчины стали тесниться к дверям на лестницу, выходившую во двор, а женщины уже пронзительно визжали, но, как говорил Гаун, многие из них тоже бежали за мужчинами, так что ему пришлось протискиваться между юбок и ног вниз по ступенькам; он рассказывал, что увидел во дворе, из-за чужих ног, как дядя Гэвин пытался подняться с земли, а потом он, Гаун, протолкался сквозь ноги и увидал, как дядя Гэвин опять поднялся и все лицо у него было в крови, а двое мужчин подбежали, – видно, как-то хотели ему помочь, но он их отшвырнул и снова бросился на мистера Спейна, и, когда я стал старше, я понял и это: дядя Гэвин вовсе не собирался убить или даже ранить мистера де Спейна, потому что в эту минуту ему уже стало ясно, что он ничего сделать не может. И в эту минуту дядя Гэвин снова стал самим собой. Он просто защищал своею кровью тот закон, что чистоту и добродетель женщины надо защищать, независимо от того, существуют они или нет.
– О черт, – сказал мистер де Спейн. – Держите его, кто-нибудь, дайте мне уйти отсюда. – И мой отец схватил дядю Гэвина, а кто-то принес пальто и шляпу мистера де Спейна, и тот ушел, и, как рассказывал Гаун, на этот раз он был твердо уверен, что тут-то непременно завоет автомобильная сирена. Но она молчала. Все затихло: только дядя Гэвин стоял и вытирал кровь с лица сначала своим носовым платком, потом папиным.
– Дурак, дурак! – говорил папа. – Неужто ты не понимаешь, что тебе нельзя драться? Ты же не умеешь!
– А разве, по-твоему, есть способ научиться как-нибудь иначе? – сказал дядя Гэвин.
И дома, где можно было снять жилетку и воротничок с галстуком и приложить мокрое полотенце к лицу, чтобы остановить кровь, в ванную вошла мама. В руке у нее был цветок, красная роза из букета.
– Возьми, – сказала мама. – Она тебе прислала.
– Неправда, – сказал дядя Гэвин. – Это твой.
– Сам ты говоришь неправду! – сказала мама. – Это она прислала.
– Нет, – сказал дядя Гэвин.
– Значит, должна была прислать! – сказала мама; и тут, рассказывал Гаун, она заплакала, не то обнимая дядю Гэвина, не то колотя его кулачками, и плача говорила: – Глупый! Глупый! Они тебя недостойны! Они тебя не стоят! Никто тебя не стоит, пусть даже самая красивая, пусть даже она ведет себя как – как последняя… как последняя шлюха! Никто тебя не стоит, никто, никто!
Однако в тот вечер мистер Сноупс оставил не только эти следы в жизни Джефферсона, из-за него раскровянили еще один нос и подбили два глаза. Четвертый букет прислал маме Гренье Уэддел. Он тоже был холостяком, как мистер де Спейн. То есть он был из тех холостяков, которые, по словам дяди Гэвина, всю жизнь остаются холостяками, кто бы и когда бы ни выходил за них замуж. Может быть, поэтому Сэлли Хэмптон и отказала ему. Во всяком случае, она отослала ему кольцо и вышла замуж за Мориса Приста, и вот, когда дядя Гэвин и мистер де Спейн подняли то, что мой отец назвал раунсвелловской паникой, Гренье решил, что подвернулся удобный случай, и послал миссис Прист не просто стандартный паникерский букет, как их называл отец, а букетище тройной величины. Может, она потому и не взяла букет на бал, что он был слишком уж громадный. Во всяком случае, цветов при ней не было, но все же, после того как дядя Гэвин и мистер де Спейн освободили место во дворе, Гренье и Морис Прист отправились туда же, и Гренье вышел оттуда с подбитым глазом номер один, а Морис вернулся домой с расквашенным носом, а когда Сэлли пошла в город на другое утро, у нее увидели подбитый глаз номер два. Может, она и не щеголяла перед всеми своим букетом, но уж синяком своим она щегольнула. Она не только все утро расхаживала по городу, она и после обеда явилась туда, так, чтобы все в Джефферсоне могли его видеть, этот синяк, или хотя бы слышать о нем. Гаун говорил, что можно было подумать, будто она им гордилась.
4. В.К.РЭТЛИФ
Верно, гордилась. И его тетя (не оба дяди и не дедушка, а именно женщина, любая из родственниц) могла бы ему объяснить, почему Сэлли гордилась тем, что у нее был муж, который мог подбить ей глаз, гордилась, что у ее мужа такая жена, которая еще могла так его раззадорить.
Кстати, Флем был вовсе не первым Сноупсом в Джефферсоне. Первым был Минк, он восемь месяцев просидел в джефферсонской тюрьме перед отъездом на постоянное жительство в Парчмен за убийство Джека Хьюстона. И все эти восемь месяцев его мучило одно – не ошибся ли он.
Нет, не в том, что убил Джека Хьюстона. Тут-то он знал, что делает. Джек был человек гордый и к тому же одинокий, а это сочетание нехорошее; одинокий он был потому, что потерял молодую жену, а он, во-первых, немало времени ее добивался, пока не добился, а во-вторых, прожил с ней меньше года и потерял ее; а гордый он был настолько, что четыре года не мог себя заставить забыть ее. А может, тут причина была другая: прожил он с ней всего-навсего месяцев шесть-семь, а добивался ее лет шесть-семь, а то и больше, – вот и сравните оба эти срока. Да и потерял он ее страшно, страшнее быть не могло: убил ее на конюшне папаша того самого кровного жеребца, с которого через четыре года Минк снял Джека выстрелом, – и после ее гибели Хьюстон еще больше помрачнел и целых четыре года вспоминал в одиночестве, как это случилось. Так что если человек и от рождения гордец, а потом очутится в одиночестве и все больше мрачнеет, так в нем высокомерия все прибавляется и прибавляется.
Но народ на Французовой Балке давно знал, что он гордый, и знал, как ему было трудно уговорить воспитателей Люси Пэйт отдать ее за него замуж, так что все было бы в порядке, если б он не схлестнулся с Минком Сноупсом.
Потому что Минк был злющий. Он был единственный насквозь, до конца злющий Сноупс, с которым нам пришлось столкнуться. Были среди них сумасшедшие, вспыльчивые, как порох, поджигатели, вроде старого Эба, были кроткие, невинные, вроде Эка, хотя он вовсе и не был Сноупсом, чего там его мамаша ни говори, ему и родиться в Сноупсовом гнезде не надо было, как не надо воробью родиться в гнезде коршуна; был у них в семье дурак, насквозь, до конца дурак – этот А.О. Но никогда прежде мы не сталкивались с человеком, в котором жила чистая злоба, без всякой корысти, без надежды.
Может, оттого он и был единственным злым Сноупсом: от этой злобы никому прибыли не было. Но, видно, в нем все же сидело, вроде как в его родиче, А.О., какое-то недомыслие, иначе он бы никогда такой ошибки не сделал. Нет, я не говорю, что он застрелил Хьюстона по ошибке, я о том, что время он для этого выбрал именно тогда, когда Флем все еще справлял свой медовый месяц в Техасе. Конечно, он знал, что Флем еще не вернулся. А может быть, ему накануне сообщили по сноупсовскому беспроволочному телеграфу, что назавтра Флем приезжает на Французову Балку, и только тогда он вытащил старое заржавленное ружье, которое заряжалось с казенной части патронами десятого калибра, спрятался в кустах и свалил Хьюстона с коня, когда тот проезжал мимо засады. Но тут не мне судить… Может, к тому часу ему все стало безразлично, лишь бы взять Хьюстона на мушку и почувствовать в плече толчок отдачи.
Словом, вот что он наделал. И похоже, что только когда Хьюстон уже лежал в придорожной грязи, а его испуганный жеребец с брошенными поводьями, с пустым седлом и болтающимися стременами уже мчался к лавке Уорнера, будто хотел донести, что случилось, только тогда он понял и ужаснулся: слишком он поторопился сделать то, чего уже никак нельзя было исправить. Оттого-то он и пытался спрятать труп, а потом зашвырнул ружье в пруд и пришел в лавку, а потом каждый день торчал возле нее, пока шериф искал Хьюстона, не затем, чтобы разузнать, напал ли шериф на след или нет, а чтобы дождаться, пока Флем вернется из Техаса и спасет его; так было до того дня, когда пес Хьюстона навел их на труп, а какие-то рыбаки нашли ружье в пруду, и все признали, что ружье его, потому что ни у кого другого такой штуки и быть не могло.
И вот тогда злость и обида на несправедливость и предательство довели его до отчаяния, потому что он решил или сообразил, словом, подумал, что Флем, наверно, слышал про убийство и нарочно не возвращается на Французову Балку, а может, и вообще в Миссисипи, чтобы не пришлось помогать ему, вызволять его. Нет, тут было даже не отчаяние: просто самая обыкновенная злоба и обида – он хотел показать Флему Сноупсу, что и ему на него наплевать; в наручниках, когда шериф вез его в тюрьму, он улучил минуту, просунул шею в развилку верхней перекладины и все пытался перекинуть ноги и все тело через край коляски, пока его не втащили назад.
Но только вначале он чувствовал возмущение, и обиду, и разочарование: его ненадолго хватило. И здравый смысл, наверно, подсказал ему, что так продолжаться не может, и, должно быть, он даже обрадовался, что все это прошло и спокойствие, и здравый смысл вернулись к нему снова. Так оно и было, потому что теперь ему только и оставалось, что получше приспособиться к тюрьме и ждать, пока Флем Сноупс вернется домой, потому что даже Флем Сноупс не может вечно отсутствовать, даже в свой медовый месяц, даже в Техасе.
Так он и сделал. Сидел себе в камере, на верхнем этаже (ведь он был настоящий первоклассный убийца, ему не приходилось выходить на работу, не то что какому-нибудь негру-картежнику), и даже нетерпения в нем не чувствовалось: бывало, встанет у окна, держась за решетку, так, чтобы видеть улицу и тротуар, по которому Флем должен выйти на площадь; весь первый месяц – никакого нетерпения, и даже на второй он не особенно беспокоился, хотя ему уже было предъявлено обвинение: только изредка окликнет кого-нибудь из прохожих и спросит – вернулся Флем или нет; и лишь к концу второго месяца он стал думать, что, видно, Флем еще не вернулся, и уже кричал вниз прохожим, чтобы они передали Биллу Уорнеру на Французову Балку – пусть приедет повидать его.
И только в самые последние две недели перед судом, когда никакой Билл Уорнер и вообще никто к нему не приехал, он понял, что ни за что не поверит, будто Флем не вернулся на Французову Балку; просто все эти люди, которым он кричал из окна, даже не подумали передать его просьбу, а так как он теперь мало спал по ночам (бывало, на верхнем этаже, за решеткой совсем темно, но при свете уличного фонаря видишь белое пятно – его лицо, и еще два белых пятна – руки, вцепившиеся в решетку), то у него хватало времени стоять хоть до утра, если надо, и дожидаться, чтоб прошел кто-нибудь, кому можно доверить поручение: какой-нибудь малец, вроде мальчишки Стивенсов, племянника Юриста Стивенса, что гостил у них, кто-нибудь, кого еще не испортили, не совратили старшие, взрослые люди, не сделали его врагом, и он звал шепотом, и ребята наконец останавливались и поднимали головы, а он шептал им вслед, когда они испуганно шарахались:
– Эй, ребята! Мальчики! Эй вы, там! Хотите десять долларов? Так передайте на Французову Балку, Флему Сноупсу, скажите, что брат его двоюродный, Минк Сноупс, велел ему поскорее ехать сюда, слышите, поскорее.
И так до того самого утра, до суда. Только его ввели, в наручниках, он стал вертеть шеей, всех рассматривать, а сам все вытягивает шею, смотрит, как народ напирает, лезет, хоть и сидеть уже не на чем, а он все смотрит, пока приводят к присяге присяжных, даже на стул пытается взобраться, чтоб ему лучше видно было, пока его не стащат; секретарь читает обвинительный акт, а он все шею вытягивает, крутит головой, пока его не спросили: «Признаете себя виновным?»
Тут он опять взобрался на стул, его и остановить не успели, смотрит на лица в самом конце судебного зала и говорит:
– Флем!
И тут судья как застучит молоточком, и адвокат, которого суд ему назначил, тоже вскакивает, а секретарь кричит:
– Соблюдайте тишину в суде!
А Минк все свое:
– Флем! Флем Сноупс!
Но тут сам судья перегнулся через край стола и говорит ему:
– Эй, вы! Сноупс! – пока Минк наконец к нему не обернулся, не посмотрел на него. – Признаете себя виновным или нет?
– Что? – говорит Минк.
– Вы убили Джека Хьюстона или нет? – говорит судья.
– Не мешайте мне! – говорит Минк. – Разве вы не видите – я занят! – И снова поворачивается к тем, кто пришел узнать – а вдруг его все-таки не повесят, хоть и говорили, что он сумасшедший, но раз он сам этого хотел, сам чуть не удавился, так вышло бы, что суд только пошел ему навстречу, – а он все говорит:
– Эй, кто-нибудь! У кого есть машина? Езжайте скорей к Уорнеру в лавку, зовите Флема Сноупса! Он вам заплатит, сколько спросите, и лишку – десять долларов лишку… двадцать лишку…
Прошлым летом Юристу что-то надо было делать, но он сам не знал что. А теперь ему тоже надо было что-то делать, но ему было все равно что. Я даже не думаю, что он чего-то искал. По-моему, он просто протянул руку и за что-то ухватился, за первое попавшееся дело, и случайно это оказалось дело про те самые, неизвестно куда исчезавшие, медные части с электростанции, про которые весь Джефферсон, включая и Флема Сноупса, – вот именно, включая и Флема Сноупса, – старался хотя бы из простой обыкновенной вежливости забыть навсегда.
И когда он, в качестве прокурора штата, возбудил это дело против акционерной компании и мэра де Спейна, обвиняя их в злоупотреблении служебным положением и преступном сообщничестве, словом, как это там у них называется, мы все, вполне естественно, решили, что он собирается пойти и положить эти бумаги на письменный стол Манфреда де Спейна. Но все ошибались: он и теперь вовсе не собирался вступать в сделку с мэром де Спейном, как и в тот вечер, во дворе Котильонного клуба, когда его зять сказал ему, что драться он не может, потому что не умеет, – впрочем. Юрист и сам знал это в точности, потому что он уже прожил на свете года двадцать два, а то и все двадцать три. Ничего ему от де Спейна не было нужно, потому что про то, единственное, чем обладал де Спейн и что Юристу было нужно, он и сам не знал, пока его отец не объяснил ему в тот последний день.
И вот Юрист возбудил дело. И вскоре с утреннего поезда сошел приятный молодой человек из акционерной компании, в хорошем городском костюме, с хорошим городским чемоданчиком, и сперва сказал: «Что ж, друзья, выпьем вашего хорошего виски и посмотрим, не столкуемся ли мы по данному вопросу», – а потом целый день метался в страхе и все звонил и звонил по междугородному телефону, а в промежутках разговаривал с теми двумя неграми-кочегарами, с Том-Томом Бэрдом и Томовым Тэрлом Бьючемом, а сам все ждал, когда вернется Флем, который внезапно уехал погостить в соседний округ.
И вот на третий день приезжает еще один представитель акционерной компании, – видно, очень у них важный, и волосы седые, и приехал в пульмановском вагоне, – брюки полосатые, золотая цепка на часах такая толстая, что на ней бревна таскать можно, и очки золотые, и даже зубочистка золотая, а сам в сюртуке и при шляпе, – такой важный, что к вечеру в гостинице Холстона даже стакана воды нельзя было допроситься, потому что все официанты, все коридорные торчали у его дверей, прислуживали ему, и он мог бы к завтрему заполучить любого негра в Джефферсоне, ежели бы только знал, чего с ним делать, и всем он говорил: «Джентльмены, джентльмены, джентльмены». А наш мэр заявился туда, где все собрались за круглым столом, посмеялся, а потом говорит:
– Извините, мне пора. Даже мэру Джефферсона, в штате Миссисипи, хоть изредка, да приходится работать.
А Юрист Стивенс сидит, спокойный, бледный, и вид у него точь-в-точь такой, как в тот вечер, когда он сказал своему зятю: «А разве, по-твоему, есть способ научиться как-нибудь иначе?»
Флем Сноупс все еще не вернулся, они его и найти не могли, – видно, он ушел в поход, куда-нибудь в лес, где никаких телефонов не водилось, и этот большой начальник, тот, что в белой жилетке и с золотой зубочисткой, говорит: «Я уверен, что мистер де Спейн охотно подаст в отставку. Почему бы нам просто не принять его отставку и забыть все и всяческие неприятности?» – а Юрист Стивенс говорит: «Он хороший мэр, мы не хотим его отставки», а белая жилетка говорит: «Чего же вы хотите? Вам придется доказать, что представитель нашего клиента действительно украл медные части, а у вас всего и доказательств что слова этих двух негров, потому что сам мистер Сноупс отбыл из города».
– Но водонапорный бак из города не отбыл, – говорит Юрист Стивенс. – Мы можем его осушить, этот бак.
И уж тут им пришлось созвать, как они говорили, экстренное заседание членов городского совета. А получилось у них что-то вроде массового сборища, когда выбирают королеву красоты, – уже с восьми часов звонил колокол на здании суда, будто действительно назначили что-то вроде ночного заседания, и народ все шел по улицам и собирался на площади, и все шутили, смеялись, а потом решили, что в кабинете мэра не поместиться и половине, и тогда перешли в зал заседаний, будто начался суд.
А было это в январе месяце; после того рождественского бала прошло всего недели три, не больше. И даже когда выступали свидетели, казалось, что все это шуточки, потому что большинство пришло просто послушать и поглазеть, кто-то застучал судейским молоточком по столу, пока смешки и шуточки не прекратились, и тогда один из членов городского совета сказал:
– Не знаю, сколько будет стоить осушить этот бак, но, провалиться мне на этом самом месте…
– А я знаю, – сказал Юрист Стивенс. – Я уже справлялся. За триста восемьдесят долларов можно построить вспомогательную цистерну и слить туда воду, а потом перекачать ее обратно в основной бак и разобрать вспомогательную цистерну. А за то, чтобы залезть в бак и проверить, ничего платить не надо, – я сам туда полезу.
– Хорошо, – сказал тот же член городского совета. – И все-таки, провалиться мне на этом месте, если я…
– Отлично, – говорит Юрист Стивенс. – Я сам заплачу, – а старый господин из акционерной компании, тот, в белом жилете, говорит: «Джентльмены. Джентльмены. Джентльмены». И тут встает первый, молодой, и орет:
– Вы понимаете, мистер Стивенс? Вы понимаете или нет? Если даже вы найдете медные части в баке, все равно состава преступления нет, потому что эти части – городское имущество.
– Я и об этом подумал, – говорит Юрист, – медные части и так принадлежат городу, даже если мы не будем осушать бак. Но только где же они?
И этот молодой, из акционерного, говорит:
– Погодите! Погодите! Я не о том! Я про то, что раз медные части налицо, – значит и состава преступления нет, значит их никогда не крали.
– Но Том-Том Бэрд и Томов Тэрл Бьючем говорят, что крали, потому что воровали они сами, – говорит Юрист.
И тут заговорили сразу два члена городского совета, оба кричат: – Стой! Стой! – пока самый горластый, Генри Бест, не перекрикивает другого:
– Так кого же ты обвиняешь, Гэвин? Разве эти негры тоже поставлены Манфредом?
– Но тут преступления нет! Мы знаем, что медные части в баке, негры сами говорят, что они их туда засунули! – кричит маленький из акционерного, а тот, постарше, в белой жилетке, все повторяет: «Джентльмены! Джентльмены! Джентльмены!» – словно издалека гудит этаким басом большой барабан, а на него никто и внимания не обращает; но тут Генри Бест как заорет:
– Стойте, черт вас подери! – да так громко, что все затихли, а Генри говорит: – Эти негры сознались, что украли медные части, но пока мы не осушим бак, никаких доказательств кражи у нас нет. Так что пока можно считать, что они ничего не украли. А если мы осушим бак и найдем эти чертовы медяшки, значит, они их украли и виновны в краже. Но ведь если мы найдем эти медные части в баке, значит ничего они не крали, потому что тогда медные части не только снова станут собственностью города, но и не переставали принадлежать городу. Черт подери, Гэвин, уж не это ли вы нам хотите доказать? Так на кой черт вам это нужно? На кой черт?
А Юрист Стивенс сидит себе, спокойно, молча, и лицо у него белое, как бумага, тихое такое. И может, он еще и не научился драться. Но такого правила, что и пробовать нельзя, он не слыхал.
– Правильно, – говорит он. – Если в баке находятся медные части – ценное имущество города, незаконно перемещенное в этот бак при укрывательстве и попустительстве одного из городских служащих, то даже если эти части найдутся, налицо попытка совершить преступление при попустительстве одного из городских служащих. Но этот бак, per se [2], а также тот факт – находятся там или нет эти медные части per se, значения не имеет. Однако мы взяли на себя смелость предложить вниманию уважаемого акционерного общества следующий вопрос: какое именно злоупотребление совершил наш уважаемый мэр города? Какое именно преступление, и кем совершенное, покрывает главный слуга нашего города? – Но сам Юрист не знал, чего ему надо. И даже, когда на следующий день его папаша объяснил ему, что, по его поведению, можно заключить, чего именно ему надо, и Юрист как будто даже с ним согласился, все равно это было не то.
А тогда они ничего больше и не добились, только признали, что решать это надо не просто кучке любителей, вроде этого собрания членов городского совета. Решать тут должен был профессионал, настоящий, неподдельный судья; хотели они или нет, но они зашли в такой тупик, что им не обойтись было без суда. Я и не знал, что судья Дьюкинфилд сидел в публике, пока Генри Бест не встал и не заорал на весь зал:
– Судья Дьюкинфилд! Тут судья Дьюкинфилд или нет?
И судья Дьюкинфилд встал из заднего ряда и сказал:
– Да, Генри?
– Придется нам, видно, просить вашей помощи, судья, – говорит Генри. – Думаю, что вы слышали все не хуже нас, и мы надеемся, что поняли вы, должно быть, лучше, чем мы.
– Да, да, отлично, – сказал судья Дьюкинфилд. – Будем слушать это дело завтра на заседании в девять утра. Полагаю, что ни истцу, ни ответчику не понадобятся защитники, кроме тех, кто выступал сегодня, но они могут, если пожелают, пригласить дополнительных свидетелей, или надо сказать – секундантов?
Тут мы все стали расходиться, с разговорами, с шутками и смехом, и ни на чью сторону мы не становились, а просто, из принципа, все были против этих посторонних из акционерной компании, просто за то, что они были для нас посторонними, и мы даже не обратили внимания, что сестра Юриста, – она ему близнец, – стояла рядом с ним, словно охраняя его, словно она говорила Генри Бесту: «Теперь вы довольны; может быть, хоть теперь вы оставите его в покое». Не обратили мы внимания и на мальчишку, – я не рассмотрел, кто он был такой, – когда он протиснулся сквозь толпу к столу и что-то передал Юристу и Юрист взял это у него из рук; не знали мы до утра и того, что между вечерним собранием и следующим утром что-то произошло, чего мы так и не узнали и, по моему убеждению, никогда не узнаем, и мы отправились себе по домам, или каждый по своему делу, и площадь опустела, только одно окно над скобяной лавкой, где был служебный кабинет его и его отца, было освещено, и он сидел там один, – конечно, если только он там сидел и если только он был один, – и, как это говорится? – испытывал свою душу.
5. ГЭВИН СТИВЕНС
Поэты, конечно, не правы. Послушать их, так я должен был не только знать – от кого записка, я должен был предчувствовать, что ее сейчас принесут. А на самом деле я не сразу понял, от кого она, даже когда прочел. Но ведь поэты почти всегда ошибаются, когда речь идет о фактах. И ошибаются потому, что факты, в сущности, их не интересуют: их интересует только правда – вот почему та правда, которую они говорят, настолько правдива, что даже тех, кто ненавидит поэтов какой-то врожденной, примитивной ненавистью, эта правда наполняет восторгом и страхом.
Нет, это неверно. Это оттого, что не смеешь надеяться, боишься надеяться. Боишься не глубины той надежды, на какую ты способен, но того, что ты – непрочный силок из плоти и крови, где бьется, в бессонных мечтах и надеждах, это хрупкое, пугливое, безграничное желание, – не сможешь это желание исполнить; Рэтлиф сказал бы, – потому что знаешь, что никогда в тебе не хватит мужественности нанести тот вред, тот ущерб, который ты нанес бы, будь ты до конца мужчиной, – и тут он мог бы прибавить, или я прибавлю за него, – и благодари за это бога. О да, благодари бога, благодари за все то, что даст тебе покой, когда уже будет слишком поздно; и тогда, успокоившись, ты будешь убаюкивать на коленях и непрочный силок, и бессонную, пленную тоску, что бьется в нем, и шептать: «Не надо, не надо, все пройдет; я знаю, ты выдержишь, ты храбрый».
Первым делом, войдя в кабинет, я зажег все лампы: если бы не январь, не тридцатиградусный мороз, я бы и двери открыл, пусть так и стоят открытыми – еще одно проявление нежной заботы джентльмена из Миссисипи о сохранении ее доброго имени. И тут же я подумал: «Господи! Полное освещение, да ведь весь город увидит!» – и я знал, что сию минуту Гровер Уинбуш (наш городской констебль) примчится сюда, наверх, будто я за ним срочно послал, потому что, если бы горела одна настольная лампа, он подумал бы, что я просто работаю, и оставил бы меня в покое, но при полном освещении он непременно явится, не для того, чтобы настичь нежеланного гостя, а чтоб принять участие в разговоре.
Так что мне надо было бы вскочить, выключить верхний-свет, зная, что стоит мне встать, выпустить ручки кресла, как я наверняка убегу, удеру домой, к Мэгги, – с тех пор как умерла наша мать, она старалась стать мне матерью и, может быть, когда-нибудь и станет. И я остался сидеть, думая, что если бы только была возможность и время как-то передать ей, объяснить, связаться с ней, где бы она сейчас ни была, по пути из дому, сюда ко мне – подсказать ей про обувь на резиновой подметке, чтобы идти неслышно, про темный глухой плащ и шаль, чтобы стать невидимой; и тут же, понимая, что одна мысль о бесшумных башмаках и глухом плаще навсегда исключает, уничтожает необходимость в них, потому что если я и останусь самим собой, то она навсегда станет и мельче и ничтожнее, если поддастся низменному оскорбительному чувству страха, тайны, молчания.
Так что, услыхав ее шаги на лестнице, я даже не подумал: «Бога ради снимите башмаки или хотя бы идите на цыпочках». А подумал я: «Как может она двигаться, тихонько постукивая каблуками, как будто идет самой обыкновенной человеческой походкой, – ей бы плыть музыкой Вагнера, не под музыку, а в ней, в певучем потоке грома или медных труб, когда все тело движется в унисон с течением звуков, с голосом ветра и бури и мощных арф». Я подумал: «Раз она сама решила назначить мне тут, в такой поздний час, это, тайное как-никак свидание, ей придется хотя бы посмотреть мне в глаза». До сих пор она на меня не смотрела. Да, может быть, она и вообще меня не видела, пока я валял дурака, чтобы обратить на себя ее внимание, кувыркался перед ней, шалил с кнопками на улице, как гадкий мальчишка, пользуясь не просто честным подкупом, но собственным затянувшимся порочным мальчишеством (плюс любопытство: не надо об этом забывать), играя на чувствах настоящего мальчишки – и для чего? Зачем? Что мне было нужно, чего я добивался? Как ребенок, зажигающий спички под стогом сена, в то же время дрожит от страха, как бы не случился пожар.
Понимаете? Страх. Я даже не успел подумать, какого черта ей от меня нужно: только страх, когда мальчик сунул мне ее записку и я наконец улучил минуту развернуть и прочесть ее и потом (со страхом) собрал все мужество, отчаяние, отчаянность – называйте как хотите, пусть это будет что угодно, пусть оно неизвестно откуда появилось во мне, – но я подошел к двери и открыл ее и подумал, как в те разы, когда я оказывался совсем близко от нее – танцевал ли я с ней или с вызовом, всей тяжестью, обрушивался на осквернителя ее чести: «Как, не может быть, неужто она такая маленькая, такая тоненькая», – хотя росту в ней было чуть поменьше моих шести футов, и все же слишком мала, слишком тонка: слишком мала, чтобы так нарушить мой покой, причинить такую долгую бессонницу, расстроить, разрушить все то, что я считал спокойствием. На самом деле она была почти что одного роста со мной, глаза в глаза, если бы только она смотрела мне в глаза, но этого не было: только раз, мельком, неторопливым синим (они у нее были темно-синие) взглядом обволокла, – и все; нет нужды больше глядеть – если только она вообще взглянула – на меня, скорее это было одно-единое полное восприятие, хотя эпитет «полный» так же тривиально звучит по отношению к этому взгляду, как эпитет «влажное» к самому синему морю; только один взгляд, чтобы охватить меня, а потом разделить, а потом отстранить, словно эта спокойная неспешная синева подняла, охватила меня всего, прикоснулась со всех сторон и снова опустила на место. Но сама она не села. Она даже не пошевельнулась. И тут я вдруг понял, что она просто осматривает кабинет, как женщины обычно осматривают комнату, которой раньше не видели.
– Садитесь, пожалуйста, – сказал я.
– Спасибо, – сказала она. И, сидя в этом обыкновенном кресле, у стола, она все еще казалась слишком хрупкой, чтобы вместить, вобрать, не надорвавшись ни в одном шве, всю эту бессонницу, всю тоску, когда, по словам поэта, в горечи грызешь пальцы, а пальцы грыз не только я, но все мужчины Джефферсона, да, в сущности, и все мужчины на земле, косвенно, через своих заместителей, оттого что грызть пальцы – судьба всех мужчин, которые заслужили или заработали право зваться мужчинами; слишком хрупка, слишком тонка, чтобы носить в себе, вобрать все это… А я, вероятно, видел, должен был видеть ее лет пять назад, хотя только прошлым летом я взглянул на нее; да, должно быть, только прошлым летом, – потому что до того я был слишком занят, сдавая экзамены на юридическом факультете, – только тогда я склонился, согнулся, в истинном преклонении: считайте, для круглого счета, с июня по январь, двести – за вычетом каких-то (немногих) для сна – двести ночей, когда я торопливо распахивал свой братский (монашеский) плащ, чтобы защитить и спасти ее честь от насильника.
Понимаете? Мне ни разу не пришло в голову спросить ее, чего она хочет. Я даже не ждал, чтобы она мне сама сказала. Я просто ждал кульминации тех двухсот ночей, так же, как некоторые из ночей, или, вернее, какие-то ночные часы, я проводил в ожидании этого мига, если только она придет, если сбудется, свершится; и пусть меня закружит, как в бурю, в ураган, в смерч, пусть швырнет, раздавит, закрутит и поглотит, чтобы пустая, смертная, бесчувственная оболочка потом медленно и невесомо еще какой-то миг плыла по долгой пустой остаточной жизни, а дальше – ничто.
Но так ничего не случилось, не было никакой попытки скрутить, выжать, поглотить все во мне, все, кроме последней благодарной неразрушимой оболочки, а скорее просто меня разрушали, как разрушает тело бальзамировщик, оставляя нетронутым только то, что осталось жизнью, все еще живой жизнью, будь то даже жизнь червяка. Потому что она не то чтобы вновь осматривала мой кабинет, а, как я понял, она и не переставала его осматривать, быстро окидывая все деловитым женским взглядом.
– Пожалуй, здесь будет хорошо, – сказала она. – Лучше всего здесь.
– Здесь? – сказал я.
– Да, здесь. В вашем кабинете. Двери можете запереть, так поздно ночью вряд ли окажется, что какой-нибудь рослый человек не спит и вздумает заглянуть в окно. А может быть… – И тут она поднялась, – а я не мог пошевельнуться, – и уже подошла к окну и стала спускать штору.
– Здесь? – повторил я, как попугай. – Здесь? Вот тут? – Теперь она смотрела на меня через плечо. Да, вот именно. Она даже не повернулась ко мне, только обернула голову, лицо, чтобы взглянуть на меня через плечо, а руки ее продолжали тянуть штору вниз, и последним легким движением коснулись подоконника. Нет, она не то что опять посмотрела на меня. Она взглянула на меня только раз, когда вошла. А теперь из-за ее плеча меня обволакивала эта синева, словно море, не спрашивая, не ожидая, как морю не надо ни спрашивать, ни ожидать, а просто быть морем. – Ага! – сказал я. – Что ж, – наверно, вам надо торопиться, спешить, ведь времени у вас мало, ведь сейчас вы должны бы уже спать с вашим мужем, или, может быть, нынче ночью очередь Манфреда? – А она наблюдает за мной, уже совсем обернулась и, кажется, слегка прислонилась спиной к подоконнику, наблюдает за мной очень серьезно, с легким любопытством. – Ну конечно же, – сказал я, – сегодня ночь Манфреда, ведь вы спасаете Манфреда, а не Флема. Нет, погодите, – сказал я. – Может быть, я не прав, может, вы спасаете обоих, может, они оба послали вас ко мне: оба так испугались, так отчаялись; у обоих страхи, опасения дошли до такой степени, что оправдан даже этот последний ход, на карту поставлены вы, женщина – их общая женщина, – вся до конца. – А она все наблюдает за мной: эта спокойная, бездонная, безмятежно ждущая синева, ждущая не меня, а течения времени. – Нет, я не то говорю, – сказал я. – И вы это знаете. Я знаю – это Манфред. И я знаю – он вас не посылал. Меньше всего он. – Теперь я уже мог встать. – Сначала скажите, что вы меня прощаете, – сказал я.
– Хорошо, – сказала она. Тогда я подошел и открыл двери. – Доброй ночи, – сказал я.
– Значит, не хотите? – сказала она.
Тут у меня даже хватило сил засмеяться.
– А я думала, вам этого хочется, – сказала она. И тут она посмотрела мне в глаза. – Зачем же вы так поступали?
О да, теперь-то я мог смеяться, стоя у открытой двери, куда холодная тьма вползала невидимым облаком, и если Гровер Уинбуш стоял где-нибудь на площади (но он, конечно, не стоял, в этот трескучий мороз, не такой он дурак), ему был бы виден не только свет в окнах. О да, теперь она смотрела мне в глаза: море, которое через секунду должно было поглотить меня, не нарочно, не сознательно, нацеленной заранее волной, а потому что я стоял на пути бессознательной этой волны. Нет, и это неправильно. Просто она вдруг тронулась с места.
– Закройте двери, – сказала она. – Холодно. – И пошла ко мне, не торопясь. – Значит, вы решили, что я пришла поэтому? Из-за Манфреда?
– А разве нет? – сказал я.
– Может быть. – Она подходила ко мне, не торопясь. – Сперва – может быть. Но это не имеет значения. Я хочу сказать – для Манфреда. Все эти медяшки. Ему все равно. Ему это даже нравится. Для него это развлечение. Закройте двери, пока холоду не напустили. – Я закрыл двери и быстро обернулся, отступая назад.
– Не трогайте меня! – сказал я.
– Хорошо, – сказала она. – Но ведь вы никак… – И тут даже она не договорила; даже у бесчувственного моря есть сострадание, но я и это мог вынести; я даже договорил за нее:
– Манфреду это было бы безразлично, потому что я никак не могу сделать больно, нанести вред, повредить ему; дело не в Манфреде, не во мне, как бы я ни поступил. Он бы и сам охотно подал в отставку, и не делает он этого единственно, чтобы доказать, что я не в силах его заставить. Хорошо. Согласен. Тогда почему же вы не уходите домой? Что вам здесь нужно?
– Потому что вы несчастны, – сказала она. – Не люблю несчастных людей. Они мешают. Особенно если можно…
– Да! – сказал, крикнул я. – Если можно так легко, так просто… Если никто даже не заметит, и меньше всего Манфред, потому что мы оба согласились, что Гэвин Стивенс никак не может обидеть Манфреда де Спейна, даже наставив ему рога с его любовницей. Значит, вы пришли просто из сострадания, из жалости: даже не из честного страха или хотя бы из обыкновенного уважения. Просто из жалости. Просто из сострадания. – И тут мне все стало ясно. – Вы не просто хотели доказать, что, получив то, чего я, как мне кажется, хочу, я не стану счастливее, вы хотели показать мне, что из-за того, чего я, как мне казалось, желал, не стоит чувствовать себя несчастным. Неужели для вас это ничего не значит? Я не говорю – с Флемом: неужто даже с Манфредом? – Я говорил, нет, кричал: – Только не уверяйте меня, что Манфред вас для того и послал – утешить несчастного!
Но она просто стояла, обволакивая меня этой глубокой, безмятежной, страшной» синевой. – Вы слишком много времени тратите на ожидание, – сказала она. – Не ждите. Вы живой, вы хотите, вы должны, и вы это делаете. Вот и все. Не тратьте время на ожидание. – И она стала подходить ко мне, а я был заперт, зажат не только дверью, но и углом стола.
– Не троньте меня! – сказал я. – Значит, если бы только у меня хватило ума перестать ждать, вернее, никогда не ждать, не надеяться, не мечтать; если бы у меня хватило ума просто сказать: «Я живой, я хочу, я сделаю», – и сделать, – если бы я так сделал, – значит, я мог бы быть на месте Манфреда? Но неужели вы не понимаете? Неужели вы не можете понять, что тогда я не был бы самим собой? – Нет, она даже не слушала меня, просто смотрела на меня: невыносимая, бездонная синева, задумчивая и безмятежная.
– Может быть, это оттого, что вы джентльмен, а я раньше никогда их не встречала.
– И Манфред тоже, – сказал я. «И тот, другой, тот, первый, отец вашего ребенка, – единственный, кроме Манфреда», – подумал я, потому что теперь – о да! да! я знал: Сноупс импотент. Я даже сказал это: «Тот, единственный, кроме Манфреда, там, еще на Французовой Балке, мне о нем рассказал Рэтлиф, тот, что разогнал не то шесть, не то семь парней, которые напали на вашу пролетку, а он их избил рукояткой кнута, одной рукой, потому что другой он прикрывал вас, он-то всех их побил, даже с одной переломанной рукой, а вот я даже не мог закончить бой, который я сам же начал, и всего с одним-единственным противником». А она все еще не двигалась с места, она стояла предо мной, и я вдыхал не просто запах женщины, но эту страшную, эту всепоглощающую бездну. – Оба они похожи, – сказал я. – Но я не такой… Все мы трое джентльмены, но только двое оказались мужчинами.
– Заприте двери, – сказала она. – Штору я уже опустила. Перестаньте всего бояться, – сказала она. – Почему вы так боитесь?
– Нет! – сказал, крикнул я. Я мог бы… я чуть не ударил ее, так резко я взмахнул рукой, но тут стало свободнее: я выбрался из капкана, я даже обошел ее, дотянулся до дверной ручки, открыл двери. О да, теперь я понял: – Я мог бы выкупить у вас Манфреда, но Флема выкупать я не желаю, – сказал я. – Ведь это Флем, да? Да, да? – Но предо мной была только синяя глубина и гаснущий Вагнер, трубы, и буря, и густой рев меди, diminuendo [3], к угасающей руке, к пальцам, к гаснущей радуге кольца. – Вы мне сказали – не надо ждать: почему же вы сами не попробуете? Да, мы тут все покупали Сноупсов, волей-неволей; уж вам-то надо было бы знать. Не знаю, почему мы их покупали. То есть не понимаю, зачем нам это было нужно: какую монету, где и когда мы так безрассудно, так расточительно тратили, что получили за нее Сноупсов. Но так было. А ведь вас никто заставить не может, если вы не захотите, никакой Сноупс, даже ворующий медные части. И нет цены тому, что ничего не стоит, так что, может быть, вы и мой отказ все-таки расцените по той цене, какую я за него плачу. – Тут она двинулась с места, и только тогда я заметил, что она ничего с собой не принесла: никаких перчаток, сумок, шарфиков, ничего из тех мелочей, какие приносят женщины с собой в комнату, так что в ту минуту, когда им надо уходить, начинается суматоха, похожая на генеральную уборку. – Не беспокойтесь за вашего мужа, – сказал я. – Просто считайте, что я представитель Джефферсона и потому Флем Сноупс и мой крест. Понимаете, я могу сделать одно: соответствовать вам, расценивать его так же высоко, как вы, доказательство чему – ваш приход. Прощайте!
– Прощайте! – сказала она. Холодное невидимое облако снова заглянуло в комнату. И снова я закрыл за ним двери.
6. В.К.РЭТЛИФ
На следующее утро мы вдруг услыхали, что судья Дьюкинфилд отказался и назначил вместо себя председателем суда судью Стивенса, папашу Юриста. Вот уж тут надо бы им звонить во все колокола, потому что были ли интересы города затронуты накануне вечером или не были, сегодняшнее заседание их, безусловно, затрагивало. Но заседание назначили закрытое, в кабинете судьи, а тот закуток, который судья Дьюкинфилд называл своим кабинетом, всех нас вместить никак не мог. Так что на этот раз мы только постарались случайно оказаться поблизости от площади, – кто стоял в дверях лавок, а кто, по чистой случайности, выглядывал из окон верхних этажей, от докторов или еще откуда, пока старик Джоб (он был служителем у судьи Дьюкинфилда с незапамятных времен, так что джефферсонцы, включая и самого судью, и самого старика Джоба, позабыли, с какого времени) в старом фраке судьи Дьюкинфилда, который он надевал по воскресеньям, суетился в маленьком кирпичном домике за зданием суда, где помещался личный кабинет судьи, вытирал пыль, и подметал у дверей, и впустил народ, только когда ему показалось, что все чисто.
Мы видели, как судья Стивенс, выйдя из своего дома, перешел площадь и вошел в двери, а потом мы увидели, как оба типа из акционерной компании вышли из гостиницы и тоже перешли площадь со своими чемоданчиками, и тот, что помоложе, сам нес свой, но за тем, другим, в белой жилетке, чемодан нес швейцар гостиницы, Самсон, а следом за Самсоном топал его младший мальчишка и нес, как мне показалось, свернутую мемфисскую газету, которую тот, важный, читал за завтраком, и все, кроме Самсона с мальчишкой, вошли в домик судьи. Потом пришел Юрист, один, – ну а вслед за этим мы, конечно, услыхали шум машины, и мэр де Спейн подъехал, остановил машину, вылез и говорит:
– С добрым утром, джентльмены! Кто-нибудь из вас меня ждет? Тогда простите, я только зайду на минутку, поздороваюсь с нашими приезжими гостями и тут же вернусь к вам. – Он тоже вошел в домик – больше там никого и не было: судья Стивенс сидит за столом, в очках, держит перед собой развернутую газету, а эти два приезжих сидят напротив, тихие, вежливые, но настороженные, Юрист сидит в конце стола, а Манфред даже не сел, просто прислонился к стенке напротив, руки в карманах, на лице, как всегда, выражение наплевательское, кажется, вот-вот расхохочется, хоть и бровью не ведет. Потом судья Стивенс складывает газету, медленно, обстоятельно, кладет перед собой, потом снимает очки, тоже складывает их, а потом кладет перед собой руки на стол, одну на другую, и говорит:
– Истец по этому делу сегодняшнего числа отказался от жалобы. Дело – если только это было дело – прекращается. Стороны – истец, ответчик и подсудимый – если бы таковой имелся, – могут считать себя свободными. Суд приносит извинения джентльменам из Сент-Луиса за то, что их пребывание в нашем городе было несколько омрачено, и мы верим и надеемся, что следующий их визит пройдет иначе. Суд удаляется. Всего доброго, джентльмены, – и тут оба приезжих вскакивают и начинают благодарить судью Стивенса, а потом хватают свои чемоданчики и почти что на цыпочках удаляются, и никого чужих не осталось, только Юрист, бледный как бумага, сидит, чуть опустив голову, и судья Стивенс по-прежнему сидит, ни на кого как будто не смотрит, а Манфред де Спейн по-прежнему стоит, прислонясь к стене, ноги скрестил, а лицо такое, что вот-вот расхохочется, только выжидает чего-то. И судья Стивенс посмотрел на него.
– Манфред, – говорит он. – Вы хотите подать в отставку?
– Разумеется, сэр, – говорит де Спейн. – Я был бы счастлив. Но, конечно, не ради города, ради Гэвина. Для Гэвина я и на это готов. Ему только и нужно сказать «прошу вас!».
И все же Юрист даже не пошевельнулся, сидит по-прежнему, и лицо неподвижное, белое как бумага, словно замороженное, а руки тоже лежат на столе, перед ним, не то чтобы стиснутые, как у его отца, а просто лежат перед ним. И тут Манфред стал смеяться, негромко, даже не быстро, стоит себе, скрестив ноги и засунув руки в карманы, а потом пошел к двери, открыл ее, вышел и закрыл за собой дверь, а сам все смеется. И Юрист остался вдвоем со своим папашей, и вот тогда-то Юрист и сказал те слова.
– Значит, ты не хочешь, чтобы он подал в отставку? – говорит судья Стивенс. – Так чего же ты хочешь? Чтобы его в живых не было? Так?
Тогда-то Юрист и сказал: – Что же мне теперь делать, отец? Отец, что же я могу сделать?
Видно, что-то случилось между вечерним собранием отцов города и утренним заседанием суда. Но ежели мы и узнали, что именно, так Юрист тут ни при чем. Я хочу сказать, что мы, может, и знали или, по крайности, догадывались, что случилось и где, – раз все лампы горели там, наверху, в его кабинете; весь Джефферсон уже давным-давно лег спать, а там все свет горит; но подойдет такой день – и Юрист, быть может, сам все расскажет, вынужден будет рассказать хоть кому-нибудь, чтобы себя успокоить. Чего мы никогда не узнаем, это как оно все-таки случилось. Ведь когда Юрист об этом расскажет, ему не надо будет рассказывать, как все случилось: ему надо будет рассказывать, говорить, неважно что, кому-то, кто будет слушать, все равно кому.
Единственный из них троих, кто ее понимал, был Флем. Потому что между ней и Манфредом де Спейном даже не возникало надобности понимать друг друга, хотеть этого понимания. Понимать друг друга им, можно сказать, надо было в одном – понять, где и когда встретиться и как скоро это будет. Но, кроме всего прочего, им так же не надо было тратить время на взаимное понимание, как солнцу и воде не надо сговариваться, чтобы создать облака. Их так же не надо было сводить, как не надо сводить солнце и воду. Собственно говоря, большую часть дела за Манфреда уже сделал тот мальчик на Французовой Балке – Маккэррон. Хотя он был первым, он мог бы быть младшим братом Манфреда; он тоже никогда не жил на Французовой Балке, и никто там о нем и слыхом не слыхал, не видел его ни разу перед тем летом, когда его словно нарочно послали на Французову Балку в ту самую минуту, когда он мог ее увидеть, так же, можно сказать, как послали Манфреда де Спейна в Джефферсон в тот самый миг, когда он мог ее увидеть.
Да и за Маккэррона часть дела была сделана, потому что она взяла ее на себя: после той ночи, когда пятеро парней с Французовой Балки подкараулили их и напали на их пролетку, собираясь вытащить его оттуда, может быть, избить, а может, просто припугнуть, чтоб он выметался с Французовой Балки, постепенно разнесся слух, что даже со сломанной рукой он их всех разогнал, и повернул пролетку, и доставил ее домой благополучно, если не считать коротенького девичьего обморока. Однако все это было не совсем так. Потому что те пятеро (двоих из них я хорошо знал) никогда об этом не рассказывали, а это верное доказательство. Значит, после того как ему сломали руку, она взяла кнут и тяжелой рукояткой стукнула последнего, а может, и двоих, сама повернула пролетку обратно и отъехала прочь. Но отъехала недалеко, во всяком случае не к дому: отъехала туда, где, как говорится, можно было увенчать триумфатора на еще не остывшем поле боя; прямо тут, на земле, посреди темной дороги, только надо было придержать испуганного коня, а потом конь стоял над ними, а ей, может быть, надо было поддерживать того, чтобы ему не опираться на сломанную руку; и это был для нее не только первый раз, но и тот раз, когда она понесла ребенка. Правда, люди болтают, будто с первого раза это случиться не может, но между тем, что действительно случается, и тем, что должно бы случиться, я всегда отдаю предпочтение первому.
Но Юрист Стивенс никогда не понимал ее и никогда не поймет: не понимал он, что не с Манфредом де Спейном ему приходилось соперничать, нет, перед ним была обыкновенная естественная сила, то под видом де Спейна, то Маккэррона, и сила эта заполняла ее существо, пустоту в ее жизни, пока она жила и дышала; но он не понимал, что ему никогда не стать одним из них. И он никак не мог сообразить, что она-то его понимает, – ведь ей ни разу не пришлось ему об этом рассказать, она и сама не знала, как это вышло. А ведь женщины начинают все про себя понимать лет с двух-трех, а потом забывают и удивляются, – совсем как тот человек, который через сорок с лишним лет, вдруг, перед тем, как выкинуть старые брюки, находит там в кармане двадцать пять центов. Нет, ничего они не забывают, просто откладывают лет на десять, на двадцать, на сорок, а когда понадобится, пошарят вокруг, найдут то, что им надо, используют, а потом повесят на гвоздик и даже не вспомнят, чем это они воспользовались, как не вспомнят, каким пальцем почесались вчера; но, конечно, ей снова завтра понадобится почесаться, и она всегда найдет чем почесаться и на этот раз.
Впрочем, не знаю, может, он и понимал все это, может, он и добился, чего хотел. То есть я хочу сказать, не того, чего он хотел, а того, что он мог бы иметь, замену, второй сорт, ведь лучше хоть что-то, чем ничего, даже если это «что-то» второго сорта. Потому что вокруг Елен, Джульет, Изольд и Джиневр ходят не одни только Ланселоты и Тристаны, Ромео и Парисы. Есть еще другие, те, чьи имена не попали в стихи и книжки, те, вторые номера, которые тоже и потели и пыхтели. А быть вторым после Париса, это, конечно, всегда лишь быть вторым номером, но не так уж это плохо. Не каждый обладал Еленой, но и не всякий ее терял.
И вот я, вроде как бы случайно, оказался на вокзале в тот день, когда Люшьюс Хоггенбек подъехал на своем автомобиле, и оттуда вылез наш Юрист с саквояжем и чемоданом, с билетом до Мотстауна, где была пересадка на экспресс Мемфис – Нью-Йорк, а там он должен был сесть на пароход и отправиться в тот самый германский университет: он уже два года говорил, что хорошо бы съездить туда, если, конечно, человеку охота ехать в какой-то германский университет; так было до того вчерашнего, а может, позавчерашнего утра, когда он сказал своему папаше: «Что же мне теперь делать, отец? Отец, что же я могу сделать?» День был холодный, так что он отвел свою сестру в зал ожидания, а потом вышел ко мне на перрон.
– Отлично, – сказал он, а сам такой бодрый, быстрый, лучше не надо. – Я так и надеялся, что встречу вас перед отъездом, передам факел в ваши крепкие руки. Придется теперь вам держать форт. Придется вам нести крест.
– Какой еще форт? – говорю. – Какой такой крест?
– Джефферсон, – говорит он, – Сноупсов. Как по-вашему, справитесь вы с ними, пока я не вернусь?
– Не только я, а сто таких, как я, не справятся, – говорю. – Одно тут надо – избавиться от них совсем, уничтожить их.
– Нет, нет, – говорит он. – Представьте себе, вдруг в Йокнапатофе появляется стая тигров; так не лучше ли запереть их в загоне для мулов, где за ними, по крайней мере, можно наблюдать, следить за ними, даже если каждый раз, как подходишь к загородке на десять шагов, теряешь руку или ногу. Разве это не лучше, чем выпустить их на свободу, – пусть себе рыщут и бегают по всей округе? Нет, теперь мы их заполучили, теперь они наши. Правда, я не знаю, за какие прошлые грехи Джефферсон заслужил такую кару, завоевал это право, заработал это преимущество. Но так уж оно случилось. И теперь нам надо бороться, сопротивляться, надо терпеть и (если только сможем) выжить.
– Почему же я? Почему из всего Джефферсона вы меня выбрали?
– Потому что вам одному во всем Джефферсоне я могу доверять.
Нет, как видно, тот, второй номер, тоже никогда, в сущности, не теряет Елену, потому что, пока она жива, она сама не стремится по-настоящему избавиться от него. Наверно, потому, что не хочет.
7. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН
Помню, Рэтлиф сказал, что Елены всего мира никогда по-настоящему не теряют мужчин, которые любили и потеряли их; быть может, потому, что они, Елены, не хотят этого.
Когда дядя Гэвин уехал в Гейдельберг, меня еще на свете не было, а когда я увидел его в первый раз, волосы у него, кажется, уже тронуло сединой. Потому что хоть я в то время и был уже на свете, я не могу вспомнить, какой он был, когда приехал в разгар войны из Европы, чтобы пройти подготовку и снова вернуться туда. Он сказал, что до самой последней минуты был уверен, что как только получит степень доктора философии, так сразу пойдет санитаром в германскую армию; был уверен почти до последней минуты, а потом признался себе, что та Германия, которую он мог бы так горячо любить, умерла где-то между фортами Льеж и Намюр и 1848 годом. Или, вернее, ту Германию, которая родилась между 1848 годом и этими бельгийскими фортами, он не любил, потому что это уже не была Германия Гете, и Баха, и Бетховена, и Шиллера. И это, как он говорил, причиняло боль, в этом было трудно признаться даже после того, как он добрался до Амстердама и мог действительно разузнать об американской армии, о которой он слышал.
Но он сказал, что мы, Америка, не привыкли к европейским войнам и все еще принимаем их всерьез; а ведь как-никак он два года был студентом немецкого университета. Иное дело – французы: для них новая война с Германией по-прежнему была лишь досадной неприятностью из исторической хроники; нация практичных и практических пессимистов, которая всякому, независимо от его политических убеждений, предоставляет делать что угодно, особенно тому, кто готов был делать это бесплатно. Так что он, дядя Гэвин, пробыл со своими носилками эти пять месяцев под Верденом и, схватив воспаление легких, вскоре очутился в американском госпитале и мог поехать домой, в Джефферсон, ждать, пока, как он сказал, мы тоже вступим в войну, а этого ждать было недолго.
И он был прав: двое Сарторисов, внуки полковника Сарториса, близнецы, уже уехали в Англию поступать в королевский воздушный флот, а потом настал апрель, и дядю Гэвина как секретаря АМХ [4] послали обратно во Францию с первыми американскими войсками; и вдруг появился Монтгомери Уорд Сноупс, первый из тех, кого Рэтлиф называл «эти пухлые, белесые мальчишки, сыновья А.О.», тот, чья мать сидела в качалке у окна гостиницы Сноупса, потому что было еще холодно, чтобы перебраться на галерею. А Джексон Маклендон организовал нашу джефферсонскую роту, и его избрали капитаном, и Монтгомери Уорд мог в нее вступить, но вместо этого он пришел к дяде Гэвину, чтобы ехать с ним во Францию от АМХ; и тогда-то Рэтлиф сказал, что мужчины, которые любили и потеряли Елену Троянскую, только думают, будто потеряли ее. Но ему следовало бы еще добавить: «И всех ее родственников». Потому что дядя Гэвин это сделал. Я хочу сказать – он взял с собой Монтгомери Уорда.
– Какого черта, Юрист, – сказал Рэтлиф. – Ведь он Сноупс.
– Конечно, – сказал дядя Гэвин. – А разве можно в наше время найти для Сноупса более подходящее место, чем северо-западная Франция? Как можно дальше к западу от Амьена и Вердена.
– Но почему? – сказал Рэтлиф.
– Я и сам об этом думал, – сказал дядя Гэвин. – Если б он сказал, что хочет защищать родину, я бы приказал Хэбу Хэмптону посадить его в тюрьму, заковать в кандалы и не спускать с него глаз, пока я буду звонить в Вашингтон. Но он сказал так: – Все равно, скоро выйдет закон, чтоб всех забрить, и ежели я поеду с вами теперь, то, сдается мне, попаду туда раньше и успею оглядеться.
– Оглядеться, – сказал Рэтлиф. Они с дядей Гэвином переглянулись. Рэтлиф моргнул раза два или три.
– Да, – сказал дядя Гэвин, и Рэтлиф снова моргнул раза два или три.
– Оглядеться, – сказал он.
– Да, – сказал дядя Гэвин. И дядя Гэвин взял Монтгомери Уорда Сноупса с собой, и вот тут-то Рэтлиф сказал о тех, которые думают, что наконец потеряли Елену Троянскую. А Гаун все еще жил у нас; может, из-за войны в Европе государственный департамент не позволял его отцу и матери вернуться из Китая или еще откуда-то, где они были. По крайней мере раз в неделю, идя домой через площадь, он встречал Рэтлифа, словно Рэтлиф нарочно ждал его там, и Гаун рассказывал Рэтлифу, что пишет дядя Гэвин, и Рэтлиф говорил:
– Напиши ему, чтоб глядел в оба. Напиши, что я здесь делаю все возможное.
– А что это – все возможное? – спросил однажды Гаун.
– Держу и несу.
– Что держите и несете? – спросил Гаун и, только когда спросил это, в первый раз вдруг увидел, что Рэтлифа вовсе не видишь, покуда вдруг не увидишь по-настоящему, или, по крайней мере, так было с ним, Гауном. И с тех пор он сам стал искать Рэтлифа. А в следующий раз Рэтлиф сказал:
– Сколько тебе лет?
– Семнадцать, – сказал Гаун.
– Ну, тогда, тетя, конечно, разрешает тебе пить кофе, – сказал Рэтлиф. – Что ты скажешь, если мы…
– Она мне не тетя, а двоюродная сестра, – сказал Гаун. – Да, конечно, я пью кофе. Но только я его не очень люблю. А что?
– Я и сам иногда не прочь побаловаться мороженым, – сказал Рэтлиф.
– Что ж в этом дурного? – сказал Гаун.
– А что ты скажешь, если мы зайдем в кондитерскую и поедим мороженого? – сказал Рэтлиф.
И они зашли. Гаун сказал, что Рэтлиф всегда брал себе клубничное. И он мог встретить Рэтлифа чуть ли не каждый день, так что теперь, когда он за это дело взялся, он должен был есть мороженое, хотелось ему или нет, и они с Рэтлифом платили по очереди, а однажды Рэтлиф сказал, держа вафельный стаканчик с розовой верхушкой в своей смуглой руке:
– Это, пожалуй, самое приятное изобретение, какое я знаю. До чего ж приятно, когда не рискуешь обжечься. Даже представить себе не могу ничего ужаснее: целая трагедия – обжечься клубничным мороженым. Поэтому, что ты скажешь, если мы станем есть его только раз в неделю, а в остальные дни просто обмениваться новостями?…
Гаун согласился, и после этого они просто встречались, и Гаун на ходу передавал Рэтлифу последние вести от дяди Гэвина: – Он просил сказать вам, что тоже делает все возможное, но что вы были правы: одного мало. А чего это – одного? – спросил Гаун. – И для чего – мало? – Гауну тогда было семнадцать лет, у него были и другие дела, верили этому взрослые или нет, но он охотно передавал то, что, как мама говорила, дядя Гэвин писал для Рэтлифа, когда встречал Рэтлифа, или, вернее, когда Рэтлиф встречал, ловил его, а это, кажется, бывало почти каждый день, так что он удивлялся, как это у Рэтлифа остается время зарабатывать себе на жизнь. Только он не всегда слушал то, что говорил Рэтлиф, так что потом он сам не знал, как или когда Рэтлиф ему внушил это, и у него даже появился интерес, как к игре, состязанию или даже к борьбе, войне, к тому, что за Сноупсами нужно все время следить, как будто это нашествие змей или тигров, и дядя Гэвин и Рэтлиф делали это или пытались делать, потому что в Джефферсоне, как видно, никто больше не понимал опасности. Так что в ту зиму, когда была наконец объявлена мобилизация и Байрона Сноупса взяли из банка полковника Сарториса в армию, Гаун отлично понял, о чем говорит Рэтлиф, когда тот сказал:
– Не знаю, как он это сделает, но ставлю миллион против цента, что он не уедет из Соединенных Штатов; и сто против одного, что он не уедет из Миссисипи дальше ближайшего форта на границе Арканзаса, где их разместят на первое время; давай мне десять долларов, и я отдам тебе одиннадцать, если он не вернется в Джефферсон через три недели. – Гаун денег не дал, но потом говорил, что жалеет об этом, потому что Рэтлиф ошибся на два дня, после чего Байрон Сноупс снова водворился в банке. Но мы не знали, как ему это удалось, и Рэтлиф ничего не мог узнать, покуда тот не ограбил банк и не удрал в Мексику, и Рэтлиф сказал, что Сноупсам все всегда удается оттого, что они все, как один, стараются добиться того, чтобы слова «быть Сноупсом» значили не просто принадлежать к зоологическому виду, но и не ведать неудач, и добиваются этого, соблюдая одно-единственное правило, закон, священную клятву – никогда никому не открывать, как им это удается. Байрон сделал так: каждую ночь, ложась спать, приклеивал к левой подмышке свежую табачную жвачку и этим нагонял себе температуру, пока наконец армейские доктора не демобилизовали его и не отправили домой.
Теперь, по крайней мере, были какие-то свежие новости о Сноупсах, которые можно было сообщить дяде Гэвину, и как раз тогда Рэтлиф заметил, что вот уже несколько месяцев дядя Гэвин ни слова не пишет о Монтгомери Уорде Сноупсе. Но к тому времени, когда от дяди Гэвина пришел ответ, в котором говорилось: «Никогда не упоминайте больше в письмах ко мне это имя. О нем я и слушать не стану. Не хочу», – мы уже могли сообщить дяде Гэвину свои собственные новости о Сноупсе.
Теперь эти новости касались Эка.
– Твой дядя был прав, – сказал Рэтлиф.
– Говорю вам, он мне не дядя, а двоюродный брат, – сказал Гаун.
– Ну ладно, ладно, – сказал Рэтлиф. – Эк ведь не был Сноупсом. Это его и погубило. Похоже, что в мире не было настоящего, истинного места для Сноупсов, и они сами себе его раздобыли, просто-напросто держась друг за друга, а когда один из них в первый раз поскользнулся, или споткнулся, или не сумел быть Сноупсом, остальной стае даже не надо было, как волкам, приканчивать его: сама судьба только и ждала случая и воспользовалась им.
Эк, носивший стальной ошейник с кожаными ремнями, потому что однажды кипарисовый ствол сломал ему шею, был ночным сторожем, сторожил на вокзале бак нефтяной компании; о том, что с ним случилось, я знал сам, потому что тогда мне было уже почти четыре года. Случилось это под вечер, еще засветло; мы ужинали, и вдруг раздался страшный взрыв, самый громкий звук, какой когда-либо слышал Джефферсон, до того громкий, что все мы сразу поняли – это немцы наконец сбросили на нас бомбу, не иначе; мы – вернее, мэр де Спейн – ждали этого с тех самых пор, как немцы потопили «Лузитанию» и нам наконец тоже пришлось вступить в войну. Ведь мэр де Спейн окончил академию в Уэст-Пойнте и был лейтенантом на Кубе, и, когда эта война началась, он тоже захотел в ней участвовать. Но, видно, не мог, и поэтому попытался собрать ополченскую роту, только никто, кроме него, не принимал это всерьез. Но, по крайней мере, у нас была своя система тревоги – в случае немецкого налета нужно было звонить в колокол во дворе суда.
Так что, когда раздался этот оглушительный грохот и зазвонил колокол, мы все поняли, что это такое, и ждали следующей бомбы, а люди, выбегавшие на улицу с криком: «Где это? Где?» – наконец разузнали, что взрыв был где-то около вокзала. Это был нефтеналивной бак, большой и круглый – футов тридцать в диаметре и в высоту футов десять, на кирпичных опорах. То есть он раньше таким был, теперь-то от него ничего не осталось, даже этих самых опор. И к этому времени им удалось наконец заставить миссис Наннери перестать вопить и рассказать, что же случилось.
Миссис Наннери – это мать Седрика. Ему тогда было лет пять. Они жили в маленьком домике на холме у самого вокзала, и когда ее наконец заставили сесть и кто-то дал ей глотнуть виски, она перестала голосить и рассказала, что часов в пять она нигде не могла найти Седрика и пошла туда, где мистер Сноупс сидел на стуле перед домиком величиной с уборную, который он называл конторой, и где по ночам сторожил бак, пошла спросить, не видел ли он Седрика. Седрика он не видел, но сразу встал, чтобы помочь ей искать его, и они обшарили все товарные вагоны на запасном пути, и пакгауз, и все вокруг и звали Седрика; только вот миссис Наннери не могла вспомнить, кто из них первый подумал о нефтеналивном баке. Кажется, мистер Сноупс, потому как он знал, что бак пустой, хотя, должно быть, миссис Наннери тоже видела лестницу, приставленную к баку, по которой мистер Сноупс лазил наверх, чтобы открыть люк и выпустить из бака газ.
Мистер Сноупс, видно, думал, что газ почти уже вышел, но при этом оба они, должно быть, подумали, что оставшегося газа хватит для того, чтобы Седрик отравился, если залезет внутрь. Потому что, как сказала миссис Наннери, оба они подумали, что Седрик там, мертвый; сна была так уверена в этом, что не могла ждать ни секунды, и уже бежала, сама не зная куда, просто бежала, когда мистер Сноупс вынес из своей «конторы» зажженный фонарь, и все бежала, пока он лез по лестнице, все бежала, когда он спустил фонарь на веревке в люк; и она сказала, что все бежала, когда взрыв (она сказала, что даже не слышала его, не слышала ничего, иначе она остановилась бы) сбил ее с ног и в воздухе вокруг, как рой шмелей, зажужжали осколки бака. И мистер Харкер с электростанции, который прибежал туда первый и нашел ее, сказал, что, как только он ее поднял, она снова порывалась бежать, вскрикивая и молотя руками воздух, а он держал ее, пока не заставил сесть, и дал ей виски, а тут подоспели остальные и стали переворачивать обломки кирпича, искали какие-нибудь следы Седрика и мистера Сноупса, но тут сам Седрик прибежал что было духу по путям, оказывается, когда грохнул взрыв, он играл возле дренажной трубы в полумиле от бака.
А мистера Сноупса так и не нашли до следующего утра, когда Том-Том Бэрд, кочегар с электростанции, по дороге на работу от своего дома, стоявшего в двух милях от электростанции по железнодорожному полотну, увидел, что на телеграфных проводах, ярдах в двухстах от того места, где стоял бак, что-то висит, взял длинную палку и сбил эту штуку, а когда пришел на электростанцию, показал ее мистеру Харкеру, и оказалось, что это стальной ошейник мистера Сноупса, хотя от ремней ни клочка не уцелело.
Но никаких останков самого мистера Сноупса не нашли; хороший он был человек, и все его любили, – сидел себе на стуле у дверей «конторы», откуда он мог видеть бак, или прохаживался вокруг него, пока керосин наливали в бидоны, ведра и канистры, в стальном ошейнике, так что он не мог повернуть головы: ему приходилось поворачиваться всем туловищем, словно он был деревянный. Его знали все мальчишки в городе, потому что очень скоро они пронюхали, что он привез из деревни целый мешок земляных орехов и оделял ими всех детишек, которые проходили мимо.
Кроме того, он еще принадлежал к масонам. Принадлежал так давно, что стал хорошим масоном, хоть и не достиг высокого положения в ордене. Так что этот ошейник похоронили, как положено, в гробу, погребением распоряжались масоны, и было прислано больше цветов, чем можно было ожидать, даже от нефтяной компании, хотя мистер Сноупс зря взорвал их бак, потому что в нем даже не было Седрика Наннери.
В общем, похоронили то, что нашлось; на похоронах был баптистский проповедник, и масоны в своих фартуках бросали комья земли в могилу, приговаривая: «Увы, брат мой», – и устлали свежую рыжую землю цветами (в один из цветков был вставлен масонский знак); а бак был застрахован, так что нефтяная компания не стала проклинать мистера Сноупса за то, что он, взрослый человек, свалял такого дурака, и они выплатили миссис Сноупс тысячу долларов, выразив ей этим свое соболезнование, хоть она и вышла замуж за болвана. Или, вернее, они отдали деньги миссис Сноупс потому, что ее старшему сыну Уоллстриту еще не было тогда шестнадцати. А воспользовался ими все равно он.
Но все это было позже. А тогда все кончилось тем, что мэр де Спейн, который уже столько времени состоял командиром, дождался наконец случая ударить в свой колокол и поднять тревогу, а мы могли сообщить дяде Гэвину кое-какие свежие новости о Сноупсе. Теперь, когда я говорю «мы», это значит «я». Родители Гауна наконец вернулись из Китая или еще откуда-то, и Гаун уехал в Вашингтон (была осень), чтобы там кончить школу и на следующий год поступить в Виргинский университет, и однажды мама велела позвать меня в гостиную, а там сидел Рэтлиф в своей аккуратной синей вылинявшей рубашке без галстука, с невозмутимым выражением на смуглом лице, словно светский гость (на столе стоял чайный поднос, и у Рэтлифа в руках была чашка с чаем и бутерброд с огурцом, а я теперь знаю, что многие в Джефферсоне, не говоря уже о том округе, откуда Рэтлиф был родом, понятия не имели, что делать с чашкой чая в четыре часа дня, и, может быть, сам Рэтлиф никогда такого не видывал, но только, глядя на него, никто бы этого не подумал), и мама сказала:
– Поздоровайся с мистером Рэтлифом, малыш. Он зашел нас проведать, – а Рэтлиф сказал:
– Так вот как вы его зовете? – а мама сказала:
– Да нет же, мы его зовем, как придется, – а Рэтлиф сказал:
– Бывает, мальчишку по имени Чарльз, когда он в школу пойдет, начинают звать Чиком. – А потом он меня спросил: – Ты клубничное мороженое любишь? – И я ответил:
– Я всякое люблю, – и тогда Рэтлиф сказал:
– В таком случае, может быть, твой двоюродный брат тебе говорил… – И замолчал, а потом сказал маме: – Простите, миссис Маллисон, меня столько раз поправляли, что, кажется, мне еще нужно время, чтобы привыкнуть.
И с тех пор за Сноупсами следили мы с Рэтлифом, а не Гаун с Рэтлифом, только вместо двух порций мороженого Рэтлифу приходилось покупать три, потому что, когда я ездил в город без мамы, со мной был Алек Сэндер. Не знаю, как, и тем более не могу вспомнить когда, потому что мне еще и пяти лет не было, но Рэтлиф и мне вбил в голову, как и Гауну, ту же мысль, что Сноупсы заполонили Джефферсон, как змеи или хищные лесные звери, и только они с дядей Гэвином понимают опасность, которая всем нам грозит, и теперь ему приходится нести крест одному, пока наконец не кончится война, и тогда дядя Гэвин вернется и поможет ему. – Пора уже тебе об этом знать, – сказал он, – хотя тебе только пять лет. Все равно тебе еще многое предстоит узнать, прежде чем ты подрастешь и сам сможешь с ними бороться.
Был ноябрь. И вот наступил день, когда колокол во дворе суда снова зазвонил, и на этот раз вместе с ним зазвонили все церковные колокола – бешено и яростно, посреди недели, хотя обычно в них звонили только по воскресеньям, и раздалось несколько ружейных и револьверных выстрелов, – так на открытии памятника солдатам Конфедерации стреляли старые ветераны, которые еще были в живых, только эти, нынешние, еще не бывали на войне, так что, может, теперь они ликовали потому, что эта война кончилась прежде, чем им пришлось на ней побывать. Теперь дядя Гэвин мог вернуться домой, и Рэтлиф сам мог спросить у него, что же такое сделал Монтгомери Уорд Сноупс, что даже его имени упоминать нельзя. И тогда Рэтлиф сказал мне:
– Пора бы тебе уж привыкнуть к этим разговорам, хоть тебе всего пять лет. – И тогда же он сказал: – Как ты думаешь, что он сделал? Твой двоюродный брат десять лет наблюдал за Сноупсами; одного он даже довез до самой Франции, лично позаботился, чтоб тот шел в ногу с веком. Как ты думаешь, что такое мог сделать Сноупс, чтобы после этих десяти лет удивить, ошарашить его настолько, что он даже слышать о нем не хочет?
А может, он это только собирался сказать, но не сказал, потому что дядя Гэвин приехал домой на две недели. Он освободился от военной формы, от армии, от АМХ, но как только он от всего этого освободился, его включили в какой-то там совет, или комиссию, или бюро по ликвидации последствий войны в Европе, потому что он так долго жил в Европе, да к тому же два года учился в Германии. И, может, он вообще вернулся домой только потому, что в последний год войны умер дедушка, и он приехал повидать нас, как принято делать, когда люди теряют близких. Но я тогда думал, что он приехал рассказать Рэтлифу что-то ужасное про Монтгомери Уорда Сноупса, о чем нельзя даже написать в письме. Это было, когда Рэтлиф сказал, что мне многое предстоит узнать, подразумевая, что, если он, Рэтлиф, опять один должен нести крест, я, по крайней мере, могу хоть этим ему помочь.
И вот однажды – мама теперь иногда отпускала меня в город одного, я хочу сказать, иногда она просто не замечала, что я ухожу, и не говорила: «Ну-ка, вернись». Или нет: я хочу сказать, она поняла, что мне не нравится, когда она со мной слишком строга, – однажды я услышал голос Рэтлифа: «Иди сюда». Он продал свой фургончик и упряжку, и теперь у него был форд с маленьким раскрашенным домиком на месте заднего сиденья, а внутри домика – швейная машина; такие автомобили теперь называют пикапами, но этот пикап Рэтлиф с дядей Нуном Гейтвудом сделали сами. Рэтлиф сидел за рулем и уже открыл дверцу, и я сел рядом, а он захлопнул дверцу, и мы медленно поехали по окраинным улицам.
– Так сколько тебе лет? – спросил он. И я снова сказал ему: пять. – Ну, с этим уж ничего не поделаешь, правда?
– С чем ничего не поделаешь? – сказал я. – Почему?
– Если подумать, может, ты и прав, – сказал он. – А теперь нам надо съездить тут неподалеку. С Монтгомери Уордом Сноупсом произошло вот что – он ушел из действующей армии и занялся делом.
– Каким делом? – спросил я.
– Занялся… занялся солдатской лавкой. Да, лавкой. Вот что он делал, когда был с твоим двоюродным братом в Европе. Они стояли в городе, который назывался Шалон, и твоему двоюродному брату нужно было оставаться в этом городе по долгу службы, и он поручил Монтгомери Уорду, который был всех свободнее, открыть солдатскую лавку в другом городке неподалеку, для удобства солдат, – это такой домик с прилавком, как в магазине, где солдаты могли купить конфеты, газировку и носки ручной вязки, когда они не дрались с немцами, – так сказал нам на той неделе твой двоюродный брат, помнишь? Только в скором времени лавка Монтгомери Уорда стала пользоваться самым большим успехом среди армейских лавок и даже среди лавок АМХ во всей Франции и вообще всюду, таким успехом, что твой двоюродный брат наконец сам поехал поглядеть, что там такое, и увидел, что Монтгомери Уорд сломал заднюю стену и устроил комнату для развлечений с отдельным входом и поместил там молодую француженку, свою знакомую, так что, когда солдату надоедало просто покупать носки или жевать шоколад, он мог купить у Монтгомери Уорда билет, пойти в заднюю комнату и получить удовольствие за свои деньги.
Вот что увидел твой двоюродный брат. Да только в уставе армии и АМХа была какая-то статья против таких развлечений; они считали, что солдат должен довольствоваться одними носками и газировкой. Или, может, вмешался твой двоюродный брат; да, похоже, что это он. Потому что, если бы армия и АМХ узнали об этой задней комнате, они вышвырнули бы Монтгомери Уорда вон, и он вернулся бы в Джефферсон в наручниках, если б только не застрял в Ливенуорте [5], штат Канзас. Помнится, я как-то сказал другому твоему двоюродному брату, Гауну, давно, когда тебя еще и в помине не было: тот, кто потерял Елену Троянскую, в один прекрасный день может пожелать, чтоб он ее вовсе никогда не встречал.
– Как это? – сказал я. – Где я был, если меня не было?
– Ну конечно, это все твой двоюродный брат. Монтгомери Уорд мог бы даже накопить со входных билетов в эту развлекательную комнату достаточно денег, чтоб откупиться и выпутаться из истории. Но ему это было ни к чему. Его твой брат выручил. Монтгомери Уорд, знал это или нет, хотел этого или нет, был как бы власяницей, надетой на память о погибшей любви и верности твоего двоюродного брата. Или, может, все дело было в Джефферсоне. Может, твой двоюродный брат не вынес бы мысли, что в Ливенуортскую тюрьму попадет гражданин Джефферсона, пусть даже благодаря этому в самом Джефферсоне станет одним Сноупсом меньше, Так что похоже – он это сделал, а потом сказал: «Но чтоб я больше тебя не видел во Франции».
Это значило – никогда не показывайся мне на глаза, потому что Монтгомери Уорд был власяницей: похоже, твой двоюродный брат испытал тот же гордый, жалкий, торжествующий, смиренный ужас перед своей твердостью, что и те древние отшельники, которые удалялись в пустынь и, полные несокрушимой твердости, сидели на камнях под палящим солнцем, и оно сушило их кровь и скрючивало ноги, а Монтгомери Уорд меж тем заводил все новых развлекательных дамочек в своей новой лавке, которую открыл в Париже…
– В солдатских лавках бывает шоколад и газировка, – сказал я. – Так говорил дядя Гэвин. И еще – жевательная резинка.
– Но ведь это американская армия, – сказал Рэтлиф. – Она воевала так недолго, что, видно, не успела к этому привыкнуть. А новая лавка Монтгомери Уорда, можно сказать, была французской лавкой, у него были лишь частные связи с американскими военными. Французы воевали достаточно, вон у них сколько войн было, и они давно поняли, что лучший способ избавиться от чего-нибудь – не обращать на это слишком много внимания. В самом деле, французы, вероятно, думали, что такая лавка, какую открыл на этот раз Монтгомери Уорд, самая платежеспособная, экономичная и, так сказать, самоокупающаяся на свете, потому что сколько бы денег ни взять за мороженое, и шоколад, и газировку, деньги, конечно, никуда не денутся, но этого шоколада, мороженого и газировки уже нет, они съедены или выпиты, и надо потратить часть этих денег, чтобы снова все это возместить, возобновить запас, тогда как чистое развлечение не потребляется, запас его не нужно возобновлять, затрачивая труд и деньги: налицо лишь общий и абсолютный износ, который так или иначе неизбежен.
– Может быть, теперь Монтгомери Уорд не вернется в Джефферсон, – сказал я.
– Я бы на его месте не вернулся, – сказал Рэтлиф.
– А вдруг он привезет с собой свою лавку, – сказал я.
– В этом случае я бы уж наверняка не вернулся, – сказал Рэтлиф.
– Это вы все о дяде Гэвине? – сказал я.
– Ах, прости, – сказал Рэтлиф.
– А почему вы его не называете дядей Гэвином? – сказал я.
– Ах, прости, – сказал Рэтлиф. – Да, он тебе дядя. Это твой двоюродный брат Гаун (кажется, на этот раз я сказал правильно?) меня запутал, но теперь уж я не забуду. Даю слово.
Монтгомери Уорд не приезжал еще два года. Но только когда я стал постарше, я понял, что Рэтлиф имел в виду, когда сказал, что Монтгомери Уорд из кожи вылезет, только бы привезти домой какое-нибудь приемлемое для Миссисипи объяснение, что у него была в Париже за лавка. Он был последний солдат из Йокнапатофы, который вернулся домой. Из роты капитана Маклендона один был ранен в первом же бою, в котором участвовали американские войска, и вернулся в 1918 году в форме и с нашивкой за ранение. Потом, в начале 1919 года, вернулась вся рота, только двое солдат умерли от гриппа и несколько лежало в госпитале, и все вернувшиеся некоторое время разгуливали в военной форме по площади. А в мае появился один из близнецов – внук Сарториса (другой был убит в июле прошлого года), служивший в Британских воздушных силах, но на нем никакой формы не было, – а был у него только большой низкий гоночный автомобиль, рядом с которым маленький красный автомобильчик мэра де Спейна казался игрушечным, и он носился в нем по городу в те короткие промежутки, когда мистер Коннорс не арестовывал его за превышение скорости, но большей частью, примерно раз в неделю, ездил в Мемфис и обратно, все привыкал, Или, вернее, это мама говорила, что он пытается привыкнуть.
А только и он, видно, не мог привыкнуть как следует, похоже, что война и его доконала. Это я о Монтгомери Уорде Сноупсе, он, видно, никак не мог от нее отвыкнуть и вернуться домой, а Баярд Сарторис домой-то вернулся, но привыкнуть не мог и с такой скоростью гонял на машине между усадьбой Сарториса и Джефферсоном, что полковник Сарторис, который ненавидел автомобили не меньше моего деда и даже ссуды из банка не выдавал человеку, который собирался купить автомобиль, бросил свой экипаж и отличных лошадей и стал ездить в город и обратно домой с Баярдом, надеясь, что Баярд, пока он не угробился сам или еще кого не угробил, станет ездить помедленней.
В конце концов Баярд угробил человека, как все мы (взрослые в округе Йокнапатофа) ожидали, и это был его собственный дед. Мы не знали, что у полковника Сарториса было плохое сердце; доктор Пибоди сказал ему об этом три года назад и запретил даже близко подходить к автомобилям. Но полковник Сарторис никому об этом не сказал, даже своей сестре, миссис Дю Прэ, которая вела у него хозяйство: просто стал каждый день ездить на этой машине в город и обратно, чтобы Баярд так не гнал (они даже каким-то образом убедили мисс Нарциссу Бенбоу выйти за него замуж, надеялись, что так он скорей привыкнет), но однажды утром они с дедом спускались с холма со скоростью миль пятьдесят в час, а на дороге подвернулся фургон с негритянской семьей, и Баярд сказал: «Держись, дедушка», – и свернул прямо в овраг; автомобиль не перевернулся и даже остался целехонек; он просто остановился в овраге, но полковник Сарторис сидел неподвижно и глаза у него еще были открыты.
Так что банк лишился своего президента, и тут-то мы узнали, кому же принадлежали все акции: оказывается, полковник Сарторис и майор де Спейн, отец мэра де Спейна, при жизни владели двумя самыми большими пакетами, а старый Билл Уорнер с Французовой Балки владел третьим. И мы думали, что, может, Байрон Сноупс получил в банке место не просто потому, что его предок служил в кавалерии под началом отца полковника Сарториса, но, может, тут не обошлось без старого Билли Уорнера. Только мы никогда этому всерьез не верили, потому что достаточно знали полковника Сарториса, знали, что ему достаточно было пойти один раз с человеком в разведку или даже просто посидеть с ним у походного костра, чтобы его раскусить.
Конечно, немало акций, может, даже больше, чем у этих троих, было по мелочам у многих семей, скажем, у Компсонов, Бенбоу, Пибоди, у мисс Юнис Хэбершем, у нас да еще у целой сотни фермеров в нашем округе. Но лишь после того, как мэр де Спейн был избран президентом на место полковника Сарториса (и, собственно говоря, именно поэтому), мы узнали, что мистер Флем Сноупс уже не первый год всюду, где только мог, скупает акции, от одной до десятка; этих акций вместе с акциями мистера Уорнера и мэра де Спейна, которому они достались от отца, было бы достаточно, чтобы ему из вице-президента стать президентом (событий было столько, что пока, так сказать, не улеглась пыль, мы даже не заметили, что мистер Флем Сноупс теперь тоже стал вице-президентом), даже если бы миссис Дю Прэ и жена Баярда (сам Баярд в конце концов угробился, испытывая в Огайо новый самолет, на котором, как говорили, никто другой не хотел летать и самому Баярду лететь на нем тоже не было никакой надобности) не проголосовали за него.
Мэр де Спейн ушел в отставку, продал свое автомобильное агентство и стал президентом банка как раз вовремя. Банк полковника Сарториса был государственным банком, потому что, как сказал Рэтлиф, полковник Сарторис, видно, знал, что деревенским людям это покажется надежнее и они скорее рискнут десятком долларов, положив их в банк, не говоря уж о вдовах и сиротах, поскольку женщины, даже если они не вдовы, никогда не верили ни в какие мужские затеи, не говоря уж о деньгах. И Рэтлиф сказал, что по случаю смены президента правительству придется прислать кого-нибудь, чтобы ревизовать счетные книги, хотя для годовой ревизии было еще не время; и в то утро, в восемь часов, два ревизора уже ждали около банка, пока кто-нибудь отопрет дверь и впустит их, что должен был сделать Байрон Сноупс, но он не показывался. Пришлось им дожидаться еще кого-нибудь, у кого есть ключ; и дверь отпер мистер де Спейн.
А в четверть девятого, примерно через тринадцать минут после того, как ревизоры хотели приняться за книги, которые вел Байрон, мистер де Спейн узнал в гостинице Сноупса, что никто не видел Байрона со вчерашнего вечера, после того как прошел поезд на юг в девять двадцать две, а к полудню все знали, что Байрон, верно, уже в Техасе, хотя до Мексики ему остается еще примерно день пути. Но только через два дня главный ревизор приблизительно подсчитал, сколько не хватает денег; и тогда было созвано правление банка, и даже мистер Уорнер, которого в Джефферсоне видели не каждый год, приехал и слушал главного ревизора почти целую минуту, а потом сказал:
– К черту полицию. Пошлите кого-нибудь на Французову Балку за моим револьвером, а потом покажите мне, в какую сторону он удрал.
Но это было ничто по сравнению с тем шумом, который поднял сам мистер де Спейн, и весь Джефферсон это видел и слышал, а на третий день Рэтлиф сказал, хоть я и не понял, что он имел в виду: – Так вот, значит, сколько их было. По крайней мере, теперь мы знаем, чего стоит миссис Флем Сноупс. Теперь твоему дяде, когда он приедет, нечего будет думать о том, сколько он потерял, раз теперь он сможет точно, до последнего цента, узнать, сколько он сберег. – Потому что сам банк не пострадал. Ведь это государственный банк, и деньги, которые украл Байрон, будут возмещены, поймают Байрона или нет. Мы наблюдали за мистером де Спейном. Поскольку деньги его отца помогли полковнику Сарторису основать банк и сам мистер де Спейн был его вице-президентом, то даже если б он не стал президентом как раз перед тем, как ревизоры решили проверить книги Байрона Сноупса, он все равно, как мы думали, настоял бы на возмещении всех денег, до единого цента. Мы ожидали услышать, что он заложил свой дом, а когда не услышали этого, то просто решили, что он нажился на своем автомобильном агентстве, скопил и сберег деньги, о которых мы не знали. Потому что ничего другого мы от него не ждали; и когда на следующий день было созвано новое экстренное заседание правления, а еще через день объявлено, что президент добровольно возместил из своих личных средств украденные деньги, мы даже не удивились. Как сказал Рэтлиф, мы настолько не удивились, что лишь через два или три дня до нас дошло: а ведь, кажется, тогда же было объявлено и о том, что мистер Флем Сноупс стал вице-президентом банка.
Теперь – прошел еще год – последние двое джефферсонских солдат вернулись домой навсегда или, во всяком случае, покамест навсегда: дядя Гэвин наконец вернулся из истерзанной войной Европы, которую он восстанавливал, и его выбрали прокурором округа, а через несколько месяцев вернулся и Монтгомери Уорд Сноупс, только он вернулся покамест навсегда, как Баярд Сарторис. На нем тоже была не военная форма, а черный костюм и какое-то удивительно черное пальто без рукавов, на голове набекрень надета какая-то черная штука из черного вельвета, похожая на пустой бычий пузырь, а на шее длинный, со свободными концами, галстук; он отпустил длинные волосы, бороду, и с его приездом у нас в Джефферсоне появился новый сноупсовский промысел. Название этого предприятия, написанное на стекле витрины, даже Рэтлиф не мог объяснить, и когда я поднялся по лестнице в кабинет, где дядя Гэвин ждал Нового года, с наступлением которого он станет прокурором округа, и сказал ему об этом, он добрых две секунды сидел неподвижно, а потом вскочил и пошел прямо к двери.
– Покажи, где это, – сказал он.
Мы пошли туда, где нас ждал Рэтлиф. Это была лавка на углу переулка, с боковой дверью, выходившей в переулок; маляр как раз кончал выводить на оконном стекле причудливыми буквами:
АТЕЛЬЕ МОНТИ
а внутри, за стеклом, мы увидели Монтгомери Уорда все с той же французской штукой на голове (дядя Гэвин сказал, что это баскский берет), но без пиджака. Мы тогда внутрь не вошли: дядя Гэвин сказал: – Уйдем. Пусть сперва кончит. – Но Рэтлиф не ушел. Он сказал:
– А вдруг я могу ему помочь? – Но дядя Гэвин взял меня за руку.
– Если ателье значит просто фотография, почему же он так и не написал? – спросил я.
– М-да, – сказал дядя Гэвин. – Я сам хотел бы это знать. – И хотя Рэтлиф вошел, он там все равно ничего не увидел. И вид у него был совсем как у меня.
– Фотография, – сказал он. – Интересно, почему он так прямо и не написал?
– Дядя Гэвин тоже не знает, – сказал я.
– А я знаю, – сказал Рэтлиф. – Я никого и не спрашивал. Я только просто примеривался. – Он поглядел на меня. Потом моргнул раза два или три. – Фотография, – сказал он. – Ну, конечно, ты еще не дорос до этого. Это фотографическое ателье. – Он снова моргнул. – Но зачем оно ему? Судя по тому, что он делал во время войны, он не такой человек, чтобы удовлетвориться каким-нибудь пустяком, как волей-неволей привыкли мы, домоседы, в округе Йокнапатофа.
Но больше мы тогда ничего не узнали. Потому что на другой день он велел завесить окно газетами, чтоб нельзя было заглянуть внутрь, и дверь была на запоре, и мы видели только посылки от Сирса и Роубэка из Чикаго, которые он приносил с почты, и, внеся их, сразу же снова запирал дверь.
А в среду, когда вышел очередной номер городской газеты, чуть не половина первой страницы была занята объявлением о вернисаже, в котором говорилось: «Особо приглашаются дамы», а внизу стояло: «Чай».
– Что? – сказал я. – А я думал, это будет фотография.
– Так и есть, – сказал дядя Гэвин. – А заодно там можно выпить чашку чая, только зря он деньги потратил. Все женщины города и половина мужчин пойдут и без того, только чтоб узнать, отчего он держал дверь на запоре. – И мама уже сказала, что пойдет.
– Ну, ты-то, конечно, не пойдешь, – сказала она дяде Гэвину.
– Ладно, сдаюсь, – сказал он. – Значит, большинство мужчин пойдут. – Он был прав, церемония открытия продолжалась весь день, чтобы все, кто приходил, могли принять в ней участие. Монтгомери Уорду пришлось бы пускать публику по частям, даже если бы лавка была пустая, как в тот день, когда он ее арендовал. Но теперь в ней не поместилось бы разом и десяти человек, до того она была набита всякими вещами и всюду висели длинные, до полу, черные драпировки, а когда их раздергивали с помощью специальных блоков, казалось, что смотришь из окна, и он сказал, что один вид – это панорама Парижа, другой – мосты через Сену и всякие там набережные, третий – Эйфелева башня, четвертый – собор Парижской богоматери, и еще там были кушетки с черными подушками и столы, уставленные вазами и чашами, в которых горело что-то очень пахучее; и сперва даже фотоаппарата не замечаешь. Но потом замечаешь и его, и дверь в задней стене, и тут Монтгомери Уорд сказал быстро, и уже двинулся к ней, прежде чем успел сообразить, что, может, ему лучше не делать этого:
– Здесь лаборатория. Она еще закрыта.
– Простите? – сказал дядя Гэвин.
– Здесь лаборатория, – сказал Монтгомери Уорд. – Она еще закрыта.
– А вы думаете, мы ждем, что лаборатория будет открыта для публики? – сказал дядя Гэвин.
Но Монтгомери Уорд уже подавал миссис Раунсвелл вторую чашку чая. Да, конечно, была там и ваза с цветами; в газетном объявлении так и было напечатано: «Цветы от Раунсвелл», и я сказал дяде Гэвину: «А кто же еще в Джефферсоне цветы продает, кроме как миссис Раунсвелл, а?» И он сказал, что она, вероятно, уплатила половину за объявление и дала вазу с шестью пышными розами, оставшимися от последних похорон, а потом она, вероятно, эти розы снова пустит в продажу. Он сказал, что он имел в виду ее торговлю и надеется, что не ошибся. Тут он с минуту поглядел на дверь, потом на Монтгомери Уорда, наливавшего чай миссис Раунсвелл. – Начинается с чая, – сказал он.
И мы ушли. Нужно было освободить место. – А откуда он денег возьмет, если всегда будет бесплатно поить всех чаем? – сказал я.
– Завтра он уже никого поить не будет, – сказал дядя Гэвин. – Это была лишь приманка. Приманка для дам. А теперь я тебя спрошу: зачем ему понадобилось, чтобы пришли джефферсонские дамы, все в один день, и поглядели на его притон? – Теперь он говорил совсем как Рэтлиф; а тот будто случайно вышел из скобяной лавки, как раз когда мы проходили.
– Ну что, попили чаю? – спросил дядя Гэвин.
– Чаю, – сказал Рэтлиф. Нет; он не переспросил. Просто сказал. Он смотрел на дядю Гэвина и моргал.
– Да, – сказал дядя Гэвин. – И мы тоже. А лаборатория еще закрыта.
– А должна открыться? – спросил Рэтлиф.
– Да, – сказал дядя Гэвин. – Мы там были.
– Может, я чего разузнаю, – сказал Рэтлиф.
– Вы даже на это надеетесь? – сказал дядя Гэвин.
– Может, я чего услышу, – сказал Рэтлиф.
– Вы даже на это надеетесь? – сказал дядя Гэвин.
– Может, кто-нибудь другой чего узнает, а я, может, окажусь поблизости и услышу, – сказал Рэтлиф.
Вот и все. Монтгомери Уорд больше никого не поил даровым чаем, но немного погодя в витрине у него стали появляться фотографии – все лица знакомые: дамы с детьми и без детей, ученики старших классов и красивые девушки в выпускных платьях или иногда чета новобрачных из захолустья, и вид у них немного скованный, неловкий и чуть-чуть вызывающий, и у него на лбу тонкая белая полоска между загаром и подстриженными волосами, а иногда супруги, которые поженились пятьдесят лет назад, мы знали их давным-давно, но прежде не понимали, до чего ж у них одинаковые лица, не говоря уж о том, что у обоих было одинаково удивленное выражение, хотя неизвестно, чему они удивлялись «тому ли, что их сфотографировали, или тому, что они так долго прожили вместе.
И даже когда мы начали понимать, что вот уже два года не просто одни и те же люди, но те же их фотографии остаются на том же месте, словно вдруг, с тех пор как Монтгомери Уорд открыл свое ателье, в Джефферсоне перестали кончать школу и жениться, и даже женатых людей не стало, Монтгомери Уорд все время был чем-то занят – то ли делал новые фотографии, которые не выставлял в окне, то ли, может быть, просто размножал и продавал старые, чтобы было чем платить аренду и не пришлось закрыть ателье. Он был занят, и, видно, работа у него была главным образом ночная, лабораторная, потому что теперь мы начали понимать, что главное свое дело он делает по ночам; как будто ему и впрямь нужна была темнота, и клиенты у него теперь были все больше мужчины, – в большой комнате, где происходила церемония открытия, теперь было темно, и клиенты входили и выходили через боковую дверь с переулка; и это все были такие люди, что им вряд ли и в голову могло прийти сфотографироваться. А дело все расширялось; на второе лето мы начали замечать, что клиенты – мужчины, обычно такие же молодые, как и его джефферсонские посетители, – стали приезжать из ближних городов и входили по ночам через боковую дверь, чтобы отдать или взять снимки, или негативы, или не знаю уж, что они там брали или отдавали.
– Нет, нет, – сказал дядя Гэвин Рэтлифу. – Не может быть. В Джефферсоне это просто немыслимо.
– Некоторые говорили, что в Джефферсоне и банк немыслимо ограбить, – сказал Рэтлиф.
– Но ее же нужно кормить, – сказал дядя Гэвин, – и хоть иногда выводить на прогулку, подышать воздухом.
– Куда выводить? – спросил я. – И кого выводить?
– Но и спиртного там тоже никак не может быть, – сказал Рэтлиф. – Первое ваше предположение, по крайней мере, допускало, что все делается тихо, чего нельзя сказать о торговле виски.
– Какое первое предположение? – сказал я. – Кого выводить? – Потому что виски или азартными играми тут и не пахло; Гровер Кливленд Уинбуш (тот, что владел на паях с Рэтлифом ресторанчиком, пока Флем Сноупс и его оттуда не выпер. Теперь он служил ночным полисменом) сам об этом подумал. Он явился к дяде Гэвину даже прежде, чем дяде Гэвину пришло в голову вызвать его или мистера Бака Коннорса, и сказал дяде Гэвину, что он чуть ли не целыми ночами следил, наблюдал, глаз не спускал с этой фотостудии и теперь совершенно убежден, что никакого пьянства, или торговли виски, или игры в кости или в карты в лаборатории у Монтгомери Уорда не бывает; что все мы дорожим доброй славой Джефферсона и хотим оградить его от грязного разврата и преступлений больших городов, и он – больше всякого другого. Все это время он, вместо того чтобы уютно сидеть в своем кресле в полицейском участке, дожидаясь, пока придет время делать очередной обход, торчал по ночам около фотографии, но ни разу не мог даже заподозрить игру в кости или пьянство и не замечал, чтобы от кого-нибудь из клиентов, выходивших от Монтгомери Уорда, пахло бы спиртным, или кто-нибудь хотя бы с виду был похож на пьяного. Больше того, Гровер Кливленд сказал, что однажды днем, когда не только его законное право, но и служебный долг требует, чтоб он спал у себя дома, вот как сейчас, когда он, жертвуя своим отдыхом, приехал в город доложить обо всем дяде Гэвину, как прокурору округа, хотя у него еще нет полномочий, не говоря уж о том, что по справедливости все это должен был сделать сам Бак Коннорс, он, Гровер Кливленд, вошел через парадное с намереньем пройти прямо в лабораторию, даже если ему придется для этого взломать дверь, потому что граждане Джефферсона оказали ему доверие, сделали его ночным полицейским, чтобы не допустить преступлений и разврата больших городов, всяких азартных игр и пьянства, но, к его удивлению, Монтгомери Уорд не только не попытался его остановить, а не дожидаясь просьбы, сам распахнул дверь лаборатории и предложил Гроверу Кливленду ее осмотреть.
Так что Гровер Кливленд убедился и хотел убедить джефферсонцев, что в этой задней комнате нет ни пьянства, ни азартных игр, ни другого какого разврата, ничего такого, что могло бы заставить добрых христиан в Джефферсоне пожалеть о том доверии, которое они ему оказали, сделав его полисменом, и поступить так было его священным долгом, даже если бы он дорожил честью Джефферсона не больше любого рядового гражданина, и если он может быть полезен дяде Гэвину еще чем-нибудь во исполнение своего святого долга, то пусть дядя Гэвин только слово скажет. Потом он вышел и уже за дверью остановился и сказал:
– Здрасьте, В.К., – и ушел. И тогда Рэтлиф вошел в кабинет.
– Он прошел через площадь и поднялся по лестнице с таким важным видом, словно нашел что-то, – сказал Рэтлиф. – Но, по-моему, ничего он не нашел. По-моему, Монтгомери Уорду Сноупсу было бы не труднее выставить его из этой студии, чем Флему Сноупсу – из нашего ресторана.
– Нет, – сказал дядя Гэвин. Потом он сказал: – Какое у Гровера Уинбуша было в молодости любимое развлечение?
– Развлечение? – сказал Рэтлиф. Потом сказал: – Ах да… Он любил распалиться.
– Как это распалиться? – сказал дядя Гэвин.
– Распалиться от разговорчиков, – сказал Рэтлиф.
– Каких разговорчиков? – сказал дядя Гэвин.
– Да насчет этого самого, – сказал Рэтлиф. Он как будто посмотрел на меня. Или нет: он как будто на меня не посмотрел. Или нет, и это тоже неверно, потому что, даже пристально следя за ним, нельзя было сказать, что он хоть на мгновение перестал смотреть на дядю Гэвина. Он моргнул два раза: – Любил распалиться по женской части, – сказал он.
– Правильно, – сказал дядя Гэвин. – Но как?
– Вот именно, – сказал Рэтлиф. – Как?
Потому что мне тогда шел девятый год, и если дядя Гэвин и Рэтлиф, которые были втрое меня старше, причем один из них побывал в самой Европе, а другой оставил по крайней мере один след на каждой окольной дороге, на каждом проселке, на каждой тропе и на каждом перекрестке в Йокнапатофском округе, не знали, что это такое, пока кто-то не пришел и не сказал им, ничего удивительного нет в том, что не знал и я.
И было еще одно дело, связанное с тем, что Рэтлиф теперь называл сноупсовским промыслом, но дядя Гэвин не хотел его так называть, потому что он все еще не хотел верить, что Эк был Сноупсом. Это я про сына Эка, Уоллстрита-Панику, и судя по тому, как он взялся за дело, едва попал в Джефферсон и огляделся, и, кажется, впервые в жизни обнаружил, что вовсе не обязательно действовать, как Сноупс, чтобы дышать, он, независимо от того, был ли его отец Сноупсом или нет, конечно, Сноупсом не был.
Говорили (ему было лет двенадцать, когда они переехали в Джефферсон с Французовой Балки), что, как только он приехал в город и узнал, что тут есть школа, он не только настоял, чтобы родители пустили его учиться, но и брата своего, Адмирала Дьюи, которому было всего шесть лет, тоже взял с собой, и оба они вместе начали с приготовительного класса, куда матери приводили малышей, которые не могут усидеть на месте больше, чем полдня, и Уоллстрит торчал среди них, как лошадь в пруду среди утят.
Но он не стыдился ходить в этот детский сад: ему было только стыдно там задерживаться, и он оставался там не больше чем полдня, а через неделю уже был в первом классе и к рождеству – во втором, и мисс Вейден Уайотт, учительница второго класса, начав помогать ему, объяснила, что такое Уоллстрит и паника, и сказала, что его не следовало так называть, и, занимаясь с ним все следующее лето, помогла ему пройти третий класс, и когда осенью он поступил в четвертый, его звали уже просто Уолл Сноупс, потому что она сказала ему, что Уолл – хорошее имя, принятое в Миссисипи, был даже один генерал Уолл, так что он, если хочет, может отбросить «стрит», и в первый же день он сказал, и всегда, когда его спрашивали, отчего он так хотел поступить в школу, повторял:
– Я хочу научиться считать деньги.
И когда дядя Гэвин услышал об этом, он сказал:
– Вот видите! Выходит, я был прав: все равно каждый Сноупс хочет научиться считать деньги, хотя ему это ни к чему, вы за него и так сосчитаете, не то вам же хуже будет.
Ему, я говорю об Уолле, нужно было научиться считать деньги. Даже в ту первую зиму, пока он учился в первом и втором классе, он еще и работал. Рядом с ресторанчиком Сноупса, за которым они жили в палатке, была бакалейная лавчонка примерно такого же пошиба, что и Сноупсов ресторан. Каждое утро Уолл вставал задолго до начала занятий, а дни становились все короче, и скоро он вставал уже в темноте, растапливал железную печку и подметал лавку, а днем, когда приходил из школы, еще развозил покупки на тачке, пока хозяин лавки не купил ему наконец подержанный велосипед и стал каждую неделю вычитать у него за это из жалованья.
А по субботам и по праздникам он еще работал в лавке за приказчика зиму и все лето, пока мисс Уайотт помогала ему пройти третий класс, и даже это было не все: его достаточно хорошо знали в городе, и ему поручили разносить одну из мемфисских газет, но только к тому времени он был так занят другими своими делами, что перепоручил это брату. А на следующую осень, когда он был уже в четвертом классе, ему удалось заполучить еще и джексонскую газету, и теперь, кроме Адмирала Дьюи, на него работали еще двое мальчишек, так что к этому времени каждый лавочник, или скототорговец, или проповедник, или кандидат, все, кто хотел распространить какие-нибудь проспекты, шли к Уоллу, потому что у того уже была целая организация.
Он и считать деньги умел и копить тоже. Так что когда ему было шестнадцать лет и этот пустой нефтяной бак взорвался вместе с его отцом и нефтяная компания выплатила миссис Сноупс тысячу долларов, то примерно через месяц мы узнали, что миссис Сноупс купила половинную долю в бакалейной лавке, а Уолл окончил школу и стал компаньоном лавочника. Но он по-прежнему вставал зимой до рассвета, топил печь, подметал пол. А когда ему исполнилось девятнадцать, его компаньон продал миссис Сноупс вторую половину лавки и ушел на покой, и, хотя Уолл был еще молод и не мог перевести лавку на свое имя, все знали, кто ее настоящий хозяин, и он сам теперь нанял мальчика, чтобы тот вставал зимой до рассвета, топил печь и подметал полы.
И было еще одно дело, только его едва ли можно считать сноупсовским промыслом, потому что оно не давало никакой прибыли. Или нет, это неверно; мы слишком много над ним потрудились, а дядя Гэвин сказал, что все, над чем люди столько трудятся, непременно дает прибыль, делается ради прибыли, независимо от того, можете или даже хотите ли вы обратить эту прибыль в доллары и центы или нет.
Последний Сноупс, которого они привезли в Джефферсон, до города не доехал. Я хочу сказать, он доехал только до того места, откуда видны городские часы на башне, и отказался ехать дальше; говорили, что он грозился даже вернуться на Французову Балку, как старый бык или мул, которого можно пригнать к открытым воротам загона, но ни на шаг дальше.
Это был тот старик. Некоторые говорили, что он отец Флема, другие утверждали, что он ему только дядя, – толстый, коренастый, грязный старик со злобными глазками под косматыми бровями, и, как говорил Рэтлиф, шея у него начинала вздуваться и багроветь раньше, чем ты успевал сказать ему хоть слово. Ему купили домик в миле от города, где он жил с дочерью – старой девой и двумя внуками-близнецами, которых звали Вардаман и Бильбо, от второй жены А.О.Сноупса, той, которую дядя Гэвин называл женой номер два, в отличие от жены номер один, той, что весь день качалась в качалке на галерее гостиницы Сноупса.
При доме был клочок земли, на котором старый Сноупс развел огород и бахчу. Бахча эта и была промыслом. Или нет, это неверно. Я сказал бы, что промысел возник благодаря бахче. Потому что старик, по-видимому, выращивал арбузы не для того, чтобы их продавать или даже есть самому, а как приманку ради удовольствия, или ради спорта, или состязания или может, ради того, чтобы приходить в ярость и ловить мальчишек, которые их воровали; он сажал, выращивал, возделывал арбузы, чтобы потом сидеть в засаде с заряженным дробовиком на задней веранде своего домика, пока не услышит шум на бахче, и тогда стрелял.
Но однажды, в лунную ночь, когда было светло, он и в самом деле ранил Джона Уэсли Робека беличьей дробью, а на другое утро мистер Хэб Хэмптон, наш шериф, приехал к старику Сноупсу и сказал ему, что если тот еще хоть раз выстрелит из дробовика, он вернется и конфискует этот дробовик, а его самого еще и в тюрьму упечет. Так что с тех пор Сноупс уже не осмеливался стрелять. Теперь ему оставалось только сложить вдоль загородки в разных местах кучи камней и сидеть за порослью вьюнка с толстой палкой и фонарем наготове.
Вот как начался этот промысел. Мистер Хэмптон, вернувшись в город, уведомил всех родителей, чтобы дети и близко не смели подходить к этой проклятой бахче; а уж если им очень захочется арбуза, он, мистер Хэмптон, купит им на свои деньги, потому что если они будут и дальше доводить старика Сноупса до белого каления, его когда-нибудь хватит удар, и он умрет, а мы все сядем в тюрьму. Но старый Сноупс этого не знал, потому что Вардаман и Бильбо ничего ему не сказали. Они дожидались, пока он приляжет вздремнуть после обеда, а потом вбегали в дом и будили его, кричали, вопили, что какие-то мальчишки забрались на бахчу, и он вскакивал с криком и руганью, хватал дубинку и опрометью бежал на бахчу, а там – никого, и вокруг тоже никого, только Вардаман и Бильбо за углом дома помирают со смеху, и они увертывались и удирали от него, а он хватал с земли камни и швырял в них.
Он так и не понял что к чему. Или нет, это неверно: он всегда это понимал. Вся беда была в том, что он не мог рискнуть и не вскочить с постели, когда они вбегали, крича: «Дедушка! Дедушка! Мальчишки на бахче!» – а вдруг это правда. Приходилось хватать палку и бежать, зная наперед, что он, вероятно, не найдет там никого, кроме Вардамана и Бильбо за углом дома, и ему их даже не поймать, он будет швырять камни и ругаться, пока не иссякнут и камни и дыхание, а потом остановится, задыхаясь, едва переводя дух, и шея у него будет багровая, как сопли у индюка, и ругаться он сможет уже только шепотом. И мы – все джефферсонские мальчишки от шести до двенадцати лет, а иногда и старше – приходили туда, прятались за загородкой и подсматривали. Мы никогда не видели, как умирают от удара, и боялись прозевать случай поглядеть, как это бывает.
Случилось это, когда дядя Гэвин наконец вернулся домой, после восстановления Европы. Мы переходили площадь и встретились с ней. Трудно было сказать, посмотрела она на дядю Гэвина или нет, но я наверняка знаю, что на меня она и не взглянула и, уж конечно, не заговорила со мной, когда мы проходили мимо. Ну что ж, я ничего и не ожидал: иногда она говорила со мной, а иногда ни с кем не говорила, и мы к этому привыкли. Так и на этот раз: она просто прошла мимо нас, как проходит пойнтер, перед тем как сделать стойку. А потом я увидел, что дядя Гэвин остановился и поглядел ей вслед. И тогда я вспомнил, что его не было здесь с 1914 года, целых восемь лет, так что ей было всего пять или шесть лет, когда он видел ее в последний раз.
– Кто это? – спросил он.
– Линда Сноупс, – сказал я. – Ты ее знаешь, дочка мистера Флема Сноупса. – И я тоже все смотрел ей вслед. – Она ходит, как пойнтер, – сказал я. – Я хочу сказать, как пойнтер, который сейчас…
– Я понимаю, что ты хочешь сказать, – сказал дядя Гэвин. – Очень даже хорошо понимаю.
8. ГЭВИН СТИВЕНС
Я отлично понял, что он хотел сказать. Она ровным шагом шла нам навстречу, совершенно отчетливо видя нас, и все же ни разу на нас не взглянула, и взгляд у нее был не суровый, не упорный, а скорее сосредоточенный, задумчивый; настойчиво, не мигая, он устремился на что-то вне нас, позади нас, как у молодого пойнтера, который перепрыгнет через тебя, если не уступишь ему дорогу, когда ему остается всего несколько шагов до цели, до стойки, и ему уже не нужно руководствоваться верным, ищущим нюхом, он уже видит сжавшуюся под прицелом жертву. Она прошла мимо нас ровным широким шагом, как молодая охотничья сука, конечно еще непокрытая, еще девственная, породистая охотничья сука, еще нетронутая в своей девственности, не то чтобы пренебрегая землей, но отталкиваясь от нее, потому что ведь по земле ей ходить в своей недосягаемости: отвлеченная от земли, от нас, не в гордости, даже не в забвении всего, а просто недосягаемая в своей отчужденности, в неведении, в невинности, как лунатик во сне недосягаем для земных треволнений и тревог.
Должно быть, ей уже было лет тринадцать – четырнадцать, и я не знал и не узнал ее не потому, что я не видел ее лет восемь, а человеческие детеныши, особенно девочки, коренным образом меняются между десятью и пятнадцатью годами. Я не узнал ее из-за ее матери. Как будто я – да, наверно, и вы – представлял себе, что такая женщина непременно должна произвести на свет свою точную копию, что иначе быть не может. Это Юла Уорнер – понимаете: Юла Уорнер. А никак не Юла Сноупс, хотя я мог – должен был – представлять себе их вдвоем, в постели. Но никогда она не могла быть для меня Юлой Сноупс, просто потому что это нельзя, просто потому что я отказался признать это, – и вот Юла Уорнер обязана была сделать хотя бы это, пойти хоть этим навстречу тому примитивному мужскому голоду, который она превращала в тоску одним своим существованием, тем, что жила, дышала, была; тем, что она родилась, появилась на свет, стала частью Круговорота – но весь этот голод она сама никогда не могла утолить, потому что ей одной было с ним не справиться. Но и она, единственная, все же обречена на угасание; и самой своей смертностью она обречена навеки оставить этот голод неутоленным, даже не облегчив его; обречена никогда не изъять эту тоску, этот голод извечного Круговорота вещей, а когда она сама покинет этот Круговорот, она своим отсутствием восполнит ту жгучую пустоту, где когда-то сверкал ее сияющий образ.
И, конечно, первая твоя мысль была: она должна повторить себя, непременно должна создать свой двойник, если вообще создаст потомство. Но тут же, сразу, ты понимал: нет, она явно не должна, никак не должна создавать свой двойник; сама Природа не допустит этого, не позволит двум таким существам жить на столь маленьком пространстве, как наш Джефферсон, штат Миссисипи, в одном столетии, в пределах одного перепуганного навек поколения. Потому что даже Природа, любящая бури вожделений и страстей, как только Природа умеет их любить, все же требует, чтобы всякую такую бурю, всякую страсть питала новая пища. А для этого требуется время, оно нужно для того, чтобы вырастить эту новую пищу, потому что она. Юла Уорнер, уже истребила, поглотила, сожгла все, что было вокруг нее. И тут я всегда вспоминал, что Мэгги однажды сказала Гауну, еще тогда, давным-давно, когда я сам проходил стадию послушания, ученичества для принесения себя в жертву: «На Еленах и Семирамидах не женятся, из-за них только кончают с собой».
А она – эта девочка – совершенно не походила на свою мать. И тут же, в ту самую секунду, я понял, на кого она похожа. Тогда, давно, в моей затянувшейся, озорной, запоздалой мальчишеской поре (одно вовсе не уничтожало, не уменьшало другое), помню, я нипочем не мог решить: какое из двух невыносимых переживаний менее невыносимо: который из двух пальцев (как говорит поэт) не так больно и горько грызть? То есть – соблазнил ли Манфред де Спейн целомудренную супругу, или его просто поймала в силки блудливая нимфоманка. Вот что мучило меня. Если правильно первое, то какие мужские качества были у Манфреда де Спейна, которых у меня не было? Если же второе – то почему, каким образом, слепой, возмутительный, несправедливый удар молнии в руках судьбы поразил Манфреда де Спейна и не тронул, не мог, не хотел, во всяком случае не обрушился заодно и на Гэвина Стивенса? Я тогда даже согласился бы (о да, вот до чего все было страшно, до чего все было смешно!) делить ее, если бы пришлось, если бы иначе нельзя было овладеть ею.
Именно тогда (я говорю о том, как я объяснял себе, почему не я оказался на месте Манфреда, почему не на мне остановился этот роковой, неторопливый взгляд в тот день, в ту самую минуту) я уверял себя, что она должна быть непорочной женой, верной и безупречной. Я думал: «Во всем виновато это проклятое дитя, этот проклятый ребенок», – невинная крошка, которая самым своим невинным дыханием, бытием, существованием бичевала, терзала, мучила, лишала меня покоя: о, если бы не было вопроса – кто же отец ребенка, а еще лучше – если бы не было самого ребенка. Я даже почувствовал облегчение, что на время можно перестать грызть пальцы, потому что они мне понадобились – я считал по пальцам время. Рэтлиф мне рассказал, как они уехали в Техас сразу после свадьбы, а когда они через двенадцать месяцев вернулись, ребенок уже ходил. Но этому (то есть тому, что ребенок ходит) я не верил, не из-за своей тоски, ревности, отчаяния, а из-за Рэтлифа. Но, в сущности, именно Рэтлиф подал мне надежду, – если хотите, облегчил тоску; да, скажу прямо – вызвал слезы, тихие слезы, но это были те слезы, что драгоценными бубенцами клоуна, комедианта звенят над запоздалой юностью, исходящей слезами. Потому что, даже если бы этой крошке был всего один день от роду, Рэтлиф выдумал бы, что она уже умеет ходить, на то он и Рэтлиф. Более того, если бы ребенка вообще не было, Рэтлиф выдумал бы его, выдумал бы, что младенец уже бегает, только ради того, чтобы подтвердить свои собственные домыслы и выдумки, а факты нельзя было проверить – тут он был в безопасности, отделенный милями расстояния и двумя годами времени, лежавшими между событиями на Французовой Балке и Джефферсоном. Но тогда я скорее готов был верить, что ребенок у нее от Флема – лучше было считать Манфреда де Спейна совратителем, чем Юлу Уорнер распутницей, – но тут я снова начинал грызть пальцы в горечи и видел: неизвестно, когда горше – когда думаешь, что она готова принять Манфредов всего мира и все-таки отвергнуть Гэвина Стивенса или принять одного Флема Сноупса, а Гэвина Стивенса все же отвергнуть.
Так что сами видите, на какие усилия способен человек, как много мук он может изобрести для себя, чтобы только избавиться, только защитить себя от скуки спокойного и мирного житья. Нет, это, пожалуй, похоже на того маньяка, который нарочно заводит на себе вшей, не просто ради удовольствия потом от них избавиться, ибо даже в безумии юности мы знаем, что ничто не вечно; но потому, что даже в безумии юности мы боимся, что ничто не будет длиться вечно, а ведь все, что угодно, лучше, чем Ничто, даже вши. Словом, как пел некий поэт: «Мечта моя мелькнула мимо, и мне осталось лишь Ничто» [6]; впрочем, хвала богам, это наглая ложь, ибо, – опять-таки, хвала богам! – Ничто не может нигде остаться, потому что Ничто – это пустота, а пустота – это парадокс, она невыносима, мы ее не желаем, и даже если бы мы ее и пожелали, то само Ничто, выдуманное этим растреклятым поэтом, вечно и неизменно наполнялось бы вечно новой и вечно возрождающейся тоской, чтобы я мог измерять ею самого себя, если мне надо будет утвердиться в мысли, что и я сам – Вечное движение.
Но второе предположение все же было лучше. Если она не достанется мне, то пусть она никогда не достанется и Флему Сноупсу. Так что вместо поэтической Мечты, которая проходит, оставляя Ничто, важно именно то, что остается, и остается всегда то, что вечно наполняется вновь и вновь прежней тоской. И уже безразлично, что немного медленней течет в жилах кровь, немного сильнее раздирают сердце воспоминания, все равно в крови навсегда сохранится память о том, что кровь когда-то хотя бы была способна исходить тоской. И получалось, что это дитя, эта девочка была вовсе не дочерью Флема Сноупса, а моей; моя дочка и в то же время моя внучка, потому что тот юноша, Маккэррон, зачавший ее (о да, когда мне нужно, я могу поверить даже Рэтлифу) в те далекие времена, был Гэвином Стивенсом тех, далеких времен, и так как оставшееся должно остаться или оно уже не будет оставшимся, – значит, Гэвин Стивенс навеки остановлен своим ребенком на той стадии своей жизни, в том своем возрасте. А так как «в ребенке с малых лет таится зрелый муж» [7], – значит, тот Маккэррон навеки, во Всевремени, запечатлен в том умершем юнце, том Гэвине, и теперь тот Гэвин Стивенс как бы стал сыном теперешнего, постаревшего, – вот и выходит, что дитя Маккэррона – внучка Гэвина Стивенса.
Конечно, еще вопрос – намерен ли Гэвин Стивенс быть этим отцом-дедом или нет. Во всяком случае, он не мог даже предположить, что один мимолетный взгляд Юлы Уорнер, которая даже не заметила его, проходя мимо, наложит на него обязанности приемного дядюшки по отношению к любому сноупсовскому чаду, вызовет желание вырвать это чадо из проклятого семейства, с которым ее связал брак. Я хочу сказать – приемный дядюшка в том смысле, что самое обычное возмущение, обида, наваждение per se, как и бедность per se, и (как говорят) добродетель per se, сами работают на себя. Но быть приемным дядюшкой только ему, но уж никак не ей. Да, я всегда думал, что все отпрыски Сноупсов обязательно мужского пола, словно сама божественная сущность женской природы исключала сноупство, делала его невозможным. Нет: вернее, словно понятие Сноупс содержит в себе какой-то глубокий и необратимый гермафродитизм, в продлении рода, в продолжении вида, и самая сущность этого рода всегда воплощается в мужской особи, и все органы зачатия и деторождения приспособлены к тому, чтобы производить, рожать только мужское начало, что Сноупс женского пола не способен создавать себе подобных, и потому Сноупсы-самки безвредны, как малярийные комары, – там, правда, все наоборот: там самка вооружена болезнетворными органами. А может быть, это не столько закон природы, сколько божественный промысел, недремлющее око самого господа бога, неумолимое и суровое, иначе Сноупсы завладели бы всей землей, не говоря уж о городе Джефферсоне, в штате Миссисипи.
Теперь Флем Сноупс стал вице-президентом банка, который мы по-прежнему называли банком полковника Сарториса. О да, и у нас в банках есть вице-президенты, не хуже, чем у людей. Только раньше в Джефферсоне никто не обращал внимания на вице-президентов банка; он, то есть банковский вице-президент, был похож на любого, кто заработал право называться майором или полковником только тем, что тратил деньги, или время, или влияние на губернаторских выборах, в противоположность тем, кто по праву унаследовал титул от своего отца или деда и кто на самом деле скакал на коне наперерез солдатам янки, как Манфред де Спейн или наш полковник Сарторис.
Так что Флем стал первым живым вице-президентом банка, на которого мы обратили внимание. Мы услышали, что он получил в наследство этот пост, когда Манфред де Спейн шагнул на ступеньку выше, и мы знали причину: решающими оказались акции дядюшки Билла Уорнера, вместе с той мелочью, которую, как мы узнали, постепенно скупил Флем, ну, и, конечно, сам Манфред. Словом, все в порядке; все сделано, теперь уж ничем не поможешь; мы привыкли к нашему собственному джефферсонскому образцу или породе банковских вице-президентов, и даже от Сноупса в роли вице-президента мы ожидали только простого следования этому образцу.
Но тут, к нашему удивлению, мы обнаружили, что он старался быть таким, каким, по его сноупсовскому, или, вернее, флемовскому, мнению, должен был быть вице-президент банка. Большую часть дня он стал проводить в банке. И не в том кабинете, где раньше сиживал полковник Сарторис и где теперь сидел Манфред де Спейн, а в самом зале, чуть поодаль от окошечка, наблюдая, как клиенты заходят, чтобы положить деньги или снять их со счета, и на нем была все та же суконная кепчонка и маленький галстук бабочкой, в которых он приехал в город тринадцать лет назад, и челюсть у него все так же мерно и ровно двигалась, будто он что-то жевал, хотя я, по крайней мере, ни разу за эти тринадцать лет не видел, чтоб он сплюнул.
Но однажды, когда он появился в зале, мы даже не сразу узнали его. Стоял он там же, где и всегда, чуть поодаль от окошечка, откуда он все мог видеть (но следил ли он за тем, сколько денег притекает или сколько их уходит, мы не знали; а может быть, его просто приковывало к месту зрелище операций того банка, который теперь некоторым образом – как заместителю, как доверенному лицу – принадлежал и ему, был и его банком, его гордостью: и неважно, сколько денег сняли со счета люди, все равно найдется такой, который тут же вложит этот ноль-плюс-первый доллар; а может быть, он действительно верил, что наступит такой миг, когда де Спейн или тот, кому это будет поручено, подойдет к окошечку с той стороны и скажет: «Простите, друзья, выдавать вам деньги мы больше не будем, потому что их нету», – для того он, Флем, и стоит тут, чтобы удостовериться, что это вовсе не так).
Но на этот раз мы его не узнали. На нем все еще был тот же самый галстук бабочкой, и его челюсть все еще слабо и ровно двигалась, но теперь на нем была шляпа, совершенно новая широкополая фетровая шляпа, из тех, какие носят сельские проповедники и политиканы. А на следующий день он уже сидел, как положено, за решеткой окошечка, там, где лежали настоящие деньги и откуда стальная дверца вела в бетонный сейф, куда деньги запирались на ночь. И теперь мы поняли, что он уже не следит за деньгами; он уже узнал все, что надо. Теперь он следил за учетом, за тем, как ведется бухгалтерия.
И теперь мы – некоторые из нас, меньшинство, – решили, что он подготавливается к тому, чтобы показать своему племяннику или свояку, Байрону Сноупсу, как лучше всего ограбить банк. Но Рэтлиф (конечно же Рэтлиф) тут же разубедил нас. – Нет, нет, – сказал он, – он просто хочет разобраться, можно ли настолько легко относиться к деньгам, чтобы позволить такому недоумку, как Байрон Сноупс, украсть хоть часть этих денег, Вы, ребята, плохо понимаете Флема Сноупса. Слишком он уважает не только деньги, но и хитрое мошенничество, чтобы простой кражей денег унизить и обесценить хитрость.
И в последующие дни он, Сноупс, снял пиджак и уже в подтяжках, словно на работе, стоял за решеткой, и ему за это каждую субботу платили деньги; новую шляпу он не снимал и стоял за спиной у счетоводов, изучая, как ведутся банковские дела. А потом мы узнали, что всякий раз, когда люди приходили расплачиваться по векселям или платить проценты, а иногда и в те разы, когда приходили брать заем (если только это были не те, крутого нрава старики, старые клиенты времен полковника Сарториса, – те просто выставляли Флема из задней комнатки, не ожидая, пока это сделает де Спейн, а иногда даже и не прося у него, у де Спейна, разрешения на это), он неизменно присутствовал при этом, и челюсть у него медленно и мерно ходила, пока он смотрел и учился; тогда-то Рэтлиф и сказал, что ему, Сноупсу, только и надо выучиться, как писать вексель, чтобы человек, берущий деньги взаймы, не только не мог прочесть, какой проставлен срок, но и какие проценты с него причитаются. Так умел когда-то писать полковник Сарторис (ходил рассказ, легенда, что однажды полковник написал вексель на имя деревенского клиента, фермера, а тот взял бумажку, посмотрел на нее, потом перевернул ее вверх ногами, снова посмотрел и вернул полковнику со словами: «А что там написано, полковник? Не могу прочитать», – после чего полковник, в свою очередь, взял бумажку, посмотрел на нее, тоже перевернул вверх ногами, потом разорвал пополам, швырнул в мусорную корзинку и сказал: «И я ни черта не понимаю, Том. Давайте напишем другую»). Тогда он, Сноупс, узнает все, что нужно знать о ведении банковских дел в Джефферсоне, и сможет закончить учебу.
Должно быть, он и этому научился. В один прекрасный день он не пришел в банк, и на следующий день, и еще через день тоже. А двадцать лет назад, когда банк только что открылся, миссис Дженни Дю Прэ, сестра полковника Сарториса, поставила в угол зала гигантский фикус. Он был выше человеческого роста, занимал столько же места, как уборная во дворе, всем мешал, а летом невозможно было открыть входную дверь настежь из-за этого фикуса. Но миссис Дю Прэ не позволяла ни полковнику, ни членам правления банка убрать фикус, так как принадлежала к той старой школе, которая полагала, что в каждом помещении должна быть какая-то зелень, для поглощения ядовитых испарений из воздуха. Конечно, никто не понимал, почему именно это гигантское твердолистое растение должно было стоять там, но, видно, она была убеждена, что никакие листья, кроме этих толстых и прочных, как резина, листьев фикуса, не могут справиться с ядовитыми испарениями, отравляющими воздух там, где столько тревог и волнений из-за тех огромных денег, какие, по ее мнению, должны были храниться в банке ее брата Сарториса, сына старого полковника Сарториса.
Так что, когда прошло некоторое время и больше никто не видел, чтобы Сноупс стоял в зале и следил за теми, кто берет ссуды, возвращает их или вкладывает деньги (вернее, кто, когда и сколько вносит и берет денег, что, по мнению Рэтлифа, и заставляло его стоять там), нам показалось, будто фикус миссис Дю Прэ исчез из зала, покинул его. А когда прошло еще несколько дней и мы поняли, что Флем больше в зал не вернется, нам показалось, что фикус унесли, сожгли, совсем уничтожили. Казалось, длиннейшая цепь разных обстоятельств – и банк, основанный таким старым сентименталистом, как полковник Сарторис, для того чтобы, по словам Рэтлифа, даже такой тупица, как Байрон Сноупс, мог бы его обокрасть, и гоночная машина, на которой Баярд Сарторис гонял слишком быстро по нашим сельским дорогам (джефферсонские дамы говорили, будто он так горевал о гибели своего брата-близнеца в бою, что тоже искал смерти, хотя, по моему мнению, Баярд любил воевать, а когда война кончилась, перед ним встала страшная перспектива – необходимость работать), а потом дед Баярда стал ездить с ним на этой машине в надежде, что он перестанет так гонять: в результате всего этого обычная ревизия перед реорганизацией банка обнаружила, что Байрон Сноупс его обкрадывал; в результате чего для спасения репутации банка, в основании которого участвовал и его отец, Манфреду де Спейну пришлось допустить Флема Сноупса на место вице-президента банка – причем, единственным результатом этого было исчезновение клетчатой кепки с головы Флема и появление этой залихватской черной политиканско-проповеднической шляпы.
Потому что шляпа всегда была на нем. Мы видели ее на площади ежедневно. Только в банке никогда не видели, в его банке, там, где он был не только членом правления, но в чьей иерархии он занимал определенное место – второе по старшинству. Он даже свои деньги туда не клал. О да, это мы знали, в этом нам ручался Рэтлиф. Рэтлифу это должно было быть известно. Столько лет он потратил на то, чтобы установить и поддерживать ту репутацию, которая делала его единственным в своем роде среди всех джефферсонцев, и уже не мог себе позволить, не смел ходить по улицам, не умея ответить на любой вопрос, объяснить любую ситуацию, все, что, в сущности, было не его делом. И Рэтлиф знал: Флем Сноупс не только перестал быть клиентом того банка, где он был вице-президентом, он и свой текущий счет на второй год перевел в другой, соперничающий с ними, старый Джефферсонский банк.
И все мы знали причину. То есть мы оказались правы. Все, кроме Рэтлифа, конечно, который старался нас разубедить. Мы следили, как Флем за решеткой своего банка старался изучить все тонкости банковского дела, чтобы потом тщательно заткнуть те прорехи, сквозь которые его свояк или племянник, Байрон, по мелочам, без особого искусства, таскал свою добычу; мы видели, как он входил и выходил из подвала, изучая тем временем прилив и отлив, рост и падение наличных фондов, выжидая минуту, когда окажется выгоднее всего ограбить банк; мы считали, что, когда наступила эта минута, Флем уже устроил так, что его чистая прибыль достигала ста процентов, и сам позаботился заранее, чтобы ему не надо было красть ни одного забытого цента из своих собственных денег.
– Нет, – сказал Рэтлиф. – Нет, нет.
– Но в таком случае он сам себя обчистил бы, – сказал я. – Что же, по его мнению, произойдет, когда другие вкладчики, особенно те, невежественные, которые ничего не понимают в банках, и те, умные, которые все понимают про Сноупсов, вдруг узнают, что вице-президент банка даже расхожей мелочи в нем не держит?
– Да нет же, – говорит Рэтлиф. – Все вы…
– Значит, он надеется, желает, мечтает напасть на свой собственный банк, не то чтобы ограбить его, но опустошить его, закрыть. Хорошо. А зачем? Чтобы отомстить Манфреду де Спейну за жену?
– Да нет же, говорят вам, – сказал Рэтлиф. – Я вам говорю, что вы все не понимаете Флема, никак не понимаете. Говорю вам, он не просто уважает деньги, он к ним относится с истинным (он всегда говорил «истинный» вместо «искренний», но в данном случае его толкование было не хуже, чем в словаре Уэбстера), с истинным обожанием. Ни за что он не причинит вред банку. Для него всякий банк, свой или чужой, означает деньги, а уж он никогда не принизит деньги, не оскорбит их плохим обращением. Похоже, что есть один-единственный поступок в его жизни, которого он никогда не повторит. Вспомните всю эту историю с медными частями на водокачке. Похоже, что он и теперь по ночам просыпается и его всего трясет и передергивает. И не потому, что он на этом потерял, а потому что никто до сих пор не знает, как и сколько он действительно потерял, потому что никому не известно, сколько этих старых медяшек он распродал, перед тем как сделал ошибку – захотел торговать оптом и втянул в это дело Том-Тома Бэрда и Томми Бьючема. Ему стыдно, потому что, раз он стал делать деньги таким путем, – значит, он сам себя втоптал в грязь, вместе с такими людьми, у которых деньги пропадают из-за того, что они их украсть – украдут, а потом не знают, куда спрятать, чтобы можно было их не караулить.
– Так что же он сейчас затеял? – сказал я. – Что он пытался сделать?
– Не знаю, – сказал Рэтлиф. Было не только непохоже на Рэтлифа ответить «не знаю» на какой-нибудь вопрос, но он сам стал вдруг непохож на Рэтлифа: его всегдашнее безмятежное, спокойное, непроницаемое и лукавое лицо приняло не то чтобы растерянное, но какое-то вопросительное, во всяком случае очень трезвое выражение: – Просто не знаю. Надо нам сообразить. Я затем и пришел к вам, сюда, решил, может, вы что-нибудь знаете. Надеялся, а вдруг вы знаете. – И тут он снова стал самим собой: насмешливый, лукавый, с неистребимым… – вот не знаю, какое тут слово нужно, – может быть, не оптимизм, и не смелость, и даже не надежда, а скорее здравомыслие, а может быть, даже наивность.
– Но, выходит, вы тоже ничего не знаете. Вот, черт, главное, что мы ничего заранее не знаем и не можем его опередить. Вроде как перед тобой кролик, нет, скорее, какая-то более опасная тварь, ядовитое, зубастое существо, и сидит оно в кустах, в овражке: видишь – кусты шевелятся, а что там – не знаешь, куда побежит – неизвестно, пока не выскочит. Тут-то ты его увидишь, иногда вовремя, а иногда и нет. Тут главное – не зевать, когда оно выскочит, ведь у него перед тобой то преимущество, что оно-то уже на ходу, оно-то знает, куда бежит, а ты стоишь на месте – не знаешь, куда оно прыгнет. Но обычно все-таки можно поспеть.
Это и был первый раз, когда кусты зашевелились. До следующего раза прошел почти год; он вошел, сказал: – Добрый день, Юрист, – и это был прежний Рэтлиф, спокойный, лукавый, вежливый, чуть-чуть слишком умный. – Решил, что вам интересно будет первому услышать последние новости, потому как вы тоже имеете отношение к этому семейству, так сказать, по своему невезению или беззащитности. Пока что никто об этом не знает, кроме правления Джефферсонского банка.
– Джефферсонского банка? – сказал я.
– Вот именно. Речь идет об этом не-Сноупсе, о сыне Эка, тоже не-Сноупса, который взорвался вместе с пустым нефтебаком, еще давно, когда вы были на войне, он там искал пропавшего мальчишку, хотя тот вовсе и не потерялся, только его мамаша так решила.
– Ага, – говорю я, – это вы про Уоллстрита-Паника. Я уже знал про него: про не-сноупсовского сына не-Сноупса, который имел счастье найти хорошую женщину или быть найденным ею, в самом начале своей жизни; она была учительницей средней школы и, очевидно, распознав эту не-сноупсовскую аномалию, не только объяснила ему, что значит Уоллстрит-Паника, но сказала, что ему вовсе не надо носить такое имя, если он не хочет; но если он думает, что слишком резкая перемена имени не подойдет, он может называться просто Уолл Сноупс, так как Уолл – очень хорошее имя и его достойно носил очень достойный и храбрый миссисипский генерал при Чикамоге и на Лукаут-Маунтейн, и что хотя она не думает, чтобы ему, не-Сноупсу, слишком часто нужно было вспоминать о храбрости, но вообще вспоминать о храбрости еще никому не повредило.
Знал я и о том, как он получил компенсацию, выплаченную компанией за нелепую, ненужную, совсем не сноупсовскую смерть его отца, и вошел в долю с хозяином крошечной бакалейной лавчонки в центре города, где он после школьных уроков и по субботам работал приказчиком, и продолжал копить деньги, а когда умер старый хозяин, он, Уоллстрит, стал владельцем лавки. И теперь он женился, он, который никогда не был Сноупсом, никогда в жизни не походил на Сноупса: обреченный, проклятый, совращенный, обрекший сам себя не только из великодушия, но из-за своего выбора; поставивший простое глупое неоплатное великодушие (не говоря уж о выборе) выше, чем свою собственную репутацию, которая создалась, когда весь город услыхал, что он сделал предложение женщине на десять лет старше его.
И сделал он это даже до окончания школы, не дожидаясь дня, минуты, когда в жарком, суконном, с иголочки новом костюме надо будет подняться, обливаясь потом, сквозь безмолвную муку вянущих цветов, на подмостки школьного зала и получить из рук директора аттестат, – нет, он дождался дня, когда, зная, что со школой покончено, что он навсегда теперь лишен и ее радостей, и ее горестей (ему было уже девятнадцать лет. Семь лет назад он вместе с шестилетним братишкой поступил в приготовительный класс. А в последнем году у него были такие отметки, что его даже освободили от экзаменов), он вышел из лавки, чьим фактическим, если не юридическим, владельцем он уже был, как раз вовремя, чтобы поспеть к звонку, и, стоя в углу, ждал, пока разбегались сначала приготовишки, затем первоклассники, потом второй класс, стоял, пока поток лилипутов обегал их обоих, как ручей обегает двух цапель, и, даже не пытаясь дотронуться до ее руки, тут же, на виду у всего юного населения Джефферсона, сделал предложение учительнице второй ступени и вдруг увидел, – это видела издали и другая учительница, – как она широко открыла глаза и подняла руку, как бы отстраняясь, а потом разразилась слезами, тут же, на глазах у сотни ребят, – тех, что в течение последних трех-четырех лет были ее учениками, для кого она была учительницей, наставницей, непререкаемым авторитетом.
Он как-то сумел увести ее на пустую площадку для игр, закрывая ее собой, пока она сморкалась в его платок, стараясь прийти в себя, потом, вопреки всем правилам школы и респектабельности, повел ее в пустой класс, где стоял запах мела, мучительного умственного напряжения и сухих неподатливых фактов, и шел за ней не для обручального поцелуя, не для того, чтобы он мог тронуть ее руку, – она меньше всего хотела напомнить ему, что тогда, семь лет назад, ей уже исполнилось двадцать два года и что через год после сегодняшнего дня он увидал бы, что весь Джефферсон над ним уже смеется целых двенадцать месяцев. А она, которая семь лет назад поняла, что такое Уоллстрит-Паника, была не только чуткой, она была гораздо, гораздо больше: настоящая леди, она уже вытерла слезы и стала снова мисс Уайотт, или «мисс Вейден», как дети звали, по южному обычаю, свою учительницу, и она объяснила ему, не раскрывая всех этих грустных причин, а просто сказала, что она уже обручена и хотела бы когда-нибудь познакомить его со своим женихом, так как уверена, что они станут друзьями.
Он так ничего и не узнал, пока не вырос и не стал все понимать лучше. Но узнал он об этом не тогда, когда было слишком поздно, потому что поздно не было: кажется, я уже говорил, что она была умница, больше того – чуткая. Надо также помнить, что ее семья была родом из деревни (ее ближайшие родственники до сих пор жили в том месте, где им когда-то, еще до того, как Джефферсон стал Джефферсоном, принадлежал целый рукав реки, переезд и паром), так что, без сомнения, она заранее наметила ту девушку, определенную девушку, потому что не прошло и недели, как она его привела к ней, как будто говоря: «Вот она. Женись на ней», а через месяц он и сам не заметил, что без его ведома мисс Вейден Уайотт ушла из джефферсонской школы, где она десять лет вела старшие классы, и поступила преподавательницей в Бристоле, штат Виргиния, потому что, когда подошел этот осенний день, он уже два месяца был мужем настойчивой, упорной и не такой уж некрасивой девушки, честолюбием не уступавшей ему и сосредоточившей, даже больше, чем он, всю свою волю, все помыслы на страшной ненависти к тому болоту, той пучине, тому гнилому застою, из которого ее муж (и она в это верила свято) вытащил себя за уши, за собственные подтяжки, и теперь она сама торговала в лавке, а ее свекровь могла сидеть дома и заниматься стряпней и хозяйством; и хоть в ней было не больше ста фунтов весу, она сама исполняла обязанности мальчишки-посыльного – подметала пол, ворочала бочонки с мукой и патокой, объезжала весь город на велосипеде, развозя заказанные по телефону продукты, пока они не купили подержанный фордик; а в это время младший брат, Адмирал Дьюи, ходил в школу, куда его заставляла ходить именно она, его невестка, хотел он или не хотел.
Да, все мы это знали; это было частью нашего фольклора или, если хотите, сноупслора: и то, как Флем, вслед за ней, понял, что есть такой молодой человек, который собирается делать деньги самым прямым и честным путем, трудом, и как Флем пытался войти в дело или хотя бы одолжить Уоллстриту денег, чтобы он дело расширил; и мы все знали, кто отказался от этого предложения. То есть нам хотелось верить, что Уоллстрит, которого мы уже немного знали, так или иначе откажется. Но, с тех пор как мы познакомились с его женой, мы уже знали наверняка, что он откажется. Теперь, когда он с таким трудом преодолел путь от приказчика до совладельца, ему предстояло преодолеть не меньше трудностей, чтобы стать полным владельцем лавки: и, конечно, через какое-то время он перебрал товару в долг; и вот ему пришлось обратиться за помощью в банк полковника Сарториса.
Было это в то время, когда мы только что узнали, что Флем Сноупс действительно стал членом правления банка. Вернее, что такой, как Флем Сноупс, мог сделаться членом правления. Да, конечно, мы видели его подпись среди других на годовом отчете, над неразборчивым факсимиле подписи полковника Сарториса, президента банка, но мы только делали логическое заключение, что Флем просто подписывался в качестве доверенного лица дядюшки Билла Уорнера, чтобы старику не пришлось лишний раз ездить в город; и мы только думали: «Значит, если Манфреду де Спейну понадобится, он и уорнеровские акции сможет заполучить».
И, разумеется, мы знали, верили, что Флем пытался купить часть дела у Уоллстрита, спасти его частным займом, прежде чем, в качестве одного из членов правления банка, отказать ему в ссуде. Мы-то думали, что теперь мы все поняли; только мы как будто не учли одного: каким образом Флем нажал на коммивояжера, чтобы заставить его уговорить Уоллстрита перебрать в долг товар, и каким нажимом он заставил оптовиков в Сент-Луисе провести эту сделку, – очевидно, тут действовало то же магическое заклинание или колдовство, которым он собирался воздействовать на второй банк, старый Джефферсонский банк, чтобы они не давали ссуды Уоллстриту, после того как банк полковника Сарториса ему откажет.
Но ни у кого не возникал вопрос, кто из семьи Уоллстрита Сноупса отверг предложение Флема. Всякий мог видеть, как она в то утро бежала через площадь, худенькая, не просто напряженная, но ожесточенная, а было в ней и тогда весу не больше ста фунтов, и даже после полугода замужества она больше походила не на нимфу, а на лань, и бежала она не вокруг площади, как ходят пешеходы, а наискось, наперерез, между автомобилями, повозками, упряжками, прямо к банку, в банк (и как это она узнала, как угадала, так сразу, что ему отказали в ссуде, мы тоже понять не могли, хотя, поразмыслив, мы и это сообразили: эта ее простая, механическая, ожесточенная ненависть к Сноупсам сработала сразу, как только здравый смысл подсказал ей, что банку понадобилось бы совсем немного времени, чтобы ответить «да», и что Флем Сноупс был в числе директоров банка), – и она влетела в зал, крича: «Где он? Где Уолл?» – и сразу вон оттуда, как только ей сказали «ушел», но не в отчаянии, просто в ожесточении, в спешке, вон на улицу, по которой, как ей кто-то указал, он пошел; а улица эта вела в переулок, к дому, где жил Флем, у которого ни другого дома, ни другой конторы не было, и она бежала, пока не догнала его, успела догнать. И все, кто там был, видели своими глазами: обхватив его руками, средь бела дня, когда даже влюбленные не смели обниматься на людях и уж ни одна настоящая леди нигде и никогда не чертыхнулась бы вслух, она кричала (и плакала тоже, но без слез, словно на этом напряженном, ожесточенном, непримиримом лице слезы испарялись, как только вытекали из глаз): «Не смей! Не смей! Проклятые Сноупсы! К черту их! К чертовой матери!»
Мы, конечно, решили, что ее отец, небогатый, хотя и работящий фермер, где-то нашел деньги. Потому что Уоллстрит спас свое предприятие. И он не только понял после этого случая, что такое платежеспособность, но он также научился понимать, что значит успех. Через год он снял (а потом и купил) лавку по соседству и превратил ее в склад для товаров, чтобы можно было закупать больше товаров, оптом и подешевле; прошло еще несколько лет, и он снял новое помещение – последнюю в Джефферсоне конюшню, под свой склад, а между двумя лавками сломал перегородку, и у нас появился первый в Джефферсоне бакалейный магазин самообслуживания, каких мы раньше никогда не видали, построенный так же, как те продовольственные магазины, которые впоследствии, по почину крупных фирм, распространились по всей стране; улица, на которую выходил его магазин, шла под углом к переулку, где когда-то был ресторан Сноупса, так что палаточка, где Уолл провел первую ночь по приезде в Джефферсон, выходила и на зады его лавки; он не то купил, не то арендовал этот уголок (теперь в Джефферсоне было гораздо больше автомобилей), и сделал там стоянку для машин, научив тем самым домашних хозяек Джефферсона приезжать в центр, выгодно покупать у него продукты и самолично отвозить их домой.
И все мы, вернее я, до сих пор считали, что деньги, спасшие его, дал тесть. – О черт, – сказал я. – Значит, это вы?
– Конечно, – сказал Рэтлиф. – Я-то хотел у него взять только расписку. Это он настоял, чтобы я вошел в долю. И я вам расскажу, что мы еще затеяли. Хотим основать оптовую торговлю.
– Что-что? – сказал я.
– Откроем оптовую компанию, вроде тех больших фирм в Сент-Луисе, прямо тут, в самом Джефферсоне, так что любой торговец со всей округи, вместо того чтобы платить кучу денег за доставку горсти товара, которую можно унести в подоле рубахи, или же рисковать при перегрузке каких-нибудь скоропортящихся продуктов, теперь сможет покупать все, что ему надо, по сходной цене тут, ничего не платя за доставку.
– А, черт! – сказал я. – Почему же вы раньше, много лет назад, сами до этого не додумались?
– Верно! – сказал Рэтлиф. – А вы?
– А, черт! – повторил я. Потом сказал: – Сто чертей! Может, продадите акции? Можно мне вступить в долю?
– Почему бы и нет? – сказал он. – Лишь бы ваша фамилия была не Сноупс. С ним можно вступить в долю, лишь бы вы не были Флемом Сноупсом. Но надо сначала обойти эту девчоночку. Я про его жену. Вы бы зашли как-нибудь и послушали, как она их честит, для них у нее нет других слов, кроме как проклятые Сноупсы. Да, конечно, все мы их про себя ругаем, а кто и вслух говорит. Но она – дело другое. Она их всерьез проклинает. И его к ним не подпустит ни за что.
– Да, – сказал я. – Я и об этом слыхал. Странно, почему они не переменят фамилию.
– Нет, нет, – сказал Рэтлиф. – Вы не понимаете. Она не хочет менять фамилию. Она хочет ее изжить. Она вовсе не хочет вытащить мужа за волосы из Сноупсов, удрать от Сноупсов. Она хочет самое их имя очистить. Ей хочется уничтожить сноупсизм изнутри. Вы бы зашли к ним и сами послушали.
– Значит, оптовая фирма, – сказал я. – Так вот почему Флем…
Но я хотел сказать глупость, и Рэтлиф это понял прежде, чем я договорил:
– …перевел деньги из своего банка в другой? Нет, нет! Нам здешние банки не нужны. Мы ими не пользуемся. Как видно, Флем первый в Джефферсоне об этом узнал. Уолл пользуется слишком широким кредитом у крупных оптовиков и посредников, с которыми мы имеем дело. По их расчетам, он никому поперек дороги не становится, наоборот, он поддерживает и чужие предприятия. Нет, банк нам ни к чему. Но мы, то есть он, хотим оставаться чисто местным, здешним предприятием. Так что повидайте его, если хотите, поговорите, как вам войти в долю.
– Непременно, – сказал я. – Но что затеял сам Флем? Почему он вынул деньги из де-спейновского банка, как только стал вице-президентом? А ведь он остался им, – значит, пай у него еще есть. Но свои деньги он в этом банке не держит. В чем же дело?
– Вон оно что! – сказал Рэтлиф. – Значит, вас вот что беспокоит? Да мы и сами толком ничего не знаем. Сейчас мы только одно и можем: смотреть, как кусты шевелятся. – Голос Рэтлифа и его лицо словно принадлежали двум разным Рэтлифам: второй словно предлагал вам открыто и честно угадать, если только у вас хватит смекалки, что хочет сказать первый. Но на этот раз второй Рэтлиф пытался мне объяснить что-то такое, чего первый не мог выразить словами. – Пока эта его девчоночка жива, Флему никогда и пальцем до Уолла не дотронуться. Эк Сноупс уже выбыл из игры. А этот А.О.Сноупс никогда ни в чем не участвовал, потому что сам А.О. ни черта не стоил, даже в своих собственных глазах, уж не говорю о других, тут стараться было не из-за чего. Вот и получается, что не осталось ни одного из Сноупсов, из которых серьезный, старательный малый мог бы хоть что-то выжать.
– Но есть еще… – сказал я.
– Правильно, – сказал он. – Я за вас договорю. Есть еще Монтгомери Уорд и его фотоателье. Но если Флем в этом деле не участвовал с самого начала, – значит, он и не собирается. И ведь факт, что в той витрине целый год не менялись фотографии, и факт, что Джейсон Компсон аккуратно получает с Монтгомери арендную плату с первого же месяца, как тот переехал в дом его матери, а все это означает, что Флем сразу понял – тут время терять нечего. Значит, остается только один объект среди Сноупсов, которым ему стоит заняться.
– Ладно, – сказал я. – Купили.
– Та самая золотая монетка, двадцатидолларовая.
– Какая еще двадцатидолларовая монетка?
– Помните, я вам в тот день говорил про деревенского парня, как он едет в первый раз, в субботу, в Мемфис и прикалывает себе к рубахе бумажку или золотой в двадцать долларов, чтоб ему хотя бы на обратный путь хватило?
– Ну, ну, – сказал я. – Продолжайте. Теперь уж договаривайте!
– Что есть такого в Джефферсоне, чего Флем еще не заполучил? Единственное, чего ему надо. То, к чему он стремился с того самого дня, как полковника Сарториса вытащили из поломанной машины и Флем голосовал вместо дядюшки Билла, по всем его акциям, чтобы Манфред де Спейн стал президентом банка?
– Сам хочет стать президентом, что ли? – сказал я. – Нет! – сказал я. – Не может быть! Нельзя допустить это! – Но он все смотрел на меня. – Чепуха! – сказал я.
– Почему чепуха? – сказал он.
– Потому что, для того чтобы воспользоваться тем, что вы называете двадцатидолларовой бумажкой, ему надо воспользоваться и помощью своей жены. Неужели, по-вашему, жена пойдет с ним вместе против Манфреда де Спейна? – Но он все смотрел на меня. – Вы согласны? – сказал я. – Как он может даже надеяться на это?
Да, он просто смотрел на меня. – Это будет уже, когда он выскочит из кустов, – сказал он. – Выскочит туда, где мы его сможем видеть. На полянку. А что это за полянка?
– Полянка? – переспросил я.
– Да, полянка, на которую он метит? Ну, ладно, – сказал он. – Та полянка, из-за которой он лез через кусты, лишь бы из них выскочить?
– Жадность, – сказал я. – Алчность. Деньги. А что же ему еще нужно? Чего он хочет? Что еще движет им?
Но он только смотрел на меня, и теперь я сам видел, как исчезало напряженное выражение, пока его лицо не стало, как всегда, приветливым, безмятежным, непроницаемым и вежливым. Он вытащил дешевые часы, висевшие на шнурке от ботинок в боковом карманчике. – Будь я неладен, время-то давно идет к обеду, – сказал он. – Только и успеешь дойти.
9. В.К.РЭТЛИФ
Потому что он ничего не понял. Совершенно ничего.
10. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН
Монтгомери Уорд Сноупс наконец попался. Вернее, попался Гровер Кливленд Уинбуш. Как сказал Рэтлиф, всякий, кто торгует запрещенным товаром и настолько глуп, что продает этот товар Гроверу Уинбушу, непременно попадется, и поделом ему.
Но дядя Гэвин сказал, что даже без Гровера Кливленда Монтгомери Уорд рано или поздно должен был попасться, потому что в Джефферсоне, штат Миссисипи, не было почвы для того занятия, развлечения, которое Монтгомери Уорд пытался насадить среди нас. В Европе – там дело другое. В среде столичных богачей или богемы может быть – тоже. Но не в округе, где живут главным образом деревенские баптисты.
Одним словом, Гровер Кливленд попался. Было это вечером, очень поздно. То есть все лавки были уже закрыты, но люди еще шли домой из кино со второго сеанса; и некоторые из них и даже, думается мне, все, кто проходил мимо и случайно заглядывал в окно, видели в аптеке дядюшки Билли Кристиана двоих людей, они возились около шкафа, в котором дядюшка Билли держал лекарства; и хотя они были чужие, то есть никто из прохожих их не узнавал, те, кто заглянул в окно и видел их, говорили на другой день, что им и в голову ничего такого не пришло, – мыслимо ли в этакую рань да еще при зажженном свете, и, кроме того, они подумали, что Гровер Кливленд, ночной полисмен, у которого нет другого дела, кроме как слоняться по площади и заглядывать в окна, рано или поздно увидит их, если им там быть не положено.
Так было до следующего утра, когда дядюшка Билли открыл аптеку и обнаружил, что кто-то отпер дверь и не только вскрыл сейф и забрал все деньги, но взломал шкаф с лекарствами и украл весь морфий и снотворные таблетки. С этого и пошли неприятности. Рэтлиф сказал, что они могли бы взять деньги и, если уж на то пошло, прихватить заодно всю аптеку, кроме этого шкафа, включая и спирт, потому что Уолтер Кристиан, негр-дворник, втихомолку попивал спирт с тех самых пор, как они оба, с дядюшкой Билли, еще мальчишками, поступили в аптеку, и дядюшка Билли ругался, и топал ногами, и даже жаловался в суд, но этим дело и кончалось. Но тот, кто тронул этот шкаф с морфием, раздразнил самого дьявола. Дядюшка Билли был холостяк лет под шестьдесят, и если к нему приходили в неурочное время, он рычал даже на детей. Но если прийти вовремя, он давал нам мячи и биты для бейсбольной команды, а после игры угощал мороженым, все равно, выиграли мы или проиграли. Или, вернее, так было до того лета, когда некоторые благочестивые дамы решили его перевоспитать. С тех пор трудно было угадать, можно с ним заговорить или нет. Но потом дамы на время от него отступились, и все снова было в порядке.
А тут еще федеральные аптечные инспекторы годами допекали его, въедались ему в кишки из-за того, что он держит морфий в этом маленьком непрочном деревянном шкафчике, который всякий может открыть с помощью штопора, или ножа, или даже обыкновенной шпильки, хотя дядюшка Билли запирал его на ключ, а ключ прятал на темной полке под галлонной бутылью с ярлыком Nux vomica [8], куда никто, кроме него самого, конечно, не заглядывал, потому что там была такая темень, что даже Уолтер туда и близко не подходил, ведь дядюшка Билли не мог видеть, вытер он там пыль или нет, и всякий раз дядюшка Билли клялся инспекторам, что запрет морфий в сейф.
И теперь он знал, что не оберется неприятностей, – придется объяснять инспекторам, почему он не запер морфий в сейф, как обещал; а убеждать их, что, даже если бы он сделал это, воры все равно украли бы его, теперь не имело смысла, потому что, как сказал Рэтлиф, этих федеральных инспекторов не интересовало, был бы от этого толк или нет, – их интересовало лишь, чтоб все было сделано строго по инструкции.
Так что дядюшка Билли, в сущности, и был виноват в том, что Монтгомери Уорд попался. Сперва он так разбушевался, что нельзя было понять, сколько чего украдено, или даже разобрать, что он говорит, а люди так и валили с улицы, чтобы поглядеть не столько на место кражи, сколько на дядюшку Билли; и наконец кто-то, – конечно, это был Рэтлиф, – сказал:
– Дядюшке Билли сейчас не шериф нужен. Ему сперва нужен доктор Пибоди.
– Ну конечно, – сказал дядя Гэвин Рэтлифу. – И отчего это вы всегда тут как тут? – Он подошел к Скитсу Макгауну – это был приказчик дядюшки Билли и продавец газированной воды, он вместе с двумя другими мальчишками засунул голову в открытый сейф, откуда были украдены деньги, – вытащил Скитса оттуда, велел ему живо сбегать наверх и сказать доктору Пибоди, чтоб шел скорее. Потом дядя Гэвин и другие всем скопом кое-как успокоили дядюшку Билли, стараясь не подходить к нему особенно близко, а потом пришел доктор Пибоди уже со шприцем в руке, выставил почти всех вон, закатал дядюшке Билли рукав, потом снова опустил, и тогда дядюшка Билли настолько успокоился, что стал похож всего лишь на обыкновенного психа.
Так что Монтгомери Уорд попался исключительно из-за него. Вернее, из-за тех двоих, что украли морфий. К этому времени мы уже знали, что некоторые, идя из кино, видели этих двоих в аптеке, и теперь дядюшка Билли хотел знать, где был все это время Гровер Кливленд Уинбуш. Да, друзья, теперь он уже не был так лют. Теперь он просто был злой, нудный, въедливый и безжалостный, как слепень. Было девять часов, и в это время Гровер Уинбуш уже спал у себя дома. Кто-то предложил позвонить по телефону, разбудить его и сказать ему, чтобы он поскорей шел на площадь.
– К черту, – сказал дядюшка Билли. – Долга песня. Я пойду туда сам. Разбужу его и притащу сюда. Спешить ему не придется, я сам об этом позабочусь. У кого есть машина?
Но только к этому времени там уже был мистер Бак Коннорс, начальник полиции.
– Обождите, дядюшка Билли, – сказал он. – Все, что делается, всегда можно сделать правильно и неправильно. Нужно все сделать правильно. Эти люди, вероятно, уже затоптали большую часть следов. Но мы, по крайней мере, можем начать следствие, как положено по полицейскому уставу. Кроме того, Гровер Кливленд всю прошлую ночь дежурил. И сегодня ему снова всю ночь не спать. Надо дать ему выспаться.
– Вот именно, – сказал дядюшка Билли. – И-м-е-н-н-о! Всю ночь не спал, а сам был неизвестно где и не видел, как два негодяя грабили мою аптеку на глазах у всего этого проклятого города. Украли у меня лекарств на триста долларов, а Гровер Уинбуш…
– Сколько они взяли наличных? – сказал мистер Коннорс.
– Что? – сказал дядюшка Билли.
– Сколько денег было в сейфе?
– Не знаю, – сказал дядя Билли. – Я их не считал… Но все равно Гровер Уинбуш, которому мы платим сто двадцать пять в месяц только за то, чтоб он не спал один час за всю ночь и обходил площадь, он, видите ли, должен выспаться. Если ни у кого нет машины, вызовите такси. Я уже потерял из-за этого сукина сына триста долларов и не намерен останавливаться из-за каких-то двадцати пяти центов.
Но его окружили и не выпускали, пока кто-то звонил Гроверу Кливленду. И сначала мы подумали, что он здорово напугался, когда ему позвонили и подняли с постели, но потом узнали обо всем и поняли, что больше всего он перепугался, услышав, что в прошлую ночь в Джефферсоне случилось происшествие, которое он должен был бы видеть, будь он там, где ему полагалось быть или где, по мнению всех, он был. Потому что Рэтлиф сразу сказал:
– Вон он. Я его только что видел.
– Где? – спросил кто-то.
– Нырнул вон в тот переулок, – сказал Рэтлиф.
И мы все поглядели на переулок. Он вел с окраинной улицы на площадь, и Гровер Кливленд мог пройти туда задами напрямик от своего жилья. Но тут он вышел к нам, уже быстрым шагом. Формы, как мистер Коннорс, он не носил, ходил в штатском, и его пиджак топорщился поверх рукоятки револьвера, а из бокового кармана торчала дубинка, и сейчас он торопливо шел по улице, высоко вскидывая ноги, как кошка на горячей плите. И если вы думаете, что дознание проводил мистер Коннорс или даже мистер Хэмптон, наш шериф, то вы ошибаетесь. Это делал сам дядюшка Билли. Сначала Гровер Кливленд пробовал запираться. Потом стал врать. А потом прекратил сопротивление.
– Здравствуй, сынок, – сказал дядюшка Билли. – Очень жаль, что пришлось разбудить тебя в такое время, среди ночи, только чтобы задать тебе несколько вопросов. Первый вопрос: где ты, примерно говоря, был прошлой ночью, ровно в половине одиннадцатого, примерно говоря?
– Кто, я? – сказал Гровер Кливленд. – Там, где всегда бываю в это время: стоял вон на том углу, у дверей полицейского участка, на случай, ежели понадоблюсь кому из тех, кто пойдет с последнего сеанса в кино, – скажем, ежели машину угнали или же шина спустила…
– Так, так, – сказал дядюшка Билли. – И все же ты не видел свет в моей аптеке и этих двух мерзавцев…
– Погодите-ка, – сказал Гровер Кливленд. – Я совсем позабыл. Когда я увидел, что народ начинает выходить с последнего сеанса, я поглядел на часы – было половина одиннадцатого или, может, без двадцати пяти одиннадцать – и решил пойти закрыть «Голубого гуся», чтобы, покуда мне делать нечего, управиться с этим. – «Голубой гусь» – это негритянский кабачок около хлопкоочистительной машины. – Я позабыл, – сказал Гровер Уинбуш. – Вот где я был.
Дядюшка Билли ничего на это не сказал. Он только повернул голову и крикнул: – Уолтер! – Вошел Уолтер. Его дед до поражения южан принадлежал деду дядюшки Билли, и они с дядюшкой Билли были почти ровесники и очень похожи, только Уолтер вместо морфия употреблял медицинский спирт всякий раз, как дядюшка Билли оставлял ключи и отворачивался, и, пожалуй, Уолтер был еще вспыльчивей и раздражительней. Он вышел из задней комнаты и сказал:
– Кто меня зовет?
– Я, – сказал дядюшка Билли. – Где ты был вчера в половине одиннадцатого?
– Кто, я? – сказал Уолтер, совсем как Гровер Кливленд, только сказал он это так, словно дядюшка Билли спросил у него, где он был, когда доктор Эйнштейн создал свою теорию относительности. – Вы говорите – вчера? – сказал он. – А вы думаете где? Дома, в постели…
– Ты был в этом растреклятом кабаке, в «Голубом гусе», где сидишь каждый вечер, покуда Гровер Уинбуш не повыгоняет всех черномазых и не закроет его, – сказал дядюшка Билли.
– Ежели вы сами все знаете, так зачем спрашивать? – сказал Уолтер.
– Ну ладно, – сказал дядюшка Билли. – В котором часу мистер Уинбуш закрыл вчера ваш кабак? – Уолтер стоял и моргал. Глаза у него всегда были красные. Он делал в старой ручной мороженице мороженое, которое дядюшка Билли продавал со стойки с газировкой. Делал он это в подвале: там было темно и холодно и была всего одна дверь, выходившая в переулок за аптекой, и он сидел впотьмах и крутил мороженицу, так что прохожие только и видели его красные глаза, не злобные, не дикие, а просто опасные, как у дракона или крокодила, – не дай бог, споткнешься и попадешь к нему, в его царство. Он стоял и моргал. – В котором часу Гровер Уинбуш закрыл «Голубого гуся?» – спросил дядюшка Билли.
– Я не дождался, ушел, – сказал Уолтер. И вдруг, – мы его до сих пор и не замечали, – словно из-под земли вырос мистер Хэмптон, стоит и тоже глядит на него. Он не моргал, как Уолтер. Он был большой, с большим животом и маленькими бесцветными колючими глазками, которым, казалось, и моргать-то незачем. Теперь он глядел уже на Гровера Кливленда.
– То есть как это «не дождался»? – спросил он Уолтера.
– Сто чертей, – сказал дядюшка Билли. – Да он никогда не вылазит из этого проклятого кабака, с самого открытия и до тех пор, покуда не погасят свет.
– Знаю, – сказал мистер Хэмптон. Он все еще глядел на Гровера Кливленда своими бесцветными колючими немигающими глазками. – Я слишком долго был здесь шерифом и начальником полиции. – И он сказал Гроверу Кливленду: – Где вы были вчера вечером, когда в вас была нужда? – Но Гровер Кливленд все еще пробовал вывернуться: надо отдать ему должное, хоть он и сам не верил в успех.
– А, вы об этих двоих, что были в аптеке дядюшки Билли вчера в половине одиннадцатого. Конечно, я их видел. Только я, понятное дело, само собой, подумал, что это дядюшка Билли и Ските. И тогда…
– Что тогда?… – сказал мистер Хэмптон.
– Я… пошел в участок… и сел читать вечернюю газету, – сказал Гровер Кливленд. – Там я и был: сидел там, в полиции, и читал вечернюю мемфисскую газету…
– Когда Уит Раунсвелл увидел здесь этих двоих, он пошел за вами в полицию, – сказал мистер Хэмптон. – Он вас целый час дожидался. А здесь тем временем погас свет, но он не видел, чтоб кто-нибудь выходил через переднюю дверь. А вас все не было. И Уолтер вот говорит, что вас и в «Голубом гусе» не было. Где вы были вчера вечером, Гровер?
И теперь уж ему податься было некуда. Он стоял молча, и пиджак у него топорщился над рукояткой револьвера, а из кармана вылезала дубинка, словно рубашка из штанов у мальчика. Да, в том-то и дело: Гровер Кливленд был слишком стар, чтоб походить на мальчика. И дядюшка Билли, и мистер Хэмптон, и все остальные глядели на него, а потом вдруг нам стало стыдно глядеть на него, стыдно узнать то, что нам предстояло узнать. Только мистеру Хэмптону стыдно не было. Может, оттого, что он так долго был шерифом, он таким стал, понял, что не Гровера Кливленда надо стыдиться, а всех нас.
– Доктор Пибоди возвращался раз от больного около часу ночи и видел, как вы в этом переулке выходили из боковой двери того заведения, которое Монтгомери Уорд Сноупс называет своей студией. А в другой раз я сам возвращался домой около полуночи и видел, как вы туда входили. Что там такое, Гровер?
Гровер Кливленд теперь даже не шевелился. Он сказал почти шепотом:
– Там клуб.
Теперь уже мистер Хэмптон и дядя Гэвин переглянулись.
– Чего вы на меня-то глядите, – сказал дядя Гэвин. – Вы – представитель закона.
Это было просто смешно: ни тот, ни другой не обращали никакого внимания на мистера Коннорса, который был начальником полиции и должен бы давно заняться этим делом. Может быть, по этой самой причине они на него и не смотрели.
– Вы – прокурор округа, – сказал мистер Хэмптон. – Вы должны сказать, что полагается делать по закону, а уж тогда я буду его выполнять.
– Так чего же мы ждем? – сказал дядя Гэвин.
– Может, Гровер надумает сказать нам, что там такое, чтоб не терять время зря, – сказал мистер Хэмптон.
– Нет, черт возьми, – сказал дядя Гэвин. – Оставьте-ка его покуда в покое. – И он сказал Гроверу Кливленду: – Ступайте в полицию, мы вас вызовем.
– Можете дочитать мемфисскую газету, – сказал мистер Хэмптон. – И вы нам тоже больше не нужны, – сказал он мистеру Коннорсу.
– Какого дьявола, шериф, – сказал мистер Коннорс. – В вашем веденье только округ. А то, что происходит в Джефферсоне, в моем веденье. Я имею такое же право… – Тут он остановился, но было уже поздно. Мистер Хэмптон поглядел на него своими колючими бесцветными глазками, которым, казалось, и моргать-то незачем.
– Продолжайте, – сказал мистер Хэмптон. – Вы имеете такое же право видеть, что Монтгомери Уорд Сноупс там прячет, как и я и Гэвин. Почему же вы в таком случае не уговорили Гровера сводить вас в этот клуб? – Но мистер Коннорс только моргал. – Пошли, – сказал мистер Хэмптон дяде Гэвину, поворачиваясь.
И дядя Гэвин пошел за ним.
– Это значит – и ты тоже ступай, – сказал он мне.
– Это значит – и вы все тоже, – сказал мистер Хэмптон. – Оставьте теперь дядюшку Билли в покое. Он должен составить опись украденного для этих инспекторов по наркотикам и для страховой компании.
Мы вышли на улицу и глядели, как мистер Хэмптон и дядя Гэвин шли к студии Монтгомери Уорда.
– Ну что? – сказал я Рэтлифу.
– Не знаю, – сказал он. – Или нет, кажется, знаю. Но придется подождать, пока Хэб и твой дядя это докажут.
– А что, по-вашему, это такое? – спросил я.
Тут он поглядел на меня.
– А вот посмотрим, – сказал он. – Хотя тебе уже десятый год, я думаю, ты еще не настолько взрослый, чтоб отказываться от мороженого, правда? Идем. Не будем беспокоить дядюшку Билли и Скитса. Пойдем в кафе «Дикси». – И мы пошли в кафе «Дикси», взяли два стаканчика мороженого и снова вышли на улицу.
– Ну что? – спросил я.
– Я так думаю, это пачка французских открыток, которые Монтгомери Уорд привез из Парижа с войны. Ты, верно, не понимаешь, что это такое.
– Не понимаю, – сказал я.
– Это картинки, снятые «кодаком», а на них мужчины и женщины занимаются всякими делами. И они совсем раздетые. – Трудно сказать, смотрел он на меня или нет. – Теперь понял?
– Нет, не понял, – сказал я.
– А может, понял? – сказал он.
Вон оно что. Дядя Гэвин потом рассказал, что у Монтгомери Уорда был большой альбом этих открыток и он настолько обучился фотографии, что сделал с них диапозитивы, которые и показывал через волшебный фонарь в задней комнате на простыне. И он рассказал, как Монтгомери Уорд стоял и смеялся над ним и над мистером Хэмптоном. Но обращался он все больше к дяде Гэвину.
– Ну, еще бы, – сказал Монтгомери Уорд. – Я и не ожидал, что у Хэба…
– Называй меня мистер Хэмптон, – сказал мистер Хэмптон.
– …хватит ума…
– Называй меня мистер Хэмптон, мальчишка, – сказал мистер Хэмптон.
– У мистера Хэмптона… – сказал Монтгомери Уорд. -…но вы ведь юрист; уж не думаете ли вы, что я взялся за это дело, не прочитав сперва законы, как по-вашему? Можете конфисковать их все, какие здесь найдете; я уверен, что мистер Хэмптон не допустит, чтобы такое пустячное препятствие, как закон, помешало ему сделать это…
Тут-то мистер Хэмптон и дал ему затрещину.
– Бросьте, Хэб! – сказал дядя Гэвин. – Не валяйте дурака!
– Пускай бьет, – сказал Монтгомери Уорд. – Подать на своих благодетелей в суд легче, чем крутить волшебный фонарь. Да оно и безопасней. Так о чем это я? Ах да. Даже если бы я их рассылал по почте, чего вовсе не было, все равно дело подлежало бы ведению федеральных властей, но я не вижу здесь ни одного федерального шпика. И если вы даже попробуете состряпать обвинение, что я наживал на них деньги, откуда вы возьмете свидетелей? У вас только и есть Гровер Уинбуш, а он не посмеет это подтвердить; и не потому, что потеряет работу, он ее все равно потеряет, а потому, что праведные христиане города Джефферсона не допустят этого, – им никак нельзя, чтоб все узнали, что делает их полиция, когда все думают, будто она работает. Я уж не говорю об остальных моих клиентах, имен называть не буду, но они повсюду есть – в банках, и в лавках, и на хлопкоочистительных машинах, и на бензозаправочных станциях, и на фермах – на целых два округа в обе стороны от Джефферсона; и, ей-богу, мне вот какая пришла мысль: валяйте наложите на меня штраф, увидите, как быстро все будет оплачено… – Он остановился и сказал с каким-то глухим удивлением: – О черт! – И дальше, скороговоркой: – Валяйте посадите меня под замок, дайте мне тысячу конвертов со штампом, и я за три дня добуду больше денег, чем за два года с этим паршивым волшебным фонарем. – Теперь он уже обращался к мистеру Хэмптону: – Может, вам только это и нужно было: не открытки, а список клиентов: подадите в отставку и только и будете знать, что с них деньгу выколачивать. Или нет: лучше вы уж свою шерифскую звезду при себе оставьте, так вам легче будет деньги собирать.
Но тут уж дяде Гэвину ничего и говорить не нужно было, на этот раз мистер Хэмптон даже не стал его бить. Он просто стоял, прищурив свои колючие глазки, покуда Монтгомери Уорд не замолчал. А потом сказал дяде Гэвину:
– Это правда? Здесь действительно должен присутствовать федеральный чиновник? И нет у нас такого закона, чтоб его прижать? Ну, думайте же! Неужто даже в городских законах ничего нет? – И теперь уж дядя Гэвин сказал: – О черт!
– Закон насчет автомобилей, – сказал он. – Сарторисов закон. – А мистер Хэмптон стоял и глядел на него. – Ведь он висит в рамке на стене у двери вашего кабинета. Вы хоть раз на него взглянули? Так сказано, что по улицам Джефферсона нельзя ездить на автомобилях…
– Чего? – сказал Монтгомери Уорд.
– Громче, – сказал дядя Гэвин. – Мистер Хэмптон вас не слышит.
– Но это ведь в черте города! – сказал Монтгомери Уорд. – А Хэмптон – только окружной шериф; он не может арестовать того, кто нарушил городской закон.
– Это тебе только так кажется, – сказал мистер Хэмптон. Он положил руку на плечо Монтгомери Уорда; и дядя Гэвин сказал, что на месте Монтгомери Уорда он предпочел бы, чтоб мистер Хэмптон снова дал ему затрещину. – Это ты скажешь не нам, а своему адвокату.
– Стойте, – сказал Монтгомери Уорд дяде Гэвину. – Ведь у вас тоже есть автомобиль. И у Хэмптона!
– А мы по алфавиту работаем, – сказал дядя Гэвин. – До «Х» мы еще не добрались, только до «С», а «Сн» идет раньше, чем «Ст». Берите его, Хэб.
И Монтгомери Уорду деваться было некуда, он совсем растерялся и стоял не двигаясь, а дядя Гэвин глядел, как мистер Хэмптон отпустил Монтгомери Уорда, взял альбом с картинками и конверты, в которых тоже были картинки, подошел к баку, где Монтгомери Уорд иногда и в самом деле проявлял пленку, и бросил их туда, а потом стал шарить на полке, среди бутылок и банок с проявителем.
– Что вы там ищете? – спросил дядя Гэвин.
– Виски… керосин… что-нибудь горючее, – сказал мистер Хэмптон.
– Горючее? – сказал Монтгомери Уорд. – Послушайте, вы, эти картинки денег стоят. Вот что, давайте договоримся: отдайте их мне, а я уберусь из вашего проклятого города ко всем чертям, и никогда больше ноги моей здесь не будет. Ну ладно, – сказал он. – У меня в кармане наберется с сотню долларов. Я положу их вот сюда на стол, а вы со Стивенсом отвернитесь и дайте мне десять минут…
– Хотите снова его ударить? – сказал дядя Гэвин. – На меня не обращайте внимания. К тому же он сам предложил мне отвернуться, так что вам остается лишь руку поднять. – Но мистер Хэмптон только взял еще одну бутылку, вынул пробку и понюхал. – Вы не имеете права, – сказал дядя Гэвин. – Это вещественные доказательства.
– Хватит с нас и одной, – сказал мистер Хэмптон.
– Ну, это еще неизвестно, – сказал дядя Гэвин. – Вы как хотите – просто осудить его или вовсе изничтожить? – И мистер Хэмптон остановился с бутылкой в Одной руке и пробкой в другой. – Вы же знаете, что сделает судья Лонг с человеком, у которого есть одна такая картинка. – Лонг был федеральный судья в нашем округе. – А представьте себе, что он сделает с человеком, у которого их целый вагон.
И мистер Хэмптон поставил бутылку на место, а потом пришел его помощник с чемоданом, и они положили туда альбом и конверты и закрыли чемодан, и мистер Хэмптон запер его в свой сейф, чтобы отдать потом мистеру Гомбольту, федеральному судебному исполнителю, когда он вернется в город, и они посадили Монтгомери Уорда в окружную тюрьму за езду на автомобиле в нарушение законов города Джефферсона, и Монтгомери Уорд сперва ругался, потом грозил, а потом снова пытался подкупить кого-нибудь из тюремных или городских властей, всем совал деньги. А мы гадали, скоро ли он попросит свидания с мистером де Спейном. Потому что мы знали – меньше всего на свете он ждет помощи от своего дяди или двоюродного брата Флема, который уже избавился от одного Сноупса с помощью обвинения в убийстве, так почему бы ему не избавиться от другого с помощью непристойных открыток.
И даже дядя Гэвин, который, как говорил Рэтлиф, считал своим священным долгом никогда не показывать Джефферсону, что какой-нибудь из Сноупсов его удивил, не ожидал в тот день мистера Флема, который вошел к нему в кабинет, положил свою новую черную шляпу на край стола и сел, а челюсти его медленно и непрерывно двигались, словно он пытался прожевать что-то, не разжимая зубов. В глазах мистера Хэмптона ничего нельзя было прочесть, потому что они смотрели слишком пристально; нельзя было пройти мимо его взгляда, как нельзя пройти мимо лошади на узкой тропинке, где человеку с ней не разминуться и только-только впору пройти одной лошади. А в глазах мистера Сноупса ничего нельзя было прочесть, потому что они и в самом деле не смотрели на вас, как не смотрит стоячая лужа. Дядя Гэвин сказал, что он только через минуту или две понял, – они с мистером Сноупсом смотрят на одно и то же; только смотрят по-разному.
– Я думаю о Джефферсоне, – сказал мистер Сноупс.
– И я тоже, – сказал дядя Гэвин. – Об этом проклятом Гровере Уинбуше и всех других глупых юнцах от четырнадцати до пятидесяти восьми лет чуть не по всему Северному Миссисипи, которые платили двадцать пять центов, чтоб только заглянуть в этот альбом.
– А я и позабыл о Гровере Уинбуше, – сказал мистер Сноупс. – Его выгонят с работы, и тогда все захотят знать, за что, и дело выплывет наружу. – Это была беда мистера Сноупса. Я хочу сказать, это была наша беда, когда мы имели дело с мистером Сноупсом: ничего нельзя было понять, даже когда казалось, что он смотрит на тебя. – Не знаю, знаете вы или нет. Его мать живет в Уайтлифе. Каждую субботу утром он посылал ей с почтовой пролеткой на доллар еды.
– Итак, спасти одного – значит спасти их обоих, – сказал дядя Гэвин. – Если мы хотим, чтобы мать Гровера Уинбуша и дальше получала каждую субботу утром на доллар свиной грудинки и патоки, кто-то должен спасти вашего двоюродного брата, племянника, – кем он вам там доводится?
Как сказал Рэтлиф, мистер Сноупс, может, и пропускал мимо ушей то, что говорили у него за спиной, но никогда не пропускал мимо ушей никаких намеков. Во всяком случае, не уколы и насмешки. Или, во всяком случае, не на этот раз. – Я так об этом понимаю, – сказал он. – Но вы юрист. Ваше дело знать, как можно понимать иначе.
Дядя Гэвин тоже не пропускал мимо ушей намеков. – Вы не к тому юристу пришли, – сказал он. – Это дело относится к компетенции федерального суда. И, кроме того, я все равно не могу его взять; я получаю деньги за то, чтобы отстаивать интересы другой стороны. И, кроме того, – сказал он (покуда он был просто прокурором города, он говорил, как говорят в Гарварде и Гейдельберге. Но после того, как мы с ним целое лето разъезжали по округу, когда он выставил свою кандидатуру на пост прокурора округа, он стал говорить, как те люди, с которыми он останавливался поговорить у заборов или присаживался на корточки у стены деревенской лавки, и часто говорил, как они: «кажись» вместо «кажется» и «ихний» вместо «их», и даже «понимать об этом», как только что сказал мистер Сноупс), – давайте-ка разберемся. Ведь я-то хочу отправить его в тюрьму.
И тут дядя Гэвин понял, что они с мистером Сноупсом смотрят на одно и то же, только они стоят в разных местах, и поэтому мистер Сноупс сказал быстро и спокойно, как сам дядя Гэвин: – И я тоже. – Потому что Монтгомери Уорд был его конкурент, точно так же, как Уоллстрит, – они были похожи друг на друга в том отношении, что им вместе было тесно в Джефферсоне. А дядя Гэвин, по мнению Рэтлифа, этого не понимал. – И я тоже, – сказал мистер Сноупс. – Только по другой причине. Я думаю о Джефферсоне.
– Что ж, тем хуже для Джефферсона, – сказал дядя Гэвин. – Монтгомери Уорда будет судить Лонг, а когда судья Лонг увидит хоть одну такую картинку, не говоря уж о целом чемодане, мне даже Монтгомери Уорда жалко станет. Вы не забыли, что было в прошлом году с Уилбером Провайном?
Уилбер Провайн тоже жил на Французовой Балке. Рэтлиф сказал, что на самом деле он был Сноупс; и когда провидению стало ясно, что Эк Сноупс не оправдает свою родословную и семейные традиции, оно выудило откуда-то Уилбера Провайна, дабы заполнить пустоту. У Провайна был самогонный аппарат в овраге, около родника, в полутора милях от дома, и от задней двери его дома до родника была протоптана тропа глубиной в добрых шесть дюймов, по которой он целых два года дважды в день ходил туда, покуда его не накрыли и не привели в федеральный суд, и когда адвокат задавал ему вопросы, у него был такой удивленный и невинный вид, словно он никогда в жизни не слыхал слова «самогон», и он сказал: нет, он никогда и не слыхивал, чтоб на десять миль в округе был самогонный аппарат, не говоря уж о тропинке, которая вела от задней двери его дома, и сам он десять лет не ходил к этому ручью даже на охоту или на рыбалку, потому что он христианин и считает, что ни один христианин не должен губить божьих тварей, а рыбой он объелся, еще когда ему было восемь лет, и с тех пор в рот ее не берет.
А потом судья Лонг спросил его, как он объяснит, откуда взялась эта тропинка, и Уилбер поглядел на судью Лонга, моргнул раз или два и сказал, что не имеет никакого понятия, разве только, может, жена ее протоптала, таская воду из родника; а судья Лонг (у него хоть и была такая короткая фамилия, а сам он был шести с половиной футов росту и нос, казалось, составлял одну шестую этой длины), перегнувшись через стол, с очками на кончике носа, некоторое время смотрел на Уилбера, а потом сказал: – Я вас упеку на каторгу, но не за то, что вы делали виски, а за то, что позволяли своей жене таскать воду за полторы мили. – Вот с кем Монтгомери Уорду предстояло иметь дело в суде, и, казалось бы, всякий в округе Йокнапатофа, не говоря уж о городе Джефферсоне, слышал эту историю. Но мистер Сноупс, казалось, ее не слышал. Потому что у него даже челюсти перестали работать.
– Говорят, судья Лонг дал ему пять лет, – сказал он. – Может, лишние четыре года как раз и были за тропинку.
– Возможно, – сказал дядя Гэвин.
– Пять лет, верно? – сказал мистер Сноупс.
– Верно, – сказал дядя Гэвин.
– Пусть мальчик выйдет, – сказал мистер Сноупс.
– Нет, – сказал дядя Гэвин.
Теперь челюсти мистера Сноупса снова заработали. – Пусть выйдет, – сказал он.
– Я тоже думаю о Джефферсоне, – сказал дядя Гэвин. – Вы вице-президент банка полковника Сарториса. Я ведь даже и о вас думаю.
– Премного благодарен, – сказал мистер Сноупс. Теперь он ни на что не глядел. Времени он зря не терял, но и не торопился; он просто встал, взял со стола свою новую черную шляпу, надел, пошел к двери, открыл ее и даже тогда не остановился, а только словно бы переступил с ноги на ногу и сказал, так же ни к кому не обращаясь, как ни на кого не смотрел: – До свиданья. – А потом вышел и закрыл за собой дверь.
Тогда я сказал: – Что… – И запнулся, и мы с дядей Гэвином оба поглядели на дверь, а она снова открылась, или, вернее, начала открываться, растворилась примерно на фут, а оттуда ни звука, а потом мы увидели щеку и глаз Рэтлифа, а потом и сам Рэтлиф вошел, вступил в кабинет, подошел бочком к столу, все так же бесшумно.
– Я опоздал или, наоборот, пришел слишком рано? – спросил он.
– Ни то, ни другое, – сказал дядя Гэвин. – Он, видно, спохватился, передумал. Что-то случилось. Все пошло вкривь и вкось. А сначала как будто все шло правильно. Вы же знаете: тут, мол, дело не во мне и, уж во всяком случае, не в моем родиче. Знаете, что он сказал?
– Откуда же мне знать? – сказал Рэтлиф. – Вот сейчас и узнаю.
– Я сказал: «Давайте-ка разберемся. Я хочу отправить его в тюрьму». А он: «И я тоже»…
– Так, – сказал Рэтлиф. – Дальше.
– …»не во мне дело, не в моем родиче», – сказал дядя Гэвин. – «Дело в Джефферсоне» – так что после этого он должен был начать грозить. Но только он не грозил…
– Почему грозить? – сказал Рэтлиф.
– Порядок такой, – сказал дядя Гэвин. – Сперва лесть, потом угроза, потом взятка. И Монтгомери Уорд так же пробовал.
– Это вам не Монтгомери Уорд, – сказал Рэтлиф. – Будь Монтгомери Уорд Флемом, эти картинки никогда бы не увидели Джефферсона, а уж Джефферсон и подавно их не увидел бы. Но нам нечего беспокоиться, что Флем умнее Монтгомери Уорда; почти всякий в городе его умнее. А беспокоиться надо о том, кто еще может оказаться глупее его. Ну, а потом что?
– Он ушел, – сказал дядя Гэвин. – А ведь совсем уж было собрался начать. Просил даже, чтобы Чик вышел. А когда я сказал «нет», он взял шляпу, сказал «Премного благодарен» и вышел, словно заглянул сюда, только чтобы попросить прикурить.
Рэтлиф моргал, глядя на дядю Гэвина. – Значит, он хочет, чтоб Монтгомери Уорд попал в тюрьму. Только не хочет, чтоб при таких обстоятельствах, как сейчас. А потом передумал.
– Из-за Чика, – сказал дядя Гэвин.
– Потом он передумал, – сказал Рэтлиф.
– Вы правы, – сказал дядя Гэвин. – Это потому, что он знал – раз я отказался выслать Чика, значит, отказался от взятки.
– Нет, – сказал Рэтлиф. – Для Флема Сноупса нет на свете человека, которого нельзя так или иначе купить; нужно лишь одно – найти, чем его купить. Только отчего же он передумал?
– Вот именно, – сказал дядя Гэвин. – Отчего?
– О чем вы говорили, когда он попросил, чтобы Чик вышел?
– О тюрьме, – сказал дядя Гэвин. – Я же вам только что сказал.
– Об Уилбере Провайне, – сказал я.
Рэтлиф поглядел на меня. – Об Уилбере Провайне?
– Об его самогонном аппарате, – сказал я. – Об этой тропинке и о судье Лонге.
– Ах так, – сказал Рэтлиф. – Ну а потом что?
– Ничего, – сказал дядя Гэвин. – Он только сказал: «Пусть мальчик выйдет», – а я сказал…
– Нет, это потом, – сказал я. – А сначала мистер Сноупс сказал насчет срока в пять лет, что, может, лишние четыре года были за тропинку, а ты сказал: «Возможно», а мистер Сноупс снова сказал: «Ведь он ему пять лет дал, верно?» – а ты сказал «да», а потом он сказал, чтоб я вышел.
– Ладно, ладно, – сказал дядя Гэвин. Но глядел он на Рэтлифа. – Ну? – сказал он.
– Сам не знаю, – сказал Рэтлиф. – Знаю только одно – слава богу, что я не Монтгомери Уорд Сноупс.
– Да, – сказал дядя Гэвин. – Пусть только судья Лонг увидит этот чемодан…
– Конечно, – сказал Рэтлиф. – Это уж дело Сэма. Нет, Монтгомери Уорд своего дядюшку Флема должен бояться, только он этого, как видно, пока не понимает. Да и нам его надо опасаться. Пока он только за деньгами гнался, мы хоть знали, о чем нужно догадываться, хоть и понимали, что сразу не догадаться. Но на этот раз… – Он поглядел на нас, моргая.
– Ладно, – сказал дядя Гэвин. – Как же быть?
– Помните анекдот, как один человек нашел свою заблудившуюся собаку? Он просто сел, представил себе, куда бы он сам убежал, будь он собакой, встал, пошел туда, нашел свою собаку и отвел домой. Так вот. Положим, мы с вами – Флем Сноупс. У нас есть возможность избавиться от нашего – как бишь это говорится?… – непрезентабельного… от непрезентабельного племянника, упечь его в тюрьму. Только мы теперь – вице-президент банка и не можем допустить, чтобы все узнали, что племянник, хоть и непрезентабельный, тайно показывает французские картинки. А судья, что упечет его в тюрьму, тот самый, который сказал Уилберу Провайну, что посылает его в Парчмен не за то, что он делал виски, а за то, что его жена таскала воду за полторы мили. – Он поморгал, глядя на дядю Гэвина. – Вы правы. Не «что?», а «как?» – вот правильная постановка вопроса. И, поскольку вы человек не корыстный, а у него хватило ума не предлагать денег Хэбу Хэмптону, мы просто не знаем, что это за «как». Разве только теперь, когда он сделался важной шишкой у баптистов, он стал уповать на провидение.
Может, он и уповал на провидение. Как бы то ни было, оно ему помогло. Было это на другое утро, часов в десять; мы с дядей Гэвином как раз выходили из кабинета, чтобы ехать на Уайотт-Кроссинг, где случилась какая-то передряга из-за тяжбы по поводу налога на осушительные канавы, и вдруг вошел мистер Хэмптон. Он, казалось, насвистывал что-то сквозь зубы, веселый и беззаботный, вроде бы свистел, только никакого звука не получалось, не говоря уж о мотиве. – Доброе утро, – сказал он. – Вчера, когда мы были в этой студии и я шарил среди бутылок на полке в поисках спиртного или чего-нибудь горючего…
– Ну, – сказал дядя Гэвин.
– Сколько бутылок и банок я открыл и понюхал? Вы ведь там были. Вы видели.
– Кажется, все до единой, – сказал дядя Гэвин. – А что?
– Мне тоже так казалось, – сказал мистер Хэмптон. – Но я мог ошибиться. – Он смотрел на дядю Гэвина своими колючими глазками и все так же беззвучно свистел сквозь зубы.
– Ну, теперь вы нас подготовили, – сказал дядя Гэвин. – Привели нас в должное взволнованное состояние. Говорите же.
– Сегодня утром, часов в шесть, мне позвонил Джек Креншоу (мистер Креншоу был разъездным налоговым сборщиком и все еще охотился за самогоном в нашем округе). Он попросил меня прийти в эту студию как можно скорее. Они были там вдвоем и уже обыскали ее. В двух галлонных кувшинах из тех, что стояли там на полке, которые я вчера открыл и нюхал, и там тогда не было ничего, кроме проявителя «кодак», сегодня утром было самогонное кукурузное виски, хотя, говорю вам, я мог ошибиться и пропустить эти кувшины. Я уж не говорю еще о пяти галлонах в керосиновом бачке, стоявшем за печкой, я вчера его не понюхал по той простой причине, что его там не было, когда я заглянул за печь, иначе я не стал бы нюхать бутылки на полке, искать, на чем сжечь эти картинки. Хотя, как вы говорите, я мог ошибиться.
– Нет, это вы так говорите, – сказал дядя Гэвин.
– Может, вы правы, – сказал мистер Хэмптон. – В конце концов я вынюхиваю самогонку в этом округе с тех самых пор, как меня в первый раз выбрали шерифом. И с тысяча девятьсот девятнадцатого года я так насобачился, что мне и нюхать теперь не надо: я чую ее в тот же миг, как оказываюсь там, где ее не должно быть. Не говоря уж об этом полнехоньком пятигаллонном бачке, который стоял так, что я непременно споткнулся бы об него и упал, когда старался дотянуться до полки.
– Ну, – сказал дядя Гэвин. – Дальше.
– Все, – сказал мистер Хэмптон.
– Как он туда пробрался? – спросил дядя Гэвин.
– Он? – сказал мистер Хэмптон.
– Ну ладно, – сказал дядя Гэвин. – Пускай «они», если вам так больше нравится.
– Я и сам об этом думал, – сказал мистер Хэмптон. – Этот самый ключ. Я сказал – этот самый, потому что даже у такого дурака хватило ума не прятать ключ от своей студии, а носить его с собой, на шее.
– Ах, вот оно что, – сказал дядя Гэвин.
– Ага, – сказал мистер Хэмптон. – Я этот ключ сунул в ящик, где держу всякие такие штуки, наручники и запасной револьвер. Кто угодно мог войти, пока меня и мисс Эльмы не было (это его секретарша, вдова, ее муж был шерифом до мистера Хэмптона), и взять его.
– Или взять револьвер, – сказал дядя Гэвин. – Право, вам следует запирать свой кабинет, Хэб. Когда-нибудь вы оставите там свой шерифский значок, а когда вернетесь, увидите, что какой-нибудь мальчишка на улице арестовывает людей.
– Может, оно и верно, – сказал мистер Хэмптон. – Ну так вот, – сказал он. – Кто-то взял этот ключ и принес туда виски. Может, это кто-нибудь из них, кто-нибудь из тех, как сказал этот проклятый Гровер Уинбуш, что съезжаются с четырех округов, чтобы по ночам пускать слюни, глядя на эти чертовы картинки.
– Как хорошо, что вы хоть чемодан заперли. Он ведь до сих пор у вас, потому что мистер Гомбольт еще не вернулся, верно?
– Верно, – сказал мистер Хэмптон.
– А Джека Креншоу и его приятеля интересует как раз виски, а не фотографии. Значит, вы еще никому не передали этот чемодан.
– Верно, – сказал мистер Хэмптон.
– Но вы это сделаете? – сказал дядя Гэвин.
– А вы как думаете? – сказал мистер Хэмптон.
– Так же, как и вы, – сказал дядя Гэвин.
– В конце концов одного виски вполне достаточно, – сказал мистер Хэмптон. – А если и нет, то нам довольно показать судье Лонгу одну их этих фотографий перед тем, как он вынесет приговор. К черту, – сказал он. – Ведь это Джефферсон. Мы здесь живем. Джефферсон важнее всего, важнее даже удовольствия проучить этого распроклятого…
– Да, – сказал дядя Гэвин. – Я это уже слышал. – И мистер Хэмптон ушел. Нам оставалось только ждать, и ждали мы недолго. Не приходилось ломать себе голову, много ли Рэтлиф слышал, потому что было заранее известно, что он слышал все. Он закрыл за собой дверь и остановился на пороге.
– Отчего вы не сказали ему вчера про Флема Сноупса? – спросил он.
– Оттого что он дал Флему Сноупсу или еще кому-то войти прямо в свой кабинет и украсть ключ. Хэб уже больше не может позволить себе смотреть сквозь пальцы на преступления, – сказал дядя Гэвин. Он сложил бумаги в портфель, закрыл его и встал.
– Вы уходите? – спросил Рэтлиф.
– Да, – сказал дядя Гэвин. – Надо ехать на Уайотт-Кроссинг.
– И вы не подождете Флема?
– Он сюда больше не придет, – сказал дядя Гэвин. – Не посмеет. А то, ради чего он вчера хотел дать мне взятку, все и так произойдет, но уже без взятки. Прийти же снова, чтобы разнюхать, он не посмеет. Придется ему ждать и услышать о результате вместе со всеми. Он это знает. – Но Рэтлиф все загораживал дверь.
– Наша беда в том, что мы никогда не оцениваем Флема Сноупса правильно. Сперва мы сделали ошибку, не оценив его вовсе. Потом сделали ошибку, переоценив его. А теперь мы снова собираемся сделать ошибку, недооценив его. Если человек просто хочет денег, ему, чтобы удовлетвориться, надо только сосчитать их, положить куда-нибудь в надежное место, и дело с концом. Но он теперь узнал, как приятно обладать этим новым сокровищем, а тут уж дело другое. Это все равно как наслаждаться теплом зимой, или прохладой летом, или миром, или свободой, или довольством. Это нельзя просто сосчитать, надежно запереть где-нибудь и забыть, покуда не захочется снова взглянуть. Об этом надо все время заботиться, все время помнить. Это должно быть у всех на виду, иначе этого все равно что нет.
– Чего нет? – сказал дядя Гэвин.
– Того нового открытия, которое он только что сделал, – сказал Рэтлиф. – Можете называть это гражданской добродетелью.
– Отчего же, – сказал дядя Гэвин. – Вы думали назвать это как-то иначе? – Рэтлиф глядел на дядю Гэвина пристально, с любопытством; он словно ждал чего-то. – Ну, дальше, – сказал Гэвин. – Я вас перебил.
Но Рэтлиф уже ничего не ждал. – Да, да, – сказал он. – Он придет к вам. Должен будет прийти, чтобы убедиться, что и вы все поймете, когда время наступит. Может, он до вечера будет крутиться где-нибудь поблизости, чтобы, как говорится, пыль осела. А потом придет, чтобы, по крайней мере, показать, как прогадал тот, кто его хочет отстранить.
Так что в Уайотт мы не поехали, но на этот раз Сноупса недооценил сам Рэтлиф. Не прошло и получаса, как мы услышали на лестнице его шаги, а потом дверь отворилась, и он вошел. На этот раз он не снял свою черную шляпу; он сказал только: «Доброе утро, джентльмены», – подошел к столу, бросил на него ключ от студии Монтгомери Уорда и пошел назад к двери, а дядя Гэвин сказал:
– Премного благодарен. Я верну его шерифу. Вы как и я, – сказал он. – Вам тоже наплевать на истину. Вас интересует только справедливость.
– Меня интересует Джефферсон, – сказал мистер Сноупс, берясь за ручку и отворяя дверь. – Нам здесь жить. До свидания, джентльмены.
11. В.К.РЭТЛИФ
И все же он ничего не понял, даже сидючи… сидя в своем служебном кабинете и наблюдая, каким способом Флем избавил Джефферсон от Монтгомери Уорда. И все же я ничего не мог ему рассказать.
12. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН
Чего бы, по мнению Рэтлифа, ни добивался мистер Сноупс, но, по-моему, то, чем тогда занялся дядя Гэвин, ничему не помогало. На этот раз моей маме даже не пришлось сваливать вину за все на мисс Мелисандру Бэкус, потому что мисс Мелисандра в это время уже вышла замуж за человека, за приезжего, про которого все, кроме самой мисс Мелисандры, знали (мы не имели понятия, знал ли об этом ее отец, который все дни просиживал на своей веранде со стаканом сода-виски в одной руке и томиком Горация или Вергилия в другой – такое сочетание, по словам дяди Гэвина, отгородило бы от простой сельской жизни Северного Миссисипи и более сильного человека), знали, что он известный всем, очень богатый бутлегер из Нового Орлеана. По правде говоря, она отказывалась этому верить, даже когда его привезли домой с аккуратным пулевым отверстием посреди лба и повезли хоронить на не пробиваемом пулями бронированном катафалке, а следом ехали такие паккарды и кадиллаки, которых не постыдился бы Голливуд, не говоря об Аль Капоне.
Нет, я не о том. Мы по-прежнему не имели понятия, знала ли и она об этом или нет, даже через много лет после его смерти, когда у нее была куча денег, двое детей и это имение, – в ее детстве оно было просто обыкновенной миссисипской хлопковой плантацией, но ее муж понастроил там такие белые изгороди, такие флюгера в виде коньков, что оно стало чем-то средним между загородным клубом в Кентукки и ипподромом на Лонг-Айленде; многие друзья считали, что они обязаны открыть ей глаза на то, откуда шли все эти деньги; но даже теперь, стоило им об этом заговорить, она меняла тему разговора, – она все еще казалась юной девушкой, тоненькой, смуглой, хотя уже была миллионершей и матерью двоих детей и в ней таилась страшная сила – та беззащитность, беспомощность, которая посвящает в рыцари каждого мужчину, оказавшегося поблизости, прежде чем он успевает повернуться и удрать, – и она меняла тему разговора, словно даже имени своего мужа никогда не слыхала, словно его никогда и на свете не было.
Понимаете, на этот раз моя мама даже не могла сказать: «Если б он женился на Мелисандре Бэкус, она бы спасла его от всего этого», – причем на этот раз она подразумевала Линду Сноупс, как раньше – миссис Флем Сноупс. Но, во всяком случае, она все обдумала, потому что вдруг перестала беспокоиться. – Ничего, – сказала она отцу. – Все это уже раньше было: разве не помнишь? Он и в Мелисандру никогда не был влюблен, ну, ты понимаешь, по-настоящему. Всякие там книжки, цветы, срывал мои тюльпаны и нарциссы, чуть только они расцветут, и посылал туда, где весь двор, – акра два, не меньше, – был засажен тюльпанами, срезал для нее лучшие мои розы и читал ей стихи, сидя в гамаке. Он просто формировал ее ум: больше ему ничего не было нужно. Но Мелисандра всего на пять лет моложе его, а ведь эта чуть ли не вдвое младше, собственно говоря, он ей в дедушки годится.
И тут отец сказал: – Хе, хе, хе! Формироваться-то она формируется, но действует это не на ее ум, а на Гэвина. Эти формы и на меня бы подействовали, если б я не был женат и не боялся на нее смотреть. Да ты сама смотрела на нее когда-нибудь? Ты же человек, хотя и женщина. – Да, я вспоминаю много случаев, когда казалось, что мой отец родился слишком рано, до того, как изобрели «волчий присвист».
– Перестань! – сказала мама.
– Но в конце концов, – сказал отец, – может быть, Гэвина и впрямь надо спасти из этих шестнадцатилетних когтей. Ты поговори с ним, скажи ему, что я согласен принести себя в жертву на алтарь семейной чести.
– Перестань! Перестань сейчас же! – сказала мама. – Неужели ты даже сострить лучше не можешь?
– Дело обстоит куда хуже, – сказал отец. – Я не острю, я говорю серьезно. Вчера после обеда они сидели за столиком, в кондитерской Кристиана. Перед Гэвином стояло только блюдечко с мороженым, а вот она ела какую-то мешанину, – наверно, ему это стоило центов двадцать, а то и все тридцать. Так что Гэвин прекрасно знает, что делает; и все-таки хоть она и недурна собой, но до матери ей далеко: нет в ней чего-то этакого. – И он обеими руками изобразил в воздухе что-то похожее на форму песочных часов, а мама стояла перед ним и смотрела на него как змея. – Может, он сначала сосредоточил внимание на формировании ее форм, а о формировании ума не очень-то думает. И кто знает? Может быть, она когда-нибудь и на него посмотрит такими же глазами, как на банановый пломбир, или что ей там подавал Ските Макгаун.
Но мама уже ушла. И теперь ей, конечно, был нужен кто-нибудь, вроде мисс Мелисандры и всех ее друзей (то есть фактически всего Джефферсона), чтобы следить, когда дядя Гэвин с Линдой заходят после уроков в кондитерскую Кристиана и Линда ест банановый пломбир или просто мороженое с содовой, а последняя книга стихов, которую он для нее выписал, лежит тут же, на мраморном столике, около тающего мороженого или лужицы кока-колы. Все-таки, по-моему, Джефферсон слишком маленький городок, чтобы тридцатипятилетний холостяк, даже магистр Гарвардского и доктор Гейдельбергского университетов, с висками, поседевшими чуть ли не с двадцати пяти лет, мог спокойно есть мороженое и читать стихи с шестнадцатилетней девочкой. Хотя если уж этому суждено было случиться, то, может быть, тридцать пять лет самый подходящий возраст для холостяка, чтобы покупать мороженое и книги стихов шестнадцатилетней девочке. Я так и сказал маме. А она ответила – не змеиным голосом, потому что у змей голоса нет, а точно таким, каким бы заговорила зубоврачебная бормашина, если бы умела разговаривать:
– Не бывает такого возраста у холостяка, начиная с трех до восьмидесяти лет, когда он безнаказанно может угощать мороженым шестнадцатилетних девочек, – сказала она. – Формирует ее ум, – сказала она. Но когда она разговаривала с дядей Гэвином, голос у нее был как сливки. Нет: голоса никакого не было слышно, потому что она молчала. Она ждала, что он сам заговорит. Нет: вернее, она просто ждала, зная, что ему придется заговорить. Ведь Джефферсон был слишком мал. Нет, я хочу сказать, что дядя Гэвин всю жизнь прожил в Джефферсоне или в других маленьких городках, так что он не только отлично понимал, что именно будет говорить Джефферсон о нем, и о Линде Сноупс, и об этих банановых пломбирах и книжках стихов, но и понимал, что у мамы достаточно друзей, и ей все станет известно.
Вот она и ждала. Была суббота. Дядя Гэвин дважды входил в кабинет (мы все еще так называли эту комнату, хотя и не в мамином присутствии, потому что так ее звал дедушка, но в конце концов и мама перестала называть ее библиотекой), где мама сидела и что-то записывала, может быть, белье для прачечной; два раза он входил и выходил, но она не обращала внимания. Потом он сказал: – Я думал, может быть… – Они так всегда разговаривали. То есть они так разговаривали, наверно, потому, что они были близнецы. То есть я так решил, потому что никогда не видел других близнецов и сравнивать не мог. Она даже писать не перестала.
– Конечно, – сказала она. – Может быть, завтра? – Тут он мог бы уйти, потому что оба, очевидно, поняли, о чем речь. Но он сказал:
– Спасибо. – Потом обратился ко мне: – Кажется, тебя на улице ждет Алек Сэндер?
– Глупости! – сказала мама. – То, что он узнает от тебя про шестнадцатилетних девочек, наверно, во сто раз невиннее, чем то, что он в один прекрасный день узнает от самих шестнадцатилетних девочек. Значит, позвонить ее матери и попросить, чтобы она разрешила ей прийти к нам завтра обедать, или ты сам позвонишь?
– Спасибо! – сказал дядя Гэвин. – Хочешь, чтобы я тебе рассказал про все про это?
– А ты хочешь? – сказала мама.
– Да, может быть, так будет лучше, – сказал дядя Гэвин.
– А нужно ли это? – сказала мама. На этот раз дядя Гэвин промолчал. Потом мама сказала: – Ну, что ж. Мы тебя слушаем. – И опять дядя Гэвин промолчал. Но тут он снова стал прежним дядей Гэвином. Понимаете, до этой минуты он разговаривал так, как иногда разговаривал я сам. Но сейчас он стоял, смотрел на мамин затылок, опустив лохматую седую голову, вечно нестриженную, и прокуренный черенок тростниковой трубки торчал у него из нагрудного кармана, а глаза, лицо такие, что никогда наверняка не угадаешь, что он сейчас скажет, а когда скажет, то всегда понимаешь, что это верно, только сказано немножко чудно, как никто другой не скажет.
– Н-да, – сказал он. – Если уж такой человек, как ты, при твоей полной неспособности верить сплетням и грязным пересудам, тоже что-то придумывает и сочиняет, так могу себе представить, что измышляет весь Джефферсон, все специалисты по этой части. Клянусь Цицероном, я просто молодею: вот пойду в город и куплю себе красный галстук. – Он посмотрел на мамин затылок. – Спасибо тебе, Мэгги, – сказал он. – Тут все наши усилия нужны, вся наша добрая воля. Спасти Джефферсон от Сноупсов – это потребность, необходимость, долг. Но спасти Сноупса от Сноупсов это честь, привилегия, заслуга.
– Особенно если это шестнадцатилетний Сноупс женского пола, – сказала мама.
– Да, – сказал дядя Гэвин. – А ты возражаешь?
– Разве я возражала? – сказала мама.
– Да, ты пыталась возражать! – Он быстро подошел, положил ей руку на голову, продолжая говорить. – И благослови тебя бог за это. Ты всегда пыталась возражать против этой проклятой женской черты – против инстинкта супружеской, чопорной респектабельности, которая служит опорой всей культуры, еще не упадочной, ведь культура не приходит в упадок, только пока она еще рождает таких неисправимых, непоколебимых, как ты, – тех, кто имеет смелость нападать, и противостоять, и возражать, – и на секунду нам показалось, что сейчас он наклонится и поцелует ее: по-моему, мы все трое так подумали. Но он не поцеловал ее, вернее мама успела сказать:
– Перестань! Оставь меня в покое. Решай наконец: хочешь, чтобы я позвонила ей, или ты сам?
– Я сам, – сказал он. Он посмотрел на меня. – Два красных галстука: второй для тебя. Жаль, что тебе не шестнадцать лет. Ей нужен кавалер, вот что.
– Ну, если бы в шестнадцать лет непременно надо было бы стать ее кавалером, так слава богу, что мне нет шестнадцати, – сказал я. – Кавалер у нее уже есть. Матт Ливитт. Он получил Золотые перчатки не то в Огайо, не то еще где-то, в прошлом году. И вид у него такой, что он и сейчас может пустить их в ход. Нет уж, большое спасибо! – сказал я.
– О чем ты? – сказала мама.
– Пустяки! – сказал дядя Гэвин.
– Наверно, ты никогда не видел, как он боксирует, – сказал я, – иначе ты не говорил бы про него «пустяки». Я-то его видел. С Причером Бердсонгом.
– Который же из твоих друзей-спортсменов Причер Бердсонг? – спросила мама.
– Он вовсе не спортсмен, – сказал я. – Он живет в деревне. А боксировать научился во Франции, на войне. Он и Матт Ливитт…
– Подожди, – сказал дядя Гэвин. – Он…
– Кто – «он»? – сказала мама. – Твой соперник?
– …из Огайо, – сказал дядя Гэвин. – Окончил эту новую школу механиков у Форда, и фирма послала его сюда – работать механиком при их гараже…
– У него своя машина, желтая, открытая, – сказал я.
– И Линда в ней катается? – сказала мама.
– …и так как Джефферсон город маленький, а он не слепой, – сказал дядя Гэвин, – то рано или поздно он увидал Линду Сноупс, должно быть, где-нибудь между домом и школой; и так как он мужчина и ему двадцать первый год, то он, естественно, не теряя времени, познакомился с ней; репутация обладателя Золотых перчаток, которую он либо действительно заслужил, либо придумал по дороге сюда, очевидно, отстранила всех возможных соперников…
– Кроме тебя, – сказала мама.
– Брось, – сказал дядя Гэвин.
– Да, кроме тебя, – сказала мама.
– Он всего лет на пять старше ее, – сказал дядя Гэвин. – А я больше чем вдвое старше.
– Кроме тебя, – сказала мама. – Все равно, до какого бы возраста ты не дожил, ты никогда не будешь вдвое старше, чем любая женщина, а сколько ей лет, это неважно!
– Ладно, ладно, – сказал дядя Гэвин. – Так о чем это я? Спасти Джефферсон от Сноупса – наш долг. Спасти Сноупса от Сноупса – великая честь.
– Ты говорил – привилегия, – сказала мама. – Заслуга.
– Ну, ладно, – сказал дядя Гэвин. – Пусть будет просто удовольствие. Ты довольна?
Тем и кончилось. Через некоторое время отец вернулся домой, но маме нечего было ему рассказать, потому что он и так все знал, ему только оставалось ждать, пока понадобится «волчий присвист», которого еще не придумали; ждать до следующего дня, до послеобеда.
Она пришла немного позже двенадцати, как раз в то время, как ей возвращаться из церкви, если только она в тот день ходила в церковь. Может, и ходила, потому что на ней была шляпа. А может быть, мать заставила ее надеть шляпу ради моей мамы; она показалась на улице из-за угла, и она бежала бегом. Тут я увидел, что шляпа у нее как-то сбилась набок, как будто кто-то ее дернул, или потянул, или она за что-то зацепилась мимоходом, да еще другой рукой она держалась за плечо. И тут я увидал, что лицо у нее ужасно злое. Испуганное, конечно, тоже, но сейчас, когда она входила в калитку, держась за плечо, и уже не бежала, а просто шла быстрым, твердым шагом, лицо у нее было скорее злое, чем испуганное, но потом испуг проступил сильнее. И вдруг, оба эти выражения слились в одно, совершенно непохожее ни на испуг, ни на злость, потому что в эту минуту из-за угла выехала машина и промчалась мимо – машина Матта Ливитта, – в городе было много таких подержанных машин, но только у него одного на радиаторе красовалась огромная медная сирена, и, когда он на всем ходу нажимал кнопку, сирена гудела в два тона: и вдруг мне показалось, как будто чем-то запахло, пронесся порыв чего-то такого, что я не понял, даже если бы это когда-нибудь повторилось; машина промчалась, а Линда пошла дальше напряженным, быстрым шагом, в съехавшей набок шляпке, все еще держась за плечо, все еще дыша порывисто и быстро, хотя на ее лице уже ничего, кроме испуга, не было, и поднялась на веранду, где ждали мама и дядя Гэвин.
– Здравствуй, Линда! – сказала мама. – У тебя рукав порван!
– Зацепилась за гвоздь, – сказала Линда.
– Вижу, – сказала мама. – Пойдем наверх, в мою комнату, снимешь платье, я зашью.
– Не стоит, – сказала Линда, – лучше дайте мне булавку.
– Ну, возьми иголку, зашей сама, а я пойду узнаю, как с обедом, – сказала мама. – Ты ведь умеешь шить, правда?
– Да, мэм, – сказала Линда. Они поднялись наверх, в мамину спальню, а мы с дядей Гэвином пошли в кабинет, и тут отец, конечно, сказал дяде Гэвину:
– Значит, не успела она сюда дойти, как кто-то к ней пристал? Что же ты, мой мальчик? Где твое копье и меч? Где твой белый конь?
Но в первый раз Матт не прогудел в свою медную сирену, проезжая мимо нашего дома, так что мы не понимали, к чему так прислушивается Линда, сидя за обеденным столом, – дырка на плече была зашита, да так, будто зашивал ее десятилетний ребенок, а лицо у нее было все еще напряженное, испуганное. Но мы тогда еще ничего не понимали. То есть не понимали, что ей приходится столько всего делать сразу: и притворяться, что ей нравится обед, и держать себя как следует за столом, в чужом доме, среди людей, которые, как она понимала, не имеют никаких особых оснований хорошо к ней относиться, и все время ждать, что же еще выкинет Матт Ливитт, да еще при этом стараться, чтобы никто не заметил, чем заняты ее мысли. То есть напряженно ждать, что же случится дальше, а потом, когда это случалось, продолжать, как ни в чем не бывало, спокойно есть и отвечать «да, мэм» и «нет, мэм» на все мамины вопросы, а в это время желтая машина снова мчится мимо нашего дома, и сирена воет в два тона, и мой отец вдруг вскидывает голову и с шумом втягивает носом воздух и говорит: – Чем это вдруг запахло?
– Запахло? – говорит мама. – Чем же?
– Тем самым, – говорит отец. – Да я этого не нюхал вот уже сколько лет… когда же это было, Гэвин? – А я сразу понял, о чем говорит отец, хотя это было, когда я еще не родился, но мне все рассказывал мой двоюродный брат Гаун. И мама тоже поняла. То есть она вспомнила все, потому что она-то слышала еще тогда, как гудел мистер де Спейн. То есть хоть она, быть может, и не связывала этот вой сирены с Маттом Ливиттом, но ей только стоило посмотреть на Линду и на дядю Гэвина. А может быть, ей достаточно было взглянуть только на дядю Гэвина – ведь они были близнецами, а этим все сказано. Потому что она тут же остановила отца:
– Чарли! – а отец сказал:
– Может быть, мисс Сноупс меня простит на этот раз. – Он обращался прямо к Линде. – Понимаете, как только у нас обедает хорошенькая девушка, так чем она красивей, тем больше я стараюсь острить, чтобы гостье захотелось прийти к нам опять. Но, кажется, на этот раз я перестарался. Так что, если мисс Сноупс простит меня за то, что я слишком старался ее рассмешить глупыми остротами, я ее прощу за то, что она слишком хорошенькая.
– Молодчина! – сказал дядя Гэвин. – Если и эта твоя шутка не совсем на уровне, то, по крайней мере, в ней колючек нет, как в той. Выйдем на веранду, Мэгги, там прохладнее.
– Хорошо! – сказала мама. Мы немного задержались в прихожей и посмотрели на Линду. На ее лице был уже не просто страх, оттого что она, шестнадцатилетняя девочка, впервые попала в дом к людям, которые, наверно, заранее ее не одобряли. Не знаю, что было на ее лице. Но мама знала, потому что смотрела она именно на маму.
– Пожалуй, в гостиной будет еще прохладнее, – сказала мама. – Пойдем туда. – Но поздно. Мы уже услышали сирену, отчетливо, каждый звук: «ду ДУ, ду ДУ, ду ДУ» – все громче и громче, потом – мимо дома, еще отчетливее, потом – затихая, а Линда вдруг посмотрела на маму, еще секунду-другую, с отчаянием. Но это выражение отчаяния тоже исчезло; может быть, только на секунду это было отчаяние, а потом исчезло и осталась только прежняя напряженность.
– Мне пора идти, – сказала она. – Мне… извините, пожалуйста, мне пора… – И тут она взяла себя в руки: – Благодарю вас за обед, миссис Маллисон. Благодарю вас за обед, мистер Маллисон. Благодарю вас за обед, мистер Гэвин. – Она уже подходила к столику, где лежала ее шляпка и сумочка. Нет, я не ждал, что она и меня поблагодарит за обед.
– Пусть Гэвин отвезет тебя домой, – сказала мама. – Гэвин…
– Нет, нет, – сказала она. – Я не… Я, я… Он не… – И она побежала через парадную дверь, по дорожке до калитки почти бегом, а за воротами она побежала бегом, ровным, отчаянным бегом. Потом исчезла.
– Клянусь Цицероном, Гэвин, – сказал отец, – ты падаешь все ниже. В тот раз ты, по крайней мере, столкнулся с ветераном испано-американской войны, с владельцем гоночной машины. А теперь перед тобой всего только любитель-боксер в самодельном драндулете. Будь начеку, братец, не то в следующий раз тебя вызовет на смертельный поединок бойскаут на велосипеде.
– Что? – сказала мама.
– А как бы ты сам поступил, если бы в двадцать лет работал механиком в гараже до шести вечера, а в это время седовласый старый дед, донжуан, каждый день перехватывает твою девушку по дороге из школы домой и завлекает ее в притоны, где хлещут содовую, и там закармливает мороженым? Откуда же ему знать, что Гэвин всего-навсего хочет формировать ее ум?
Впрочем, теперь никакого «каждого дня» не было. И вообще все кончилось. Не знаю, что случилось, как это вышло: то ли она передала дяде Гэвину, чтобы он ее больше не ждал после школы, то ли она ходила домой другой дорогой, где он ее не мог видеть, а может быть, она и вовсе перестала ходить в школу. Она уже была старшеклассницей, а я еще учился в начальной школе, так что я никак не мог знать, ходит она в школу или нет.
Я даже не знал, в Джефферсоне она или нет. Потому что изредка я видел, как Матт Ливитт проезжает в своей машине после закрытия гаража; и раньше Линда тоже ездила с ним то днем, то изредка вечером, в кино и домой из кино. А теперь нет. Он либо сидел в машине один, либо с каким-нибудь сверстником или старшим. Насколько мне известно, Матт, как и дядя Гэвин, с ней не виделся.
А от дяди Гэвина тоже ничего узнать было нельзя. Бывало, по дороге из школы я видел, как он и Линда сидели в кондитерской Кристиана и ели мороженое, и когда он или они оба меня замечали, он делал мне знак войти, и мы все трое ели мороженое. Но даже то, что мне уже незачем было заглядывать мимоходом в кондитерскую, почти на нем не отразилось. И вот однажды, было это в пятницу, я увидел, что он сидит там за столиком и ждет, пока я пройду, чтобы позвать меня, и, хотя на столике второго прибора не было, я решил, что Линда, наверно, на минутку встала и, может быть, стоит у прилавка с парфюмерией или у газетного столика, и когда я вошел, а он сказал: – Я взял персиковое, а тебе какое? – я все еще ждал, что Линда вот-вот откуда-нибудь выйдет.
– Мне клубничного, – сказал я. На столе лежала последняя книжка, которую он для нее выписал, – стихотворения Джона Донна.
– Послать ей книгу по почте сюда же, в Джефферсон, стоит ровно столько же денег, как если бы она жила в Мемфисе, – сказал он. – Что, если я тебя угощу мороженым и выдам тебе эти деньги, а ты занесешь ей книгу по дороге домой?
– Ладно, – сказал я. Когда мистер Сноупс приехал в Джефферсон, они сняли дом. Потом он, наверно, купил его, потому что, когда он стал вице-президентом банка, дом начали ремонтировать. Дом выкрасили, и, наверно, миссис Сноупс сама посадила глицинии, и, когда я вошел в калитку, Линда окликнула меня, и я увидел гамак под навесом, увитым глициниями. Глицинии еще цвели, и я помню Линду под этими цветами – темные волосы, а глаза почти такого же цвета, как глициния, и платье совершенно такое же: лежит в гамаке, читает, и я подумал: «Дяде Гэвину вовсе не надо было посылать ей эту книгу – она еще прежнюю не кончила». Но тут я увидал на земле рядом с гамаком все ее учебники, увидал, что читает она геометрию, и опять подумал: «Наверно, Матту Ливитту все это неприятно, – и то, что ей больше хочется учить геометрию, чем гулять с ним, и то, что ей хочется есть мороженое с дядей Гэвином».
Я ей отдал книгу и ушел домой. Было это в пятницу. На следующий день, в субботу, я пошел на бейсбольный матч, а потом зашел за дядей Гэвином в его кабинет, чтобы вместе идти домой. Мы услышали топот ног по лестнице, нескольких ног, какое-то шарканье, мы даже слышали тяжелое дыхание и чей-то шепот, и вдруг дверь с треском распахнулась и вошел Матт Ливитт, быстро, стремительно, держа что-то под мышкой, и захлопнул двери, а кто-то пытался войти за ним, и он, придерживая дверь коленом, нащупал засов, сообразил, как его задвинуть, и запер дверь. И только потом повернулся к нам. Он был красивый. Но лицо у него было не веселое, не радостное, лицо у него было, как говорил Рэтлиф, нахальное, какое бывает у человека, еще не знавшего никаких сомнений. Но сейчас в нем даже этого нахальства не было, и он поднял в руке порванную книгу – это были стихи Джона Донна, которые я отнес вчера Линде, – и как-то шваркнул ее на стол, так что вырванные страницы разлетелись, рассыпались по столу, полетели даже на пол.
– Что, не нравится? – сказал Матт и, обойдя стол, подошел к дяде Гэвину, вставшему с места. – Ну, будете защищаться? – сказал он. – Впрочем, что я – разве вы умеете драться! Ничего, я вас не совсем изобью, только малость разукрашу, чтоб вспомнили, как это бывает! – И, казалось, ударил он вовсе не сильно, кулаки у него как будто еле двигались в четырех-пяти дюймах от лица дяди Гэвина, так что кровь потекла у него из носу, из губ, будто не от удара, словно эти кулаки как-то вымазали его кровью; два, три взмаха, – но тут я опомнился, схватил толстенную дедушкину палку – она так и стояла у двери за вешалкой, занес ее, чтобы изо всех сил ударить Матта по затылку.
– Стой, Чик! – крикнул дядя Гэвин. – Перестань! Не смей! – Я ни за что бы не поверил, что даже на окрик Матт сможет так быстро обернуться. Видно, Золотые перчатки были выиграны не зря. Словом, он обернулся, схватил палку и вырвал ее у меня прежде, чем я успел опомниться, а я, испугавшись, что он ударит меня или дядю Гэвина, а может, и нас обоих, пригнулся и схватил бы его за ноги, но он выставил палку, как штык ружья, и упер конец мне в грудь, в глотку, словно поднял меня с полу этой палкой, как тряпку или лоскут бумаги, а не просто старался удержать на месте.
– Не вышло, мальчик! – сказал он. – А здорово ты размахнулся; жаль, дядюшка тебя выдал. – И, отшвырнув палку в угол, он прошел мимо меня к двери, и только тут мы все услыхали, что тот, кого он не впустил, изо всей силы барабанит кулаками, а он отодвинул засов, открыл двери и отступил перед Линдой, а она влетела, как пламя, да, вот именно, как пламя, и, даже не взглянув на дядю Гэвина или на меня, встала на носки и ударила Матта по лицу, дважды, сначала левой, потом правой рукой, задыхаясь, крича ему в лицо: – Болван! Бык! Тупица! Грязный бык! Сволочь! Тупая сволочь! – Никогда в жизни я не слышал, чтобы шестнадцатилетняя девочка так ругалась. Нет: никогда в жизни я не слышал, чтобы так ругались женщины, а она стояла перед ним и громко плакала, в бешенстве, словно не зная, что ей делать, бить его еще или ругать, но тут дядя Гэвин подошел к ней, взял за плечо и сказал:
– Перестань! Слышишь, перестань! – И она повернулась, обхватила его руками, прижалась лицом к его рубашке, залитой кровью, и громко плача, повторяла:
– Мистер Гэвин, мистер Гэвин, мистер Гэвин!
– Открой двери, Чик! – сказал дядя Гэвин. Я открыл. – Уходи отсюда, парень, – сказал он Матту. – Ну, быстро! – И Матт вышел. Я хотел закрыть двери. – Ты тоже, – сказал дядя Гэвин.
– Сэр? – переспросил я.
– Ты тоже уходи! – сказал дядя Гэвин и обнял Линду, а она вся дрожала и с плачем прижималась к нему, а его кровь капала и на нее тоже.
13. ГЭВИН СТИВЕНС
– Уходи! – сказал я. – Ты тоже уходи! – Он ушел, а я стоял, обняв Линду. Вернее, она прижалась ко мне изо всех сил, дрожа, всхлипывая и плача так безудержно, что у меня рубашка намокла от ее слез. Око за око, как, наверно, сказал бы Рэтлиф, потому что капавшая у меня из носа «юшка», как сказали бы викторианцы, уже запачкала рукав ее платья. Но я умудрился высвободить одну руку и через ее плечо вытащить носовой платок из кармана пиджака, хотя бы для начала, пока я не смогу совсем высвободиться и дотянуться до крана с холодной водой.
– Перестань! – сказал я. – Перестань же! – Но она рыдала все сильнее, все крепче обнимала меня, повторяя:
– Мистер Гэвин, мистер Гэвин. О мистер Гэвин!
– Линда! – сказал я. – Ты меня слышишь? – Она не ответила, только крепче вцепилась в меня. Я почувствовал, как она сильнее уткнулась головой мне в грудь. – Хочешь выйти за меня замуж? – сказал я.
– Да! – сказала она. – Да! Да!
И тут я взял ее за подбородок и силой оторвал от себя, поднял ей голову, заставил посмотреть мне прямо в глаза. Рэтлиф мне рассказывал, что у Маккэррона были серые глаза, – наверно, такие же серо-стальные, как у Хэба Хэмптона. Но у нее были вовсе не серые. Они были темно-сапфировые, – таким мне всегда представлялось сапфировое море Гомера.
– Выслушай меня! – сказал я. – Ты хочешь выйти замуж? – Нет, им вовсе не нужен ум, разве что для разговоров, для общения с людьми. Впрочем, встречались мне и такие – с обаянием, с тактом, но без всякого ума. Потому что при столкновении с мужчинами, с человеческими существами, им нужен только их инстинкт, их интуиция, хотя со временем она притупляется, забывается, им нужна беспредельная способность к самопожертвованию, незамутненная, неомраченная холодной моралью и еще более холодными фактами.
– А разве это обязательно? – сказала она.
– Конечно, нет. Хоть и вовсе не выходи, если не захочешь.
– Не хочу я замуж, ни за кого! – сказала, нет, крикнула она; и снова прижалась ко мне, снова спрятала лицо в мою мокрую рубашку, насквозь пропитанную слезами и кровью.
– Ни за кого! – сказала она. – У меня никого нет – только вы! Только вам я верю! Я люблю вас! Я вас люблю!
14. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН
Когда он пришел домой, лицо у него было чистое. Но по носу, по губе все было видно, а с рубашкой и с галстуком он ничего сделать не мог. Разве только купить новые – в субботу магазины долго открыты. Но ничего он не купил. Впрочем, мама все равно узнала бы; может быть, так обязательно бывает, когда вы с сестрой – близнецы. Да, милые мои, если бы бормашины умели разговаривать, мамин голос точь-в-точь походил бы на бормашину: она перестала смеяться, и плакать, и говорить: «Гэвин, Гэвин, господи, да что же это, черт возьми?» – и дядя Гэвин пошел наверх надеть чистую рубашку и галстук к ужину, и тут мама проговорила:
– Формирует ее ум, – сказала мама.
Похоже было, что он все может выдержать, только бы его не сбивали с ног или не кровенили ему нос. Так, если бы мистер де Спейн не сбил его тогда с ног во дворе, за тем бальным залом, он и сам позабыл бы миссис Сноупс и не взялся формировать ум Линды. А если бы Матт Ливитт не пришел тогда к нему в кабинет и не раскровенил ему нос, он, наверно, сам перестал бы формировать Линдин ум, ему нечего было бы этим заниматься.
А теперь уж он не остановился, просто не мог остановиться. Но, по крайней мере, от Матта Ливитта он избавился. Было это весной. Она училась в последнем классе; в мае она кончала школу, и после уроков я каждый день видел, как она возвращалась домой с книжками. Не знаю, были ли среди них стихи или нет, потому что теперь, проходя мимо кондитерской Кристиана, она даже не смотрела на дверь, она шла, глядя прямо перед собой, вскинув голову, словно пойнтер, перед тем, как сделать стойку; проходила, словно хорошо видела всех людей и весь Джефферсон, всю площадь, потому что в эту минуту, в любую минуту ей надо было пройти, не останавливаясь, через что-то, мимо, будь это хоть Джефферсон, хоть целая толпа джефферсонцев, – надо идти – и все.
Но дядя Гэвин тут уже не показывался, даже как бы случайно. И если теперь дядя Гэвин больше не сидел напротив нее за мраморным столиком у Кристиана и не смотрел, как она ест из высокого стаканчика что-то такое, центов за пятнадцать, а то и за все двадцать, то и Матта Ливитта тоже поблизости не было. На своей подержанной машине он ездил один после закрытия гаража, и машина ползла на самой малой скорости вдоль тротуара, мимо площади, почти рядом, слегка отставая, когда Линда шла в кино с подругой или даже с двумя-тремя подружками, высоко вскинув голову и ни разу не взглянув на него, пока машина ползла почти что у самого ее локтя и гудок тихонько захлебывался «ах-ги-ги-ги», и так до самого кино, пока подруги не исчезали в дверях. Тут машина набирала полную скорость, заворачивала за угол, огибала квартал, вылетала из-за угла, вовсю завывая сиреной, летела сначала по переулку за кино, потом мимо входа и снова, вокруг всего квартала, по переулку, куда уже спешил Отис Харкер, сменивший Гровера Кливленда Уинбуша на посту ночного полисмена: тот ушел в отставку после того, как, по словам Рэтлифа, ему что-то попало в глаз, – и Отис орал на Матта: «Стой, стой», – и тут же отскакивал, чтоб не попасть под колеса.
А по воскресеньям сирена выла уже на площади, и на Матта уже орал дневной полисмен, мистер Бак Коннорс. И теперь с Маттом сидела девушка, деревенская девушка, которую он отыскал бог весть где, и машина с ревом мчалась по переулкам, до самой окраины, и, замедлив ход, с оглушительным шумом проезжала мимо дома Линды, словно в Джефферсоне одним-единственным символом неудачной любви или хотя бы увлечения, а может быть, и просто символом неудачи был автомобильный гудок; одно-единственное проявление любви или хотя бы желания, какое было доступно в Джефферсоне, – это медленно проехать мимо заветного дома, сигналя изо всех сил, так чтобы он или она знали, кто проехал, даже если они старались не смотреть в окно.
Правда, в тот раз мистер Коннорс уже послал за самим шерифом. Он, мистер Коннорс, говорил, что поначалу он решил разбудить Отиса Харкера, чтобы тот вышел и помог ему, но когда Отис услыхал, что мистер Коннорс хочет остановить машину Матта, он даже не встал с постели. Потом, немного погодя, кто-то спросил Матта – неужели он наехал бы и на шерифа, на мистера Хэмптона? И Матт – он после всего этого сидел и плакал от злости – сказал: – Наехать? На Хэба Хэмптона? Чтобы его грязные потроха мне всю краску на машине испачкали? – Правда, сначала мистеру Хэмптону вмешиваться не пришлось, потому что Матт сразу выехал из города, может, повез свою девушку домой; но в ту же ночь около двенадцати часов мистеру Хэмптону позвонили, чтобы он кого-нибудь прислал в Каледонию, потому что Матт не на шутку подрался с Энсом Маккаллемом, одним из сыновей мистера Бадди Маккаллема, и Энс схватил не то жердь из загородки, не то еще что и, наверно, убил бы Матта, но тут их растащили и держали, пока кто-то звонил шерифу, а потом обоих отвезли в город и заперли в тюрьму, а на другое утро сам мистер Бадди Маккаллем, со своей деревянной ногой, приехал за ними, заплатил штраф, отвел их обоих на пустырь за конюшней А.О.Сноупса и сказал своему Энсу:
– Ну, постой! Не умеешь честно драться, хватаешься за жердину, так погоди же: как сниму деревянную ногу, как отлуплю тебя по чем попало!
И тут парни стали драться, на этот раз без жердины, а сам мистер Бадди и еще несколько человек смотрели, и хотя Энсу далеко было до Золотых перчаток Матта, но он все же не сдавался, пока сам мистер Бадди не сказал: – Все. Хватит. – И велел Энсу вымыть лицо у колодца и ждать его в их машине, а Матту сказал: – Пожалуй, тебе пора отсюда выметаться. – Впрочем, это сделали и без него: люди из гаража сказали ему, что Матта уже выгнали, но Матт сказал:
– Да, черта с два выгнали, я сам взял расчет. Пусть эта сволочь мне в глаза скажет, что меня выгнали. – Но тут уже подошел шериф Хэмптон, высокий, пузатый, и впился в Матта своими колючими серыми глазками. – И кой дьявол угнал мою машину? – спросил Матт.
– Она у меня дома, – сказал мистер Хэмптон. – Я велел ее отвести туда сегодня утром.
– Ну и дела, – сказал Матт. – Хорошо, что Маккаллем меня выкупил раньше, чем вы ее успели загнать и прикарманить денежки, верно? А что вы скажете, если я пойду сяду в свою машину и заведу ее?
– Ничего, сынок, – сказал мистер Хэмптон. – Уезжай, когда хочешь.
– Теперь-то вы согласны, – сказал Матт. – Да, я уеду из вашего распроэтакого городишки, но уж сирену пущу на всю катушку. Придется вам и это слопать, пока из одного места не полезет. Ну, что скажете?
– Ничего, сынок, – сказал мистер Хэмптон. – Давай с тобой сторгуемся. Гуди в гудок сколько влезет, до самой границы нашей округи и еще футов десять за ней. И я никому не позволю тебя пальцем тронуть, если ты пообещаешь больше никогда нашу границу не пересекать.
Тем и кончилось. Было это в понедельник, в базарный день; казалось, вся округа собралась тут, в городе, и все молча выстроились вокруг площади, чтобы посмотреть, как Матт проезжает по ней в последний раз, рядом, на сиденье – фибровый чемоданчик, с которым он приехал в Джефферсон, и сирена воет и воет; никто ему даже рукой не помахал, и Матт ни на кого не взглянул: все молча, внимательно следили, как маленькая, ярко выкрашенная машина медленно и с шумом проезжает мимо, нахальная, громкая, вызывающая и в то же время какая-то ненастоящая и хрупкая с виду, словно детская игрушка, елочное украшение, так что казалось, будто она никогда не доберется до Мемфиса, уж не говоря об Огайо; через площадь, по улице, которая на окраине переходила в мемфисское шоссе, а сирена все гудит, и воет, и ревет, отдаваясь эхом от стен, усиливаясь в тысячу раз, словно гудит вовсе не эта маленькая, жалкая, хрупкая машина; и мы, некоторые из нас, думали, что уж теперь-то он непременно в последний раз проедет медленно, с громким ревом мимо дома Линды Сноупс. Но он не проехал. Он гнал машину все быстрей и быстрей по широкой опустевшей улице, как будто улица сама его пропускала, мимо последних городских домов, уже уступавших место весеннему простору лесов и полей, где даже вызывающий вой сирены становился жалким и, постепенно затихая, совсем тонул вдалеке.
Так что выходило, по словам отца, как он сказал дяде Гэвину, один ноль в его пользу. И вот подошел май, и уже все знали, что Линда Сноупс в этом году кончает школу первой ученицей в классе; мы шли мимо магазина Уилдермарка, и дядя Гэвин остановился и подтолкнул нас к витрине, говоря: – Вон тот. Сразу за тем, зеленым.
Там стоял дамский дорожный несессер.
– Да это же для путешествий, – сказала мама.
– Правильно, – сказал дядя Гэвин.
– Для путешествий, – сказала мама. – В дорогу, в отъезд.
– Нет, то есть да, – сказал дядя Гэвин. – Ей и надо уехать отсюда. Уехать из Джефферсона.
– А чем Джефферсон плох? – сказала мама. Мы все трое стояли у магазина. Мы стояли и смотрели на дамский несессер со всеми принадлежностями, и я видел наши отражения в витрине. Мама говорила ни тихо, ни громко, просто очень спокойно. – Ну, ладно, – сказала она, – чем Линде тут плохо?
И дядя Гэвин ответил таким же голосом: – Не люблю, когда что-то пропадает зря. Надо дать человеку возможность сделать все, чтобы его жизнь зря не пропадала.
– Вернее, дать кому-то возможность сделать так, чтобы зря не погубить молодую девушку? – сказала мама.
– Ну, ладно, – сказал дядя Гэвин. – Я хочу, чтобы она была счастлива. Каждому надо дать возможность стать счастливым.
– Что, конечно, невозможно, останься она в Джефферсоне, – сказала мама.
– Ну, ладно, – сказал дядя Гэвин. Они не смотрели друг на друга. Казалось, они и говорят не друг с другом, а обращаются к смутным отражениям в витрине, вот так, как бывает, если записать на бумажке какую-то мысль и положить в чистый, ненадписанный конверт или, вернее, в пустую бутылку, запечатать и бросить в море или, быть может, записать две мысли и запечатать листки навеки в две бутылки и обе разом пустить в море, по течению, по волнам, пусть плывут, пусть дрейфуют до самого края света, к вечным льдам, и все же эти мысли останутся неприкосновенными, нетронутыми, ненарушенными, останутся мыслями, истинами, может быть даже фактами, хотя ни один глаз их никогда не увидит, никакая другая мысль не зародится от них, не встретится, не вызовет ни радости, ни подтверждения, ни горя.
– У каждого должно быть право, и возможность, и обязанность сделать так, чтобы все были счастливы, заслуживают ли они этого или нет, даже хотят ли они этого или нет, – сказала мама.
– Ну, ладно, – сказал дядя Гэвин. – Прости, что я тебя задержал. Пойдем. Пора домой. Пусть миссис Раунсвелл пошлет ей букет гелиотропов.
– Почему же? – сказала мама, взяла его под руку, повернула, и три наши отражения в витрине тоже повернулись, и мы подошли к дверям и вошли в магазин, мама – первой, прямо в отдел дорожных вещей.
– По-моему, вон тот синий для нее лучше всего, он пойдет к ее глазам, – сказала мама. – Это для Линды Сноупс, к выпуску, – сказала мама мисс Юнис Гент, продавщице.
– Как мило! – сказала мисс Юнис. – А разве Линда собирается путешествовать?
– О да! – сказала мама. – Вполне возможно. Во всяком случае, она, вероятно, поедет в будущем году в один из женских колледжей в восточных штатах. Так я, по крайней мере, слышала.
– Как мило! – сказала мисс Юнис. – Я всегда говорила, что наша молодежь – и мальчики и девочки – должны хоть на год уезжать из дому, в какой-нибудь колледж, надо же им посмотреть, как люди живут.
– Это очень верно! – сказала мама. – Пока не поедешь, не посмотришь, только и живешь надеждой. И пока сам все не увидишь, никогда не успокоишься, не осядешь дома, правда?
– Мэгги, – сказал дядя Гэвин.
– Успокоишься? То есть потеряешь надежду? – сказала мисс Юнис. – Но молодежь не должна терять надежду.
– Конечно, нет, – сказала мама. – И не нужно. Вообще надо оставаться вечно молодыми, сколько бы лет тебе ни стукнуло.
– Мэгги, – сказал дядя Гэвин.
– Ага, – сказала мама. – Ты хочешь расплатиться наличными, чтобы не посылали счет? Прекрасно. Наверно, и мистер Уилдермарк будет доволен.
И дядя Гэвин вынул две бумажки по двадцать долларов из своего бумажника, потом вынул свою визитную карточку и подал маме.
– Спасибо, – сказала она. – Но у мисс Юнис, наверно, найдется карточка побольше, чтобы поместились все четыре имени. – И мисс Юнис подала ей большую карточку, и мама протянула руку к дяде Гэвину, ожидая, пока он отвинтит колпачок самопишущей ручки и подаст ей, и мы все смотрели, как она пишет большими каракулями, все еще похожими на почерк тринадцатилетней девочки:
Мистер и миссис Чарльз Маллисон
Чарльз Маллисон-младший
Мистер Гэвин Стивенс,
а потом она завинтила ручку, отдала ее дяде Гэвину и, взяв карточку за уголок большим и указательным пальцем, помахала ею в воздухе, чтобы чернила просохли, и отдала мисс Юнис.
– Сегодня же вечером пошлю, – сказала мисс Юнис. – Хотя выпуск у них только на будущей неделе. Такой прелестный подарок. Пусть Линда обрадуется поскорее.
– Да, – сказала мама. – Почему бы ей и не обрадоваться? – И мы снова вышли, а наши отражения в витрине слились в одно; мама снова взяла дядю Гэвина под руку.
– Все четыре наши имени, – сказал дядя Гэвин. – Так, по крайней мере, ее отец не узнает, что седовласый холостяк прислал его семнадцатилетней дочери дорожный саквояж с туалетными принадлежностями.
– Да, – сказала мама. – Один из них этого не узнает.
15. ГЭВИН СТИВЕНС
Труднее всего было придумать – как ей сказать, как объяснить. То есть объяснить – зачем. Не само действие, сам поступок, но чем он вызван, зачем это нужно, сказать ей все прямо, – может быть, за стаканом той чудовищной, синтетической, несообразной смеси, – она очень любила ее, во всяком случае, всегда заказывала в кондитерской Кристиана, – а может быть, просто сказать на улице: «С сегодняшнего дня мы больше встречаться не будем, потому что, после того как Джефферсон переварит все подробности той субботы, когда твой дружок якобы застал тебя в моем кабинете и расквасил мне нос, а через неделю на прощание провел ночь в джефферсонской тюрьме и навсегда отряхнул с ног наш прах и умчался, завывая сиреной, – после этого тебе встречаться со мной в притонах, где торгуют мороженым, значит совершенно уничтожить то, что еще останется от твоего доброго имени».
Понимаете? В том-то и все дело, в самих этих словах: «репутация», «доброе имя». Произнести их, сказать вслух, дать их существованию словесное выражение – уже означало бесповоротно запачкать, загрязнить их, разрушить неприкосновенность всего того, что эти слова воплощали, не только сделать все уязвимым, но и обречь на гибель. Вместо нерушимых, гордых и честных принципов они свелись бы к призрачным, уже обреченным и заклейменным понятиям и снизились бы до нестойких человеческих условностей; невинность и девственность стали бы символами, предпосылками для потери, для горя, чем-то таким, что надо вечно оплакивать, что существует только в прошедшем времени: было, а теперь уже нет, больше нет, больше нет.
Вот что было самым трудным. Потому что провести в жизнь, выполнить все это было проще простого. К счастью, вся та история произошла в субботу, к концу дня, что давало мне и моей физиономии тридцать два часа передышки, прежде чем пришлось выйти на люди. (Может быть, понадобилось бы и гораздо меньше времени, если бы не его кольцо – этакая штуковина, чуть поменьше медного кастета и вполне похожая на настоящее золото, особенно если не присматриваться, и на ней – голова тигра, державшая когда-то в зубах обычный в таких кольцах поддельный рубин – думаю, что поддельный и что от потери этого рубина было плохо только моей губе.)
Вообще-то мы встречались в кондитерской даже не каждую неделю и, уж конечно, не каждый день, так что могла пройти и целая неделя, прежде чем, во-первых, кто-то заметит, что мы вот уже неделю как не встречаемся, и, во-вторых, немедленно сделает заключение, что мы хотим что-то скрыть, поэтому и не встречаемся целую неделю, и, в-третьих, тот факт, что мы все же, выждав неделю, встретились, лишний раз доказывает все предыдущее.
Но к тому времени я уже мог бриться, не чувствуя рассеченной губы. Так что все было очень просто; в сущности, совсем просто, и я сам был простаком. Придумал я вот что: точно, минута в минуту, я случайно выйду из дверей кондитерской, в руке у меня будет, скажем, коробка с трубочным табаком, которую я уже начну засовывать в карман, именно в ту минуту, когда она пройдет мимо по дороге в школу: «С добрым утром, Линда», – а сам уже иду мимо и тут же останавливаюсь: «У меня для тебя есть новая книжка. Давай встретимся тут после занятий. Разопьем стаканчик кока-колы».
Казалось бы, больше ничего не нужно. Потому что я был простаком и мне ни разу не пришло в голову, что удар этой почти что золотой, с выпавшим рубином тигровой головы ранил и ее, хотя никакой раны и не осталось; что невинность не потому невинна, что она отвергает, а потому, что принимает; невинна не потому, что она непроницаема, неуязвима для всего на свете, а потому что способна выдержать что угодно и все же остаться невинной; невинной, потому что она все предвидит и поэтому не должна бояться испытывать страх; коробка с табаком уже лежала в моем кармане, потому что стало слишком заметно, что я ее держу в руке, и уже прошли последние малыши, нагруженные книжками, навстречу первым звукам школьного звонка, а ее все не было; очевидно, я как-то ее прозевал: либо слишком поздно занял свой пост, либо она пошла в школу другой дорогой, а может быть, сегодня и вовсе пропустила занятия по каким-то причинам, никак не связанным с немолодым холостяком, сводившим ее с поэтами, с Джонсоном, Герриком, Томасом Кэмпионом; перешел – это я – уже бездетную улицу, поднялся по лестнице, так как завтра тоже будет день; я даже мог снова использовать, для правдоподобности, ту же коробку с табаком, если только не сорвется голубая наклейка, и тут я открыл двойную дверь и вошел в свой кабинет.
Она сидела на стуле, не в удобном кресле за письменным столом, не в кожаном кресле для клиентов перед ним, а на твердом, прямом, без подлокотников стуле у книжной полки, словно она бежала, летела, пока ее не остановила стена, и она повернулась, и села, не очень прямо, но и не согнувшись, потому что, хотя ноги, колени, у нее были напряженно сжаты и руки крепко стиснуты на коленях, она подняла голову и не сводила – сначала с дверей, потом с меня – глаз, доставшихся ей в наследство от Маккэррона, глаз, казавшихся издали черными, как ее волосы, пока не становилось видно, что они синие, такие темно-синие, что казались почти фиолетовыми.
– Я думала… – сказала она. – Мне кто-то сказал, что Матт бросил работу, ушел, уехал вчера. Я подумала – может быть, вы…
– Конечно, – сказал я. – Я всегда рад тебя видеть, – и тут же удержался вовремя, чтобы не сказать: «Я ждал там на углу, до последнего звонка, ждал, что ты пройдешь», – хотя, по правде говоря, я удержался и не сказал: «Встань! Уходи сейчас же отсюда! Зачем, ты сюда пришла? Разве ты не понимаешь, что я из-за этого все ночи не спал, с самой субботы?» – Но я только сказал, что купил коробку табаку и теперь надо найти кого-то, кто сможет или захочет его выкурить, и тут же, к слову, сказал: – У меня есть для тебя новая книжка. Я ее забыл принести утром, но днем я ее захвачу. После занятий я тебя буду ждать в кондитерской и угощу содовой с мороженым. А теперь беги, ты и так опоздала.
Я даже не выпускал двери из рук, так что мне только надо было ее открыть и надо было еще за ту минуту, пока она шла через комнату, успеть отбросить тысячу неистовых, торопливых сомнений: спрятаться ли мне в кабинете, словно меня тут не было в это утро, и дать ей уйти одной; пойти ли за ней до лестницы и проводить вниз, ласково, как добрый дядюшка; проводить ли ее до самой школы, поглядеть ей вслед, пока она не скроется за дверью: мол, друг семьи спасает дитя своего соседа от явного прогула и отводит в лоно школы – друг семьи Флема Сноупса, у которого друзей было не больше, чем у Синей Бороды, или разбойника Пистоля, друг Юлы Уорнер, чьих друзей, ни один человек не назвал бы друзьями, как не назвал бы так друзей Мессалины или Елены Прекрасной.
И тут я сделал все сразу: сначала задержался в кабинете, слишком долго, так что пришлось бежать за ней по лестнице, потом пошел с ней по улице, но не в таком отдалении, чтобы нас не заметили, не обратили внимания. После чего оставалось одно: подкупить моего племянника долларовой бумажкой и нагрузить книгой; не помню, какая была книга; наверно, я и не посмотрел.
– Хорошо, сэр! – сказал Чик. – Значит, так: после школы я ее встречаю в кондитерской Кристиана, даю ей книжку и говорю, что ты тоже постараешься прийти, но чтобы она не ждала. Да, еще угостить ее мороженым с содовой. А почему бы просто не отнести ей книжку в школу и зря не терять времени?
– Правильно, – сказал я. – А почему бы тебе не отдать мне этот доллар?
– И еще угостить ее мороженым? И платить все из того же доллара?
– Ладно, – сказал я. – Считай, что твоих тут двадцать пять центов. Если она захочет банановый пломбир, ты можешь выпить водички и заработать еще никель.
– Может, она просто выпьет кока-колы, – сказал он. – И я тоже выпью, а пятнадцать центов все равно останется.
– Тем лучше, – сказал я.
– А вдруг она ничего не захотит?
– Говорю тебе – тем лучше, – сказал я. – Только смотри, чтоб мама не услышала, как ты говоришь «захотит».
– Почему? – сказал он. – И папа и Рэтлиф всегда говорят «захотит» и ты тоже, когда разговариваешь с ними. А Рэтлиф еще говорит «хочут» вместо «хотят» и «волочь», а не «волочить», и ты сам так говоришь, когда разговариваешь с деревенскими, как Рэтлиф.
– А ты почем знаешь? – сказал я.
– Сам слышал. И Рэтлиф тоже.
– Как? Неужели ты его спрашивал?
– Нет, сэр, – сказал он. – Он сам мне рассказывал.
В ответ я, кажется, ему сказал: «Погоди, станешь взрослым, как Рэтлиф, как твой отец, как я, тогда сможешь разговаривать по-своему». Не помню. Но впоследствии, несколько месяцев подряд, я ловил себя на том, что делаю много такого, до чего он еще не дорос. Впрочем, сейчас это было неважно: сейчас оставалось только ждать назначенного часа: бесконечное ожидание, до половины четвертого, полное тысячи неразрешимых сомнений, постоянных мучительных противоречий. Понимаете? Она не только подбила меня назначить ей свидание, на котором я должен был сломать, загубить, разбить, уничтожить, убить что-то, она даже опередила меня своей простотой, своей прямотой.
И теперь мне оставалось только ждать. То есть ждать, пока время пройдет, прожить это время; можно было ждать и у окна кабинета, даже лучше, чем где-нибудь в другом месте, потому что из окна был виден вход в кондитерскую, так что надо было только набраться терпения. Нельзя было услышать звонок в конце занятий, для этого было слишком далеко, но можно было увидеть, как они все выходили: сначала малыши, разбегающийся поток перво– и второклассников, потом средние классы, шумные, шаловливые, особенно мальчики, потом старшеклассники, и среди них и выпускники, полные собственного достоинства, отчужденные в своей зрелости; вот и она, высокая (нет, не слишком высокая, но все же выше всех, как цапля на болоте, среди лягушат и головастиков), остановилась на какой-то миг у входа в кондитерскую, взглянула на пустую лестницу. Потом вошла, с тремя книгами в руках, и любая из них могла быть моей книгой, и я подумал: «Значит, он отдал ей книгу в школе, чертенок, обжулил меня еще на двадцать пять центов».
Но тут я увидел его, Чика; он тоже вошел в кондитерскую, с книгой в руках, и тут я подумал, что надо было бы мне догадаться налить стакан воды, медленно отсчитать, скажем, шестьдесят секунд, примерно то время, какое потребуется Скитсу Макгауну, продавцу содовой, чтобы он перестал заигрывать с какой-нибудь младше– или старшеклассницей и принял заказ, а потом выпить этот стакан воды, как они выпили кока-колу; но тут я подумал: «А вдруг она заказала пломбир, – может быть, еще есть время», – и уже полетел к выходу, уже распахнул двери, прежде, чем остановил себя: нельзя же все-таки, чтобы кто-нибудь увидал своими глазами, как прокурор штата бежит бегом по лестнице из своего служебного кабинета, через улицу в кондитерскую, где его ждет шестнадцатилетняя ученица выпускного класса.
Но я успел вовремя, только-только успел. Они еще не сели, а может быть, она уже встала и они оба стояли у стола, у нее в руках уже было четыре книги, и тут она взглянула на меня, только в этот последний миг, один раз, глазами, которые казались темно-серыми или синими, пока не всмотришься как следует.
– Прости, что я опоздал, – сказал я. – Надеюсь, Чик тебя предупредил?
– Ничего, – сказала она. – Мне все равно пора домой.
– Даже без кока-колы? – сказал я.
– Мне пора домой, – сказала она.
– Ладно, в другой раз, – сказал я. – Как говорится, оставим про запас.
– Да, – сказала она. – Теперь мне пора домой. – И я посторонился, чтобы она могла выйти, пропустил ее к дверям.
– Не забывай, что ты мне обещал двадцать пять центов, – сказал Чик.
И тут же опередил меня, сам открыл перед ней двери и потом стал между мной и ею, сразу как бы образовал между нами разрыв, разлуку, прежде чем она успела сообразить, и ей даже не пришлось остановиться, не пришлось оглянуться, понять, что она вне угрозы, вне опасности, в полной неприкосновенности, в сохранности и ей даже не надо говорить «мистер Стивенс», даже просто «мистер Гэвин» или «до свидания», или еще что-нибудь, не надо даже говорить «спасибо вам», не надо оглядываться, а она все-таки оглянулась. – Спасибо вам за книжку, – сказала она. И ушла.
– Помнишь, ты мне обещал двадцать пять центов, – сказал Чик.
– Конечно, помню, – сказал я. – А какого лешего ты тут торчишь? Беги трать их!
О да, много я делал такого, до чего Чик еще не дорос. И мне было занятно, весело увиливать от таких положений, которые заставили бы меня вновь пойти на эту недостойную, жалкую хитрость. Ведь она ничего не знала (не должна была знать, по крайней мере сейчас, пока: иначе зачем мне были все эти мелкие недостойные хитрости?), не могла быть уверенной относительно того дня, той встречи, тех двух-трех (не знаю, скольких) минут, там, в кондитерской; она не знала точно, наверняка, правду ли ей сказал Чик: действительно ли я велел передать, что опоздаю, и послал своего племянника как самого надежного вестника, чтобы он составил ей компанию, пока я не приду, если я только вообще когда-нибудь приду, появлюсь, и, значит, я сам настолько взрослый, настолько бестолковый, что даже не понимаю, какую обиду я ей наношу и тем, что заставляю ее ждать, и тем, что посылаю к ней десятилетнего мальчишку для компании, и воображаю, что она, шестнадцатилетняя ученица выпускного класса, примет его; а вдруг я это сделал нарочно: сначала назначил свидание, а потом послал десятилетнего мальчишку вместо себя, как бы деликатно намекая: «Перестань приставать ко мне».
Так что я не должен был допустить, чтобы она спросила меня с храбростью отчаяния – что же наконец правда? Вот это-то мне и было занятно, весело. Понимаете, удирать от нее. Это было мальчишество навыворот, вывернутое наизнанку: обычно юноша, сам еще невинный, может быть – кто знает? – даже больше, чем она, тянется к ней, пугается того, что его притягивает, неуклюже, робко подстраивает случайные встречи, когда он еще не прикасается к ней, никогда не прикасается, даже не надеется прикоснуться, даже не хочет этого, боится каждого прикосновения; только бы дышать тем же воздухом, только бы его овевал тот же ветер, что овевает легкое тело его возлюбленной; и теперь перчатка или платочек, нечаянно оброненный ею, цветок, который она смяла, сама того не зная, даже учебник девятого-десятого класса – какая-нибудь география, или грамматика, или арифметика, где на титульном листе ее собственной волшебной рукой написано ее имя, пугает и волнует его во сто раз больше, чем когда-нибудь потом сверкание обнаженного плеча и прядь распущенных волос на подушке рядом с ним.
А со мной было наоборот: главное – не встречаться; постоянно проходить где-то неподалеку и никогда не попадаться. Сами знаете: в маленьком городке, где, как у нас, три тысячи жителей, судачить и сплетничать о встречах пожилого холостяка с шестнадцатилетней девицей два-три раза в неделю стали бы меньше, только если бы возникла новая сплетня: что эта шестнадцатилетняя девица и этот пожилой холостяк явно избегают друг друга и те же два-три раза в неделю прячутся в магазинах или в переулках. Понимаете: пожилой юрист, да еще к тому же прокурор округа, всегда найдет для себя достаточно дел, даже в городке, где всего три тысячи населения, чтобы не оказаться на той единственной улице, которая ведет от ее дома к школе, ни в восемь тридцать утра, ни между двенадцатью и часом, ни в половине четвертого, то есть в те часы, когда весь городской выводок проходит туда и назад; так может случиться иногда, несколько раз, но не всегда, не вечно.
Да, мне именно так и приходилось делать. Ничего не попишешь: не мог же я вдруг остановить ее на улице среди бела дня и сказать: «Ну, отвечай сразу. Поняла ты или не поняла, что было тогда, в кондитерской? Скажи мне точно, коротко, что ты подумала в тот раз?» Нет, я мог только оставить ее в покое, хотя спокойствия от этого «покоя» мне никак не прибавлялось.
Так что мне приходилось ее избегать. Приходилось заранее планировать не только свои дела, но и дела всего йокнапатофского округа, чтобы избегать встречи с шестнадцатилетней девочкой. Была весна. Значит, до конца занятий, до мая, это будет сравнительно просто, по крайней мере пять дней в неделю. Но потом придут каникулы, никакому режиму, никакой дисциплине она подчиняться не будет; и простая наблюдательность, если не личный опыт, давно мне говорила, что любое шестнадцатилетнее существо, если только оно не кормит ребенка, не зарабатывает на жизнь для семьи или не сидит в тюрьме, может находиться где угодно, в любой час из двадцати четырех.
Так что, когда подошло это время, то есть прошлое лето, перед последним учебным годом в школе, которую она должна была окончить, я велел все каталоги и проспекты дальних, не известных нам колледжей посылать не на мой адрес, чтобы не вручать их ей лично, а прямо выписал их на ее имя – мисс Линде Сноупс, Джефферсон, штат Миссисипи, причем подчеркнул, чтобы название нашего штата – Миссисипи, было выделено крупными буквами, иначе конверт попал бы вот куда: во-первых, в Джефферсон, штат Миссури, во-вторых, во все те штаты из возможных сорока восьми, где тоже был город Джефферсон, пока, – это уже в-третьих, – кому-нибудь не пришло бы в голову, что, может быть, и в штате Миссисипи есть кто-то, способный смутно представить себе, что можно поехать учиться в восточные или северные штаты, кто-то смутно слышавший о тех школах, или, во всяком случае, кто-то, способный любоваться картинками в каталогах или даже разбирать односложные слова, конечно, если они снабжены фотографиями.
В общем, я их выписал прямо на ее адрес – все эти хитрые, вкрадчивые, соблазнительные рекламы виргинских колледжей, куда матери из южных штатов мечтают отдать своих дочерей чисто инстинктивно, не зная, почему, разве только потому, что сами матери там не учились и теперь через своих дочек хотят наверстать то, чего они сами были лишены, оттого что их матери, в свою очередь, вовсе не хотели через них наверстать то, чего были лишены сами.
И не только рекламы виргинских колледжей, но также и рекламы шикарных «институтов» к северу от линии Мэйсон-Диксон. Я был справедлив. Нет, вернее, мы оба были справедливы, и она и я, хотя мы и не встречались больше ради спасения ее доброго имени, но мы были в сговоре, в союзе ради спасения ее души; мы оба словно заочно, in absentia [9], говорили ее матери: «Вот они, все такие роскошные, такие аристократические. Мы были честны, мы вам не мешали, а теперь мы желаем туда уехать, и вы нам можете в этом помочь если не явным одобрением, то хотя бы тем, что вы не скажете нет!». И тут я выписал еще и другие проспекты, чтобы она их получила после первых: проспекты тех колледжей, где никто даже не обратил бы внимания, что она носит, как ходит, правильно ли держит вилку, вообще как она себя ведет на людях, потому что все это уже давно установилось, закрепилось и не меняется, а главное значение имеет то, что она делает, как себя ведет в ненарушаемом одиночестве духа.
И вот теперь – когда эти последние проспекты пришли к ней, под рождество, в последнюю зиму ее пребывания в школе, – теперь ей стало нужно, необходимо повидаться со мной, не для того, чтобы я ей помог выбрать учебное заведение, а просто обсудить, обдумать все вместе, прежде чем решить окончательно. Я ждал, и ждал очень терпеливо, пока наконец не понял, что она ни за что не сделает первый шаг для встречи со мной. Больше шести месяцев я избегал ее, и она не только знала, что я от нее прячусь, потому что в таком городишке, как наш, мужчина не может в течение такого долгого времени случайно не встречаться с женщиной, так же как он не может встречаться с ней, думая, что встречается тайно и незаметно, – она уже поняла, что то свидание в кондитерской Кристиана, тогда, в апреле, тоже не было глупой случайностью. (О да, и мне даже стало казаться, что у нее никаких оснований не было думать, что я знаю про эти проспекты, более того – что я сам их выписал для нее. Но эту мысль я сразу отбросил, да и вы отбросите, если проследите события дальше.)
Значит, мне надо сделать первый шаг. Теперь это было далеко не так просто, как раньше. Обычно каждый день после половины четвертого я видел из окна моего кабинета (если я был там), как она проходила в толпе школьников через площадь. В прошлом году, и вообще до этого времени, она всегда ходила одна, или мне так казалось. Но теперь, в эту зиму, особенно после отъезда этого троглодита, Ливитта, она стала ходить вдвоем с другой девочкой, жившей на ее улице. Потом, вдруг (было это зимой, после Валентинова дня), вместо них двоих появились четверо: еще два мальчика, – по словам Чика, это были сын миссис Раунсвелл и младший сын Бишопов, лучшие спортсмены их школы. И теперь, с наступлением весны, все четверо почти каждый день сидели в кондитерской Кристиана (по-видимому, там не водились привидения прошлого, которые заставляли бы ее мяться и краснеть, чему я был очень рад) за стаканами кока-колы и другими жуткими (я-то их изучил!) смесями, которые молодежь, особенно женского пола, может с невероятным спокойствием поглощать не только после обеда, но и в девять-десять часов утра: я принимал их – эту четверку – за две пары, две влюбленные пары, связанные почти супружеским постоянством, обычным для старшеклассников, пока однажды вечером я (совершенно случайно) не увидел, как она идет к кинотеатру в сопровождении обоих рыцарей.
Дело несколько осложнялось. Впрочем, не особенно. Проще всего было сделать так (тем более что уже настал май и ждать дольше мне было нельзя): терпеливо дождаться, когда она пройдет мимо без провожатых, когда этот Бишоп и этот Раунсвелл останутся после занятий совершенствоваться в своих достижениях или их просто задержит в школе учитель. И я ее дождался, увидел еще издали, примерно за квартал, но тут она внезапно свернула в переулок, который огибал площадь: видно, это был новый путь к дому, по которому она возвращалась в те дни, когда бывала одна, то есть либо бывала, либо (и это возможно) хотела быть одна.
Но и это было просто: только пройти задами один квартал, потом повернуть за угол, куда выходил тот самый переулок. Но я шел быстрей, чем она, гораздо скорее, так что я первый увидел, как она быстро шагала меж мусорными кучами, урнами, погрузочными платформами, но, увидев меня на углу, сразу замерла на месте, быстрым, непроизвольным жестом подняв руку. И кто его знает? На этом расстоянии я ведь мог и не остановиться, я уже шел дальше, я тоже высоко поднял руку в ответ и прошел дальше через проулок, ровным шагом, как и должен был шагать прокурор округа, по боковой улочке, в сорок две минуты четвертого; еще один квартал, для вящей безопасности, и она снова была вне тревоги, снова нетронута, снова ей не грозило ничего.
Конечно, оставался телефон. Но это было бы слишком скоро, слишком близко к переулку, к поднятой руке. И gruss Gott [10], что изобрели пишущую машинку; пусть отцы города вычтут из моего жалованья стоимость казенной бумаги, а может быть, они и не заметят, как знать? А машинка и время были мои собственные.
Милая Линда!
Когда ты решишь, какой колледж выбрать, давай поговорим. Многие из них я видел сам и смогу рассказать тебе больше, чем написано в проспектах. Не мешало бы и съесть банановый пломбир: может быть, в колледжах Беннингтон, Бард и Суорсмор еще не знают, что это такое, и тебе придется быть там не просто студенткой, но и проповедником пломбира.
Потом, карандашом, от руки:
Видел тебя в переулочке, как-то днем, но некогда было остановиться. Кстати, как ты очутилась в этом переулке?
Понимаете? Как-то днем, – значит, все равно, когда я опущу это письмо – через два дня или через две недели; значит, целых две недели я могу рвать письма, рвать даже конверты с адресом, зная, как знал я, что трачу зря, впустую целых два – нет, три, – считая каждый конверт в отдельности, – цента; сначала я рвал их аккуратно пополам, складывал разорванные края, снова рвал пополам, складывал аккуратный маленький вигвам в пустом камине, зажигал спичку, смотрел, как он сгорал, потом, треща престарелыми косточками, вставал с колен и отряхал прах с брюк.
А ведь уже наступил май, через две недели она должна была кончать школу. Но мисс Юнис Гент обещала еще вчера послать дорожный несессер, и gruss Gott за то, что изобрели телефон. Значит, надо еще раз (последний раз, последняя хитрость) выждать до половины девятого (правда, банк открывался только в девять, но все же, хотя Флем и не был президентом банка, трудно было себе представить, что он будет до последней минуты торчать дома ради того, чтобы подскочить к телефону), и вот я поднял трубку:
– С добрым утром, миссис Сноупс. Это Гэвин Стивенс. Можно мне поговорить с Линдой, если только она еще не… Понятно. Значит, я ее пропустил. Впрочем, сегодня утром я сам опоздал… Большое спасибо. Мы все очень рады, что несессер ей так понравился. Мэгги будет очень рада ее записке… Может быть, вы ей передадите, когда она придет обедать… Я получил сведения о месте стипендиатки в рэдклиффском колледже, – может быть, ей будет интересно. В сущности, это около Гарварда; я ей и про Кэмбридж могу рассказать… Да, если можно: скажите, что я буду ждать ее в кондитерской сегодня после уроков. Спасибо.
И потом – «прощайте». Грустное слово, даже по телефону. То есть не само слово грустное, даже не значение слова, а то, что можешь его выговорить, что всегда в конце концов приходит час, когда говоришь это слово не только без тоски, без горечи, но даже без тени тоски, горечи, при воспоминании о той ночи, тут, в этом же кабинете (когда же это было? Десять лет назад? Двенадцать лет?), когда я сказал не просто «прощайте», а, в сущности, «убирайтесь к черту» Юле Уорнер, и от этого тогда не поседели волосы, не выступил на лбу холодный пот, не брызнули слезы, и если все еще слабо копошилось в душе сожаление, то лишь сожаление о том, что если бы у меня тогда хватило смелости не сказать «нет», то теперь и эта смелость ничего бы не стоила, раз даже та трусость стала смутным сожалением.
Сначала я решил, что войду в кондитерскую и буду ждать, уже сидя за столиком. Потом я передумал: все должно быть просто, но не слишком надуманно просто. Так что я остановился у дверей, несколько сбоку, чтобы не мешать хлынувшему потоку ребятишек, или, вернее, чтобы они меня не раздавили. Не нужно, чтобы она уже за квартал видела, что я ее жду, пусть это будет, хотя бы внешне, нечаянная встреча, счастливый случай; и вот прошли сначала малыши, первые, вторые, третьи классы и уже пошли большие – вторая ступень, старшеклассники; вот сейчас, скоро, сию минуту – но тут ко мне подошел Чик со сложенной записочкой в руке.
– Вот, – сказал он. – Заело!
– Заело? – сказал я.
– Да, пластинку. В граммофоне. Музыка-то ведь та же самая, верно? Только на этот раз играет задом наперед.
Видно, она настояла, чтобы он сначала прочитал записочку, прежде чем отдать мне. Так что, кроме нее самой, я читал уже вторым:
Дорогой мистер Стивенс,
я немного опоздаю, если можно подождите.
Линда.
– Не совсем то, – сказал я. – Что-то я не слышу звона доллара.
– Правильно, – сказал он. – И я тоже. Наверно, ты сейчас не пойдешь домой?
– Наверно, нет, – сказал я.
И я зашел в кондитерскую, сел за столик, я должен был сделать для нее хотя бы это; уж если дать ей возможность отомстить, так пусть уж месть будет полная; полное удовлетворение – следить, откуда бы она ни следила, как я сижу и жду ее, жду долго, даже решив, что она уже не придет; пусть я прожду целый час, потому что «конец» это совсем не то, что «прощайте!», да и причины нет взмутить родник тоски.
И поэтому, когда она торопливо прошла мимо окна, я ее не узнал. Потому что шла она не из школы, а с противоположной стороны, будто на занятия, а не с занятий. Нет, не только потому. Вот она уже вошла в кондитерскую, торопливо хлопнув внутренней дверью, как бы и на бегу, и в застывшем движении, и на ней была не обычная юбка с блузкой или ситцевое платьице, не школьные туфли без каблуков, – нет, она была разодета, вот именно «разодета»: шляпка, высокие каблучки шелковые чулки, даже напудрена, хотя ей это было совершенно ненужно, и я почувствовал даже запах духов на долю секунды она застыла на лету, в странной, не сообразной устремленности вперед, словно сокол, пойманный объективом при замедленной съемке.
– Все в порядке, – сказал я. Хоть на это у меня хватило присутствия духа.
– Не могу, – сказала она. Да, хоть на это. В кондитерской народу почти не было, но даже один человек и то был бы лишний, так что я сразу встал, подошел к ней.
– Как ты мило выглядишь, – сказал я. – Пойдем, я тебя немного провожу. – И тут же повернул ее к двери, даже не дотрагиваясь до ее руки, к выходу, на тротуар, не умолкая (наверно, я не молчал, обычно я молчать не умею), болтая без умолку; потому-то я, очевидно, и не заметил, что направление выбрала она, пока я не увидал, что она просто повернула к лестнице, ведущей в мой служебный кабинет, и только тогда я тронул ее за локоть, задержал ее, повел мимо лестницы, так что никто (приходилось надеяться, верить, не сомневаться) не заметил эту задержку, повел мимо витрин магазинов с весенними товарами – мимо скобяных и хозяйственных лавок, заставленных садовыми и сельскохозяйственными орудиями, бунтами свернутых гужей, мешками удобрений, мимо бакалейных магазинов, где тоже были выставлены пакеты с семенами, расписанные какими-то немыслимыми цветами и овощами, – все время разговаривая с ней (о да, тут я не подведу, поверьте), все так солидно, пристойно: молоденькая девушка, нарядная, надушенная, направляется куда-то, куда может идти молодая особа, в четыре часа, в майский день, и седовласый холостяк, добрый дядюшка, как говорят негры, «хорошо устроенный», уже не способный никому повредить, оттого что застыла кровь и дремлет плоть, – покой их не смутит ни дрожь руки, ни поступь ножки, и все надежды и мечты рассыпались сухою пылью, – но тут мы повернули за угол, где наконец остались одни, где было хотя бы пусто, во всяком случае можно было свободно идти рядом, не останавливаясь.
– Не могу, – сказала она.
– Это я уже слышал, – сказал я. – Чего ты не можешь?
– Эти колледжи, – сказала она. – Те, что вы мне… те проспекты. Ни в Джефферсоне, ни в Миссисипи.
– Очень хорошо, что ты не можешь, – сказал я. – Я и не ждал, что ты сама решишь. Потому и хотел тебя повидать, хочу помочь тебе выбрать самый лучший из них.
– Но я не могу, – сказала она. – Неужели вы не понимаете? Не могу!
И тут я – да, я! – оборвал разговор. – Хорошо, – сказал я. – Расскажи мне все.
– Не могу я никуда уехать. Я останусь в Джефферсоне. С будущего года поступлю в пансион. – О да, я молчал. Дело было вовсе не в этом пансионе. Дело было даже не в том, что этот пансион находился в Джефферсоне. Дело было в самом Джефферсоне, это он был ее смертельным врагом, потому что Джефферсон значило – Сноупс.
– Понятно, – сказал я. – Хорошо. Я сам с ней поговорю.
– Нет, – сказала она. – Нет. Я не хочу уезжать.
– Надо, – сказал я. – Мы должны с ней поговорить. Это слишком важно, тебе даже не понять, насколько это важно. Пойдем. Сейчас же пойдем домой, к твоей матери, поговорим с ней… – И я уже повернул обратно. Но она уже поймала меня, схватила за руку обеими руками, заставила остановиться. Потом отпустила меня, и сама остановилась, – высокие каблуки, шелковые чулочки и шляпка, слишком взрослая для нее, а может быть, я просто не привык видеть ее в шляпке, – может быть, она напомнила мне ту шляпу, тот неудачный обед у нас дома, в воскресенье, два года назад, когда я в первый раз заставил, принудил ее сделать то, чего она не хотела, потому что она не знала, как мне отказать; и тут я вдруг сказал: – Конечно, не стоило бы тебя спрашивать, но все-таки я спрошу для ясности. Ведь ты сама не хочешь оставаться в Джефферсоне, правда? В сущности, ты ведь хочешь уехать на восток, в колледж? – И тут же перебил себя: – Хорошо, беру свои слова обратно: нельзя тебя об этом спрашивать. Нельзя заставлять тебя так, прямо, сознаться, что ты хочешь пойти против воли матери. Ну хорошо, – сказал я, – наверно, ты просто не хочешь присутствовать при нашем разговоре, верно? – Потом я сказал: – Посмотри на меня, – и она посмотрела, этими глазами, не серыми, не голубыми, а почти сапфировыми, и мы стояли друг против друга, на тихой улице, на виду, по крайней мере, у двадцати скромно опущенных занавесок; а она смотрела на меня, говоря, шепча:
– Нет, нет.
– Пойдем, – сказал я. – Давай погуляем еще немного. – И она послушно пошла со мной. – Ведь она знает, что ты должна была со мной встретиться сегодня, после школы, она же сама передала тебе, что я звонил по телефону. Ну, хорошо, – сказал я. – Я приду к вам домой, утром, когда ты уйдешь в школу. Ты ей даже ничего не говори. Вообще не нужно ей ничего говорить – ничего не надо рассказывать…
Но она не говорила даже «нет, нет», хотя ничего другого я от нее не слыхал с той минуты, как я ее увидел, хотя она продолжала это повторять всем своим видом, своим молчанием. Теперь-то я понимал, к чему этот наряд, эти духи, эта пудра, шедшая к ней еще меньше, чем шляпка. Это было сделано в отчаянии, не для того, чтобы оправдать свою неблагодарность, но чтобы смягчить эту грубость: мать ей сказала: «Конечно, повидай его, обязательно повидай. Скажи, что я прекрасно решу сама все вопросы насчет образования моей дочери и мы обе будем ему весьма благодарны, если он перестанет вмешиваться», – а бедный ребенок в отчаянье хочет скрыть, прикрыть ее низость и свой стыд плацентой шелковичных червей, мочой и извержениями котов и спермой кашалотов.
– Я приду завтра утром, когда ты будешь в школе, – сказал я. – Понимаю, все понимаю. Но дело обернулось слишком серьезно, останавливаться нам уже нельзя.
И вот следующее утро: думалось (это я о себе), что вчера я уже в последний раз старался все скрыть. Но надо было проверить. А тут еще Рэтлиф:
– Что? – сказал он. – Вы идете к Юле, потому что Юла не позволяет ей уезжать из Джефферсона, в колледж? Но вы ошибаетесь.
– Хорошо, – сказал я. – Пусть я ошибаюсь. Думаете, мне охота идти? Не такой уж я храбрый, чтоб учить кого-нибудь, особенно женщину, как ей воспитывать своего ребенка. Но кому-то надо это сделать. Ей необходимо уехать из Джефферсона. Навсегда уехать, не дышать воздухом, где звучит, где слышится самое имя – Сноупс.
– Да погодите же, говорят вам! Погодите! – сказал он. – Вы же ошибаетесь.
Но ждать я не мог. Ждать я не стал. То есть мне все же пришлось оттянуть, провести время хотя бы до девяти часов. Потому что даже в такое жаркое майское утро в Миссисипи, когда люди встают обычно с восходом солнца (не столько из страха за себя, сколько для того, чтобы наверстать время за счет жарких часов между двенадцатью и четырьмя), хозяйке дома все же понадобятся какие-то часы, чтобы успеть подготовить и свой дом, и себя, а может быть, главным образом, просто свою душу – для посетителя мужского пола не только незваного, но и нежелательного.
Но она была готова: и сама, и дом, и душа; если только ее душа вообще когда-либо в жизни была не подготовлена к встрече с любым существом в брюках, или, вернее, если душа какой-нибудь женщины нуждалась в подготовке к встрече с существом, носящим брюки, но всего-навсего именуемым Гэвином Стивенсом; и я прошел через небольшую калитку (казалось, что калитка – ничья, хотя хозяин или кто-то еще ее заново выкрасил) по узенькой ничьей дорожке к маленькой ничьей веранде, поднялся по ступенькам и уже занес было руку, чтобы постучать, но тут увидал ее сквозь сетчатую дверь – она стояла совершенно неподвижно в небольшой прихожей и следила за мной глазами.
– Доброе утро, – сказала она. – Входите. – И уже сетки между нами не было, а она все продолжала следить за мной глазами. Нет, она смотрела на меня без вызова, без привета, просто так. Потом повернулась – теперь все женщины в Джефферсоне, даже наша Мэгги, коротко стриглись, а ее волосы по-прежнему были собраны тяжелым небрежным золотым узлом на затылке, и на ней был не утренний халат, не нарядное платье, даже не домашнее платье, – просто обыкновенное ситцевое платье, но все же, хотя ей уже было тридцать пять, нет, тридцать шесть, если вести счет, как Рэтлиф, со дня того великолепного падения – все же и это платье, как и то, в котором она впервые прошлась по площади шестнадцать лет назад, казалось не только надетым в отчаянной спешке, чтобы прикрыть это трепещущее тело, нет, оно словно прильнуло к ней в покорном обожании, восклицая каждой складкой текучей ткани: «Эвое! Эвое!»
Да, конечно, и гостиная была точно такая же, как вестибюль, и все это было точно такое, какое я уже где-то видел, но не успел вспомнить где. Она уже спросила: «Хотите кофе?» – и я тут же увидал сервиз (не серебряный, а из того накладного металла, про который и в рекламах не говорится, что он лучше серебра, но что он просто современнее. Современный металл: в этих словах – намек, что серебро тоже вещь неплохая и даже подходящая для тех людей, кто еще держится за газовые лампы и конные экипажи) на низком столике, а у столика – два кресла, и я подумал: «Теперь я проиграл», – даже если бы она вышла ко мне в мешке или в дерюге. – Потом подумал: «Значит, дело действительно серьезное», – потому что все это – кофе, низенький столик, интимно придвинутые кресла – должно было воздействовать не на железы внутренней секреции, даже не на желудок, а на утонченную душу, во всяком случае на душу, которая жаждет быть утонченной…
– Благодарю, – сказал я, подождал, пока она сядет, и тоже сел. – Только разрешите полюбопытствовать – зачем? Ведь нам перемирие не нужно, – я уж и так обезоружен.
– Значит, вы пришли воевать? – сказала она, наливая кофе.
– Как же я могу, без оружия? – сказал я, глядя на нее: склоненная голова с небрежным, почти растрепанным узлом волос, рука, которая могла бы качать колыбель героя-воина или даже подхватить меч, выпавший из рук его отца, и эта рука наливает будничный (наверно, у них и кофе плохой) напиток из будничного, под серебро, дешевого кофейника – и все это тут, в таком доме, в такой комнате, – и вдруг я вспомнил, где я видел раньше такие комнаты, такие прихожие. На фотографии, на тех фотографиях, скажем, из журнала «Город и усадьба», под которыми написано «Американский интерьер», их еще перепечатывают в красках для всяких каталогов мебельных магазинов, со специальной подписью: «Это не копия, и не репродукция. Это наш образец обстановки, которую вы можете заказать только у нас по своему вкусу». – Большое спасибо, – сказал я. – Мне без сливок. Только сахару. А ведь все это на вас непохоже, – сказал я.
– Что именно? – спросила она.
– Эта комната. Ваш дом. – Но почему-то я сперва даже не поверил, что я правильно ее услышал:
– Это не я. Это мой муж.
– Простите, не понял, – сказал я.
– Обстановку выбирал мой муж.
– Флем? – крикнул я. – Флем Сноупс? – А она смотрит на меня без удивления, без испуга: без всякого выражения, просто ждет, когда кончится эта вспышка: и не только от Маккэррона унаследовала Линда такие глаза, у нее только цвет волос был целиком от него. – Флем Сноупс! – повторил я. – Флем, Флем Сноупс!
– Да. Мы съездили в Мемфис. Он точно знал, чего хочет. Нет, это неверно. Он еще не знал. Он только знал, что ему что-то нужно, что он должен что-то иметь. Вы меня понимаете?
– Понимаю, – сказал я. – Очень хорошо понимаю. Вы поехали в Мемфис.
– Да, – сказала она. – И вот для чего: надо было кого-то найти, кто мог бы ему сказать, что именно надо купить. Он уже знал, в какой магазин заехать. И он сразу у них спросил: «Если человек у вас ничего не собирается покупать, сколько вы с него возьмете за то, что он с вами поговорит?» Понимаете, тут он не торговлей занимался. Когда ведешь торговлю, скотом или земельными участками, чем угодно, то тут можно торговаться, а можно и не торговаться, все зависит от обстоятельств; никто вас не заставляет покупать или продавать; перестали торговаться, расстались – и можете остаться при своем, как вначале. А тут было не то. Ему надо было что-то получить, и он знал, что ему это необходимо: только он еще не знал, что именно, так что ему приходилось не только зависеть от хозяина магазина, ждать, что он ему подскажет, но он еще зависел и от честности того, кто ему продаст все, что ему надо, потому что он не знал ни цен, ни стоимости этих вещей, а знал только одно: ему это необходимо. Вы и это понимаете, да?
– Да, да, – сказал я. – Понимаю. А дальше что?
– Ему нужно было именно это, именно для такого человека, каким он стал. И вот тут хозяин магазина сказал: «Кажется, я вас понял. Сначала вы служили приказчиком в деревенской лавке. Потом вы переехали в город и стали хозяином ресторана. Теперь вы вице-президент банка. Человек за короткое время так далеко пошел и на этом не остановится, – значит, надо, чтобы всякий, кто войдет к нему в дом, это понял. Да, теперь я знаю, что вам нужно». – А Флем говорит: «Нет». – «Не обязательно дорогое, – говорит хозяин, – но чтоб видно было преуспевание». А Флем опять говорит: «Нет». «Отлично, – говорит хозяин. – Значит, что-нибудь старинное», – и ведет нас в другое помещение, показывает, о чем он говорит. «Можно взять, например, вот эту штуку и придать ей еще более старинный вид». А Флем говорит: «Зачем?». И тот говорит: «Как будто фамильное. От дедушки». А Флем говорит: «Дед у меня был, дед есть у каждого. Не знаю, кто он был, но знаю, что у него никогда не хватило бы мебели и на одну комнату, не то что на целый дом. А кроме того, я никого обманывать не собираюсь. Только дурак старается обмануть умных люден, а тот, кому нужно обманывать дураков, сам дурак». И тут этот хозяин говорит «обождите» и идет к телефону. Мы подождали недолго, потом пришла эта женщина. Жена хозяина. Она мне говорит: «А вам чего бы хотелось?» – а я говорю: «Мне все равно», – и она говорит: «Что?» – а я опять повторяю, и тут она смотрит на Флема, и я вижу, как они долго смотрят друг на друга. И потом она говорит, не громко, как ее муж, а так тихо, спокойно: «Знаю», – и тут Флем говорит: «Погодите. Сколько это будет стоить?» И она говорит: «Вы коммерсант. Я заключу с вами сделку. Я привезу всю обстановку в Джефферсон и сама обставлю ваш дом. Понравится – купите. Не понравится – погружу и увезу сюда, а с вас не возьму ни цента».
– Понятно, – сказал я. – А потом что?
– Вот и все, – сказала она. – Ваш кофе остыл. Сейчас принесу другую чашку. – И уже привстала, но я ее остановил.
– Когда это было? – сказал я.
– Четыре года назад, – сказала она. – Когда он купил этот дом.
– Купил дом? – сказал я. – Четыре года назад? То есть когда он стал вице-президентом банка!
– Да, – сказала она. – Накануне того дня, как об этом объявили. Сейчас принесу другую чашку.
– Не хочу я кофе! – сказал я, повторяя про себя «Флем Сноупс, Флем Сноупс», пока я вдруг не сказал, не крикнул: – Ничего я не хочу! Мне страшно! – А потом переспросил: – Что? – И она повторила:
– Хотите сигарету? – И я и эту штуку узнал: ящичек из поддельного серебра, к нему полагалась бы такая же зажигалка, но она вынула из ящичка с сигаретами простую кухонную спичку. – Линда говорит, что вы курите тростниковую трубку. Закуривайте, если хотите.
– Нет, – сказал я. – Ничего не хочу. Но Флем Сноупс, – сказал я. – Флем Сноупс!
– Да, – сказала она. – Не я запрещаю ей уезжать из Джефферсона, в колледж.
– Но почему? – сказал я. – Ведь она даже не его… Он даже не ее… простите меня! Но вы сами понимаете, что это настолько срочно, настолько серьезно, что нам не до…
– Не до церемоний? – сказала она. Нет, я не пошевельнулся, я сидел и смотрел, как она наклонилась, и чиркнула спичкой о подошву туфли, и закурила сигарету.
– Не до чего, – сказал я. – Не до чего, кроме нее. Рэтлиф что-то пытался объяснить мне сегодня утром, но я не стал слушать. Может быть, он говорил то же, что и вы, минуту назад, а я не слушал, не хотел слушать? Про эту мебель. Про тот день в магазине. Когда он сам не знал, чего он хочет, потому что неважно было, что это такое, несущественно: важно, что ему это нужно, необходимо, что он должен это иметь, намерен приобрести, все равно какой ценой, все равно, кто от этого потеряет, кто будет огорчаться или горевать. Ему было нужно то, что совершенно точно подошло бы тому человеку, каким он станет на следующий день, когда объявят о его назначении: и жена вице-президента, и его дочь тоже входят в обстановку дома вице-президента вместе с остальной мебелью. Вы об этом хотели мне рассказать?
– Примерно что-то в этом роде, – сказала она.
– Примерно что-то в этом роде? – сказал я. – Конечно, это еще не все. Это далеко не все. Я уж не говорю о деньгах, потому что каждый, кто видел на нем этот галстук бабочкой, сразу поймет, что он из своих денег и цента не истратит на плацкартный билет, чтобы послать в школу даже своего собственного ребенка, а не то что чужого, незакон… – Но тут я умолк. Она продолжала курить, глядя на кончик сигареты, но не промолчала:
– Договаривайте! – сказала она. – Незаконнорожденного?
– Я перед вами виноват, – сказал я.
– Почему? – сказала она.
– Надо, чтобы я чувствовал себя виноватым. Может быть, я и почувствовал бы, если бы и вы чувствовали себя так или если бы вы хотя бы сделали вид…
– Продолжайте, – сказала она. – Значит, не из-за денег.
– Потому что он, то есть вы, могли бы взять деньги у дядюшки Билла, уж не говоря о том, что я мог бы дать денег, в виде стипендии. А может быть, и так? Может быть, он не выносит мысли, что даже чужие деньги, деньги его смертельного врага, а дядя Билл наверно для него враг, можно швырнуть на то, чтобы послать ребенка учиться в чужой штат, когда он каждый год платит налоги для поддержания миссисипских школ.
– Говорите, – повторила она. – Не из-за денег.
– Значит, все в конце концов сводится к этой картинке из мебельного каталога, скопированной в ярких красках с какой-нибудь чарльстаунской, или ричмондской, лонг-айлендской или бостонской фотографии, – значит, лишь бы все было в таком виде, в каком, по мнению Флема Сноупса, он должен предстать перед общественным мнением Йокнапатофского округа. Пока он был всего-навсего владельцем захудалого ресторанчика, можно было, чтобы во всей Французовой Балке (и во всем Джефферсоне, и во всех его окрестностях, по милости Рэтлифа и ему подобных) люди знали, что ребенок, носящий его имя, на самом деле – м-м…
– Незаконнорожденный, – сказала она опять.
– Ну, хорошо, – сказал я. Но сам не повторил это слово. – И даже когда он продал ресторан с недурной прибылью и стал смотрителем электростанции, это тоже не имело значения. И даже потом, когда он не занимал общественного поста, а был просто частным ростовщиком и хапугой, и тихо занимался своими делами; не говоря уж о том, что прошло десять или двенадцать лет, а за это время даже он мог поверить, что джефферсонцы настолько добры по отношению к двенадцати-тринадцатилетнему ребенку, к девочке, что не станут отравлять ей жизнь всякой бесполезной и бессмысленной информацией. Но потом он стал вице-президентом банка, и вдруг теперь вмешивается какой-то посторонний и уговаривает этого ребенка уехать учиться в другой штат и провести хотя бы три месяца до рождественских каникул среди молодых людей, чьи отцы не берут у него денег в долг, и поэтому они вовсе не обязаны молчать и любой из этих юнцов может ей открыть тайну, которую любой ценой необходимо скрыть. Значит, вот в чем дело, – сказал я, но она и тут не взглянула на меня: спокойно и неторопливо она курила, следя за медленно расплывающимся дымком. – Значит, в конце концов вы виноваты, – сказал я. – Он запретил ей уезжать из Джефферсона и вымогательством заставил вас поддержать его, грозя вам тем, чего он сам боится: тем, что расскажет ей о позорном прошлом ее матери и о том, что она незаконнорожденная. Нет, знаете ли, это палка о двух концах. Попросите денег у вашего отца или возьмите у меня и отошлите ее подальше из Джефферсона, иначе я сам ей расскажу, кто она такая, иди кем она никогда не была.
– А вы думаете, она вам поверит? – сказала она.
– Что? – сказал я. – Не поверит? Не поверит мне? Да ей не нужно даже смотреться в зеркало, чтобы сравнить и отречься, ей достаточно было прожить рядом с ним эти семнадцать лет. Что может быть для нее лучше, чем поверить мне, поверить любому, ухватиться за то, что скажут люди, у которых хватит сострадания объяснить ей, что она не его дочь? О чем вы говорите? Чего ей еще надо, кроме права любить свою мать за то, что она, ценой любви, спасла ее, не дала ей родиться одной из Сноупсов. А если этого мало, то кто мог бы желать большего, нежели быть такой, какими большинство людей никогда не может быть, иметь право заслужить то, что заслуживает один из десяти миллионов – не только называться «дитя любви», но быть одной из этих избранных, быть в родстве с бессмертными детьми любви – с плодами той смелой девственной страсти, что не просто готова, но обречена отдать за любовь весь мир, всю землю, – об этом всегда в долгой летописи человечества те, слабые, бессильные, бессонные и пугливые, кого люди называют поэтами, мечтали, тосковали, этим они восхищались и восторгались… – Она уже смотрела на меня, уже не курила: просто держала сигарету, глядя на меня сквозь улетающий голубой дымок.
– Вы не очень хорошо знаете женщин, правда? – сказала она. – А женщинам не интересны мечты поэтов. Им интересны факты. Неважно, правда ли это или нет, лишь бы эти факты совпадали с другими фактами, без грубых стыков, без швов. Она не поверила бы вам. Она и ему не поверила бы, если бы он сам ей сказал. Она просто возненавидела бы вас обоих, больше всего вас, потому что вы все это затеяли.
– Значит, по-вашему, она примет… все это… и его тоже, предпочтет остаться ни с чем? Откажется от возможности учиться, жить иначе? Нет, я вам не верю!
– Для нее это не значит остаться ни с чем. Она предпочтет это многому. Почти всему.
– Не верю я вам! – сказал, крикнул я или подумал, что крикнул. Да, только подумал, а сказал другое: – Значит, я ничего не могу сделать?
– Можете, – сказала она. Теперь она смотрела на меня пристально, все еще держа потухшую сигарету. – Женитесь на ней.
– Что? – сказал, нет, крикнул я. – Седой человек, вдвое старше ее? Неужели вы не видите, за что я бьюсь: освободить ее от Джефферсона, дать ей свободу, а вовсе не привязать ее еще крепче, еще больше, еще ужаснее! И вы еще говорите о реальности фактов!
– Замужество – единственный факт. Все остальное – романтические бредни поэтов. Женитесь на ней. Она за вас пойдет. Именно сейчас, на перепутье, она не сможет, не сумеет отказать вам. Женитесь на ней.
– Прощайте, – сказал я. – Прощайте.
А Рэтлиф так и сидел в кресле для моих клиентов, как я его оставил час назад.
– Я же вам пытался объяснить, – сказал он. – Конечно, это Флем. Зачем Юле и этой девочке отказываться от возможности хотя бы на девять-десять месяцев расстаться друг с другом?
– Теперь-то я вам и сам могу объяснить, – сказал я. – Флем Сноупс вице-президент банка, и у него дом, как у вице-президента, и мебель вице-президентская, а частью этой мебели должны быть вице-президентская жена и дочка.
– Нет, – сказал он.
– Ну, хорошо, – сказал я. – Вице-президент банка не может никому позволить вспоминать, что его жена уже носила чье-то незаконное дитя, когда он на ней женился, а если девочка уедет в другую школу, какой-нибудь тип, который ничего ему не должен, расскажет ей, кто она такая, и весь этот цирк полетит к чертям.
– Нет, – сказал Рэтлиф.
– Ладно, – сказал я. – Тогда рассказывайте вы.
– Он боится, что она выйдет замуж, – сказал он.
– Что? – сказал я.
– Ну, да, – сказал он. – Когда родился Джоди, дядя Билл Уорнер написал завещание, по которому половину всего отказал миссис Уорнер, а половину Джоди. Когда родилась Юла, он завещание переделал – миссис Уорнер половину оставил, а вторую половину разделил поровну, между Джоди и Юлой. Это завещание он и показал Флему, когда тот женился на Юле, так оно и осталось. Вернее, Флем Сноупс поверил старику, когда тот сказал, что не изменит завещания, – а вот другие ему могли и не поверить, особенно после того, как Флем перехитрил его в истории с усадьбой Старого Француза.
– Что? – сказал я. – Неужели он дал эту усадьбу в приданое Юле?
– А как же, – сказал Рэтлиф. – Все так говорили, да и сам дядя Билл нипочем не стал бы отрицать. Он предложил Флему усадьбу, а тот сказал – лучше бы деньгами. Потому Флем с Юлой и уехали в Техас на день позже: он все торговался с дядей Биллом, и дядя Билл заставил Флема согласиться на такую маленькую сумму, о которой тот даже и не подумал бы, но наконец Флем сказал: ладно, он возьмет эту сумму, только пусть дядя Билл даст ему возможность купить усадьбу за эту же сумму, когда он вернется из Техаса. На этом они и порешили, и Флем вернулся из Техаса с теми пестрыми лошаденками, а когда пыль улеглась, мы с Генри Армстидом уже купили Французову усадьбу, – я отдал свою половину ресторана, а Генри – порядочную сумму, так что хватило на выплату дяде Биллу тех денег, про которые он и думать забыл. Потому-то Флем и считает, что никогда дядя Билл свое завещание не изменит. И теперь он боится рисковать – выпустить девочку из Джефферсона, дать ей выйти замуж, потому что тогда и Юла его бросит. Конечно, Флем первый сказал «нет», но теперь все трое против вас, и Юла, и сама девочка, пока она за кого-нибудь не вышла замуж. Потому что женщинам не интересны…
– Погодите, – сказал я. – Дайте мне самому сказать. Потому что я ничего не понимаю в женщинах, потому что такие вещи, как любовь, и мораль, и желание воспользоваться любым случаем, лишь бы не стать одной из Сноупсов, все это романтические бредни поэта, а женщинам не интересны романтические бредни; женщинам интересны только факты, им все равно, какие факты, правда это или неправда, лишь бы они совпадали со всеми другими фактами, без всяких трещин и зазубрин. Правильно?
– Как знать, – сказал он. – Может, я бы не совсем так выразился.
– И все из-за того, что я не понимаю женщин, – сказал я. – Будьте же так добры, объясните мне, каким чертом вы-то их стали понимать?
– Может, я просто их слушал, – сказал Рэтлиф. Это мы все знали: сколько раз за последние десять – двенадцать лет каждый житель Йокнапатофы видел раскрашенный жестяной ящик, в виде домика, где стоял образец швейной машины (в прежние дни он был установлен на фургончике, запряженном лошадками, а в последнее время на задке полугрузового пикапа), и каждый видел, как фургончик, а потом автомобиль, стоял у каких-нибудь ворот, проехав тысячи ярдов по сотням проселочных дорог, и его окружали пять-шесть женщин в чепцах или соломенных шляпках, сбежавшиеся отовсюду за целую милю, а сам Рэтлиф, в своей неизменной аккуратной синей рубашке без галстука, сидел на кухонной табуретке где-нибудь в тени на веранде или во дворе и слушал с непроницаемым выражением на спокойном, загорелом, вежливом и лукавом лице. О да, все мы это знали.
– Значит, я слушал не тех, кого надо, – сказал я.
– А может, и тех, кого не надо, – сказал он. – Вы вообще никогда никого не слушали, потому что сами сразу начинали разговаривать.
О да, совсем легко. Надо было только выйти на улицу в положенное время, чтобы она увидала меня и повернула, метнулась, словно убегая, в боковую улочку, минуя засаду. И тогда даже не надо было обходить целый квартал, а просто пройти через кондитерскую, выйти черным ходом, так что, как бы она ни бежала, я оказывался в переулочке первым, в засаде за углом, и у меня было достаточно времени до той минуты, как я услышал ее быстрые шаги, и тут я вышел и схватил ее за руку, у самой кисти, прежде чем она успела поднять руку, словно отталкиваясь, защищаясь от меня, и я держал ее за руку осторожно, а она пыталась высвободить руку, выдернуть ее, повторяя: – Пустите! Пустите!
– Хорошо! – сказал я. – Хорошо! Скажи мне только одно. Помнишь, в тот день ты пошла домой переодеться, прежде чем встретиться со мной в кондитерской. Ты сама решила пойти домой и надеть другое платье. Но губы ты намазала и надушилась и надела шелковые чулки и туфли на высоких каблуках по настоянию матери. Верно, да? – Но она только осторожно дергала руку, которую я держал, пытаясь высвободиться, и повторяла шепотом:
– Пустите! Пустите!
16. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН
Вот что было, по словам Рэтлифа, до того, как пришел дядя Гэвин.
Стоял январь, день был пасмурный, но не морозный, потому что был туман. Старая Хет вбежала через парадное в прихожую миссис Хейт, а оттуда на кухню, уже крича громким, ясным, бодрым голосом, по-детски громко и радостно:
– Мисс Мэнни! У вас на дворе мул!
Никто толком не знал, сколько ей в действительности лет. Никто в Джефферсоне не помнил даже, сколько лет она живет в богадельне. Старики говорили, что ей под семьдесят, хотя по собственному ее расчислению, учитывая возраст разных джефферсонскнх дам, от невест до бабушек, которых, как она говорила, она нянчила с колыбели, ей было чуть ли не все сто, а Рэтлиф утверждал, что она три века прожила.
Но в богадельне она только спала, или проводила ночь, или, по крайней мере, часть ночи. Потому что все остальное время она была либо на площади, либо на улицах Джефферсона или где-нибудь между городом и богадельней на грязной дороге длиной в полторы мили; вот уже не менее двадцати пяти лет городские дамы, завидев ее из окон или даже только заслышав ее сильный, громкий, бодрый голос у соседнего дома, запирались в ванной. Но даже это их не спасало, – разве только они не забывали сперва запереть парадное и черный ход. Потому что рано или поздно они должны были выйти, а она тут как тут, высокая, тонкая, с шоколадной кожей, говорливая, бодрая, в резиновых тапочках и длинном, мышиного цвета пальто, отороченном тем, что лет сорок или пятьдесят назад было мехом, и в ярко-красной шляпе, которую старая миссис Компсон подарила ей пятьдесят лет назад, еще когда был жив генерал Компсон, на самой макушке поверх головного платка (сначала она ходила с саквояжем такого же цвета, казавшимся бездонным, как угольная шахта, но, с тех пор как в Джефферсоне открылась лавка десятицентовых товаров, саквояж заменили бумажные сумки, которые там давали бесплатно), сидела на стуле в кухне, и хотя она приходила просить милостыню, тон, который она усвоила, был любезный и самый что ни на есть светский.
Так она перекочевывала из дома в дом, словно какой-то плавучий остров, распространяющий вокруг себя ужас и панику, взимая еженедельную дань объедков и обносков, а иногда и монетку на понюшку табаку, двигаясь среди городской сутолоки, столь же неотвратимая, как сборщик налогов. Но за последние год или два, с тех пор как миссис Хейт овдовела, Джефферсон, благодаря миссис Хейт, получил как бы временную передышку. Но даже во время этой передышки настоящего покоя не было. Скорее старая Хет устроила на кухне у миссис Хейт своего рода местный штаб или передовой фуражный пост вскоре после того, как мистер Хейт и пять мулов, принадлежавших мистеру А.О.Сноупсу, погибли на крутом повороте около города под колесами скорого поезда, шедшего на север, и даже в богадельне прослышали, что миссис Хейт получила за мужа восемь тысяч долларов. Старая Хет, добравшись до города, заходила прямо к миссис Хейт и оставалась там иногда до самого полудня, а уж потом начинала свой неотвратимый обход. Иной раз в непогоду она оставалась у миссис Хейт на весь день. В такие дни ее постоянные клиенты, или жертвы, временно избавленные от нее, недоумевали – неужто в доме этой женщины с мужским характером и мужским языком, которая, как сказал Рэтлиф, продала своего мужа железнодорожной компании с прибылью в восемь тысяч процентов и которая собственноручно колола дрова, доила корову, вскапывала и обрабатывала свой огород, – неужто старая Хет помогает ей там за то, что ее пускают на порог или даже теперь она поддерживает светский тон гостьи, пришедшей развлечься и развлечь хозяйку.
Она вбежала на кухню миссис Хейт в пальто и шляпе, с бумажной сумкой в руке, громко крича:
– Мисс Мэнни! У вас на дворе мул!
Миссис Хейт сидела на корточках у плиты, выгребая в ведро раскаленные угли. Она была бездетна и жила теперь одна в своем деревянном домике, выкрашенном в тот же цвет, в какой железнодорожная компания окрашивала станционные постройки и товарные вагоны – как все мы говорили, из уважения к тому памятному утру три года назад, когда то, что осталось от мистера Хейта, наконец отделили от того, что осталось от пяти мулов и нескольких футов новой пеньковой веревки, разбросанных вдоль железнодорожного полотна. В должное время к ней явился представитель железнодорожной компании, который обязан был удовлетворять иски, а еще немного погодя она получила по чеку восемь тысяч пятьсот долларов, потому что, как говорил дядя Гэвин, в те блаженные дни даже железнодорожные компании считали свои южные отделения и филиалы законной и справедливой добычей всех, кто жил близ путей, и хотя уже несколько лет перед смертью мистера Хейта мулы в одиночку и парами (по странному совпадению они почти всегда принадлежали мистеру Сноупсу; их легко было узнать, потому что всякий раз, как поезд давил его мулов, на них была новая крепкая веревка) попадали под колеса ночью на этом самом крутом повороте, но в первый раз, как сказал дядя Гэвин, человек разделил с ними их печальный конец.
Миссис Хейт взяла деньги наличными; она стояла у окошечка кассы в ситцевом капоте, в свитере своего покойного мужа и в настоящей мягкой шляпе, которая была на нем в то роковое утро (ее нашли в целости), и молча, с холодным и суровым видом, выслушала, как сперва счетовод, потом кассир и, наконец, президент (сам мистер де Спейн) пытались втолковать ей про купоны, потом про срочные вклады, потом про простые вклады, после чего положила деньги в мешочек, висевший у нее под фартуком, и ушла; а потом она выкрасила свой дом этой прочной и неподвластной времени краской, под цвет вокзала и товарных вагонов, как видно, из чувствительности или (как сказал Рэтлиф) из благодарности, и с тех пор жила там одна-одинешенька, по-прежнему носила ситцевый капот, свитер и мягкую шляпу, которые ее муж носил до тех пор, пока они стали ему не нужны; но ботинки у нее теперь уже были собственные: мужские ботинки на пуговицах, с носками, похожими на луковицы тюльпанов, устаревшего и давно вышедшего из моды фасона, – мистер Уилдермарк раз в год заказывал их специально для нее.
Она вскочила, повернулась, не выпуская из рук ведра, сверкнула глазами на старую Хет и сказала – голос у нее был тоже громкий и довольно решительный:
– Ах он сукин сын, – и с ведром в руке выбежала из кухни, в туман, а старая Хет с бумажной сумкой – за ней. Потому-то и мороза не было – из-за тумана: словно все сонное дыхание Джефферсона, накопившееся за эту долгую январскую ночь, плененное, еще лежало между туманом и землей, не давая ей совсем застыть, лежало, будто слой жира, на деревянном крыльце у задней двери, и на кирпичной кладке, и на деревянной крышке погреба возле кухни, и на деревянных досках, проложенных от крыльца к деревянному сараю в углу заднего двора, где миссис Хейт держала корову; и когда миссис Хейт ступила на доски, все еще не выпуская из рук ведро с углями, она здорово поскользнулась и едва удержала равновесие. Старая Хет в своих резиновых тапочках не поскользнулась.
– Осторожней! – бодро крикнула она. – Они перед домом. – Но только один из них уже не был перед домом. А миссис Хейт, поскользнувшись, не упала. Она даже не остановилась, круто повернулась и уже бежала к углу дома, из-за которого внезапно и бесшумно, как призрак, появился мул. Это опять был мул мистера А.О.Сноупса. То есть покуда они наконец не отделили мистера Хейта от пяти мулов на железнодорожном пути в то утро, три года назад, никто не видел связи между ним и тем, что мистер Сноупс покупает мулов, хотя время от времени кто-нибудь удивлялся, как это мистер Хейт зарабатывает на жизнь, не имея постоянного занятия. Как сказал Рэтлиф, дело в том, что слишком уж все удивлялись, на кой черт А.О.Сноупс стал торговать скотом. Но Рэтлиф, подумав, сказал, что, может, оно и понятно: там, на Французовой Балке, А.О. был кузнецом, хотя ничего в этом деле не смыслил, и ненавидел лошадей и мулов, потому что боялся их пуще смерти, а поэтому, может, вполне понятно, что и здесь он взялся за дело, в котором ничего не смыслит, к которому у него нет ни любви, ни способностей, не говоря уж о том, что теперь он боялся в шесть, или восемь, или десять раз больше, потому что вместо одной лошади или мула, которого хозяин привязывал к столбу, и сам стоял рядом, ему приходилось одному иметь дело с восемью, или десятью, или двенадцатью на свободе, покуда он не ухитрялся их обратать.
И все же он это сделал – купил на мемфисском базаре мулов, пригнал их в Джефферсон, продал фермерам, вдовам и сиротам, черным и белым, за сколько дадут, так что дешевле уж некуда, а потом (до той самой ночи, когда товарный поезд задавил мистера Хейта тоже, и Джефферсон впервые понял, что есть связь между мистером Хейтом и мулами мистера Сноупса) мулы в одиночку, и парами, и целыми табунами, всегда связанные вместе крепкой пеньковой веревкой, которая неизменно бывала упомянута и запротоколирована в жалобе мистера Сноупса, попадали под ночные товарные поезда. На этом самом крутом повороте, где погиб мистер Хейт; кто-то (Рэтлиф клялся, что это не он, а вокзальный служащий) наконец послал Сноупсу по почте печатное расписание поездов на нашем путевом участке.
Однако после несчастья с мистером Хейтом (просчета, как сказал Рэтлиф; он сказал, что расписание, а заодно и часы нужно было послать мистеру Хейту) Сноупсовы мулы перестали скоропостижно кончаться на путях. Когда приехал представитель железнодорожной компании, чтобы уладить дело с миссис Хейт, Сноупс тоже при этом присутствовал, для чего ему пришлось принять самое роковое решение в его жизни: с одной стороны, простое благоразумие подсказывало ему, что нужно оставаться в стороне от расследования, которое проводила железная дорога, с другой – он слишком хорошо знал миссис Хейт: она уже сказала ему, что единственный способ получить хоть что-то из суммы, которая будет выплачена в возмещение убытков, – это заручиться поддержкой железнодорожной компании.
И все равно его постигла неудача. Миссис Хейт преспокойно заявила, что ее муж был единственным владельцем этих пяти мулов; ей даже незачем было открыто вызывать Сноупса оспаривать это; он эти деньги только и видел (ну да, он был в банке, подошел так близко, как осмелился, и глядел во все глаза), когда она запихнула их в свой мешочек и завернула в фартук. До тех пор, вот уже пять или шесть лет, он регулярно пересекал мирный и сонный Джефферсон под неистовый рев, окутанный пылью, и о его приближении возвещали жалобные крики и вопли, а шествие его знаменовало желтое облако пыли, в которой метались кувшинообразные головы и гремели копыта, и замыкал его сам Сноупс, – он, задыхаясь, бежал рысью и, широко разинув рот, вопил в смятенье, отчаянье и ужасе.
Когда он вышел после разговора с представителем железной дороги, следы смятения и отчаянья все еще были на его лице, но ужас теперь перешел в недоумение, безнадежное, возмущенное и яростное недоверие, пробившееся сквозь выражение жадной надежды, которое три года не сходило с его лица, опять-таки, как сказал Рэтлиф, такой выход из положения и такие трудности ни для кого другого и не существовали: ему – Сноупсу – до тех пор нужно было только сгрузить мулов в приемный загон при вокзале, а потом уплатить негру, который будет править старой кобылой с бубенцами, и она потащит их на проволоке через город к его загону, откуда он их распродаст, а теперь ему приходилось в одиночку выводить их из загона при вокзале, а потом гнать гуртом в узкую улочку, в конце которой был неогороженный дворик миссис Хейт, и рев, и облако пыли, а в нем мечущиеся дьявольские призраки, словно вихрь, проносились по мирной окраине Джефферсона на двор миссис Хейт, где они оба, миссис Хейт я Сноупс – миссис Хейт с метлой, или с веником, или с другим оружием, какое подвернулось под руку, когда она выбегала из дома, ругаясь, как мужчина, и Сноупс, на время удовлетворивший жажду мести или хотя бы избавившийся от невыносимого накала, невыносимого чувства бессилия, и несправедливости, и зла (Рэтлиф сказал, что он, должно быть, давным-давно уже и не верил, что ему удастся вырвать у миссис Хейт хоть цент из этих денег, и у него осталась лишь отчаянная и тщетная надежда), – должны были ловить этих мулов и снова загонять их за загородку, увертываясь и прыгая среди гремящих копыт, словно в каком-то бурном немом танце, перед домом, словно перед декорацией, и Сноупс был уверен, что даже стойкая краска, которой этот дом выкрашен, куплена на его деньги, и там, внутри, хозяйка живет в холе и роскоши, как королева, тоже за его счет (именно поэтому, как говорил Рэтлиф, миссис Хейт не жаловалась в суд, чтобы отделаться от Сноупса: это она тоже платила за потрясающую возможность обменять своего мужа на восемь тысяч долларов), а со всего квартала всякий раз собирались люди, женщины в фартуках и чепцах, дети, игравшие во дворах, и мужчины, черные и белые, которые случайно проходили мимо и глядели из-за соседних заборов.
Когда мул показался, он уже тоже бежал, и голова его была задрана высоко кверху, и поэтому, вынырнув вдруг из тумана, он казался выше жирафа, бегущего прямо на миссис Хейт и старую Хет, а недоуздок, хлестал его по ушам.
– Вон он! – орала старая Хет, размахивая бумажной сумкой. – Ого-го! Пшел! – Она потом рассказала Рэтлифу, что миссис Хейт повернулась и снова поскользнулась на скользких досках, и они с мулом бежали теперь рядом к коровнику, из открытой двери которого выглядывала неподвижная и удивленная коровья морда. Корове, которая секунду назад мирно стояла в дверях, жевала и глядела в туман, верно, и жираф не показался бы таким высоким и чудовищным, как этот мул, не говоря уж о том, что мул норовил пробежать прямо сквозь коровник, словно перед ним была соломенная стенка или, может, даже просто-напросто мираж. Как бы там ни было, старая Хет сказала, что корова спрятала морду в коровник, как спичку в коробок; и там, внутри коровника, издала звук, – старая Хет не могла сказать, какой именно звук, просто удивленный и испуганный звук, как будто задели одну струну гитары или банджо, а миссис Хейт бежала на этот звук, как сказала старая Хет, невольно блюдя единство женского сословия против мира мулов и мужчин, и они с мулом со всех ног мчались к коровнику, и миссис Хейт уже размахивала ведром с горящими угольями, чтобы швырнуть им в мула. Конечно, все это произошло очень быстро; старая Хет сказала, что она еще орала: «Вон он! Вон он!» – а мул уже повернул и побежал прямо на нее, а она замахала своей бумажной сумкой, и он пробежал мимо, и свернул за другой угол дома, и снова пропал в тумане, тоже как спичка в коробке.
И тогда миссис Хейт поставила ведро на кирпичную приступку у спуска в подпол, и они со старой Хет тоже свернули за угол дома и в самый раз успели увидеть, как мул налетел на петуха с восемью белыми курами, выходивших из-под дома. Старая Хет сказала, что это было похоже на картинку не то из Библии, не то из какого-то чернокнижного писания: мул, который вынырнул из тумана, как оборотень или леший, а потом словно бы улетел обратно в туман, уносимый облаком маленьких крылатых существ. Они с миссис Хейт все бежали; она сказала, что теперь в руках у миссис Хейт было сломанное помело, хотя старая Хет не помнит, где она его подхватила.
– Там, перед домом, еще есть! – крикнула старая Хет.
– Ах, он сукин сын, – сказала миссис Хейт. Их было много. Старая Хет сказала, что этот дворик не больше носового платка был полон мулами и А.О.Сноупсом. Дворик был так мал, что его весь можно было пересечь в два прыжка по три фута каждый, но когда они на него взглянули, то вид был такой, будто в капле воды под микроскопом. Только теперь они вроде бы сами очутились в этой капле. Вернее, старая Хет сказала, что это миссис Хейт и А.О.Сноупс там очутились, потому что она остановилась возле дома, в сторонке, хотя ни в одном уголке этого дворика нельзя было чувствовать себя в безопасности, и глядела, как миссис Хейт, все сжимая помело, с какой-то надменной верой неизвестно во что, может быть, в свою неуязвимость, – хотя старая Хет сказала, что миссис Хейт слишком разозлилась, чтобы соображать, – ворвалась в самую середину табуна вслед за мулом с развевающимся недоуздком, который все летел в туман на этом вихревом облаке перьев, несшихся, как брошенное конфетти или пена позади быстроходного катера.
И мистер Сноупс тоже бежал, и мулы тоже; они с миссис Хейт сверкнули друг на друга глазами, и он прохрипел:
– Где мои деньги? Где моя половина?
– Поймайте вон того здоровенного с недоуздком, – сказала миссис Хейт. – Чтобы духу его здесь не было. – И обе они, старая Хет и миссис Хейт, побежали, так что хриплый голос Сноупса слышался теперь сзади.
– Отдай мои деньги! Отдай мою долю!
– Осторожней! – Это старая Хет, по ее словам, им крикнула. – Он опять нагоняет!
– Несите веревку! – заорала миссис Хейт Сноупсу.
– Да где я ее возьму-то? – заорал Сноупс.
– Да в подполе! – заорала старая Хет. И сама она времени не теряла. – Бегите с той стороны ему наперерез, – сказала она. И она сказала, что, когда они с миссис Хейт свернули за угол, мул с развевающимся недоуздком опять был там, он будто плыл на облаке кур, на которых снова наскочил, потому что они пробежали под домом по прямой, в то время как он бежал по окружности. Свернув в очередной раз за угол, они снова очутились на заднем дворе.
– Убей меня бог! – крикнула Хет. – Он сейчас корову залягает! – Она сказала, что это и впрямь была картина. Корова выскочила из коровника на середину заднего двора; теперь они с мулом стояли нос к носу в каком-нибудь шаге друг от друга, неподвижные, нагнув головы и растопырив ноги, как две этажерки для книг, а Сноупс поднял крышку и по пояс скрылся в подполе, – очевидно, полез туда веревку искать, – а рядом, на приступке, все еще стояло ведро с угольями; старая Хет потом сказала, что она подумала тогда, что открытый подпол не очень подходящее место для ведра с раскаленными угольями, и, возможно, она сказала правду. То есть если бы она не сказала, что подумала это, то сказал бы кто-нибудь другой, потому что потом всегда найдется человек, который рад выставить напоказ свою предусмотрительность и чужую беспечность. Правда, если события разворачивались так быстро, как она говорила, непонятно, откуда у них было время думать.
Потому что все уже опять двигалось; когда они на этот раз завернули за угол, А.О. уже нес, волочил веревку (он ее наконец нашел), за ним бежала корова, подняв хвост, прямой и слегка наклонный, как древко флага на корабле, за ней – мул, потом миссис Хейт и последней старая Хет. И старая Хет снова сказала, что приметила ведро с угольями на приступке возле открытого подпола, где, по вдовьему положению миссис Хейт, накопилась целая груда всякого хлама – пустые ящики на растопку, старые газеты, сломанная мебель, и снова подумала, что ведру здесь не место.
Опять поворот. Сноупс, корова и мул – все трое – уже исчезали в облаке обезумевших кур, которые снова пробежали под домом и поспели как раз вовремя. Но когда все они опять очутились перед домом, там не было никого, кроме Сноупса. Он лежал ничком, пола пиджака при падении завернулась ему на голову, и старая Хет клялась, что на спине его белой рубашки был след раздвоенного коровьего копыта и копыта мула тоже.
– Где они? – крикнула она ему. Он не ответил. – Догоняют! – крикнула она миссис Хейт. – Они уже опять на заднем дворе!
Да, они были там. Она сказала, что, может, корова хотела вернуться в коровник, но решила, что взяла слишком большой разгон и, вместо этого, позабыв всякий страх, повернула прямо на мула. Правда, она сказала, что они с миссис Хейт не поспели туда, чтобы увидеть это: они только услышали треск, и гром, и грохот, когда мул заворотил и споткнулся о кирпичную приступку. А когда они подоспели, мула уже не было. И ведра на приступке тоже не было, но старая Хет сказала, что она этого тогда не заметила: только корова стояла посреди двора, там же, где и раньше, растопырив ноги и нагнув голову, словно кто-то, проходя мимо, убрал вторую этажерку. Они с миссис Хейт не остановились, но миссис Хейт теперь бежала тяжело, как сказала старая Хет, разинув рот, и лицо у нее было цвета мастики, и одной рукой она держалась за грудь. Она сказала, что обе они уже выдохлись и теперь бежали так медленно, что мул нагнал их сзади и, как она сказала, перепрыгнул через них; короткий дробный дьявольский грохот и едкий запах пота, и вот уж он бежит дальше (куры или сообразили наконец, что лучше остаться под домом, или же тоже выдохлись и просто не могли выбежать оттуда на этот раз); когда они снова добежали до угла, мул наконец скрылся в тумане; они слышали, как стук его копыт по твердой мостовой, короткий, дробный и насмешливый, замер вдали.
Старая Хет сказала, что она остановилась. – Ну-с, джентльмены, тише, – сказала она. – Кажется, мы… – И тут она почуяла это. Она сказала, что стояла неподвижно, принюхиваясь, и словно бы воочию увидела открытый подпол и кирпичную приступку, на которой, когда они пробегали мимо в последний раз, ведра уже не было. – Мать честная! – крикнула она миссис Хейт. – Гарью пахнет! Беги в дом, детка, хватай деньги.
Это было часов в девять. А к полудню дом сгорел дотла. Рэтлиф сказал, что, когда пожарная машина и толпа добрались туда, миссис Хейт, за которой следовала старая Хет с бумажной сумкой в одной руке и пастельным портретом миссис Хейт в другой, прихватив зонтик и накинув на себя армейскую шинель, которую обычно носил мистер Хейт, как раз выбегала из дому, и в одном кармане шинели была банка из-под компота, набитая тем, что осталось от восьми с половиной тысяч долларов, а судя по тому, как миссис Хейт жила, если, конечно, верить ее соседям, там была большая часть этой суммы, а в другом – тяжелый, никелированный револьвер, она перебежала через улицу к соседскому дому, где с тех пор и сидела на галерее в качалке, а рядом, в другой качалке – старая Хет, и обе все время раскачивались, глядя, как добровольцы-пожарники расшвыривают по всей улице ее посуду и мебель. К тому времени, как сказал Рэтлиф, там уже было довольно людей, заинтересованных в этом деле, которые побежали на площадь, разыскали А.О. и дали ему знать.
– А мне что за дело? – сказал А.О. – Ведь не я поставил это ведро с горящими угольями там, где кто-то сшиб его прямо в подпол.
– Но подпол-то вы открыли, – сказал Рэтлиф.
– Конечно, – сказал Сноупс. – А зачем? Чтобы взять веревку, ее же веревку, она меня сама туда послала.
– Чтобы поймать вашего мула, который ворвался к ней на двор, – сказал Рэтлиф. – Теперь уж вы не отвертитесь. Любой состав присяжных в нашем округе вынесет приговор в ее пользу.
– Да, – сказал Сноупс. – Уж это наверняка. А все потому, что она женщина. Только поэтому. Потому что она, черт бы ее побрал, женщина. Ладно. Пусть идет к присяжным, черт бы их побрал. У меня тоже есть язык; я и сам кое-что могу сказать присяжным… – И тут, как рассказывал Рэтлиф, он осекся. Рэтлиф рассказывал, что это было не похоже на А.О.Сноупса потому, что А.О. всегда пересыпал свою речь такой массой перевранных пословиц, что покуда не догадаешься, какие пословицы и сколько он смешал, не можешь даже понять, чего он там наврал, а после уже поздно. Но теперь, как сказал Рэтлиф, он был слишком озабочен, ему было даже не до пословиц, не говоря уже о вранье. Рэтлиф сказал, что все глядели на него.
– Что же? – сказал кто-то. – Что именно вы можете сказать присяжным?
– Ничего, – сказал он. – Потому что… ну, просто потому, что не будет никаких присяжных. Миссис Мэнни Хейт станет со мной судиться? Вы, ребята, плохо ее знаете, ежели думаете, что она станет подымать шум из-за обыкновенного несчастного случая, который ни я, ни кто другой предотвратить не мог. Да ведь во всей йокнапатофской округе не сыскать более справедливой и доброй женщины. И я хотел бы сказать ей это. – Рэтлиф сказал, что этот случай как раз ему и представился. Он сказал, что миссис Хейт уже стояла у них за спиной, а старая Хет – у нее за спиной со своей бумажной сумкой. Он сказал, что она поглядела на толпу, а потом на А.О.
– Я пришла, чтобы купить этого мула, – сказала она.
– Какого мула? – сказал А.О. Он выпалил это сразу, почти машинально, как сказал Рэтлиф. Потому что он не об этом думал. А потом, как сказал Рэтлиф, они еще с полминуты глядели друг на друга. – Вам нужен мул? – сказал он. – Это обойдется вам в полторы сотни, миссис Мэнни.
– Чего – долларов? – спросила миссис Хейт.
– Да, уж конечно, не центов и не никелей, миссис Мэнни, – сказал Сноупс.
– Полтораста долларов, – сказала миссис Хейт. – Когда Хейт был жив, мулы стоили дешевле.
– С тех пор многое переменилось, – сказал Сноупс. – И мы с вами тоже, миссис Мэнни.
– Пожалуй, что так, – сказала она. И ушла. Рэтлиф сказал, что она, не говоря больше ни слова, повернулась и ушла, и старая Хет за ней.
– На вашем месте, – сказал Рэтлиф, – я бы, пожалуй, не стал ей этого говорить.
Теперь, рассказывал Рэтлиф, гнусная, мерзкая морденка А.О. вся залоснилась, и даже пена выступила у него на губах. – Пусть только она, – сказал Сноупс, – она или еще кто, все равно, подаст в суд и только заикнется про мула и Хейта… – Он замолчал, и лицо у него снова стало равнодушное. – Ну? – сказал он. – Что вы на это скажете?
– Вы, я вижу, не боитесь, что она притянет вас к суду за поджог дома, – сказал Рэтлиф.
– Меня притянет? – сказал Сноупс. – Миссис Хейт? Ежели б она собиралась получить с меня что-нибудь за этот пожар, неужто вы думаете, она стала бы меня искать и предлагать мне деньги?
Это было около часу дня. А в четыре Алек Сэндер и я поехали на станцию Сарториса поохотиться на куропаток с собаками, потому что мисс Дженни Дю Прэ все еще держала охотничьих собак, – наверно, ждала, пока Бенбоу Сарторис подрастет настолько, чтоб взять в руки ружье. Дядя Гэвин был один у себя в кабинете и услышал на лестнице шарканье резиновых тапочек. Вошла старая Хет; ее бумажная сумка распухла, и она ела бананы из бумажного пакета, который держала под мышкой, и, держа в этой же руке недоеденный банан, она другой отыскала скомканную бумажку в десять долларов и протянула ее дяде Гэвину.
– Это вам, – сказала старая Хет. – От миссис Мэнни. А ему я его десятку уже отдала. – И она рассказала: она ждала на углу площади, а когда ночь уже была на носу, Сноупс наконец появился и она отдала банан, который ела, какой-то женщине и достала первую скомканную десятидолларовую бумажку. Сноупс взял ее.
– Что? – сказал он. – Миссис Хейт велела отдать это мне?
– За мула, – сказала старая Хет. – Расписки не нужно. Я могу подтвердить, что отдала их вам.
– Десять долларов? – сказал Сноупс. – За этого мула? Я же ей сказал – полторы сотни.
– Ну, ежели так, договаривайтесь промеж себя сами, – сказала старая Хет. – Мне она просто велела передать вам это, когда пошла за мулом.
– За мулом?… Она сама пошла и забрала этого мула из моего загона? – сказал Сноупс.
– Господь с тобой, дитя. – Хет сказала, что она так ему и сказала. – Миссис Мэнни никакой мул не страшен. Ты же сам видел. А это вам, – сказала она дяде Гэвину.
– За что? – сказал дядя Гэвин. – У меня же нет мула.
– За юриста, – сказала старая Хет. – Она считает, что ей понадобится юрист. Говорит, чтоб вы были около ее дома вечером, когда она устроится.
– Около ее дома? – сказал дядя Гэвин.
– Там, где он стоял, милок, – сказала старая Хет. – Хотите банан? Я-то уже наелась, не могу больше.
– Нет, большое спасибо, – сказал дядя Гэвин.
– Пожалуйста, – сказала она. – Ну, берите же. Если я съем еще хоть один, то пожелаю, чтоб господь никогда не создавал бананов.
– Нет, большое спасибо, – сказал дядя Гэвин.
– Пожалуйста, – сказала она. – А скажите, не найдется ли у вас для меня десяти центов на табачок?
– Нет, – сказал дядя Гэвин, вынимая монету. – У меня только четверть доллара.
– Вот что значит благородный человек, – сказала она. – Попросишь у него мелочишки, а получишь целых четверть или полдоллара, а то и целый доллар. А вот голодранцы – от тех больше десяти центов и не дождешься. – Она взяла монету, и монета исчезла неведомо куда. – Некоторые думают, что я только целый день брожу по городу с утра до ночи с протянутой рукой и всем говорю спасибо. Ничуть не бывало. Я тоже служу Джефферсону. Если, как сказано в Библии, рука дающего не оскудеет, то не оскудеет этот город, потому что здесь всегда полно людей, готовых дать что-нибудь от никеля до старой шляпы. Но из всех, кого я знаю, одна я всегда готова принять. Джефферсон оскудел бы, ежели б я от зари до зари, в дождь, и в снег, в жару не благословляла дающего! Значит, я могу сказать миссис Мэнни, что вы придете?
– Да, – сказал дядя Гэвин. И она ушла. А дядя Гэвин все сидел, глядя на скомканную бумажку, лежавшую перед ним на столе. А потом он снова услышал шаги на лестнице и все сидел, глядя на дверь, а потом вошел мистер Флем Сноупс и затворил ее за собой.
– Добрый вечер, – сказал мистер Сноупс. – Не возьметесь ли за одно мое дело?
– Сейчас? – сказал дядя Гэвин. – Сегодня?
– Да, – сказал мистер Сноупс.
– Сегодня, – повторил дядя Гэвин. – А имеет оно какое-нибудь отношение к мулу и к дому миссис Хейт?
И он сказал, что мистер Сноупс не сказал: «Какому дому?», или «Какому мулу?», или «А вы откуда знаете?» Он сказал только: «Да».
– Почему вы пришли именно ко мне? – спросил дядя Гэвин.
– По той же самой причине я стал бы искать лучшего плотника, если б хотел построить дом, или лучшего фермера, если б хотел сдать в аренду участок, – сказал мистер Сноупс.
– Благодарю вас, – сказал дядя Гэвин. – К сожалению, не могу, – сказал он. Ему не надо было даже дотрагиваться до скомканной бумажки. Он сказал, что мистер Сноупс не только увидел ее в тот же миг, как вошел, но, вероятно, в тот самый миг даже понял, откуда она. – Как видите, я уже защищаю интересы противной стороны.
– Вы сейчас туда? – сказал мистер Сноупс.
– Да, – сказал дядя Гэвин.
– Тогда все в порядке. – И он полез в карман, Сначала дядя Гэвин не понял, зачем; он молча смотрел, как Сноупс вытащил старомодный бумажник с металлической застежкой, открыл его, достал бумажку в десять долларов, закрыл бумажник, положил бумажку на стол рядом с той, скомканной, спрятал бумажник обратно в карман и теперь стоял, глядя на дядю Гэвина.
– Я же сказал вам, что защищаю интересы противной стороны, – сказал дядя Гэвин.
– А я вам сказал, что все в порядке, – сказал мистер Сноупс. – Мне не нужен адвокат, потому что я уже знаю, что делать. Мне просто нужен свидетель.
– Но почему я? – спросил дядя Гэвин.
– По этой самой причине, – сказал мистер Сноупс. – Мне нужен лучший свидетель.
И они пошли туда. Солнце к полудню разогнало туман, и две закопченные трубы, уцелевшие от дома миссис Хейт, теперь чернели на фоне угасающего зимнего заката; и тут мистер Сноупс сказал: – Обождите.
– Что? – сказал дядя Гэвин. Но мистер Сноупс не ответил, и они остановились, не дойдя до места; дядя Гэвин сказал, что он уже почуял запах свинины, жарившейся на небольшом костре перед уцелевшим коровником, и старая Хет сидела на новехонькой табуретке у огня, поворачивая свинину вилкой на сковороде, а за костром сидела на корточках возле коровы миссис Хейт и доила ее в новое жестяное ведро.
– Все в порядке, – сказал мистер Сноупс, и дядя Гэвин снова спросил: – Что? – потому что не заметил А.О.; он вдруг просто-напросто оказался там, словно возник, вступил в круг света прямо из сумерек (на углях около огня стоял новенький оцинкованный кофейник, и теперь, как сказал дядя Гэвин, он почуял и запах кофе тоже) и остановился, глядя сверху вниз в затылок миссис Хейт, не видя еще дяди Гэвина и мистера Флема. Но старая Хет их увидела, она уже говорила с дядей Гэвином, когда они подходили:
– Выходит, если не десять долларов, так кофе и свинина заставили вас прийти, – сказала она. – Я и сама такая. Много лет не было у меня такого аппетита, как нынче. Я ведь ем меньше птички. Но дайте только мне хоть нюхнуть кофе и свинины вместе… Бросьте на минутку доить, дорогая, – сказала она миссис Хейт. – Вот ваш юрист.
И тогда А.О. тоже их увидел, резко обернул через плечо свою подлую, встревоженную, злобную мордочку; и теперь дядя Гэвин мог заглянуть внутрь коровника, Там убрали, выгребли мусор граблями и даже подмели; пол был устлан свежим сеном. Новый керосиновый фонарь горел на деревянном ящике около соломенного тюфяка, аккуратно уложенного на сене, а на тюфяке была приготовлена постель, и теперь дядя Гэвин увидел второй ящик, поставленный вместо стола у огня, и на нем новую тарелку, нож, вилку, ложку, чашку с блюдечком и непочатую буханку хлеба фабричной выпечки.
Но, как сказал дядя Гэвин, А.О. не обеспокоился, когда увидел мистера Флема, – как он сказал, все дело было в том, что он, дядя Гэвин, еще не понял, что А.О. просто достиг того состояния, когда безнадежность скрывают под напускной беспечностью. – А вот и вы, – сказал А.О. – И адвоката своего привели. Наверное, теперь вы заберете этот фонарь, и новые тарелки, и табуретку, и подойник, может даже вместе с молоком, когда она кончит доить, а? Недурно. Даже почти благородно, – прямо на дворе, покуда еще не совсем стемнело. Потому что ваш адвокат, конечно, знает все про здешние обстоятельства насчет мулов и поджогов; выходит, что здесь только один темный человек и есть – это старая тетушка Хет, но ей следовало бы понимать, что даже ежели она сию минуту вскочит и побежит, то, когда доберется до своей богадельни, увидит, что на ней нет ни рубашки, ни штанов, потому что, как говорится, чует кошка, что дорога ложка к обеду. Не говоря уж, что волков бояться – по-волчьи выть.
Что ж, ладно. А как по-вашему, сколько из этих восьми с половиной тысяч долларов, которые железная дорога заплатила миссис Хейт за ее мужа и за пять моих мулов, сколько личных денег у миссис Хейт (дядя Гэвин сказал, что он сказал «личных» вместо «наличных», совсем как Рэтлиф. И дядя Гэвин сказал, что то и другое правильно) имеется? Уверяю вас, вы ошибаетесь, как и все. У нее осталась половина. Дело в том, что вице-президент распоряжался ими по ее поручению. Конечно, без такого финансового знатока, как вице-президент, у нее никак не осталось бы больше половины, а то и меньше, так что по совести жаловаться ей не на что, не говоря уж о том, что только половина этой половины по праву принадлежит ей, потому, что Лонзо Хейт был ее, а эти пять мулов мои.
Ну ладно. Что, вы думаете, сталось со второй половиной этих восьми с половиной тысяч? И опять ошибаетесь. Потому что их взял вице-президент. О да, все было сделано открыто, законным образом; он это объяснил так: ежели сама миссис Хейт, одинокая несчастная вдова, подаст в суд на железную дорогу, она самое большее получит пять тысяч, и половину ей придется отдать мне, потому что мулы мои. Ежели же мы с ней подадим в суд вместе и на ее стороне будет энергичный мужчина, который заставит этих холодных и бессердечных миллионеров – железнодорожных магнатов – поступить с одинокой женщиной по справедливости, и ежели я заявлю на этих мулов какие-то права, то поскольку с моими мулами уже бывали несчастья на этом повороте, железная дорога сразу заподозрит неладное, и никто ничего не получит. А вот ежели за это возьмется он, вице-президент, то она получит семь с половиной, а то и все десять тысяч, и он не только гарантирует ей ровно половину, но даже отдаст из своей доли сотню долларов мне. Все законно и честно: я должен был держать язык за зубами и получить свою сотню долларов, а ежели б я стал возражать, вице-президент совершенно случайно проговорился бы, чьи это мулы, и никто бы ничего не получил, а вице-президенту от этого не было бы никакого убытка, потому что он ничего не потерял бы – у него ведь не было ни Лонзо Хейта, ни пяти мулов.
Выбор, как видите, проще простого: или получить сотню долларов, или не получить ничего. Не говоря уж о том, что мы с миссис Хейт, как отметил сам вице-президент, сограждане и, можно сказать, поддерживаем деловое знакомство, и миссис Хейт – женщина, у нее от природы мягкое и доброе сердце, и как знать, – может, со временем оно оттает еще больше, и тогда она захочет выделить мне малую толику из своей половины этих восьми с половиной тысяч долларов. Но это доказывает лишь, что вице-президент знает все, что только можно знать, о железнодорожных компаниях и восьми с половиной тысячах долларов, но зато не знает, что у миссис Хейт в груди за место сердца. Вот и выходит ни то ни се; как говорится, столько воды утекло, так чего ж ее в ступе толочь, и мне просто пришлось подчиниться большинству в два голоса против одного или, может, в восемь с половиной тысяч против ста долларов; или, может, даже и это не понадобилось, довольно было половины этих восьми с половиной тысяч, доставшейся миссис Хейт, против моей сотняги, потому что осилить миссис Хейт я мог только одним способом – имея свои собственные четыре тысячи двести пятьдесят один доллар, да и то мне пришлось бы поделить с ней этот лишний доллар.
Но наплевать. Я все это уже забыл; снявши голову, гуляй смело. – И тут, как сказал дядя Гэвин, он быстро повернулся к миссис Хейт, не прерывая своей злобной возмущенной скороговорки. – Я пришел, чтоб поговорить с вами. У меня оказалось ваше, а у вас мое. Правда, я рассчитывал уладить это дело с глазу на глаз.
– Бог с тобой, милок, – сказала старая Хет. – Ежели ты это про меня, так не обращай на меня внимания. У меня столько было своих неприятностей, что, слушая про чужие, я вроде бы душой отдыхаю. Вы говорите себе, что хотели сказать, а я буду сидеть здесь и присматривать, чтоб свинина не подгорела.
– Послушайте, – сказал А.О. миссис Хейт. – Пусть все они уйдут на минутку.
Миссис Хейт повернулась, все еще сидя на корточках, и поглядела на него. – Зачем? – сказала она. – Кажется, не она одна приходит на этот двор, когда душе угодно, и уходит или остается, когда душе угодно. – И тогда, сказал дядя Гэвин, А.О. сделал жест, быстрый, злой и сдержанный.
– Ну ладно, – сказал он. – Ладно. Тогда начнем. Значит, вы взяли мула.
– Я вам за него заплатила, – сказала миссис Хейт. – Хет отнесла вам деньги.
– Десять долларов, – сказал А.О. – А этому мулу цена сто пятьдесят.
– Не знаю, что это за мулы, которым цена сто пятьдесят долларов, – сказала миссис Хейт. – Знаю только, что железная дорога платит за мулов деньги. Шестьдесят долларов за голову уплатила железная дорога в прошлый раз, еще до того, как этот дурак Хейт вконец спятил и себя тоже привязал к рельсам…
– Тише! – сказал А.О. – Молчите.
– Почему? – сказала миссис Хейт. – Разве я могу выдать какую-нибудь тайну, которую вы уже не выболтали бы всем, кто здесь есть?
– Ладно, – сказал А.О. – Но вы прислали мне всего десятку.
– Я вам прислала разницу, – сказала миссис Хейт. – Разницу между стоимостью этого мула и тем, что вы были должны Хейту.
– А что я был должен Хейту? – сказал А.О.
– Хейт говорил, что вы платили ему по пятьдесят долларов, всякий раз как он загонял мулов под поезд, а железная дорога платила вам по шестьдесят долларов за каждого мула. В последний раз вы ему не заплатили, потому что всегда платили потом, а на этот раз никакого «потом» не было. Заместо этого я взяла мула и послала вам десять долларов с Хет, чтоб у меня была свидетельница. – Дядя Гэвин сказал, что это впрямь его остановило. Он и впрямь замолчал; он стоял, а миссис Хейт сидела на корточках, и оба смотрели друг на друга, а старая Хет опять перевернула на сковородке шипящую свинину. Он сказал, что они оба совсем окаменели, и мистеру Флему пришлось дважды повторить вопрос, прежде чем они его услышали.
– Кончили? – сказал он А.О.
– Что? – сказал А.О.
– Кончили или нет? – сказал Флем. И дядя Гэвин сказал, что теперь они все увидели у него в руках парусиновый мешок – в таких мешках со штампом хранятся в банковских сейфах деньги.
– Да, – сказал А.О. – Все. По крайней мере, с этого дела мне хоть десятка перепала, которую вы не отнимете. – Но мистер Флем больше не обращал на него внимания. Он уже повернулся к миссис Хейт и вынул из мешка сложенную бумагу.
– Вот закладная на ваш дом, – сказал он. – А со страховой компании теперь получите чистоганом; можете отстроить дом заново. Вот, – сказал он. – Возьмите.
Но миссис Хейт не шевельнулась. – Зачем? – спросила она.
– Я выкупил ее сегодня у банка, – сказал мистер Сноупс. – Если хотите, можете бросить ее в огонь. Но только я хочу, чтобы вы прежде взяли ее в руки. – И она взяла эту бумагу, и дядя Гэвин сказал, что все они глядели, как мистер Флем снова полез в мешок и на этот раз вынул пачку денег, и А.О. теперь тоже смотрел на него, даже не моргая.
– Убей меня бог, – сказала старая Хет. – Этим можно целую свинью задушить.
– Сколько мулов у тебя в загоне? – сказал мистер Флем А.О. Но А.О. только глядел на него. Потом он заморгал, быстро и часто.
– Семь, – сказал он.
– Нет, шесть, – сказал мистер Флем. – Одного ты только что продал миссис Хейт. Железная дорога оценивает таких мулов, какими ты промышляешь, по шестьдесят долларов за голову. А ты утверждаешь, что они стоят по сто пятьдесят. Ладно. Не будем спорить. Шесть раз по сто пятьдесят будет…
– Семь! – сказал А.О. громко и хрипло. – Я не продавал этого мула ни миссис Хейт, ни кому другому. Послушайте. – Он повернулся к миссис Хейт. – Мы не сторговались. Говорю вам, мы не сторговались. Ну-ка, найдите человека, который видел или слышал, что-нибудь, кроме того, что вы пытались всучить мне эту самую десятку, которую я вам сейчас отдаю назад. Вот, – сказал он, протягивая смятую бумажку, потом швырнул ею в миссис Хейт, так что бумажка коснулась ее юбки и упала на землю. Миссис Хейт подняла деньги.
– Отдаете при свидетелях? – сказала она.
– Именно, черт возьми, – сказал он. – И хотел бы я, чтоб свидетелей было в десять раз больше. – Теперь он обращался к мистеру Флему. – Так что я никому не продавал мула. А семь раз по сто пятьдесят будет тысяча пятьдесят долларов…
– Девятьсот, – сказал мистер Флем.
– Тысяча пятьдесят, – сказал А.О.
– Получишь, когда приведешь мула, – сказал мистер Флем. – И при одном условии – самом главном.
– Какое еще условие? – сказал А.О.
– Ты уедешь назад на Французову Балку и никогда глаз не покажешь в Джефферсоне.
– А ежели я не согласен? – сказал А.О.
– Сегодня я продал гостиницу, – сказал мистер Флем. И теперь уж А.О. молча глядел на него, а он повернулся к огню и начал отсчитывать деньги из пачки – по пять долларов и по доллару, иногда по десять. А.О. сделал последнее усилие.
– Тысяча пятьдесят, – сказал он.
– Когда приведешь мула, – сказал мистер Флем. И А.О. получил только девятьсот долларов, пересчитал их, спрятал в боковой карман, а карман застегнул и повернулся к миссис Хейт.
– Ну так вот, – сказал он. – Где мул господина вице-президента Сноупса?
– Привязан к дереву в овраге за домом мистера Спилмера, – сказала миссис Хейт.
– Отчего же так близко? – сказал А.О. – Почему вы не увели его в самый Моттстаун? Тогда вы получили бы полное удовольствие, глядя, как я зря теряю время и силы, чтоб вернуть его назад. – Он снова огляделся со злобной усмешкой, неукротимый в своем упорстве. – Вы все отлично устроили, не так ли? Вы с вице-президентом оба могли бы сберечь деньги, если б он просто оставил у себя эту закладную, под которую теперь ничто не заложено, и вы не стали бы строить себе дом. Ну ладно, привет всей честной компании. Как только я приведу этого мула в загон, к остальным шести мулам вице-президента, я окажу ему честь, посетив его на дому, чтоб получить еще сто пятьдесят долларов, потому что деньги на бочку – это, как говорится, вежливость королей, не говоря уж о том, что дареному коню в зубы не смотрят, ежели ни кола ни двора нет. И ежели у юриста Стивенса есть при себе что-нибудь такое, что захотелось бы заполучить вице-президенту, пусть глядит в оба, потому что, как говорится, даже дурак, обжегшись на молоке, куста боится. Еще раз привет всей компании. – И он ушел. И дядя Гэвин рассказывал, что теперь уж мистеру Флему пришлось обратиться к нему дважды, прежде чем он его услышал.
– Что? – сказал дядя Гэвин.
– Я говорю, сколько я вам должен? – сказал мистер Флем. И дядя Гэвин рассказывал, что он чуть не сказал: «Один доллар», и тогда мистер Флем сказал бы: «Один доллар? И только?» – а дядя Гэвин мог бы тогда сказать: «Да, или отдайте мне свой нож, или карандаш, или еще что-нибудь, чтобы завтра утром я это за сон не принял». Но он не сказал этого. Он сказал только:
– Ничего. Мой клиент миссис Хейт. – И он сказал, что мистеру Флему опять пришлось обращаться к нему дважды. – Что? – сказал дядя Гэвин.
– Можете прислать мне счет.
– За что?
– За то, что вы были свидетелем, – сказал мистер Сноупс.
– А, – сказал дядя Гэвин. И мистер Сноупс собрался уходить, и дядя Гэвин сказал, что он думал, что сейчас он скажет: «Вы обратно в город?» или, может быть: «Пойдем вместе?» или хотя бы: «До свиданья». Но он не сказал. Он вообще ничего не сказал. Он просто повернулся и ушел, скрылся. Тогда миссис Хейт сказала:
– Неси ящик.
– Я только и ждала, чтоб вы с этим делом покончили, – сказала старая Хет. Миссис Хейт подошла, взяла табуретку и вилку, а старая Хет пошла в коровник, поставила фонарь на землю, принесла ящик и поставила его у костра. – А теперь, милок, – сказала она дяде Гэвину, – садись и отдохни.
– Садитесь сами, – сказал дядя Гэвин. – Я весь день сидел. А вы нет. – А старая Хет уже стала садиться на ящик, раньше чем он отказался; она уже забыла про него и глядела теперь на сковородку с шипящей свининой, которую миссис Хейт сняла с огня.
– Вы сказали что-то про эту свинину? – сказала она. – Или это я, а не вы? – Миссис Хейт разделила свинину, и дядя Гэвин смотрел, как они едят, – миссис Хейт, сидя на табуретке, из новой тарелки новым ножом и вилкой, а старая Хет – на ящике, прямо со сковородки, потому что миссис Хейт, видимо, купила новую посуду для себя одной, – едят свинину и макают хлеб в растопленное сало, а потом старая Хет налила в чашку кофе, а для себя достала откуда-то пустую жестянку, и тут вернулся. А.О., он тихо выступил из темноты (теперь уже совсем стемнело), остановился и стоял, протянув руки к огню, словно хотел погреться.
– Пожалуй, я возьму эту десятку, – сказал он.
– Какую десятку? – сказала миссис Хейт. И дядя Гэвин ожидал, что он заревет или по меньшей мере зарычит. Но он не сделал ни того, ни другого, только стоял, протянув руки к огню; и дядя Гэвин сказал, что ему словно было холодно, он был маленький, какой-то несчастный и такой робкий, такой тихий.
– Вы не отдадите ее мне? – сказал он.
– Что не отдам? – сказала миссис Хейт. Дядя Гэвин сказал, что он, видимо, не ждал ответа и даже вообще не ожидал услышать ее голос: он только задумавшись стоял над огнем в каком-то тихом и недоверчивом удивлении.
– Я столько лет мучаюсь, рискую, лезу из кожи и получаю за мула по шестьдесят долларов. А вы разом, без всяких хлопот и риска продали Лонзо Хейта и пять моих мулов, моих, а не его, за восемь с половиной тысяч. Конечно, почти все эти деньги причитались за Лонзо, и я нисколько вам не завидовал. Ни одна душа на свете не скажет, что я завидовал, хоть и странно было, что вы получили все, даже мою обычную цену по шестьдесят долларов за пять мулов, а ведь не вы его наняли, вы даже не знали, где он, не говоря уж о том, что мулы эти не ваши; чтобы получить половину этих денег, вам только и надо было быть за ним замужем. А теперь, после того как я столько лет вам не завидовал, вы отняли у меня последнего мула и нагрели меня даже не на сто сорок, а на все сто пятьдесят долларов.
– Вы получили своего мула обратно и все еще недовольны? – сказала старая Хет. – Чего ж вы хотите?
– Справедливости, – сказал А.О. – Вот чего я хочу. Только одного – справедливости. В последний раз спрашиваю, – сказал он. – Отдадите вы мне мою десятку?
– Какую десятку? – сказала миссис Хейт. Тогда он повернулся и пошел. Он споткнулся обо что-то – дядя Гэвин сказал, что это была бумажная сумка старой Хет, – но не упал и пошел дальше. Дядя Гэвин рассказывал, что он увидел его на миг – он один, потому что ни миссис Хейт, ни старая Хет уже на него не смотрели – словно в рамке, между двумя закопченными трубами с воздетыми к небу руками. А потом он исчез; на этот раз навсегда. Дядя Гэвин смотрел ему вслед. Ни миссис Хейт, ни старая Хет даже головы не подняли.
– Голубушка, – сказала старая Хет миссис Хейт. – Что вы сделали с этим мулом? – Дядя Гэвин сказал, что у них остался только один кусочек хлеба. Миссис Хейт взяла его и подобрала им со своей тарелки остатки подливы.
– Я его пристрелила, – сказала она.
– Как? – сказала старая Хет. Миссис Хейт положила хлеб в рот. – Что ж, – сказала Хет, – мул спалил дом, а вы пристрелили мула. Это, по-моему, больше чем справедливость; это, по-моему, зуб за зуб. – Теперь уже совсем стемнело, а ей еще предстояло пройти полторы мили до богадельни с тяжелой сумкой. Но зимняя ночь длинна, и, как сказал дядя Гэвин, богадельня никуда не денется. И он сказал, что старая Хет снова села на ящик с пустой сковородкой в руке и вздохнула с облегчением, мирно и радостно. – Ох, друзья, – сказала она. – Ну и денек выдался!
А Рэтлиф, как рассказывал дядя Гэвин, опять уже был тут как тут, сидел на стуле для посетителей в своей синей рубашке, аккуратной, выгоревшей и безукоризненно чистой, по-прежнему без галстука, хотя на нем была куртка из искусственной кожи и тяжелый черный плащ, как у полисмена, заменявший ему зимнее пальто; был понедельник, и дядя Гэвин с утра уехал в Нью-Маркет на собрание инспекторов, опять из-за какого-то осушительного канала, и я подумал, что он должен был сказать об этом Рэтлифу, когда Рэтлиф накануне заходил к нему домой.
– Он мог бы меня предупредить, – сказал Рэтлиф. – Но это не важно. У меня никаких дел нет. Просто зашел сюда спокойно посидеть, посмеяться.
– А, – сказал я. – Посмеяться над А.О. Над Сноупсовым мулом, который спалил дом миссис Хейт. Я думал, вы с дядей Гэвином вволю посмеялись над этим вчера.
– Так-то оно так, – сказал он. – Но только как станешь смеяться над этим, видишь, что это вовсе не смешно. – Он поглядел на меня. – Когда вернется твой дядя?
– Я думал, что он уже вернулся.
– Ну ладно, – сказал Рэтлиф. – Неважно. – Он снова поглядел на меня. – Значит, с двумя покончено, остался еще один.
– Кто один? – сказал я. – Еще один Сноупс, которого мистеру Флему остается выжить из Джефферсона, и тогда единственным Сноупсом здесь будет он; или же…
– Так-то оно так, – сказал он. – Нужно только перепрыгнуть еще один антигражданственный барьер, такой же, каким были фотостудия Монтгомери Уорда и железнодорожные мулы А.О., и в Джефферсоне вообще ничего не останется, кроме Флема Сноупса. – Он поглядел на меня. – Потому, что твой дядя прозевал это.
– Что прозевал? – спросил я.
– Даже когда оно было у него под носом, и Флем сам припер… пришел сюда на другое утро, после того как федеральная полиция обшарила эту студию, и отдал твоему дяде ключ, который исчез из кабинета шерифа с тех самых пор, как твой дядя и Хэб сыска… нашли эти картинки; и даже когда это было у него под самым носом в субботу вечером, около трубы миссис Хейт, когда Флем всуч… вручил ей эту закладную и уплатил А.О. за мулов, он опять это прозевал. А я не могу ему сказать.
– Почему не можете? – спросил я.
– Потому что он мне не поверит. Это такая штука – надо знать самого себя. Человек должен узнать это на собственной шкуре, дрожать со страху. Потому что, ежели ему кто-нибудь другой скажет, он поверит только наполовину, – разве что он сам хотел именно это услышать. Но тогда он и слушать не станет, потому что уже согласился с этим заранее, и только подумает – ишь какой умный! А то, чего он не хочет слышать, с тем он уже заранее не согласен, можешь не сумлева… сомневаться; и тогда он ни за что не поверит, хоть кол ему на голове теши, а может, даже отомстит этому негодяю, который сунулся не в свое дело и сказал ему об этом.
– Выходит, он не станет вас слушать, не поверит, потому что не хочет, чтоб это была правда. Так, что ли?
– Вот именно, – сказал Рэтлиф. – Так что мне придется обождать. Придется обождать, покед… покуда он узнает сам – это тяжелый путь, верный путь, единственно верный путь. Тогда он поверит или, по крайней мере, хотя бы испугается.
– Он боится, – сказал я. – Он уже давно боится.
– Это хорошо, – сказал Рэтлиф. – Потому что ему нужно бояться. Всем бы нам нужно бояться. Потому что, ежели человек просто желает денег ради денег или даже ради власти, все-таки есть многое такое, чего он не сделает, перед чем остановится. А ежели человек из таких, как он, с малолетства, чуть только считать научился, решит, что на деньги все купить можно, чего душе угодно, и всю свою жизнь все дела на этом построит, и не по злобе, а просто потому что знает – никто ему добровольно гроша не даст, да он и просить ни у кого не станет, так вот, ежели такой человек на все готов, а потом вдруг видит, когда в лета вошел, что уже поздно, главное-то он прозевал, хоть и нажил столько, что не счесть, не придумать и даже во сне не увидеть, прозевал то, что ему всего нужнее, в чем есть смысл или хотя бы покой для него, и этого ни за какие деньги не купишь, это всякий ребенок бесплатно получает от рождения, а когда подрастает, иногда узнает, что, может, уже поздно, что ему уже не вороти… не вернуть…
– Что же это? – сказал я. – Что ему нужно?
– Доброе имя, – сказал Рэтлиф.
– Доброе имя?
– Совершенно верно, – сказал Рэтлиф. – Когда человеку только денег и власти нужно, на чем-нибудь он беспременно остановится; всегда найдется что-нибудь такое, чего он не сделает просто ради денег. Но уж ежели ему доброе имя понадобилось, он ради этого на все пойдет. И когда уже почти поздно, когда он понимает, что ему нужно, понимает, что, даже когда он это приобретет, ему нельзя просто спрятать свое приобретение под замок, и пущай… пускай себе лежит, а нужно трудиться до последнего вздоха, чтоб его сохранить, он ни перед чем не остановится и заставляет все и вся вокруг себя мучиться, страдать.
– Доброе имя, – сказал я.
– Совершенно верно, – сказал Рэтлиф. – Быть вице-президентом банка ему уже мало. Он должен стать президентом.
– Должен? – сказал я.
– Я хочу сказать – скоро станет, он не смеет, не рискует ждать, откладывать. Эта дочка миссис Сноупс – Линда… Она уже подросла…
– Двенадцатого апреля ей исполнится девятнадцать, – сказал я.
– …ей уже девятнадцать, а в тех краях… Откуда ты знаешь, что двенадцатого?
– От дяди Гэвина, – сказал я.
– Ну конечно, – сказал Рэтлиф. И продолжал: -…там, в университете, в Оксфорде, там, наверно, тыща молодых людей, и все новые, незнакомые, интересные. а за ней там и присмотреть некому, кроме начальницы пансиона, но ей-то что, у нее ведь нет жены, которой предстоит унаследовать половину половины денег дядюшки Билли Уорнера, а ведь даже здесь, в Джефферсоне, в пансионе, где она училась в пропилом году, и то было рискованно, а теперь вот твой дядя, или ее мамаша, или еще кто, или, может, оба они вместе, наконец убедили Флема, чтоб он позволил ей бросить пансион и после рождества уехать в колледж, где он не сможет следить за ее знакомыми молодыми людьми, как следил здесь за мальчишками, с которыми она вместе росла, а ведь тут, по крайней мере, есть ихние… их родственники, которые должны ему деньги, они могли помочь ему с ними справиться; не говоря уж о том, что теперь она не будет кажный… каждый вечер дома, где довольно было протянуть руку и убедиться, что она тут, на месте. Так что он не может, не смеет рисковать; теперь в любую минуту могут принести телеграмму или по телефону сообщить, что она только что сбежала в ближайший город, где есть мировой судья, которому начхать на Флема Сноупса, и сейчас выйдет замуж… И ежели он даже отыщет их десятью минутами позже и поволочит ее…
– Поволокет, – сказал я.
– …назад, то… Как? – сказал он.
– Поволокет, – сказал я. – А вы сказали «поволочит».
Рэтлиф некоторое время глядел на меня. – Вот уже десять лет я всяким случаем пользуюсь, как только он замолчит хоть на секунду, я у него спрашиваю, как надо говорить, и пять лет я слушаю тебя тоже, стараюсь выучиться… научиться говорить правильно. И как раз, когда мне кажется, что я выучился и я начинаю радоваться, являешься ты и снова учишь меня тому, что я десять лет старался забыть.
– Простите, – сказал я. – Я нечаянно. Просто мне нравится, как вы говорите. Когда вы говорите «отымал», это гораздо лучше, чем просто «отнял», и «поволокет» тоже гораздо лучше, чем просто «поволочит».
– И не только ты, – сказал Рэтлиф. – Твой дядя тоже: я говорю «поволочит», а он – «поволокет», я говорю «поволокет», а он – опять «поволочит», пока наконец он не скажет: «Разве в нашей свободной стране я не имею такое же право говорить «поволокет» вместо «поволочит», а вы «поволочит» вместо «поволокет»?
– Ладно, – сказал я. – Значит, «даже если он ее приволокет назад»…
– …если даже он приволокет… приволочит… приволокет… Вот видишь, – сказал он. – Ты меня так запутал, что я сам не знаю, как решил не говорить.
– …»все равно будет поздно, ничего не поделаешь»… – сказал я.
– Да, – сказал Рэтлиф. – И даже твой дядя знает это; даже человек таких благородных и тонких мыслей, как он, должен знать, что тогда Флем потерпит ущерб, миссис Сноупс его бросит, и придется ему не только проститься с ее долей наследства, но и потерять те голоса на выборах в правление, которые дают дядюшке Билли его акции. Так что Флем должен сделать ход сейчас, немедленно. Он должен стать президентом банка, не только чтобы наложить лапу на Уорнеровы деньги, это он отчасти сможет сделать, если станет президентом того банка, где дядюшка Билли их держит. Этот удар он должен нанести, пока не пришло известие, что Линда вышла замуж, иначе он лишится голосов, которые дают дядюшке Билли его акции.
17. ГЭВИН СТИВЕНС
Мы узнали наконец, почему он положил свои деньги в другой банк. Это было вроде приманки. Нет, не в том было дело, что он положил их в другой банк, старый Джефферсонский банк, – он хотел, чтобы жители Джефферсона и округа Йокнапатофа узнали, что он забрал свои деньги из того банка, где он сам вице-президент, и положил их в другой.
Но это было потом. А сначала он просто пытался их спасти. Потому что тогда он ничего лучшего придумать не мог. Он слишком недавно, слишком мало имел дело с банками, и ему даже в голову не приходило, что в банковском деле есть мораль, неотъемлемая этика, иначе не только один какой-нибудь банк, но банки вообще как институт, как форма общественных отношений, не могли бы существовать.
А банк представлялся ему чем-то вроде таверны елизаветинских времен или пограничной гостиницы эпохи освоения американской пустыни: останавливаешься там под вечер, чтобы не ночевать в пустыне; получаешь еду и кров для себя и для лошади и постель (или какое-нибудь подобие постели); и если наутро проснешься, а у тебя очистили карманы, или украли лошадь, или даже самому тебе глотку перерезали, то некого винить, кроме самого себя, потому что никто не заставлял тебя ехать этой дорогой и останавливаться именно здесь. Так что когда он понял, что эти самые обстоятельства, сделавшие его вице-президентом банка, дали возможность ограбить банк дураку, у которого нет ни смелости, ни размаха – он достаточно хорошо знал своего родича Байрона, – то решил забрать оттуда деньги, как только представится возможность, то есть поступил так же логично, как тот путешественник, который, расседлывая лошадь во дворе гостиницы, вдруг видит, что из окна верхнего этажа выбросили голый труп с перерезанной глоткой, и, не теряя времени, снова седлает лошадь, садится на нее и едет искать другую гостиницу или, на худой конец, решает заночевать в лесу, потому что в конце концов индейцы, медведи и разбойники ненамного опаснее.
Он просто хотел спасти свои деньги – деньги, которые он копил таким трудом, таким тяжким трудом, всем жертвовал, чтобы их нажить, с того самого дня, как его отец переехал с какой-то захудалой фермы и арендовал у старого Билла Уорнера на Французовой Балке другую захудалую ферму, какую мог взять только человек, у которого ничего нет за душой, потому что нечего было и надеяться хоть как-то на ней прокормиться, – с того самого первого дня, когда он понял, что-и у него ничего нет за душой и ничего не будет, кроме того, что он сам отвоюет себе у времени и судьбы, и для этого у него никогда не будет другого оружия, кроме денег.
Да, да, он всю жизнь жертвовал, жертвовал всеми своими правами, и желаниями, и надеждами, без которых не может жить человек. Вероятно, он никогда не влюбится, не сможет влюбиться, он знал это; ему органически, от природы не суждено было соединить свое неведенье и заложенную, в нем нетронутость с неведеньем и нетронутостью той, которая стала бы его первой любовью. Но ведь он был мужчиной, и это было его неотторжимым правом и надеждой. А вместо этого ему суждено было стать отцом чужого ребенка, иметь жену, которая даже не заплатила ему страстной благодарностью, не говоря уж страстной страстью, потому что на эту страсть он явно был не способен, а заплатила своим приданым.
Слишком тяжко работал он ради этих денег всю жизнь, зная, что до конца своих дней ему никогда ни на секунду нельзя будет ослабить свою бдительность, даже не для того, чтобы их умножить, а просто чтобы сохранить, удержать то, что у него уже есть, уже накоплено. Собирая их по ничтожным и жалким крохам, по грошам, он очень скоро, вероятно, тогда же, понял, что никогда не сможет их добывать иначе, как простым муравьиным усердием, не щадя себя, потому что (и тут он впервые в жизни изведал смирение) теперь он понял, что ему, необразованному, не совладать с другими, образованными, которых нужно перехитрить, перемудрить и обобрать, и теперь уж он образованным никогда не станет, потому что уже нет времени, потому что ему суждено сначала испытать нужду, а уж потом приобрести средства, добывать деньги, и, даже кое-что накопив, он не знал, где их надежно сохранить, покуда он научится и сможет защитить их от тех, образованных, что, в свою очередь, постараются его обобрать.
Смирение и, быть может, даже сожаление – хотя на сожаление у него не было времени, – но без отчаянья, хотя у него не было ничего, кроме воли, и нужды, и беспощадности, и упорства, и тех способностей, с которыми он родился, чтобы служить им; никогда в жизни ни один человек ничего ему не дал, и он ничего не ждал от людей до конца жизни; он еще не успел увериться, что в силах бороться и защититься от того врага, который таился в слове Образование, и все же не испытывал ни сомнений, ни колебаний в том, что он должен попытаться сделать это.
Так что сначала он думал только о том, как спасти свои деньги, которые стоили ему так дорого, стоили ему всего, потому что он всей своей жизнью пожертвовал, чтобы их добыть, а значит, в них была его жизнь, и решил забрать их из банка, ненадежность которого его родич уже доказал. В том-то и дело: банк оказался настолько ненадежным, что его мог ограбить даже такой человек, как его родич Байрон, которого он хорошо знал, дурачок, до того трусливый и лишенный воображения даже в воровстве, что он не поднялся выше простого соблазна стащить несколько никелей, десятицентовиков и долларовых бумажек, оставленных на время без присмотра, человек, как сказал бы Рэтлиф, слишком глупый, чтобы даже зваться Сноупсом, настолько глупый, что он не сумел украсть деньги так, чтобы не пришлось бежать в самый Техас и только там рискнуть остановиться хоть на минуту и сосчитать их; в сущности, того, что он сумел украсть, ему едва хватило на железнодорожный билет.
Потому что, не забывайте, Флем Сноупс не просто знал, что всякий банк могут ограбить (как, например, его родич Байрон, который сделал это у него на глазах), он был уверен, считал непреложной истиной, что банки все время грабят; что нормальное состояние банка – это постоянное и благопристойное его расхищение, а платежеспособность его – неистребимая иллюзия, подобная репутации женщины, о которой все знают, что она вовсе не безупречна и не неприступна, потому что известно (и, может быть, даже доказано), что все мужчины, с которыми у нее была связь, как один встанут на ее защиту, готовые не просто отрицать, но и мстить, убивать всякого, кто хотя бы намекнет, что она запятнана. Потому что это – ограбление банков – и есть основа их существования, единственное, ради чего стоит утруждать себя и тратиться, основывая банк и ведя финансовые дела.
Этим, очевидно, занимался и полковник Сарторис (он, Сноупс, по своему неведенью, еще не знал, каким образом, но узнает, дайте срок), когда был президентом, и это же делал, в свою очередь, Манфред де Спейн, сколько мог, покуда держал в своих руках власть. Но они делали это прилично, чинно и прежде и теперь; не крали, как мальчишка, который стащил пригоршню плохо лежавших орехов, когда продавец отвернулся, как сделал его родич Байрон. Прилично, мирно, и даже более того: ловко, умно; так умно и тихо, что те, чьи деньги они крали, и не подозревали об этом, а потом вор умирал и ему уже ничто не грозило. И даже тогда никто ничего не подозревал, потому что к тому времени преемник вора уже взваливал себе на плечи бремя этого, еще никому не ведомого бедствия, которое было неотъемлемой частью его наследства. Потому что, повторяю, иначе разве стоило бы основывать банк и трудиться, хлопотать, чтобы стать его президентом, как сделал полковник Сарторис; собирать голоса акционеров, подсчитывать, и попустительствовать, и мошенничать, и вступать в сделки, и торговаться (да еще самому раскошеливаться? Рэтлиф не раз говорил, что де Спейн взял часть, если только не все деньги, под вексель у старого Билла Уорнера и возместил то, что украл Байрон Сноупс), как сделал Манфред де Спейн, чтобы его выбрали президентом после смерти полковника Сарториса; ему, де Спейну, пришлось ловчить даже больше полковника, потому что он, де Спейн, должен был еще ухитриться покрыть воровство полковника, чтобы заполучить банк и воровать самому.
Повторяю, он не представлял себе, как полковник Сарторис это делал, – и, конечно, не мог дознаться, как де Спейн будет теперь это делать, – не знал, как полковник Сарторис грабил банк двенадцать лет и спокойно умер, и его похоронили в ореоле безупречной честности; и как де Спейн, в свою очередь, будет теперь грабить банк, а потом когда-нибудь уйдет на покой, не только не подмочив свою репутацию, но и сохранив в целости этот мыльный пузырь, эту мнимую платежеспособность банка. Или нет, тогда он об этом еще не подозревал. Это, вероятно, началось, когда он в первый раз по-настоящему изведал то, чего раньше не испытывал никогда, – покорность незнания, невозможности узнать правила и законы той отчаянной игры, которой он измерял свою жизнь; ему была дана судьбой горькая нужда, и воля, и жестокость, а потом возможность выбиться из нужды, возможность, которая свалилась на него, прежде чем он успел научиться ею пользоваться.
Так что он знал только одно: нужно забрать деньги из банка, где он всего лишь вице-президент: это не такой высокий пост, чтобы самому разом ограбить банк, украв чистоганом столько, чтоб имело смысл навсегда бежать далеко, туда, где его не выдадут как преступника, и даже не такой высокий и значительный, чтобы защититься от следующего Байрона Сноупса, который неизбежно появится за конторкой, не говоря уж о более крупном потомственном хищнике, который выше его чином.
Но только ему некуда было их деть. Если б он мог забрать их из своего банка в полной тайне, чтоб ни одна душа об этом не знала, можно бы рискнуть спрятать их дома или зарыть на заднем дворе. Но сохранить это в тайне нечего было и думать: если б никто и не узнал, тот же счетовод, который занесет операцию в книги, сам по себе был бы опасен. И если бы прошел слух, что он забрал деньги из банка наличными, все в округе и его родич в деревне тоже стали б для него опасны, стали б ему врагами до тех пор, пока все не убедились бы бесспорнейшим образом, что эти деньги действительно где-то в другом месте, и не будут точно знать, где именно.
Так что у него не было выбора. Нужно было положить их в другой банк и сделать это открыто. Конечно, он первым делом подумал о самом лучшем банке, какой можно было найти, самом прочном и надежном: большом мемфисском банке. И тут в голову ему пришла новая мысль: в большом банке его скромная (относительно, конечно) доля будет, конечно, надежно сохранена именно вследствие своей ничтожности; но если верить, как верил он, что деньги, наличные доллары, сами по себе живут собственной, присущей им жизнью, воздействуя друг на друга, подобно клеткам или микробам, его ничтожная сумма раздуется путем простого паразитического роста, как пиявка, или зоб, или злокачественная опухоль.
И даже когда он сразу ответил себе на эту мысль: «Нет. Это не годится. Место, где находятся именно мои деньги, должно быть точно и несомненно известно. Весь Джефферсон и весь Йокнапатофский округ должны получить неопровержимые доказательства, что деньги остались и останутся в Джефферсоне и в Йокнапатофском округе, иначе я не посмею отлучиться из дому, даже чтобы сходить на почту, потому что мои соседи и сограждане только и ждут этого, чтобы залезть в кухонное окно и поискать носок в тюфяке или жестянку из-под кофе в печке», – он еще не понимал по-настоящему, почему он решил забрать деньги. И даже когда он подумал, что, если он переведет их в другой Джефферсонский банк, они просто попадут из огня в полымя, станут доступны для того Байрона Сноупса, который сидит в Джефферсонском банке, не говоря уж о тамошнем полковнике Сарторисе или Манфреде де Спейне, и сразу отверг эту мысль, напомнив себе, что Джефферсонский банк существует давно, уже целых сто лет, чуть ли не с 1830 года, и успел уже приспособиться к естественному повседневному воровству своих директоров и служащих, для чего единственно и существует банк, и теперь самое его существование – это защита, сами его нерушимые стены – гарантия, подобно тому как древние стены церкви хранят, источают и даже нагнетают святость, неуязвимую для человеческих слабостей, как бы ни грешили священник, или прихожане, или певчие, – даже когда он подумал это, перед ним еще не открылась та ослепительная перспектива не только гражданской добродетели, но и собственного его торжества, да и возмездия тоже, которая возникнет, едва он заберет из банка первый доллар.
Он был слишком занят, так поглощен своими делами, что ничего вокруг не видел. Нужно было не просто взять деньги из одного банка и положить их в другой, но и позаботиться, устроить так, чтобы все в городе и в округе наверняка знали, что он делает это, не щадить сил, поскольку все в округе, узнав, что он забрал свой деньги из банка Сарториса, непременно пожелают украсть их, как только он отвернется и оставит их без присмотра; все должны были знать не то, что он забрал их из банка, а что он их все, до единого цента, положил в другой банк.
Вероятно, деньги уже давным-давно снова были надежно помещены или, по крайней мере, снова куда-то помещены; и я люблю представлять себе, как какой-нибудь человек, в неизменном комбинезоне и в рубашке без галстука, раб, навсегда привязанный к захудалой арендованной ферме тонкой пуповиной, дающей ему скудное пропитание, и если она когда-нибудь порвется, он, попросту говоря, умрет, и от всего этого – от фермы, от рубашки без галстука, от комбинезона – он не освободился, как Сноупс, и, наверно, никогда не освободятся, и поэтому он пристально следил, как Сноупс поднимался все выше, как будто это был он сам, превращался из бедного фермера в комбинезоне, зависящего от неумолимого хозяина, в вице-президента банка в белой рубашке и в галстуке, следил не с восхищением, а лишь с завистью и уважением (да и с ненавистью), как этот человек однажды остановил Сноупса на улице, назвав его «мистер», исполненный подобострастия и почтения перед белой рубашкой и галстуком, но ненавидящий их тоже, потому что они принадлежат не ему.
– Я так думаю, все это пустые толки, но, говорят, вы забрали деньги из своего банка.
– Это правда, – сказал Сноупс. – Я положил их в Джефферсонский банк.
– Забрали из банка, где вы сами вице-президент.
– Это правда, – сказал Сноупс. – Я положил их в Джефферсонский банк.
– Значит, по-вашему, тот банк не надежный? – Сноупсу-то это было смешно, потому что для него всякий банк был все равно что кусты на краю леса за маленькой пограничной Хижиной, которые служили американскому пионеру и уборной, потому что другой у него не было; и все эти заросли, вся эта темная чащоба (и ближайшие кусты тоже), все это кишит индейцами и разбойниками, не говоря уж о медведях, и волках, и змеях. Конечно, этот банк был ненадежным. Но он должен был туда пойти. Потому что только тогда эта даль, эта перспектива, которая и заставила его забрать свои деньги, открылась перед ним. – Значит, вы и мне советуете свои деньги забрать?
– Нет, – сказал Сноупс. – Я просто свои забрал.
– Забрали из банка, где вы сами вице-президент.
– Именно, – сказал Сноупс. – Где я сам вице-президент.
– Понятно, – сказал тот. – Ну, ладно, большое спасибо.
Потому что теперь он видел эту перспективу, и его гражданственная ревность и гордость через четыре года изгонит, удалит из Джефферсона его родича, который устроил заведение «Деньги на бочку» с набором заграничных порнографических фотографий, – подсунет ему в лабораторию несколько галлонов беспошлинного самогонного виски, а потом даст знать федеральному налоговому сборщику; а еще через шесть лет та же самая гражданственная ревность и гордость изгонит, удалит из Джефферсона еще одного (последнего) нежелательного представителя этого рода, который возвел в профессию простую военную хитрость, привязывая мулов к рельсам на повороте, где машинист не мог вовремя их увидеть, – он просто-напросто скупит всех оставшихся мулов по его, родича, собственной цене при условии, что этот родич никогда больше не покажется в Джефферсоне.
Гражданственная ревность и гордость, которая, можно сказать, открылась ему в тот миг, когда он понял, что, просто-напросто спасая свои собственные денежки от воровства и расхищения, он мог заодно изгнать и удалить из города, который он избрал для себя, заклятого демона греха, окаяннейшего из падших серафимов преисподней – эту живую насмешку над добродетелью и моралью, этот чудовищный парадокс: в недавнем прошлом – мэр города, а теперь президент одного из двух его банков и староста епископальной церкви, он не был просто распутником, субботним гулякой, это город мог бы простить по той простой причине, что это естественно, человечно, понятно и заслуживает порицания, – но вместо этого создал какой-то неистовый культ супружеской измены, какой-то узаконенный союз двух любовников, основанный на неистребимой верности, которая не иссякала, все такая же неистребимая и открытая, с того самого мгновения, когда ни в чем не повинный, обманутый муж привез свою жену в город двенадцать лет назад, и которая, по всей видимости, чего бы вы ни хотели или ни предвещали, на какой бы вы ни были стороне, не иссякнет еще двенадцать лет, если муж не найдет какого-нибудь способа положить этому конец, и еще дважды по двенадцать лет, если он, муж, будет ждать, пока сам город в это вмешается.
Гражданственная добродетель, которая, как и всякая добродетель, была сама по себе наградой, потому что в той же ослепляющей вспышке он видел и для себя возмездие и отмщение, словно не просто добродетель жаждала добродетели, но и сам Бог ее жаждал, потому что в этом случае Он воистину предлагал добродетели разделить с Ним то право, которое Он ревниво считал своим: право супруга на возмездие и отмщение тому мужчине, который наградил его знаком своей победы; право на возмездие и отмщение тому, кто не просто вторгся в его дом, но и надругался над этим домом, который он честно и благородно пытался построить для женщины, уже безнадежно опороченной и погибшей в глазах мира (или Французовой Балки, что в то время было почти то же самое), и дал имя ее незаконному ребенку. Конечно, ему за это заплатили. Иными словами, он получил приданое: участок негодной истощенной земли, заросшие бурьяном руины английского парка и останки (то, что соседи не растащили по бревнышку на дрова) дома в колониальном стиле с колоннами – владение до того никчемное, что Билл Уорнер не пожалел его отдать, потому что даже этот свирепый старый пират Билл Уорнер за целую четверть века не мог придумать способа выжать из него хоть цент; до того никчемное, что даже он, Сноупс, должен был прибегнуть к одной из самых старых, затасканных уловок, какие изобрел человек: подсыпать в песок золотишка и таким способом всучить эту усадьбу Генри Армстиду и В.К.Рэтлифу, из которых, по крайней мере, один, Рэтлиф, мог бы быть умнее, и по этой причине он, Сноупс, его не жалел.
И вот за это никчемное приданое (никчемное, потому что само по себе оно ничего не стоило, и он сам вынужден был набить на него цену) он взвалил на себя бремя не только морального падения и позора жены, но и признал своим безымянного ребенка, дал ему свое имя. Может, это было не бог весть какое имя, ведь на него, как и на развалины усадьбы Старого Француза, он сам должен был набить цену. Но другого имени у него не было, и даже если б он носил фамилию Уорнер (да, да, или Сарторис, или де Спейн, или Компсон, или Гренье, или Хэбершем, или Маккаслин, или любую другую из старинных и блестящих фамилий, сохранившихся в анналах округа Йокнапатофа), он сделал бы то же самое.
Как-никак он дал ребенку имя, а потом увез мать подальше от этого места, этого окружения, этих людей, видевших ее позор, на новое место, где, по крайней мере, никто не мог сказать: «Я видел, как она осрамилась», – а только: «Так люди говорят». Нет, он не ожидал, что она окажется благодарнее Билла Уорнера, который по его (Уорнеровым) понятиям уже расплатился с ним. Но он ожидал, что у нее достанет просто здравого смысла и благоразумия, обретенных на горьком опыте: не благодарности к нему, но простого разума по отношению к себе, подобно тому как не ждешь и не хочешь благодарности от человека, которого спас из огня, но ожидаешь, что, по крайней мере, впредь этот человек будет держаться от огня подальше.
Но не в том было дело, что женщины, может, способны на благоразумие не больше, чем на благодарность. Может, женщины, наоборот, способны только на благодарность и ни на что другое, кроме как на благодарность, не способны. Но раз прошлое для них существует не более чем мораль, то ничто не может научить их благоразумно смотреть на будущее и чувствовать благодарность к тому, кто спас, или к тому, что спасло их от прошлого; их благодарность вроде электричества: она непременно должна возникнуть, оказать действие и разрядиться – все в один миг, иначе она вообще не может существовать.
Попросту говоря, это значит, что, как любой и каждый, чья судьба, рок, жребий, зовите как хотите, наконец привели его к женитьбе, он скоро узнал, почем фунт лиха: над его домом надругались не потому, что жена его глупа и неблагодарна, а просто потому, что она женщина. Блеск и щегольство закоренелого холостяка Манфреда де Спейна осквернили ее целомудрие замужней женщины не больше, чем некогда те же качества этого мальчишки, юноши, мужчины Маккэррона осквернили ее целомудрие девушки, когда она была еще невинна, о чем она, он был в этом уверен, давно забыла. Она просто соблазнила сама себя: то было не бешенство ее лона, не горячий, невыносимый и неодолимый зуд и жар, как у кобылы, или у телки, или у свиньи, или у суки во время течки, а возбуждение какой-то железы, удовлетворить которое можно было только одним способом – устроить так, чтоб было на кого обратить благодарность и кому воздать ее.
Но все же это не оправдывало Манфреда де Спейна. Он и не ожидал от Манфреда де Спейна высоких моральных принципов, которые не позволили бы ему совратить чью-нибудь чужую жену. Но он ожидал, что у него достанет разума не делать этого, потому что он ведь не женщина; что в этом случае он будет разумен, настолько разумен, чтобы хоть немного заглянуть вперед, в будущее, и удержаться, не соблазнить, по крайней мере, его жену. Но он не удержался. Хуже того: де Спейн попытался вознаградить его за это надругательство и позор; из презренного страха уплатить ему презренной и мелочной монетой за то, что он, де Спейн, ставя себя, де Спейна, рядом со Сноупсом, считал своим естественным и законным droit de seigneur [11]. Правда, старый Билл Уорнер уплатил ему за то, что он женился на его опозоренной дочери, но это было совсем другое дело. Старый Билл даже не пытался прикрыть позор дочери, не говоря уж отомстить за него. Одно то, что он предложил ему – эту разрушенную и никчемную усадьбу, из которой даже он за целые четверть века ничего не мог выжать, показывает, как высоко он ценил эту честь; что же до отмщения за позор, то он, старый Билл, сделал бы это с помощью револьвера либо собственноручно, либо через этого безмозглого троглодита, своего сына Джоди, если б только поймал Маккэррона. Он, старый Билл, открыто и прямо предложил цену, какую считал справедливой, чтобы избавиться от дочери, которая однажды уже осквернила его мирный домашний очаг и со временем, наверное, сделала бы это снова.
Иное дело де Спейн, который, не имея мужества, попытался торговаться, рядиться с ним, воспользовался своим положением мэра города, чтобы предложить ему презренную мзду – место смотрителя электростанции и возможность мелкого воровства не только в уплату за удовлетворение своей похоти, но чтобы уберечь свою репутацию, пытаясь купить одновременно право спать с чужой женой и обезопасить свое доброе имя от ее мужа, которому принадлежало и то и другое, и все это за возможность незаконно присвоить кучку медяшек, и он, Сноупс, воспользовался этим не ради мелочной выгоды, которую она ему принесла, а скорее чтобы увидеть, до каких глубин может дойти низменный и гаденький страх де Спейна.
И он увидел это. Они оба увидели. Это был настолько же его, Сноупса, позор, насколько торжество де Спейна, когда кончилась история с медяшками, которая погубила бы его, но де Спейн нашел союзника в самом обвинителе. Обвинитель, городской служащий, одолеваемый и, как он думал до тех пор, пока не оказалось, что и он не лишен слабостей (не преступник: просто человек со слабостями), одержимый той же страстью», которой суждено было погубить и повергнуть в отчаянье его, де Спейна; одержимый и некогда преданный этой страсти, он понял, что опасно даже дышать этим воздухом уже только потому, что она им дышит, двигается в нем, колыша его и причиняя страдания; этот обвинитель, борец за интересы общества, был ослеплен и поражен той же молнией давней страсти и боли. Но ему, обвинителю, выпала на долю одна лишь тоска, даже без утраты; ему даже не суждена была гибель, которая увенчала бы эту тоску: одно только отчаянье, хотя он был не преступным, а только слабым человеком, и ему не суждено было даже дотронуться до ее руки.
Так что де Спейн и здесь взял наглостью, приписав простое везение своему мужеству. Как будто это не трусость, не безобразие: полковник Сарторис умер от сердечного приступа в гоночном автомобиле своего внука (все вышло так, словно он, де Спейн, подкупил автомобиль и нарочно подстроил этот несчастный случай), и место президента банка освободилось, и тогда он, де Спейн, опять-таки не попросил, не предложил, а все с той же грубой и оскорбительной наглостью решил, что он, Сноупс, само собой разумеется, жаждет случая не просто еще раз уладить дело миром, но публично подтвердить, что он рогоносец, что они оба оскверняют постель его жены – да, да, публично подтвердить, что она шлюха; не успели бросить последнюю лопату земли на могилу полковника Сарториса, а де Спейн уже подходит к нему, мысленно потирая руки, и уже говорит: «Ну ладно, за дело. Эта маленькая кучка акций, которой вы владеете, конечно, пригодится. Но нам нужен большой пакет акций. Поезжайте на Французову Балку завтра же, а если можно, то лучше сегодня вечером, и обработайте дядюшку Билли, покуда до него другие не добрались. Ну, шевелитесь же». Или, может, даже напрямик, просто и ясно: «Ваш родич – двоюродный брат – нанес банку ущерб, вырвав звено, неважно, малое или большое, из цепи его финансовой неприкосновенности. А от этого зависит не только курс акций, которыми вы владеете, но и чистоган, доллары и центы, добытые и скопленные вами таким тяжким трудом; до вчерашнего вечера вы могли получить их по первому требованию, они еще были ваши. Единственный способ снова склепать цепь – это возместить недостающее звено, все, что украл ваш родич, до последнего цента. Я готов сделать это, но зато я должен стать президентом банка; всякий, кто возместит эти деньги, потребует, чтоб его сделали президентом, и в то же время всякий, чтоб стать президентом, должен сначала возместить эти деньги. Выбирайте: или вы сохраните все свои акции и деньги сполна, если президентом станет человек, вам известный, и вы будете точно знать, насколько можно на него положиться, или рискнете иметь дело с человеком незнакомым, для которого ваши акции и деньги, вполне вероятно, будут значить не больше, чем для вашего родича Байрона».
И он покорился. У него не было выбора. Потому что он был наивен; невежествен, если угодно. Он, конечно, научился в банковском деле всему, чему мог научиться сам, поскольку ему были нужны банки или что-нибудь в этом роде, чтобы держать там деньги. Но до тех пор единственное, что он мог, это, стоя в очереди к окошечку, вглядываться сквозь решетчатую баррикаду, отделявшую деньги и денежные операции от людей, которым эти деньги принадлежали, которые принесли их туда и отдали из простого доверия одного человека к другому, так как не приходилось выбирать между этим непрочным доверием и ненадежной жестянкой из-под кофе, зарытой под кустом на заднем дворе.
Он покорился не только для того, чтобы спасти свои деньги. Поехав на Французову Балку замолвить старому Биллу Уорнеру словечко за Манфреда де Спейна, он не только подтверждал тем самым, что простое, непрочное доверие человека к человеку, которое не гарантируется и не может быть гарантировано, оправдывает себя, он доказывал, что это доверие выдержит все испытания, должно выдержать, потому что благоденствие нации, прочность экономики зависят от честности банков и святости каждого доллара, который там хранится, кому бы этот доллар ни принадлежал, и эта честность и святость должны в конечном счете зависеть от готовности одного человека доверять и способности другого человека оправдывать доверие; жертвуя святостью своего очага во имя благосостояния Джефферсона, он возлагал чистоту своей жены на алтарь человечества.
И какой ценой ему это досталось: он должен был не только поступиться своей гордостью, но совершенно ее отбросить, чтобы поехать туда уламывать и, быть может, даже просить, молить этого старого бандита в его темной деревенской лавчонке на Уорнеровом перекрестке – этого долговязого, желчного, злобного старого разбойника, живущего со своей угрюмой женой, которая, хоть и не была набожна, сама надзирала за местной церковью с холодным произволом тюремщика, и с наложницами-мулатками (Рэтлиф говорил, что их у него три: некогда это были первые и до поры до времени единственные темнокожие в этой части округа, которых он там терпел, а теперь у него были от них внуки, и у этого второго поколения кожа уже снова была темнее, но они сохранили в неприкосновенности худшие, приобретенные от Уорнера, черты белых, смешавшиеся с исконными чертами их бабушек, у которых было по два отца или вовсе отца не было), человека, какого угодно, но не безнравственного, потому что моральные принципы у него самые простые и строгие: что бы ни решил Билл Уорнер, все правильно, и всякий, кто встанет на его пути, пусть пеняет на себя.
И все же он поехал договариваться с этим стариком, который презирал его за то, что он взял замуж обесчещенную девушку по цене, какую он, Уорнер, положил за усадьбу Старого Француза, и который боялся его, потому что у него, Сноупса, хватило смекалки выжать из этой усадьбы столько, сколько он, Уорнер, не мог выжать за двадцать пять лет; боялся потому, что эта смекалка была для него опасна, и ненавидел, потому что вынужден был бояться.
И он договаривался с ним, убеждал, или хитрил, или грозил. Даже Рэтлиф, который пользовался в округе Йокнапатофа такой репутацией, что на все должен был иметь готовый ответ, не мог ничего сказать, и сам знал об этом не больше, чем мы все, а мы знали вот что: в один прекрасный день прошел слух, что образовалась коалиция де Спейн – Уорнер – Сноупс; а на другой день де Спейн из своего кармана возместил деньги, которые украл Байрон Сноупс, когда убежал в Техас; а на третий держатели акций выбрали де Спейна президентом банка, а Флема Сноупса – вице-президентом.
Вот и все. Потому что он был наивен. Нет, он не был невежествен; он не знал внутренней банковской механики не по невежеству, а просто потому, что у него еще не было возможности и времени ее изучить. А теперь была только нужда, отчаянная необходимость спасти весь банк и тем самым сохранить свои денежки, чтобы успеть их забрать и поместить куда-нибудь в надежное место. И теперь, когда у него было преимущество, когда он стал вице-президентом и от него уже нельзя было скрыть сокровенный механизм банка и все тонкости банковского дела, не только страшную угрозу и опасность, которые оно в себе таит, но и его золотое дно, теперь времени у него стало еще меньше, чем когда-либо. В сущности, у него только и было время узнать, как просто и легко воровать деньги из банка, если уж трусливый, тупой дурак вроде его родича Байрона, который, вероятно, и вообразить не мог сумму крупнее тысячи или двух тысяч долларов, и тот мог сделать это безнаказанно; и поскорее забрать оттуда свои деньги, прежде чем остальные, все, вплоть до уборщика-негра, который каждое утро подметает полы, решат, что пыль и тревога достаточно улеглись, чтобы рискнуть, (или, быть может, просто что уже снова накопилось довольно свободных денег и игра стоит свеч), и опередят его.
Вот оно что: лихорадка, спешка, тревога; и он вспоминал, быть может, с чувством, очень похожим на стыд, что не собственная его проницательность, а случайная встреча с невеждой, деревенщиной, беспокоившимся о своем вкладе, который выражался (по всей вероятности) двузначной цифрой, открыла ему эту перспективу, эту блестящую возможность одним ударом обезопасить себя и отомстить врагу – эта месть, должно быть, зрела уже не один день и даже не одну неделю, с тех пор как безвестный арендатор, который, вероятно, не бывал в городе и четырех раз в году, впервые натолкнул его на эту мысль; он не думал об этой мести, не замышлял и не готовил ее, словно боги, или судьба, или обстоятельства, или еще что-то вступились за него, даже не спрашивая его согласия, и, конечно, когда-нибудь потребуют, чтобы он уплатил за это.
Но теперь он знал, что делать. Не разорить сам банк, уничтожить, обрушить его на голову де Спейна, как Самсон обрушил на себя кровлю, а просто-напросто отобрать его у де Спейна целехоньким. Потому что банк – это значит деньги. Банк – это и есть деньги, а он, как сказал Рэтлиф, никогда не причинит вреда деньгам, не посягнет, даже на миг, на ценность и неприкосновенность денег; он слишком их почитал. Он просто отберет у де Спейна банк и деньги, что одно и то же, в целости и сохранности, незаметно переместит его в иную сферу, даст ему иную власть в экономике города, а у де Спейна не останется ничего, кроме закладной на его дом, который (как сказал Рэтлиф) он заложил у старого Билла Уорнера, чтобы возместить деньги, украденные Байроном Сноупсом.
Только вот как это сделать. Как убрать де Спейна из банка или отнять банк у де Спейна невредимым – вырвать его в целости из лап де Спейна, заставив убеждениями или угрозами побольше вкладчиков вынуть оттуда свои деньги, как вызвать водопад долларов, который иссушит его; как убедить вкладчиков и акционеров забрать все свои деньги и акции из этого здания и поместить их в другое, через площадь или, может быть (кто знает), даже рядом с пустующим теперь домом де Спейна, не потревожив видимой платежеспособности банка.
Потому что если даже половина всех издольщиков, у которых штаны держатся на одной подтяжке, этих людей, у которых только и капиталу что деньги, вырученные в октябре или в ноябре от продажи единственной кипы хлопка, десятины, которая пришлась на их долю, забрала бы свои деньги, этого было бы мало. А сам он был совсем безоружен: ни благородного происхождения, ни природных способностей, ни родственных связей. И хотя в этой части штата Миссисипи людей, носящих фамилию Сноупс, или состоящих в браке с кем-нибудь из Сноупсов, или задолжавших Сноупсу от пяти центов до пяти долларов, было гораздо больше, чем людей с любой другой фамилией, никто из них, кроме одного-единственного, не был равен даже издольщику с единственной кипой хлопка, а этот единственный – Уоллстрит-Паника, бакалейщик, – уже был вкладчиком другого банка, и его нельзя было использовать, даже если б он, Флем, нашел способ как-то сладить с яростной, непримиримой враждебностью жены Уоллстрита.
И уж совсем не было у него оружия, которое могло бы оказаться полезней всего: друзей, к которым он мог бы обратиться без страха и тревоги и предложить составить заговор против де Спейна. У него не было друзей. И я вам говорю, он знал, что у него нет друзей, потому что никогда не хотел (и не захочет), чтоб они были, чтоб они обременяли его, чтоб ему постоянно грозила, висела над ним их неотвязная паразитическая назойливость, которая, по его наблюдениям, и составляла дружбу. Я хочу сказать, только теперь он впервые в жизни понял, что человеку нужны друзья уже хотя бы потому, что когда угодно может возникнуть – и непременно возникнет, от этого никому не уйти – такое положение, когда они пригодятся; и не только пригодятся, а будут просто необходимы, поскольку никто другой, кроме друга, кроме человека, которому можно сказать: «Не спрашивай, зачем; просто возьми эту закладную, или вексель, или залоговую расписку, или исполнительный лист, или пистолет, прицелься в того, кого я тебе укажу, и выстрели», – здесь не поможет. И опять-таки виной всему было его неведение: так яростно и упорно рыл он землю ногтями, карабкался, рвал из горла и грызся так долго, чтобы добыть деньги, которые были ему необходимы, что ему некогда было научиться, как их удержать, защитить и сохранить (об этом он тоже не жалел, потому что и жалеть ему было некогда). Да, он нисколько не жалел, что у него нет тех возможностей, которые жизнь скрыла от него, и не потому только, что тогда ему некогда было жалеть об этом, а потому, что еще не возникло то отчаянное положение, когда даже дружбы бывает мало. Даже время работало теперь на него; пройдет еще целых пять лет, прежде чем ему придется рискнуть всем, когда достигнет зрелости эта девочка.
Но одно оружие, инструмент, приспособление, у него было – это самые бедные арендаторы, которые не имеют будущего, едва сводят концы с концами, – они были всюду, по всему округу, и на них, в сущности, держалась экономика штата; это он, по крайней мере, имел, и в голове у него, вероятно, мелькали пошлые, банальные мысли о том, что великое создается из малого: из песчинок, из капель, из мелких монет. Теперь он действовал тайно. Он всегда действовал втихомолку, пока не заложит мину, а потом она неожиданно взрывалась. Но на этот раз он и впрямь имел дело с кротами и муравьями – не с Сарторисами, Бенбоу, Эдмондсами, Хэбершемами и другими, чьи фамилии издавна были записаны в анналах округа, не с этими людьми, которые владели акциями банка и солидными вкладами, а с безымянными арендаторами и издольщиками, вроде того, с которым он разговаривал, а они, как сказал бы этот его собеседник, «сразу чуют недоброе».
Он не пытался их обратить. Он просто держался у них на виду, понадеявшись, что тот, первый, уже распустил слух, разнес весть, и старался, чтобы все видели, как он входит в Джефферсонский банк и выходит оттуда, а сам все ждал, и наконец они, встретив его как бы случайно, стали подходить к нему по двое, по трое или даже целой толпой и просить у него подтверждения, – разговор получался, как у «рыжего» в цирке с его партнером.
– Доброе утро, мистер Сноупс. Вы, случаем, не заблудились, что зашли в тот банк?
– Может, у мистера Флема теперь столько денег, что в одном банке они не помещаются?
– Нет, ребята, да только вот, как говаривал мой старик папаша: в двух ловушках может поместиться вдвое больше енотов, чем в одной.
– А ваш папаша дознался когда-нибудь у старого травленого енота, который силок ему больше по нраву, мистер Сноупс?
– Нет, ребята. Этот старый енот только и сказал: «Правильно, я попал куда надо».
И все. Они хохотали, иногда кто-нибудь даже хлопал себя по колену, обтянутому вылинявшим комбинезоном. Но в тот же день (или, может, повременив день, или два, или даже неделю) они поодиночке появлялись у окошечка старого Джефферсонского банка, и их узловатые, искривленные, сожженные солнцем руки почти с сожалением отдавали тощие пачки банкнот; они никогда не приносили чеки, чтобы просто перевести вклад, но сами приходили в банк, от которого отказывались, поверив слуху, передаваемому шепотом и подкрепленному собственными неуклюжими выдумками, забирали наличными жалкие, скопленные тяжким трудом гроши и несли их через площадь в другой банк, от которого откажутся в свою очередь, едва пройдет такой же таинственный, невесть откуда взявшийся и кем распущенный слух.
Потому что на самом деле они были не кроты и не термиты. Кроты могут подрыть фундамент, а термиты превратить весь дом в кучу коричневой трухи. Но у них не было ни индивидуализма крота, ни коллективной целеустремленности термитов, хоть они и были многочисленны, как муравьи. Просто они, как и он, Сноупс, старались спасти свои скудные доллары, и он, Флем, знал: новое известие, новый слух снова всполошат их и погонят в другой банк, и если б де Спейн только захотел, то, ловко распустив этот самый слух, он мог бы не только вернуть своих старых вкладчиков, владельцев единственной кипы хлопка, но и привлечь к себе всех вкладчиков Джефферсонского банка. Но ни он, ни один другой банкир в здравом уме не захотел бы этого, потому что это просто значило бы, что придется отказать множеству людей, желающих заложить облезлых мулов, и захудалые фермы, и домашний скарб, чтобы купить на эти деньги подержанные и разбитые автомобили.
Этого было мало. Безнадежно мало. И вот он снова тщетно перебирает в уме те же имена, отбрасывая одно за другим, словно никогда раньше не думал о них и не решал, что от них не будет никакого толку: его племянник или двоюродный брат Уоллстрит-Паника, бакалейщик, который каких-нибудь десять лет назад, благодаря простому усердию, честности и трудолюбию, да еще тысяче долларов компенсации за смерть отца, стал компаньоном в бакалейной лавке, а теперь, всего через десять лет, уже владел по всему Северному Миссисипи целой сетью таких лавок, которые снабжались с собственного оптового склада; его, Уоллстрита, одного было бы довольно, чтобы отобрать банк у де Спейна, но тут было два непреодолимых препятствия: он уже держал свои деньги в другом банке и был акционером этого банка, и, кроме того, его жена даже слышать не могла слова «Сноупс» и, как говорили в Джефферсоне, даже убеждала мужа переменить фамилию законным порядком. А потом шли остальные Сноупсы, его родичи, и все другие Сноупсы в округе, которые не были ни Сноупсами, ни арендаторами, платившие ему все эти годы проценты за пять, или десять, или двадцать долларов, взятые взаймы, которые, даже если бы он мог привлечь их на свою сторону, простив им долги всем вместе или каждому в отдельности, ничуть не помогли бы ему по той простой причине, что никто, у кого есть хоть сколько-нибудь денег где бы то ни было, никогда не осмелится поставить свою подпись на клочке бумаги, который остался бы у него, Флема, в руках.
И он снова возвращался назад, к тому, с чего начал, и снова, терзаясь, тщетно перебирал в уме все тот же список, отбрасывая одно имя за другим и понимая то, что он понимал и раньше, – на каком имени придется остановиться, но избегал думать о нем. Это старый Билл Уорнер, его тесть, и он все время знал, что в конце концов ему придется проглотить эту пилюлю, снова поехать к этому желчному вспыльчивому старику, который никогда не мог простить и не простит ему, что он хитростью взял у него усадьбу Старого Француза за пятьсот долларов и всего через две недели продал ее с прибылью в триста, а то и в четыреста процентов; снова поехать к этому старику, к которому он, смирив гордость, обратился всего пять лет назад, убедил его употребить свое влияние и сделать президентом банка того самого человека, которого теперь надо убрать.
Понимаете? Вот в чем была для него трудность. Ему так чудовищно не повезло, что ребенок, которому он дал свое имя, оказался девочкой, а не то ему, вероятно, никогда не пришлось бы преодолевать эту трудность. Он мог бы удовлетвориться тихой мечтой о мести, дремать, оставаясь рогоносцем, как будто покоишься в знакомом кресле со знакомой книгой, не будь ребенок его жены девочкой.
Но она была девочкой. Этот факт (да, да, мужчин тоже иногда интересуют факты, даже таких, как Флем Сноупс) неизбежно должен был поразить его, наконец, в какой-то день или час невероятным, неожиданным ударом. Это существо, эта девочка, которая, можно сказать, родилась у него на глазах и с тех пор каждый день своей жизни была у него на глазах. Она была невинна, она ни о чем не знала, не подозревала. О Да, он знал, что она девочка, и, живя на свете, она неизбежно должна созреть; и, как все девочки, созрев, она должна стать женщиной. Но он был слишком занят, наживая деньги, ему пришлось сначала носом землю рыть (носом землю рыть? Право же, это слишком мягко сказано, чтобы назвать то, с чего ему пришлось начинать), потому что у него не было никаких средств для этого и никаких надежд эти средства приобрести и не было времени узнать или хотя бы догадаться о том, что ему нужно было знать о женщинах. Понимаете? Рождается маленькое существо, крошка; вы говорите: это будет лошадь или корова, и со временем оно становится лошадью или коровой и вступает, вливается, входит в окружающую среду без морщинки, рубца, шва. Но только не это существо, не эта крошка, которая становится (и ее невозможно удержать; даже Флем Сноупс не мог) женщиной – женщиной, которая не сливается ни с какой средой, не входит в нее, презирает законы этой среды и все нормы поведения, которые большинство принимает за идеал; и наоборот, уже тем, что она дышит, существует, эта хрупкая и нежная плоть властвует над этой средой, мнет и лепит ее, как воск.
Вот что с ним было. Вот что случилось. К тому времени он, вероятно, уже покорился и тешился лишь тщетной мечтой о мести, о возмездии своему врагу. Я хочу сказать, он обдумывал и обдумывал, перебирал и перебирал все возможности только для того, чтобы все время возвращаться к тому же остатку – владельцам единственной кипы хлопка, которые, даже если продать их целиком, вместе с подержанными комбинезонами, не могли бы поколебать и бюджета окружной церкви, не говоря уж об окружном банке. Так что он, видно, сдался и если не признал, что ему наставили рога, то, по крайней мере, примирился с этим.
А потом девочка, которой он, можно сказать, по неведенью дал имя, не только выросла и стала женщиной вообще, но становилась или грозила стать именно такой, неповторимой женщиной. Конечно, девочка должна была стать женщиной, и он ожидал этого, и не был бы на нее за это в претензии, если б она ограничилась тем, что стала бы просто обычной женщиной. Будь его воля, он бы, конечно, предпочел видеть ее некрасивой, не обязательно уродом, просто некрасивой и запуганной с самого рождения и поэтому обреченной быть старой девой, настолько некрасивой, чтоб юноши ее возраста, взглянув на нее один раз, тут же о ней забывали; и чтобы тот из них, который наконец попросит ее руки, косился, а то и в оба глаза глядел на деньги ее отца (мнимого отца), и из него можно было бы веревки вить.
Он не хотел, чтобы она вышла замуж, как только созреет, да еще за человека, который будет вне его власти, потому что он далеко отсюда, или слишком молод, или, что хуже, возмутительней всего: просто потому, что у этого ее мужа будут деньги, и от Сноупса они ему никогда не понадобятся, он их не захочет. Кто-нибудь, вроде того головореза, здоровенного, как горилла, которого привезли из самого Огайо, когда ей было всего пятнадцать лет, и он своими Золотыми перчатками или, может, просто своей репутацией Золотой перчатки нагнал такого страху, что около нее ни одного мужчины, кроме него самого, не осталось; но потом и ему пришлось убраться, потому что тут даже его Золотые перчатки были бессильны: она была женщина и поэтому не просто непостижима, но неисправима.
Понимаете? Головорез, которому суждено по меньшей мере руководить агентством Форда, если не целым рабочим союзом, не был ни вытеснен, ни изгнан, потому что это почти одно и то же: этот кронпринц века моторов просто исчез, потому что его соперник уже был тут как тут: холостой юрист, вдвое ее старше, который прочно осел в этом маленьком городке и был так связан этим городком по рукам и ногам, что не мог причинить вреда, отравляя ее жизнь и ее воображение пагубными разговорами о дальних краях, встречался с ней под вечер у стойки, где продавали прохладительные напитки, и не просто соблазнял и развращал ее женскую плоть, но гораздо хуже: развращал ее ум, вливал в ее ум и воображение не просто пустые и безумные фантазии из книжек стихов, но смертельный яд неудовлетворенных надежд и мечтаний.
Понимаете? Казалось бы, пожилой (и даже поседевший) юрист в маленьком городе на это не способен, так что его и бояться нечего, он даже помог ему, Флему, избавиться от этой опасной гориллы из Огайо, но теперь сам стал еще опаснее, потому что убеждал девушку убежать, избавиться от его власти, не только внушая ей, что город, где она жила и должна жить, плохой, но даже указывая, куда она может отправиться искать призраки и фантазии, о которых она даже не подозревала, покуда он не вбил ей все это в голову.
Вот в чем была трудность. И он не мог ее преодолеть, даже выбрав, купив ей мужа, который был бы ему покорен. Потому что он не мог позволить ей выйти ни за кого, пока бог, или дьявол, или судьба, или, может быть, просто сама природа, когда у них лопнет терпение, не уберут по крайней мере старого Билла Уорнера с земли. Потому что, как только она выйдет замуж, женщина, которая согласилась стать его женой единственно для того, чтобы у ее еще не родившегося тогда ребенка было имя (вероятно, отчасти опасаясь праведного гнева и ярости старого Билла и желая его утихомирить, но главным образом, почти исключительно, из-за ребенка), тоже уйдет от него либо со своим теперешним любовником, либо одна; во всяком случае, завещание ее отца, написанное за восемнадцать лет до того, как она вышла за Флема Сноупса, и за десять или двенадцать до того, как она в первый раз о нем услышала, останется в силе.
Так что она пока вообще не должна выходить замуж. А помешать этому было нелегко, даже пока она оставалась дома, в Джефферсоне, потому что половина игроков футбольной и баскетбольной команды всей гурьбой провожали ее домой из школы и сопровождали в кино, когда она училась в школе, сперва в младших, а потом в старших классах. Но, по крайней мере, она жила дома, где ее отец более или менее вмешивался в происходящее, либо как отец (да, да, отец; другого она не знала и, без сомнения, не поверила бы, отвергла бы правду, если б кто-нибудь захотел открыть ей глаза, потому что женщин не интересует ни правда, ни ложь, а только факты, не важно, истинны они или нет, лишь бы они соответствовали всем остальным фактам, а для нее фактом было, что он ее отец, в силу того простого факта, что у всех других девочек и мальчиков тоже есть отцы, если только они не лежат под могильными камнями где-нибудь поблизости), либо угрожая потребовать долг или опротестовать вексель, подписанный отцом или родственником претендента в женихи, или – если ему, Флему, посчастливится – даже самим женихом.
А потом вмешался он, этот посторонний седой чудак, который стал пичкать ее мороженым, кока-колой и проспектами колледжей из другого штата и, наконец, убедил ее, что ей не только лучше и интересней уехать, но ее прямой долг покинуть Джефферсон, убраться отсюда, как только она кончит школу. И тогда она вынесет свои соблазны, из-за которых в Джефферсоне уже раз десять текла кровь (да, да, настоящая кровь), в широкий мир, где полным-полно одиноких молодых людей, готовых жениться, независимо от того, думали они об этом, прежде чем увидели ее, или нет. Он ее удержал, вернее, придержал еще на год, заставил, убедил ее (не знаю, как он это сделал, быть может, даже прибег к слезам; да, он пустил бы в ход слезы, если бы только умел плакать) попусту потерять этот год в пансионе (в одном из тех благородных и неотвратимо ветшающих старомодных заведений, именуемых «Колледж мисс Имярек» или «Женская академия мисс Имярек», или «Институт», где обучают, как вести себя в обществе и раскрашивать фарфоровые чашки, – заведений, каких и поныне полно на Юге, хотя нигде больше в Соединенных Штатах от них и следа не осталось); а сам он тем временем терзался, ломал себе голову, как избавиться от этой опасности, этой угрозы – немолодого провинциального юриста, соблазнителя с его проспектами колледжей из других штатов. Да, от того самого немолодого юриста, который устранил своего опасного предшественника – автомобильного механика из Огайо. Но юриста некому было устранять, кроме него, доведенного до отчаянья, отца, а он знал только одно средство – деньги. Мне не трудно себе это представить: Флем Сноупс, вынужденный весь этот год все время быть настороже, следить за всяким чужим человеком, всяким торговцем мылом или скобяным товаром, который накануне сошел с поезда, и в то же время терзаться и мучиться, выдумывая, как бы заставить меня взять у него взаймы столько денег, чтобы я оказался в его власти.
Я, конечно, ожидал этого. Я даже заранее все рассчитал, мечтал о том, что я сделаю с деньгами, что куплю на те деньги, на которые буду и дальше его предавать. Но он этого не сделал. Он меня провел. И, пожалуй, эту честь он мне тоже оказал: не просто помешал мне запятнать мое доброе имя, устранив соблазн, но решил, что я продам его, прежде чем запятнаю, и один соблазн автоматически устранит другой. Во всяком случае, взятки он мне не предложил. И теперь я знаю почему. Он махнул на это рукой. Я хочу сказать, он наконец понял, что ему никак не удержать ее от замужества, даже если он удержит ее в Джефферсоне, а как только это случится – прощайте навек денежки старого Билла Уорнера.
Потому что этим летом – этим последним летом, или, вернее, осенью, когда в школе начались занятия, и она даже пошла опять учиться в пансион, чтобы зря потерять еще год в этих ветшающих стенах, где мисс Мелисса Хоггенбек упорно вдалбливала в головы немногих своих учениц, что не только история Америки, но и всемирная история еще не дошла до рождества 1865 года, потому что, хотя генерал Ли (вместе с другими воинами, среди которых был и ее дедушка) и капитулировал, война не была кончена, и последующие десять лет покажут, что даже та мнимая капитуляция была ошибкой, – у него было довольно досуга, чтобы подвести итог. И конечно же, ему – или любому другому мужчине – достаточно было взглянуть на нее, чтобы понять, что это не может долго продолжаться, даже если держать ее взаперти, – эта девочка (теперь уже девушка; в этом месяце ей исполнится девятнадцать), которая обещает и манит уже тем, что просто живет на свете, изведает не просто страсть, не отдаст себя ночью в придорожных кустах с робкой покорностью любовнику, еще окровавленному после драки, а любовь, юную пылкую страсть, не только в настоящем, но и в будущем, чтобы вместе крепнуть, расти, вместе обрести ясность духа, свершение надежд, а под конец дать друг другу чудесную, спокойную старость. И такой конец – худшая из бед, несчастье, катастрофа, погибель, последняя невозвратная возможность заполучить хоть часть денег старого Билла Уорнера – мог наступить теперь каждую минуту; и кто знает, какое облегчение принесло бы ему простое сознание того, что он в любой миг может не только перестать беспокоиться, как бы не потерять деньги, но и вообще оставить всякую надежду, как бывает, когда ассистент зубного врача открывает дверь своего застенка, смотрит на тебя и говорит: «Следующий», – и уже поздно, простое приличие не позволяет тебе вскочить и убежать.
Понимаете? Спокойствие. Больше не нужно будет зря тратить время, надеясь или даже сожалея, перебрав и отвергнув все средства, потому что, как знать, может, в то самое лето, когда он терзался и мучился, придумывая способ заставить меня взять у него взаймы деньги из ста процентов годовых, он в то же время тешился надеждой найти какого-нибудь преданного подвижника, мечтающего о мученичестве просто во имя Человека, который застрелил бы старого Билла ночью через кухонное окно, но потом и это отбросил, не от надежды отказался, а решил оградить себя от тревог.
И он обрел не просто спокойствие, но и радость, потому что теперь, отказавшись навсегда от этого манящего призрака, от денег своего тестя, он мог вернуться к своей прежней надежде, к своей мечте о возмездии, о мести тому, кто был повинен во всем этом, из-за кого он должен оставить надежду на наследство, которое получит его жена. Да, он знал теперь, почему он так долго откладывал эту месть, как последний трус, боялся назвать имя старого Билла среди прочих имен. Потому что все это время он нюхом чуял, что только Билл может ему помочь, и если бы он избрал наконец Билла орудием своей мести, то раз и навсегда сам отрезал бы себе всякую возможность получить после него хоть что-нибудь в наследство.
Но теперь это было сделано, кончено, свершилось. Он был свободен. Теперь ему оставалось только одно – нажимать, принуждать, льстить, уговаривать, хитрить, смотря по тому, что проще, или быстрей, или действенней, чтобы с помощью акций старого Билла, и тех, кто слишком боялся старого Билла, чтобы ему перечить, да еще собственных его, Флема, акций и целой армии мелких арендаторов, которые шепотом проводили за него кампанию, отобрать банк у де Спейна, проголосовав против него.
Оставалось только решить, как, – как подступиться к этому, одним словом, как обойти Билла Уорнера. И, бесспорно, он уже и это решил, уже обдумал во всех подробностях этот план в то самое время, когда еще не решался назвать имя старого Билла. Потому что, как видно, приняв решение и заставив себя наконец собственной рукой отсечь, выжечь каленым железом давнюю и тщетную надежду на наследство жены, он больше не колебался. Эта девушка одна могла погубить его надежду на Уорнеровы деньги, и он до сих пор держал ее дома, где, по крайней мере, мог отсрочить хоть сколько-нибудь ее неизбежное замужество, которое погубило бы его, держал ее дома не только против собственного ее желания, но и против желания ее матери (не говоря уж о назойливом чудаке-соседе, который все время совался не в свое дело); держал ее дома, даже когда ему самому стало ясно, что она зря теряет время на пустом месте, в этом старомодном «Женском пансионе». Так продолжалось целый год и еще полгода, до рождественских каникул; а потом вдруг, без предупреждения, ни с того ни с сего, он отпускает ее, разрешает ей уехать из города и поступить в колледж; конечно, это всего в пятидесяти милях от Джефферсона, но все-таки целых пятьдесят миль, она уже не сможет приходить домой каждый вечер и, когда не будет спать, все время станет проводить среди тысячи молодых людей, а ведь все они мужчины, и притом холостые мужчины.
Почему? Это яснее ясного. Почему он делал все, что делал до сих пор? Потому что получал взамен что-то более ценное, чем отдавал. Так что это нетрудно себе представить: он сказал жене, когда они остались вдвоем (ну конечно, они иногда говорили друг с другом; они были женаты, а ведь нужно же иногда с кем-нибудь поговорить, даже когда ты не женат), или, вернее, их было четверо, потому что двое свидетелей ждали в его стандартной прихожей, пока она возьмет ручку: «Подпиши этот документ, который гарантирует мне половину наследства по завещанию твоего отца, независимо от того, будем ли мы в то время состоять в браке или нет, и я позволю Линде уехать из Джефферсона учиться». Ну, ладно, положим даже, что этот документ можно разорвать, аннулировать, отменить, опротестовать. Она-то этого не знала. Но даже если б она не сомневалась, что документ останется в силе, если б наследство уже было в тот миг у нее в руках, разве она отказалась бы отдать ему за это половину? К тому же вовсе не ее этот документ должен был взволновать и обеспокоить.
Вот оно – это самое «как». Оставалось только «когда»; зима еще не кончилась, Линда была уже в колледже, а он по-прежнему ходил по городу, все такой же спокойный и невозмутимый, в черной широкополой плантаторской шляпе и крошечном галстуке, показываясь на площади, по крайней мере, раз в день, точный, как городские часы, и так всю зиму и весну, до вчерашнего утра.
Вот именно. Он взял и поехал. Придется вам и это себе представить, потому что теперь уж в этой стандартной прихожей даже не было свидетелей: снова длинная, теперь уже по-летнему пыльная, мощенная камнем дорога (она была немощеной, когда он приехал по ней в первый раз восемнадцать лет назад), ведущая к лавке Уорнера. Теперь он ехал в автомобиле, потому что спешил, – наконец «как» и «когда» совпали. И ехал тайно; автомобиль был наемный. Я хочу сказать, не из нашего города, – хотя почти все влиятельные люди в Джефферсоне и в округе имели теперь автомобили, у Сноупса автомобиля не было. И не просто потому, что это дорого стоило, хотя не один он в округе Йокнапатофа считал глупостью, почти преступлением вложить столько долларов и центов в собственность, которая, даже если отдавать ее напрокат, не окупится, пока не придет в негодность – а потому, что он не только не был влиятельным человеком в Джефферсоне, но даже не мечтал еще об этом: он стал бы защищать, как свою жизнь, тайну, сколько денег он может заплатить.
Но теперь он так спешил, что вынужден был нанять автомобиль, и так хотел сохранить дело в тайне, что все равно нанял бы автомобиль, потратил бы деньги, даже если бы у него был свой; в такой тайне, что он не рискнул даже поехать с почтовым автобусом, что обошлось бы ему всего в один доллар; в такой тайне, что он не мог даже потребовать у кого-нибудь из своих клиентов машину, которая, в сущности, принадлежала ему, так как была куплена на его деньги, взятые под один из бесчисленных векселей. Вместо этого он нанял автомобиль, какой и где, мы не знали, а только номер у него был не йокнапатофский, и поехал на нем туда, на Уорнеров перекресток, снова, в последний раз, оставляя за собой редеющее облако желтой пыли над дорогой, по которой он восемнадцать лет назад проехал в запряженном мулами фургоне, где было все его достояние: жена и незаконная дочь, кое-какая мебель, которую дала им миссис Уорнер, подписанная Рэтлифом купчая на половину ресторанчика в Джефферсоне, и несколько долларов – остаток тех денег, которые Генри Армстид (теперь навек запертый в джексонском сумасшедшем доме) и его жена копили и прятали десять лет, – Рэтлиф и Армстид заплатили ему этим за усадьбу Старого Француза, где он зарыл двадцать пять серебряных долларов, чтобы они нашли их, копаясь в саду.
Он ехал туда в последний раз, завершая круг, в котором замкнулись все эти восемнадцать лет его жизни, потому что Французова Балка, и Уорнеров перекресток, и лавка – единственное, быть может, то самое единственное место, куда он никогда в жизни больше не вернется, потому что, выиграв или проиграв, он этого не сделает, не посмеет. И кто знает, может, он уже тогда думал, – как жаль, что он должен будет пойти в лавку к старому Биллу, а не в дом Уорнеров, где в этот утренний час нет никого, кроме миссис Уорнер и негра-повара, – пойти в лавку и сломить, одолеть, подсунув ему клочок подписанной при свидетелях бумаги и просто неподвижно стоя на месте, самого старого пирата. Потому что женщин не интересуют ни фантазии, ни мораль, ни грех, ни воздаяние, а только факты, непреложные факты, необходимые, чтобы жить, пока ты жив, и они хотят, черт побери, видеть их своими глазами, и нечего обманывать, дурачить, идти на попятный, притворяться и приукрашивать. Как просто было бы пойти прямо к ней, к этой женщине (большой, суровой, холодной, седой женщине, которая теперь совсем не бывала в городе и все свое время проводила дома или в церкви, где распоряжалась совсем как дома: сама себя назначила казначеем и распределяла пожертвования, которые выколачивала из запуганных прихожан, сама находила, выбирала и нанимала священников, сама выгоняла их, если они ей не нравились; говорили, что одного из них она взяла прямо с хлопкового поля, проезжая мимо в пролетке, выволокла его из-за плуга, велела ему пойти домой, вымыться и переодеться и через полчаса ехать с ней, а потом произвела в священники).
Чего уж проще – подъехать к воротам и сказать наемному шоферу: «Подождите здесь. Я сейчас», – и пройти по дорожке, и войти в свою родовую усадьбу (ну ладно, пускай не свою, а своей жены; он и шел для того, чтобы взорвать собственное имущество), и идти дальше, через весь дом, пока не найдет где-нибудь миссис Уорнер, и сказать ей: «Доброе утро, мамаша. Я только вчера вечером узнал, что Юла вот уже восемнадцать лет спит с одним малым в Джефферсоне по имени Манфред де Спейн. Перед тем как ехать сюда, я собрал вещи и перевез их на другую квартиру, но начать дело о разводе не успел, потому что судья еще спал, когда я проезжал мимо его дома. Об этом я позабочусь, когда вернусь сегодня вечером», – а потом повернуться и пойти назад к автомобилю и сказать шоферу: «Ну, вот и все, приятель. Поехали обратно в город», – а миссис Уорнер пускай сама кончает дело, сама входит в это логово, где старый Билл сидит, словно среди обглоданных костей, среди крючьев, вожжей, плужных рукояток, кусков тухлого мяса, муки, дешевых лакомств, сыра, нюхательного и жевательного табака, засиженных мухами конфет, залоговых обязательств и закладных на будущий урожай, на плуги, на мулов и лошадей – среди своего богатства. Возле лавки, конечно, околачиваются бездельники, но их немного, потому что сейчас пора сева, и даже они должны быть в поле, и они сразу это поймут, когда увидят ее и начнут расходиться виновато и испуганно, но не слишком поспешно.
– Убирайтесь отсюда, – скажет она, хотя они уже и без того будут уносить ноги. – Мне надо поговорить с Биллом. Или нет, обождите. Пускай один из вас сходит на лесопилку и скажет Джоди, что мне нужен его автомобиль, да поживее. – И они скажут: «Да, мэм, миссис Уорнер», – но она этого и не услышит, она уже будет стоять перед старым Биллом, сидящим на стуле, обитом сыромятной кожей. – Вставай. Флем наконец поймал Юлу или говорит, что поймал. Он еще не начал дело о разводе, так что ты можешь поспеть, покуда вся округа об этом не заговорила. Не знаю, чего он хочет, но все равно поезжай и прекрати это. Я этого не потерплю. Довольно у нас было с Юлой неприятностей двадцать лет назад. Я не потерплю, чтоб она вернулась ко мне в дом и нас осрамила.
Но Флем не мог это сделать. Это было совсем не так просто. Потому что мужчин, и особенно таких, каков старый Билл Уорнер, тоже интересуют факты, и старого Билла, конечно, особенно интересуют факты, вроде того, который был у него, Флема, подписанный при свидетелях и сложенный в кармане пиджака. Так что он должен был сам войти в это логово, сам протянуть руку, и дернуть ничего не подозревающего зверя за гриву, и молча стоять, пока этот зверь будет яриться и рычать, а когда немного поутихнет, станет слышен его голос: «Вот ее подпись. Если вы ее не знаете, то знают эти два свидетеля. Вам остается только одно – помочь мне отобрать банк у Манфреда де Спейна, перевести ваши акции на мое имя, а я, если хотите, дам вам чек, подписанный задним числом, и, как только Манфред де Спейн будет изгнан, вы получите свои акции обратно или же голосуйте сами, ежели вам так больше нравится, а эту бумажку можете взять. Я готов даже подержать спичку, покуда вы будете ее жечь».
И все. И вот Рэтлиф снова у меня (да, да, Джефферсон мог обойтись без Рэтлифа, но не я, не мы, не все мы: ни я, ни все проклятое племя Сноупсов не могло без него обойтись), чистый, аккуратный, в своей синей рубашке без галстука, и тихо моргает, глядя на меня.
– Дядя Билли сегодня часа в четыре приехал в город на машине Джоди и пошел прямо к Флему на квартиру. А Флема сегодня в городе не было. Как вы думаете, что теперь начнется? – Он снова поморгал, глядя на меня. – Как вы думаете, что это было?
– Вы о чем?
– О том, что он возил вчера миссис Уорнер, – видно, что-то важное, иначе зачем дядя Билли приехал бы сегодня в город в четыре утра.
– Миссис Уорнер? – сказал я. – Но он же отдал это Биллу.
– Нет, нет, – сказал Рэтлиф. – Билла он и в глаза не видел. Я знаю. Сам возил его туда. Нужно было миссис Ледбеттер в Рокифорд швейную машину доставить, а он предложил мне поехать через Французову Балку и обождать минутку, покуда он переговорит с миссис Уорнер, ну, мы и поехали, он пробыл в доме с минуту, вышел, и мы поехали дальше, отдали швейную машину, пообедали у миссис Ледбеттер и вернулись в город. – Он снова поморгал. – Всего минута. Как вы думаете, что он такое сказал или дал миссис Уорнер за эту минуту, если дядюшка Билли помчался в Джефферсон в первом часу ночи?
18. В.К.РЭТЛИФ
Нет, нет, нет, нет. Он ошибался. Он же юрист, а юристу, если дело не достаточно сложное, ему и думать не интересно, а если даже что выйдет у других, он все равно не поверит. Так что не в ней была суть, – не в фальшивой бумажке, подписанной сгоряча, сколько бы свидетелей там ее ни подмахнуло – просто всякий юрист, даже и в половину не такой умный, как наш юрист Стивенс, сам приплатил бы клиенту за удовольствие вывести все это на чистую воду.
Тут было что-то не то. Не знаю, что именно, а только в тот вечер Сноупс подошел ко мне на площади и сказал:
– Говорят, нынче утром прибыла швейная машина для миссис Ледбеттер. Я бы съездил с вами туда и обратно, когда вы повезете ее, ежели только вы согласны заехать на минутку на Французову Балку.
Факт. Даже удивиться не успеешь, откуда он все узнает, потому что пока соберешься наконец удивиться, откуда он об этом узнал, глядишь, уже поздно, – он уже успел этим воспользоваться. Так вот, я ему говорю:
– Что ж, когда едешь в Рокифорд, отчего не заехать на Французову Балку. Но в таком случае, ежели едешь в Мемфис, отчего не поехать через Бирмингам. Нужды в этом нет, но поехать можно. – Сами понимаете, сказал я это, чтобы послушать, как он станет торговаться. Но он меня перехитрил.
– Ваша правда, – говорит. – Это крюк в добрых шесть миль. Ну ладно, по доллару за милю довольно?
– Даже слишком, – говорю. – Ежели мы захотим проездить сколько полагается за эти три лишних доллара, то не вернемся в город до самого четверга. Так что мы вот как сделаем. Купите две сигары, и если вы только одну выкурите сами, я завезу вас на Французову Балку на одну минуту бесплатно, просто за компанию.
– Я вам обе отдам, – говорит. И впрямь, отдал. Да, конечно, он отнял у меня половину того ресторанчика, которым мы владели с Гровером Уинбушем, но как знать, кто на этом потерял? Если б он его не отнял, Гровер, глядишь, открыл бы в нем заведение, где показывают эти французские открытки, и я бы сейчас был там, где Гровер Уинбуш; служил бы ночным сторожем на кирпичном складе.
Ну я и повез его на Французову Балку. А по дороге мы с ним беседовали, если только можно назвать беседой монолог, который произносишь, когда говоришь с Флемом Сноупсом. Но остановиться не можешь. Все надеешься что-то выведать. Сами знаете, молчание потому золото, что оно редкость, люди так редко молчат. И всякий раз думаешь: «Ну, теперь-то добрался до настоящего специалиста по этой части». Конечно, ничего ты не узнаешь, ни теперь, ни в другой раз, на то он и спец. Но надежда всегда есть. Так вот, ехали мы с ним и разговаривали о том о сем, больше, конечно, о том, чем о сем, и как проедем мили три-четыре, он всякий раз перестает жевать, сплевывает через окошко и говорит «ага», или «так», или «вроде того», а потом, когда оставалось перевалить через холм, а за ним уже Уорнеров перекресток, он говорит: – Не к лавке. К дому. – А я говорю:
– Как? Да ведь дядюшки Билла дома сейчас нет. Он по утрам всегда в лавке.
– Знаю, – говорит. – Езжайте вон туда. – Ну, мы туда и поехали; лавки мы и издали-то не видели, не то чтоб мимо проехать, а подъехали к дому, к воротам.
– Вы сказали, – на минутку, – говорю. – А если я тут дольше простою, с вас еще две сигары.
– Ладно, – говорит. Вылез и пошел по дорожке в дом, а я выключил мотор и сижу, думаю: «Как же это? Как? Значит, он к миссис Уорнер. Не к дядюшке Билли, а к миссис Уорнер». Ведь дядюшка Билли ненавидит Флема только за то, что он прямо и откровенно, как признал сам дядюшка Билли, его облапошил, отнял у него усадьбу Старого Француза, а уж миссис Уорнер ненавидит его так, будто он принадлежит к «святым вертунам» или даже к баптистам, потому что он не только покрыл грех, женившись на ее дочери, после того как другой ее наколол, он даже нажился на этом грехе, пошел с этого дела в гору, стал вице-президентом банка. И все же он приехал из Джефферсона именно к миссис Уорнер и готов был заплатить мне за это лишних три доллара. (Я хочу сказать – он мне их сам предложил. Теперь-то я знаю, что мог запросить с него все десять.)
Нет, я не думал: «Как?» Я думал: «Кто?» – кто должен знать об этом, вернее, пытался думать в то короткое время, что у меня было, потому что он сам обещал справиться за одну минуту, а раз так, – значит, он за одну минуту и успеет, – кто же это в конце концов. Конечно, не я, потому что Рэтлифа ему уже не за что было ухватить; и не Юрист Стивенс с Линдой и Юлой, которые заварили эту кашу с отъездом в колледж, – это был, можно сказать, последний сноупсовский скандал на всю округу, потому что теперь и это было кончено, – во всяком случае, Линда была в колледже в Оксфорде, хоть и не в одном из тех колледжей в Виргинии или Новой Англии, о которых так мечтал Юрист. Манфреда де Спейна я не считал, потому что не был на его стороне. Я не был и против него; как говорил Юрист Стивенс: человек, на чьей стороне так много, как у Манфреда де Спейна, или, по крайней мере, так много, как думали в Джефферсоне все, кому до этого никакого дела не было, большего и желать не может и, уж конечно, большего не заслуживает.
Только ни до чего я додуматься не успел. Прошло чуть побольше одной минуты, но поменьше двух, когда он вышел из дому в своей черной шляпе и в галстуке бабочкой, и все жевал, и вряд ли он перестал жевать или снял шляпу, когда был в доме, подошел к машине, сплюнул и сел, а я завел мотор и говорю:
– Прошло чуть поменьше двух минут, поэтому, так уж и быть, с вас еще только одна сигара, – а он говорит:
– Ладно, – а я включил первую передачу, сижу, выжав сцепление, и говорю:
– Ежели ее дома нет, вам, наверно, надо проехать мимо лавки и сказать дяде Биллу, что вы оставили ей записку на вешалке для шляп?
А он пожевал еще секунду-другую, скатал во рту жвачку шариком, нагнулся к окошку, сплюнул еще раз и уселся опять, и мы поехали дальше, в Рокифорд, а там я отдал швейную машину миссис Ледбеттер, и она пригласила нас к обеду, и мы поели и поехали домой, а сегодня в четыре утра дядя Билли подкатил к дому Флема в автомобиле Джоди с шофером-негром за рулем, и я знаю, почему именно в четыре часа, – это все миссис Уорнер.
Я знаю, дядя Билли сразу после ужина ложится спать, в эту пору года еще засветло, а просыпается в час или два ночи. Конечно, он давно приучил повариху вставать и готовить ему завтрак, но дядюшке Билли мало, чтоб одна негритянка гремела на кухне кастрюлями, все в доме должны не только проснуться, но и встать, потому что он громко топает ногами, хлопает дверьми и орет, чтоб ему подали то или это, покуда миссис Уорнер тоже не встанет и не оденется. Тогда дядюшка Билли завтракает, садится в кресло выкурить трубку, а потом снова ложится и спит до самого утра. А вот миссис Уорнер больше не может заснуть, он уж совсем разбудил ее.
Ну, она и воспользовалась случаем. Не знаю, что там Флем ей сказал или дал такое важное, из-за чего дядюшка Билли помчался в город в два часа ночи. Но для миссис Уорнер было важнее тихо и мирно поспать, как все порядочные люди. Так что она ему ничего не сказала и не показала, пока он не проснулся, как обычно, в два часа ночи; и ежели Флем просто дал ей что-то такое, что и объяснений не требовало, то ей, пожалуй, и вставать было незачем, достаточно было просто положить это возле лампы, а дядюшка Билли зажег спичку, засветил лампу, увидел это и перебудил весь дом и всех соседей.
Не знаю, что это было такое. Только это был не просто какой-нибудь дурацкий клочок бумаги, рассчитанный на то, чтобы напугать дядюшку Билли и заставить его сделать что-то, чего он до сих пор делать не собирался. Потому что дядюшка Билли не из пугливых, и Флем Сноупс это знает. Тут дело было в людях, а единственные люди в Джефферсоне, которые могли бы заставить дядю Билли сделать что-то, чего он и не думал делать, это Юла и Линда. А вовсе не Флем; дядюшка Билли вот уже двадцать лет твердо решил, как именно он поступит с Флемом, пусть только у Флема рука дрогнет, или глаз ему изменит, или он зазевается.
Да и зачем он сам пошел бы за этим к дядюшке Билли. Ведь если б дело касалось банка, так Флем заранее знал, что, стоит ему только показать это или сказать миссис Уорнер, дядя Билли тут же ринется с Французовой Балки в Джефферсон, но тогда это раньше или позже заденет Юлу. И хоть дядюшка Билли Уорнер не из пугливых, и Флем Сноупс это знает, но Флем Сноупс тоже не из пугливых, и это тоже всякий знает. Даже храбрый человек и тот побоится войти в эту лавку, подойти к старому Биллу Уорнеру и сказать ему, что его дочь все такая же, что она вот уже восемнадцать лет спит с человеком, с которым не состоит в браке, и у ее мужа не хватает духу решить, что с ней делать.
19. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН
Все это было похоже на приезд цирка или на окружную ярмарку. Или нет: это было похоже на сбор охотников всех ближних округов или даже целого штата, потому что нас с уроков отпустили. Только это оказалось посерьезнее, чем просто ярмарка или охота, потому что дело кончилось смертью, хотя тогда мы, конечно, этого не знали.
Началось все с того, что нас отпустили с уроков, хотя мы вовсе этого не ожидали. Словно бы время, обстоятельства, пространство таили в себе нечто такое, что непременно должно или, во всяком случае, может случиться, и теперь час пробил, и случиться это должно в Джефферсоне, штат Миссисипи, и сцена готова, и декорации поставлены.
С уроков нас отпустили во вторник утром. На той неделе в Джефферсон приехала семья дорожного инженера, и их сынишка поступил во второй класс. Он, наверно, был уже болен, когда мать его привела, потому что ему пришлось в тот же день уйти домой; послали за матерью, и она пришла и взяла его, а ночью его увезли в Мемфис. Это было в среду, но только в понедельник днем им сообщили, что у него полиомиелит и нужно закрыть школу, а потом они решат, что делать или чего не делать дальше, – словом, всякое такое, пока они там разбираются про полиомиелит, про этого мальчика, – словом, про всякое такое. Как бы там ни было, а нас неожиданно распустили по домам в апреле, когда мы об этом и не помышляли; проснешься апрельским утром и подумаешь, что в апреле лучше всего не ходить в школу, лучше не бывает, а потом подумаешь: «Кроме осени», – когда на дворе свежо, но не холодно, и деревья все в желтом и красном, и можно целыми днями охотиться; а потом подумаешь: «И кроме зимы», – когда рождественские каникулы пройдут и уже нечего ждать до самого лета; и подумаешь, что всякое время года хорошо, лишь бы в школу не ходить, так что школа в конце концов хорошая вещь, потому что без нее не было бы каникул.
Во всяком случае, нас распустили, неизвестно, надолго ли; и это тоже было хорошо, потому что не нужно было говорить: «Всего два дня осталось» – или: «Один день остался», – нужно было просто-напросто радоваться каникулам, дышать ими, и сегодня, и завтра, и – как знать? – может, даже и послезавтра, и – как знать? – может, даже и послепослезавтра. Так что в четверг, когда даже дети, которые должны бы быть в школе, если бы не сын дорожного инженера, начали понимать, что в кабинете президента банка что-то такое происходит, творится – не старого Джефферсонского банка, а другого, того, который все еще называли «новым банком», или «банком полковника Сарториса», хотя полковник уже семь лет как умер, и мистер де Спейн был президентом банка, и мы ожидали чего-то такого, потому что и ради этого тоже время, или обстоятельства, или не знаю уж что, расчистили сцену и освободили школу, чтоб это могло случиться.
Нет, сказать, что сцена ограничивалась только одним банком, что время, обстоятельства, пространство или не знаю уж что, освободили школу в середине апреля, чтобы все произошло именно в этих четырех стенах, было бы неверно. Сценой был весь Джефферсон. Все стены Джефферсона, вся земля, на которой они стояли, воздух вокруг них; все стены и весь воздух в Джефферсоне, в котором люди двигались, дышали и разговаривали. Мы уже обедали, не было только дяди Гэвина, хотя обычно он к столу не опаздывал, если не уезжал из города по служебным делам, и, когда он вошел, мы сразу почувствовали неладное. Я не всегда видел, когда с ним бывало неладно, и не потому, что мне было всего двенадцать лет, а потому, что на дядю Гэвина вовсе глядеть не надо было, потому что это всегда можно было узнать по маме, так как они с ним близнецы; и когда я у мамы спрашивал: «Что с тобой», – и я, и она, и все остальные знали, что я спрашивал: «Что с дядей Гэвином?»
К тому же мы могли быть уверены, что папа обо всем дознается. Дядя Гэвин наконец вошел, сел, развернул салфетку и сказал что-то невпопад, а папа поглядел на него и снова стал есть, а потом снова поглядел на дядю Гэвина.
– Ну, – сказал он. – Говорят, старого Билла Уорнера сегодня подняли с постели в два часа ночи и заставили приехать в город, чтобы продвинуть Манфреда де Спейна. Куда же это он должен его продвинуть?
– Что? – сказал дядя Гэвин.
– Куда продвигают человека, который уже президент банка? – сказал папа.
– Чарли, – сказала мама.
– Может, я не так выразился, – сказал папа. – Мне бы надо такое слово, которое означает, что человека сдвигают с кровати…
– Чарли! – сказала мама.
– …где ему и без того места не было, да еще Флему пришлось поехать на Французову Балку за тестем, чтобы он сказал то самое слово…
– Чарльз! – сказала мама. Вот как все получилось. Словно у нас в Джефферсоне целых восемнадцать лет было что-то хорошее или плохое, теперь уж не важно, потому что это уже теперь наше, мы прожили с этим столько времени, что даже шрама не осталось, как будто это гвоздь, вбитый в дерево три года назад, который вонзился, надругался над деревом, причинил ему боль. Только у дерева не было другого выбора: либо принципиально возмутиться и пренебречь надругательством, пожертвовать живыми соками грядущей весны, либо смиренно принять и жизнь и надругательство, а гвоздь со временем исчезнет. То есть он, конечно, останется, но уже не будет так бросаться в глаза, зарастет корой; правда, будет нарост, шишка, но со временем другие деревья простят ему это и весь мир примет это дерево и этот нарост тоже, а потом, в один прекрасный день, пила или топор вонзится в него и попадет на этот старый гвоздь.
Мне тогда было двенадцать лет. Я во второй раз попал на ту же точку спирали, по которой, подрастая, проходят все дети – во всяком случае, мальчики, – когда они ненадолго приобщаются к той же обстановке, в какой живут взрослые, и начинают понимать, что, может быть, разумные и безобидные вещи, которые им запрещают делать, кажутся взрослым такой же глупостью, как ему кажется все, что они, по-видимому, хотят или должны делать. Или нет: они над тобой смеются, а ты вдруг говоришь: «Что ж, может, я и вправду смешной», – и тогда их поведение уже вовсе не кажется возмутительным, или глупым, или безобразным, а кажется просто смешным; и главное, таким же смешным, как ты сам. И теперь я мог задавать вопросы. Пройдет несколько лет, и я буду знать больше, чем тогда. Но спираль, петля снова закрутится и уйдет в пространство, и уже нельзя будет задавать взрослым вопросы, нельзя будет ни с кем говорить, даже со своими сверстниками, потому что и они унесутся в пространство, где и дотронуться ни до кого нельзя и пытаться не смеешь, – ты слишком занят тем, что просто существуешь и знаешь, что все остальные точно так же боятся спрашивать, как и ты, и спросить некого, и сделать ничего нельзя, остается только шуметь как можно громче, и тогда другие, которым страшно, по крайней мере, не будут знать, как страшно тебе.
Но теперь, в это короткое время, я мог спрашивать. И я спросил у мамы.
– Почему ты не спросишь у дяди Гэвина? – сказала она.
Она хотела мне сказать. Может быть, она даже пыталась это сделать. Но не могла. И не потому, что мне было только двенадцать лет. А потому, что я был ее сын, ее и папин, потому что они хотели вместе спать, и ничто другое, никто другой не мог им этого заменить. Понимаете? Будь миссис Сноупс и мистер де Спейн не людьми, а еще чем-нибудь, она могла бы мне сказать. Но они были людьми, совсем как она и папа; и она не могла не потому, что ребенок не должен знать, что то же таинство, которое его породило, заставило старика, вроде мистера Билла Уорнера, примчаться в город в четыре часа утра только для того, чтобы отобрать такую жалкую и никчемную штуку, как банк, полный денег, у человека по имени Манфред де Спейн, а потому, что ребенок не может этому поверить. В представлении ребенка он рожден не страстью своих родителей или их способностью испытывать страсть. Это для него невозможно, потому что он уже был раньше, появился раньше, до этой страсти; это он родил страсть, и не только ее, но и мужчину и женщину, которые ей служили; его отец – это не отец ему, а зять, его мать – не мать ему, а невестка, если этот ребенок – девочка.
Так что она не могла мне это объяснить просто потому, что не могла. И дядя Гэвин не мог, потому что был на это не способен, он не мог бы остановиться вовремя. То есть так я тогда думал. Или нет, я хочу сказать, я тогда считал это причиной, отчего они, – вернее, отчего мама не сказала мне: причиной была моя невинность, а не дяди Гэвина, а она должна была охранять нас обоих, потому что хоть она и была моей матерью, но они с дядей Гэвином были близнецы, и если мальчик или девочка действительно тесть или теща своего отца и своей матери, тогда девочка мать своего брата, пусть даже она намного младше его, и тогда девочка, у которой только один брат, да еще близнец, может заменять ему и жену и мать.
Так что, может, в этом все дело: не в том, что я еще не был достаточно взрослым, чтоб разобраться в биологии, но каждого человека следует, нужно и должно защитить и оборонить от свидетелей его страсти, если только она не воплощена в самых общих, абстрактных и безличных литературных и сценических образах, олицетворяющих страсть в бескровных и беспечальных выражениях торжества или муки; и ни один человек не достоин любви, поскольку природа не наделила нас способностью выносить ее, и нам суждено ее просто терпеть, переживать, а поэтому никто не должен видеть любовь дяди Гэвина, мама обязана, как только может, заслонить его, пока эта любовь терзает его беззащитную плоть.
Но даже если б они и попытались сказать мне, все равно только через несколько лет, не из-за невинности, а по неведению, я бы узнал, понял, на что же я смотрел в этот четверг вечером, пока весь Джефферсон ждал, когда пила коснется этого скрытого гвоздя. Или нет: не скрытого, не заросшего, не заплавленного в дерево, а просто засевшего в нем, как киста, чужеродного и болезненного; не зарубцевавшегося, а лишь покрытого струпом, который образуется снова и снова, но не заживает и всем мозолит глаза.
Потому что город наш построили чистокровные баптисты и методисты для чистокровных баптистов и методистов. Правда, был здесь один китаец-прачка и два брата-еврея со своими семьями, которые держали два магазина готового платья. Но один из них выучился в России на раввина и говорил на семи языках, в том числе по-латыни и по-гречески, решал на досуге геометрические задачи, и ему было дано, даровано то же отпущение грехов, что и старому доктору Уайотту, почетному президенту Академии (основанной его дедом), который мог читать не только по-гречески и по-древнееврейски, но и по-санскритски, имел два иностранных ордена за то, что (как мы, Джефферсон, думали) по меньшей мере шестьдесят из своих восьмидесяти лет был непросто откровенным, но воинствующим атеистом, чем даже бравировал, и который обыграл в шахматы самого мистера Уилдермарка-старшего; а другой еврей с семьей и китаец были прихожанами методистской церкви, которую исправно посещали, так что они в счет не шли, они были в наших глазах, правда, не белыми, но и не по-настоящему цветными. И хотя китаец был явно цветной, хоть и не негр, – это был всего лишь одинокий, ни на кого не похожий, человек не только бессемейный, но и без роду-племени, и поскольку полмира или, во всяком случае, пол американского континента (все мы знали о китайском городке в Сан-Франциско) отгораживали его от ему подобных, – он был такой же безобидный, как мул.
В Джефферсоне есть маленькая епископальная церковь, самое старое из уцелевших в городе зданий (оно было построено невольниками, и говорили, что это самое лучшее и даже самое прекрасное из зданий, – я хочу сказать, так говорили туристы с севера, которые теперь проезжали через Джефферсон с фотоаппаратами, ожидая – мы не знали почему, так как сами же они подожгли и взорвали город динамитом в 1863 году, – что Джефферсон гораздо древнее или, во всяком случае, древнее с виду, чем он есть, и даже винили нас за то, что это не так), есть и пресвитерианская община – обе эти старейшие общины в округе восходят ко временам Иссеттибеа, вождя племени чикасо, и его племянника Иккемотуббе, по прозвищу «Судьба», и возникли еще до того, как округ стал округом, а Джефферсон – Джефферсоном. Но теперь уже нет особенной разницы между епископальной и пресвитерианской церквями и старыми курганами Иссеттибеа в долинах высохших ручьев, потому что баптисты и методисты, которые им наследовали, узурпировали и отобрали все это, и наш город был основан не католиками, не протестантами и даже не атеистами, а закоренелыми сектантами, сектантами не по отношению ко всем чужим, а друг к другу, по взаимному согласию; и это сектантство отстаивали и хранили потомки, чьи предки покинули родину и пустились в опасный путь, в пустыню, не для того чтобы обрести там свободу мысли, как они утверждали и, конечно, верили, а чтобы обрести свободу быть закоренелыми и неисправимыми баптистами и методистами, не для того, чтобы убежать от тирании, как они утверждали и верили, а чтобы установить ее.
И вот теперь, через восемнадцать лет, пила возмездия, которую мы, конечно, именовали пилой добродетели и справедливости, чуть не коснулась этого тайного, скрытого, незаросшего гвоздя, засевшего в моральном древе нашего общества, – этот гвоздь разъедал рану неизлеченную и неизлечимую, потому что это был не просто грех, но грех смертный, – он и вообще-то не должен бы существовать, самое это понятие должно было бы себя уничтожить, и все же люди совершают этот грех постоянно и почти повсеместно с полной безнаказанностью; и у всех на глазах эти двое восемнадцать лет не только попирали добродетель и нравственность, но даже принуждали добродетель и нравственность покрывать их просто потому, что не оставляли следов: по-настоящему их никто еще не поймал; они оскорбляли нравственность, заручившись поддержкой экономики, потому что их разоблачение угрожало репутации и платежеспособности банка.
Весь город разделился на два лагеря, из которых каждый, в свою очередь, разделился, так сказать, на сотню самостоятельных, обособленных бивуаков: женщины, которые ненавидели миссис Сноупс за то, что она первая завладела мистером де Спейном, или же мистера де Спейна за то, что он предпочел им миссис Сноупс, и мужчины, которые ревновали, потому что хотели бы быть на его месте, или ненавидели его за то, что он моложе или храбрее (они, конечно, говорили – счастливее); и люди обоего пола – или нет: некоего тошнотворного среднего пола, – которые ненавидели их обоих за то, что они придумали или сделали вместе что-то такое, чего они сами по какой-то причине не могли сделать; и потому это великолепие не только не должно было существовать впредь – оно и раньше не должно было существовать – женщины этого пола ненавидели его, потому что оно обязательно, непременно должно быть бесплодным, а мужчины этого пола – потому, что поставили холодную надежность звонкой монеты выше дикого разгула крови; эти люди, которые не только покрывали грех, но и сами горько терзались, оберегая грешников ради банка де Спейна. Два лагеря: одни говорили, что теперь этот грех нужно разоблачить, слишком уж долго он тянется – целых восемнадцать лет; другие говорили, что рискованно разоблачить его сейчас и обнаружить собственную нашу низость, поскольку мы все это время покрывали его.
А ведь пила вовсе не искала этот гвоздь. Для Джефферсона она его уже коснулась; мы теперь просто ждали, в какую сторону куски этого самого дерева в нашем лесу (а не самой пилы, ни в коем случае не самой пилы: если бы, прикоснувшись к гвоздю, это добродетельное и несокрушимое моральное орудие разлетелось на куски, нам оставалось бы только махнуть на все рукой, убедившись, что весь строй нашей жизни, основанный на баптистских принципах, это обман, ничто) полетят и посыплются.
Так было весь этот день, пока старый мистер Уорнер скрывался или, во всяком случае, пребывал в доме мистера Сноупса. Мы даже не знали толком, действительно ли он в городе, никто его не видел; мы только знали от Рэтлифа, что он приехал на автомобиле своего сына в четыре часа утра, но этого нельзя было сказать наверняка, разве что Рэтлиф сторожил всю ночь парадную дверь Сноупса. Но мистер Уорнер был там, должен был там быть, иначе какой во всем этом смысл. И банк мистера Спейна работал, как всегда, спокойно, по-деловому, окруженный золотым ореолом, до трех часов, когда пришла пора его закрывать, и почти сразу же рассыльный из аптеки Кристиана постучался в боковую дверь, держа в руке неизменный поднос с четырьмя стаканчиками кока-колы для двух девушек-бухгалтеров, счетовода мисс Киллбрю и кассира мистера Хависа. И сразу же, как обычно, вышел мистер де Спейн и, как обычно, сел в свою машину и поехал на одну из ферм, которыми он теперь владел или на которые банк держал закладные, поехал, как всегда: ни спешки, ни паники, ничто не нарушило обычный финансовый день. А потом, в тот же день, не то до полудня, не то после, кто-то сказал, что видел и самого мистера Сноупса, такого же, как всегда, неторопливого и спокойного, в черной плантаторской шляпе, все еще казавшейся новехонькой (крошечный галстук бабочкой, который он носил вот уже восемнадцать лет, всегда казался таким), он шел по своим таинственным, неведомым делам.
И вот уже пять часов, а ничего еще не случилось; скоро люди начнут расходиться по домам ужинать, и тогда будет слишком поздно, и я хотел бы пойти в кабинет подождать дядю Гэвина, чтобы вместе с ним идти домой, только мне пришлось бы взбираться вверх по лестнице, а потом снова спускаться вниз, и я думал, как эти слова – весенняя лихорадка – оправдывают человека, когда ему лень что-нибудь сделать, а потом я подумал, что, может, весенняя лихорадка вовсе не оправдание, потому что, может, это и впрямь весенняя лихорадка.
Так что я просто остановился на углу, где он должен был пройти, и стал его дожидаться. И вдруг я увидел миссис Сноупс. Она только что вышла из косметического кабинета, это по ней сразу было видно, и мне вспомнилось, как мама однажды сказала, что она единственная женщина в Джефферсоне, которая никогда туда не ходит, потому что ей это ни к чему, потому что в косметическом кабинете нет ничего такого, чего нет у нее самой. Но на этот раз она вышла именно оттуда, постояла с минуту и посмотрела в обе стороны, а потом повернулась и пошла ко мне, увидела меня, подошла и говорит: «Здравствуй, Чик», – а я приподнял кепку, а она подошла еще ближе и остановилась, и тогда я совсем снял кепку; на руке у нее висела сумочка, как у благородной дамы, и она уже открывала ее и что-то доставала оттуда.
– Я искала тебя, – сказала она. – Отдай вот это своему дяде, когда придешь домой.
– Хорошо, мэм, – сказал я. Это был конверт.
– Спасибо, – сказала она. – А что, о мальчике Ридделла больше ничего не известно?
– Не знаю, мэм, – сказал я. Конверт был незапечатанный. И не надписанный.
– Будем надеяться, что его отвезли в Мемфис вовремя, – сказала она. А потом сказала: – Еще раз спасибо. – И пошла дальше, как она всегда ходит, не так, словно пойнтер, который сейчас сделает стойку, как Линда, а словно вода течет. Она могла бы позвонить ему из дому, и я уже рот раскрыл, чтобы сказать: «А маме, конечно, показывать не надо?» – но вовремя остановился. Ведь письмо не было запечатано. А потом я уже не спросил этого. Да и зачем было спрашивать. Мамы еще и дома не было, и к тому же я вспомнил: сегодня среда, она будет у Сарторисов на собрании Байроновского кружка, хотя мама говорила, что там уже давно никто ничего не читает и не слушает, потому что теперь они играют в бридж, но зато, сказала она, когда на этих собраниях бывает мисс Дженни Дю Прэ, они пьют пунши или коктейли вместо простого кофе или кока-колы.
Так что ничего не случилось, а теперь было уже слишком поздно, солнце закатывалось, а грушевое дерево во дворе отцвело уже месяц назад, и пересмешник перелетел на кизиловый куст, на котором вот уже целую неделю пел по ночам, и теперь уже завел свою песню, – просто удивительно, отчего бы ему не полететь еще куда-нибудь и не дать людям спокойно спать. А дома никого, кроме Алека Сэндера, который сидел на крыльце с мячом и битой. – Иди сюда, – сказал он. – Я подам тебе мяч разок-другой. – Потом он сказал: – Ну, ладно, ты мне подашь, а я буду отбивать.
В доме было почти темно; я почувствовал запах ужина, значит, было уже поздно, – наверно, все кончилось: мистер де Спейн уехал на своем новом бьюике посмотреть, сколько денег приносит ему хлопок, а миссис Сноупс вышла из косметического кабинета, где сделала себе завивку или еще что-то, – может, приготовилась к вечеринке, которая будет у нее дома сегодня, так что, может, ничего еще и не начиналось; может, старого мистера Уорнера и в городе-то нет, он не только не приехал, но и не собирался приезжать, а выходит, сын Ридделла, заболев полиомиелитом, просто-напросто устроил нам каникулы неизвестно зачем, вот и все; но тут я услышал, как дядя Гэвин вошел и стал подниматься по лестнице, и я встретил его на верхней площадке с письмом в руке; сначала я видел только его силуэт, он поднялся по лестнице и прошел по коридору, а потом, хотя было темно, я вдруг увидел его лицо и вдруг сказал:
– Ты не будешь ужинать!
– Нет, – ответил он. – Скажи маме.
– Вот, – сказал я и протянул ему письмо, и он его взял.
20. ГЭВИН СТИВЕНС
Но поесть было нужно. И, после того как я зашел в свой кабинет, отпер дверь и оставил ее просто на защелке, я поехал в лавочку к старику Гарроуэю на Семинари-Хилл и там закусил сыром с галетами, слушая, как старый мистер Гарроуэй, выставив из своего магазинчика бездельничающих негров и заперев за ними двери, принялся бранить Кальвина Кулиджа.
Так мне, по крайней мере, казалось. Но ведь нельзя просто идти против всего общества. Можно в одиночку противостоять единодушному натиску хоть всего города, вмешательству всех людей, целой толпы. Но нельзя противостоять холодной, непререкаемой абстракции – моральным устоям долготерпеливого общества. Мистер Гарроуэй одним из первых, нет, даже первым перевел свой вклад из банка полковника Сарториса в Джефферсонский банк, задолго до того, как Флем Сноупс мог подумать, вернее, имел основание подумать, что среди фермеров-арендаторов может подняться паника. Старик забрал вклад, собственно говоря, тогда, когда все мы, весь город, вся округа – узнали, что Манфред де Спейн определенно станет президентом банка. И все потому, что он, мистер Гарроуэй, был одним из той основной маленькой группы несгибаемых, ничему не поддающихся пуритан – как баптистов, так и методистов нашего края, – которые готовы были даже не платить налоги в Джефферсоне, пока де Спейн был там мэром, чтобы избежать моральной заразы и выразить свое мнение о его преступной связи, если бы только в нашей округе был другой город, где можно было бы платить налоги. Впрочем, потом, год или два спустя, мистер Гарроуэй снова перевел деньги обратно, может быть, оттого, что постарел, а может быть, оттого, что мог сидеть в своей затхлой лавчонке на Семинари-Хилл, и если не хотел, то мог и не ездить в город и не видеть своими глазами то, что напоминало о стыде, позоре, грехе, обрушившихся на наш город. А может быть, начинаешь относиться с полным безразличием к тому, с чем ты уже примирился. По крайней мере, я так думал.
В записке было сказано – в десять вечера. И ничего больше. «Пожалуйста, ждите меня в вашем кабинете в десять вечера». Без всяких: «Если вам удобно», – уж не говоря о таких тонкостях, как: «Когда вы могли бы принять меня в вашем кабинете», – а просто – «в десять вечера». Понятно? Но, прежде всего – при чем тут я? Я! Хотелось сказать всем трем, нет, всем четверым, считая и де Спейна: «Почему вы не оставите меня в покое? Чего вы еще от меня хотите, кроме того, что я уже не сумел сделать?» Но для этого еще времени хватит; у меня и теперь времени хватало, чтобы съесть сардины и галеты и повторять «какое безобразие!» на сетования мистера Гарроуэя по поводу тех интриг, которые президент и его партия затеяли против него, как вдруг он, мистер Гарроуэй, сказал (старый человек, со старческими мутными, затуманенными глазами, которые казались огромными под толстыми стеклами очков в железной оправе): – А правда, что Билл Уорнер сегодня спозаранку приехал в город?
– Да, – сказал я.
– Значит, накрыл их! – Он весь затрясся, задрожал, оперся о прилавок, унаследованный им от отца и уставленный жестянками мясных консервов, коробками катушек, гребенок, иголок, рядом с бутылками экстрактов и лекарств от малярии и женских хворостей, – должно быть, многое из этого ему тоже досталось по наследству, – и дрожащим голосом повторял: – Даже не муж! Отец сам должен был приехать, чтобы поймать их на месте, и это через восемнадцать лет!
– Но вы-то свои деньги перевели обратно в их банк, – сказал я. – Сначала вы их забрали, когда вам кто-то рассказал про их грех, про позор, про оскорбление. А потом опять перевели обратно. Может, оттого, что вы ее наконец увидали? Она зашла к вам однажды, в вашу лавку, и вы сами увидели, поняли, какая она, и поверили, что она-то, по крайней мере, ни в чем не виновата. Так оно или не так?
– Я ее мужа знал! – чуть не крикнул он, стараясь сдержать голос, чтобы негры не слышали, о чем мы, то есть он, говорит. – Я ее мужа знал! Он заслужил это, заслужил!
И тут я вспомнил: – Да, – сказал я. – Кажется, я вас видел сегодня днем в городе. – И тут я понял: – Вы опять забрали сегодня деньги, верно? Снова забрали деньги и перевели их в Джефферсонский банк, сегодня днем, так или не так? – А он стоит и весь трясется, хоть и пытается унять дрожь. – Зачем? – сказал я. – Зачем? Почему именно сегодня?
– Ей уезжать надо, – сказал он. – Пусть они оба уезжают, и она и де Спейн.
– Но почему же? – сказал я, тоже вполголоса, чтобы нас не слышали: мы, двое белых, обсуждаем в лавке, при неграх, прелюбодеяние белой женщины. Более того: прелюбодеяние, где замешаны самые высшие сферы в городе, белые люди, банкиры. – Почему именно сейчас? Значит, одно дело, когда муж молча терпит; и дело другое, когда кто-то, – как вы сказали? – накрыл их и разнес слух по всему городу. Значит, теперь они для вас только грешники, только преступники, только зачумленные, да? Значит, ничего не стоит ни верность, ни постоянство, ни преданность, настоящая, без принуждения, преданность, восемнадцатилетняя верность?
– Вам больше ничего не подать? – сказал он. – Я устал. Пора домой. – И мы вышли на галерею, где еще стояло несколько негров, их лица и руки медленно сливались с темнотой, видны были только более светлые рубашки, брюки и шляпы, и казалось, что тела и лица их постепенно испаряются из одежды; старик трясущимися руками вдевал тяжелый замок в проушину и запирал его на ключ; и тут я неожиданно для себя сказал громким голосом:
– Впрочем, наверно, следующий президент банка будет еще хуже, потому что следующим, должно быть, станет губернатор Смит, а вы, конечно, знаете, кто такой губернатор Смит: католик, вот кто! – И я сам, устыдившись, хотел оборвать себя вовремя, но не мог или, может быть, я и должен был бы, устыдившись, остановиться вовремя, но не захотел. А кем, в сущности, был я, посланцем какой тревоги, чтобы так слепо вмешиваться во все, направо и налево, словно какая-то слепая, неразумная и незначительная сила природы? Я и так уже отравил еду и сон старику, который стоял тут, рядом, запирая тяжелый замок с таким видом, словно я ударил его – этого старика, который по-своему, как и многие, ему подобные, был хорошим, добрым стариком, никогда в жизни не причинившим, вольно или невольно, зла никому – ни белому, ни черному; разве что когда-нибудь накинул несколько лишних центов, продавая в кредит, а не за наличные, разве что продал негру за полцены, а то и дешевле (а иногда и отдал задаром), подпорченное мясо, прогорклое сало или затхлую муку, которую он не позволил бы взять белому человеку, – конечно, если тот христианин и притом протестант; а теперь он стоял ко мне спиной и дрожащими руками запирал гигантский замок, бормоча с таким видом, словно я его и в самом деле ударил:
– Пусть уезжают, пускай оба уезжают.
Неподалеку есть гряда холмов; надо объехать Семинари-Хилл, и выедешь прямо к ней: мягкая, неторопливая сельская дорога вскоре начинает подниматься на взгорье и дальше вливается в широкое шоссе, ведущее из Джефферсона в большой мир. И тут, обернувшись назад, видишь внизу под собой весь Йокнапатофский округ, в последнем свете гаснущего дня. Уже высыпали звезды, видно, как все новые вспыхивают среди тех, что уже горят холодным, тихим светом; день растворяется в сплошном бесконечном зеленом безмолвии от северо-запада к зениту. И все же кажется, что свет уходит не от земли, не снизу, не с земли течет он вспять, ввысь, в эту прохладную прозелень, а скорее собрался, слился, остановясь на миг в низинах на земле, так что светится сама земля, почва, и только густые купы деревьев темнеют, смутно и неподвижно выступая над ней.
И вдруг, словно по сигналу, светлячки – «жучки-огоньки», – как их зовут дети на Миссисипи, бесчисленные и неуемные, блуждая и безумствуя, начинают пульсировать во тьме; не ищут, не спрашивают, но сливаются в единый хор, словно тоненькие, неумолчные, неутомимые голоса, зовы, слова. И ты стоишь одиноким владыкой над итогом всей своей жизни в этом неустанном призрачном блистании. Под тобой – в сердце долины – Джефферсон, он источает вокруг себя робкое свечение, а дальше за ним, обнимая его, лежит вся округа, и дороги, разветвляясь, связывают ее с центром, как спицы, расходясь, связывают обод со втулкой колеса, и ты, в этот миг оторванный от всего, как сам господь бог, стоишь над колыбелью твоего рода, всех тех мужчин и женщин, что создали тебя, стоишь над историей и летописью твоего родного края, и она открывается перед тобою, проходит круг за кругом, словно рябь по живой воде, над твоим прошлым, что дремлет без снов; и ты высишься, бестревожный и недосягаемый, над этим сколком человеческих страстей и надежд и несчастий – над честолюбием, и страхом, вожделением и храбростью, над отречением и жалостью, честью, грехом и гордостью, – и все это непрочное, тленное, связано, опутано, пронизано, как паутиной, как тонкой стальной основой ткани, хищной алчностью человека, и все же устремлено к его мечтам.
И все они тут распростерты над тобой, прослоены, смешаны – нетленный костяк с легким прахом и призраками – вся плодородная аллювиальная пойма реки – земля старого Иссеттибеа, дикого вождя племени чикасо, с его неграми-невольниками, земля его племянника, по прозвищу «Судьба», который убийствами проложил себе дорогу к власти и, как говорила легенда (и вспоминали люди, а в моем детстве у нас еще жило несколько стариков, видевших все своими глазами), украл целый пароход и велел его весь целиком перетащить за одиннадцать миль внутрь страны, чтобы превратить его в дворец и придать еще больше величия своей персоне; жирный чернозем все так же вызывал в памяти уже угасающие, но гордые имена белых плантаторов, – хотя бы мы, то есть я хотел сказать – они, и не владели плантациями: Сатпены и Сарторисы, Компсоны и Эдмундсы, Маккаслины, Бьючемы, Гренье, Хэбершемы и Холстоны, Стивенсы и де Спейны, генералы, губернаторы и судьи, воины (хотя бы только лейтенанты кубинской армии) и государственные деятели – удачливые и неудачливые, немудрящие политиканы и фантазеры, и просто неудачники, которые хватали, загребали, а потом промелькнули, исчезли, забылись их имена, их лица, все. А дальше шло бездорожье, почти что бестропье, – крутые горные склоны, где жили Маккаллемы и Гаури, Фрейзеры и Мьюры, со своими самогонными чанами, словно перенесенные сюда издалека, говорившие только на старогэльском, да и то немногословно, приехавшие из Кэллодена в Каролину, потом из Каролины в Йокнапатофу, по-прежнему немногословные, и хотя теперь они называли чаны «котлами», их самогон (даже я это помню) все еще звался «аскибо»; а дальше, за юго-восточной чертой горизонта, лежала Французова Балка, колыбель Уорнеров и муравейник, куда сползались с северо-запада Сноупсы.
И ты стоишь тут, старый человек, уже совсем седой (неважно, что твою седину называют преждевременной, ибо сама жизнь всегда преждевременна, оттого от нее так больно, так тревожно), и тебе скоро сорок, совсем мало лет осталось до сорока, – а снизу поднимается, тянется к тебе весенняя темень, бессонная темень, и хотя она сама сродни тьме, она отгоняет тьму, ибо тьма сродни малой смерти, что зовется сном. Ты посмотри, – хотя на западе уже угасла последняя прозелень и небосвод, в проколах звезд, раскрытой чашей плавно проходит над тобой, а последние зримые сгустки уже смыты с земли, – все же на ней осталось смутное мерцанье, и куда ни глянешь окрест, везде видишь их, смутных, как шепот: смутные, расплывчатые отблески цветущего шиповника, что возвращает заемный свет свету, как пламя призрачных свечей.
А ты, старый человек, стоишь, и к тебе поднимается, обволакивает, душит тебя весенняя тьма, населенная мириадами – пара за парой – тех, кто ищет не одиночества, а просто уединения, того уединения, что им ведено, создано для них весенней тьмою, весенней погодой, всей весной, про которую один из поэтов Америки, прекрасный поэт, женщина, и оттого всезнающая, сказала: «Девичья пора – юношам радость». И не о первом дне идет речь, не об утре в райском саду, ибо девичья пора и радость юношей – это итог всех дней: только однажды в юности чаша касается уст, и никогда более; коснется – и ты утолишь жажду, медля, отведаешь или единым духом осушишь чашу до дна в этот первый и единственный раз, хоть и это бывает преждевременно, слишком рано. В том-то и трагедия жизни, что она должна быть преждевременной, незавершенной и незавершаемой, для того чтобы называться жизнью: она должна опережать себя, обгонять себя, чтобы существовать, быть.
А сейчас поистине наступила та, последняя минута, когда еще можно было сделать выбор, решить: сказать или не сказать: «Почему именно я? Зачем мучить меня? Почему вы не оставите меня в покое? Почему я должен решать – прав ли я и ваш муж просто жаждет крови вашего любовника, или прав Рэтлиф и вашему мужу плевать и на вас, и на свою честь, а нужен ему только банк де Спейна», – а городская площадь лежала пустынная, под четырьмя одинаковыми циферблатами часов на здании суда, показывавших без десяти десять, – на север и на юг, на восток и на запад, – совсем опустевшая, только тени молодой листвы, отброшенные светом фонарей, выгрызали мостовую, словно оставляя на камнях следы мелких зубов, и все лавки заперты, везде тишина, только вдали еще виднеются последние посетители кино, расходящиеся с последнего сеанса. Лучше бы она сама додумалась, чтобы мне не надо было говорить ей: «Пускай и в теперешних ваших затруднениях вам помогает Манфред де Спейн, ведь вы не поколебались тогда, восемнадцать лет назад, с его помощью потушить свой пожар. А может быть, вы заранее знаете, что сейчас он ничем не поможет, потому что банк – не женского рода, не одушевленное существо?»
И тут, разумеется, появился Отис Харкер.
– Добрый вечер, мистер Стивенс, – сказал он. – А я увидал вашу машину и понадеялся, вдруг это подъехали бандиты, грабить банк или почту, все-таки хоть маленькое развлечение.
– Оказывается, это всего-навсего обыкновенный юрист, – сказал я, – а от юристов развлечения не жди, от них одно горе, верно?
– Ну, я бы не совсем так сказал, – сказал он. – Во всяком случае, юристы, как видно, спать не собираются, так что если вы тут еще побудете, я проберусь потихоньку к себе, в участок, да прилягу на минутку, а вы тут последите за меня, как стрелки на часах ходят… – А сам на меня смотрит. Нет: не просто смотрит на меня: он меня изучает с почтением, как приличествует каждому «воспитанному» жителю Миссисипи, но скорее к моей седой голове, чем к моему сану, смотрит на меня не как на свое начальство: не то чтобы подобострастно, не то чтобы нагловато, а просто выжидая, рассчитывая.
– Если только…
– Ну, договаривайте же, – сказал я.
– Если только мистер Флем Сноупс и мистер Манфред де Спейн не побегут сейчас по площади, а старый Билл Уорнер – за ними, с револьвером.
– Доброй ночи, – сказал я, – может быть, мы сегодня больше не увидимся.
– Доброй ночи, – сказал он. – Я тут буду поблизости. Наверно, и не засну. Не хотелось бы, чтобы самому мистеру Баку пришлось вылазить из постели и ехать сюда, а я бы тут спал.
Видали? Ничего не поделаешь! И Отис Харкер туда же; ему платят деньги, чтобы он по ночам не спал, и, следовательно, днем он должен высыпаться у себя дома. Но, конечно, такого случая он не пропустит: он сам видел, как старик Уорнер в четыре утра проехал по площади к дому Флема Сноупса. Да, ничего не поделаешь: весь город официально говорит устами своего ночного полисмена; вся округа высказывается устами одного из своих мелких шутов: восемнадцать лет назад, когда Манфред де Спейн думал, что просто делит ложе с какой-то доступной сельской Лилит, он, в сущности, уже создавал настоящий озорной фольклор.
Но мне оставалось еще десять минут, а Отису нужно около получаса, чтобы «пройти дозором» вокруг хлопкоочистительной фабрики, компрессора и прилегающих зданий, и вернуться на площадь. Теперь я вспоминаю, что услышал запах сигарет, даже прежде чем повернул ручку двери, которую считал незапертой: ведь я сам специально вернулся и отпер дверь, и, все еще пытаясь повернуть ручку, я вдыхал запах табака, когда задвижка щелкнула изнутри, дверь распахнулась, и я увидел ее, на темном фоне комнаты, в смутном, слабом свете. Но я сразу разглядел ее волосы, понял, что она побывала в парикмахерской, хотя, по словам Мэгги, она ни разу туда не ходила; волосы у нее были, конечно, не подстрижены, даже не завиты, но что-то там с ними сделали, не знаю что, одно было ясно: что она побывала в парикмахерской.
– Хорошо, что вы заперли двери, – сказал я, – и свет зажигать не стоит. Только мне кажется, что Отис Харкер уже…
– Неважно, – сказала она. Тогда я закрыл дверь, запер на ключ и зажег настольную лампу. – Можете зажечь хоть все лампы, – сказала она, – я не собиралась прятаться, просто не хотелось ни с кем разговаривать.
– Понимаю, – сказал я и сел за стол. До моего прихода она сидела в кресле для клиентов, без света, и курила; сигарета еще тлела в пепельнице, рядом с двумя окурками. Теперь она снова опустилась в это кресло у стола, и свет падал на нее сверху вниз, от плеча, освещая больше всего руки, лежавшие очень спокойно на коленях, на сумочке. Но ее волосы я хорошо видел – ни следа косметики на губах, на ногтях, только по волосам видно, что она побывала в парикмахерской. – Вы были в парикмахерской, – сказал я.
– Да, – сказала она, – там я встретила Чика.
– Нет, только не там, – сказал я и тут же хотел остановить себя, – только не там, где вода и мыло неразлучны, нерасторжимы. – Я все пытался остановить себя. – Ему еще несколько лет не хватает. – И тут я остановился. – Ну, хорошо, – сказал я. – Расскажите мне все. Что он мог отвезти вчера вашей матушке, чтобы старый Билл после этого в два часа ночи помчался в город?
– Вот ваша трубка, – сказала она. Трубки стояли в медной чашке рядом с табаком. – Целых три? А я ни разу не видела, как вы курите. Когда вы их курите?
– Это неважно, – сказал я. – Что же он туда отвез?
– Завещание, – сказала она.
– Нет, нет, – сказал я, – про завещание я знаю; мне Рэтлиф рассказал. А я спрашиваю, что отвез Флем вашей матушке вчера утром?
– Я ведь вам уже сказала – завещание.
– Завещание? – сказал я.
– Ну, ее дарственную. По ней все, что Линда получит в наследство от меня, переходит к ее от… к нему. – А я все сидел, и она сидела, напротив меня, за столом, и настольная лампа освещала нас снизу, так что мы, в сущности, хорошо видели только руки: мои – на столе, и ее руки, затихшие, на коленях, на сумочке, словно два сонных существа, и голос ее тоже как будто уснул, оттого и не было ни тоски, ни тревоги, ни обиды тут, в маленьком моем, тихом и бедном мавзолее человеческих страстей, огражденном от всего, огражденном даже от случайного усердия Отиса Харкера при выполнении внушенного ему долга, за что он и получал жалованье, потому что знал – дело касается меня.
– Да, завещание. Она сама придумала. Без всякого принуждения. Понимаете, она верит, что это ее мысль, ее желание, что она сама захотела, сама все сделала. Никто ее не разубедит. Да никто и не станет, никто! Вот почему я вам послала записку.
– Вы должны все рассказать мне, – сказал я. – Все.
– Это… все эти колледжи. Когда вы ей внушили, что она хочет уехать, вырваться отсюда, и про все эти колледжи, что тут можно выбирать, – раньше она про них ничего не знала, – и что вполне естественно для молодой девушки – для молодежи, стремиться туда, в такой колледж, а до того она даже ничего не знала про них и, конечно, не подозревала, что ей туда хочется. Как будто для того, чтобы туда поступить, достаточно выбрать, какой больше понравится, и поехать, особенно когда я сказала «да». А потом ее отец – он сказал – «нет».
Получилось так, будто она никогда не знала слова «нет», впервые услышала «нет». Вышла… ссора. Не люблю ссор. Не надо ссориться. Никаких ссор не надо, когда хочешь взять свое. Просто надо взять и все. Но она-то этого не знала, понимаете? Может быть, еще не успела узнать, ведь ей всего семнадцать. Да вы сами все понимаете. А может, дело не в том. Может быть, она слишком много знала. Может быть, она даже тогда уже знала, чувствовала, что он ее победил. Она сказала: «А я поеду! Поеду! Ты не можешь мне помешать! К черту твои деньги: если мама не даст, дедушка даст или мистер Стивенс (да, да, так она и сказала) даст». А он сидит молча – мы еще не встали из-за стола; только Линда стояла, а он сидит и говорит: «Правильно. Помешать я не могу». И тут она сказала: «Ну, пожалуйста!» Да, она знала, что он ее победил, и он тоже знал. Он сказал: «Нет. Я хочу, чтобы ты осталась дома и поступила в пансион».
Вот и все. То есть… ничего. Больше ничего. Понимаете, ребенок, – во всяком случае, девочка, – не может по-настоящему возненавидеть своего отца, пусть даже ей кажется, что она его ненавидит или должна ненавидеть, хочет ненавидеть, потому что от нее этого все ждут, потому что так будет интересней, это так романтично…
– Да, – сказал я, – а девушкам, женщинам романтика ни к чему, их интересуют одни факты. О да, не только вы мне это говорили, и Рэтлиф говорил, причем чуть ли не в тот же день.
– И Владимир тоже? – сказала она.
– Да нет, Рэтлиф, – сказал я. Потом сказал: – Погодите! – Потом сказал: – Владимир? Вы говорите – Владимир? В.К. Неужели его зовут Владимир?
И тут она совсем затихла, даже руки на коленях, похожие на сонные существа, дышавшие своей особой жизнью, теперь совсем стихли.
– Я не хотела выдавать его, – сказала она.
– Да, – сказал я. – Понимаю: никто на свете не знает, что его зовут Владимир, разве человек по имени Владимир посмеет надеяться, что сможет заработать на жизнь, продавая швейные машины или еще что-нибудь в нашем деревенском штате Миссисипи? Но вам он все рассказал: открыл тайну, которую скрывал, как скрывают незаконное рождение или безумие в семье. Почему? Нет, не отвечайте. Разве я не знаю, почему он вам все рассказал? Разве сам я не вдохнул однажды одуряющий запах того же напитка? Ну, рассказывайте. Я не выдам. Владимир К. Что значит К.?
– Владимир Кириллыч.
– Владимир Кириллыч, а дальше? Не Рэтлиф? Ведь «Кириллыч» это только отчество. У всех русских отчества кончаются на «ич» или «овна». Это значит чей-то сын или дочь. Так как же была его фамилия, до того как он стал Рэтлифом?
– Он сам не знает. Его пра-пра-прадедушка, шесть или восемь, а то и десять поколений назад, был… как это, не лейтенант, а вроде…
– Прапорщик?
– …в британской армии, которую победили во время революции…
– Ага, – сказал я. – При Бергойне. При Саратоге.
– …и его отправили в Виргинию и забыли, а Вла… этот прадед, удрал. Конечно, его скрыла женщина, девушка, спрятала, кормила. Но она свою фамилию писала «Рэтклифф», и они поженились, родился сын, или сначала родился сын, а потом они поженились, во всяком случае, он научился говорить по-английски, стал фермером в Виргинии. И его внук все еще писал свою фамилию через «к», и звали его тоже Владимир Кириллыч, хотя никто об этом не знал, и он приехал в Миссисипи вместе со старым доктором Хэбершемом, с Александром Холстоном и Луи Гренье, и они основали Джефферсон. Только он уже писался не «Рэтклифф», а так, как сейчас, но одному из сыновей всегда дают имя «Владимир Кириллыч». Конечно, вы правы, с таким именем трудно надеяться заработать на жизнь в Миссисипи.
– Нет, – сказал, нет, крикнул я. – Погодите. Это неверно. Мы оба не правы. Все совершенно наоборот. Если бы все знали, что его на самом деле зовут Владимир Кириллыч, он давно стал бы миллионером, потому что любая женщина, в любом месте, покупала бы у него, меняла бы, выторговывала все, что он продает. А может быть, так оно и есть? – сказал, нет, крикнул я. – Может, они знают? Ну, хорошо, – сказал я. – Договаривайте.
– В каждом поколении обязательно есть это имя, потому что Вла… В.К. говорит, что оно приносит счастье.
– Вот только против Флема Сноупса оно не подействовало, – сказал я. – В ту ночь, когда он схлестнулся с Флемом Сноупсом в саду, в усадьбе Старого Француза, после вашего возвращения из Техаса… – Ну, ладно, – сказал я. – Значит, все вышло потому, что отца нельзя ненавидеть.
– Он для нее много делал. То, чего она и не ждала, о чем никогда бы не попросила. То, что доставляет удовольствие девочкам, будто он угадывал ее мысли, прежде чем она сама успевала подумать. Дал мне денег, отправил нас обеих в Мемфис, – покупать ей к выпуску всякие вещи, – и не только платье для выпуска, но и настоящее бальное платье, массу летних вещей, целое приданое. Он даже попытался… он предложил, – словом, сказал ей, что устроит – хочет устроить пикник для всего ее выпуска, но она отказалась. Понимаете? Для нее он был отцом, хотя и стал ее врагом. Вам понятно? Та, что просила его: «Ну, пожалуйста», – принимала от него платья, а та, что говорила: «Ты не можешь мне помешать», – отказалась от пикника.
А в то лето он дал мне денег и даже сам заказал нам места в отеле на берегу моря, – может быть, вы помните…
– Помню, – сказал я.
– …на целый месяц, чтобы она могла купаться в море, встречаться с молодежью, с молодыми людьми; он так и сказал: с молодыми людьми! А когда мы вернулись, осенью, она поступила в пансион, и он стал выдавать ей карманные деньги. Трудно поверить, правда?
– Нет, я верю, – сказал я. – Рассказывайте.
– Много денег, больше, чем ей было нужно, необходимо, слишком много для семнадцатилетней девочки, особенно тут, в Джефферсоне. Но она их брала, хотя ей эти деньги были не нужны, и в пансион ходила, а это ей тоже было ни к чему. Потому что он был ей отцом. Вы этого не забывайте. Будете помнить?
– Рассказывайте, – сказал я.
– Это было осенью и зимой. Он дарил ей много вещей – платья, совершенно ненужные, лишние для семнадцатилетней, тут, в Джефферсоне. Наверно, вы и это заметили; даже меховую шубку хотел выписать, но она сказала – не надо, вовремя отказалась. Понимаете, тут в ней снова заговорило прежнее: ты не можешь мне помешать, ей надо было хоть изредка напоминать ему, что она его считает виноватым: она могла принимать подарки как дочь, но не подкуп от врага.
Потом настало лето, прошлое лето. И тогда-то оно и случилось. Я сама видела, мы все сидели за столом, и он говорит: «Куда тебе хочется поехать нынче летом? Опять к морю? А может быть, на этот раз в горы? Что ты скажешь, если бы тебе вместе с матерью съездить а Нью-Йорк?» – и этим он ее подкупил; она уже была побеждена: она сказала: «Ведь это, наверно, очень дорого?» – и он сказал: «Неважно. Когда ты хотела бы поехать?» – а она сказала: «Нет, это будет слишком дорого. Почему бы нам просто не остаться дома?» Видите, как он ее одолел, победил ее. И самое… самое ужасное было то, что она не понимала этого, не знала, что был бой и она сдалась. Раньше она бросала ему вызов, и, по крайней мере, знала, что бросает вызов, хотя толку в этом не было, она сама не знала, зачем ей это, что делать дальше. А теперь она стала на его сторону, сама того не зная.
Вот и все. Потом пришла осень, в октябре прошлого года она снова стала ходить в пансион, и в тот день мы только отужинали, сидели в столовой, у камина, и она читала в кресле, как сейчас помню, свернулась калачиком, и книжку я тоже помню – Джон Донн, ту, что вы ей подарили, новую, вместо той, которую этот мальчишка – как его звали? Механик из гаража, Матт – как его там? – Ливитт – разорвал у вас в кабинете, и вдруг он говорит: «Линда!» – и она подняла голову, не выпуская книги (помню, что тут я и увидела, какая книга), и он говорит: «Я был не прав. Думал, что пансион ничем не хуже колледжа, ведь я сам никогда нигде не учился, ничего про это не понимал. Но теперь я понял и знаю, что этот пансион никуда не годится. Может быть, ты откажешься от колледжей янки и поступишь в Оксфордский университет?»
А она сидит и медленно так опускает книгу на колени и все смотрит на него. А потом говорит: «Что?»
– Не думай больше про Виргинию и про те северные колледжи, хотя бы в этом году. Хочешь поступить в университет после рождества?
И она отшвырнула книжку, не просто положила ее, нет, она ее швырнула, вскочила с кресла и сказала: «Папочка!» Никогда я не видела, чтобы она до него дотрагивалась. Для нее он был отцом, она всегда с ним разговаривала, всегда обращалась с ним почтительно. Но он был ее врагом; ей нужно было заставить его всегда помнить, что хотя он и взял верх, не отпустил ее в колледж, но она все-таки не сдалась. И никогда я не видела, чтобы она к нему прикасалась, а тут она бросилась к нему на колени, обхватила за плечи, прижалась щекой к его воротнику и все повторяла, твердила: «Папочка! Папочка! Папочка!»
– Дальше, – сказал я.
– Вот и все. Да этого и достаточно: что он еще мог сделать? Взять клочок бумаги, написать самому эту штуку и выкручивать ей руку, пока она не подпишет, так, что ли? Но ему и не надо было упоминать о какой-то бумаге. Ему даже не надо было с ней еще раз об этом говорить, а если бы он и заговорил с ней, то ему только и надо было, – ведь она-то уже знала о завещании, то есть о завещании моего отца, где все состояние он оставлял Юле Уорнер, даже без добавления фамилии «Сноупс», – ему только и надо было сказать ей что-нибудь такое: «Да, да, твой дед – почтенный старик, но меня-то он никогда не любил. Ну, ничего, твоя мама не будет испытывать нужды, что бы со мной ни случилось; дед так все устроил, что ни я, ни вообще никто ее деньги тронуть не может, а потом ты станешь наследницей», – словом, что-нибудь вроде этого. А может быть, ему и стараться не надо было, он знал, что не надо. Не тот она человек. Для нее он был отцом, и если он не пускал ее в колледж, то только из любви к ней, потому что так оно полагалось, – родители всегда выставляют эту причину, запрещая детям что-нибудь делать; а потом он вдруг все повернул наоборот и почти приказал ей сделать то, чего ей так хотелось, то, что сам запрещал ей почти два года, и это можно было объяснить только тем, что он ее любит еще больше, так любит, что позволяет ей сделать то, единственное, что он ей всю жизнь запрещал.
Впрочем, не знаю. Может быть, он ей намекнул, даже подсказал, как составить эту бумагу, разве это имеет теперь значение? Все сделано, кончено: мой отец влетел к нам в дом в четыре часа утра и швырнул мне бумагу на кровать, я и проснуться как следует не успела. Нет, погодите, – сказала она, – я знаю, я и сама подписывала такие бумаги. Все было сделано по закону, правильно… как это называется?
– Составлено, – сказал я.
– …составлено юристом, в Оксфорде, мистером Стоуном, нет, не стариком – молодым. Я ему звонила сегодня утром. Он был очень любезен. Он…
– Я его знаю, – сказал я. – Хотя учился он в Нью-Хейвене.
– …сказал, что охотно поговорил бы со мной об этом, но существует, как это…
– Профессиональная этика, – сказал я.
– …профессиональная этика, юрист не может выдать клиента. Он сказал, что она пришла к нему, очевидно, как только поступила в Оксфорд… нет, погодите, – сказала она. – Я и об этом спросила: почему она обратилась к нему, и он сказал… сказал, что она очаровательная девушка и далеко пойдет в жизни, даже если у нее не будет – не будет…
– Состояния, – сказал я.
– …состояния, которое она могла бы завещать, и что она спросила у знакомых, кто самый симпатичный юрист, к кому лучше обратиться, и ей назвали его. Она ему объяснила, что ей надо, и он составил завещание, – да, я сама читала: «Мою долю всего, что я унаследую от моей матери, Юлы Уорнер Сноупс, отдельно и независимо от всех сумм, какие составят долю ее мужа, завещаю моему отцу, Флему Сноупсу». Да, все было сделано по закону, по форме, хотя юрист мне говорил, как он пытался ей объяснить, что она завещает не определенную сумму, а как это? – условное состояние, – и что никто всерьез это завещание не примет потому, что она и умереть может прежде, чем получит наследство, и замуж может выйти или, даже без помощи мужа, передумает, а может быть, после ее матери вообще никакого состояния не останется, кроме упомянутого в оговорке, – может быть, мать все истратит или отец умрет, и тогда она получит половину своих же денег, ему завещанных, плюс половину того, что получит ее мать, как вдова ее отца, и эту же часть отцовского имущества она разделит с матерью, как со вдовой отца, и еще раз унаследует от матери. Но ей-было восемнадцать лет, она человек правомочный, и он, мистер Стоун, тоже правомочный юрист, по крайней мере у него в лицензии так сказано, и, во всяком случае, все было написано по форме, на официальном бланке. Он, мистер Стоун, даже спросил ее, почему она решила сделать это завещание, и она ответила: «Потому, что отец был ко мне очень добр и я его люблю, уважаю и почитаю». Вы слышите? «Люблю, уважаю и почитаю». Да, все законно. Впрочем, разве дело в том – законно или незаконно, условно это или безусловно…
Этого она могла мне не говорить: уже восемнадцать лет старик Уорнер то кипел от злости в своей деревенской лавке, оттого что зять выманил у него старую заброшенную плантацию, а потом заработал на ней, то приходил в бешенство оттого, что этот человек его не только обманул, перекрыл его, перемошенничал, но с тех пор постоянно перекрывает, пережуливает его в ростовщичестве, а теперь еще воспользовался наивностью девочки, его собственной внучки, и она решила, хотя бы из благодарности, щедро отплатить за то, что считала отцовской любовью, и тем самым выбила у него из рук единственное оружие, которым он еще мог грозить своему врагу. Да, конечно, этот клочок бумаги дешево стоил, не важно, был ли он составлен по всей форме, по закону. Даже не важно, если он эту бумагу уничтожит (для того Флем главным образом и выпустил ее из рук), важно было то, что он ее увидел, прочел, понял: достаточно было ему бросить один возмущенный взгляд на этот документ, и он уже полетел в город, вне себя от бешенства…
– Я никак не могла заставить его замолчать, – сказала она. – Невозможно было остановить его, успокоить. Он даже утра не хотел дождаться, сразу помчался к Манфреду.
– К де Спейну? – сказал я. – Как? В четыре часа утра?
– Я же вам говорю, что не могла его остановить, задержать, заставить замолчать. Да, да, он сразу взялся за Манфреда. И Манфред с ним обо всем договорился. Ему это было очень просто. Я хочу сказать – после того как я убедила его и папу, что через минуту они разбудят, переполошат весь город и что я, не дожидаясь этого, сейчас же беру машину Джоди, еду в Оксфорд, забираю Линду и они нас никогда больше не увидят. Тут и он и папа замолчали…
– А Флем? – сказал я.
– Он тоже был при этом – не все время, но достаточно долго…
– Но он-то что делал? – сказал я.
– Ничего, – сказала она. – А что он должен был делать? Что еще ему нужно было делать?
– Ага, – сказал я. – «Достаточно долго» – для чего именно?
– Для того чтобы мы с Манфредом могли обо всем договориться: мы с ним просто решили уехать, уехать вдвоем, он и я, – мы должны были бы сделать это восемнадцать лет назад…
– Что? – сказал, крикнул я. – Уехать, бежать?
– О да, все было условлено; он сел тут же, при папе, который стоял над ним и ругался – ругал его, ругал Флема, трудно было разобрать, кого он ругал, с кем разговаривал, про кого говорил, – сел и написал купчую. Папа был, как это называется – нейтрален. Он хотел их обоих выжить из банка, решил непременно обоих выставить, приехал за столько миль из дому, в четыре часа утра, чтобы их обоих выкинуть из Джефферсона, из Йокнапатофы, из штата Миссисипи – Манфреда за то, что он был моим любовником восемнадцать лет, Флема за то, что он восемнадцать лет не вмешивался. Папа ничего не знал про Манфреда до этого утра. То есть делал вид, что не знает. По-моему, мама знала. По-моему, она все эти годы знала. А может быть, и нет. Понимаете, ведь люди все-таки добрые. Ведь все люди в округе Йокнапатофа могли бы, ради ее же блага, сделать так, чтобы мама наверняка знала про нас и чтобы она могла рассказать об этом папе, ради его блага, ради общего блага. Но я не думаю, чтобы папа знал. Он вроде вас. Я хочу сказать, что вы тоже так можете.
– Как «так»? – сказал я.
– Можете сделать так, чтобы не надо было чему-то верить, даже тому, что возможно, даже если кто-то говорит, что это так, даже если это так на самом деле.
– Погодите, – сказал я. – Какую купчую, на продажу чего?
– Своих банковских акций. Акций Манфреда. Купчую на имя Флема. Чтобы Флему передать банк, ведь из-за этого и начался весь шум и скандал. А за это Флем должен был подписать чек, датированный за неделю вперед, чтобы у Флема было время приготовить деньги к тому дню, как мы предъявим этот чек в Техасе, – кстати, почему это, когда люди не женаты или должны были бы быть женаты, но до сих пор не женаты, они считают, что уехать в Техас – это уже достаточно далеко? А может, Техас просто такой большой? Или же в Калифорнии, в Мексике, словом, там, куда мы уедем.
– Но Линда, – сказал я. – Линда.
– А что? – сказала она. – Что Линда?
– Неужели вы не понимаете? И в том и в другом случае она погибла. Поедет ли она с вами, если только это возможно, раз вы бросаете ее отца ради другого человека, останется ли она тут, в этом болоте, и вас тут не будет, и некому будет ее защитить, объяснить, наконец, что он и не был ее отцом, – ведь у нее никого, никого на свете нет.
– Для того я вам и писала, – сказала она. – Женитесь на ней.
– Нет. Я уже вам это говорил. Кроме того, это ее не спасет. Спасти ее может только Манфред. Пусть он просто продаст Флему свои акции, отдаст ему этот проклятый банк; неужели это слишком высокая цена за то, что он… что он… он…
– Я пробовала, – сказала она. – Нет.
– Я с ним поговорю, – сказал я. – Я ему объясню. Он должен согласиться. Ему придется, другого выхода…
– Нет, – сказала она. – Только не Манфред. – Я посмотрел на ее руки, на то, как она открыла сумку, не торопясь, вынула пачку сигарет и одну большую спичку, вытащила сигарету, положила пачку назад в сумку, закрыла ее, потом (нет, я не двинулся) чиркнула спичкой о подошву туфли, закурила сигарету, бросила спичку в пепельницу и снова положила руки на сумку. – Только не Манфред. Вы не понимаете Манфреда. А может, и я его не понимаю. Может быть, я была совершенно не права тогда, в то утро, когда я вам сказала, что женщин интересуют только факты, потому что вполне возможно, что и мужчин интересуют только факты, и разница лишь в том, что женщинам все равно – факт это или нет, лишь бы все сходилось, а мужчинам все равно – сходятся ли факты или нет, лишь бы это были факты. Если вы настоящий мужчина, вы можете валяться в канаве, без сознания, истекая кровью, с выбитыми зубами, и кто-то может забрать ваш бумажник, а вы очнетесь, смоете кровь, и все будет в порядке; всегда можно и зубы вставить, и даже завести раньше или позже новый бумажник. Но не может настоящий мужчина стоять, смирно склонив голову, не пролив капли крови, с целыми зубами, пока кто-то забирает его бумажник, потому что, если он после этого и сможет встречаться по-прежнему с друзьями, которые его любят, он никогда не сможет смотреть в глаза чужим людям, которые до этого ничего о нем не знали. Манфред не такой. Если я с ним не уеду, он должен будет драться. Может быть, он будет убит в этой драке, может, он все и всех погубит, но драться он станет обязательно. Потому что он мужчина. Понимаете, он прежде всего мужчина. То есть я хочу сказать, ему важнее всего быть мужчиной. Он может отдать Флему Сноупсу свой банк в обмен на жену Флема Сноупса, но он не может стоять и смотреть, как Флем Сноупс отбирает у него банк.
– Значит, Линда пропала, – сказал я. – Кончена. Погибла. Пропала! – сказал, нет, крикнул я. – Но вы-то хоть спасетесь! Вы-то хоть, по крайней мере, отсюда уедете и больше никогда не… никогда не будете с Флемом Сноупсом, больше никогда, никогда…
– Ах, вы вот о чем, – сказала она, – вы об этом. Это не важно. Мне с этим никогда не приходилось сталкиваться. Он… не может. Он – как это называется? – импотент. Всегда был. Может, все и пошло из-за этого, в этом и причина. Понимаете? Только будьте осторожнее, не то вам еще станет его жаль. Придется его пожалеть. А этого он не вынесет, и незачем человека обижать, если это тебе ничего не даст. Он не вынес бы, если бы его жалели. Выходит, вроде как у В.К., с именем «Владимир». Рэтлиф может жить с именем Владимир, и вы можете жить, зная, что Рэтлифа зовут Владимир. Но нельзя, чтобы он мог изменить это имя, имел право его изменить, выбрать другое. И он тоже может жить со своей импотенцией, но нельзя дать кому-нибудь возможность помочь ему жалостью. Вы обещали молчать про Владимира, теперь обещайте и про это молчать.
– Обещаю, – сказал я. Потом сказал: – Да. Значит, сегодня ночью вы уезжаете. Так вот зачем вы днем ходили в парикмахерскую. Не для меня. Для Манфреда. Нет: даже не для Манфреда, после восемнадцати-то лет; а для отъезда, для того, чтобы сесть в поезд. И на прощание показаться Джефферсону во всей красе. Правильно, так? Вы уедете этой ночью?
– Женитесь на ней, Гэвин, – сказала она.
Восемнадцать лет подряд я видел ее, конечно, не считая войны; восемнадцать лет она снилась мне каждую ночь, считая и войну. Мы разговаривали с ней дважды: здесь, в моем кабинете однажды вечером, четырнадцать лет назад, и в ее гостиной, однажды утром, два года назад. Но ни разу она не назвала меня ни по имени, ни даже мистером Стивенсом. А теперь она сказала «Гэвин». – Женитесь на ней, Гэвин.
– Дать ей свою фамилию, чтобы она не жалела о потере доброго имени, когда вы ее бросите?
– Женитесь на ней, Гэвин, – сказала она.
– Считайте, что я не только слишком стар для нее, но что я ей просто противопоказан; если уж я стану ее мужем, так я даже из-за гроба не отдам свою вдову другому. Считайте так, что ли.
– Женитесь на ней, Гэвин, – сказала она.
И я замолчал, а она сидела за столом, и сигарета дотлевала в пепельнице, и над ней – онемелый тонкий безветренный дымок, она и не затянулась ни разу: зажгла и отложила, и ее руки все так же тихо лежали на сумочке, а лицо обращено ко мне, смотрит на меня из полутьмы над светлым кругом лампы – крупный, широкий, простой, как всегда без помады, прекрасный рот, глаза, не в жесткой затуманенной синеве осени, а в синеве весенних цветов, в неотделимом сочетании глициний, васильков, подснежников, колокольчиков, незабудок, и в них все… – вся погибшая девичья пора, все счастье юношей, и поздно тосковать, поздно тосковать, поздно, поздно.
– Хорошо, давайте так. Если, после вашего отъезда, я увижу, что обстановка создалась такая, когда необходимо что-то сделать, а помочь может только брак со мной, и если она захочет выйти за меня, но именно захочет, а не просто уступит, сдастся…
– Тогда поклянитесь, – сказала она.
– Обещаю. Я уже обещал и еще раз обещаю.
– Нет, – сказала она, – клянитесь.
– Клянусь, – сказал я.
– Даже если она не захочет. Даже тогда. Даже если она не… даже если вы не сможете на ней жениться.
– Зачем же я ей тогда понадоблюсь? – сказал я. – Ведь Флем, – если только ваш отец не решит раз навсегда избавиться от всей этой чертовой путаницы и не выгонит и его из Джефферсона, – Флем получит свой банк и ему уже не надо будет менять, продавать, сбывать ее кому-то; может быть, он даже предпочтет отправить ее учиться в Новую Англию, а то и еще дальше, если ему удастся.
– Клянитесь, – сказала она.
– Хорошо, – сказал я. – В любое время. Везде. Что бы ни случилось.
– Клянитесь, – сказала она.
– Клянусь, – сказал я.
– Теперь я пойду, – сказала она и встала, взяла тлеющую сигарету, тщательно затушила ее о пепельницу, и я тоже встал.
– Конечно, – сказал я, – вам еще нужно укладываться, даже при бегстве вещи нужны, правда? Я вас отвезу домой.
– Не надо, – сказала она.
– Даме, одной, возвращаться в такое… да, сейчас уже за полночь. Что скажет Отис Харкер? Понимаете, и мне надо быть настоящим мужчиной, иначе как я буду смотреть в глаза Отису Харкеру, – ведь для него вы еще будете настоящей леди, вплоть до отъезда, до отхода завтрашнего поезда; кажется, вы сказали – в Техас, так? – Но на этот раз Отиса не было видно, хотя с помощью карандаша, бумаги и часов я мог бы высчитать, где он примерно сейчас торчит. Конечно, я мог бы и ошибиться, но Отиса нигде видно не было и нас тоже, и через исполосованную тенями площадь, рассекая плоскими, быстрыми клинками света витрины лавок, мы проедали туда, в настоящую весеннюю темень, где скудные уличные фонари казались меньше звезд. Мы могли бы поговорить, если бы было о чем, а может, и было бы о чем, если бы мы заговорили. Потом – низкие ворота перед короткой дорожкой к маленькому темному дому, еще, конечно, не сданному внаем, еще, конечно, не опустевшему, еще осталось немного времени для соблюдения приличий, и я думал, недоумевал: «Продаст ли ему Манфред и дом вместе с банком, а может, просто бросит ему все – если только старый Билл Уорнер даст Флему забрать хоть что-нибудь», – и я остановил машину.
– Не выходите, – сказала она, вышла, захлопнула дверцу и сказала, чуть наклонясь и заглядывая мне в лицо: – Поклянитесь еще раз.
– Клянусь, – сказал я.
– Спасибо, – сказала она. – Спокойной ночи, – и повернулась, и я смотрел, как она входит в ворота, идет, все уменьшаясь, по дорожке, в тень, или, вернее, сквозь тень маленькой террасы, уже теряя очертания. И я услышал стук двери, и стало так, словно ее никогда и не было. Нет, это неверно: не словно не было, а ее уже нет, потому что была, остается навеки, навсегда, необъяснимо, нетронуто, и в этом все горе. Это я и хочу сказать: сначала уменьшается, потом теряет очертания, потом – стук двери, и потом не «никогда и не было», а просто ее нет, потому что навсегда, навеки это «была» остается, как будто то, что должно с тобой случиться завтра, уже смутно проступает сейчас, если бы только ты, смотрящий ей вслед, был мудрее, мог бы все провидеть, а может быть, если бы у тебя просто хватило храбрости.
Весенняя ночь, уже стало прохладнее, словно ненадолго, до рассвета, до начала нового дня, где-то наконец со вздохом уснула изумленная, притихшая жгучая надежда и мечта, зарожденная двоими. Наверно, к рассвету, к восходу солнца станет совсем холодно. И все же не так холодно, чтобы озябла, уснула и затихла проклятая птица-пересмешник, которая вот уже третью ночь, не умолкая, кричит в розовых кустах у Мэгги, прямо под окном моей спальни. Конечно, надо как-то отделиться, не ее отделить, а этот ее крик, необходимость его слушать: один Гэвин Стивенс пусть идет по темной веранде, в дом, наверх, пусть спрячет голову под подушку, и пусть от него отделится подобие Гэвина Стивенса, оболочка Гэвина Стивенса, нечувствительная к холоду, к шуму, и ей достанется половина всего, ей нести половину, а то и всю тяжесть бремени, которое ему захотят подбросить, подкинуть, – ведь он только что принял на себя бремя ответственности за молоденькую девушку, брошенную на произвол судьбы.
Да разве кто пожалеет оболочку? Не лучше ли потерять ее, ибо, прежде всего, ей нечего отдать, кроме преданности, преданности всех восемнадцати лет, преданности в столь хрупкой оболочке, что ее нельзя увенчать презрением, предостеречь ненавистью, изничтожить горем. Да, так и есть: отстегни, сбрось, сними эту последнюю нескладную, мучительную оболочку и будь свободен. Отстегни: вот в чем штука, если вспомнить слова Владимира Кириллыча: «Он ее еще не отстегнул» – ту золотую монетку в двадцать долларов, в пристегнутом булавкой кармане рубашки у деревенского парня, который впервые поехал в Мемфис и даже, если он там никогда не был, все же имеет столько же права надеяться, что его непременно, обязательно впустят, заманят, соблазнят зайти в притон, до возвращения домой. «Теперь он отстегнул карман», – подумал я.
21. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН
Знаете, как бывает: проснешься утром и сразу чувствуешь – что-то уже случилось, а ты опоздал. Ты и сам не знал, что же должно случиться, оттого и приходилось все время быть настороже, смотреть сразу во все стороны, как бы чего не пропустить. А потом забудешься на минутку, на одну-единственную минутку закроешь глаза и – хлоп! – это уже случилось, и ты опоздал, даже нет времени проснуться как следует, полежать, потянуться и подумать: «Отчего это сегодня так весело?» – и дать мыслям всплыть, проясниться: «Ага, ведь сегодня не надо идти в школу». – И потом еще: «Четверг, апрель месяц, а в школу все равно идти не надо!»
Но в это утро было не так. Уже на лестнице я услыхал, как захлопнулась дверь в кладовую, и догадался, что мама говорит нашей Гастер: «Он идет. Уходите скорее», – и я вошел в столовую, отец уже позавтракал, понимаете, хотя Гастер и убрала его тарелку и чашку, все равно было видно, где отец завтракал; а по прибору дяди Гэвина было видно, что он совсем не садился за стол, а мама сидела на своем месте, допивала кофе, уже в шляпе, и ее пальто лежало на стуле дяди Гэвина, а сумка и перчатки у ее прибора, и рядом – темные очки, она их всегда надевала в машине, когда уезжала за город, как будто солнце начинало слепить только в миле от города. И мне показалось, что ей жаль – почему мне не три и не четыре года, тогда она могла бы обнять меня, взять на колени, погладить по голове. А теперь она только взяла меня за руку, и ей даже пришлось поднять голову, чтобы взглянуть на меня: – Миссис Сноупс покончила с собой вчера ночью, – сказала она. – Мы с дядей Гэвином едем в Оксфорд, за Линдой.
– Покончила с собой? – сказал я. – А как?
– Что? – сказала мама. Ведь мне было всего двенадцать лет, еще не исполнилось тринадцати.
– Как она себя убила? – спросил я. Но тут мама уже поняла. Она поднялась со стула.
– Из револьвера, – сказала мама. – К сожалению, я не спросила, из чьего. – Она уже надевала пальто. Потом подошла, взяла сумочку, перчатки, очки: – Может быть, мы и вернемся к обеду, не знаю. Пожалуйста, посиди дома, хорошо? Не надо бегать на площадь, найди чем заняться с Алеком Сэндером во дворе. Гастер его сегодня из дому не выпустит, почему бы и тебе с ним не побыть?
– Да, мэм, – сказал я. Но мне было всего двенадцать; для меня длиннющие креповые ленты, свисавшие с дверей банка мистера де Спейна, были вовсе ни к чему: мы теряли лишний свободный день; у нас и без того занятия были отменены на неопределенное время, а даже самый заядлый, самый опытный прогульщик не может нагромоздить один свободный день на другой, а ведь можно было бы этот день оставить про запас, добавить, когда кончится теперешний перерыв и мальчишка Ридделла либо помрет, либо выздоровеет, в общем, когда опять начнутся занятия. Или еще лучше: сберечь бы этот день на те унылые месяцы, когда рождество уже прошло так давно, что и не помнишь, когда оно было, и кажется, что лето где-то умерло и никогда больше не вернется.
Ведь мне было всего двенадцать лет; мне надо бы напомнить, что самые длинные каникулы в мире ничего не значат для тех людей, которых черные ленты на дверях банка освободили от работы в этот день. И, только став много старше двенадцати, я понял, что этот венок на дверях банка – не мирты печали, а лавры победы, что в этих гирляндах искусственных цветов, черного крепа и алых лент открыто торжествовала свою вечную бессмертную победу общественная добродетель, доказавшая, что она вовеки неистребима и непобедима.
А тогда я даже не понимал, на что смотрю. Ну конечно же, я убежал в город, не сразу после отъезда мамы и дяди Гэвина, но довольно скоро. И Алек Сэндер тоже. Мы слышали, как Гастер звала нас, когда мы уже завернули за угол, и побежали поглазеть на венок, висевший над закрытыми дверями банка, и увидели, что собралось много людей, и, как я теперь понимаю, основания для любопытства у них были ничуть не благороднее, чем у нас с Алеком Сэндером. А когда мистер де Спейн приехал в центр, как обычно, около девяти утра, и забрал свою корреспонденцию на почте, как делал обычно, и потом отпер своим ключом боковую дверь, как обычно, потому что боковая дверь постоянно была на запоре, мы – то есть я – не понимали, что он выглядел так, будто ничего не случилось, потому что ему надо было в то утро приехать в город именно с таким видом. В это утро ему нужно было встать, побриться, одеться, а может быть, и прорепетировать перед зеркалом, как поехать в центр в то же время, в какое он всегда приезжал, чтобы весь Джефферсон видел, что он все делает точь-в-точь как обычно, и что если в это утро где-то в Джефферсоне случилось несчастье, горе, то его ни это горе, ни это несчастье никак не касались, потому что он был одинок и не женат; он даже в банк вошел через свою боковую дверь, как будто еще имел на это право.
Теперь-то я знаю, что тогда все, весь Джефферсон уже знал, что банка он лишился. Потому что если даже старый мистер Уорнер выгнал бы мистера Флема Сноупса из Джефферсона, то и мистер де Спейн все равно там не остался бы. В каком-то смысле он должен был это сделать не только ради своей мертвой возлюбленной, своей мертвой любви; он должен был уехать и ради Джефферсона. Потому что он нас оскорбил. Он презрел не только все моральные устои брака, гласившие, что нельзя мужчине и женщине спать вместе без удостоверения из полиции, он презрел и экономику брака, каковой является деторождение, публично выхваляясь тем, что можно безнаказанно, по собственному желанию, не производить потомства; он презрел и самый институт брака, дважды: не только сам не вступая в брак, но и разрушив брак Флема Сноупса. И за это его ненавидели вдвойне: и за то, что он делал, и за то, что он оставался безнаказанным целых восемнадцать лет. Но это было ничто по сравнению с той ненавистью, которая ожидала его после того, как его грешная сообщница заплатила жизнью за соучастие в преступлении, а он даже не потерял ключ от боковой двери банка, ничем не заплатив за свой грех.
Все мы это знали. И он тоже знал. И мы, в свою очередь, знали, что он знает, что мы все знаем. Так что тут все было просто. С ним было покончено. Я хочу сказать, что судьба его решилась. Его роль была ясна. Впрочем, нет, сначала я сказал правильнее. Теперь мне и это ясно. Ему была крышка, конец. Выстрел и его доконал, и теперь совершенно все равно, что он будет делать, чего не будет. Теперь оставалась только Линда; и когда я совсем вырос, я понял, почему никто не ждал в тот день, что старый мистер Уорнер выскочит из дома мистера Сноупса, может быть, даже с тем же самым револьвером, жаждая крови, прежде всего потому, что такое поведение было бы бессмысленным. Никто не удивился и тогда, когда (разумеется, после некоторого перерыва, для соблюдения приличий, требуемых трауром, горем) мы узнали, что мистер де Спейн подал в отставку «по деловым соображениям и по состоянию здоровья» и уезжает на Запад (он действительно уехал сразу после похорон, – появился у гроба один, ни с кем не разговаривая, с крепом на рукаве, что было в порядке вещей, так как покойница была женой его вице-президента, а потом отошел от могилы вместе со всеми нами, только он пошел вперед, и через час его бьюик промчался по площади и выехал на мемфисское шоссе, и он сидел в нем один, а в багажнике было полно вещей); а его банковские акции, – но не его дом: Рэтлиф сказал, что даже у Флема Сноупса не хватило бы нахальства купить и дом в тот день, когда он скупил все акции, – были назначены к продаже, и мы еще меньше удивились, что (хотя и без огласки) мистер Сноупс все эти акции скупил.
Главное, Линда. И теперь я знаю, что все люди, все те взрослые, которые пришли поглазеть на венок над дверями банка по той же причине, что и мы с Алеком Сэндером, только случайно стали глазеть на венок, а на самом деле они пришли за тем же, зачем и мы с Алеком Сэндером: посмотреть на Линду Сноупс, когда мама с дядей Гэвином привезут ее домой, хотя нам с Алеком Сэндером хотелось главным образом посмотреть, как будет выглядеть Линда, чтобы знать, какой у нас был бы вид, если бы когда-нибудь вдруг застрелилась моя мама или Гастер. Я знаю, ждали Линду, ведь теперь я понял, что тогда думал дядя Гэвин (не знал, а просто думал: знать он ничего не мог, потому что рассказать ему все могла только сама миссис Сноупс, а если бы она ему все рассказала в той записке, которую я передал от нее накануне самоубийства, то дядя Гэвин удержал бы ее, попытался бы удержать, и мама, во всяком случае, знала бы тогда, что он пробовал ее удержать и ничего не вышло) и не только дядя Гэвин, но и весь Джефферсон думал то же самое. И теперь они простили миссис Сноупс за то, что она тяжко грешила восемнадцать лет, теперь они и себя прощали за то, что потворствовали прелюбодеянию своим прощением, напоминая, однако, и себе, а может быть, и друг другу – как знать, – что если бы она не была великой грешницей перед богом, то не дошла бы до того часа, когда ей пришлось пойти на смерть, чтобы ее дочь могла считать свою мать просто самоубийцей, но не распутницей.
О да, все ждали Линду. Теперь весь город был на ее стороне, весь город и вся округа, теперь все, кто слышал о ней и о мистере де Спейне, кто знал, или хотя бы подозревал, или просто догадывался о чем-то в течение этих восемнадцати лет, – все старались, чтобы хоть тень догадок, или подозрений, или известных фактов (если только их знали, если их хоть кто-нибудь знал) не коснулись Линды. Теперь я понял, что все люди добрые, в самом деле добрые; сто раз бывает, что они перестают обижать друг друга не только тогда, когда им просто хочется сделать другому больно, но даже тогда, когда им приходится делать больно; даже самые заядлые методисты, баптисты из баптистов, пресвитерианцы – ну, ладно, и протестанты тоже, – но тут наконец показалась машина, и Линда сидела между мамой и дядей Гэвином; они проехали через площадь, к дому Линды, так что у нас с Алеком Сэндером хватило времени дождаться на углу дяди Гэвина и остановить его машину.
– Кажется, и Гастер, и твоя мама велели вам сидеть дома все утро, – сказал он.
– Да, сэр, – сказали мы. И поехали домой. Он, конечно, ничего за обедом не ел, все старался накормить меня, неизвестно почему. То есть я хочу сказать – неизвестно, почему все взрослые, если ты им попался на глаза за обедом, непременно начинают пичкать тебя, хочешь ты есть или не хочешь, даже хотят они сами заставить тебя поесть или нет, но тут наконец даже отец заметил, что происходит.
– Давай! – сказал он мне. – Либо ешь, либо уходи из-за стола. Не хочу врать маме, когда она придет домой и спросит, почему ты ничего не ел. А так я могу сказать, что ты, кажется, удрал в Техас. – Потом он сказал: – А ты что? – потому что дядя Гэвин вдруг встал, так, сразу и сказал:
– Извините, – и вышел из-за стола; да и дядя Гэвин тоже; теперь между мистером де Спейном и Джефферсоном все было покончено, и мы, то есть Джефферсон, уже могли сосредоточить все свои мысли на том, кто же еще теперь на виду, кого еще осветила эта вспышка выстрела, – знаете, как бывает, когда вспыхнет магний в пещере; и сейчас на виду стоял дядя Гэвин. Теперь-то я понял, что в Джефферсоне были люди, считавшие, что дядя Гэвин тоже был ее любовником, а если не был, то должен был бы стать, иначе не только всему мужскому населению Джефферсона, но и всем мужчинам на земле, считающим себя настоящими мужчинами, должно быть за него стыдно.
Ведь все знали про тот давнишний рождественский бал еще до моего рождения, а потом весь город видел и слышал, все могли, как бы случайно, пройти мимо и увидать своими глазами, как дядя Гэвин с Линдой ели мороженое у Кристиана и между ними на столе лежала книжка стихов. Только все знали, что никогда он не был любовником миссис Сноупс, что, если бы он даже добивался ее, бился за нее, он и тут потерпел бы неудачу просто из верности себе, но если бы, благодаря невероятной удаче или случаю, он все же обставил бы мистера де Спейна, то по нему это сразу стало бы видно, по той простой причине, что дядя Гэвин был не способен вести тайную жизнь втайне от всех; он, как говаривал Рэтлиф, был «такой человек, у которого даже ногти на ногах прорастают сквозь башмаки».
Значит, раз дядя Гэвин потерпел неудачу, он был чист, чище всех; теперь главным был не мистер Сноупс, муж, который, будь он мужчина, давно взял бы револьвер, даже если бы понадобилось потратиться, и выгнал бы обоих, свою жену и ее драгоценного банкира, из Джефферсона. Главным был дядя Гэвин. Это он был осиротевшим, обманутым мужем, все простившим ради сиротки дочки. И в тот же день, когда, встав из-за стола, дядя Гэвин ушел из дома, а мама одна вернулась в машине, он часа в три приехал домой на такси и сказал мне (да, мы с Алеком Сэндером сидели дома, после того как нам досталось от Гастер – про маму я уж и не говорю):
– Сейчас ко мне придут четыре джентльмена. И все священники, ты, пожалуйста, проведи их в гостиную.
Я их провел: методистского, баптистского, пресвитерианского и нашего, протестантского, и у всех у них вид был как у банкиров, или докторов, или торговцев, кроме мистера Торндайка, и отличался он только тем, что воротничок у него был надет задом наперед; все они были серьезные, лица вытянутые, как лошадиные морды, нет, не то чтобы грустные: просто вытянутые, как у лошадей, и все со мной поздоровались за руку и стали как-то гудеть между собой, пока шли в гостиную, а там уже стоял дядя Гэвин, каждого называл по имени, тряс им руки, называл «доктор», и все четверо опять что-то загудели, но тут самый старший из них, просвитерианин, заговорил от имени всех: они, мол, явились предложить, что, поодиночке или все вместе, отправят заупокойную службу; что мистер Сноупс был баптистом, а миссис Сноупс родилась в пресвитерианской семье, но ни он, ни она ни в какой церкви в Джефферсоне прихожанами не состояли; и так как мистер Стивенс предложил свои… взял на себя… словом, их направили к мистеру Стивенсу для выяснения этого дела, и дядя Гэвин сказал:
– То есть вас просто послали. Послала вся эта компания чертовых старух обоего пола и бесполых тоже. И вовсе не хоронить ее, а отпустить ей грехи. Благодарю вас, джентльмены. Службу я собираюсь вести сам. – Но тут отец вернулся домой ужинать, и мама напустила его на дядю Гэвина. Сначала мы все думали, даже были уверены, что Уорнеры (а может, и мистер Флем) захотят похоронить ее на Французовой Балке: что мистер Уорнер, когда поедет домой, и ее с собой захватит вместе со всем тем, что он с собой привез (впрочем, Рэтлиф сказал, что вещей у него никогда не было и что только вороны путешествовали еще больше налегке, чем дядя Билли Уорнер), и отвезет ее туда. Но дядя Гэвин сказал «нет» от имени Линды, и многие говорили, что дядя Гэвин сказал «нет» и самой Линде. Словом, нет так нет, и похороны назначили на другой день после того, как машина Джоди Уорнера вернется с Французовой Балки вместе с Джоди и миссис Уорнер; а тут мой отец напустился на дядю Гэвина.
– К черту, Гэвин, – сказал он. – Нельзя тебе брать это на себя. Знаем, ты у нас и то и се, но уж никак не священнослужитель.
– Ну и что? – сказал дядя Гэвин. – Уж не думаешь ли ты, что город верит, будто хоть один пастырь на земле может проводить ее в рай, минуя Джефферсон, неужели ты думаешь, что даже сам Иисус Христос мог бы провести ее в рай через Джефферсон?
– Погодите! – сказала мама. – Замолчите вы оба! – Она смотрела на дядю Гэвина. – Знаешь, Гэвин, сначала я думала, что никогда не пойму, из-за чего Юла это сделала. Но теперь я, кажется, все поняла. Так неужто ты хочешь, чтобы Линде потом пришлось говорить, что ее мать и хоронил тоже какой-то холостяк?
Вот и все. На следующий день приехали миссис Уорнер и Джоди и привезли с собой того старенького священника-методиста, который крестил Юлу тридцать восемь лет назад, – совсем старик, всю свою жизнь был проповедником, и все же у него навсегда осталась согнутая спина и скорбные узловатые руки бедного фермера, и мы – весь город – собрались в том небольшом доме, женщины в комнатах, мужчины – во дворике и на улице, все чистые, аккуратные, и тихо говорили об урожае, о погоде, избегая смотреть друг на друга, а потом – кладбище, новый пустой участок, с единственной свежевырытой могилой, которая тоже скоро исчезла под грудой цветов, символически сплетенных в венки, арфы, урны и обреченных на ту же смерть, у которой они старались вырвать жало, приукрасить ее, смягчить; и мистер де Спейн стоял не то чтобы в стороне, просто одиноко, с крепом на рукаве, и, наверно, у него было такое же лицо в тот день, час, минуту, когда он, молодым лейтенантом на Кубе, повел солдат, которые слепо верили ему, во всяком случае шли за ним, потому что так было нужно, – повел туда, откуда многим не суждено было вернуться, по той простой причине, что все вернуться не могли, но и это они принимали, раз их лейтенант Сказал, что так надо.
Потом мы вернулись домой и отец сказал: – Слушай, Гэвин, почему ты, черт подери, не напьешься? – И дядя Гэвин сказал:
– Верно, надо бы, – даже не поднимая головы от газеты. Потом пора было ужинать, и я удивлялся, почему мама не сердится, что он ничего не ест. Но, по крайней мере, раз она не думала о еде, она и ко мне придираться не стала. Потом мы – дядя Гэвин, мама и я – пошли в кабинет. Понимаете, после дедушкиной смерти мама все старалась приучить нас звать эту комнату библиотекой, а теперь она сама назвала ее кабинетом, как дедушка, и дядя Гэвин сел к столу с книжкой и даже изредка переворачивал страницу, как вдруг зазвонил звонок.
– Я открою, – сказала мама. Но никто не собирался открывать, никто и не полюбопытствовал. Потом она вернулась по коридору к двери в кабинет и сказала: – Это Линда. Входи, детка, – и посторонилась и кивнула мне, а когда Линда вошла и дядя Гэвин встал, она снова кивнула мне и сказала: – Чик! – И Линда остановилась в дверях, и тут мама сказала: – Чарльз! – И я встал и вышел, и мама закрыла дверь. Но я не обиделся. Я к таким вещам уже привык. А когда я увидел, кто пришел, я даже знал, что меня выставят.
22. ГЭВИН СТИВЕНС
Наконец Мэгги выставила Чика и закрыла двери.
Я сказал: – Садись, Линда. – Но она стояла. – Плачь, – сказал я. – Не удерживай слезы, плачь.
– Не могу, – сказала она. – Я пробовала. – Она смотрела на меня. – Он мне не отец, – сказала она.
– Нет, он тебе отец, – сказал я. – Конечно, отец. О чем ты говоришь, не понимаю?
– Нет, – сказала она.
– Да, – сказал я. – Хочешь, я поклянусь? Хорошо, клянусь, что он твой отец.
– Вас там не было. Вы ничего не знаете. Вы даже не видели ее, пока… пока она… мы… не приехали в Джефферсон.
– Рэтлиф знает. Рэтлиф был там. Он знает. Знает, кто твой отец. А я знаю от Рэтлифа. Я уверен. Разве я когда-нибудь тебе лгал?
– Нет, – сказала она. – Вы единственный человек на свете, кто мне никогда не солжет, это я знаю.
– Вот видишь, – сказал я. – А я тебе в этом клянусь. Я клянусь, что Флем Сноупс твой отец. – Она и тут не двинулась с места; только слезы, как вода, не брызнули, а полились безмолвно и быстро по ее лицу. Я подошел к ней.
– Нет, – сказала она, – не трогайте меня, – и поймала, схватила обе мои руки, крепко стиснула пальцами и прижала к груди. – Когда я думала, что он не мой отец, я ненавидела их обоих – и ее и Манфреда. Да, да, я все знала про Манфреда: видела, как… они смотрят друг на друга, как разговаривают – каким голосом, как произносят имя друг друга, и мне было невыносимо, я их обоих ненавидела. Но теперь, когда я знаю, что он мой отец, все изменилось. Я за нее рада. Хорошо, что она любила, хорошо, что она была счастлива. Теперь я могу плакать, – сказала она.
23. В.К.РЭТЛИФ
Это было похоже на состязание, похоже, что Юрист засунул себе в карман динамитный патрон, запалил конец длинного шнура и теперь ждет – подойдет кто или же не подойдет, чтобы затоптать огонь вовремя. Вроде скачек наперегонки – то ли ему удастся наконец отослать Линду из Джефферсона и самому наконец избавиться навсегда от всего сноупсовского племени, то ли он сам взорвется, а с ним и все прочие, его окружающие.
Нет, какое там состязание. Во всяком случае, не с Флемом Сноупсом, потому что состязаться могут только двое, а Флем Сноупс тут был ни при чем. Скорее если он и участвовал в этом, то как судья. Нет, он даже и судьей не был. Похоже было, что он сам с собой играет в какую-то спокойную, тихую игру, вроде как пасьянс раскладывает. Теперь у него было все, ради чего он приехал в Джефферсон. Даже больше. Он получил и то, о чем он до приезда в Джефферсон и понятия не имел, что ему этого захочется, потому что до тех пор он и не знал, что оно существует. Теперь у него был банк, и деньги в банке, и президентское кресло, так что теперь он не только мог следить, чтобы деньги не украл какой-нибудь мошенник двадцать второго калибра, вроде его родича Байрона, но теперь у него никто не мог отнять и ту респектабельность, какая причиталась президенту одного из двух йокнапатофских банков. А скоро он будет жить в одном из самых больших домов во всей Йокнапатофе, а то и во всем Миссисипи, когда плотники кончат отделывать для него старый особняк де Спейнов. К тому же он избавился от двух самых отъявленных, наглых, бессовестных Сноупсов, выгнав Монтгомери Уорда и А.О. из города, так что теперь, по крайней мере на время, кроме него, единственным действующим Сноупсом в округе был лавочник-оптовик, не только такой же уважаемый, но, может, и еще более кредитоспособный, чем простой банкир. Каждый мог бы решить, что теперь-то он будет доволен. Как бы не так. Ему еще нужно было заставить девочку (теперь уже взрослую девушку), которая даже не была его дочкой, сказать: «Покорно благодарю вас, папа, за то, что вы ко мне так добры».
И все-таки это было состязание. Даже не с Линдой и, уж конечно, не с Юристом Стивенсом, потому что он давно выжал из Юриста то, что ему было от него нужно, то есть чтобы похороны его жены прошли чинно, благородно, по всем правилам и чтобы никто не посмел поднять шум и скандал вокруг этого. Нет, игру он вел против всего Джефферсона. Казалось, будто он испытывает – сколько же Джефферсон может вытерпеть, выдержать. Словно он знал, что его доброе имя целиком зависит от того, что Джефферсон не просто признает как факт, но и привыкнет к тому, что он не только вытеснил Манфреда де Спейна из его банка, но и перестраивает родовое гнездо де Спейнов, чтобы туда переселиться, и что осталась одна-единственная угроза: а вдруг этой самой молодой особе, которая до сих пор считала его своим папашей, кто-нибудь случайно откроет глаза? Вдруг она случайно узнает, что человек, как-то замешанный в самоубийстве ее матери, виноват он или не виноват, вовсе ей не отец, а ведь если кто и отвечает за смерть твоей матери, так уж лучше пусть он будет ей родным, а не совсем посторонним.
Так что тут каждый подумал бы, что чуть только пыль уляжется после похорон, он постарается выпроводить ее из Джефферсона, постарается внушить ей, что она сама хочет уехать как можно дальше. Оказалось совсем наоборот. А причиной он выставил памятник. И, разумеется, тут был замешан Юрист Стивенс. Понимаете, я и сам не знаю, кто ему поручил заняться этим памятником, кто ему дал право, – может, он сам его захватил, а может быть, к этому времени отношения между ним и всеми Сноупсами, вернее, всем семейством Флема Сноупса (хотя, нет: для него Юла Уорнер не умирала и никогда не умрет, потому что… ну, словом, я-то знаю) сложились, вроде как у человека в открытом поле – с проливным дождем: тут никаких условий не поставишь: захватит тебя ливень – и все.
Во всяком случае, именно он, Юрист, помог Линде обшарить весь дом, все материны бумаги, чтоб отыскать подходящую фотографию, и он, Юрист, отдал ее увеличить, – только голову, – и отослал в Италию, чтобы там высекли, как его там, – барельеф для памятника, и ему, Юристу, оттуда посылали пробные рисунки, он должен был решать, какой выбрать, он же и указывал, как их переделать, и отправлял обратно. И это право он сам себе присвоил, даже если бы Флем пытался вмешаться, удержать его, потому что он хотел, чтобы Флем открыл памятник, потому что тогда Флем отпустил бы ее. Но сам-то памятник был делом рук Флема, будьте спокойны. Флем и заплатил за него, сам его задумал, сам набросал план, выбрал форму, размер и надпись – шрифт, величину букв, – а про цену и не заикнулся. Да, можете быть спокойны, это все Флем. Потому что действовал он по плану, чтобы добиться того, зачем он приехал в Джефферсон и через все прошел, что с ним было.
Да, конечно, Юрист сам устроил, чтобы Линда уехала, выбралась отсюда наконец; ждали только установки памятника, потому что Флем дал слово, что тогда он ее отпустит. Уезжала она в такое место, под названием Гринич-Вилледж в Нью-Йорке; Юрист все сам сделал, договорился с друзьями из Гарварда, чтобы они ее встретили на вокзале и помогли устроиться, сняли комнату и все такое.
– Это колледж, что ли? – сказал я. – Вроде как у нас на Семинари-Хилл?
– Нет, нет, – говорит он. – То есть да. Но не то, что вы думаете.
– Я думал, что вы непременно хотели ее отправить в колледж, там на севере.
– То было раньше, – говорит он, – с тех пор много чего случилось. Слишком много, слишком быстро, слишком неожиданно. Она переросла все университеты за одни сутки, две недели назад. Теперь ей надо опять в них врасти, а на это нужен год, может, два. Теперь Гринич-Вилледж для нее самое подходящее место.
– А что это за Гринич-Вилледж? – говорю я. – Вы мне так и не объяснили.
– Это место, хотя и на ограниченном пространстве, но без истинных границ, куда молодежь любого возраста идет искать мечту.
– А я и не знал, что у таких мест нет географических границ, – говорю. – Я-то думал, что за этой нечистью охотиться можно повсюду.
– Не всегда. По крайней, мере, не для Линды. Иногда нужна благоприятная обстановка, лес, такие места, где люди уже раньше успешно охотились и напали на ту же дичь, что и вам нужна. Иногда некоторым людям нужна помощь, чтобы ее отыскать. А ту добычу, что они хотят поймать, им сначала нужно создать самим. Для этого нужны двое.
– Двое чего? – говорю я.
– Да, – говорит, – двое.
– Вы хотите сказать – муж?
– Ну что ж, – говорит, – можете его назвать и так. Неважно, как вы его назовете.
– Послушайте, Юрист, – говорю я, – да за такие слова многие, фактически большинство, нет, фактически даже все наши добрые, богобоязненные, праведные, воинствующие верующие христиане всего Джефферсона, всей Йокнапатофы, те, что сами с гордостью будут утверждать, что они-то никогда в жизни ничем таким не развлекались, чтоб нельзя было смотреть в глаза самому невинному ребеночку, они же вас назовут прямым пособником дьявола, сводником и попустителем.
Но Юристу было не до шуток. Да и мне тоже. – Да, – говорит он, – так с ней и будет. Трудно ей придется. Ей надо будет со многими встречаться, долго выбирать. Потому что и ему будет трудно, почти невозможно с ней равняться. Он должен быть очень смелым, потому что тут рок, а может, даже несчастье. Это ее судьба. Она обречена жить в тревоге и выносить все, обречена узнать одну страсть, одно горе и нести их всю жизнь, как некоторые люди с рождения обречены на то, что их ограбят, или предадут, или убьют.
И тут я сказал:
– Женитесь на ней. Конечно, вы об этом никогда не думали.
– Я? – сказал он. Совсем спокойно: ни удивления, ничего. – А мне казалось, что только об этом я и говорил в последние десять минут. Ей нужен лучший из лучших. Но и ему это может оказаться не под силу.
– Женитесь на ней, – говорю.
– Нет, – говорит. – Это уж моя судьба – всегда упускать возможность жениться.
– Вы хотите сказать – всегда спасаться от брака?
– Нет, нет, – говорит он, – от этого я никогда не спасусь. Брак всегда стоит на моем пути. Такая уж моя участь – то я его упускаю, то он, для моего благополучия, для моей сохранности, упускает меня.
Так что все было решено, оставалось только получить этот мраморный портрет, это лицо, из Италии, и он все время их допекал, то по телефону, то по телеграфу, и чуть ли не каждый день самым любезным, самым вежливым, адвокатским голосом звонил итальянскому консулу в Новом Орлеане и ждал, пока можно будет приделать этот барельеф на памятник, а потом (если надо) взять Флема за шиворот, пихнуть в машину, отвезти на кладбище, а там снять с памятника покрывало, и чтоб билет до Нью-Йорка для Линды (он сам заплатил бы за него, только это было лишнее, потому что последнее, что сделал дядя Билли, перед отъездом домой, с похорон, это перевел в банк – только не в банк Флема, а в другой банк, причем Юрист был одним из опекунов, – порядочный куш из тех денег, которые должна была бы унаследовать Юла по его завещанию, где он так и не изменил ее фамилию на «Сноупс») был у него на руках.
Так что пришлось нам ждать. И это тоже было довольно интересно. То есть Юрист был занят тем, что без конца теребил итальянское правительство, а для меня всегда самое важное – за чем-то наблюдать, – конечно, если дело касается людей. Они – Флем и Линда – все еще жили в том же маленьком домике, и, хотя он его давным-давно купил, все считали, что он его нанимает. И машиной Флем тоже обзавелся довольно скоро. То есть, конечно, когда уже прошел приличный срок после того, как он стал президентом банка; нельзя же было злоупотреблять, гонять Санта Клауса раз за разом. Машина была не очень дорогая, просто добротная, как раз такого как надо приличного размера, добротного приличного черного цвета, и он даже сам научился ее водить, – наверно, ему это было нужно, потому что приходилось каждый день, после закрытия банка, ездить и смотреть, как работают плотники в его новом доме (спереди пристраивались колонны, такие, знаете, высокие, чтоб каждый, кто таких колонн сроду не видал, сразу понял бы, что это такое, вроде как на тех фотографиях, где красавица конфедератка в юбке на обручах, под магнолией, прощается со своим женихом-конфедератом, перед тем как он ускачет приканчивать генерала Гранта), и Флему приходилось самому водить машину, потому что Линда, хотя и умела водить машину и даже иногда в ней ездила, – уж не говоря о том, что все женщины, понятное дело, любят всякую стройку и перестройку квартир, все равно чьих, как птицы любят вить гнезда, – и хотя она возила его как-то в первый раз смотреть дом, но внутрь так и не вошла и больше уже туда с ним не ездила.
Но, как я уже сказал, все мы были этим заняты, нас это как-то касалось или просто интересовало, так что мы и подождать могли. А, как известно, всякое ожидание кончается, стоит только подождать подольше. Настал октябрь, славное время года, самое, можно сказать, лучшее. И, разумеется, Юрист сам поехал за этой штукой на вокзал и получил ее, хотя я уверен, что за пересылку уплатил Флем, потому что у Юриста не хватило бы терпения ждать, пока агент все подсчитает и выпишет. Нет, он, как гусей, погнал перед собой, по платформе, к своей машине, двух негров, которые несли эту штуку, – она была вся обвернута соломой и забита в деревянном ящике. И в следующие три дня его служебный кабинет видел его, так сказать, на лету, на расстоянии, когда он проезжал мимо. Хорошо, что в эти дни ни банда разбойников, ни какие-нибудь грабители или жулики-подрядчики, а то и просто судейские крючки не покушались на финансовое благополучие нашей Йокнапатофы, иначе нашей Йокнапатофе пришлось бы выкручиваться своими силами, без всякой помощи со стороны прокурора округа. А он уже заранее, до того как прибыл барельеф, нанял каменщиков, а те должно быть, уже известку растворили, и как-то утром я его поймал, положил руку на дверцу машины и говорю:
– Давайте я с вами съезжу на кладбище, – а он нагнулся, машину он уже завел, мотор работал, снял мою руку, отбросил ее и сказал:
– Не путайтесь под ногами, – и уехал, а я поднялся к нему в кабинет – там двери никогда не запирались, даже когда он еще был в себе и уходил оттуда на весь день, и я открыл нижний ящик, где он держал бутылку, но от нее и не пахло виски. Тогда я подождал на улице, пока уроки в школе не кончились, поймал этого мальца, Чика, и говорю ему:
– Может, у твоего дядюшки дома есть хоть немного виски? – А он говорит:
– Не знаю. Посмотрю. А вы хотите, чтобы я налил стаканчик и принес сюда?
– Нет. Ему не стаканчик нужен. Ему надо целую бутылку, да большую и полную. Тащи все сюда; я с ним посижу, присмотрю за ним.
Потом наконец памятник закончили, Флем мог его открывать, и он, Юрист, послал мне приказ, короткий, отчетливый, ну чисто генерал перед взятием города: «Будьте у меня в кабинете ровно в три тридцать, заедем за Чиком. Поезд отправляется из Мемфиса в восемь, времени мало».
Я и пришел. Только не в кабинет – он уже сидел в машине, и мотор работал, когда я подошел. – Какой это поезд отправляется в восемь, куда отправляется и кто едет? – говорю.
– Линдин поезд, – говорит. – Она приедет в Нью-Йорк в субботу утром. Вещи у нее сложены, все готово к отъезду. Флем ее отправит до Мемфиса на своей машине, как только все будет сделано.
– Флем ее отправляет? – говорю.
– А что тут такого? – говорит он. – Ведь она его дочь. В конце концов должны же вы что-то сделать для своих детей, если они даже не совсем ваши. Ну, садитесь, – говорит, – вот и Чик.
И мы поехали на кладбище и увидали – стоит этакая колонна, уж не знаю, сколько Флем за нее выложил, а только видно было сразу, что стоила она Флему недешево, – стоит посреди нового кладбищенского участка с одной-единственной могилой, у изголовья этой самой могилы, которая еще и не осела как следует, и все оно – этот камень, мрамор этот, – белее белого под теплым осенним солнцем, а вокруг деревья – ярко-желтые и красные и темно-красные – клены, дубы, орешник, сумах и каучуковое дерево, стоят, словно костры среди темно-зеленых кедров. Тут подошла и вторая машина – он с Линдой на заднем сиденье, а впереди негр-шофер, который должен был отвезти ее в Мемфис, и весь ее багаж (все новенькое) сложен на переднем сиденье, рядом с шофером; подъехали, остановились, а он сидит, и его черная шляпа, с виду такая же новехонькая, будто он ее только что у кого-то одолжил, и на нем галстук бабочкой, тоже с виду новенький, а сам он все жует свою жвачку медленно, ровно, а эта девочка сидит рядом с ним, прямая, спокойная, даже не прислоняется к спинке, и на ней такой темный костюм, вроде как дорожный, и маленькая шляпа с вуалькой, а руки в белых перчатках лежат тихо на коленях и сжаты крепко-накрепко, и она ни разу, ни одного-единственного разу даже не взглянула на этот каменный памятник, а на нем это мраморное лицо – Юрист сам его выбрал и заказал, и сначала кажется, что лицо это вовсе не похоже на Юлу, вообще ни на кого ничуть не похоже, но так только сперва кажется, а потом понимаешь, что это неверно, потому что оно на всех других женщин, конечно, не похоже, похоже оно на ту, единственную женщину, про которую каждый мужчина, если только ему выпало счастье быть настоящим мужчиной, скажет: «Да, это она. Я ее знал пять лет назад, или десять лет назад, или пятьдесят лет назад, и, пожалуй, теперь я уже имею право больше никогда о ней не вспоминать», – а под этим лицом высечена надпись, это он – сейчас я не про Юриста говорю, – он сам ее выбрал:
ЮЛА УОРНЕР СНОУПС
1889 – 1927
Добродетельная жена – венец супругу
Дети растут, благословляя ее
и сам он сидит, жует, чуть заметно, ровно, а она, спокойная, прямая, как тростинка, рядом с ним, ни на что не смотрит, и эти два белых комка – ее кулаки, лежат на коленях. Потом он пошевелился. Наклонился немного, плюнул из окна и снова привалился к спинке сиденья.
– Теперь можно ехать, – сказал он.
24. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН
И автомобиль тронулся. Тогда я повернулся и пошел назад к нашей машине, как вдруг Рэтлиф сказал у меня за спиной:
– Обожди. Есть у тебя чистый платок? – И я повернулся и увидел, что дядя Гэвин идет прочь от нас, спиной к нам, идет никуда: просто идет, и тут Рэтлиф взял у меня платок, и мы нагнали его. Но он уже успокоился, он сказал только:
– Что такое? – А потом сказал: – Ну, ладно, поехали. Вам-то, друзья, можно бездельничать хоть весь день, но я-то в конце концов служу, работаю. И мне надо быть поближе к своему кабинету, чтобы всякий, кто хочет совершить против нашего округа преступление, мог меня найти.
Мы сели в машину, он завел мотор, и мы поехали назад в город. Только теперь он все говорил про футбол и сказал мне: – Пора бы тебе наконец вылезти из пеленок, пора играть в городской команде! Мне там нужен свой человек, я-то знаю, отчего у них дело не клеится. – И все говорил, и даже снимал с руля обе руки, чтобы показать нам, о чем речь: вся беда, мол, в том, что футбол может понимать только знаток, ведь никому другому не уследить за происходящим на поле; это вам не бейсбол, где все стоят на местах, а мяч летает, там уследить за игрой нетрудно. А в футболе и мяч и игроки двигаются сразу, да к тому же всегда непременно кучей, гурьбой, и мяч посередке, в самой гуще, не поймешь даже, у кого он, уж не говоря, у кого он должен быть; а мяч весь облеплен грязью, и все игроки носятся и вертятся вокруг него в грязи и пыли, покуда их самих грязь не облепит; и он все говорил, размахивал руками, а мы с Рэтлифом только вскрикивали: «Держи руль! Держи руль!» – а дядя Гэвин говорил Рэтлифу: «Значит, по-вашему, я не прав» или: «Вы, конечно, со мной не согласны», «Можете говорить что угодно», – а Рэтлиф только говорил: «Да нет же, я и не думал» или: «Нет, нет», или: «Я про футбол и слова не сказал», – а потом наконец он, Рэтлиф, мне говорит:
– Нашел бутылку?
– Нет, сэр, – сказал я. – По-моему, ее выпил папа. А новый бочонок мистер Гаури привезет только в воскресенье вечером.
– Дайте мне сойти, – сказал Рэтлиф дяде Гэвину. Дядя Гэвин остановился на полслове и спросил:
– Что?
– Я сойду, – сказал Рэтлиф. – На минутку.
И дядя Гэвин притормозил, дал Рэтлифу сойти (мы как раз доехали до площади), а потом мы поехали дальше, и дядя Гэвин снова заговорил, потому что замолчал он только, чтобы спросить у Рэтлифа: «Что?» – а потом остановил машину и пошел к двери своего кабинета и все говорил какие-то глупости, невозможно было разобрать, есть ли в них смысл или нет, а потом взял одну из своих трубок и стал шарить глазами по столу, покуда я не пододвинул ему табакерку, и тогда он поглядел на табакерку и сказал: «Ах да, спасибо», – и положил трубку на стол, а сам все говорит, говорит. А потом вошел Рэтлиф, подошел к шкафчику, взял оттуда стакан, ложку и сахарницу, достал из-за пазухи большую бутылку белого виски, – дядя Гэвин все говорил, – и подошел к дяде Гэвину и протянул ему бутылку.
– Вот, – сказал он.
– Ах да, большое спасибо, – сказал дядя Гэвин. – Отличная штука. Да, да, отличная. – А сам к бутылке и не притронулся. Он ее не взял даже, когда Рэтлиф поставил ее на стол, – наверно, она так и стояла, когда на другое утро Клефус пришел подметать кабинет и нашел ее и, наверно, хотел было выбросить, но вовремя сообразил, понюхал, или попробовал, или просто выпил ее. А дядя Гэвин снова взял трубку, и набил ее, и стал шарить в кармане, а Рэтлиф протянул ему спичку, и дядя Гэвин замолчал, поглядел на нее и сказал: – Что? – Потом он сказал: – Спасибо, – взял спичку, осторожно чиркнул ею снизу о доску стола, потом осторожно задул ее, положил в пепельницу и трубку тоже положил в пепельницу, сложил руки на столе и сказал Рэтлифу:
– Может, вы мне объясните, потому что сам я, хоть убейте, не понимаю. Почему она это сделала? Почему? Ведь обычно женщин не интересуют факты, лишь бы все сходилось: это мужчинам наплевать, сходится все или нет, наплевать, кто искалечен, сколько человек искалечено, лишь бы их посильнее искалечило. Так что я хочу спросить у вас. Вы знаете женщин, день-деньской разъезжаете по округе и бываете среди них, в самой их гуще, путешествуете из гостиной в гостиную, этаким франтом, ни дать ни взять – кум королю, будто какой-то непотребный… – И он замолчал, а Рэтлиф спросил:
– Что? Чего я не потребовал?
– Разве я сказал «не потребовал»? – сказал дядя Гэвин. – Да нет же, я спросил: Почему? Из-за печали и горя молодой девушки, – но ведь молодым девушкам приятно горевать и печалиться, им это не страшно. А тут еще всего неделю назад был ее день рождения, но в конце концов во всем виноват Флем, он за целую неделю ни разу не вспомнил, что ей девятнадцать исполнилось. Ну ладно, забудем про это; ведь сказал же кто-то, что девушки любят горе и страдания. Нет, нет, я спросил: «Почему?» – Он глядел на Рэтлифа. – Почему? Почему она это сделала? Кто ее заставил? И зачем? Зачем это? Понапрасну погубить то, что она не могла, не имела права губить, она себе не принадлежала, не имела права губить себя, уничтожать, она была достоянием слишком многих, и это достояние так легко было погубить, разрушить, разбросать, так что и следа не осталось. – Он поглядел на Рэтлифа. – Скажите мне, В.К., почему?
– Может, ей все наскучило, – сказал Рэтлиф.
– Наскучило, – сказал дядя Гэвин. – И снова повторил негромко: – Да, наскучило. – И тут он заплакал, сидя в кресле, положив руки на стол и даже не закрывая лица. – Да, – сказал он. – Ей все наскучило. Она любила, умела любить, дарить любовь и брать ее… Но дважды она пыталась и дважды терпела неудачу, не могла найти не только человека достаточно сильного, чтобы заслужить ее любовь, но даже достаточно смелого, чтобы ее принять. Да, – сказал он, плача и даже не пытаясь закрыть от нас лицо, – да, конечно, ей все наскучило.
И еще одно. Как-то утром – уже снова настало лето, июль – у перрона остановился поезд, шедший из Нового Орлеана на север. Первым обычно соскакивал с подножки негр-проводник – не из пульмановского вагона, эти вагоны всегда бывали в хвосте поезда, мы этих проводников почти не видели, а из передних бесплацкартных вагонов, – чтобы походить по перрону, поговорить со станционными рабочими и другими неграми, которые всегда собирались тут встречать пассажирские поезда. Но на этот раз первым сошел сам старший проводник, он соскочил почти на ходу, а следом за ним белый начальник поезда, едва не наступая ему на пятки; вагонный проводник вообще не сошел; только высунулся из окна чуть ли не до пояса.
А потом сошли четыре существа. Оказалось – дети. Всех выше ростом была девочка, но мы так и не узнали, старшая она или просто всех выше, за ней – два мальчика, все трое в комбинезонах, – а потом малыш в одной рубашке до пят, похожей на мужскую сорочку, сшитую из мучного мешка или, может, из куска старой палатки. На груди у каждого были прикреплены проволокой картонные бирки, на которых карандашом было написано:
ОТПРАВИТЕЛЬ: БАЙРОН СНОУПС, ЭЛЬ-ПАСО, ТЕХАС.
ПОЛУЧАТЕЛЬ: МИСТЕР ФЛЕМ СНОУПС, ДЖЕФФЕРСОН, ШТАТ МИССИСИПИ.
Правда, мистер Сноупс при этом не присутствовал. Ему было некогда – он теперь стал банкиром и пресвитером баптистской церкви, вдовцом, жил одиноко в старом доме де Спейна, который отделал под особняк вроде тех, что строили на Юге до гражданской войны; так что встречать их он не пришел. Встречал их Динк Квистенберри. Он еще на Французовой Балке женился на одной из сестер, или племянниц мистера Сноупса, или кем она ему там приходилась, и когда мистер Сноупс отправил А.О.Сноупса обратно в Балку, семейство Квистенберри приехало сюда, чтобы купить, или снять, или, во всяком случае, получить в пользование «Гостиницу Сноупса», которая теперь уже была не «Гостиницей Сноупса», а «Джефферсонским отелем», хотя люди там останавливались все те же, скототорговцы и присяжные, обязанные заседать в окружном суде. Конечно, Динк был уже достаточно взрослым, чтобы быть зятем мистера Сноупса, или кем он там ему доводился, но никому и в голову не приходило сказать такому человеку «мистер».
Он был там; наверное, его прислал мистер Сноупс. И при виде их он, наверное, почувствовал то же самое, что и мы, когда их увидели, и то, что чувствовали, судя по их лицам, старший проводник, и начальник поезда, и вагонный проводник с самого Нового Орлеана, где, как видно, они приняли этот груз. Потому что эти существа были не похожи на людей. Они были похожи на змеенышей. Впрочем, может, и это слишком сильно сказано. Во всяком случае, на детей они похожи не были; меньше всего на свете они были похожи на детей – лица темные, одутловатые, волосы черные, такие, словно кто-то надел им на голову горшок, а потом остриг их в кружок тупым ножом, и глаза совершенно черные, совершенно неподвижные, ни один человек в Джефферсоне (да и во всем округе Йокнапатофа) не видел ни разу, чтоб они моргали.
Не знаю, как Динк с ними объяснялся, потому что проводник уже сказал всем, кто его слушал (а к тому времени вокруг него собралась порядочная толпа), что они не говорят ни на одном языке, о котором он знал бы хоть понаслышке, и что с ними надо поосторожней, потому что у одного из них есть складной нож с лезвием длиной в шесть дюймов, – он не знал, у которого именно, и не имел ни малейшего желания это выяснять. Но как бы то ни было, Динк посадил их в машину, а поезд пошел дальше.
Может, этим они и пугали людей или, по крайней мере, напугали Скитса Макгауна в кондитерской у дядюшки Кристиана, потому что не прошло и недели, как они стали заходить к Кристиану, все четверо (они всегда ходили вчетвером, как будто доктор или еще кто, приняв каждого от матери, просто прикрепил отрезанную пуповину к старшему. Мы к тому времени уже знали, кто они: дети Байрона Сноупса от индианки из племени джикарильских апашей из Олд-Мехико), и через две минуты выходили, набивая себе рты мороженым.
Они были неразлучны и в городе, и за городом, во всякое время дня и, как потом оказалось, ночи тоже; однажды в два часа ночи Отис Харкер поймал их, когда они выходили гуськом из-за угла фабрики, на которой разливали по бутылкам кока-кола; Отис сказал, что не мог понять, как они, черт их дери, туда попали, потому что все двери были заперты и все окна целы, но он за пять, а может, и за шесть футов учуял запах теплого сиропа, которым была залита у младшего ночная рубашка, или халат, или что там на нем было. Потому что ближе он не подходил; он сказал, что крикнул на них, велел им идти домой, к Сноупсу, я хочу сказать – в «Джефферсонский отель», но они молча стояли, глядя на него, и, как он рассказывал, он не хотел им сделать ничего плохого: просто хотел заставить их сдвинуться с места, потому что они, может, его не понимали. Так что он просто расставил руки, будто хотел их поймать, крикнул и сразу осекся – перед ним молнией блеснул нож, блеснул и сразу исчез: он не успел даже заметить, у кого из троих – у девочки или у одного из мальчиков – он был спрятан; и мистер Коннорс пошел на другое утро к Динку Квистенберри и сказал, чтобы тот не пускал их на улицу по ночам.
– Как бы не так, – сказал Динк. – Попробуйте-ка сами. Попробуйте не пускать их на улицу или вообще куда-нибудь не пускать. Я вам разрешаю. Сделайте одолжение!
Так что когда случилась эта история с собакой, даже сам мистер Хэб Хэмптон побоялся к ним подойти. А история была вот какая. У нас в Джефферсоне тогда мостили улицы, и в город приехало много новых инженеров, подрядчиков и всяких других людей с семьями, вроде семьи Ридделлов, чей мальчик устроил нам каникулы два года назад. У одного из них детей не было, а был кадиллак, а у жены его была собака, которая, как они говорили, стоила пятьсот долларов, – до сих пор о собаке дороже пятидесяти долларов, если не считать хорошо натасканного пойнтера или сеттера (да еще одной собаки по кличке Лев, помесь с эрдельтерьером, которая была когда-то у майора де Спейна, отца мистера де Спейна, и о которой до сих пор говорили охотники в Северном Миссисипи), – в Джефферсоне и не слыхали и, уж конечно, не видели; китайская болонка с золотой пластинкой на ошейнике, которая, вероятно, даже не знала, что она, собака, ездила в кадиллаке и скалила зубы через окошко не только на других собак, но и на людей, да еще специальное мясо ела, которое мясник мистера Уолла Сноупса специально заказывал в Канзас-Сити, потому что людям было слишком дорого его покупать и есть.
И вдруг эта собака пропала. Никто не знал, как это случилось, потому что когда она не скалила зубы через окошко кадиллака, то скалила зубы через окошко дома, где она… где ее хозяева жили. Но как бы то ни было, она пропала, и, думается мне, ни одна женщина на свете так не убивалась, как миссис Уидрингтон, она дала объявления во все газеты Мемфиса, и Северного Миссисипи, и Западного Тенесси, и Восточного Арканзаса, обещая крупное вознаграждение тому, кто найдет собаку, и ни мистер Хэмптон, ни мистер Коннорс не могли спать по ночам, – миссис Уидрингтон непрестанно звонила им по телефону, а агент страховой компании (жизнь собаки, конечно, была застрахована, и, может, застрахованных людей в Джефферсоне было больше, чем собак, но в таком случае незастрахованных тоже было больше, чем собак) вместе с миссис Уидрингтон днем и ночью бегал по двору и кричал, как нам с Алеком Сэндером казалось: «Дзы! Дзы! Дзы!» – но потом дядя Гэвин объяснил нам, что ее звали Лао-цзы в честь китайского поэта. Но вот однажды четверо индейцев-Сноупсов вышли из кондитерской Кристиана, и кто-то, проходя по улице, указал на них пальцем и крикнул: «Глядите!»
Это был ошейник с золотой пластинкой. Он был на шее у младшего, поверх ночной рубашки. Мистер Коннорс сразу же приехал и сразу же послал за мистером Хэмптоном. И тут-то мистер Хэмптон побоялся подойти к ним поближе, и мы, наверно, все подумали про то же, про что и он: какая каша получится на тротуаре, если его толстое брюхо напорется на этот нож, он и ахнуть не успеет. А четверо Сноупсов-индейцев или индейцев-Сноупсов, не знаю, как правильней, стояли в ряд, глядя на него, и вид у них был не страшный, совсем не страшный; конечно, нельзя сказать, что вид у них был невинный, а тем более приветливый, но не страшный – ведь в четырех закрытых карманных ножах тоже вроде бы ничего опасного нет. Наконец мистер Хэмптон сказал:
– Ну, ладно, они тут мороженое едят да на эту фабрику лазают по ночам, а в остальное время где они бывают?
– У них есть что-то вроде стойбища или резервации, называйте как хотите, в пещере, которую они выкопали в большом овраге за школой, – сказал мистер Коннорс.
– Вы туда заглядывали? – спросил мистер Хэмптон.
– Конечно, – сказал мистер Коннорс. – Там ничего нет, только какой-то мусор и кости, да еще всякий хлам, которым они играют.
– Кости? – спросил мистер Хэмптон. – Какие кости?
– Обыкновенные, – сказал мистер Коннорс. – Куриные кости да еще ребрышки, наверное, всякие объедки.
И тогда мистер Хэмптон пошел и сел в свою машину, а мистер Коннорс – в свою, на которой была красная фара и сирена, и другие тоже туда набились, кому места хватило, и обе машины поехали к школе, а мы, все остальные, пошли пешком, потому что тоже хотели видеть, как мистер Хэмптон со своим брюхом попытается залезть в этот овраг, и если залезет, то как он будет оттуда вылезать. И он туда залез – мистер Коннорс показал ему пещеру, но предоставил ему лезть первым, поскольку он шериф, туда, где у очага лежала кучка костей, и он раскидал их носком ботинка, а потом отгреб некоторые в сторону. Он ведь был охотником, зверобоем, и совсем неплохим, до того, как брюхо у него так отросло, что он уже не мог продираться через чащу.
– Вот ваша собака, – сказал он.
И я помню – с тех пор прошло пять лет, – как мы все сидели за столом, и на улице мелькнул автомобиль Матта Ливитта, и папа сказал дяде Гэвину: «Чем это вдруг запахло?» Конечно, та история с медью у мистера Сноупса на электростанции была еще до того, как я родился; а в то утро в кабинете дяди Гэвина были миссис Уидрингтон и страховой агент, потому что собака была застрахована только от болезни, или несчастного случая, или стихийного бедствия, ниспосланного богом, и страховой агент заявил (мне кажется, он достаточно долго пробыл в Джефферсоне и успел поговорить с Рэтлифом; всякий, кто попадал в город хоть на полдня, я уж не говорю – на неделю, не мог этого избегнуть), что четверо индейцев, полусноупсов – полуджикарилл, к этим бедствиям не относятся, так что можно подать в суд и затеять тяжбу с самим Джефферсоном. О мистере Сноупсе и пропавшей меди я только слышал от дяди Гэвина, но я помню, как в тот день папа сказал, потому что это было при мне: «Чем это запахло?» А потом вошел мистер Сноупс, снял шляпу и сказал: «Доброе утро», – всем и в то же время никому; а потом говорит страховому агенту: «Сколько причитается за эту собаку?»
– Полная стоимость собаки этой породы, мистер Сноупс, пятьсот долларов, – сказал страховой агент, и мистер Сноупс (страховой агент встал и пододвинул ему к письменному столу свой стул) сел, вынул из кармана чековый бланк, вписал сумму, подтолкнул его через стол к дяде Гэвину, встал и сказал «до свидания» всем и в то же время никому, надел шляпу и вышел.
Только этим он не ограничился. Потому что на другой день индейцы Байрона Сноупса исчезли. Рэтлиф пришел к нам и рассказал об этом.
– Ну конечно, – сказал он, – Флем отправил их на Французову Балку. Ни одна ихняя бабка, я хочу сказать, ни одна из жен А.О., не пожелала их взять, но в конце концов Дю-уит Бинфорд – Дьюит Бинфорд тоже женился на одной девице из Сноупсов. Они жили возле лавки Уорнера, – взял их. С уговором, что все Сноупсы скинутся поровну и будут платить за них Дю-уиту с носа по доллару в неделю, конечно, ежели он выдержит неделю. Но, само собой, первые четыре доллара вперед, так сказать, авансом.
Так оно и вышло. Я хочу сказать, он как раз выдержал почти неделю. Рэтлиф опять пришел к нам; это было утром. – Ну, вчера в полдень нас на Французовой Балке уже не было, теперь, пожалуй, от нас и весь округ очистился. Мы теперь на вокзале, бирки привешены, багаж оплачен, ждем двадцать третьего, рейсом на юг, или еще какого-нибудь, лишь бы он проходил где-нибудь неподалеку от Эль-Пасо, Техас. – И об этом он тоже рассказал: такое сочетание, можно сказать, представляет научный интерес и – как это называется? – и дядя Гэвин подсказал ему: «антропологический», – антропологический опыт; эти четверо вымирающих краснокожих американцев чуть было не прихватили с собой одного белого, если б мамаша Дориса Сноупса и соседи не подоспели вовремя.
И он рассказал нам: когда Дьюит Бинфорд взял их к себе, он увидел, что они и не думают ложиться в кровать, стащили одеяло на пол и ложатся на него все в ряд, а на другое утро он и его жена увидели, что они и саму кровать разобрали на части и прислонили к стенке в углу, чтоб не мешала; и все это так тихо, что никакого шума не слышно. Он, Дьюит, сказал, что первым делом, прежде чем он начал беспокоиться о младшем, ему вот что пришло в голову: их ведь совсем не слышно; никто даже не знал, в доме они или нет, когда они приходили или уходили; так что они могли быть и у него в спальне ночью, в темноте, и глядеть на него.
– И он решил проверить это, – сказал Рэтлиф. – Он пошел к Таллам, взял у Вернона фонарь, дождался полуночи, и тихонько – он говорил, что никогда в жизни не двигался тише, – прокрался через прихожую к двери их комнаты, стараясь даже не дышать; а в двери он заранее проделал дырки с таким расчетом, чтобы, когда он ощупью вставит фонарь, свет упал бы как раз туда, где на соломенном тюфяке лежат две головы, те, что посередине, а теперь затаил дыхание, прислушиваясь, пока не убедился, что все тихо, и тогда включил свет. И все четыре лица были там, и восемь черных глаз, широко раскрытые, глядели прямо на него.
– И Дю-уит сказал, что он был рад бы отступиться. Но теперь он совсем с ума сошел бы от беспокойства из-за этого меньшого. И он не знал, что делать, потому что его предупредили об этом ноже, хотя сам он никогда его не видел. И тут он вспомнил про эти таблетки, про пузырек с таблетками опиума, от которых человек с ног валится, – доктор Пибоди дал их миссис Дю-уит, когда взорвалась инкубаторная лампа и спалила ей спереди почти все волосы, и он взял восемь таблеток, купил в лавке четыре бутылки газировки, положил по две таблетки в каждую бутылку, снова закрыл их и спрятал там, где, как ему казалось, они прежде всего станут искать. А когда стемнело, четыре бутылки исчезли, и он снова подождал, чтоб это средство подействовало, а потом взял фонарь Вернона, прошел через прихожую, встал на четвереньки и пополз к тюфяку – он теперь по опыту знал, в каком месте на тюфяке этот меньшой спал или, по крайней мере, лежал, – тихонько протянул одну руку и нащупал подол этой ночной рубашки, а в другой держал наготове фонарь.
И когда он это рассказывал, то прямо плакал, не столько от страха, сколько потому, что сам себе поверить не мог.
– Я ничего плохого ему не хотел сделать, – говорит. – Я ему не желал зла. Ей-же-богу, я только хотел узнать, который из них…
– Что – который из них? – спросил дядя Гэвин.
– Да я вам об этом и рассказываю, – сказал Рэтлиф. – Ему не пришлось фонарь зажигать. Просто он почувствовал, как ему ожгло обе щеки, сверху вниз; и он сказал, что в это время он уже бежал на четвереньках назад, к двери, зная, что у него даже повернуться нет времени, тем более встать на ноги и побежать, а уж дверь закрыть за собой и подавно; и когда он вбежал в комнату, где жил с миссис Дю-уит, у него и эту дверь закрыть времени не было, но все-таки ему пришлось ее закрыть, захлопнуть и кричать, звать миссис Дю-уит, двигая к двери комод, чтоб ее загородить, а миссис Дю-уит зажгла лампу и прибежала к нему на помощь, а он крикнул, чтоб она закрыла сперва окна; он чуть не плакал, по щекам от ушей у него текла кровь, залила один глаз и все лицо до самых углов рта, словно большущая улыбка, которая так и осталась бы на нем, если б он ее не стер, а потом, как он сказал, они решили, что самое лучшее погасить лампу и сидеть впотьмах, но тут он вспомнил, что они пролезли на запертую фабрику кока-колы, даже не задев патентованную сигнализацию!
Так что они только закрыли и заперли окна, а лампу оставили гореть, и сидели в этой наглухо закупоренной комнате в жаркую летнюю ночь, покуда не рассвело настолько, что миссис Дю-уит могла хотя бы пробраться на кухню, чтоб растопить плиту и приготовить завтрак. Но в доме уже никого не было. Хотя, конечно, они не могли чувствовать себя в безопасности; просто в доме никого больше не было, и они решили, не попробовать ли дать знать Флему или Хэбу Хэмптону, чтоб этих индейцев забрали, или просто упаковать их самим и сплавить к Таллу сразу же после завтрака. Во всяком случае, Дю-уит сказал, что с него и миссис Дю-уит было довольно, и они это поняли, и им уже было наплевать на четыре доллара в неделю, и часов в девять он пошел в лавку, чтобы позвонить оттуда в Джефферсон, но тут миссис Сноупс, я хочу сказать, жена А.О., номер два, та, которая получила отставку, прежде чем ей удалось перебраться в город, помогла Дю-уиту.
Мы и сами знали Дориса Сноупса. А если бы и нет, все равно признали бы его с первого же взгляда, потому что он был очень похож на своего старшего брата Кларенса (сенатора К.Эгглстоуна Сноупса, нашего – или, как говорили Рэтлиф и дядя Гэвин, Уорнерова – представителя в сенате штата), похож, как две капли воды (это опять-таки дядя Гэвин говорил), умственное развитие, как у малолетнего, и моральные принципы, как у росомахи, он был моложе Кларенса, но выглядел он не моложе, а, можно сказать, новее, как выглядит новее топор и пулемет, которые меньше были в деле; это был здоровенный, неуклюжий малый лет семнадцати и какой-то серый, весь в брата: сероватые, как пакля, волосы, серое, рыхлое, как тесто, тело, – казалось, из раны у него потекла бы не кровь, а какая-нибудь бледная овсяная кашица; он единственный из Сноупсов, или из жителей Французовой Балки, или всего округа Йокнапатофа обрадовался своим техасским родичам. Он их, можно сказать, усыновил, сказал Рэтлиф. С самого первого дня. Он даже сказал, что умеет разговаривать с ними и может натаскать их для гончей охоты; они куда лучше, чем свора простых гончих, потому что собаки рано или поздно откажутся работать и убегут домой, а этим что здесь, что там – все равно.
Так что он стал их натаскивать. Перво-наперво он поставил на пень перед лавкой бутылку газировки, привязал к ней веревку, которую протянул до самой лавки, а сам сидел на галерее, глядя, как они ходят вокруг да около и наконец подбираются так близко, чтобы кто-нибудь из них мог до нее дотянуться, и тогда он дергал за веревку и стаскивал бутылку с пня так, чтоб им было ее не достать. Но это удалось ему только в первый раз, а потом пришлось ему самому выпивать газировку и наливать в бутылку грязную воду или еще какую-нибудь дрянь или натаскивать их другим превосходным способом – он собирал брошенные фантики от конфет, заворачивал в них комки земли или просто ничего не заворачивал, и они долго не могли понять, в чем дело, особенно если время от времени действительно подбрасывать им конфету или бутылку клубничной или апельсиновой воды.
Одним словом, он все время был с ними и, когда люди смотрели, кричал и махал на них руками, как на собак, чтоб они шли туда или сюда; у них даже было какое-то место для игр, пещера или что-то вроде, тоже в овраге, в полумиле от дороги. Факт. Тебе кажется – ты смеешься над тем, что такой здоровенный малый, как Дорис, почти взрослый, играет как маленький, а потом видишь, что смеешься-то вовсе не над детской игрой, а над тем, что эти четверо принимают всерьез.
Ну так вот, только Дю-уит добрался до лавки, как вдруг бежит по дороге мамаша Дориса и кричит: «Индейцы! Индейцы!» – и больше ничего: это в ней материнская любовь заговорила и материнский инстинкт. Потому что, кажется, она еще сама ничего не знала, а даже если знала, то все равно в таком состоянии ничего сказать не могла: остановилась на дороге перед лавкой, ломает руки и кричит: «Индейцы! Индейцы!» – до тех пор, пока мужчины, сидевшие на галерее, не начали вставать, а потом бежать, потому что тут как раз подоспел Дю-уит. Он-то знал, что хочет сказать миссис Сноупс. Может, он никогда не испытывал материнской любви и материнского инстинкта, но ведь миссис Сноупс не полоснули той ночью ножом по обеим щекам.
– Индейцы? – сказал он. – Ах ты господи, бежим скорей, братцы. Может, уже поздно.
Но еще не было поздно. Они поспели как раз вовремя. Скоро им уже слышно было, как вопит и визжит Дорис, а потом они увидели издали и его самого, и тут самые быстроногие поднажали и скорей в овраг, где стоял Дорис, привязанный к дереву, а вокруг него была сложена без малого целая поленница, которая как раз занялась всерьез.
Так что они поспели вовремя. Джоди сразу позвонил Флему, и, собственно говоря, все это должно было произойти еще вчера вечером, да только вот гончих Дориса нигде не видели до нынешнего утра, а утром Дю-уит, приподняв штору, увидел, что они на галерее ждут завтрака. Но его дом был забаррикадирован еще с прошлого вечера. И автомобиль Джоди уже стоял тут же, как говорится, на всякий пожарный случай, и совсем нетрудно было заманить их туда, потому что, как сказал Дорис, им что здесь, что там – все равно.
Так что сейчас они на вокзале. Может, кто из вас, друзья, хочет поехать со мной и поглядеть то, что называется заключительной сценой, если только я правильно выразился. Самый что ни на есть распоследний конец откровенно сноупсовского поведения в Джефферсоне, если только я правильно выразился.
И мы с Рэтлифом поехали на вокзал, а по дороге он досказал мне остальное. Все устроила мисс Юнис Хэбершем: она сама позвонила в бюро обслуживания туристов в Новом Орлеане, чтобы кто-нибудь встретил джефферсонский поезд и посадил их на другой, идущий в Эль-Пасо, и в эльпасское бюро – чтоб их переправили через границу и передали мексиканской полиции для доставки домой, к Байрону Сноупсу, или в резервацию, или еще куда-нибудь. И тут я увидел у него коробку и спросил: «А это что?» – но он не ответил. Он поставил свой пикап на стоянку, взял картонную коробку, и мы пошли на перрон, где были они, трое в комбинезонах, и тот, которого Рэтлиф называл «меньшой», в ночной рубашке, и у каждого проволокой на груди прикручена новая бирка, словно кричащая:
ОТПРАВИТЕЛЬ: ФЛЕМ СНОУПС, ДЖЕФФЕРСОН, ШТАТ МИССИСИПИ.
ПОЛУЧАТЕЛЬ: БАЙРОН СНОУПС, ЭЛЬ-ПАСО, ТЕХАС.
Когда мы подошли, вокруг них была уже порядочная толпа, державшаяся на безопасном расстоянии, и Рэтлиф открыл свою коробку; там было всего по четыре – четыре апельсина, четыре яблока, четыре шоколадки, четыре пакетика с земляными орешками, четыре жевательных резинки. – Смотри, осторожнее, – сказал Рэтлиф. – Может, нам лучше положить все это на землю и подтолкнуть к ним палкой или еще чем-нибудь. – Но он этого делать не собирался. Или, во всяком случае, не сделал. Он просто сказал мне: – Идем. Ты еще не совсем взрослый, так что тебя они, пожалуй, не укусят, – подошел поближе и протянул апельсин, а восемь глаз глядели не на апельсин, не на нас, ни на что вокруг; а потом девочка, которая была выше всех ростом, сказала что-то быстрое и бессвязное, и странно было, что это произнес звонкий детский голос, и тогда протянулась одна рука и взяла апельсин, а за ней еще и еще, спокойно и неторопливо – просто быстро, а мы с Рэтлифом раздавали фрукты, и конфеты, и пакетики, и руки уже снова тянулись к нам, и лакомства исчезали так быстро, что мы не могли уследить, куда они деваются, и только у малыша в ночной рубашке, видимо, не было карманов; наконец девочка сама наклонилась и забрала у него то, что он не мог спрятать.
А потом подошел поезд; с лязгом и грохотом отворилась дверь бесплацкартного вагона, и узенькая лесенка повисла из дверного проема, как узкая отвисшая челюсть. Надо полагать, мисс Хэбершем позвонила старшему проводнику или начальнику дороги (или, может быть, самому вице-президенту), потому что оба проводника вышли из вагона, один из них быстро взглянул на четыре бирки, и мы – все мы: мы были представителями Джефферсона, – глядели, как эти существа один за другим поднялись по лесенке и исчезли в жадной железной утробе: девочка и два мальчика в комбинезонах, а за ними Рэтлифов «меньшой», в рубашке чуть не до пят, похожей на изношенную мужскую рубаху, сшитую из мучного мешка или, может, из обрывка старой палатки. Мы так никогда и не узнали, из чего.
Примечания
1
район веселых домов
(обратно)2
сам по себе (лат.)
(обратно)3
ослабевая (итал., муз.)
(обратно)4
Ассоциация молодых христиан
(обратно)5
каторжная тюрьма
(обратно)6
цитата из поэмы А.Г.Хаусмана (1859-1936) «Мальчишка из Шропшира»
(обратно)7
строка из стихотворения английского поэта Вордсворта
(обратно)8
рвотный орех (лат.)
(обратно)9
в отсутствии (лат.)
(обратно)10
здесь: хвала богу (нем. искаж.)
(обратно)11
правом первой ночи (франц.)
(обратно)
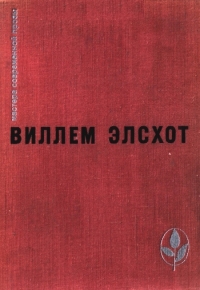



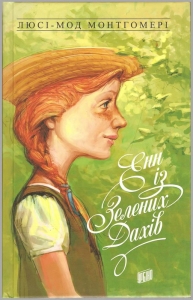
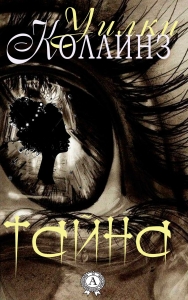
Комментарии к книге «Город», Уильям Фолкнер
Всего 0 комментариев