Ги де Мопассан Страх
Ж. – К. Гюисмансу
После обеда все поднялись на палубу. Перед нами расстилалось Средиземное море, и на всей его поверхности, отливавшей муаром при свете полной, спокойной луны, не было ни малейшей зыби. Огромный пароход скользил по зеркальной глади моря, выбрасывая в небо, усеянное звездами, длинную полосу черного дыма, а вода позади нас, совершенно белая, взбудораженная быстрым ходом тяжелого судна и взбаламученная его винтом, пенилась и точно извивалась, сверкая так, что ее можно было принять за кипящий лунный свет.
Мы – нас было шесть-восемь человек, – молчаливо любуясь, смотрели в сторону далекой Африки, куда лежал наш путь. Капитан, куривший сигару, внезапно вернулся к разговору, происходившему во время обеда.
– Да, в этот день я натерпелся страха. Мой корабль шесть часов оставался под ударами моря на скале, вонзившейся в его чрево. К счастью, перед наступлением вечера мы были подобраны английским угольщиком, заметившим нас.
Тут в первый раз вступил в беседу высокий, опаленный загаром мужчина сурового вида, один из тех людей, которые, чувствуется, изъездили среди беспрестанных опасностей огромные неизведанные страны и чьи спокойные глаза словно хранят в своей глубине отблеск необычайных картин природы, виденных ими, – один из тех людей, которые кажутся закаленными храбрецами.
– Вы говорите, капитан, что натерпелись страха; я этому не верю. Вы ошибаетесь в определении и в испытанном вами чувстве. Энергичный человек никогда не испытывает страха перед лицом неминуемой опасности. Он бывает взволнован, возбужден, встревожен, но страх – нечто совсем другое.
Капитан отвечал, смеясь:
– Черт возьми! Могу вас все-таки уверить, что я натерпелся именно страха.
Тогда человек с бронзовым лицом медленно возразил:
– Позвольте мне объясниться! Страх (а испытывать страх могут и самые храбрые люди) – это нечто чудовищное, это какой-то распад души, какая-то дикая судорога мысли и сердца, одно воспоминание о которой внушает тоскливый трепет. Но если человек храбр, он не испытывает этого чувства ни перед нападением, ни перед неминуемой смертью, ни перед любой известной нам опасностью; это чувство возникает скорее среди необыкновенной обстановки, под действием некоторых таинственных влияний, перед лицом смутной, неопределенной угрозы. Настоящий страх есть как бы воспоминание призрачных ужасов отдаленного прошлого. Человек, который верит в привидения и вообразит ночью перед собой призрак, должен испытывать страх во всей его безграничной кошмарной чудовищности.
Я узнал страх среди бела дня лет десять тому назад. И я пережил его вновь прошлой зимой, в одну из декабрьских ночей.
А между тем я испытал много случайностей, много приключений, казавшихся смертельными. Я часто сражался. Я был замертво брошен грабителями. В Америке меня как инсургента приговорили к повешению; я был сброшен в море с корабельной палубы у берегов Китая. Всякий раз, когда я считал себя погибшим, я покорялся этому немедленно, без слезливости и даже без сожаления.
Но страх – это не то.
Я познал его в Африке. А между тем страх – дитя Севера; солнце рассеивает его, как туман. Заметьте это, господа. У восточных народов жизнь не ценится ни во что; человек покоряется смерти тотчас же; там ночи светлы и свободны от легенд, а души свободны от мрачных тревог, неотвязно преследующих людей в холодных странах. На Востоке можно испытать панический ужас, но страх там неизвестен.
Так вот что случилось со мною однажды в Африке.
Я пересекал большие песчаные холмы на юге Уаргла. Это одна из удивительных стран в мире, где повсюду сплошной песок, ровный песок безграничных берегов океана. Так вот представьте себе океан, превратившийся в песок в минуту урагана; вообразите немую бурю, с неподвижными волнами из желтой пыли. Эти волны высоки, как горы, неровны, разнообразны; они вздымаются, как разъяренные валы, но они еще выше и словно изборождены переливами муара. Южное губительное солнце льет неумолимые отвесные лучи на это бушующее, немое и неподвижное море. Надо карабкаться на эти валы золотого праха, спускаться, снова карабкаться, карабкаться без конца, без отдыха, нигде не встречая тени. Лошади храпят, утопают по колена и скользят, спускаясь со склонов этих изумительных холмов.
Я был вдвоем с товарищем, в сопровождении восьми спаги и четырех верблюдов с их вожатыми. Мы не разговаривали, томимые зноем, усталостью и иссохнув от жажды, как сама эта знойная пустыня. Вдруг кто-то вскрикнул, все остановились, и мы замерли в неподвижности, поглощенные необъяснимым явлением, которое знакомо путешествующим в этих затерянных странах.
Где-то невдалеке от нас, в неопределенном направлении, бил барабан, таинственный барабан дюн; он бил отчетливо, то громче, то слабее, останавливаясь порою, а затем возобновляя свою фантастическую дробь.
Арабы испуганно переглянулись, и один сказал на своем наречии: «Среди нас смерть». И вот внезапно мой товарищ, мой друг, почти мой брат, упал с лошади головой вперед, пораженный солнечным ударом.
И в течение двух часов, пока я тщетно старался вернуть его к жизни, этот неуловимый барабан все время наполнял мой слух своим однообразным, перемежающимся и непонятным боем; и я чувствовал, что в этой яме, залитой пожаром солнечных лучей, среди четырех стен песка, рядом с этим дорогим мне трупом меня до мозга костей пронизывает страх, настоящий страх, отвратительный страх, в то время как неведомое эхо продолжало доносить до нас, находившихся за двести лье от какой бы то ни было французской деревни, частый бой барабана.
В этот день я понял, что значит испытывать страх; но еще лучше я постиг это в другой раз…
Капитан прервал рассказчика:
– Извините, сударь, но как же насчет барабана?… Что же это было?
Путешественник отвечал:
– Не знаю. И никто не знает. Офицеры, застигнутые этим странным шумом, обычно принимают его за эхо, непомерно усиленное, увеличенное и умноженное волнистым расположением холмов, градом песчинок, уносимых ветром и ударяющихся о пучки высохшей травы, так как не раз было замечено, что явление это происходит вблизи невысокой растительности, сожженной солнцем и жесткой, как пергамент.
Этот барабан, следовательно, не что иное, как звуковой мираж. Вот и все. Но об этом мне стало известно лишь позже.
Перехожу ко второму случаю.
Это было прошлой зимой в одном из лесов северо-восточной Франции. Ночь наступила двумя часами раньше обычного, так темно было небо. Моим проводником был крестьянин, шедший рядом со мною по узенькой тропинке, под сводом сосен, в которых выл разбушевавшийся ветер. В просвете между вершинами деревьев я видел мчавшиеся смятенные, разорванные облака, словно бежавшие от чего-то ужасного. Иногда при более сильном порыве ветра весь лес наклонялся в одну сторону со страдальческим стоном, и холод пронизывал меня, несмотря на быстрый шаг и толстую одежду.
Мы должны были ужинать и ночевать у одного лесничего, дом которого был уже недалеко. Я отправлялся туда на охоту.
Мой проводник поднимал время от времени голову и бормотал: «Ужасная погода!» Затем он заговорил о людях, к которым мы шли. Два года тому назад отец убил браконьера и с тех пор помрачнел, словно его терзало какое-то воспоминание. Двое женатых сыновей жили с ним.
Тьма была глубокая. Я ничего не видел ни впереди, ни вокруг себя, а ветви деревьев, раскачиваемых ветром, наполняли ночь немолчным гулом. Наконец я увидел огонек, а мой товарищ вскоре наткнулся на дверь. В ответ раздались пронзительные крики женщин. Затем мужской голос, какой-то сдавленный голос, спросил: «Кто там?» Проводник назвал себя. Мы вошли. Я увидел незабываемую картину.
Пожилой мужчина с седыми волосами и безумным взглядом ожидал нас, стоя среди кухни и держа заряженное ружье, в то время как двое здоровенных парней, вооруженных топорами, сторожили дверь. В темных углах комнаты я различил двух женщин, стоявших на коленях лицом к стене.
Мы объяснили, кто мы такие. Старик отставил ружье к стене и велел приготовить мне комнату, но так как женщины не шевельнулись, он сказал мне резко:
– Видите ли, сударь, сегодня ночью исполнится два года с тех пор, как я убил человека. В прошлом году он приходил за мною и звал меня. Я ожидаю его и нынче вечером.
И он прибавил тоном, заставившим меня улыбнуться:
– Вот почему нам сегодня не по себе.
Я ободрил его, насколько мог, радуясь тому, что пришел именно в этот вечер и был свидетелем этого суеверного ужаса. Я рассказал несколько историй, мне удалось успокоить почти всех.
У очага, уткнувшись носом в лапы, спала полуслепая лохматая собака, одна из тех собак, которые напоминают нам знакомых людей.
Снаружи буря ожесточенно билась в стены домика, а сквозь узкий квадрат стекла, нечто вроде потайного окошечка, устроенного рядом с дверью, я увидел при свете ярких молний растрепанные деревья, качаемые ветром.
Я чувствовал, что, несмотря на все мои усилия, глубокий ужас продолжает сковывать этих людей и всякий раз, когда я переставал говорить, их слух ловил отдаленные звуки. Утомившись зрелищем этого бессмысленного страха, я собирался уже спросить, где мне спать, как вдруг старый лесничий вскочил одним прыжком со стула и опять схватился за ружье, растерянно бормоча:
– Вот он! Вот он! Я слышу!
Женщины опять упали на колени по углам, закрыв лицо руками, а сыновья вновь взялись за топоры. Я пытался было успокоить их, но уснувшая собака внезапно пробудилась и, подняв морду, вытянув шею, глядя на огонь полуслепыми глазами, издала тот зловещий вой, который так часто приводит в трепет путников по вечерам, среди полей. Теперь все глаза были устремлены на собаку; поднявшись на ноги, она сначала оставалась неподвижной, словно при виде какого-то призрака, и выла навстречу чему-то незримому, неведомому, но, без сомнения, страшному, так как вся шерсть на ней поднялась дыбом. Лесничий, совсем помертвев, воскликнул:
– Она его чует! Она его чует! Она была здесь, когда я его убил.
Обеспамятевшие женщины завыли, вторя собаке.
У меня невольно мороз пробежал по спине. Вид этого животного, в этом месте, в этот час, среди этих обезумевших людей, был страшен.
Целый час собака выла, не двигаясь с места, выла, словно в тоске наваждения, и страх, чудовищный страх вторгался мне в душу Страх перед чем? Сам не знаю Просто страх – вот и все.
Мы сидели, не шевелясь, мертвенно-бледные, в ожидании ужасного события, напрягая слух, задыхаясь от сердцебиения, вздрагивая с головы до ног при малейшем шорохе. А собака принялась теперь ходить вокруг комнаты, обнюхивая стены и не переставая выть. Животное положительно сводило нас с ума! Крестьянин, мой проводник, бросился к ней в припадке ярости и страха и, открыв дверь, выходившую на дворик, вышвырнул собаку наружу.
Она тотчас же смолкла, а мы погрузились в еще более жуткую тишину. И вдруг мы все одновременно вздрогнули: кто-то крался вдоль стены дома, обращенной к лесу; затем он прошел мимо двери, которую, казалось, нащупывал неверною рукой; потом ничего не было слышно минуты две, которые довели нас почти до безумия; затем он вернулся, по-прежнему слегка касаясь стены; он легонько царапался, как царапаются ногтями дети; затем вдруг в окошечке показалась голова, совершенно белая, с глазами, горевшими, как у дикого зверя. И изо рта ее вырвался неясный жалобный звук.
В кухне раздался страшный грохот. Старик лесничий выстрелил. И тотчас оба сына бросились вперед и загородили окошко, поставив стоймя к нему большой стол и придвинув буфет.
Клянусь, что при звуке ружейного выстрела, которого я никак не ожидал, я ощутил в сердце, в душе и во всем теле такое отчаяние, что едва не лишился чувств и был чуть жив от ужаса.
Мы пробыли так до зари, не имея сил двинуться с места или выговорить слово; нас точно свела судорога какого-то необъяснимого безумия.
Баррикады перед дверью осмелились разобрать только тогда, когда сквозь щелку ставня забрезжил тусклый дневной свет.
У стены за дверью лежала старая собака; ее горло было пробито пулею.
Она выбралась из дворика, прорыв отверстие под изгородью.
Человек с бронзовым лицом смолк, затем прибавил:
– В ту ночь мне не угрожала никакая опасность, но я охотнее пережил бы еще раз часы, когда я подвергался самой лютой опасности, чем одно это мгновение выстрела в бородатое лицо, показавшееся в окошечке.



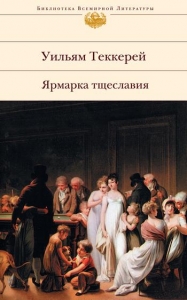
Комментарии к книге «Страх», Ги де Мопассан
Всего 0 комментариев