Эдит Уортон Избранное
Эдит Уортон
Она не любила вспоминать свою первую книгу, напечатанную, когда автору исполнилось шестнадцать лет. Существует предание, что Уортон сделала это тайком от родителей. Сборник стихов, наивных подражаний Китсу, которым зачитывалась дочь почтенного нью-йоркского негоцианта, пришлось прятать по дальним углам особняка, загроможденного массивной мебелью и картинами в золоченых рамах. Скверно набранный томик нашли и, из любопытства почитав, бросили в камин. Новейшие биографы, правда, утверждают, что все это выдумка: родители не возражали против ее литературных увлечений. Но не случайно легенда держалась с таким упорством. На 5-й авеню в 1878 году еще считали неприличным, чтобы девушка из «хорошей семьи» посвящала себя литературе. К сочинителям относились брезгливо. Жалкая богема, неудачники, всего-то и выучившиеся, что марать бумагу, вечно голодная публика, понятия не имеющая ни о порядочности, ни о чистоплотности.
Вспоминая почти через полвека эти разговоры под крышей родного дома, Уортон устами героя своей повести «Ложный рассвет» мистера Рейси выразит непоколебимое убеждение растившей ее среды: культура — достояние Европы, а у Америки не было времени воспитать своих художников. И поэтому местный Парнас оккупировали «кощунствующие рифмоплеты, кичащиеся кабацкой славой, которой удостоились их поэтические бредни».
Действие повести начинается в Нью-Йорке середины прошлого века, и мистер Рейси явно метит в Эдгара По. В семидесятые годы, когда Уортон входила в литературу, мнения оставались такими же однозначными. Все так же вслед за мистером Рейси риторически восклицали: «Где он, наш Байрон — наш Скотт — наш Шекспир?» Да, «порой и мы небесталанны». Но «истинный гений необходимо искать в прошлом». И, уж разумеется, не американском.
В равнодушии к «истинному гению» людей этого круга не обвинил бы никто. Дна принципа, вспоминает Уортон в автобиографической книге «Пережитое» (1934), почитались здесь важнейшими: одним из них была «просвещенность скупе с хорошими манерами», другим — «щепетильная честность в делах». Понятие просвещенности непременно включало в себя добротное знание классики, прежде всего английской. Тогда в гостиных 5-й авеню и говорили так, что сразу пришла бы на память стилистика старых английских романов.
Обязательны были периодические поездки в Европу и посещение всех перечисленных бедекером соборов и галерей, где собраны Старые Мастера. А произведения Признанных Авторов доставлялись через океан еще пахнущими типографской краской и хотя бы просматривались, чтобы не оконфузиться за чанным столом.
Конечно, современные веяния доходили с опозданием, да и воспринимались с опаской. Тот же мистер Рейси, отправивший сына в Италию скупать работы Карло Дольчи и других Великих Художников, был глубоко потрясен тем, что Льюис, поддавшись влиянию своих новых знакомых из кружка прерафаэлитов, отдал предпочтение полотну Пьеро делла Франческа, о котором пока что не упоминали присылаемые из Лондона каталоги. В глазах этого персонажа лидер прерафаэлитов Джон Рескин был шарлатаном уже по той причине, что родился в семье виноторговца.
Подобный ход мысли по-своему логичен. В старом Нью-Йорке о человеке судили прежде всего по той среде, из которой он происходил. Эту связь считали нерасторжимой, ею как бы наперед определялась вся биография. Выходцам из буржуазной среды было уготовано потреблять, а не создавать искусство. Не творчество, а бизнес и семья были их назначением. И никто еще не предполагал, что дети могут взбунтоваться против отцов и их такого прочного, такого сбалансированного порядка жизни, избрав вместо деловой карьеры писательство, вместо выгодного брака — свободное чувство, вместо скучного процветания — подвижничество творческого пути.
Эдит Уортон была среди первых «отступников», тех, кто отверг этот мир, но все же остался навсегда связан с ним сложным чувством, в котором были и неприятие, и ностальгия.
По складу характера, как, впрочем, и по обстоятельствам биографии, она мало напоминает будущих обитателей американской колонии на левом берегу Сены, возникшей в двадцатые годы и описанной Хемингуэем в «Празднике, который всегда с тобой». То были настоящие бунтари против духовного убожества воспитавших их оук-парков и сент-полов, противники пуританской этики американского захолустья, искатели новых форм — и в жизненном поведении, и в искусстве.
Уортон обосновалась в Париже задолго до того, как сюда толпами хлынули ее молодые соотечественники, мечтавшие к го о литературе, кто о живописи, а кто и просто об освобождении от опостылевшей скуки провинциального житья. Она переехала в дом на улице де Варен еще в 1907 году и почти безвыездно прожила во Франции до своей смерти тридцать лет спустя. После первой мировой войны экспатриантство сделалось массовым поветрием. И на первых американских парижан — Гертруду Стайн, Уортон — смотрели как на пророков. Скотт Фицджеральд пришел на улицу де Варен уверенным, что встретит человека близкой духовной ориентации. Но разговор получился натянутым и кончился взаимными колкостями.
Дело было не в личностях, а в принципах. Столкнулись люди разной культуры и разного мышления. Все то, что у поколении Фицджеральда вызывало горечь и сарказм — та же просвещенность, и деловая честность, и даже «хорошие манеры», — вовсе не казалось пустым фетишем поколению Уортон, во всяком случае ей самой. Озлобленность и скепсис послевоенной молодежи, которые выплеснулись на страницы ранних книг Фицджеральда, ей оставались чужды, потому что традиции были усвоены слишком глубоко.
Внешне жизнь Уортон долго складывалась согласно неписаным, но строгим правилам старого Нью-Йорка. Она всегда была очень скрытной во всем, что впрямую не касалось литературных устремлений и забот. В этом смысле «Пережитое» — книга умолчаний, как и мемуары английского прозаика и критика Перси Лаббока, одного из ее ближайших друзей. Оттого и стали возникать легенды. Впрочем, они не всегда беспочвенны.
Основываясь на глухих намеках в письмах полувековой давности, уже ранние биографы утверждали, что в юности Эдит Джонс перенесла тяжелое потрясение. Согласно этой версии, человек, с которым она хотела соединить судьбу, не отвечал требованиям, в таких случаях обязательным на 5-й авеню. Вмешалась мать. Дело не дошло и до помолвки. Европейское путешествие должно было смягчить боль насильственного разрыва.
Оно длилось более года, а по возвращении возникла довольно бесцветная фигура Эдварда Уортона, и пришлось подчиниться родительскому выбору. Брак был крайне неудачным. После мучительных переживаний, которыми были заполнены без малого три десятилетия, он завершился разводом в 1913 году.
Между тем поверхностному взгляду предстала бы картина безоблачного семейного счастья. Со вкусом обставленные комнаты, роскошный сад, европейский тон и стиль почти еженедельных приемов — кто бы догадался, какое неблагополучие за всем этим скрывалось Обитая под одним кровом, фактически супруги жили раздельно и зимой в Нью-Йорке, и летом в Ньюпорте, излюбленном месте отдыха «хорошего общества», в наши дни изображенном в «Теофиле Норте» Уайлдером. Приличия соблюдали неукоснительно. Однако все и держалось только необходимостью их соблюдать. Отчуждение друг от друга было полным и, вероятно, не раз взрывалось открытыми конфликтами.
Солидное состояние позволяло Эдварду Уортону вести рассеянную жизнь. К интересам жены он относился равнодушно. А они шли вглубь, ослабляя и без того непрочный фундамент этого несчастного брака. Первый сборник новелл Эдит Уортон вышел в 1899 году. Еще через три года появился первый роман «Долина решений». Положение одной из гранд-дам нью-йоркского света давало то преимущество, что литературе можно было теперь отдаться свободно, без оглядки на пересуды ревнителей благопристойности, да она и печаталась в журналах, составлявших традиционное семейное чтение людей, которые находили «Анну Каренину» совершенно аморальной книгой. Этот факт еще- скажется на литературной репутации Уортон, под старость прочитавшей о себе, что она типичная дамская писательница конца века, из тех, кто языком дистиллированной беллетристики усердно перелагали проповеди пастора соседней церкви. Это несправедливо даже по отношению к се первым рассказам при всей их камерности и несамостоятельности. И главное, побуждения Уортон были совсем иными. Просто их не сразу удалось осуществить.
О романе «Обитель радости» (1905) она сказала, что для нее с этой книгой завершился период дилетантских проб пера и начался путь профессионального литератора. Нечасто встретишь столь жесткую оценку ранней поры собственного творчества. Пожалуй, даже слишком жесткую. Несмотря на мелодраматизм и театральные эффекты, «Долина решений», где действие разворачивается в Италии XVIII века, производит впечатление тщательностью, с какой выписан исторический фон. В рассказах того же времени проглядывают черты, предвещающие почерк мастера. Уортон их не перепечатывала в позднейших сборниках: «Рассказы о людях и призраках» (1910), «Шингу» (19 6), «Лунные блики» (1922), не вошли они и в посмертно появившийся объемистый том избранного. Об этом стоит пожалеть. Тонкая ирония, точность штрихов, достоверно и живо доносящих мелочи повседневного обихода той среды, в которой вращалась Уортон, — это останется и в книгах новелл, завоевавших признание.
Она писала фантастические рассказы в манере По, и остросюжетные новеллы на грани гротеска, и лирические миниатюры, и скетчи. В большой прозаической форме Уортон чувствовала себя свободнее, рассказ был для нее подсобным жанром, нередко выдавая следы ученичества, — учителями, кроме По, выступили Доде, Мопассан и другие французские писатели В раннем творчестве Эдит Уортон их уроки видны невооруженным глазом, и все же многие мотивы ее лучших книг можно обнаружить уже в том, что было написано для розовых журнальчиков конца века, смертельно боявшихся оскорбить оранжерейно нежный слух своих читательниц.
Впоследствии Уортон набросает выразительный коллективный портрет такой аудитории, изобразив дамский литературный клуб, где состязаются в роскошестве завтраков для приглашаемых знаменитостей и ни в коем случае не позабудут обновить стопку непрочитанных книг на столике, чтобы знаменитость почувствовала себя в родной стихии. «Шингý» — озорная новелла, где всеми красками переливается юмор Уортон. Для такой вещи нужна была дистанция времени. Нужно было уехать в Европу и почувствовать себя наконец свободной от постоянного давления вкусов и понятий такого рода литературных дам и разделявших их взгляды рецензентов, редакторов, издателей. В дни своей писательской молодости Уортон испытывала его на себе, быть может, даже чаще, чем другие литераторы ее поколения.
В «Пережитом» она пишет об этом не с юмором, а со все еще не утихшей болью. Она вспоминает первые свои шаги, пришедшиеся на ту эпоху, «когда Томас Гарди, чтобы напечатать „Джуда Незаметного“ в ведущем нью-йоркском еженедельнике, вынужден был превратить детей Джуда и Сью в приемышей: когда самый читаемый в Америке литературный журнал объявил, что не примет ни одного рассказа, содержащего какие бы то ни было упоминания о „религии, любви, политике, алкоголизме и извращениях“… когда известный в Нью-Йорке редактор, предлагая мне крупную сумму за будущий роман, поставил единственным условием, что в нем не будет ни слова о „внезаконных связях“… когда переводчик Данте Элиот Нортон… с тревогой напоминал мне, что не знает пи одного великого произведения, изображающего преступную страсть». Это была эпоха «неизлечимой моральной робости». От писателя, тем более принадлежавшего к «хорошему обществу», требовалось немалое мужество, чтобы, подобно Уортон, пойти наперекор господствующим литературным нормам, признавая лишь суд «ироничного и бесстрастного критика, который живет в нем самом».
Сегодня кажется до смешного наивным и этот пуризм, и это стремление во что бы то ни стало уберечь литературу от «неприятных», иначе говоря — социальных тем. Но для американских писателей того времени подобная атмосфера часто оказывалась непереносимой. Она порождала тяжелые творческие драмы. Достаточно вспомнить о Твене, даже от родных прятавшем рукописи своих крамольных памфлетов и густо вымарывавшем в «Автобиографии» страницу за страницей.
«Обитель радости» — первая книга, в которой выявилось истинное призвание Уортон как художника социальной жизни, — была написана еще в Америке, и это после нее влиятельнейший Элиот Нортон разразился заклинаниями никогда больше не компрометировать себя «романами об обществе» и хранить верность надмирной романтической музе. Все последующие книги писались уже во Франции. Уезжая, Уортон еще не знала, что впереди тридцать лет экспатриантства. Решение было принято в Париже и определялось не только творческими соображениями.
Конечно, оно не могло не повлечь за собой и потерь. Отрыв от родной почвы дал себя почувствовать в многочисленных произведениях Уортон, которые представляют собой только перепевы старых ее сюжетов. И та же стычка с Фицджеральдом по-своему ясно показала, какой глубокий рубеж пролег между Уортон и новым писательским поколением, не понимавшим и не принимавшим ее.
Но, с другой стороны, в годы этой добровольной эмиграции было создано почти все, что сохранило ее имя в литературе: романы «Обычай страны» (1913) и «Век наивности» (1920), повести «Итан Фром» (1911), «Лето» (1917), «Ложный рассвет» (1924), лучшие рассказы.
Путем, который она для себя избрала, пройдет затем немало американских писателей, и почти всегда финалом будет возвращение. Она не вернулась, как не вернулся Генри Джеймс, самый близкий ей из современников. Для обоих жизнь вдали от Америки была нелегка, и оправданием для обоих стала небесцельность жертвы, принесенной во имя искусства.
В Париже Уортон освоилась быстро, пережив в годы войны такой прилив патриотических чувств, словно решалась судьба ее настоящей родины. Она много работала в Красном Кресте, дежурила в госпиталях, ездила на фронт, написала десятки восторженных статей. Даже путешествие по Марокко она рассматривала как свою военную миссию.
Впечатления тех лет отразились в романе «Сын на фронте» (1923). Он оказался серьезной литературной неудачей. Это закономерно. Уортон не умела изображать текущие события. Франция, став домом, не могла стать материалом для творчества. Когда она это поняла, поздно было что-то исправлять.
Не только изоляция от Америки окрасила в сумрачные тона последние полтора десятилетия ее жизни. К старости Уортон не покидало ощущение, что она пережила свое время. Однажды она высказалась об этом прямо: «Мир, в котором я росла и сформировалась, рухнул в 1914 году». На самом деле он был подточен гораздо раньше.
С другого берега Атлантики обломки этого мира, старого Нью-Йорка, который нашел в Уортон своего летописца, аналитика и поэта, окутывались дымкой светлых и грустных воспоминаний. Чистая лирическая нота отчетливо прозвучит и в «Обычае страны», и в «Веке наивности». Потом она сменится идеализацией, отдающей фальшью. Но лучшие книги Уортон останутся образцом безупречного художественного чутья и отточенного мастерства. В них создан своеобразный портрет целой эпохи американской жизни и затронуты конфликты, не потерявшие актуальности с движением времени.
Об Уортон принято говорить как о талантливой ученице Генри Джеймса, может быть, самой одаренной из всех его многочисленных последователей в литературе XX века. Это и верно, и не совсем точно. Джеймс неизменно остапался для нее высоким примером, их сближала не только общность литературных убеждений, но и родственность судеб. Они познакомились в 1902 году, завязалась переписка, продолжавшаяся до последних дней жизни старшего мастера. Тома нью-йоркского собрания сочинений, к которым Джеймс написал предисловия, в совокупности составляющие целую книгу об искусстве прозы, всегда стояли у нее под рукой, а сами предисловия, на ее взгляд, были незаменимой школой для каждого писателя.
Касаясь в «Пережитом» истории их дружбы, Уортон отметила, что Джеймс никогда не чувствовал себя американцем нового столетия: «Он навеки остался человеком той старой Америки, из которой вышла я сама». В письмах к «несравненной Эдит» он горько сетовал на то, что «решительно неспособен воплотить материал денежной и промышленной, в общем — современной американской жизни». Эта жизнь доносилась на страницы его книг только глухими отзвуками, попытки ее запечатлеть — в «Пойнтонской добыче», отчасти и в «Американской панораме» — он считал неудачными. Джеймс был чрезмерно строг к себе. И все же в главном он не ошибался. Это была не его тема. Уортон справедливо видела в произведениях своего наставника «по преимуществу романы нравов» и поясняла: «Самый его характер и положение, занимаемое в обществе, предуказали этот интерес к нравам небольшой группы людей, среди которых вырос он сам и которые уже уходили со сцены».
Здесь каждое слово можно отнести и к ее собственному творчеству. Роман нравов занял едва ли не главное место в англоязычной прозе начиная еще с Джейн Остин. Не притязая на эпический размах, такие романы показывали эпоху в лице характерных представителей той или иной среды с ее специфической психологией, понятиями и предрассудками. Уортон унаследовала традицию, увенчанную блестящими именами. Для нее это был жанр, в котором она достигла своих вершин.
Она писала нравы, заключавшие в себе бесспорную социальную характерность. В самом своеобразии мышления и поведения ее персонажей обозначался известный тип общественного сознания. Уже исчезающий, он и в прошлом не был самым распространенным. Но в те годы он еще узнавался без труда в последних своих представителях, которые доживали отпущенный им век теперь уже в стороне от столбовых дорог американской истории, хотя не так давно эти люди стояли у ее руля.
Один из своих ранних романов Джеймс озаглавил «Бостонпы», как раз и имея в виду небольшую общественную группу, которая, на его взгляд, заключала в себе важнейшие черты американского мироощущения и жизненного уклада. По аналогии Уортон могла бы назвать любую из лучших своих книг «Ньюйоркцы». Несомненна родственность их творческих задач: изображая нравы того не слишком просторного круга, который был ограничен и социально, и даже географически, оба писателя стремились выявить приметы национального характера, этики н духовной сущности За частностями должен был возникнуть образ времени и страны.
Перед читателями Уортон этот образ возникал во множестве зорко подмеченных подробностей, в будничной однотонности и блестках меркнущего величия добропорядочного и скучного буржуазного Нью-Йорка первых десятилетий после Гражданской войны.
В этом мире все казалось выстроенным на столетия, окаменевшим в своей прочности и рациональности. На деле все было заряжено драматизмом. Порядок вещей, знакомый Уортон с детства, быстро исчезал под натиском новых общественных сил, получивших простор в Америке «позолоченного века», как — с оттенком презрения — охарактеризовал Твен наступившую после 1865 года эпоху коррупции, вульгарности и диктата нуворишей. Нормы жизни, почитавшиеся высшим воплощением разума и притязавшие остаться вечным законом, стремительно расшатывались, обнажая свою изначальную практицистскую природу и филистерскую узость. Завязывался тугой узел противоречий, конфликтов, ломающихся судеб, социальных и нравственных катастроф.
Не вняв уговорам ревнителей худосочного эстетического изящества, Уортон решилась изобразить привычную повседневность с детства ей знакомых нью-йоркских кварталов «во всем ее прозаизме и убожестве». Так определяла она впоследствии побуждения, заставившие ее написать «Век наивности» и другие книги о старом Нью-Йорке. В действительности им были присущи и поэтичность, и тонкость психологического рисунка, и такая емкость коллизий, что явно тесны оказываются рамки очеркового жизнеподобия Статичен и однокрасочен только фон событий, и на таком фоне особенно отчетливо выступает многозначность ситуаций, сложность характеров, прихотливые оттенки тональности рассказа — все го, что придает прозе Уортон особую пластичность.
Уроки Джеймса в этом отношении были для нее и впрямь незаменимыми. Историческая ретроспектива еще теснее сближает их имена. Оба они сделали больше всех для того, чтобы американский роман обогатился завоеваниями, которыми в ту пору было отмечено развитие большой повествовательной формы в Европе и в России. Поначалу вынужденные обороняться от провинциального эстетизма, оба оказались потом свидетелями массового увлечения натуралистскими теориями и приемами письма. И оба противостояли этой чрезмерно развившейся тенденции, отстаивая «старомодные», по тогдашним меркам, принципы продуманной архитектоники, добротной сюжетности, стилистической отделки, психологизма и неспешного драматического нагнетания конфликтов. В книге «Что такое проза» (1925) Уортон писала: «Для того, чтобы передать в романе жизнь, необходимо только одно умение… это способность высвободить из ее сумятицы решающие мгновения» Она основывается на собственном опыте, а еще убедительнее могли бы подтвердить ее мысль книги Джеймса.
И тем не менее это не были отношения мастера и подражателя. Последний период творчества Джеймса прошел под знаком явного охлаждения к проблемам, конфликтам, заботам, тревожившим его соотечественников. По. мере этого все заметнее делалось различие между двумя писателями — как в творческих интересах, так и во всем строе мышления и чувствования. Проведя полжизни на других берегах, Уортон и в Париже осталась человеком старого Нью-Йорка. Ее не захватили размышления Джеймса об американце а Европе, о встрече двух культур, двух систем ценностей. Ничто вокруг не напоминало разрушенный движением истории мир 5-й авеню времен ее юности. Но для Уортон этот мир сохранился живым и владел воображением так же властно, как и в начале писательского пути.
От мира Генри Джеймса он отличался столь же сильно, как высокопросвещенный, почти европейский Бостон от Нью-Йорка, города коммерсантов, стряпчих, чиновников, денежных тузов с их смешными претензиями на аристократизм духа. Джеймс, который был ньюйоркцем по рождению, описал этот город в «Вашингтонской площади» (1880). Еще раньше его изобразил Мелвилл в «Писце Бартлби» (1856), «уолл-стритской повести», которая русскому читателю сразу же напомнит гоголевскую «Шинель». Нью-Йорк предстанет и в произведениях Уортон. Недоступные запуганному, несчастному конторщику фешенебельные особняки будут открыты для читателя вместе с их понятиями и правилами, которые герою Мелвилла внушали ужас, смешанный с отвращением. Реальность войдет в книги Уортон вещественно и зримо, не оставляя места для романтических иллюзий, как, впрочем, и для трагических, обреченных бунтов.
«Вашингтонская площадь» предвосхитила мотивы романов Уортон, самое тональность ее повествования. Для Джеймса это был эскиз темы, оставленной ради других замыслов и художественных идей. Уортон посвятила себя этой теме едва ли не без остатка. «Обитель радости», «Обычай страны» и «Век наивности» сложились в своего рода трилогию о старом Нью-Йорке. Затем был написан цикл из четырех повестей под общим заглавием «Старый Нью-Йорк» (1924). Ее талант сверкнул здесь в последний раз. Но дело жизни было уже сделано. Воссозданный ею Нью-Йорк остался в литературе особой и завершенной в себе эстетической действительностью. В этом смысле «Обитель радости» можно рассматривать как предвестие появившегося через тринадцать лет «Уайнсбурга» Шервуда Андерсона — книги, исключительно важной для американской прозы XX века.
Речь идет, конечно, не о внешнем сходстве. Объективно близок только исходный принцип: многоплановый и целостный художественный мир во всей конкретности конфликтов и персонажей, специфичных для определенной среды, но вместе с тем обладающих большим историческим и духовным содержанием. Всего точнее определил этот принцип Фолкнер, сказав, что художник претворяет «локальное» в «универсальное». Подобные устремления отличали американскую литературу еще со времен Твена, автора «Жизни на Миссисипи», книг о Томе и Геке. Для Уортон он был очень далеким художником. Эпическое художественное мышление было ей совсем не свойственно, и все же трилогия о Нью-Йорке и трилогия о Миссисипи, по-разному построенные, сближены общностью творческой задачи. Андерсон и писатели, прошедшие его школу, доведут до высокого совершенства умение, выбрав строго определенный сегмент общественной жизни, всесторонне его обследовать, так что в итоге возникает множество внутренних соотнесений и «локальное» становится «универсальным», ничего не утрачивая в своей необщности.
Уортон принадлежит предшествующей литературной эпохе.
То, что сделается открытием, у нее всего лишь догадка, интуитивно почувствованная возможность, которая исчерпана далеко не полностью. Зернам еще предстоит прорасти и дать обильные всходы.
Но и через много десятилетий ее Нью-Йорк не превратится в литературную реликвию. Рассказ останется увлекательным и живым, потому что в нем заключен образ определенного мира. Люди, обитающие в этом мире, отличаются трезвостью ума, нелюбовью к чувствительности, обостренным ощущением честности или бесчестья, которые для них проявляются прежде всего в деловой жизни. Их предки «ехали в колонии не умирать во имя веры, а жить во имя банковского счета», и эта традиция непоколебима. Умеренность и терпимость провозглашены здесь золотым правилом, и нарушивших его карают исключением из клуба, а это равносильно гражданской смерти. Богатство отнюдь не признается самоцелью, однако бедность — «признак столь очевидного отсутствия вкуса, что о ней просто никогда не говорят». Не сочувствуют и либеральным затеям, хотя исправно пополняют кассу благотворительных организации и находят разумным учреждение общества защиты животных. Блистают туалетами на концертах итальянских знаменитостей, аплодируют Теккерею, читающему о юмористах прошлого. Диккенс слишком вульгарен, и ему не предоставили трибуны. Именно поэтому он проявил такую «бестактную» язвительность в своих «Американских заметках».
Вспоминая эту размеренно текущую бестревожную жизнь, Уортон пишет о ней в «Старом Нью-Йорке» с легкой иронией, в которой порою чувствуется печаль по невозвратной — еще сравнительно благополучной — эпохе. Время действия в ее трилогии — примерно с 1840 по 1880 год. Нувориши, к концу столетия решительно потеснившие на 5-й авеню людей ее круга, конечно, не могли внушать ей ничего, кроме брезгливости. Легко было впасть в приукрашивание былого. Однако писательнице удалось избежать этой опасности. Из непосредственно пережитого, из долгих наблюдений и размышлений Уортон превосходно поняла, в чем главная слабость этого «снисходительного и бездумного» общества, — в его «слепом страхе перед всем новым и в инстинктивном стремлении уйти от ответственности». В связи с «Обителью радости» она высказала мысль, важную для всего ее творчества: «Трагическим свойством такого общества является его способность принижать и человеческие устремления, и идеи».
Это была ее главная тема. При всей сдержанности повествовательных средств и кажущейся бесстрастности автора она приобретает под пером Уортон острую напряженность и глубокий драматизм.
Еще при жизни ее начнут упрекать за узость творческих горизонтов.
В 1921 году крупнейший историк и культуролог той поры Вернон Луис Паррингтон написал об Уортон статью, в которой она была окрещена «нашим литературным аристократом». В статье разбирался «Век наивности». Паррингтон назвал его «исторической сатирой, отмеченной безукоризненным мастерством». Некоторые его замечания проницательны и тонки. Он ценит достоверность, с которой передан фарисейский дух общества, наглухо забаррикадированного от всего «неприятного». Он отмечает иронию и вкус, с каким изображена эта жеманная респектабельность, подменившая собою живую жизнь.
Умеренные похвалы, впрочем, лишь подкрашивают отнюдь не комплиментарную тональность общей оценки. Стоило ли растрачивать дарование, выводя этих никому не интересных людей с их мелкими страстями и куцыми мыслями? Ведь рядом развертывалась настоящая драма. И роман послужил бы «поистине бесценным документом американской истории», покажи автор, как нормой существования сделались «брутальность и цинизм» вандербильтов, гулдов и прочих героев бизнеса, вознесшихся как раз в эту эпоху. Какие сюжеты, какие битвы происходили перед глазами Уортон, так и не отозвавшись в ее книгах, где материал остается скучным и незначительным, несмотря на все ее старания. Что поделаешь, ведь ей самой передался снобизм старой буржуазии, изо всех сил тянувшейся выглядеть аристократией.
От Уортон можно было ожидать чуть ли не американской «Человеческой комедии». А получился не более чем скромный эскиз к картине, которую, возможно, еще создаст другой художник.
На десятилетия эти идеи стали общим местом во всем, что писалось об Уортон. Это казалось настолько убедительным, что подчас критики словно забывали об «Обычае страны», где создан убийственно точный портрет «нового» Нью-Йорка, откровенно обожествлявшего житейский успех, и не замечали такой, например, фигуры, как Бофорт из «Века наивности», хотя этот не тяготящийся хотя бы заботами о профессиональной репутации банкир вполне органично вписывается в галерею персонажей «позолоченного века». О книгах Уортон судили, игнорируя своеобразие ее таланта и оттого не понимая природы ее видения.
Тем, кто с дистанции в тридцать-сорок лет наблюдал перемещения на американской общественной сцене того времени, к которому относятся события ее романов, эти сдвиги и впрямь должны были казаться историческими по своему значению. Для Уортон, их непосредственного свидетеля, все происходившее на 5-й авеню в конце века меняло скорее формы, чем сущность отношений между людьми, затрагивало, главным образом, верхний слой, а не самым фундамент вдоль и поперек наученного ею нью-йоркского микрокосма. Старая буржуазия уступала место новой, добропорядочность капитулировала перед цинизмом, но, сколь бы болезненной ни была внешняя перестройка, в принципе порядок вещей оставался прежним.
Со времен Паррингтона многое изменилось, и сегодня Гор Видал, автор «Вице-президента Бэрра» (1973) причисляет Уортон к самым неукротимым критикам американского общества, а другие исследователи ее творчества ставят писательницу в один ряд с Твеном и Драйзером. Наметилась другая крайность. Конфликт Уортон с окружающей действительностью и в самом деле был глубок, а се художественный анализ бескомпромиссен и точен. Но, в сущности, она никогда не была социальным романистом в прямом смысле слова, как это можно сказать о том же Драйзере. Ее областью неизменно оставались нравственные конфликты. Они завязывались в той специфической среде, которую она называла старым Нью-Йорком, и несли на себе ясный отпечаток времени и места событий. Тем не менее они вовсе не замкнуты этой средой. Фактически дело шло о коренных свойствах буржуазного сознания и связанной с ним традиции — духовной и моральной. Тонкий аналитик этого сознания, Уортон оказалась действительно непримиримым его антагонистом. Этим прежде всего и определяется особая роль писательницы в истории американского реализма.
Все выглядит камерным в ее романах: отношения, столкновения, метания души, самый изображаемый мир. Однако трудно назвать другого американского писателя, который с такой достоверностью передал бы муку преодоления этой механичной повседневности буржуазного квартала, где увядает любое живое человеческое чувство. Сдержанность рассказа Уортон таит в себе неимоверную боль. Плавное течение судеб ее героев на поверку драматично. На каждом шагу лишаемые надежды пробиться к свету истинной гуманности, они впустую растрачивают духовные силы, пытаясь переломить закон воспитавшего их общества, где форма предшествует человеку и своими обязательными условностями подавляет его сущность.
Этот разлад формы и сущности был главным конфликтом ее произведений. Из сферы внешних обстоятельств он постоянно перемещается в глубины мироощущений персонажей. Восставая против прилепившейся к ним маски, они хотели бы прорваться через нее к своей человеческой доподлинности. В их усилиях ищет для себя свободы сама жизнь. И не может ее обрести, пока непоколебимыми остаются буржуазные нормы, которые всевластны для большинства героев Уортон, как бы горько ни переживали они свои невосполнимые потери, оплачивая ими рабство духа.
Под пером Уортон конфликт порой приобретал трагическую неразрешимость. В «Обители радости» героиня, не пожелавшая, как принято, пойти на все ради заключения выгодного брака, вынуждена спускаться все ниже и ниже по социальной лестнице, — в последних эпизодах мы видим ее модисткой за рабочим столом. Лили Барт принадлежит старому Нью-Йорку, но для нее не утратили живого значения и просвещенность, и любовь к искусству.
То, что у других не более чем стиль жизни, у нее сама жизнь, — этого одного достаточно, чтобы в трудной ситуации перед нею начали одна за другой захлопываться двери. Как и перед ее избранником, всерьез вознамерившимся что-то переделать в сложившейся общественной иерархии ценностей — а именно осуществить либеральные реформы на заводах. Любое гуманное побуждение оказывается несовместимым с правилами, заведенными в буржуазной среде раз и навсегда. И не могут удивить ни отступничество незадачливого реформатора, позабывшего о своих высоких порывах, когда реальной сделалась перспектива жениться на богатой вдове и занять особняк на Лонг-Айленде, ни принятая героиней смертельная доза снотворного. В изображаемом Уортон мире обе эти развязки закономерны.
Судьба уберегла от таких крутых переломов Ньюленда Арчера и Эллен Оленскую, героев «Века наивности». Но и история, рассказанная в этом романе, по-своему трагична. История несбывшегося счастья. История большого чувства, связавшего людей слишком разных по своим духовным горизонтам и ставшего в итоге лишь далеким воспоминанием, которое порой промелькнет и тут же исчезнет. Драматизм этой истории только усиливается оттого, что она рассказана с иронией — то едва уловимой, то откровенной. Как-то раз Уортон заметила, что иронии писателя непременно сопутствует понимание незавершенности и, более того, принципиальной неразрешимости ситуации. Наблюдение довольно спорное, однако природу повествования Уортон оно характеризует ярко и глубоко.
Ситуация, возникающая на страницах «Века наивности», кажется тривиальной: треугольник Эллен, Арчер и его невеста, а затем жена Мэй Велланд. Возникает угроза скандала, которого респектабельное нью-йоркское общество боится пуще чумы, поскольку приличия здесь всегда ценили больше, чем отвагу, и не выносили тех, кто устраивает «сцены». Как будто готовый сюжет для сатирика.
А вместе с тем отношения настолько запутаны и напряжены, что сарказм был бы явно неуместен. В перипетиях этого любовного романа обозначается очень серьезный конфликт принципов и позиций. И уже не приходится искать однозначного решения. Как и спешить с выявлением правых и виноватых.
Исходное для Уортон понятие «наивности» применительно к каждому из основных героев может быть истолковано и как неповинность в бедах, которые на них обрушиваются. Это, однако, частный смысл. Важнее, что речь идет об определенном строе мышления и поведения, об определенной философии жизни, воплотившейся в Арчере, и в Мэй, и во множестве других обитателей замкнутого мирка, где они вращаются. В таком контексте «наивность» — не синоним неведения. Скорее это нежелание отдавать себе отчет в том, насколько далека реальная действительность со всеми ее сложностями от той искусственной упорядоченности, которой так дорожат в старом Нью-Йорке.
Страсть здесь отделена от долга так же решительно, как в классицистской трагедии. В связи с «Веком наивности» некоторые критики вспоминают «Беренику» Расина. Сходство коллизий и впрямь обращает на себя внимание. Другое дело, как эти коллизии осмыслены. То, что для Расина закон и норма бытия, для Уортон — насилие над свободной человеческой волей. В отличие от классицистов, для Уортон страсть, пробуждающая в человеке личность, определяет и его обязанности.
Однообразные будничные декорации, на фоне которых развертываются события романа, лишь еще острее дают почувствовать масштабность конфликта, созданного столкновением двух полярно противоположных законов: один из них заложен в человеческой душе, другой — во внешнем мире, навязывающем свой порядок всем И каждому. Уклониться от такого порядка невозможно, и поэтому с самого начала обречена любовь Эллен и Арчера. Подлинный выход лежит за пределами буржуазного сознания. Он недоступен ни одному из персонажей.
Но порядок можно безропотно принимать, и можно ему противодействовать, пусть и без надежды его побороть. Так возникают притяжения и отталкивания между тремя людьми, оказавшимися на авансцене действия.
Арчера и Мэй роднит чуть не ритуальное игнорирование всего «непринятого» в их кругу. Барьер отчужденности между ними возникнет после того, как на этом тусклом небосклоне беззаконной кометой воссияет Эллен. С нею в роман входит стихия вольного и естественного чувства, которая расшатывает фундамент отношений, построенных на условности и внешних атрибутах. Самой Уортон казалось, что в Эллен есть что-то общее с шекспировскими героинями. Конечно, сходство довольно поверхностно. И все же из персонажей романа лишь Эллен способна бросить вызов маскам и условностям, подменившим собою истинное бытие в обществе, где она искала защиты от своекорыстия, грубости и циничности, с которыми столкнулась в Европе.
Такой защиты нет ни по ту, ни по другуго сторону Атлантики. Все решают не локальные оттенки, а коренные свойства буржуазной системы отношений. Арчер это понимает отчетливее других, безошибочно чувствуя, что его будущей возлюбленной словно сама судьба указала всегда оставаться жертвой, как бы ни пыталась Эллен избавиться от подобного жребия. Само ее появление в романе меняет атмосферу повествования: от эпизода к эпизоду приближается, становясь неотвратимой, подлинная драма.
Арчеру предстоит сыграть в ней главную роль. Потрясенный впервые (и единственный раз) выпавшим на его долю соприкосновением с жестокими истинами жизни, он уже не может не понимать, что «наивность» — это вошедшее в кровь стремление изолироваться и от мира, и от собственной духовной сущности, это непрочная дамба из механических представлений о долге, о чести, о такте. В самом себе он узнает родовые черты людей своей среды, всю эту психологию полуосознанного конформизма с его боязнью перемен и нежеланием ответственности. Тогда-то и начнутся его внутренние метания. Подчиняться общепринятому естественно для Арчера, это его вторая натура. Но, хотя и поздно, к нему пришло понимание ценностей неподдельных и мнимых.
Он не найдет сил, чтобы сделать решительный шаг. Оставшись пленником «века наивности», он бессмысленно растратит отпущенные ему годы. Арчера легко осудить за малодушие, за буржуазность привычек, сделавшихся нормой и стилем его бытия. И все же это было бы существенным упрощением проблематики романа.
Для Бофорта, его антагониста, в сходной ситуации не существует трудностей. Бофорт добивается адюльтера, зная, что общество в конце концов примирится с ним, несмотря на все свое пристрастие к «форме» и «вкусу». Супружеские измены извинительны, лишь бы сохранились незыблемыми опоры, на которых держится социальный институт брака. Посягательства на эти святыни так и не простили Эллен, лицемерно ей сочувствуя в гостиных на 5-й авеню. Фарисейство возведено в добродетель, обязательную для каждого.
Отказаться от него, отвергнуть само собой разумеющийся путь — для этого Арчер должен был испытать нешуточную духовную встряску. И ему передалось хоть что-то от мироощущения Эллен, инстинктивно тянущейся к целостности и подлинной гармонии. Графиня Оленская никогда не удовлетворится украденными часами свободы, тем самым признав ее греховность. Высокое чувство рождает в них обоих высокий нравственный закон, противоположный тому, который всевластен в окружающей жизни. Им необходим брак — не в качестве уступки условностям, а как санкция духовной свободы и человечности, обретенной героями. Или — разрыв.
Эта альтернатива, возникшая с неизбежностью и безысходностью, меняет всю тональность романа, приглушив авторскую иронию. Снежным вечером в карете, медленно плетущейся по нью-йоркским улицам, разыгрывается сцена, которая была бы уместна в драме Ибсена: пружины конфликта обнажаются, и его объективная неразрешимость становится очевидной. Реальность вступает в свои права. Фигура Мэй, маячившая на периферии, выдвигается теперь в самый центр — ни для Эллен, ни для Арчера тайный союз невозможен еще и оттого, что он означал бы обман, жестокость к близким, нравственный компромисс, несовместимый с самой идеей духовного освобождения от фальши. И остается только одно — отказ от счастья. Потому что не существует на земле пригрезившейся Арчеру страны, где можно было бы «просто любить друг друга», сочтя все прочее неважным.
Пережив кризис, двинулось проторенными дорогами еще одно буржуазное семейство. И его благополучию была отдана вся жизнь Арчера и Мэй, до краев заполненная заботами о детях, поездками в Ньюпорт, пересудами в театральной ложе и в гостиной, как будто нет и не может быть в ней ни настоящей радости, ни действительной красоты.
Сыну Арчера, появляющемуся в заключительной сцене, чуждо и непонятно все, чем мучилось старшее поколение. Его смешит отцовская щепетильность, ему кажутся претенциозными нравы и понятия, отжившие свой век. Он не догадывается, что в драме, дошедшей до него глухими, затухающими отголосками, главными были вовсе не предрассудки, канувшие в вечность вместе со старым Нью-Йорком. Рассказ о трех несостоявшихся жизнях коснулся коренных устоев буржуазной этики. И перед могуществом такой силы отступили все персонажи Уортон, как ни существенна была их духовная эволюция.
Доведенная до конца, она потребовала бы разрыва с принципами, определяющими саму природу сознания людей 5-й авеню. Этого, конечно, не могло произойти. Каждому из трех персонажей была оставлена лишь возможность по-человечески достойно проявить себя в ситуации, не находившей разрешения. На это сил достало у всех трех. В самопожертвованиях они были действительно бескорыстны. У тех, кто их сменит, эта способность исчезнет полностью, а ведь для Уортон она многое искупала, побуждая вспоминать Нью-Йорк ее юности и с горечью, и с нежностью.
Но и эта нежность, хранимая годами, не могла притушить ощущения трагизма, скрытого за внешним благополучием и респектабельностью 5-й авеню. Живая жизнь была здесь стиснута удавками обезличенных ритуалов, механических необходимостей, отвердевших догм, и, подобно героям «Века наивности», за приверженность к условностям люди расплачивались сломанными судьбами и убийственной монотонностью бытия. Ее узнают и Арчер, и Эллен, и Мэй, после того как усилием воли в жертву общепринятому была принесена свобода нравственного выбора. Растянувшиеся в длинную цепочку «спокойные» годы для них будут уже не временем жизни, а разве что временем воспоминаний. О несовместимости буржуазного и человеческого счета вещам бесцветность, ненужность подобного существования скажет, может быть, больше, чем сказали бы самые патетичные и недвусмысленные авторские декларации.
Самопожертвование было одной из тем, которые не переставали занимать воображение Уортон. Еще до того, как приняться за «Век наивности», она посвятила этой теме «Итана Фрома» — повесть, в чем-то предвосхищающую ее последний значительный роман. Выходец из совсем другой общественной среды, герой этой повести, однако, оказывается не только почти в том же положений, что и Ньюленд Арчер, но и вынужден решать тот же моральный конфликт чувства и долга.
Такое совпадение не могло быть случайным. Полуобразованный фермер, которому приходится из последних сил тянуть лямку, и просвещенный, удачливый в делах нью-йоркский стряпчий сходны в том, что их обоих воспитывали на пуританских заповедях и традициях, столь существенных для американского мышления того времени. Оба поэтому изберут долг. И для обоих долг совпадает с ритуалом.
Устами одного своего персонажа Уортон выразила мысль о «чудовищной бессмыслице жертвенности». Не следует впрямую отождествлять этого персонажа с автором. Взгляды Уортон были сложнее. Но если под жертвенностью понимать жизненную установку, она, несомненно, ее не принимала. Судьба Арчера подтверждает это, как и судьба Итана, тоже отказавшегося от своего единственного шанса вырваться из тенет быта в настоящую жизнь.
Его побудительные мотивы в общем и целом те же, что руководят людьми старого Нью-Йорка. В Итане глубоко укоренен страх перед крутой переделкой уклада, который кажется от века заведенным и на века неизменным. Внешние положения и для него оказываются важнее требований сердца. О нем, правда, не скажешь, что он лишен чувства ответственности. Но это ответственность, направленная вовне, а не ответственность перед самим собой.
Пуританство помогало укрепиться подобному строю мироощущения, и он потом с наглядностью проступал как примета буржуазного сознания, даже если выявлялся в таких обездоленных, загнанных жизнью людях, как Итан Фром. Другое дело, что для Итана эта скованность догмой и невыдуманная жестокость ситуации, возникшей под крышей его убогого дома, куда мучительнее, чем для обитателей 5-й авеню, включая и таких, как Эллен и Арчер. Оттого он и бунтует отчаянно, непримиримо — вплоть до решимости одним ударом покончить все счеты с заведомо несправедливой к нему жизнью. А в итоге все же смиряется, признав себя пожизненным пленником бытия, не согретого не то что проблеском надежды, но хоть минутным покоем.
Уже через много лет после смерти Уортон будет высказано мнение, что в «Итане Фроме», собственно, нет этической коллизии и значение повести лишь в том, что она передает состояние нравственной апатии, жизни по инерции взамен чувства, выбора и самоопределения. Изображаемый Уортон мир некоторыми своими особенностями как будто дает основания для таких суждений. События повести происходят в глухом уголке сельской Новой Англии, которую и до Уортон, и после нее не раз пытались представить царством патриархальной гармонии, своего рода «обителью радости», не знающей прозаичного «обычая страны». В «Итане Фроме» нет и следа идилличности. Читателю открывается суровая повседневность, где скудные краски природы и тягучая скука быта под стать ригоризму духовных установлений, предопределяющих нелепые, но неотвратимые трагедии вроде той, что произошла с главным героем повести. Эти установления и впрямь неподвижны, и атрофия нравственного чувства должна, по логике вещей, оказаться их законным следствием.
Однако и через эти плотины пробивает себе дорогу стремление к человечности и к счастью. Сталкиваясь с жестокостью как внешних форм миропорядка, так и его фундаментальных оснований, оно создает в «Итане Фроме» острейший конфликт, сплетает еще один из тех обычных для Уортон узлов противоречий, когда насилием над художественной правдой выглядела бы любая облегченность развязки. О своей прозе Уортон говорила, что «по первой странице читатель может догадаться, каким будет последний абзац». Подобная цельность давалась ей не всегда. «Итан Фром» — одно из бесспорных свидетельств этого очень высокого мастерства. Объединяя в себе важнейшие мотивы творчества писательницы, эта небольшая повесть, описывающая, на первый взгляд, случайное происшествие, обладает большим этическим содержанием, которое вплотную подводит к самым глубоким, хотя и отнюдь не очевидным противоречиям американской жизни того времени и порожденного ею человеческого типа.
Синклер Льюис посвятил Уортон книгу, которая сделала его знаменитым, — «Главную улицу». В 1920 году это, наверное, многих удивило. Уортон еще читали, но уже как писателя ушедшей эпохи. Кто бы предположил, что ее опыт может быть интересен и важен новому поколению, вступавшему в литературу после первой мировой войны? Ведь все так резко менялось и в Америке, и в мироощущении миллионов американцев.
Назвав Уортон «нашим литературным аристократом», Паррингтон исходил как раз из убеждения, что тогдашней — и, разумеется, будущей — Америке ее книги не могут сказать ничего. Время показало, насколько узко он понимал природу и значение таланта Уортон. Ту же «Главную улицу», одну из книг, открывших послевоенное литературное десятилетие, трудно себе представить без сделанного Уортон Как и «Манхаттан» Дос-Пассоса. Как и застроенные стандартными домами пригороды Джона Апдайка и Джона Чивера. И всю большую, плодоносящую художественную традицию, которая приводит прямо к нашим дням.
«Жизнь, — писала Уортон, — совсем не похожа на спор абстрактных идей, она вся состоит из вынужденных компромиссов с судьбой, из уступок старым традициям и поверьям, из сдних и тех же трагедий и неудач». Как всякое писательское суждение, эту мысль следует отнести прежде всего к ее собственному творчеству.
Рядом с Твеном и некоторыми другими своими современниками Уортон, быть может, покажется художником ограниченного диапазона Зато в этих границах она достигла подлинной художественной глубины. Да ведь и сами границы очертили круг тех явлений американской жизни, которые важны не только для далекого от нас времени, когда писала Уортон. Ее персонажи давно исчезли с исторической сцены, но волновавшие ее проблемы все так же актуальны. Их нельзя исчерпать, они возникают вновь и вновь в том нелегком движении к истинно человечному миру, которое, вопреки всем сложностям, является объективной закономерностью нашего века.
Не притязая на масштабность обобщений, книги Уортон действенно помогают этому движению. И скрупулезно точным анализом причин, мешающих ему осуществиться в каждом исследованном ею индивидуальном случае. И негромогласным, но твердым отрицанием всех и всяческих форм насилия над гуманностью, к каким бы оно ни прибегало оправданиям.
В этом — важнейшем — смысле ее наследие ничуть не устарело. Оно остается живой классикой, непосредственно участвуя в спорах и размышлениях, помеченных сегодняшним днем.
А. Зверев
Век наивности[1] роман Перевод М. Беккер
КНИГА I
1
Одним январским вечером в начале семидесятых годов Кристина Нильсон пела в «Фаусте»[2] на сцене нью-йоркской Музыкальной Академии.[3] Хотя уже поговаривали, будто на далекой городской окраине, «где-то за сороковыми улицами», скоро начнут строить новый оперный театр,[4] который по блеску и роскоши сможет соперничать с театрами великих европейских столиц, светское общество по-прежнему каждую зиму довольствовалось потертыми красными с золотом ложами гостеприимной старой Академии. Консерваторы ценили ее за то, что она мала, неудобна и потому недоступна «новым людям»,[5] которые уже начинали пугать, но в то же время и притягивать к себе ньюйоркцев; люди сентиментальные хранили ей верность ради связанных с нею исторических ассоциаций, меломаны — ради превосходной акустики, качества, столь необходимого для помещений, где слушают музыку.
Той зимой госпожа Нильсон выступала в первый раз, и публика, которую ежедневные газеты уже научились называть «на редкость блестящей», отправилась в театр по скользким заснеженным улицам либо в собственных двухместных каретах, вместительных семейных ландо либо в более скромных, но и более удобных «экипажах Брауна». Приехать в оперу в экипаже Брауна было столь же почетно, сколь и в собственной карете; отъезд же в нем обладал еще и тем неоценимым преимуществом, что каждый (как истый демократ) мог тотчас же сесть в первую из выстроившихся в ряд брауновских колясок, не дожидаясь, покуда под крытой галереей Академии блеснет покрасневший от холода и джина нос его собственного кучера. Великий извозопромышленник выказал редкостное чутье, подметив, что американцы хотят покидать места развлечений еще быстрее, чем туда являться.
Когда Ньюленд Арчер вошел в ложу своего клуба, занавес как раз поднялся, открывая сцену в саду. В сущности, ничто не мешало молодому человеку приехать в театр раньше — в семь часов он пообедал с матерью и сестрой, после чего не торопясь выкурил сигару в готической библиотеке, уставленной застекленными книжными шкафами черного ореха и стульями с резными спинками, — единственной в доме комнате, где миссис Арчер разрешала курить. Но, во-первых, Нью-Йорк — город столичный и всем известно, что в столичных городах рано приезжать в оперу «не принято», а понятие «принято» или «не принято» играло в Нью-Йорке Ньюленда Арчера роль не менее важную, чем непостижимый страх перед тотемами, которые вершили судьбы его предков много тысяч лет назад.
Вторая причина его опоздания была сугубо личного свойства. Он задержался с сигарой потому, что в глубине души был дилетантом, и мысль о предстоящем наслаждении часто доставляла ему удовольствие более острое, нежели само наслаждение. Это особенно касалось наслаждений утонченных, каковыми они у него по большей части и были, теперь же минута, которой он ожидал, обещала быть настолько редкостной и изысканной, что… словом, если б он даже согласовал свое прибытие с антрепренером примадонны, он не мог бы явиться в Академию в момент более значительный, чем тот, когда она пела: «Он любит — не любит — он любит меня!»,[6] окропляя падающие лепестки ромашки чистыми, как росинки, звуками.
Она, разумеется, пела не «он любит меня», а «М'ата!» — ведь согласно непреложному и неоспоримому закону музыкального мира немецкий текст французских опер в исполнении шведских артистов следует переводить на итальянский язык, чтобы англоязычная публика лучше его понимала. Ньюленду Арчеру это казалось столь же естественным, сколь и все прочие определяющие его жизнь условности, вроде того что расчесывать волосы полагается двумя щетками с серебряным верхом и с монограммой из голубой эмали или что в обществе никоим образом нельзя появляться без цветка (предпочтительно гардении) в петлице.
«М'ата… non m'ama… — пела примадонна, — m'ата!..» В последнем порыве торжествующей любви она прижала к губам растрепанную ромашку и подняла большие глаза на плутоватую физиономию смуглого коротышки Капуля — Фауста:[7] одетый в тесный фиолетовый камзол и шапочку с пером, он тщетно пытался придать себе выражение той же чистоты и невинности, что и у его простодушной жертвы.
Прислонившись к стене в глубине клубной ложи, Ньюленд Арчер отвернулся от сцены и стал рассматривать противоположную сторону зала. Прямо напротив него находилась ложа миссис Мэнсон Минготт. Непомерная тучность старухи давно уже не позволяла ей ездить в оперу, однако на модных спектаклях она всегда была представлена кем-либо из младших членов семьи. На этот раз первый ряд занимали ее невестка, миссис Лавел Минготт, и племянница, миссис Велланд, а чуть позади обеих облаченных в парчу матрон, не сводя завороженного взора с влюбленной пары на сцене, сидела молодая девушка в белом платье. В ту минуту, когда в затихшем зале (во время исполнения арии с ромашкой разговоры в ложах всегда умолкали) прозвенело «М'amа!» госпожи Нильсон, на щеках девушки выступил теплый румянец, который залил ее лицо до корней светлых волос и окрасил высокую молодую грудь до скромного тюлевого шарфика, заколотого одной-единственной гарденией. Она опустила глаза на огромный букет ландышей, лежавший у нее на коленях, и Ньюленд Арчер увидел, как кончики пальцев в белых перчатках легонько коснулись цветов. Со вздохом удовлетворенного тщеславия он снова обратил взгляд на сцену.
На декорации, как видно, не пожалели средств, и их признали великолепными даже те, кому, подобно Арчеру, довелось побывать в парижской и венской опере. Вся передняя часть сцены вплоть до рампы была застлана изумрудно-зеленым сукном. Посередине, из симметричных холмиков косматого зеленого мха, огороженных воротцами для игры в крокет, поднимались кусты, формой напоминающие апельсиновые деревья, но усеянные пунцовыми и алыми розами. Гигантские анютины глазки, намного крупнее этих роз и сильно смахивающие на узорчатые перочистки, изготовляемые восторженными прихожанками в подарок модным священникам, пестрели во мху под розовыми кустами, а кое-где, предвосхищая чудеса природы, которые создаст Лютер Бербанк,[8] красовались привитые на розу роскошные ромашки.
Посреди этого волшебного сада стояла госпожа Нильсон в белом кашемировом платье, отделанном голубым атласом, с ридикюлем на синем поясе и с толстыми желтыми косами, аккуратно уложенными по обе стороны кисейной шемизетки. Невинно опустив глаза, она слушала страстные признания господина Капуля, притворяясь, будто не понимает его коварных замыслов, когда он словом или взглядом многозначительно указывал на нижнее окно прелестной кирпичной виллы, под косым углом выступающей из-за правой кулисы.
«Душенька! — подумал Ньюленд Арчер, снова бросая взгляд на девушку с ландышами. — Она даже не подозревает, о чем идет речь». И он погрузился в созерцание ее сосредоточенного юного лица с чувством собственника, в котором гордое сознание мужской многоопытности смешивалось с трепетным преклонением перед ее безграничной чистотой. «Мы будем вместе читать „Фауста“… на берегах итальянских озер», — размышлял он, мешая смутные мечты о предстоящем им медовом месяце с литературными шедеврами, истинный смысл которых ему еще предстоит раскрыть своей молодой жене. Ведь не далее как сегодня Мэй Велланд позволила ему угадать, что он ей «небезразличен» (священная формула признания нью-йоркской девицы), и вот уже его фантазия, минуя обручальное кольцо, сопровождающий помолвку поцелуй и марш из «Лоэнгрина»,[9] рисует ее рядом с ним среди волшебной европейской старины.
Ему совсем не хотелось, чтобы будущая миссис Ньюленд Арчер была простушкой. Он надеялся, что она (благодаря его просвещенному обществу) приобретет светский такт и остроумие, которые позволят ей занять достойное место среди наиболее популярных дам из «молодого круга» — тех, что, по установившемуся обычаю, принимают поклонение мужчин, шутливо их обескураживая. Если б ему вздумалось заглянуть в глубины своего тщеславия (порой ему это почти удавалось), он обнаружил бы там мечту, чтобы его жена была столь же искушенной и готовой угождать, как та дама, чьи чары почти два года слегка волновали его воображение; разумеется, желательно, чтобы она была покрепче той несчастной, — ведь слабое здоровье так омрачало ее жизнь, а один раз даже нарушило все его планы на целую зиму.
Он ни разу не удосужился задуматься о том, каким образом можно создать и сохранить в этом грубом мире вышеупомянутое чудо из льда и огня, ему было достаточно держаться своего мнения, никак его не анализируя, — ведь того же мнения были все тщательно прилизанные, облаченные в белые жилеты джентльмены с цветками в петлицах, которые один за другим входили в клубную ложу, обменивались с ним дружескими приветствиями и критически наводили бинокли на кружок дам, являвших собою продукт существующей системы. В области мысли и искусства Ньюленд Арчер считал себя бесспорно намного выше этих избранных представителей старой нью-йоркской знати; он наверняка больше читал, больше размышлял и даже гораздо больше повидал свет, чем любой из них. Поодиночке каждый во всем уступал ему, но, взятые в целом, они представляли «Нью-Йорк», и привычка к мужской солидарности заставляла его принимать их точку зрения по всем вопросам так называемой нравственности. Он инстинктивно чувствовал, что идти здесь своим путем было бы хлопотно, да к тому же отдавало бы дурным тоном.
— Нет, вы только посмотрите! — вскричал Лоренс Леффертс, резким движением отводя бинокль от сцены.
Лоренс Леффертс был наивысшим нью-йоркским авторитетом по части «хорошего тона». Никто другой не посвятил столько времени изучению этого мудреного и увлекательного предмета; однако для такого непринужденного и исчерпывающего владения им одного лишь изучения было явно недостаточно. Стоило окинуть взглядом Леффертса, начиная с выпуклого высокого лба и изгиба прекрасных белокурых усов и кончая обутыми в лакированные туфли длинными ногами на противоположном конце его элегантной сухопарой фигуры, чтобы понять: знание законов «хорошего тона» — прирожденное свойство человека, который умеет так небрежно носить столь дорогую одежду и двигаться с такой ленивой грацией, несмотря на столь высокий рост. Как однажды сказал о нем один его юный поклонник, «если кто и может посоветовать, когда надевать фрак, а когда смокинг, так это только Ларри Леффертс». А уж по части бальных туфель или лакированных ботинок авторитет его всегда был непререкаем.
— О, боже, — произнес он и молча передал бинокль старику Силлертону Джексону.
Следуя за взглядом Леффертса, Ньюленд Арчер с удивлением убедился, что этот возглас был вызван появлением в ложе миссис Минготт совершенно нового лица.
Это была стройная молодая женщина, ростом чуть пониже Мэй Велланд, с густыми каштановыми локонами, схваченными у висков узкой бриллиантовой лентой. Благодаря прическе и фасону синего бархатного платья, несколько театрально стянутого выше талии поясом с большой старомодной пряжкой, в ней, по выражению тех времен, было нечто «а ля Жозефин».[10] Дама в столь необычном туалете, казалось, совсем не замечала вызванного им любопытства; с минуту постояв посреди ложи, она высказала миссис Велланд сомнения по поводу того, следует ли ей занять место последней в правом переднем углу, после чего, слегка улыбнувшись, уступила настояниям этой дамы и уселась рядом с ее невесткой, миссис Лавел Минготт, которая занимала левый угол.
Мистер Силлертон Джексон вернул Лоренсу Леффертсу его бинокль. Весь клуб инстинктивно обернулся, ожидая, что скажет старик, ибо мистер Джексон был таким же великим авторитетом по части «семейных связей», каким Лоренс Леффертс — по части «хорошего тона». Он досконально изучил все ответвления нью-йоркских фамильных дерев и мог не только пролить свет на такой сложный вопрос, как степень родства между Минготтами (через семью Торли) и Далласами из Южной Каролины или родственные связи старшего поколения филадельфийских Торли с олбанскими Чиверсами[11] (ни в коем случае не путать с Мэнсон Чиверсами с Юниверсити-плейс[12]), но мог также назвать главные отличительные особенности каждого семейства, такие, как, например, баснословная скаредность младшего поколения Леффертсов (тех, что с Лонг-Айленда[13]), или роковая склонность Рашуортов вступать в глупейшие браки, или же душевная болезнь, поражающая каждое второе поколение олбенских Чиверсов, из-за которой их нью-йоркские родственницы упорно отказывались выходить за них замуж — если не считать вызвавшего катастрофические последствия брака несчастной Медоры Мэнсон, которая, как известно… впрочем, мать ее была урожденной Рашуорт.
Кроме этого леса генеалогических дерев, между узкими впалыми висками под мягкой седой шевелюрой мистера Силлертона Джексона размещался перечень большей части таинственных скандальных историй, тлевших под невозмутимой поверхностью нью-йоркского общества последние пятьдесят лет. Его осведомленность была столь велика, а память столь непогрешима, что он считался единственным человеком, способным рассказать вам, кто такой на самом деле банкир Джулиус Бофорт или что слалось с красавцем Бобом Спайсером, отцом старой миссис Мэнсон Минготт, который так таинственно исчез (вместе с солидной суммой вверенных ему денег) через месяц после свадьбы, в тот самый день, когда прекрасная испанская танцовщица, вызывавшая восторг переполненного зала старой оперы на Бэттери,[14] отбыла морем на Кубу. Однако эти, как и многие другие тайны были погребены в груди мистера Джексона, ибо обостренное чувство чести запрещало ему раскрывать чужие секреты, и, кроме того, он отлично понимал, что репутация надежного человека во много раз увеличивает возможность разузнавать о том, что его интересует.
Вот почему, глядя, как мистер Силлертон Джексон возвращает Лоренсу Леффертсу бинокль, вся клубная ложа застыла в напряженном ожидании. С минуту он мутными голубыми глазами из-под старческих, испещренных прожилками век молча изучал почтительно взиравшую на него группу, после чего задумчиво дернул себя за ус и сказал просто:
— Я не думал, что Минготты посмеют зайти так далеко.
2
Этот мимолетный эпизод поверг Ньюленда Арчера в состояние какого-то странного замешательства. Его раздосадовало, что столь пристальное внимание мужской половины Нью-Йорка привлекла к себе ложа, в которой между своею матерью и теткой сидела его невеста: он не сразу узнал даму в платье стиля ампир и недоумевал, почему ее присутствие так взволновало великосветское общество. Потом его вдруг осенило, и он вспыхнул от негодования. Да уж, что правда, то правда — кто б мог подумать, что Минготты посмеют так далеко зайти!
Они, однако же, посмели, еще как посмели, ибо приглушенные замечания за спиною Арчера не оставили у него сомнения в том, что эта молодая женщина — кузина Мэй Велланд, кузина, которую в семье всегда называли не иначе как «бедняжка Эллен Оленская». Арчер знал, что дня два назад она неожиданно приехала из Европы; он даже выслушал (без особого неодобрения) рассказ мисс Велланд о том, как она навестила «бедняжку Эллен», которая остановилась у старой миссис Минготт. Арчер вполне одобрял семейную солидарность, и одним из качеств Минготтов, которым он особенно восхищался, было именно то, что они всегда решительно вставали на защиту немногочисленных заблудших овец, появлявшихся в их безупречном стаде. От природы незлой и великодушный, молодой человек радовался, что ложная скромность не помешала его будущей жене обласкать (в домашней обстановке) несчастную кузину; однако принимать графиню Оленскую в семейном кругу — одно, а выставлять ее на всеобщее обозрение, тем более в опере, в одной ложе с девицей, чья помолвка с ним, Ньюлендом Арчером, будет объявлена через несколько недель, — совсем другое. Да, он вполне разделял чувства старого Силлертона Джексона — он не думал, что Минготты посмеют зайти так далеко!
Ему, разумеется, было известно: на что отважится мужчина (в окрестностях 5-й авеню), на то отважится и глава семейства, старая миссис Мэнсон Минготт. Он всегда восхищался надменной и властной старухой — она, всего лишь Кэтрин Спайсер со Статен-Айленда,[15] отец которой при таинственных обстоятельствах покрыл себя несмываемым позором и которая, не обладая ни деньгами, ни положением в обществе, необходимыми для того, чтобы заставить всех об этом позабыть, сумела, однако же, соединиться брачными узами с главой богатой ветви Минготтов, выдать обеих своих дочерей за «иностранцев» (итальянского маркиза и английского банкира) и — верх наглости! — выстроить себе дом из светло-кремового камня (когда коричневый известняк был столь же обязателен, сколь фрак на вечерних приемах) в нехоженой пустыне близ Центрального парка.
Иностранные дочери старой миссис Минготт стали легендой. Они ни разу не приехали домой навестить мать, и она, как многие люди, наделенные живым умом и сильной волей, но склонные к сидячему образу жизни и тучности, философски примирилась с существованием в четырех стенах. Однако светло-кремовый дом (по слухам, выстроенный в подражание особнякам парижской знати) являл собой зримое доказательство ее духовной независимости, и она царила в нем среди дореволюционной мебели и сувениров из Тюильри[16] времен Луи Наполеона[17] (где она блистала в свои зрелые годы) с такою безмятежностью, словно не было ничего особенного в том, чтобы жить за 34-й улицей или завести в доме французские окна, открывающиеся как двери, вместо обычных, рамы которых поднимаются вверх.
Все (включая мистера Силлертона Джексона) были согласны с тем, что старуха Кэтрин никогда не отличалась красотой — даром, который в глазах Нью-Йорка способен объяснить любой успех и оправдать многие неудачи. Злые языки говорили, будто сна, подобно своей августейшей тезке, добилась успеха благодаря силе воли, бессердечию, высокомерию и самоуверенности, которые, впрочем, отчасти искупались ее достойной и безупречной личной жизнью. Мистер Мэнсон Минготт умер, когда ей было всего двадцать восемь лет, и из недоверия ко всем Спайсерам вообще наложил строгие ограничения на пользование имуществом, но его самоуверенная молодая вдова бесстрашно шла своим путем, свободно вращалась в обществе иностранцев, нашла своим дочерям женихов бог весть в каких развращенных фешенебельных кругах, была запанибрата с посланниками и герцогами, якшалась с папистами, принимала у себя оперных певцов, дружила с мадам Тальони,[18] и за все это время (что первым констатировал Силлертон Джексон) на ее репутации не появилось ни малейшего пятнышка — единственно, как он всегда добавлял, чем она отличалась от своей предшественницы Екатерины Великой.
Миссис Мэнсон Минготт давно сумела снять ограничения с мужнина наследства и уже полсотни лет жила в полном достатке, однако память о прежней нужде сделала ее чрезмерно бережливой. Правда, покупая одежду или мебель, она старалась приобретать все самое лучшее, но никак не могла заставить себя потратить лишние деньги на преходящие радости чревоугодия. Оттого-то еда в ее доме была такой же скверной, как и у миссис Арчер, хоть и но совершенно иной причине, и даже вина ничуть не спасали дело. Родственники считали, что скудость ее стола позорит доброе имя Минготтов, всегда славившихся богатством, но, несмотря на «готовые» блюда и выдохшееся шампанское, люди все равно к ней ездили, и в ответ на увещания своего сына Лавела (который пытался восстановить фамильную честь, наняв лучшего повара во всем Нью-Йорке), она со смехом говорила: «Какой смысл держать двух дорогих поваров в одной семье, тем более когда девочек я уже выдала замуж, а соусов все равно есть не могу».
Размышляя обо всем этом, Ньюленд Арчер еще раз взглянул на ложу Минготтов. Он убедился, что миссис Велланд и ее невестка встречают критические взгляды противоположной части зала с чисто минготтовским апломбом, который старуха Кэтрин привила всему своему клану, и только румянец Мэй Велланд (возможно, вспыхнувший от сознания, что он на нее смотрит) свидетельствовал, что она понимает всю серьезность ситуации. Что же до той, которая вызвала все это смятение, то она грациозно сидела в углу ложи, не сводя глаз со сцены, и, наклонясь вперед, выставляла напоказ плечи и грудь чуть более откровенно, чем позволяли себе нью-йоркские дамы, во всяком случае те, у которых были основания пожелать остаться незаметными.
По мнению Ньюленда Арчера, мало что могло сравниться с преступлением против «вкуса» — этого пребывающего где-то вдали божества, для которого «хороший тон» — не более чем полномочный представитель и наместник. Бледное сосредоточенное лицо госпожи Оленской показалось ему вполне соответствующим случаю и ее несчастному положению, но покрой ее платья (без всякой шемизетки), обнажавшего худощавые плечи, глубоко его огорчал и шокировал. Ему претила даже мысль о том, что Мэй Велланд подвергается влиянию молодой особы, столь равнодушной к требованиям вкуса.
— Что же, — услышал он у себя за спиной голос одного из молодых членов клуба (во время дуэтов Марты и Мефистофеля все зрители разговаривали), — что же в конце концов произошло?
— Она его оставила; никто и не пытается это отрицать.
— Но ведь он же гнусный негодяй? — настойчиво продолжал расспросы простодушный молодой человек по фамилии Торли, явно вознамерившийся стать рыцарем дамы, о которой шла речь.
— И притом наихудшего сорта. Я встречался с ним в Ницце, — авторитетным тоном заявил Лоренс Леффертс. — Одна рука парализована, седой, ехидный тип. Физиономия довольно смазливая, и эдакие, знаете ли, длинные ресницы. Наверняка из тех, кто гоняется за юбками, а на досуге коллекционирует редкий фарфор. Сколько я понимаю, платит любые деньги и за то, и за другое.
Все засмеялись, а юный рыцарь спросил:
— Ну а дальше что?
— А дальше она сбежала с его секретарем.
— Вот как! — физиономия рыцаря вытянулась.
— Это, впрочем, продолжалось недолго; говорят, уже через несколько месяцев она жила в Венеции одна. По моим сведениям, Лавел Минготт ездил за нею туда. Рассказывал, что она ужасно несчастлива. Все это прекрасно, но демонстрировать ее в опере — дело совсем другое.
— Быть может, — осмелился заметить юный Торли, — быть может, она слишком несчастлива, чтобы оставаться дома.
Это замечание вызвало непочтительный смех. Юноша покраснел и притворился, будто его слова, как выражаются остряки, содержали некий double entendre.[19]
— Однако зачем привозить с собою мисс Велланд? — тихо проговорил кто-то, искоса взглядывая на Арчера.
— О, это часть все той же кампании — не иначе как приказ бабушки, — со смехом отозвался Леффертс. — Уж если старуха за что-нибудь берется, то делает это основательно.
Действие подходило к концу, и публика в ложе задвигалась. Ньюленда Арчера внезапно охватило неодолимое стремление к решительным действиям. Первым войти в ложу миссис Велланд, объявить застывшему в ожидании свету о своей помолвке с Мэй Велланд, помочь ей преодолеть трудности, с которыми она может столкнуться из-за противоестественного положения ее двоюродной сестры, — этот порыв внезапно победил все колебания и сомнения, и Арчер поспешно зашагал по красным коридорам в противоположный конец театра.
Войдя в ложу, он встретился глазами с Мэй Велланд и увидел, что она сразу поняла его намерения, хотя фамильная честь, которую они оба почитали столь высокой добродетелью, не позволяла ей об этом говорить. Люди их круга жили в атмосфере тонких намеков и туманных околичностей, и то обстоятельство, что он и она понимают друг друга без слов, по мнению молодого человека, сблизило их больше всяких объяснений. Ее глаза сказали:
«Вы видите, почему мама взяла меня с собой», а его глаза ответили: «Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы вы оставались в стороне».
— Вы знакомы с моей племянницей, графиней Оленской? — спросила миссис Велланд, пожимая руку будущему зятю.
Арчер поклонился, не протягивая руки, как полагалось мужчине, которого представляют даме, и Эллен Оленская слегка кивнула, сжимая руками в светлых перчатках огромный веер из орлиных перьев. Поздоровавшись с миссис Лавел Минготт, крупной белокурой дамой в скрипучем атласном платье, он сел рядом со своею невестой и шепотом спросил:
— Надеюсь, вы сказали госпоже Оленской о нашей помолвке? Я хочу, чтобы все об этом знали, я хочу, чтобы вы позволили мне объявить об этом сегодня вечером на балу.
Зардевшись подобно утренней заре, мисс Велланд взглянула на него сияющими глазами.
— Если вам удастся убедить маму, — отозвалась она. — Но зачем менять то, что уже решено?
Он ответил ей одним только взглядом, и она продолжала:
— Скажите ей сами. Я вам разрешаю. Кузина говорит, что в детстве вы часто вместе играли.
Она отодвинула назад свое кресло, чтоб дать ему пройти, и, желая показать всему свету, что он делает, Арчер несколько демонстративно сел рядом с графиней Оленской.
— Мы ведь и вправду вместе играли, — заметила она, взглянув на него своими печальными глазами. — Вы были несносным мальчишкой и однажды ухитрились поцеловать меня за дверью, но я была влюблена в вашего кузена Венди Ньюленда, который не обращал на меня ни малейшего внимания. — Она обвела глазами полукруглый ряд лож. — О, как все это напоминает мне те времена, когда все, кто здесь сидит, бегали в коротеньких штанишках и кружевных панталончиках! — проговорила она с едва уловимым иностранным акцентом, вновь обратив глаза на Арчера.
И, хотя глаза эти были полны доброжелательности, молодого человека даже передернуло при мысли, что они хранят столь неподобающий образ высокого трибунала, который как раз сейчас выносит ей свой приговор. Нет ничего бестактнее неуместного легкомыслия, и он несколько принужденно ответил:
— Да, вас здесь очень долго не было.
— О, целую вечность, — подхватила она, — так долго, что мне кажется, будто я давным-давно умерла, а этот милый старый театр — не что иное, как царствие небесное.
Эти слова — почему, он и сам не мог бы объяснить, — показались Ньюленду Арчеру выражением еще большей непочтительности к нью-йоркскому обществу.
3
Все неизменно повторялось в одном и том же порядке. В день своего ежегодного бала миссис Джулиус Бофорт никогда не пропускала театра; более того, она всякий раз назначала свой бал именно на тот вечер, когда давали оперу, дабы показать, что заниматься домашними делами ниже ее достоинства и что она располагает штатом прислуги, которая даже в ее отсутствие способна предусмотреть все детали предстоящего праздника.
Дом Бофортов (построенный даже раньше домов миссис Мэнсон Минготт и Хедли Чиверсов) был в числе немногих нью-йоркских домов, имевших бальную залу, а в те времена, когда накрывать пол в гостиной грубым холстом для танцев и убирать наверх мебель уже считали чем-то «провинциальным», обладание бальной залой, которая не использовалась ни для каких других целей, окна которой триста шестьдесят четыре дня в году были закрыты ставнями, позолоченные стулья задвинуты в угол, а люстра зашита в мешок, было несомненным преимуществом, искупавшим все достойные сожаления страницы бофортовского прошлого.
Миссис Арчер, которая любила выражать свои социальные теории афоризмами, однажды сказала: «У всех нас есть свои любимчики-простолюдины», и, хотя эта фраза прозвучала очень смело, справедливость ее нашла тайный отзвук в сердцах многих избранных. Однако Бофорты, строго говоря, не были простолюдинами, кое-кто считал, что они даже хуже. Правда, миссис Бофорт принадлежала к одной из самых почтенных американских фамилий; это была прекрасная Регина Даллас (из южно-каролинской ветви) — нищая красавица, которую ввела в нью-йоркское общество ее двоюродная сестра, экстравагантная Медора Мэнсон, всегда совершавшая нелепые поступки из лучших побуждений. Любой родственник Мэнсонов и Рашуортов имел (как выражался завсегдатай Тюильри мистер Силлертон Джексон) droit de cité[20] в нью-йоркском обществе, но разве женщина, которая вышла замуж за Джулиуса Бофорта, тем самым его не утратила?
Вопрос состоял в том, кто такой Бофорт? Он слыл англичанином, был любезен, красив, вспыльчив, гостеприимен и остроумен. Он приехал в Америку с рекомендательными письмами от зятя старой миссис Мэнсон Минготт, английского банкира, и быстро сделал карьеру в деловом мире, но вел рассеянный образ жизни, имел злой язык и весьма темное происхождение, и, когда Медора Мэнсон объявила о его помолвке с ее кузиной, все сочли это очередной глупостью в длинном ряду экстравагантных поступков бедняжки Медоры.
Но глупость спасает своих детей так же часто, как мудрость — своих, и спустя два года после свадьбы юной миссис Бофорт все признали, что у нее самый изысканный дом в Нью-Йорке. Никто не понимал, как совершилось это чудо. Она была ленивой, бездеятельной, злые языки даже называли ее тупицей, и тем не менее разодетая как идол, увешанная жемчугами, с каждым годом все более молодая, белокурая и прекрасная, она царствовала в массивном коричневом бофортовском дворце и, даже не шевельнув унизанным кольцами мизинчиком, собирала вокруг себя весь свет. Знающие люди утверждали, будто Бофорт сам муштрует слуг, учит повара готовить новые блюда, объясняет садовникам, какие цветы выращивать в теплицах для украшения обеденного стола и гостиных, варит послеобеденный пунш и диктует жене записочки к ее подругам. Если так, то все это совершалось за закрытыми дверями, а к гостям выходил гостеприимный беззаботный миллионер, который появлялся в своей собственной гостиной с небрежным видом гостя и говорил: «Вы не находите, что у моей жены изумительные глоксинии? Знаете, она выписывает их из лондонского ботанического сада Кью».
По общему мнению, секрет мистера Бофорта заключался в том, что он, не моргнув глазом, умел выпутаться из любой переделки. Можно было сколько угодно шушукаться насчет того, как международный банк, в котором он служил, «помог» ему покинуть Англию, — он игнорировал этот слух подобно всем остальным и, хотя совесть делового Нью-Йорка была ничуть не менее чувствительной, чем его нравственные принципы, всегда выходил сухим из воды, меж тем как весь Нью-Йорк не выходил из его гостиных, и уже свыше двадцати лет люди говорили: «мы едем к Бофортам» так же безмятежно, как если бы речь шла о миссис Мэнсон Минготт, да к тому же еще с приятной уверенностью, что там их ждут жареная утка и тончайшие выдержанные вина, а не теплая «вдова Клико»[21] урожая неизвестно какого года и разогретые крокеты из Филадельфии.
Итак, миссис Бофорт, по обыкновению, появилась в своей ложе как раз перед арией с драгоценностями, а когда она в конце третьего действия, опять-таки по обыкновению, встала, накинула на свои прекрасные плечи манто и исчезла, Нью-Йорк уже знал, что бал начнется через полчаса.
Ньюйоркцы чрезвычайно гордились бофортовским домом и любили показывать его иностранцам, особенно в день ежегодного бала. Бофорты одни из первых в городе приобрели красный бархатный ковер, который их собственные лакеи расстилали на ступенях под их собственным тентом, тогда как все прочие довольствовались взятыми напрокат коврами и стульями и ужином из ресторана. Они также ввели правило, чтобы дамы снимали манто в передней, а не тащили их наверх в спальню хозяйки и не грели щипцы для завивки волос на газовой горелке; Бофорт будто бы даже как-то высказался в том духе, что, насколько он понимает, все подруги его жены держат служанок, которые перед отъездом из дому заботятся об их coiffures.[22]
В этом доме, возведенном по смелому плану, гостю не приходилось протискиваться в бальную залу сквозь узкий коридор (как у Чиверсов); он торжественно следовал по анфиладе гостиных (цвета морской волны, алой розы и bouton d'or[23]) и еще издали видел, как на полированном паркете отражаются многосвечные люстры, а дальше, в глубине зимнего сада, пышная листва камелий и древовидных папоротников осеняет кресла из черного и золотистого бамбука.
Ньюленд Арчер, как и подобает молодому человеку в положении жениха, несколько запоздал. Оставив пальто у облаченных в шелковые чулки лакеев (чулки эти были одной из последних причуд Бофорта), он некоторое время бродил по библиотеке, отделанной цветною кордовскою кожей, обставленной мебелью «буль»[24] и украшенной малахитом, где несколько мужчин беседовали, натягивая бальные перчатки, а затем присоединился к процессии гостей, которых миссис Бофорт встречала на пороге алой гостиной.
Арчер явно нервничал. После оперы он не вернулся в клуб (как обычно поступали светские молодые люди). Вечер был прекрасный, и он погулял по 5-й авеню, а уж потом пошел к дому Бофортов. Он опасался, как бы Минготты не «зашли слишком далеко», — ведь бабушка могла приказать им привезти на бал графиню Оленскую.
По атмосфере в клубной ложе он почувствовал, что это было бы грубейшей ошибкой, и, хотя более чем когда-либо был исполнен решимости «стойко держаться до конца», куда менее, чем до краткой беседы с кузиной своей невесты в опере, рвался с открытым забралом ринуться на ее защиту.
Добравшись до гостиной цвета bouton d'or (где Бофорт имел дерзость повесить «Любовь Победоносную», столь нашумевшую ню Бужеро[25]), Арчер увидел стоявших возле дверей бальной залы миссис Велланд и ее дочь. По полу уже скользили пары, свет восковых свечей падал на кружившиеся тюлевые юбки, на девичьи головы, увитые скромными венками, на великолепные эгретки и другие украшения в прическах молодых замужних дам, на сверкающие, туго накрахмаленные манишки и свежие лайковые перчатки.
Мисс Велланд, готовая присоединиться к танцующим, замешкалась на пороге с ландышами в руках (другого букета у нее не было). Она слегка побледнела, и в глазах ее светилось волнение, которого она не пыталась скрыть. Собравшиеся вокруг молодые люди и девицы пожимали ей руку, шутили и смеялись, на что с одобрительной улыбкой взирала стоявшая поодаль миссис Велланд. Арчер понял, что Мэй Велланд объявляет о своей помолвке, а мать ее силится изобразить приличествующие случаю родительские сомнения.
Арчер с минуту помедлил. Он сам настаивал на объявлении о помолвке, но ему хотелось, чтобы свет узнал о ней совершенно иначе. Во всеуслышание объявить о помолвке среди шумной толпы в бальной зале значило лишить это известие тончайшего оттенка интимности, коей надлежит сопутствовать столь любезным сердцу событиям. Радость его была так глубока, что эта мелкая рябь на поверхности ничуть не затронула ее сути, однако он желал бы, чтоб и поверхность тоже оставалась незамутненной. Его несколько утешило, что это чувство разделяла и Мэй Велланд. Глаза их встретились, и в ее умоляющем взгляде он прочитал: «Помните — мы делаем это потому, что так надо».
Призыв этот нашел немедленный отклик в груди Арчера, но все же он хотел бы, чтобы их действия диктовались какой-либо более возвышенной причиной, нежели приезд несчастной Эллен Оленской. Группа, собравшаяся вокруг мисс Велланд, с многозначительными улыбками расступилась, и, получив свою долю поздравлений, он увлек невесту на середину зала и обнял ее за талию.
— Теперь мы можем помолчать, — сказал он, с улыбкой глядя в ее невинные глаза, и молодую пару унесли легкие волны «Голубого Дуная».[26]
Мэй Велланд ничего не ответила. Губы ее дрогнули в улыбке, но взор оставался серьезным и отсутствующим, словно был устремлен на какое-то далекое видение.
— Милая, — прошептал Арчер, прижимая ее к себе. В эту минуту он подумал, что первые часы после помолвки, даже если их провести в бальной зале, таят в себе нечто торжественное и священное. Теперь начинается новая жизнь, и рядом с ним всегда будет это белоснежное, сияющее, безупречное существо!
Танец окончился, и они, как подобает обрученным, отправились в зимний сад. Укрывшись под сенью высоких древовидных папоротников и камелий, Ньюленд прижал к губам ее руку в перчатке.
— Видите, я поступила так, как вы просили, — сказала она.
— Да, я не мог больше ждать, — с улыбкой ответил он и тотчас добавил: — Я только хотел, чтобы это произошло не на балу.
— Да, я знаю. — Она посмотрела на него проникновенным взглядом. — Но ведь даже и здесь мы все равно одни, правда?
— О, любимая, всегда! — воскликнул Арчер.
Нет никаких сомнений — она всегда все поймет, она всегда скажет именно то, что нужно. Это открытие переполнило чашу его блаженства, и он оживленно продолжал:
— Хуже всего, что я хочу поцеловать вас, но не смею. Произнеся эти слова, он быстро оглядел зимний сад и, убедившись, что они на минутку остались одни, привлек ее к себе и торопливо прижался губами к ее губам. Чтоб загладить дерзость этого поступка, он подвел ее к бамбуковому дивану в менее уединенной части зимнего сада и, садясь рядом с нею, вынул из ее букета один ландыш. Она сидела молча, а весь мир, подобно долине, освещенной солнцем, лежал у их ног.
— Вы сказали кузине Эллен? — словно пробуждаясь ото сна, спросила мисс Велланд.
Арчер встрепенулся и вспомнил, что ничего ей не сказал. Что-то мешало ему говорить о таких вещах с незнакомой женщиной, к тому же иностранкой, и поэтому слова не шли у него с языка.
— Нет, мне просто не представилось удобного случая, — поспешно солгал он.
— А… — разочарованно протянула она и с мягкой настойчивостью продолжала: — Но вы должны это сделать, я ведь ей тоже ничего не говорила, и мне не хотелось бы, чтобы она подумала…
— Разумеется. Но, по-моему, это лучше сделать вам.
— Мне надо было поговорить с нею вовремя, — задумчиво произнесла она, — но раз уж мы задержались, вы должны объяснить, что я просила вас сказать ей в опере, прежде чем объявить о помолвке здесь. Иначе она может подумать, что я о ней забыла. Она ведь член нашей семьи, но она так долго отсутствовала, и теперь ее очень легко обидеть.
Арчер сияющим взором посмотрел на невесту.
— Вы добры как ангел! Разумеется, я ей скажу, — проговорил он, бросая опасливый взгляд на переполненную бальную залу. — Но я ее еще не видел. Она здесь?
— Нет, в последнюю минуту она решила не приезжать.
— В последнюю минуту? — повторил он, выдав тем свое удивление, что она вообще могла серьезно думать о приезде.
— Да. Она ужасно любит танцевать, — просто ответила девушка. — Но она вдруг решила, что ее платье недостаточно нарядно для бала, хотя нам оно очень нравится, и тетя отвезла ее домой.
— Вот как, — равнодушно отозвался Арчер, скрывай свою радость. Ничто не приводило его в такой восторг, как твердая решимость невесты не замечать ничего «неприятного» — правило, в котором они оба были воспитаны.
«Она не хуже меня понимает, почему ее кузина отказалась ехать, — подумал он, — но я никогда ничем не обнаружу, будто думаю, что на репутации бедняжки Эллен Оленской есть хотя бы малейшая тень».
4
После помолвки полагалось наносить визиты, которым и был посвящен следующий день. В этом отношении нью-йоркский ритуал соблюдался неукоснительно и точно, и в полном соответствии с ним Ньюленд Арчер сначала поехал с матерью и сестрой к миссис Велланд, после чего он, миссис Велланд и Мэй отправились за благословением к почтенной прародительнице, старой миссис Мэнсон Минготт.
Визит к миссис Мэнсон Минготт всегда забавлял молодого человека. Самый дом ее уже превратился в музейный экспонат, хотя, разумеется, и менее древний, чем некоторые другие старинные фамильные особняки на Юниверсити-плейс и в нижней части 5-й авеню. Они были выдержаны в чистейшем стиле тридцатых годов — ковры с гирляндами из махровых роз оживляли здесь мрачную гармонию палисандровых консолей, каминов с полукруглыми арками и черными мраморными полками и огромных застекленных книжных шкафов красного дерева, тогда как старая миссис Минготт, построившая себе дом позже, самолично выбросила громоздкую мебель времен своей юности и перемешала остатки минготтовского наследия с фривольными гобеленами эпохи Второй империи.[27] Она имела обыкновение, сидя у окна гостиной на первом этаже, спокойно наблюдать, как поток великосветской жизни течет на север, к дверям ее уединенного жилища. Казалось, в ее намерения отнюдь не входило его торопить, ибо она была столь же терпелива, сколь и уверена в себе. Она не сомневалась, что заборы, каменоломни, одноэтажные салуны, деревянные теплицы в неряшливых огородах и утесы, с которых козы созерцали окрестный пейзаж, скоро исчезнут под натиском таких же, а может статься (ибо она была женщиной беспристрастной), еще более величественных особняков, чем ее собственный; что булыжную мостовую, по ухабам которой громыхали старые омнибусы, заменят гладким асфальтом, наподобие того, какой люди, по их рассказам, видели в Париже. А покамест, коль скоро все, кого она желала видеть, приезжали к ней (а она могла заполнить свои комнаты гостями с такою же легкостью, как Бофорты, и притом не добавляя к меню своих ужинов ни единого блюда), она ничуть не страдала от географической изоляции.
Необъятные горы жира, обрушившиеся на достигшую средних лет миссис Минготт, словно поток лавы на обреченный город, превратили ее из пухлой, энергичной маленькой женщины со стройными ножками в некое колоссальное и величественное явление природы. Она отнеслась к этому извержению столь же философски, сколь и ко всем прочим своим испытаниям, и теперь, в глубокой старости, была вознаграждена тем, что, глядя в зеркало, видела почти лишенную морщин гладь крепкой бело-розовой плоти, в центре которой, словно в ожидании раскопок, притаилось маленькое личико. Многоступенчатый подбородок уступ за уступом вел в головокружительные глубины все еще белоснежной груди под белоснежной кисеей, заколотой брошью с миниатюрным портретом покойного мистера Минготта, а вокруг и ниже, через края вместительного кресла, переливались волны черного шелка, на гребнях которых, подобно чайкам, белели две крошечные руки.
Тяжкое бремя плоти давно уже не позволяло миссис Мэнсон Минготт спускаться и подниматься по лестницам, и она, со свойственной ей независимостью взглядов, перенесла комнаты для приемов наверх, сама же (дерзко нарушив все принятые в Нью-Йорке правила приличия) устроилась на первом этаже, и, сидя с нею рядом у окна ее гостиной, через дверь с желтыми штофными портьерами, которая никогда не закрывалась, вы с удивлением видели спальню с огромной низкой кроватью, обитой наподобие софы, и туалетным столиком с легкомысленными кружевными фестончиками и зеркалом в золоченой раме.
Гостей миссис Минготт поражало и восхищало это заграничное расположение комнат, напоминавшее сцены из французских романов, и дома, где даже самая архитектура побуждает к безнравственности, о какой простодушный американец не смел даже и помыслить. Именно так в нечестивом старом свете жили женщины, имевшие любовников, — в квартирах, где все комнаты находятся на одном этаже в неприличном соседстве друг с другом, что и описано в тамошних романах. Ньюленду Арчеру (который мысленно превращал спальню миссис Минготт в место действия любовных сцен из «Мосье де Камора»[28]) нравилось рисовать себе ее безупречную жизнь в обстановке, прямо-таки созданной для любовных утех, однако он с немалым восхищением говорил себе, что, если б этой бесстрашной женщине понадобился любовник, она бы себе его завела.
К общему облегчению, во время визита жениха и невесты графини Оленской не было в гостиной ее тетушки. По словам миссис Минготт, она вышла погулять, что в такой ясный солнечный день — и притом в часы, когда все ездят по магазинам, — уже само по себе было весьма неделикатным поступком со стороны скомпрометированной женщины. Но, во всяком случае, ее отсутствие избавило всех от неловкости и отвело смутную тень, которую ее несчастливое прошлое могло бросить на их безоблачное будущее. Визит прошел гладко, как, впрочем, и следовало ожидать. Старую миссис Минготт очень обрадовала помолвка, которую давно предвидела и одобрила на семейном совете бдительная родня, а обручальное кольцо с крупным сапфиром, вставленным в невидимые лапки, привело ее в полный восторг.
— Конечно, в этой новой оправе камень выглядит более эффектно, но для глаз, привыкших к старине, он может показаться голым, — пояснила миссис Велланд, искоса бросив примирительный взгляд на будущего зятя.
— Для глаз, привыкших к старине? Уж не на мои ли это глаза ты намекаешь, милочка? Я люблю все новое, — сказала прародительница, поднося камень к своим ясным маленьким глазкам, никогда не знавшим очков. — Очень красиво, — добавила она, возвращая кольцо, — очень богато. Правда, в мое время хватало и камеи, обрамленной жемчугом. Но ведь кольца красит рука, не правда ли, дорогой мистер Арчер? — и она помахала крошечной ручкой с острыми коготками и складками жира, которые, словно браслеты из слоновой кости, охватывали ее запястья. — Руки у Мэй крупные — от этого теперешнего спорта суставы раздаются вширь, — но кожа белая. А когда свадьба? — перебила она себя, глядя в лицо Арчеру.
— Ах… — пробормотала миссис Велланд, а молодой человек, улыбнувшись невесте, ответил:
— Как можно скорее — если вы поддержите меня, миссис Минготт.
— Надо дать им время немножко лучше узнать друг друга, тетя Кэтрин, — изобразив на лице приличествующее случаю сомнение, заметила миссис Велланд, на что прародительница возразила:
— Узнать друг друга? Что за чушь! В Нью-Йорке все и так испокон века друг друга знают. Позволь молодому человеку действовать по своему усмотрению, не жди, пока шампанское выдохнется. Пусть поженятся до качала великого поста; я теперь каждую зиму опасаюсь воспаления легких, а мне хочется устроить свадебный завтрак.
Эти следующие одно за другим заявления были встречены соответствующими выражениями радости, изумления и благодарности, и беседа уже перешла было в шутливое русло, как вдруг дверь отворилась, и в комнату в шляпе и меховой накидке вошла графиня Оленская, а следом за нею, к общему удивлению, Джулиус Бофорт.
Покуда кузины обменивались радостными приветствиями, миссис Минготт протянула банкиру свою маленькую белую руку.
— А, Бофорт! Какая редкая честь! — (У нее была странная заграничная манера называть мужчин по фамилии.)
— Благодарствую. Охотно оказывал бы ее чаще, — с непринужденной самоуверенностью отвечал гость. — Я вечно занят, но я встретил графиню Эллен на Мэдисон-сквер, и она любезно позволила мне проводить ее домой.
— Ах, надеюсь, что теперь, когда здесь Эллен, в доме станет Ееселее! — с восхитительной бесцеремонностью вскричала миссис Минготт. — Садитесь, садитесь, Бофорт, пододвиньте сюда желтое кресло и, раз уж вы здесь, выкладывайте последние сплетни. Говорят, ваш бал удался на славу, и я слышала, будто вы пригласили миссис Лемюэл Стразерс. Ну, ну, я бы тоже не прочь повидать эту особу.
Она уже забыла о своих родственниках, которые в сопровождении Эллен Оленской проследовали в прихожую.
Старая миссис Минготт всегда восхищалась Джулиусом Бофортом, и в их холодной надменности и презрении к светским условностям было много общего. Сейчас ей не терпелось узнать, что заставило Бофортов пригласить (в первый раз) миссис Лемюэл Стразерс, вдову «Сапожной Ваксы Стразерса», которая годом раньше, завершив длительный обряд посвящения в европейское общество, вернулась в Нью-Йорк и приступила к осаде его неприступной маленькой крепости.
— Разумеется, раз вы с Региной ее пригласили, значит, все в порядке. Да, мы нуждаемся в свежей крови и в свежем капитале, и говорят, будто она все еще очень хороша собой, — объявила кровожадная старуха.
В прихожей, пока миссис Велланд и Мэй облачались в свои меха, Арчер заметил, что графиня Оленскаи смотрит на него с чуть вопросительной улыбкой.
— Вы, конечно, уже знаете о нас с Мэй, — сказал он, смущенным смехом отвечая на ее взгляд. — Мэй рассердилась, что я не сообщил вам об этом вчера в опере. Она велела сказать вам о нашей помолвке, но там было столько народу, что я просто не мог…
Улыбка в глазах графини Оленской погасла, лишь слегка тронув ее губы; она показалась ему совсем юной и еще больше напомнила озорную темноволосую Эллен Минготт его детства.
— Да, конечно, знаю. И я так рада. Но в толпе о таких вещах не говорят.
Дамы пошли к выходу, и она протянула ему руку.
— До свидания. Заходите как-нибудь меня навестить, — промолвила она, все еще глядя на Арчера.
В карете, проезжая по 5-й авеню, они придирчиво обсуждали миссис Минготт, ее почтенный возраст, ум и все ее удивительные качества. Об Эллен Оленской никто не обмолвился и словом, но Арчер знал, что миссис Велланд думает: «Со стороны Эллен большая ошибка на следующий день после приезда в самые оживленные часы разгуливать по Пятой авеню в обществе Джулиуса Бофорта…» «И ей следовало бы знать, что человек, который только что обручился, не может тратить время на визиты к замужним дамам. Но в том обществе, в котором она жила… там только этим и занимаются», — мысленно добавил молодой человек. И, несмотря на космополитические взгляды, которыми он так гордился, он возблагодарил бога за то, что живет в Нью-Йорке и собирается жениться на девушке своего круга.
5
Вечером следующего дня у Арчеров обедал мистер Силлертон Джексон.
Миссис Арчер была застенчива и избегала общества, но хотела знать обо всем, что там делается. Ее старый друг, мистер Силлертон Джексон, относился к изучению дел своих ближних с терпением коллекционера и скрупулезностью естествоиспытателя, а его сестра, мисс Софи Джексон, которая жила вместе с ним и которую наперебой приглашали все, кому не удавалось зазвать к себе ее популярного брата, приносила домой обрывки мелких сплетен, которые он использовал для заполнения пустот в составленной им картине.
Поэтому всякий раз, когда происходило что-либо достойное внимания миссис Арчер, она приглашала мистера Джексона к обеду. Этой чести удостаивались лишь немногие, а она и ее дочь Джейни были отменными слушательницами, и потому мистер Джексон предпочитал не посылать к ним сестру, а являться самолично. Если б он мог диктовать все условия, он предпочел бы приходить в отсутствие Ньюленда — не потому, что молодой человек был чужд ему по духу (они отлично ладили в клубе), а потому, что старый сплетник порою чуял в Ньюленде недоверие к его россказням, дамы же никогда не ставили под сомнение достоверность его сведений.
Если б на земле возможна была гармония, мистер Джексон предпочел бы также, чтобы угощение миссис Арчер было хотя бы чуточку лучше. Впрочем, Нью-Йорк с незапамятных времен подразделялся на две большие группы: с одной стороны Минготты, Мэнсоны и весь их клан, заботившийся о еде, одежде и деньгах, а с другой — племя Арчер-Ньюленд-ван дер Лайден, которое посвящало свои досуги путешествиям, садоводству, изящной словесности и презирало более грубые наслаждения.
В конце концов, нельзя иметь все сразу. Обедая у Лавела Минготта, получаешь жареную утку, черепаховый суп и марочные вина, тогда как у Аделины Арчер можно побеседовать об альпийских пейзажах и о «Мраморном фавне»,[29] ну, а арчеровскую мадеру как-никак доставляли из-за мыса Доброй Надежды.[30] Поэтому, получив дружеское приглашение от миссис Арчер, мистер Джексон, как и подобало истинному эклектику, всякий рад говорил сестре: «После обеда у Лавела Минготта у меня разыгралась подагра, и диета Аделины пойдет мне на пользу».
Миссис Арчер давно овдовела и жила с сыном и дочерью на Западной 28-й улице. Верхний этаж дома был отведен Ньюленду, а обе женщины теснились в маленьких комнатах первого этажа. Наслаждаясь безоблачным согласием, они разводили папоротники в уордовских ящиках,[31] плели макраме, вышивали шерстью по холсту, коллекционировали глазурованную глиняную посуду эпохи Войны за независимость, подписывались на журнал «Доброе слово» и зачитывались романами Уйды[32] с их итальянской атмосферой. (Они предпочитали романы из сельской жизни с описанием пейзажей и благородных чувств, хотя вообще-то любили читать и о людях, принадлежащих к светскому обществу, чьи побуждения и привычки были им понятнее; строго осуждали Диккенса за то, что он «ни разу не изобразил джентльмена», и полагали, что Теккерей знает большой свет гораздо лучше Булвера[33] — его, впрочем, уже начинали считать старомодным.)
Миссис и мисс Арчер были большими любительницами пейзажей. Именно пейзажами они главным образом интересовались и восхищались во время своих редких поездок за границу — архитектура и живопись, но их мнению, были предметом изучения для мужчин, особенно высокообразованных, которые читают Рескина.[34] Миссис Арчер была урожденной Ньюленд, и мать с дочерью, похожие друг на друга как две сестры, были, по общему мнению, «истинными Ньюлендами» — высокие, бледные, с чуть-чуть покатыми плечами, длинными носами, любезной улыбкой и изысканной томностью, свойственной женщинам на некоторых портретах Рейнолдса.[35] Их внешнее сходство было бы полным, если бы свойственная пожилому возрасту embonpoint[36] не вынудила миссис Арчер расставить свои черные парчовые платья, тогда как коричневые и лиловые поплины мисс Арчер с годами все более и более свободно висели на ее девической фигуре.
В умственном отношении сходство между ними, как отлично знал Ньюленд, было гораздо менее разительным, чем казалось вследствие присущей обеим манерности. Многолетняя совместная жизнь в тесной близости и обоюдной зависимости определила их одинаковый запас слов и одинаковую привычку начинать фразы выражением: «мама считает» или «Джейни думает», хотя при этом и та, и другая хотела всего лишь высказать свое собственное мнение; в сущности, однако, невозмутимая прозаичность миссис Арчер довольствовалась общепринятым и общеизвестным, меж тем как Джейни была подвержена бурным порывам фантазии, источником которых служила подавленная романтическая чувствительность.
Мать и дочь обожали друг друга, боготворили сына и брата, и Ньюленд, втайне довольный их неумеренным восхищением, которое, правда, вызывало у него некоторую неловкость и отчасти даже угрызения совести, любил их нежной любовью. В конце концов, думал он, совсем не плохо, если мужчину уважают в его собственном доме, хотя свойственное ему чувство юмора порой заставляло его усомниться, действительно ли он того заслуживает.
В тот вечер, о котором идет речь, молодой человек был совершенно уверен, что мистер Джексон предпочел бы не видеть его за обедом, но у него были свои причины остаться дома.
Старик Джексон, конечно, хотел поговорить об Эллен Оленской, а миссис Арчер и Джейни, конечно, хотели выслушать его рассказ. Всех троих немного стесняло присутствие Ньюленда, поскольку теперь стало известно о его намерении породниться с минготтовским кланом, и молодой человек, посмеиваясь про себя, с любопытством ждал, каким образом они это затруднение обойдут.
Они приблизились к теме окольными путями, начав разговор о миссис Лемюэл Стразерс.
— Как жаль, что Бофорты ее пригласили, — мягко заметила миссис Арчер. — Впрочем, Регина всегда поступает по его указке, а сам Бофорт…
— Да, некоторые тонкости Бофорту недоступны, — отозвался мистер Джексон, подозрительно разглядывая вареную рыбу и в тысячный раз удивляясь, почему у кухарки миссис Арчер оленье жаркое всегда подгорает. (Ньюленд, издавна разделявший это удивление, всякий раз узнавал его по меланхолическому неудовольствию на лице старика.)
_ Но ведь иначе и быть не может — Бофорт просто вульгарен, — сказала миссис Арчер. — Дедушка Ньюленд всегда говорил маме: «Делай что хочешь, но не допускай, чтобы девочек познакомили с Бофортом». Правда, ему удалось приобрести некоторый лоск, вращаясь в обществе джентльменов, в том числе и в Англии. Но все это покрыто такой тайной… — Она взглянула на Джейни и умолкла. Обе досконально изучили тайну Бофорта, но на людях миссис Арчер упорно делала вид, будто это отнюдь не для девичьих ушей. — Да, но эта пресловутая миссис Стразерс, — продолжала она, — что, бишь, вы про нее рассказывали, Силлертон? Она-то откуда взялась?
— Из рудников, то есть, вернее, из салуна у входа в шахту. Потом ездила по Новой Англии с «Живым паноптикумом». После того как полиция это дельце прикрыла, она, говорят, жила… — мистер Джексон в свою очередь взглянул на Джейни, глаза которой под нависающими веками уже начали округляться. О прошлом миссис Стразерс ей было известно еще далеко не все. — Потом, — продолжал мистер Джексон (тут Арчер заметил его удивление по поводу того, почему никто не объяснил дворецкому, что огурцы нельзя резать стальным ножом), — потом явился Лемюэл Стразерс. Говорят, его агент воспользовался головою этой девицы для рекламы сапожной ваксы — она ведь жгучая брюнетка, в этаком, знаете ли, египетском стиле. Как бы там ни было, он… в конце концов… на ней женился. — В том, как мистер Джексон выделил и отчеканил по слогам «в конце концов», таилось целое море намеков.
— Да, но при нынешних нравах это не имеет никакого значения, — равнодушно заметила миссис Арчер. Собственно говоря, миссис Стразерс сейчас не особенно интересовала дам, слишком уже свежей и захватывающей темой была для них тема «Эллен Оленская». Да и самое имя миссис Стразерс миссис Арчер упомянула лишь для того, чтобы иметь возможность вставить: — А эта новоиспеченная кузина Ньюленда, графиня Оленская, она тоже явилась на бал?
В ее упоминании о сыне прозвучала легкая саркастическая нотка, и Арчер именно этого и ожидал. Миссис Арчер, никогда не приходившая в восторг от людских деяний, была, в общем-то, вполне довольна помолвкой сына. («Особенно после этой глупейшей истории с миссис Рашуорт», — заявила она Джейни, намекая на то, что некогда казалось Ньюленду трагедией, шрам от которой навеки останется в его сердце.) Во всем Нью-Йорке не было партии лучше Мэй Велланд, с какой бы точки зрения это ни рассматривать. Разумеется, этот брак был всего лишь тем, чего Ньюленд достоин, но молодые люди так неразумны — никогда не знаешь, чего от них можно ожидать, — а некоторые женщины так коварны и так неразборчивы в средствах — просто чудо, что ее сын сумел благополучно миновать Остров Сирен[37] и бросить якорь в тихой гавани безупречной семейной жизни.
Таковы были чувства, которые испытывала миссис Арчер, и сын ее прекрасно об этом знал; знал он также и о том, что она встревожена преждевременным оглашением помолвки, или, вернее, вызвавшей его причиной, и именно потому — хотя вообще-то он был мягким и снисходительным хозяином — он и остался дома в этот вечер.
«Не то чтобы я не одобряла минготтовскую esprit de corps,[38] но я не вижу никакой связи между помолвкой Ньюленда и приездами и отъездами этой Оленской», — ворчливо сказала она дочери, единственной свидетельнице еле заметных отклонений от ее неизменного благодушия.
Во время визита к миссис Велланд миссис Арчер вела себя безупречно — а в безупречном поведении у нее не было равных, — но Ньюленд знал (а его невеста, несомненно, догадалась), что они с Джейни все время нервничали в ожидании возможного появления госпожи Оленской, а когда они всей семьею покинули дом Велландов, миссис Арчер позволила себе заметить сыну: «Я так признательна Августе Велланд, что она приняла нас одних».
Эти признаки внутренней тревоги тронули Арчера. тем более что, и по его мнению, Минготты, пожалуй, зашли слишком далеко. Однако принятые в их семье правила запрещали матери и сыну даже намекать на то, что главенствовало в их мыслях, и потому он просто сказал: «Ах, после помолвки всегда устраивают семейные приемы, и чем скорее мы с ними покончим, тем лучше».
Вместо ответа миссис Арчер всего лишь поджала губы под кружевной вуалью серой бархатной шляпки, украшенной матовой гроздью винограда.
Он понял, что ее месть — ее законная месть — будет состоять в том, чтобы «натравить» мистера Джексона на графиню Оленскую, и теперь, когда он на глазах у всего света выполнил свой долг как будущий член минготтовского клана, молодой человек готов был послушать, что скажут о вышеупомянутой даме в семейном кругу — хотя эта тема успела уже порядочно ему наскучить.
Мистер Джексон положил себе на тарелку кусок тепловатого мяса, которое угрюмый дворецкий подал ему с таким же скептическим взглядом, как и его собственный, после чего, еле заметно сморщив нос, отверг грибной соус. Вид у него был унылый и голодный, и Арчер подумал, что он наверняка возместит недостатки обеда, набросившись на Эллен Оленскую.
Мистер Джексон откинулся на спинку стула и поднял глаза на освещенных свечами Арчеров, Ньюлендов и ван дер Лайденов, которые в темных рамах висели на темных стенах.
— Ваш дедушка Арчер любил хорошо пообедать, мой милый Ньюленд! — сказал он, глядя на портрет упитанного широкоплечего молодого человека в синем сюртуке и шарфе, изображенного на фоне загородного дома с белыми колоннами. — Нд-а… интересно, что бы он сказал по поводу всех этих браков с иностранцами!
Миссис Арчер пропустила мимо ушей намек на дедовскую cuisine,[39] и мистер Джексон осторожно продолжал:
— Нет, на балу ее не было.
— А-а… — пробормотала миссис Арчер тоном, долженствующим означать: «хоть на это у нее благопристойности хватило».
— Но, может быть, Бофорты с нею не знакомы, — со свойственным ей простодушным ехидством предположила Джейни.
Мистер Джексон произвел еле заметное глотательное движение, словно пробуя невидимую мадеру.
— Возможно, миссис Бофорт действительно с ней не знакома — чего, однако, никак нельзя сказать о Бофорте, потому что сегодня днем она прогуливалась с ним по Пятой авеню на глазах у всего Нью-Йорка.
— О, боже, — простонала миссис Арчер, очевидно осознав всю тщету попыток объяснить поступки иностранцев чувством деликатности.
— Интересно, какую шляпку она носит днем — с полями или без полей? — задумчиво проговорила Джейни. — Говорят, в опере она была в темно-синем бархатном платье, совершенно прямом и ровном, как ночная сорочка.
— Джейни! — вмешалась мать, и мисс Арчер, покраснев, попыталась изобразить на своем лице дерзкий вызов.
— Во всяком случае, не поехав на бал, она поступила очень тактично, — продолжала миссис Арчер.
Дух противоречия заставил ее сына возразить:
— Не думаю, что для нее это было вопросом такта. Мэй сказала, что она хотела поехать, но потом сочла вышеупомянутое платье недостаточно нарядным.
Слова эти лишь подтвердили предположения миссис Арчер, и она улыбнулась.
— Бедняжка Эллен, — заметила она просто и сочувственно добавила — Мы не должны забывать о том, какое эксцентричное воспитание дала ей Медора Мэнсон. Чего можно ожидать от девицы, которой позволили приехать на ее первый бал в черном атласном платье?
— Неужели? Я совершенно не помню ее в этом платье! — воскликнул мистер Джексон. — Бедная девочка, — добавил он тоном человека, который, наслаждаясь воспоминаниями, в то же время ясно осознает, что уже тогда понимал зловещее значение этого обстоятельства.
— Странно, что она сохранила такое некрасивое имя — Эллен, — заметила Джейни. — Я бы на ее месте изменила его на Элайн.
И она оглядела стол, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели ее слова.
— Почему Элайн? — засмеялся ее брат.
— Не знаю… это звучит как-то более по-польски, — краснея, ответила Джейни.
— Это звучит более вызывающе, а она едва ли хочет привлекать к себе внимание, — сдержанно отозвалась миссис Арчер.
— А почему бы и нет? — вмешался Ньюленд, которого внезапно обуяло желание поспорить. — Почему бы не привлечь к себе внимание, если ей хочется? Почему она должна прятаться, как будто она себя опозорила? Разумеется, она «бедняжка Эллен», потому что имела несчастье неудачно выйти замуж, но, по-моему, это не причина опускать голову, словно она какая-то преступница.
— Сколько я понимаю, это линия, которой намерены придерживаться Минготты, — задумчиво проговорил мистер Джексон.
Молодой человек покраснел.
— Я не нуждаюсь в их подсказках, если вы это имеете в виду, сэр. Госпожа Оленская несчастлива, но это не делает ее отверженной.
— Ходят слухи… — начал мистер Джексон, искоса взглядывая на Джейни.
— Да, я знаю, про секретаря, — подхватил молодой человек. — Что за чушь, мама, Джейни уже взрослая. Говорят, секретарь помог ей уехать от негодяя-мужа, который в полном смысле слова держал ее в заточении. Ну и что такого? Надеюсь, любой из нас в подобном случае поступил бы точно так же.
Мистер Джексон обернулся, чтобы через плечо сказать печальному дворецкому:
— Быть может… этот соус… пожалуй… только капельку, — после чего, отведав соуса, заметил: — Мне сказали, что она подыскивает дом. Она собирается здесь поселиться.
— А я слыхала, что она собирается развестись, — храбро вставила Джейни.
— И прекрасно сделает! — воскликнул Арчер.
В чистой, безмятежной атмосфере арчеровской столовой слова эти произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Миссис Арчер подняла свои тонкие брови особым образом, означавшим: «здесь дворецкий!», и молодой человек, зная, что обсуждать столь интимные предметы на людях — дурной тон, поспешно перешел к рассказу о своем визите к старой миссис Минготт.
После обеда, согласно старинному обычаю, миссис Арчер и Джейни, оставив джентльменов курить внизу, прошелестели своими шелками по лестнице, ведущей наверх в гостиную, где они, усевшись друг против друга у карселевской лампы[40] с гравированным круглым абажуром, за рабочим столиком красного дерева, под которым висел зеленый шелковый мешок, принялись с двух сторон вышивать полевые цветы на гобелене, предназначенном для украшения «запасного» стула в гостиной молодой миссис Ньюленд Арчер.
Покуда в гостиной совершался этот ритуал, Арчер усадил мистера Джексона в кресло у камина в готической библиотеке и подал ему сигару. Мистер Джексон удовлетворенно погрузился в кресло, без всякой опаски закурил добротную сигару (сигары покупал Ньюленд) И, вытянув свои старые тощие ноги к горящим углям, произнес:
— Вы говорите, что секретарь всего лишь помог ей уехать, мой мальчик? Так вот — он все еще продолжал помогать ей год спустя, ибо их встретили в Лозанне, где они вместе жили.
Ньюленд покраснел.
— Вместе жили? Ну и что? Почему она не имеет права начать новую жизнь? Я сыт по горло лицемерием, которое готово заживо похоронить молодую женщину лишь потому, что муж ее предпочитает жить с содержанками.
Он умолк и сердито отвернулся, чтобы раскурить сигару.
— Женщины должны пользоваться свободой — такой же свободой, что и мы, — объявил он, сделав тем самым открытие, ужасающие последствия коего досада помешала ему как следует осознать.
Мистер Джексон еще ближе вытянул ноги к углям и сардонически присвистнул.
— Ну что ж, — сказал он, помолчав, — граф Оленский, очевидно, разделяет ваше мнение — сколько мне известно, он еще и пальцем не шевельнул, чтобы вернуть жену.
6
Втот вечер, после ухода мистера Джексона, когда дамы отправились в свою задрапированную ситцем спальню, Ньюленд Арчер задумчиво поднялся к себе в кабинет. Заботливая рука, как обычно, поддерживала огонь в камине, прикручивала фитиль, и комната с рядами книг, статуэтками фехтовальщиков из бронзы и стали на каминной полке и многочисленными фотографическими снимками знаменитых картин казалась особенно уютной.
Когда он уселся в кресло возле камина, глаза его остановились на большой фотографии Мэй Велланд — она подарила ему свой портрет в первые дни их романа, и теперь он вытеснил с его стола все остальные. С новым чувством благоговейного восторга смотрел он теперь на чистый лоб, серьезные глаза и невинный улыбающийся рот юного создания, чьим духовным наставником ему предстояло сделаться. Внушающий трепет продукт общественной системы, к которой он принадлежал и в которую верил, девушка, не ведающая ничего и ожидающая всего, словно незнакомка, смотрела на него сквозь знакомые черты Мэй Велланд, и он еще раз почувствовал, что брак — не тихая пристань, как ему внушали, а плавание по неизведанным морям.
История графини Оленской сдвинула с места его прежние устоявшиеся убеждения, и теперь они беспорядочно кружились у него в голове. Его собственное восклицание — «женщины должны пользоваться свободой — такой же свободой, что и мы» — затронуло самую основу проблемы, которую обитатели его мира молчаливо согласились считать несуществующей. «Порядочные» женщины, какое бы зло им ни причинили, никогда не стали бы домогаться той свободы, какую он имел в виду, и поэтому рыцари вроде него — в пылу спора — с тем бóльшим великодушием готовы были им ее даровать. Эти словесные щедроты были на самом деле всего лишь обманчивой маской, скрывавшей неискоренимые условности, которые опутывали все на свете и втискивали людей в старые рамки. Однако он взял на себя защиту кузины своей невесты, совершившей такие поступки, которые — будь на ее месте его жена — дали бы ему право обрушить на нее все громы и молнии церкви и государства. Дилемма, разумеется, была чисто гипотетической, — коль скоро он не гнусный польский аристократ, нелепо рассуждать, в чем состояли бы права его жены в том случае, если бы он им был. Однако Ньюленд Арчер обладал богатым воображением и потому почувствовал, что узы, связывающие его с Мэй, могли бы стать невыносимыми по причинам гораздо менее грубым и осязаемым. Что, в сущности, они знают друг о друге, если он, как «порядочный» молодой человек, обязан был скрывать от нее свое прошлое, тогда как она, будучи девицей на выданье, обязана не иметь вообще никакого прошлого, которое следовало бы скрывать? Что, если по какой-нибудь деликатной причине, которая скажется на них обоих, они друг друту наскучат, перестанут понимать и будут лишь раздражать друг друга? Он мысленно перебрал семьи своих друзей — те, что считались счастливыми, — и не нашел ни одной, которая хотя бы отдаленно соответствовала картине нежной и страстной дружбы, какую он рисовал себе, думая о своем союзе с Мэй. Ему стало ясно, что такая картина предполагает со стороны Мэй опыт, широту мысли и свободу суждений, отсутствие которых в ней старательно воспитывали, и содрогнулся от предчувствия, что его брак обречен стать таким же, как большая часть браков вокруг него, — скучным сочетанием материальных и светских интересов, скрепляемых неведением с одной стороны и лицемерием — с другой. Супругом, который более других приблизился к воплощению этого завидного идеала, представился ему Лоренс Леффертс. Как и подобало верховному жрецу «хорошего тона», он с таким совершенством приспособил жену к собственным удобствам, что даже в разгаре его мночисленных романов с чужими женами она, пребывая в полном неведении, весело лепетала: «Ах, Лоренс такой добродетельный», и с негодованием краснела и отводила взор, если кто-нибудь в ее присутствии намекал, что Джулиус Бофорт (как полагается «иностранцу» сомнительного происхождения) имеет известную всему Нью-Йорку «вторую семью».
Арчер попытался утешить себя мыслью, что он не такой осел, как Ларри Леффертс, а Мэй не так простодушна, как бедняжка Гертруда; но ведь разница, в конце концов, только в умственных способностях, а не в общепринятых правилах поведения. В сущности, все они живут в мире иероглифов, где ничего реального никто никогда не говорит, не делает и даже не думает и где реальные вещи представлены лишь условными знаками. Взять хотя бы миссис Велланд. Отлично понимая, почему Арчер настоял, чтобы она объявила о помолвке своей дочери на балу у Бофортов (и, уж конечно, ожидая от него этого), она тем не менее чувствовала себя обязанной делать вид, будто она этого совсем не хочет и лишь уступает его настояниям, подобно тому как в книгах о первобытном человеке, которые образованные люди уже начинали читать,[41] невесту дикаря с криками вытаскивают из родительского шалаша.
В итоге девица, составляющая центр этой сложной системы мистификации, становилась совершенно непроницаемой именно в силу своей откровенности и уверенности в себе. Бедняжка была откровенной, потому что ей нечего было скрывать, уверенной в себе, потому что не знала, какие опасности ее подстерегают, и без всякой подготовки внезапно попадала в самую гущу того, что уклончиво называют «фактами жизни».
Молодой человек был искренне, хотя и безмятежно влюблен. Он восхищался лучезарной красотою своей невесты, ее здоровьем, искусством верховой езды, грацией и ловкостью в играх, ее робким интересом к книгам и идеям, который начинал в ней развиваться под его руководством. (Она была уже настолько начитанной, чтобы вместе с ним высмеивать «Королевские идиллии»,[42] но еще не умела почувствовать всю красоту Улисса и лотофагов.[43]) Она была прямодушной, верной и смелой, она обладала чувством юмора (доказательством чего служило, главным образом, то, что она смеялась его шуткам), и Арчер подозревал, что в глубине ее невинной души дремлют чувства, которые будет так приятно разбудить. Однако, совершив беглый смотр своих будущих владений, он был разочарован при мысли, что вся эта откровенность и невинность не что иное, как искусственно созданный продукт. Нетронутая человеческая натура не ведает откровенности и невинности; инстинкт самосохранения толкает ее на ухищрения и уловки. И он чувствовал, что его угнетает эта искусственная чистота, столь хитроумно сфабрикованная вступившими в заговор мамашами, тетушками, бабушками и давно умершими прародительницами, по мнению которых его желание и право состоит именно в том, чтобы, подобно некоему властелину, насладиться уничтожением этой чистоты, словно статуи, слепленной из снега.
Размышления эти были весьма банальны — они обычны для молодых людей накануне свадьбы. Однако они большей частью сопровождаются угрызениями совести и самоуничижением, которых у Ньюленда Арчера не было и следа. Он не раскаивался в том (чем так часто раздражали его герои Теккерея), что жизнь его не чистая страница, которую он может предложить невесте в обмен на ее безупречность. Он никак не мог отказаться от мысли, что, если бы его воспитывали в том же духе, что и ее, им обоим пришлось бы блуждать по жизни подобно «младенцам в лесу»;[44] не мог он также, как ни старался, найти хоть какую-то причину (во всяком случае, причину, не связанную с его собственными мимолетными наслаждениями и с мужским тщеславием), почему его невесте нельзя было дать такую же свободу приобретать жизненный опыт, какою обладал он сам.
Такие вопросы в такое время непременно должны были у него появиться, и тем не менее он сознавал, что их неприятная настойчивость и отчетливость вызваны столь некстати приехавшей графиней Оленской. Из-за нее он в самую минуту помолвки — минуту чистых мыслей и безоблачных надежд — угодил в водоворот скандальных сплетен, породивших проблемы, которые он предпочел бы обойти. «Черт побери эту Эллен Оленскую!» — пробурчал он, разворошив уголья и начиная раздеваться. Он никак не мог взять в толк, почему ее судьба хоть в малейшей степени должна влиять на его собственную, однако у него возникло смутное ощущение, что он только сейчас начинает понимать, с каким риском сопряжены обязательства, которые наложила на него помолвка. Гром грянул через несколько дней.
Лавел Минготты разослали приглашения на так называемый «парадный обед» (то есть три добавочных ливрейных лакея, по две перемены на каждое блюдо и римский пунш[45] в промежутке). Приглашения начинались словами: «В честь графини Оленской», в полном соответствии с законами американского гостеприимства, предписывающими оказывать иностранцам прием не хуже, чем коронованным особам или по крайней мере их посланникам.
Гости были выбраны со смелостью и разборчивостью, в которых посвященные тотчас узнали твердую руку Екатерины Великой. Кроме таких надежных и проверенных лиц, как семейство Селфридж Мерри, которое приглашали повсюду потому, что так повелось с незапамятных времен, Бофортов, считавшихся родней, и мистера Силлертона Джексона с его сестрою Софи (она ездила туда, куда приказывал ей брат), приглашено было несколько самых модных и в то же время самых безупречных и влиятельных молодых пар — Лоренс Леффертсы, миссис Леффертс Рашуорт (очаровательная вдова), супруги Гарри Торли, Реджи Чиверсы и молодой Моррис Дэгонет с женой (урожденной ван дер Лайден). Надо сказать, что компания была подобрана как нельзя более удачно, ибо она составляла небольшой замкнутый кружок, который весь долгий нью-йоркский сезон денно и нощно без устали развлекался.
Два дня спустя произошло нечто невероятное — приглашения Минготтов отклонили все, кроме Бофортов и старого мистера Джексона с сестрой. Преднамеренное оскорбление усугублялось тем, что среди нанесших его были даже Реджи Чиверсы, принадлежавшие к минготтовскому клану, а также одинаковым содержанием ответных записок — авторы всех до единой «сожалели, что не могут приехать», причем без какой-либо смягчающей ссылки на «полученное ранее приглашение», чего требовала элементарная вежливость.
В те дни нью-йоркское общество было так малочисленно и так ограничено в своих возможностях, что каждый, имеющий к нему касательство (включая извозопромышленников, поваров и дворецких), был совершенно точно осведомлен, кто в какой вечер свободен. Вот почему лица, получившие приглашения миссис Лавел Минготт, и могли со всей жестокостью недвусмысленно выразить свое решительное нежелание встречаться с графиней Оленской.
Удар был неожиданным, но Минготты, со свойственной им силою духа, приняли его стойко. Миссис Лавел Минготт поведала о происшествии миссис Велланд, та поведала о нем Ньюленду Арчеру; он, вне себя от возмущения, пожаловался матери, и она, после мучительного внутреннего сопротивления и внешних стараний умерить его пыл, как всегда, уступила настояниям сына и с энергией, которую предшествующие колебания лишь удвоили, тотчас приняла его сторону, надела серую бархатную шляпку и объявила: «Я еду к Луизе ван дер Лайден».
Нью-Йорк времен Ньюленда Арчера был маленькой скользкой пирамидой, в которой еще не появилось ни единой трещины или лазейки. Ее незыблемую основу составляли те, кого миссис Арчер называла «простолюдинами», — достойное, но ничем не примечательное большинство почтенных семейств (таких, как Спайсеры, Леффертсы или Джексоны), которые поднялись на более высокую ступень посредством браков с кем-либо из представителей правящих кланов. Публика, утверждала миссис Арчер, уже не так разборчива, как прежде, и теперь, когда на одном конце 5-й авеню правит старуха Кэтрин Спайсер, а на другом — Джулиус Бофорт, не приходится ожидать, что старые традиции будут еще долго сохраняться.
Над этим состоятельным, но скромным нижним слоем располагалась, резко сужаясь кверху, крепко спаянная и влиятельная группа, столь ярко представленная Минготтами, Ньюлендами, Чиверсами и Мэнсонами. Большинство считало их вершиной пирамиды, тогда как они сами (во всяком случае, те, кто принадлежал к поколению миссис Арчер) понимали, что в глазах знатока генеалогии претендовать на это высокое положение могло лишь гораздо меньшее число семейств.
«Не повторяйте мне всю эту нынешнюю газетную болтовню насчет нью-йоркской аристократии, — говорила своим детям миссис Арчер. — Если она и существует, то ни Минготты, ни Мэнсоны к ней не принадлежат, а впрочем, Ньюленды и Чиверсы тоже. Наши деды и прадеды были всего лишь почтенными английскими или голландскими купцами, которые приехали в колонии в погоне за богатством и остались здесь потому, что им очень повезло. Один из ваших прадедов подписал Декларацию независимости,[46] другой был генералом в штабе Вашингтона и после сражения при Саратоге получил шпагу генерала Бергойна.[47] Этим можно гордиться, но титулы и знатность тут ни при чем. Нью-Йорк всегда был торговым городом, и в нем насчитывается всего каких-нибудь два-три семейства, которые могут претендовать на аристократическое происхождение в истинном смысле этого слова».
Миссис Арчер, ее сын и дочь, как и все жители Нью-Йорка, знали, кто эти избранные существа, — Дэгонеты с Вашингтон-сквера,[48] происходившие из старинного английского поместного дворянства, связанного родством с Питтами и Фоксами:[49] Лэннинги, которые вступали в браки с потомками графа де Грасса[50] и, наконец, ван дер Лайдены, происходившие по прямой линии от первого голландского губернатора Манхаттана и еще до Войны за независимость породнившиеся с французской и английской аристократией.
Семейство Лэннингов ныне было представлено всего лишь двумя престарелыми, но бойкими мисс Лэннинг, весело доживавшими свой век среди воспоминаний, семейных портретов и мебели в стиле «чиппендейл»;[51] Дэгонеты, довольно значительный клан, состояли в родстве с лучшими фамилиями Филадельфии и Балтиморы, тогда — как возвышавшиеся надо всеми ними ван дер Лайдены как бы растворились в некоем неземном сумеречном сиянье, в котором ясно выделялись всего лишь две фигуры — мистер и миссис Генри ван дер Лайден.
Миссис Генри ван дер Лайден, в девичестве Луиза Дэгонет, была по матери правнучкой полковника дю Лака, происходившего из старинного семейства с Нормандских островов, который воевал под началом генерала Корнуоллиса[52] и после Войны за независимость поселился в Мериленде со своей молодою женой, леди Анжеликой Тривенна, пятой дочерью графа Сент-Острей. Дэгонеты и мерилендские дю Лаки всегда поддерживали тесную сердечную связь со своими знатными родичами Тривеннами из Корнуолла. Мистер и миссис ван дер Лайден не раз подолгу гостили у нынешнего главы дома Тривенна, герцога Сент-Острей, в его родовом поместье в Корнуолле и в Сент-Острее, что в Глостершире, и его светлость частенько говаривал о своем намерении в один прекрасный день нанести им ответный визит (без герцогини, которая боялась переезда через Атлантику).
Мистер и миссис ван дер Лайден жили то в Тривенне — своем имении в Мериленде, то в Скайтерклиффе, большом поместье на берегу Гудзона, которое еще в колониальные времена было даровано голландским правительством знаменитому первому губернатору, и «пэтруном»[53] которого до сих пор оставался мистер ван дер Лайден. Их большой импозантный особняк на Мэдисон-авеню открывался очень редко, и, приезжая в город, они принимали в нем лишь самых близких друзей.
— Пожалуй, тебе лучше поехать со мною, Ньюленд, — сказала миссис Арчер, внезапно остановившись возле дверцы брауновской коляски. — Луиза тебя очень любит, и потом ты ведь, конечно, понимаешь, что я делаю это только ради милочки Мэй, а кроме того, если мы все не будем поддерживать друг друга, то общество попросту перестанет существовать.
7
Миссис Генри ван дер Лайден молча внимала рассказу своей кузины, миссис Арчер. Можно было сколько угодно заранее убеждать себя в том, что миссис ван дер Лайден всегда молчит и что сдержанная от природы и благодаря воспитанию она очень добра к людям, которые ей нравятся. Даже личный опыт не всегда служил защитой от холодной дрожи, невольно охватывавшей каждого в гостиной особняка на Мэдисон-авеню, с ее высокими потолками и белыми стенами, где с обитых бледной парчою кресел явно по случаю его прихода только что сняли чехлы и где кисейные занавески все еще скрывали золоченую бронзу на камине и «Леди Анжелику дю Лак» Гейнсборо[54] в великолепной резной старинной раме.
Портрет миссис ван дер Лайден кисти Хантингтона[55] (в черном бархатном платье с венецианскими кружевами) висел напротив портрета ее очаровательной прабабки. Считалось, что он «не уступает Кабанелю»,[56] и, хотя он был создан двадцать лет назад, сходство до сих пор оставалось «поразительным». И в самом деле, та миссис ван дер Лайден, что сидела под своим портретом, слушая миссис Арчер, вполне могла сойти за сестру-двойняшку белокурой моложавой женщины, томно откинувшейся на позолоченную спинку кресла на фоне зеленой штофной гардины. Выезжая в свет или, лучше сказать, принимая у себя (она никогда не обедала вне дома), миссис ван дер Лайден по-прежнему надевала черное бархатное платье с венецианскими кружевами. Тонкие прямые пряди поблекших, но не поседевших волос, по-прежнему расчесанные на прямой пробор, обрамляли лоб, а кончик прямого носа, разделявшего бледно-голубые глаза, лишь чуть-чуть заострился по сравнению с тем временем, когда был написан портрет. Ньюленда Арчера всегда поражало, что она как-то жутко законсервировалась в том безвоздушном пространстве, где протекало ее безупречное существование, наподобие застигнутых смертью в ледниках животных, которые в течение многих лет сохраняют видимость цветущей жизни.
Как и вся его семья, Арчер почтительно преклонялся перед миссис ван дер Лайден, однако же находил, что при всей своей мягкости и доброжелательности она гораздо менее доступна, нежели мрачные престарелые тетки его матери, свирепые старые девы, которые из принципа отвечали «нет», еще не успев узнать, о чем их собираются просить.
Миссис ван дер Лайден не отвечала ни «да», ни «нет», и по выражению ее скорее можно было заключить, будто она склоняется к снисходительности, как вдруг на губах ее появлялась слабая тень улыбки и почти неизменно раздавались слова: «Я должна сначала побеседовать с мужем».
Она и мистер ван дер Лайден были так похожи друг на друга, что Арчер часто дивился, каким образом после сорока лет неразлучного супружества этим двум слившимся воедино существам удавалось разъединиться до такой степени, чтобы принять участие в столь противоречивом действии, как беседа. Но, поскольку никто из них никогда еще не принял никакого решения, не предварив его этим таинственным конклавом, миссис Арчер с сыном, изложив свое дело, безропотно ожидали знакомой фразы.
Однако миссис ван дер Лайден, которая редко кого-либо удивляла, на этот раз удивила их, протянув свою длинную руку к звонку.
— Мне кажется, Генри следовало бы выслушать то, что вы мне рассказали, — промолвила она и, обращаясь к явившемуся на зов лакею, добавила: — Если мистер ван дер Лайден кончил читать газету, пожалуйста, передайте ему, чтобы он не отказал в любезности пожаловать сюда.
Она произнесла «читать газету» таким тоном, каким жена премьер-министра могла бы произнести «председательствовать на заседании кабинета», не из высокомерия, а просто потому, что долголетняя привычка, а также отношение друзей и родных приучили ее рассматривать малейший жест мистера ван дер Лайдена как некое священнодействие.
Быстрота, с какою она приняла меры, доказывала, что она считает это дело столь же безотлагательным, сколь и миссис Арчер, но, чтобы никто не подумал, будто она заранее связывает себя какими-либо обязательствами, с очаровательнейшею улыбкой добавила:
— Генри всегда рад видеть вас, милая Аделина, и он, конечно, захочет поздравить Ньюленда.
Двойные двери торжественно растворились, и в них показался мистер ван дер Лайден, высокий, худощавый, во фраке, с поблекшими светлыми волосами и с тем же выражением застывшей благожелательности в глазах, правда, не бледно-голубых, а просто бледно-серых.
Мистер ван дер Лайден по-родственному любезно приветствовал миссис Арчер и тихим голосом поздравил Ньюленда в тех же самых выражениях, что и его жена, после чего с простотою царствующего монарха уселся в одно из парчовых кресел.
— Я только что кончил читать «Таймс», — сказал он, соединяя кончики длинных пальцев. — В городе я по утрам так занят, что нахожу более удобным читать газеты после ленча.
— О, в пользу такого распорядка многое можно сказать. Если я не ошибаюсь, дядя Эгмонт даже говорил, что меньше волнуется, если читает утренние газеты после обеда, — живо отозвалась миссис Арчер.
— Да, батюшка ненавидел торопливость. Но теперь мы живем в вечной спешке, — ровным голосом произнес мистер ван дер Лайден, благодушно обводя взором укутанную в саван просторную комнату, которая казалась Арчеру точным подобием ее хозяев.
— Но, надеюсь, ты кончил чтение, Генри? — вмешалась его жена.
— О да, вполне, — уверил ее мистер ван дер Лайден. — В таком случае мне хотелось бы, чтобы Аделина тебе рассказала…
— О, в сущности, это должен рассказать Ньюленд, — улыбаясь, вставила миссис Арчер и еще раз повторила страшную повесть об оскорблении, нанесенном миссис Лавел Минготт.
— Разумеется, — закончила она, — Августа Велланд и Мэри Минготт сочли, что — особенно ввиду помолвки Ньюленда — вам необходимо об этом знать.
— Ах, — с глубоким вздохом произнес мистер ван дер Лайден.
Воцарилась тишина, в которой тиканье монументальных бронзовых часов на белом мраморном камине звучало словно выстрелы сигнальной пушки. Арчер с благоговением взирал на застывшие в царственной неподвижности две поблекшие стройные фигуры, волею судеб превращенные в глашатаев далеких предков, тогда как сами они предпочли бы жить в простоте и уединении, выпалывать невидимые сорняки с безукоризненных газонов Скайтерклиффа и вечерами вместе раскладывать пасьянс.
Первым прервал молчание мистер ван дер Лайден.
— Вы в самом деле полагаете, что причиной этого было какое-то… какое-то преднамеренное вмешательство Лоренса Леффертса? — спросил он, обернувшись к Арчеру.
— Я в этом уверен, сэр. Ларри в последнее время перегнул палку и — прошу прощения у тети Луизы — завел бурный роман с женой почтмейстера или с какой-то подобной особой по соседству, а всякий раз, как у бедной Гертруды появляются какие-то подозрения и ему грозят неприятности, он поднимает шум, чтобы показать, до чего он добродетелен, и во весь голос кричит, какая наглость заставлять его жену встречаться с теми, с кем он не желает ее знакомить. Он попросту использует госпожу Оленскую в качестве громоотвода; я уже и раньше видел, как он проделывает такие штуки.
— Ох уж эти Леффертсы! — сказала миссис ван дер Лайден.
— Да уж, эти Леффертсы! — эхом отозвалась миссис Арчер. — Интересно, как дядя Эгмонт посмотрел бы на попытки Лоренса Леффертса судить о чьем-либо положении в свете. Это лишь доказывает, до чего докатилось общество.
— Будем надеяться, что оно еще не совсем до этого докатилось, — твердо возразил мистер ван дер Лайден.
— Ах, если б вы с Луизой почаще выезжали в свет! — вздохнула миссис Арчер.
Однако она тотчас поняла, какую совершила ошибку. Ван дер Лайдены болезненно реагировали на любые критические замечания касательно их уединенного образа жизни. Они вершили судьбы света, они были судом высшей инстанции, они это знали и покорились своей участи. Но, робкие и застенчивые от природы, они были совершенно не приспособлены к своей роли и старались как можно больше времени проводить в сельском уединении Скайтерклиффа, а когда наведывались в город, отклоняли все приглашения под предлогом слабого здоровья миссис ван дер Лайден.
Ньюленд Арчер поспешил на помощь матери.
— Весь Нью-Йорк знает, каково ваше положение в свете. Вот почему миссис Минготт и сочла необходимым посоветоваться с вами по поводу оскорбления, нанесенного графине Оленской.
Миссис ван дер Лайден посмотрела на мужа, а он посмотрел на нее.
— Я возражаю против самого принципа, — сказал мистер ван дер Лайден. — До тех пор, пока почтенная семья поддерживает кого-либо из своих членов, ее мнение следует считать окончательным.
— Мне тоже так кажется, — проговорила его жена таким тоном, словно высказывала какую-то новую мысль.
— Я не думал, что дело приняло такой оборот, — продолжал мистер ван дер Лайден. Он умолк и снова взглянул на жену. — Мне пришло в голову, дорогая, что графиня Оленская уже и так нам родня — через первого мужа Медоры Мэнсон. И, во всяком случае, она станет нашей родственницей после свадьбы Ньюленда. Вы читали сегодняшний утренний выпуск «Таймса», Ньюленд? — обратился он к молодому человеку.
— Да, разумеется, сэр, — отвечал Арчер, который имел обыкновение за утренним кофе бегло просматривать с полдюжины газет.
Муж с женою снова посмотрели друг на друга. Бледные глаза их долго и вдумчиво совещались, затем на лице миссис ван дер Лайден мелькнула слабая улыбка. Было ясно, что она угадала и одобрила.
Мистер ван дер Лайден обернулся к миссис Арчер.
— Если бы здоровье Луизы позволяло ей обедать вне дома, то я попросил бы вас сказать миссис Лавел Минготт, что Луиза и я были бы счастливы… м-м-м… занять места Леффертсов у нее за столом. — Он остановился, чтобы подчеркнуть всю иронию сказанного. — Но, как вы знаете, это невозможно. — Миссис Арчер сочувственно вздохнула. — Однако Ньюленд говорит, что прочел сегодняшний утренний выпуск «Таймса». Следовательно, ему известно, что родственник Луизы, герцог Сент-Острей, через неделю прибудет сюда на пароходе «Россия». Этим летом он намеревается принять участие в международных гонках на своем новом шлюпе «Джиневра», а также поохотиться на уток в Тривенне. — Мистер ван дер Лайден снова умолк, после чего еще более благодушно продолжал — Прежде чем увезти его в Мериленд, мы хотим пригласить нескольких друзей познакомиться с ним здесь — всего лишь скромный обед с последующим приемом. Я уверен, что Луиза, как и я, будет рада, если графиня Оленская разрешит нам включить ее в число наших гостей. — Он встал, отвесил дружеский поклон кузине и добавил: — От имени Луизы я, пожалуй, могу сказать вам, что, отправляясь сейчас на прогулку, она сама отвезет приглашение на обед вместе с нашими визитными карточками — разумеется, вместе с карточками.
Миссис Арчер усмотрела в его словах намек на то, что гнедые, которых никогда не заставляли ждать, стоят у дверей, и с торопливыми изъявлениями благодарности поднялась с кресла. Миссис ван дер Лайден одарила ее улыбкой Эсфири, молящей Артаксеркса о снисхождении,[57] но муж ее протестующе поднял руку.
— Не стоит благодарности, милая Аделина, право же, не стоит. Ничего подобного в Нью-Йорке не должно быть и не будет, пока я могу что-то сделать, — с царственною мягкостью произнес он, провожая родственников к дверям.
Два часа спустя всем стало известно, что поместительное ландо с С-образными рессорами, на котором миссис ван дер Лайден во все времена года выезжала подышать воздухом, видели возле дома старой миссис Минготт, где был оставлен большой квадратный конверт, и в тот же вечер в опере мистер Силлертон Джексон смог засвидетельствовать, что конверт содержал карточку с приглашением графини Оленской на обед, который ван дер Лайдены на будущей неделе намеревались дать в честь своего кузена, герцога Сент-Острей.
Некоторые молодые люди в клубной ложе при этом известии обменялись улыбками и искоса поглядели на Лоренса Леффертса, — небрежно развалясь, он сидел в переднем ряду, покручивая свои длинные светлые усы, и, когда сопрано умолкло, авторитетно заявил:
— Никому, кроме Патти,[58] не следует пытаться петь «Сомнамбулу».[59]
8
Нью-Йорк единодушно признал, что графиня Оленская «подурнела».
Первый раз она появилась здесь в дни детства Ньюленда Арчера очаровательной девочкой лет девяти или десяти, о которой говорили, что она «достойна кисти художника». Родители ее постоянно странствовали по континенту, и, проведя в кочевьях младенческие годы, она потеряла их обоих и была взята на попечение своей теткой Медорой Мэнсон, такой же странницей, которая в то время возвратилась в Нью-Йорк, чтобы «осесть».
Бедняжка Медора, овдовев, всегда возвращалась на родину, чтобы «осесть» (каждый раз в более дешевом доме) с новым мужем или приемышем, но через несколько месяцев неизменно расставалась с мужем или ссорилась со своим подопечным и, с убытком избавившись от дома, вновь отправлялась в странствия. Поскольку мать Медоры была урожденной Рашуорт, а последнее неудачное замужество связало ее с одним из полоумных Чиверсов, Нью-Йорк снисходительно смотрел на ее чудачества, но, когда она вернулась с маленькой осиротевшей племянницей, чьи родители, несмотря на прискорбную страсть к путешествиям, пользовались немалой популярностью, все очень сожалели, что прелестный ребенок попал в такие руки.
Все старались утешить маленькую Эллен Минготт, хотя смуглые румяные щечки и густые локоны придавали ей веселость, казавшуюся неподходящей для девочки, которой после смерти родителей еще следовало ходить в черном платье. Одной из странностей незадачливой Медоры было пренебрежение к принятым в Америке строгим законам траура, и, когда она сошла с парохода, ее родственники были шокированы, увидев, что креповая вуаль, которую она носила по родному брату, на семь дюймов короче вуалей ее золовок, тогда как малютка Эллен, словно найденыш-цыганенок, была в малиновом мериносовом пальтишке и с янтарными бусами.
Но Нью-Йорк уже так давно смирился с Медорой, что лишь несколько старых дам покачали головами при виде кричащего наряда Эллен, тогда как остальную родню покорил ее веселый нрав и яркий румянец. Это была бесстрашная бойкая малютка; она приводила в смущение взрослых дерзкими вопросами и замечаниями и обладала экзотическими талантами — умела танцевать испанский танец с шалью и петь неаполитанские песни под гитару. Медора Мэнсон (ее настоящее имя было миссис Торли Чиверс, но, удостоившись папского разрешения на дворянский титул, она приняла родовое имя первого мужа и называла себя маркизой Мэнсон, потому что в Италии это имя можно было легко переделать на Манцони) дала племяннице дорогое, хотя и беспорядочное образование, и та «рисовала с натуры» (нечто дотоле неслыханное) и исполняла партию фортепьяно в квинтете с профессиональными музыкантами.
Разумеется, к добру это привести не могло, и несколько лет спустя когда несчастный Чиверс в конце концов умер в сумасшедшем доме, вдова его (облаченная в экстравагантный траур) вновь снялась с места и уехала вместе с Эллен, которая вытянулась и превратилась в высокого угловатого подростка с огромными глазами. Долгое время о них ничего не было слышно, а затем стало известно, что Эллен вышла замуж за баснословно богатого и знаменитого польского аристократа, с которым она познакомилась на балу в Тюильри. Говорили, будто он владеет роскошными особняками в Париже, Флоренции и Ницце, яхтой в Каусе[60] на острове Уайт, а также обширными охотничьими угодьями в Трансильвании.[61] Она исчезла в каком-то сатанинском апофеозе, и через несколько лет, когда Медора снова вернулась в Нью-Йорк, подавленная, обедневшая, в трауре по третьему мужу, и принялась подыскивать себе домик еще меньших размеров, все удивлялись, почему богатая племянника не могла ей чем-нибудь помочь. Позже разнеслась весть, что замужество самой Эллен кончилось катастрофой и что она тоже возвращается домой искать забвения и покоя среди родных.
Мысли эти проносились в голове Ньюленда Арчера неделю спустя, когда он смотрел, как графиня Оленская входит в гостиную ван дер Лайденов в тот вечер, на который был назначен торжественный обед. Это было серьезное испытание, и он с тревогой думал о том, как она его выдержит. Она приехала довольно поздно, не успев даже надеть одну перчатку и застегнуть браслет на запястье, однако же без малейших признаков поспешности или смущения вошла в гостиную, в которой с благоговейным трепетом собралось самое избранное нью-йоркское общество.
Улыбаясь одними глазами, она остановилась и окинула взглядом комнату, и в эту минуту Ньюленд Арчер отверг общий приговор ее внешности. Правда, блеск ее юности померк. Румяные щеки побледнели, она была худа, утомлена и казалась старше своих, по всей вероятности, тридцати лет. Однако все в ней дышало таинственной властью красоты, и, хотя в уверенной постановке головы и во взгляде не было ничего театрального, она поразила Арчера тщательной продуманностью всего своего облика и гордым сознанием своей силы. В то же время она вела себя естественнее большинства присутствующих дам, и многие (как он потом узнал от Джейни) были даже разочарованы, сочтя ее недостаточно «шикарной», ибо «шик» в Нью-Йорке ценился превыше всего. Возможно, подумал Арчер, это объясняется тем, что она так спокойна — спокойны были ее движения, ее манера говорить и глуховатые тона низкого голоса. От молодой женщины с таким прошлым Нью-Йорк ожидал гораздо более яркой внешности.
Обед оказался довольно тяжелой повинностью. Обедать у ван дер Лайденов всегда было делом нелегким, но обед в честь герцога, состоявшего с ними в родстве, превратился прямо-таки в некое священнодействие. Арчер с удовольствием подумал, что лишь нью-йоркский старожил способен уловить (понятное одному лишь Нью-Йорку) тонкое различие между обыкновенным герцогом и герцогом ван дер Лайденов. К заезжим аристократам Нью-Йорк относился равнодушно и даже (за исключением стразерского кружка) отчасти высокомерно и недоверчиво, но, если они вручали верительные грамоты подобного рода, их принимали со старомодной сердечностью, которую они напрасно стали бы приписывать своему положению в справочнике «Дебретт».[62] Именно эту тонкость в обращении молодой человек особенно ценил в своем любимом старом Нью-Йорке, что, впрочем, не мешало ему над ним подсмеиваться.
Ван дер Лайдены постарались всячески подчеркнуть важность церемонии. На столе красовался севрский фарфор дю Лаков, столовое серебро эпохи Георга II[63] из Тривенны, английские фамильные сервизы ван дер Лайденов и Дэгонетов — «Лоустофт» (Ост-индская компания) и «Краун Дерби».[64] Миссис ван дер Лайден более чем когда-либо походила на портреты Кабанеля, а миссис Арчер в бабушкином ожерелье из мелкого жемчуга и изумрудов напомнила сыну миниатюры Изабе.[65] На всех дамах были их лучшие украшения, но, как полагалось в этом доме и в столь торжественном случае, драгоценные камни по большей части были в старинных оправах, а старая мисс Лэннинг, которую тоже уговорили приехать, надела даже камеи своей матери и испанскую блондовую шаль.
Графиня Оленская была единственной молодой женщиной за столом, и, обводя взглядом гладкие, пухлые пожилые лица, красовавшиеся между бриллиантовыми ожерельями и эгретками из страусовых перьев, Арчер заметил, что по сравнению с нею все они кажутся удивительно незрелыми. Ему стало страшно при мысли о том, что могло сообщить такое выражение ее глазам.
Герцог Сент-Острей, сидевший по правую руку хозяйки, был, естественно, главной фигурой на вечере. Но если графиня Оленская бросалась в глаза гораздо меньше, чем можно было надеяться, то герцога почти совсем не было видно. Как человек благовоспитанный, он не явился на обед в охотничьей куртке (подобно другому недавно посетившему Нью-Йорк герцогу), но его вечерний костюм был до того потрепан и мешковат и так напоминал старый домашний халат, что все это (вместе с его манерой сидеть сгорбившись и длинной бородой, свисавшей на манишку) отнюдь не придавало ему вида гостя, явившегося на званый обед. Низенький, с покатыми плечами, загорелый, с толстым носом, маленькими глазками и благодушной улыбкой, он почти ничего не говорил, а если и произносил какое-либо замечание, то так тихо, что, хотя гости в ожидании его слов то и дело умолкали, расслышать их могли только его ближайшие соседи.
После обеда, когда мужчины присоединились к дамам, герцог направился прямо к графине Оленской, и они, усевшись в уголок, погрузились в оживленный разговор. Никому из них, очевидно, не приходило в голову, что герцогу следовало прежде засвидетельствовать свое почтение миссис Лавел Минготт и миссис Хедли Чиверс, тогда как графине следовало побеседовать с милейшим ипохондриком, мистером Урбаном Дэгонетом с Вашингтон-сквера, который ради удовольствия с нею познакомиться нарушил свое строжайшее правило между январем и апрелем никогда не обедать вне дома. Герцог и графиня беседовали чуть ли не двадцать минут, после чего она встала, в одиночестве пересекла широкую гостиную и села возле Ньюленда Арчера.
В нью-йоркских гостиных даме не полагалось покидать одного джентльмена, чтобы искать общества другого. Этикет требовал, чтобы она сидела неподвижно, как истукан, и ждала, а мужчины, желавшие с нею поговорить, сменяли друг друга возле нее. Но графиня явно не сознавала, что нарушила какое-то правило; она совершенно непринужденно сидела в углу дивана рядом с Ньюлендом Арчером и в высшей степени благодушно на него смотрела.
— Расскажите мне о Мэй, — проговорила она. Вместо ответа Арчер спросил:
— Вы были знакомы с герцогом раньше?
— О да, мы виделись с ним каждую зиму в Ницце. Он очень любит карты и часто бывал в нашем доме. — Она сказала это очень просто, как могла бы сказать: «Он любит полевые цветы», после чего чистосердечно призналась — По-моему, он самый скучный человек на свете.
Это так понравилось собеседнику, что он тут же оправился от легкого шока, в который его ввергло предыдущее замечание графини. Было поистине забавно встретить даму, которая находит вандерлайденовского герцога скучным и осмеливается высказать свое мнение об этом. Он хотел задать ей несколько вопросов, чтобы узнать побольше о жизни, на которую бросили такой яркий свет эти небрежные слова, но побоялся пробудить тяжелые воспоминания, и, прежде чем он нашелся, что ответить, она уже вернулась к своей первоначальной теме.
— Мэй — просто прелесть; я не видела в Нью-Йорке другой такой красивой и умной девушки. Вы очень в нее влюблены?
— Так, как только способен человек, — краснея, засмеялся Арчер.
Она продолжала задумчиво смотреть на него, словно боясь пропустить хотя бы малейший оттенок значения его слов.
— Вы думаете, что существует предел?
— Предел влюбленности? Если он и существует, я о нем не знаю!
— Значит, у вас настоящий роман? — с горячим сочувствием спросила она.
— Самый романтичный из романов!
— Восхитительно! И вы обнаружили это сами — никто ничего для вас не устраивал?
Арчер с изумлением на нее посмотрел.
— Разве вы забыли, что у нас в стране мы не позволяем, чтобы кто-то устраивал за нас наши браки? — улыбаясь, спросил он.
Румянец залил ее смуглое лицо, и он тотчас пожалел о своих словах.
— Да, — отозвалась она. — Да, я забыла. Вы должны прощать мне такие ошибки. Я не всегда помню, что здесь хорошо… все… все, что плохо там, откуда я приехала.
Она опустила глаза на свой венецианский веер из орлиных перьев, и он заметил, что у нее дрожат губы.
— Простите, — вырвалось у него. — Но ведь вы здесь среди друзей.
— Да, конечно. Куда бы я ни пошла, я везде это чувствую. Вот почему я и вернулась домой. Я хочу забыть все остальное, хочу снова стать настоящей американкой, такой, как Минготты и Велланды или вы и ваша очаровательная матушка и все остальные милые люди, которые собрались здесь сегодня. А вот и Мэй, и вы сейчас уйдете, — добавила она, но не шелохнулась. И, отвернувшись от двери, снова посмотрела ему в лицо.
Комнаты начали наполняться приглашенными на послеобеденный прием гостями, и, проследив за взглядом госпожи Оленской, Арчер увидел Мэй Велланд, которая вместе с матерью входила в гостиную. В серебристо-белом платье, с венком из серебряных цветов в волосах высокая девушка напоминала Диану,[66] только что вернувшуюся с охоты.
— Видите, сколько у меня соперников, — проговорил Арчер. — Ее уже окружили, и теперь ей представляют герцога.
— Тогда останьтесь со мной еще немножко, — тихо сказала госпожа Оленская, слегка касаясь веером его колена. Это легчайшее прикосновение взволновало его точно ласка.
— Да, позвольте мне остаться, — отвечал он так же тихо, едва ли сознавая, что говорит, но в эту самую минуту к ним подошел мистер ван дер Лайден в сопровождении старого мистера Урбана Дэгонета. Графиня приветствовала их своей грустной улыбкой, и Арчер, почувствовав на себе укоризненный взгляд хозяина, встал.
Госпожа Оленская протянула руку, словно желая с ним проститься.
— Значит, я жду вас завтра после пяти, — сказала она и повернулась, чтобы освободить место мистеру Дэгонету.
— Завтра… — Арчер услышал свой голос, повторявший это слово, хотя он ничего ей не обещал, а она во время их разговора никак не дала понять, что желает его видеть.
Уходя, он заметил, как Лоренс Леффертс, высокий и ослепительный, подходит к графине, чтобы представить ей свою жену, и услышал, как Гертруда Леффертс, широко улыбаясь своей невыразительной улыбкой, говорит:
— Но мне кажется, что детьми мы вместе ходили на уроки танцев…
Позади, ожидая своей очереди представиться графине, стояло несколько супружеских пар, которые наотрез отказались встретиться с нею у миссис Лавел Минготт. В точности как заметила однажды миссис Арчер: «Если ван дер Лайдены хотят преподать урок, они знают, как это сделать». Оставалось только удивляться, что хотят они этого очень редко.
Кто-то коснулся его плеча, и он увидел, что миссис ван дер Лайден в черном бархатном платье и в фамильных брильянтах смотрит на него с высоты своего величия.
— Как любезно с вашей стороны, милый Ньюленд, что вы так самоотверженно посвятили столько времени мадам Оленской. Я сказала вашему дяде Генри, что ему давно пора прийти вам на помощь.
Он почувствовал, что улыбается ей неопределенной улыбкой, и она, словно снисходя к его природной застенчивости, добавила:
— Я никогда не видела Мэй более очаровательной. Герцог считает ее самой красивой из присутствующих здесь девушек.
9
Графиня Оленская сказала: «после пяти», и в половине шестого Ньюленд Арчер позвонил в дверь облупившегося оштукатуренного дома с ветхим чугунным балконом, густо обвитым огромной глицинией, который она наняла у скиталицы Медоры в дальнем конце Западной 23-й улицы.
Более странное место для жилья поистине трудно было сыскать. Ближайшими ее соседями были дешевые портнихи, изготовители птичьих чучел, «люди, которые пишут», а еще дальше вниз по неопрятной улице в конце замощенной дорожки Арчер увидел обветшалый деревянный дом, в котором жил писатель и журналист по имени Уинсетт, с которым он иногда встречался. Уинсетт никого к себе не приглашал, но как-то раз во время ночной прогулки он показал свой дом Арчеру, и тот с содроганием спросил себя, неужели и в других столицах представители изящных искусств ютятся в таких же жалких лачугах.
Жилище госпожи Оленской отличалось от этого дома лишь свежеокрашенными оконными рамами, и, рассматривая его скромный фасад, Арчер сказал себе, что польский граф, очевидно, лишил жену не только ее иллюзий, но и ее состояния.
Молодой человек провел очень неприятный день. После ленча у Велландов он надеялся увести Мэй на прогулку в парк. Он хотел побыть с нею наедине, сказать ей, как очаровательна она была накануне вечером, как он ею гордился, и уговорить ее ускорить бракосочетание. Но Миссис Велланд решительно напомнила ему, что они не нанесли еще и половины родственных визитов, а когда он намекнул, что не мешало бы поскорее сыграть свадьбу, укоризненно подняла брови и со вздохом промолвила:
— По двенадцать дюжин всех вещей… с ручной вышивкой…
Втиснувшись в семейное ландо, они ездили от одних родственных дверей к другим, и, когда дневной круг был наконец завершен, Арчер покинул свою невесту с ощущением, будто его выставляют напоказ, словно дикого зверя, которого ловко заманили в капкан. Возможно, чтение трудов по антропологии навеяло ему столь грубое понятие об этом всего лишь простом и естественном проявлении родственных чувств, подумал он, но, когда он вспомнил, что Велланды не собираются устраивать свадьбу раньше будущей осени, и представил себе свою жизнь до этого времени, его охватило глубокое уныние.
— Завтра, — сказала ему миссис Велланд, — завтра мы поедем к Джексонам и Далласам, — и тут он понял, что она намерена посетить всех родственников в алфавитном порядке — а ведь они не добрались еще даже до конца первой четверти алфавита.
Он хотел рассказать Мэй о просьбе — вернее, о приказании — графини Оленской посетить ее в этот вечер, но в те короткие мгновенья, когда они оставались наедине, у него находились более животрепещущие темы для разговора. Кроме того, едва ли стоит вообще об этом упоминать. Мэй хотела, чтобы он был любезен с ее кузиной, и разве не это ее желание ускорило оглашение их помолвки? Мысль о том, что, если бы не приезд графини, он был бы сейчас если и не совсем свободным, то, во всяком случае, еще не столь окончательно связанным, вызвала у него какое-то странное ощущение. Но Мэй этого пожелала, и он почувствовал, что с него в какой-то мере снята дальнейшая ответственность, а раз так, то, если ему вздумается, он волен без ведома Мэй посетить ее кузину.
Из всех чувств, какие он испытывал, стоя на пороге дома госпожи Оленской, наиболее сильным было любопытство. Его озадачил тон, каким она его пригласила, и он заключил, что она не так проста, как кажется.
Дверь отворила смуглая, похожая на иностранку пышногрудая горничная с ярким платком на плечах, которая, как ему показалось, была скорее всего сицилианкой. Она улыбнулась ему широкой белозубой улыбкой, в ответ на все вопросы непонимающе помотала головой и через узкий коридор провела его в тесную, низкую, освещенную огнем камина гостиную. Комната была пуста, и служанка надолго оставила его одного, предоставив гадать, отправилась ли она разыскивать свою госпожу или просто не поняла, зачем он сюда явился, и подумала, что, быть может, он пришел завести часы — единственные часы, которые он здесь обнаружил, и в самом деле стояли. Ему было известно, что жители южных стран объясняются друг с другом языком пантомимы, и поэтому его обескуражила полнейшая невразумительность ее улыбок и ужимок. Наконец она воротилась с лампой, и Арчер, который тем временем, пользуясь стихами Данте и Петрарки, составил какую-то фразу, получил ответ: «La signora è fuori; ma verrá subito», который он понял так: «Она ушла, но вы скоро увидите».
Пока что в тусклом свете лампы он увидел прелестную полутемную комнату, не похожую ни на одну из виденных им доселе комнат. Он знал, что графиня Оленская привезла с собою кое-что из своих вещей — обломки кораблекрушения, как она их называла, — очевидно, это были несколько столиков темного дерева, изящная бронзовая греческая статуэтка и прибитая к выцветшим обоям драпировка из красного камчатного полотна, на которой висели две, по-видимому, итальянские картины в старинных рамах.
Ньюленд Арчер гордился своим знанием итальянского искусства. Его юность прошла под знаком Рескина,[67] читал он и все новейшие труды[68] — Джона Эддингтона Саймондса, «Эвфориона» Вернон Ли, очерки Ф. Г. Хемертона[69] и замечательную новую книгу Уолтера Патера[70] под названием «Ренессанс». Он свободно рассуждал о Боттичелли[71] и несколько снисходительно отзывался о Фра Анджелико.[72] Но эти картины совершенно сбили его с толку, ибо ничем не напоминали все то, на что он привык смотреть (а потому способен был увидеть), когда путешествовал по Италии, а возможно, острота его восприятия ослабела от странного положения, в которое он попал в этом пустом доме, где его явно не ждали. Он пожалел, что не рассказал Мэй Велланд о просьбе графини Оленской, и даже встревожился, как бы его невеста ненароком не заехала навестить кузину. Что она подумает, если увидит, как он, словно свой человек, сидит в сумерках один у камина чужой дамы?
Но раз уже он здесь, он решил подождать и, опустившись в кресло, вытянул ноги к горящим поленьям.
Довольно странно позвать его таким образом, а после о нем позабыть, но Арчер испытывал скорее любопытство, чем обиду. Самая атмосфера комнаты настолько отличалась от той, какою он до сих пор привык дышать, что застенчивость его исчезла в предвкушении чего-то увлекательного и неведомого. Он и раньше бывал в гостиных, задрапированных красным камчатным полотном с картинами «итальянской школы», но его поразило, что ветхий, взятый внаем домик Медоры, с его жалкими украшениями из пампасной травы и статуэтками Роджерса,[73] одним мановением руки и умелым использованием нескольких предметов был превращен в нечто уютное, «заграничное», смутно напоминающее сцены из старинных сентиментальных романов. Он попытался проникнуть в этот секрет, найти разгадку в том, как расставлены столы и стулья, в том, что в изящной вазе стоят всего лишь две алые розы (которых никто никогда не покупал меньше дюжины), в тонком аромате, который пропитывал все вокруг, напоминая не запах духов на носовом платке, а скорее атмосферу какого-то далекого восточного базара, где пахнет смесью турецкого кофе, серой амбры и засушенных роз.
Потом он задумался о том, как будет выглядеть гостиная Мэй. Он знал, что мистер Велланд, который был весьма щедр, уже присмотрел только что построенный дом на Восточной 39-й улице. Местность эта считалась отдаленной, и дом был сложен из отвратительного зеленовато-желтого камня, который молодые архитекторы использовали, протестуя против коричневого, чей однообразный цвет покрывал весь Нью-Йорк наподобие холодного шоколадного крема, но зато водопровод там был образцовый. Арчер хотел отправиться в путешествие и отложить вопрос о доме, но, хотя Велланды и одобряли длительный медовый месяц в Европе (а быть может, даже зиму в Египте), они настаивали, что молодоженам необходим собственный дом. Молодой человек чувствовал, что судьба его решена: до конца дней своих он будет каждый вечер подниматься по обрамленным чугунными перилами ступеням зеленовато-желтого подъезда и через вестибюль в стиле Помпеи проходить в переднюю с панелями из лакированного желтого дерева. Дальше его воображение не простиралось. Он знал, что на втором этаже имеется гостиная с фонарем, но не мог даже вообразить, как Мэй им распорядится. Она с легкостью переносила лиловый атлас и желтую стеганую обивку кресел в велландовской гостиной, где красовались столики под «буль»[74] и позолоченные горки, набитые новомодным саксонским фарфором. У него не было оснований полагать, что в своем собственном доме она пожелает видеть что-либо другое, и утешался лишь надеждой, что она, быть может, позволит ему обставить библиотеку по своему вкусу — разумеется, настоящим «истлейком»[75] и простыми новыми книжными шкафами без стеклянных дверок.
Полногрудая служанка вошла в комнату, задернула шторы, помешала поленья в камине и успокоительно произнесла;
— Verrà, verrà.
Когда она удалилась, Арчер встал и принялся ходить из угла в угол. Должен ли он ждать дальше? Положение становилось довольно глупым. Быть может, он неправильно понял госпожу Оленскую, быть может, она его вовсе и не приглашала.
Внизу, на булыжной мостовой, послышался топот копыт, лошадь остановилась у крыльца, и Арчер услыхал стук открываемой каретной дверцы. Раздвинув шторы, он выглянул в ранние сумерки. Прямо перед окном был уличный фонарь, и в его свете он увидел запряженную крупной чалой лошадью прочную английскую коляску Джулиуса Бофорта; банкир вышел из нее и помог выйти госпоже Оленской.
Бофорт стоял, держа в руке шляпу и произнося какие-то слова, на которые его спутница отвечала, по-видимому, отрицательно, после чего они пожали друг другу руки, он вскочил в свой экипаж, а она поднялась по ступенькам.
Войдя в комнату, она не выказала ни малейшего удивления при виде Арчера — удивление, очевидно, было чувством, совершенно ей не свойственным.
— Как вам нравится мой забавный домик? — спросила она. — Для меня это сущий рай.
Говоря это, она сняла свою бархатную шляпку и, бросив ее в сторону вместе с длинной накидкой, остановилась, глядя на него задумчивыми глазами.
— Вы восхитительно его обставили, — отозвался он, чувствуя, что слова его банальны, но желая преступить светские условности и сказать что-то простое и остроумное.
— О, это жалкий маленький домишко. Мои родственники даже слышать о нем не хотят. Но он по крайней мере не такой унылый, как дом ван дер Лайденов.
Эти слова поразили его словно электрическим током, ибо мало нашлось бы мятежных умов, которые посмели бы назвать унылым величественный особняк ван дер Лайденов. Люди, удостоившиеся чести быть в нем принятыми, дрожали от холода и называли его «прекрасным», но Арчер неожиданно для себя обрадовался, что она облекла в слова эту всеобщую дрожь.
— То, что вы тут сделали, просто очаровательно, — повторил он.
— Мне нравится этот домик, — призналась она, — но я думаю, мне просто нравится, что он здесь, в моей родной стране, в моем родном городе, и что я в нем одна.
Она говорила так тихо, что он с трудом расслышал ее последние слова, но, несмотря на смущение, тотчас их подхватил:
— Вам так нравится быть одной?
— Да, тем более что мои друзья не позволяют мне чувствовать одиночество. — Она села возле камина, проговорила — Настасия сейчас подаст нам чаю, — жестом показала ему, чтобы он вернулся в свое кресло, и добавила: — Я вижу, вы уже нашли себе уютный уголок.
Откинувшись назад, она сложила руки за головой и из-под полуопущенных век стала смотреть в огонь.
— Это час, который я люблю больше всего. А вы? Чувство уязвленного самолюбия заставило его ответить:
— Я уже начал бояться, что вы этот час забыли. Бофорт, очевидно, совершенно завладел вашим вниманием.
Это замечание ее позабавило.
— Как! Разве вы так долго ждали? Мистер Бофорт возил меня посмотреть несколько домов — ведь мне, наверное, не позволят оставаться в этом. — Казалось, она тут же забыла и о Бофорте, и о нем, Арчере, и продолжала — Я еще ни разу не бывала в городе, где все считают невозможным жить в des quartiers excentriques.[76] He все ли равно, где кто живет? Мне сказали, что это вполне приличная улица.
— Она не модная.
— Не модная? Неужели вы все придаете такое значение моде? Почему бы не установить свою собственную моду? Но, вероятно, я жила слишком независимо; теперь я хочу поступать как вы все — хочу чувствовать, что обо мне заботятся и что я в безопасности.
Он был тронут, как и накануне вечером, когда она говорила, что нуждается в руководстве.
— Да, именно этого хотят все ваши друзья. Нью-Йорк — страшно безопасное место, — не без сарказма добавил он.
— Серьезно? Это чувствуется сразу, — воскликнула она, не замечая насмешки. — Быть здесь — все равно как… как в детстве, когда тебя отпустили в гости, потому что ты была примерной девочкой и сделала все уроки.
Аналогия была выбрана из лучших побуждений, но не особенно ему понравилась. Он не прочь был непочтительно отозваться о Нью-Йорке, но не любил, чтобы другие говорили о нем в таком же тоне. Неужели она еще не поняла, какая это мощная машина и как эта машина едва ее не раздавила. Званый обед у Лавел Минготтов, сшитый in extremis[77] из всевозможных общественных лоскутков, должен был наглядно показать ей, что она находилась на волосок от гибели, но одно из двух — либо она вообще не сознавала, что ходит по краю пропасти, либо в упоении победы на вечере у ван дер Лайденов забыла об опасности. Арчер склонялся к первой версии, ему казалось, что она все еще воспринимает Нью-Йорк как некое единое целое, и это предположение его раздосадовало.
— Вчера вечером Нью-Йорк был у ваших ног, — сказал он. — Ван дер Лайдены никогда но останавливаются на полпути.
— Да, правда. Как они добры! Это был такой приятный вечер! Все так их почитают.
Слова эти совершенно не шли к делу, так можно было говорить о чаепитии у славных старушек, барышень Лэннинг.
— Ван дер Лайдены, — произнес Арчер, чувствуя, что слова его звучат напыщенно, — ван дер Лайдены — самое влиятельное семейство в нью-йоркском обществе. К сожалению, они из-за слабого здоровья миссис ван дер Лайден принимают очень редко.
Она разомкнула руки, на которых покоилась ее голова, и задумчиво на него посмотрела.
— Быть может, именно в этом и есть причина? — Причина чего?
— Их большого влияния. Быть может, причина его именно в том, что они превратили себя в такую редкость?
Он слегка покраснел, пристально взглянул на нее — и вдруг понял всю глубину ее замечания. Одним махом она проткнула ван дер Лайденов, и они лопнули. Он засмеялся и принес их в жертву.
Настасия принесла чай в японских чашечках без ручек и маленькие тарелочки с крышечками и поставила поднос на низкий столик.
— Но вы мне все объясните, расскажете мне все, что я должна знать, — продолжала госпожа Оленская, наклоняясь, чтобы подать ему чашку.
— Это вы мне все объясняете, вы открываете мне глаза на вещи, на которые я смотрел так долго, что перестал их видеть.
Она сняла с одного из своих браслетов маленький золотой портсигар, протянула сначала ему, потом взяла папиросу себе. На камине лежали длинные лучины для раскуривания папирос.
— О, тогда мы можем помогать друг другу. Но я нуждаюсь в помощи гораздо больше. Вы должны объяснять мне, что я должна делать.
У него вертелось на языке: «Не катайтесь по улицам с Бофортом», но он уже слишком глубоко проникся атмосферой этого дома — ее атмосферой, — а давать советы подобного рода все равно что велеть человеку, покупающему розовое масло в Самарканде, непременно запастись теплыми ботами для нью-йоркской зимы. Нью-Йорк сейчас казался намного дальше Самарканда, и, если они и в самом деле станут помогать друг другу, она уже оказала ему первую из их будущих взаимных услуг, заставив непредвзято посмотреть на родной город. Когда смотришь на него таким образом, словно в перевернутый телескоп, он выглядит ужасающе маленьким и далеким, но ведь из Самарканда он именно таким и должен казаться.
Поленья вспыхнули, она нагнулась и так близко поднесла к огню тонкие руки, что вокруг овальных ногтей появился слабый ореол. Свет придал бронзовый оттенок темным локонам, выбившимся из прически, и сделал ее бледное лицо еще бледнее.
— Есть множество людей, которые объяснят вам, что вы должны делать, — возразил Арчер, смутно завидуя этим людям.
— Ах… это все мои тетушки? И моя славная старая бабушка? — Она как бы беспристрастно взвешивала его замечание. — Все они немножко сердятся, что я поселилась одна, особенно бедная бабушка. Ей хочется держать меня при себе, но мне нужна свобода…
На Арчера произвело сильное впечатление, с какой небрежностью она говорит о всемогущей Екатерине, и его глубоко взволновала мысль о том, что заставило госпожу Оленскую жаждать свободы и одиночества. Но мысль о Бофорте не давала ему покоя.
— Мне кажется, я понимаю ваши чувства, — сказал он. — И все же ваши родственники могут дать вам совет, объяснить некоторые тонкости, указать дорогу.
Она подняла тонкие черные брови.
— Разве Нью-Йорк такой уж лабиринт? Я считала его прямым, как Пятая авеню. И все поперечные улицы перенумерованы1 — Казалось, она догадывается, что он не слишком это одобряет, и, улыбнувшись своею редкою улыбкой, которая волшебно озарила все ее лицо, добавила: — О, если бы вы только знали, как он мне нравится именно за это — за то, что он такой правильный и что на всем висят такие большие яркие вывески.
Он ухватился за эту мысль.
— Вывески могут висеть на всех предметах — но не на всех людях.
— Очень может быть. Наверное, я слишком упрощаю, но, если так, вы меня предостережете. — Отвернувшись от огня, она посмотрела на Арчера. — Здесь есть только два человека, которые, как мне кажется, понимают меня и могут мне все объяснить: вы и мистер Бофорт.
Арчер поморщился от такого соседства, но тотчас изменил свое мнение, понял и проникся сочувствием и жалостью. Она, наверное, жила так близко к силам зла, что до сих пор ей было легче дышать их воздухом. Однако, раз она чувствует, что и он ее понимает, его дело заставить ее увидеть Бофорта таким, каков он на самом деле, увидеть все то, что за ним стоит, и проникнуться ко всему этому глубоким отвращением.
— Я понимаю, — мягко отозвался он. — Но не отталкивайте своих старых друзей — я имею в виду пожилых дам, вашу бабушку Минготт, миссис Велланд, миссис ван дер Лайден. Они любят вас, восхищаются вами и хотят вам помочь.
Она покачала головой и вздохнула.
— Да, я знаю, знаю. Но лишь при условии, что они не услышат ничего неприятного. Тетушка Велланд именно так и сказала, когда я попыталась… Неужели здесь никто не хочет знать правду, мистер Арчер? Жить среди всех этих добрых людей, которые только и просят, чтобы вы притворялись, — вот настоящее одиночество! — Она подняла руки к лицу, и он увидел, как ее худенькие плечи задрожали от рыданий.
— Госпожа Оленская! Эллен! Не надо! — воскликнул он, вскакивая и склоняясь над нею. Он взял ее руку и стал гладить, утешая как ребенка, но она тотчас ее отняла и посмотрела на него полными слез глазами.
— Неужели здесь никто не плачет? Впрочем, в этом нет нужды, словно в раю, — уже со смехом сказала она, поправляя выбившиеся локоны и наклоняясь над чайником.
Его обожгла мысль, что он назвал ее Эллен, а она даже не заметила. Далеко, как в перевернутый телескоп, он увидел смутную белую фигуру Мэй Велланд — в Нью-Йорке.
Внезапно в дверь просунулась голова Настасий, которая произнесла что-то на своем певучем итальянском языке.
Госпожа Оленская, снова поправляя рукою прическу, утвердительно воскликнула: «Già, già!» — и вслед за укутанной в меха высокой дамой в черном парике и шляпе с красным пером в комнату вошел герцог Сент-Острей.
— Дорогая графиня, я привел к вам мою старинную приятельницу — миссис Стразерс. Она не была приглашена на вчерашний прием, но хочет с вами познакомиться.
Герцог одарил собравшихся сияющей улыбкой, и госпожа Оленская со словами приветствия направилась к странной паре. Она явно не отдавала себе отчета, как мало они подходят друг к другу и какую вольность позволил себе герцог, приведя с собою свою спутницу, — и, надо отдать ему справедливость, он, как понял Арчер, тоже этого не сознавал.
— Разумеется, я хочу познакомиться с вами, моя дорогая, — воскликнула миссис Стразерс зычным голосом, который как нельзя лучше подходил к ее ярким перьям и немыслимому парику. — Я хочу познакомиться со всеми, кто молод, интересен и обаятелен. Герцог сказал мне, что вы любите музыку, не правда ли, герцог? Вы ведь и сами играете на фортепьяно? Хотите завтра вечером послушать Иоахима?[78] Он будет играть у меня дома. В воскресные вечера у меня всегда бывает что-нибудь интересное — ведь по воскресеньям Нью-Йорк совершенно не знает, чем себя занять, вот я ему и говорю — приходите и веселитесь. Герцог думает, что вас можно соблазнить Иоахимом. У меня будет много ваших друзей.
Лицо госпожи Оленской зарделось от удовольствия.
— Чудесно! Как мило со стороны герцога вспомнить обо мне! — Она подвинула стул к чайному столику, и миссис Стразерс с наслаждением на него опустилась. — Конечно, я буду счастлива приехать.
— Вот и прекрасно, моя дорогая. И привезите с собой вашего молодого человека. — Миссис Стразерс дружески протянула руку Арчеру. — Никак не вспомню, как вас зовут, но я уверена, что мы знакомы, — я знакома со всеми здесь, в Париже и в Лондоне. Вы не по дипломатической части? У меня бывают все дипломаты. Вы ведь тоже любите музыку? Герцог, непременно захватите его с собой.
— Разумеется, — послышалось из недр герцогской бороды, и Арчер удалился, церемонно отвесив общий поклон. Ему казалось, что он, словно робкий школьник, затесавшийся в общество равнодушных и невнимательных взрослых, состоит из одного лишь спинного хребта.
Подобное завершение визита ничуть его не обескуражило, он только пожалел, что это не случилось раньше. Тогда бы он был избавлен от излишних проявлений чувства. Выйдя в холодную ночь, он тотчас же обнаружил, что Нью-Йорк снова сделался огромным и неизбежным, а Мэй Велланд — самой красивой из живущих в нем девушек. Он зашел в цветочный магазин, чтобы послать ей ежедневную коробку ландышей, что, к своему немалому смущению, позабыл сделать утром.
Выводя на своей карточке несколько слов и ожидая, когда ему подадут конверт, он оглядел напоминавший беседку павильон, и глаза его остановились на букете желтых роз. Он никогда не видел таких золотистых, как солнце, цветов, и первым его побуждением было послать их Мэй вместо ландышей. Но они никак не гармонировали с ее обликом — в их огненной красоте было что-то слишком яркое и жгучее. Повинуясь внезапному душевному порыву и не совсем отдавая себе отчет в своем поступке, Арчер попросил владельца магазина положить их в другую длинную коробку, сунул свою карточку во второй конверт, на котором написал имя графини Оленской, затем, направляясь к выходу, вытащил карточку и оставил на коробке пустой конверт.
В ответ на его вопрос хозяин уверил его, что розы будут тотчас доставлены по указанному адресу.
10
Назавтра Арчер уговорил Мэй после завтрака ускользнуть на прогулку в парк. По стародавнему обычаю епископального Нью-Йорка, в воскресенье днем она всегда ходила с родителями в церковь, но на этот раз миссис Велланд простила дочери небрежение, ибо утром ей удалось убедить Мэй не противиться удлинению срока помолвки — ведь иначе не успеть приготовить приданое из надлежащего числа дюжин белья с ручной вышивкой.
День выдался изумительный. Над безлистым древесным сводом блистало лазурное небо, а внизу осколками кристаллов искрился покрывавший аллею снег. Погода великолепно оттеняла лучезарную красоту Мэй, и она разрумянилась, как молодой клен на морозе. Арчер гордился взглядами, которыми ее провожали, и чистая радость обладания рассеяла гнездившиеся в нем сомнения.
— Как чудесно, просыпаясь каждое утро, вдыхать аромат ландышей, — сказала она.
— Вчера их принесли поздно. Утром у меня не хватило времени.
— То, что вы каждый день про них вспоминаете, гораздо приятнее, чем если бы вы дали постоянный заказ и они появлялись бы по утрам минута в минуту, словно учительница музыки, — как было у Гертруды Леффертс, когда они с Лоренсом обручились.
— Да, конечно, — засмеялся Арчер ее остроте. Искоса бросив взгляд на румяную как яблоко щеку, он почувствовал себя таким богатым и уверенным в себе, что решился сказать — Вчера вечером, когда я заказывал вам ландыши, я увидел роскошные желтые розы и велел послать их госпоже Оленской. Я правильно сделал?
— Как мило с вашей стороны! Она очень любит цветы. Странно, что она нам о них не сказала. Сегодня у нас на завтраке она упомянула, что мистер Бофорт прислал ей чудные орхидеи, а кузен Генри ван дер Лайден — целую корзину гвоздик из Скайтерклиффа. Мне кажется, она удивлена. Разве в Европе не принято посылать цветы? Она считает, что это прелестный обычай.
— О, вполне естественно, что цветы Бофорта затмили мои, — с досадой заметил Арчер. Потом он вспомнил, что не приложил к розам своей карточки, и еще больше рассердился на себя за то, что вообще о них заговорил. Он хотел сказать: «Вчера я был у вашей кузины», но заколебался. Раз графиня Оленская не упомянула о его визите, будет неудобно, если он об этом скажет. Однако умолчание придавало этому эпизоду оттенок тайны, который был ему неприятен, и, чтобы переменить тему, он заговорил об их собственных планах, об их будущем и о том, что миссис Велланд настаивает на долгой помолвке.
— Не такая уж она долгая! Изабел Чиверс и Реджи были помолвлены два года, а Грейс и Торли — почти полтора. Разве нам плохо?
Это был традиционный девичий вопрос, и он устыдился, что находит его до странности детским. Она, конечно, говорит с чужих слов, но ведь ей скоро исполнится двадцать два года. Интересно, когда «порядочные» женщины начинают говорить сами за себя?
«Наверное, никогда, коль скоро мы им сами не разрешаем», — подумал он и вспомнил, как огорошил мистера Силлертона Джексона дерзким заявлением, что «женщины должны пользоваться такой же свободой, что и мы».
Скоро ему придется снять повязку с глаз этой молодой девицы и предложить ей посмотреть на мир. Но сколько поколений женщин, прежде чем появилась на свет Мэй, легли в фамильную гробницу, так и не сняв с глаз повязки? Он содрогнулся при мысли о некоторых новейших теориях и о неоднократно упоминаемой в ученых трудах кентуккийский пещерной рыбе,[79] у которой за ненадобностью атрофируется зрение. Что, если он велит Мэй Велланд открыть глаза, а они смогут лишь пустым взором смотреть в пустоту?
— Нам могло быть гораздо лучше. Мы были бы только вдвоем, могли бы отправиться в путешествие.
Ее лицо посветлело.
— Это было бы чудесно!
Разумеется, она бы с удовольствием поехала путешествовать, но мама не поймет, почему им вздумалось поступать не так, как поступают все.
— Как будто это не понятно само собой! — настаивал жених.
— Ах, Ньюленд! Вы такой оригинал! — восторженно воскликнула Мэй.
У него сжалось сердце, ибо он увидел, что говорит именно то, чего ожидают от молодого человека в его положении, а ее ответы — вплоть до самого слова «оригинал» — продиктованы ей традициями и инстинктом.
— Оригинал! Мы все похожи друг на друга, как куклы, вырезанные из одного сложенного листа бумаги. Мы словно узор, нарисованный по трафарету на стене. Неужели мы с вами не можем поступать по-своему, Мэй?
Остановившись в пылу спора, он увидел, что ее ясные глаза восхищенно на него смотрят.
— Так что же нам делать? Бежать и тайно обвенчаться? — засмеялась она.
— Если вам угодно…
— О Ньюленд! Значит, вы и вправду меня любите! Ах, как я счастлива!
— Так почему не стать еще счастливее?
— Но мы ведь не можем вести себя как герои романов?
— Почему? Почему? Почему?
Казалось, его настойчивость ей наскучила. Она отлично знала, что ничего этого они сделать не могут, но придумывать доводы было слишком хлопотно.
— Я недостаточно умна, чтобы с вами спорить. Но ведь это… ведь это вульгарно, не правда ли? — спросила она, радуясь, что нашла слово, которое окончательно исчерпывает тему.
— Неужели вы так боитесь быть вульгарной? Вопрос этот, очевидно, ошеломил Мэй.
— Разумеется… я бы не хотела… но ведь и вы тоже, — с некоторой досадой отозвалась она.
Арчер молчал, нервно постукивая тростью по башмаку и чувствуя, что она и в самом деле нашла удачный способ закончить спор; Мэй же беспечно продолжала:
— Да, знаете, я ведь показала Эллен мое кольцо. Она говорит, что никогда еще не видела такой прекрасной оправы. Говорит, что ничего подобного нет даже на рю де ля Пэ.[80] Ах, Ньюленд, у вас такой тонкий художественный вкус!
На следующий день, когда Арчер в ожидании обеда угрюмо курил у себя в кабинете, к нему зашла Джейни. Сегодня он не заглянул в клуб, возвращаясь из конторы, — он служил по юридической части, не слишком утруждая себя работой, как было принято среди состоятельных ньюйоркцев его круга. Он был и не в своей тарелке, и слегка не в духе, и мысль о том, что ежедневно в один и тот же час он делает одно и то же, наводила на него уныние и ужас.
«Однообразие, однообразие», — неотвязно звучало у него в голове, когда он смотрел на знакомые фигуры в цилиндрах, небрежно развалившиеся за зеркальными стеклами, и именно потому, что в этот час он обыкновенно заезжал в клуб, сегодня он нарочно отправился прямо домой. Он знал не только то, о чем будут толковать члены клуба, но и какая роль отводится в этой дискуссии каждому из них. Главной темой будет, конечно, герцог, но подробному разбору, несомненно, подвергнется также появление на 5-й авеню некоей златокудрой особы в маленькой канареечной коляске, запряженной парою черных кобов (которые, как все полагали, имели прямое отношение к Бофорту). «Женщин подобного сорта» (как их называли) в Нью-Йорке было мало, а таких, которые ездили в собственных экипажах, и того меньше, и появление мисс Фанни Ринг на 5-й авеню в час прогулок фешенебельной публики глубоко взволновало общество. Не далее как вчера ее карета проехала мимо кареты миссис Лавел Минготт, и последняя, тотчас же дернув висевший возле ее локтя колокольчик, приказала кучеру отвезти ее домой. «Что, если бы это случилось с миссис ван дер Лайден?» — с ужасом спрашивали друг друга ньюйоркцы. Арчер представил себе, как в эту самую минуту Лоренс Леффертс произносит речь о разложении общества.
Когда Джейни вошла в библиотеку, Арчер сердито поднял голову и тотчас вновь склонился над книгой (это был только что опубликованный «Шателяр»[81] Суинберна), словно вовсе не заметил прихода сестры. Она взглянула на заваленный книгами письменный стол, открыла томик «Озорных рассказов»,[82] скорчила гримасу при виде архаического французского языка и вздохнула:
— Какие ученые книги ты читаешь!
— Что скажешь? — спросил он сестру, стоявшую перед ним с видом Кассандры.[83]
— Мама очень сердится.
— Сердится? На кого? За что?
— Только что тут была мисс Софи Джексон. Брат просил ее передать, что приедет после обеда. Почти ничего не сообщила, потому что он ей запретил — хочет сам все подробно рассказать. Он сейчас у тети Луизы ван дер Лайден.
— Ради всего святого, Джейни, повтори еще раз. Сам господь бог не поймет, о чем ты толкуешь.
— Сейчас не время богохульствовать, Ньюленд… Мама и так в отчаянии, что ты не ходишь в церковь…
Арчер с тяжким стоном вновь погрузился в книгу.
— Ньюленд! Выслушай меня. Твоя приятельница госпожа Оленская была вчера в гостях у миссис Лемюэл Стразерс, она ездила туда с герцогом и мистером Бофортом.
При последних словах этого известия молодого человека охватила безотчетная ярость. Чтобы ее подавить, он засмеялся.
— Ну и что такого? Я знал, что она туда собирается. Джейни побледнела и вытаращила глаза.
— Ты знал, что она туда собирается, и не попытался ее остановить! Предостеречь?
— Остановить? Предостеречь? — он снова засмеялся. — Я ведь не собираюсь жениться на графине Оленской. — Слова эти показались ему самому какими-то фантастическими.
— Но ты женишься на ее родственнице.
— Ох уж эти родственники! — насмешливо произнес он.
— Ньюленд, неужели тебя не интересуют родственники?
— Ничуть!
— И тебе все равно, что подумает тетя Луиза ван дер Ланден?
— Абсолютно все равно — если она способна заниматься пустяками, словно какая-нибудь старая дева, — отозвался Арчер.
— Мама не старая дева, — поджав губы, объявила его девственная сестрица.
Ньюленда так и подмывало крикнуть ей в ответ: «Вот именно старая дева, и ван дер Лайдены — старые девы, да и мы все — стоит нам хоть чуточку соприкоснуться с реальностью — тоже превращаемся в старых дев», но, заметив, что ее длинное кроткое лицо вот-вот исказится от плача, он устыдился, что напрасно ее обидел.
— К черту графиню Оленскую! Не болтай глупостей, Джейни, я не обязан ее опекать.
— Конечно нет, но ведь ты же сам попросил Велландов поскорее объявить о помолвке, чтоб мы все могли ее поддержать, и, если бы не это, тетя Луиза никогда не пригласила бы ее на обед в честь герцога.
— Не вижу в этом приглашении ничего дурного. Она была там красивее всех, и благодаря ей обед не казался таким заупокойным, как все вандерлайденовские банкеты.
— Но ты же знаешь, что дядя Генри позвал ее только ради тебя, это он уговорил тетю Луизу. А теперь они так расстроились, что завтра возвращаются в Скайтерклифф. Знаешь, Ньюленд, по-моему, тебе надо спуститься к маме. Мне кажется, ты просто не понимаешь, каково ей сейчас.
Ньюленд застал мать в гостиной. Подняв озабоченное лицо от шитья, она спросила:
— Джейни тебе рассказала?
— Да, — он старался говорить таким же спокойным тоном, как и она. — Но я не могу принимать все это всерьез.
— Даже оскорбление, нанесенное кузине Луизе и кузену Генри?
— Неужели их можно оскорбить такой чепухой, как визит графини Оленской к женщине, которую они считают вульгарной?
— Считают!
— Ну да, они правы, но у нее можно послушать хорошую музыку и повеселиться в воскресные вечера, когда весь Нью-Йорк умирает от тоски.
— Хорошую музыку? Сколько мне известно, там была женщина, которая влезла на стол и распевала песенки— из тех, что поют в Париже в известных заведениях. Там курили и пили шампанское.
— Но ведь такие вещи происходят и в других местах, а мир еще не перевернулся.
— Надеюсь, ты не намерен защищать французское воскресенье, друг мой?
— Когда мы были в Лондоне, я частенько слышал, как вы ворчали по поводу английского воскресенья, мама.
— Нью-Йорк — не Париж и не Лондон, — сказала миссис Арчер.
— Разумеется, нет! — простонал ее сын.
— По-видимому, ты хочешь сказать, что здешнее общество не столь блестяще. Ты, конечно, прав, но мы принадлежим к этому обществу, и те, кто к нам приезжает, Должны уважать наши обычаи. Особенно Эллен Оленская — ведь она вернулась сюда именно для того, чтобы уйти от той жизни, какую ведут в блестящем обществе.
Ньюленд ничего не ответил, и миссис Арчер продолжала:
— Я собиралась надеть шляпу и просить тебя съездить со мною на минутку к кузине Луизе. — Видя, что Арчер нахмурился, она заметила: — Мне кажется, ты мог бы объяснить ей, что, как ты сам сейчас говорил, за границей общество не такое, как у нас… Публика там менее разборчива, и госпожа Оленская, возможно, не понимает, как мы смотрим на подобные вещи. Ты ведь и сам знаешь, что это было бы лишь в интересах госпожи Оленской, — с невинным лукавством добавила она.
— Милая мама, я, право, не вижу, какое нам до всего этого дело. Герцог ездил с госпожою Оленской к миссис Стразерс, он даже сам привез миссис Стразерс с ней познакомиться. Когда они приехали, я как раз был там. Если ван дер Лайдены хотят с кем-нибудь поссориться, то настоящий виновник пребывает под их же собственной крышей.
— Поссориться? Ньюленд, ты хоть раз слышал, чтобы кузен Генри с кем-нибудь ссорился? Герцог — их гость, к тому же иностранец. Иностранцы совершенно не разбираются в тонкостях — да и где бы они могли этому научиться? Но графиня Оленская родилась в Нью-Йорке, и ей следовало бы уважать чувства ньюйоркцев.
— Ну, если им необходима жертва, я разрешаю вам бросить им на растерзание госпожу Оленскую, — с досадой воскликнул Арчер. — Я не понимаю, почему мы с вами должны искупать ее грехи.
— О, разумеется, ты рассуждаешь с точки зрения Минготтов, — возразила его мать обиженным тоном, который обыкновенно означал, что она вот-вот рассердится.
Печальный дворецкий раздвинул портьеры гостиной и объявил:
— Мистер Генри ван дер Лайден.
Миссис Арчер уронила иголку и дрожащей рукою отодвинула назад свой стул.
— Еще одну лампу! — крикнула она вслед удаляющемуся слуге, а Джейни тем временем наклонилась к матери, чтобы поправить ей чепец.
На пороге появилась фигура мистера ван дер Лайдена, и Ньюленд Арчер поспешил навстречу дяде.
— Мы только что говорили о вас, сэр, — сказал он. Мистер ван дер Лайден, казалось, был изумлен этим известием. Он снял перчатку, чтобы пожать руки дамам, и, пока Джейни подвигала ему кресло, застенчиво поглаживал свой цилиндр.
— И о графине Оленской, — добавил Арчер. Миссис Арчер побледнела.
— Ах, она очаровательная женщина. Я только что от нее, — сказал мистер ван дер Лайден, и на чело его вновь снизошло безмятежное спокойствие. Он опустился в кресло, по старинному обычаю положил на пол рядом с собою цилиндр и перчатки и продолжал — У нее просто дар расставлять цветы. Я послал ей гвоздики из Скайтерклиффа и был поражен. Вместо огромных букетов, какие делает наш садовник, она разбросала их по несколько штук тут и там. Я даже не могу объяснить, как именно. Я узнал об этом от герцога. Он сказал: «Съезди посмотри, с каким вкусом она обставила свою гостиную». И в самом деле. Я бы с удовольствием отвез к ней Луизу, если бы все вокруг не было таким… таким неприятным.
Мертвая тишина была ответом на этот совершенно не свойственный мистеру ван дер Лайдену поток слов. Миссис Арчер достала свое вышивание из корзинки, куда она перед тем нервно его сунула, а Ньюленд, который, прислонясь к камину, теребил рукою ширму из перьев колибри, при свете внесенной в комнату второй лампы увидел застывшую от изумления физиономию Джейни.
— Дело в том, — продолжал мистер ван дер Лайден, поглаживая свою длинную ногу бескровной рукою, отягощенной огромным кольцом с печаткой пэтруна, — дело в том, что я заехал поблагодарить ее за прелестную записку, которую она прислала мне по поводу цветов, а также — но это, разумеется, только между нами — дружески предостеречь ее, чтобы она не разрешала герцогу возить ее с собой в гости. Не знаю, слышали ли вы…
Миссис Арчер изобразила снисходительную улыбку.
— Разве герцог возит ее в гости?
— Вы же знаете, каковы эти английские вельможи. Все они одинаковы. Мы с Луизой очень любим нашего кузена, но от людей, привыкших вращаться при европейских дворах, напрасно ожидать внимания к нашим маленьким республиканским тонкостям. Герцог ездит туда, где ему весело, — мистер ван дер Лайден умолк, но никто ничего не сказал. — Да, кажется, вчера он ездил с нею к миссис Лемюэл Стразерс. Силлертон Джексон только что рассказал нам эту глупую историю, и Луиза очень огорчилась. Я решил, что проще всего поехать прямо к графине Оленской и объяснить — вы, разумеется, понимаете, — всего лишь тончайшим намеком объяснить, как мы в Нью-Йорке смотрим на некоторые вещи. Я подумал, что мог бы сделать это очень деликатно… потому что в тот вечер, когда она у нас обедала, она отчасти высказала пожелание… отчасти дала мне понять, что была бы благодарна за советы. Так оно и оказалось.
Мистер ван дер Лайден обвел взглядом комнату с выражением, которое — будь на челе его хотя бы малейший признак низменных страстей — можно было бы назвать самодовольным. Но в его чертах запечатлелась лишь мягкая доброжелательность, которую почтительно отразило лицо миссис Арчер.
— Ах, какие вы оба милые, дорогой Генри! Всегда! Ньюленд особенно ценит ваш поступок — ведь это касается нашей славной Мэй и его новой родни.
Она бросила предостерегающий взгляд на сына, который сказал:
— Да, сэр, в высшей степени. Но я был уверен, что госпожа Оленская вам понравится.
Мистер ван дер Лайден с бесконечной кротостью на него посмотрел.
— Я никогда не приглашаю в свой дом людей, которые мне не нравятся, мой милый Ньюленд, — произнес он. — Именно это я только что сказал Силлертону Джексону. — Взглянув на часы, он встал и добавил: — Однако меня ждет Луиза. Мы сегодня рано обедаем, так как едем с герцогом в оперу.
Когда за гостем торжественно задвинулись портьеры, семейство Арчер погрузилось в молчание.
— О, боже, как романтично! — не выдержала наконец Джейни. Никто в точности не знал, к чему относятся ее отрывочные комментарии, и родные давно оставили всякие попытки их разгадать.
Миссис Арчер со вздохом покачала головой.
— Только бы все это хорошо кончилось, — произнесла она тоном человека, которому доподлинно известно, что ничего подобного не будет. — Ньюленд, сегодня вечером ты должен остаться дома и принять Силлертона Джексона — я просто не знаю, что ему сказать.
— Бедная мамочка! Но он не приедет, — засмеялся Арчер, наклоняясь, чтобы поцелуем стереть морщины с ее нахмуренного чела.
11
Недели через две, когда Ньюленд Арчер рассеянно предавался безделью в отведенном ему кабинете адвокатской конторы «Леттерблер, Лэмсон и Лоу», его вызвал к себе глава фирмы.
Старый мистер Леттерблер, неизменный поверенный трех поколений нью-йоркской знати, в явной растерянности восседал за письменным столом красного дерева. Покуда он приглаживал коротко остриженные белоснежные бакенбарды и ерошил рукою растрепанные седые кудри над выпуклым лбом, его непочтительный подчиненный думал, как он похож на домашнего врача, который недоволен больным, чья болезнь никак не поддается определению.
— Милостивый государь, — (он всегда обращался к Арчеру таким образом), — я послал за вами с целью поручить вам небольшое дело, дело, о котором я в настоящий момент предпочел бы не говорить ни мистеру Скипуорту, ни мистеру Редвуду.
Джентльмены, которых он назвал, были двумя другими старшими компаньонами фирмы, ибо, как издавна повелось в старинных юридических учреждениях Нью-Йорка, все компаньоны, чьи имена значились на фирменных бланках, давно умерли, и мистер Леттерблер, выражаясь профессиональным языком, был, так сказать, своим собственным внуком.
Откинувшись на спинку кресла, он нахмурился и продолжал:
— По семейным обстоятельствам… Арчер поднял глаза.
— Речь идет о семействе Минготт, — с улыбкой и поклоном пояснил мистер Леттерблер. — Вчера меня пригласила к себе миссис Мэнсон Минготт. Ее внучка, графиня Оленская, желает возбудить дело о разводе со своим супругом. Мне были переданы кое-какие бумаги. — Он умолк и забарабанил пальцами по столу. — Ввиду того, что вы в ближайшем будущем породнитесь с этим семейством, я хотел бы посоветоваться с вами… рассмотреть совместно с вами это дело, прежде чем предпринять дальнейшие шаги.
Арчер почувствовал, как кровь приливает к вискам. После визита к графине Оленской он виделся с нею всего один раз, да и то в ложе Минготтов в опере. За это время ее образ заметно потускнел и стал постепенно отступать на задний план, тогда как Мэй Велланд вновь заняла законное место в его мыслях. После того как Джейни однажды случайно упомянула о разводе графини Оленской, Арчер больше ничего о нем не слышал и отмахнулся от этой истории, как от необоснованной сплетни. Теоретически самое понятие развода претило ему не меньше, чем его матери, и он был недоволен, что мистер Леттерблер (явно по наущению старой Кэтрин Минготт) столь откровенно намеревается втянуть его в это дело. В конце концов, у Минготтов достаточно мужчин, которые могли бы им заняться, а он еще даже не вошел в их семью.
Он ждал, когда старший компаньон заговорит снова. Мистер Леттеблер отпер ящик и вынул какой-то пакет.
— Если вы просмотрите эти бумаги… Арчер нахмурился.
— Прошу прощения, сэр, но именно ввиду будущего родства я предпочел бы, чтобы вы посоветовались с мистером Скипуортом или с мистером Редвудом.
Мистер Леттерблер казался удивленным и даже немного обиженным. Подчиненные обыкновенно не отклоняют подобных предложений.
— Я уважаю ваши сомнения, сэр, но мне кажется, что в данном случае истинная деликатность требует, чтобы вы выполнили мою просьбу. Более того, это предложение исходит не от меня, а от миссис Мэнсон Минготт и ее сына. Я виделся с Лазелом Минготтом, а также с мистером Велландом. Все они назвали вас.
Арчер почувствовал, как в нем закипает гнев. Последние две недели он как бы безвольно плыл по течению, между тем как красота и светлая натура Мэй смягчали беззастенчивые притязания Минготтов. Однако последний приказ старой миссис Минготт раскрыл ему глаза, на требования, которые клан считал себя вправе предъявлять будущему зятю, и навязываемая ему роль глубоко его возмутила.
— Этим делом следовало бы заняться ее дядюшкам, — сказал он.
— Они им и занимались. Вопрос уже обсуждался в кругу семьи. Они не одобряют намерений графини, но она твердо стоит на своем и желает получить юридический совет.
Молодой человек молчал, все еще держа в руке нераспечатанный пакет.
— Она хочет снова вступить в брак?
— Полагаю, что да, но она это отрицает.
— В таком случае…
— Не откажите в любезности сначала просмотреть эти бумаги, мистер Арчер. Позже, когда мы обсудим дело, я изложу вам свое мнение.
Арчер неохотно удалился, унося с собою неприятные документы. Со дня последней встречи с госпожою Оленской он полубессознательно покорился событиям, чтобы сбросить с себя бремя этой женщины. За тот час, что он провел наедине с нею у камина, между ними возникла Мимолетная близость, которую весьма кстати нарушило вторжение герцога Сент-Острей и миссис Лемюэл Стразерс. Два дня спустя Арчер участвовал в комедии возвращения графини в милость ван дер Лайденов и не без иронии отметил, что дама, которая умеет с такой выгодой для себя благодарить всемогущих пожилых джентльменов за букет цветов, не нуждается ни в конфиденциальных утешениях, ни в публичной поддержке со стороны молодого человека с весьма ограниченными возможностями, какими располагает он. Такая точка зрения значительно упростила его собственную позицию, а все потускневшие домашние добродетели засверкали на удивление ярко. Он не мог себе представить, чтобы Мэй даже при самых крайних обстоятельствах стала бы жаловаться на свои затруднения или расточать свои признания посторонним мужчинам, и никогда еще она не казалась ему более благородной и прекрасной, чем в следующую неделю. Он даже покорился ее желанию не спешить со свадьбой, ибо она сумела найти тот единственный аргумент, который окончательно его обезоружил.
— Вы ведь знаете, что в конечном счете ваши родители всегда разрешали вам поступать так, как вам хотелось, с тех пор как вы были еще совсем маленькой девочкой, — сказал он и, глядя на него своими ясными глазами, Мэй ответила:
— Да, и именно потому мне так трудно отказать им в последней просьбе, с которой они обращаются ко мне как к маленькой девочке.
Это был голос старого Нью-Йорка, это был такой ответ, какой он всегда хотел бы слышать от своей Жены. Человеку, привыкшему дышать кристально чистым воздухом Нью-Йорка, порою кажется удушливым чтобы то ни было менее прозрачное.
Чтение полученных Арчером бумаг не столько обогатило его фактическими сведениями, сколько погрузило в атмосферу, в которой он начал захлебываться и задыхаться. Они состояли главным образом из переписки поверенных графа Оленского с французской юридической фирмой, которой графиня поручила уладить ее финансовое положение. Среди них находилось также короткое письмо графа к супруге, и, прочитав его, Арчер встал, засунул бумаги обратно в конверт и возвратился в кабинет мистера Леттерблера.
— Вот эти письма, сэр. Если вам угодно, я повидаюсь с госпожою Оленской, — сдавленным голосом произнес он.
— Благодарю, благодарю вас, мистер Арчер. Если вы сегодня вечером свободны, приезжайте ко мне обедать, а потом мы с вами поговорим об этом деле — если вы желаете посетить нашу клиентку завтра.
Из конторы Ньюленд Арчер снова отправился прямо домой. Был ясный зимний вечер, над крышами домов светил невинный молодой месяц, и ему захотелось напоить свою душу этим чистым сиянием и не говорить никому ни слова, пока они с мистером Леттерблером не останутся наедине после обеда. Принять какое-либо иное решение было просто невозможно — он должен сам повидать госпожу Оленскую, ибо нельзя допустить, чтобы чужим глазам открылась ее тайна. Волна сострадания смыла его равнодушие и досаду, и графиня предстала перед ним несчастной, беззащитной женщиной, которую любой ценой необходимо спасти от новых ударов, ожидающих ее в жестокой схватке с судьбой.
Он вспомнил, как она рассказывала ему о просьбе миссис Велланд не касаться «неприятных» сторон ее истории, и содрогнулся при мысли, что именно благодаря такому взгляду на жизнь воздух Нью-Йорка, наверное, и остается столь чистым. «Неужели мы всего лишь фарисеи?» — подумал он, удивленный собственными усилиями примирить инстинктивное отвращение к человеческой низости со столь же инстинктивным сочувствием к человеческой слабости.
Впервые в жизни он понял, насколько примитивны всегда были его собственные принципы. Он слыл бесстрашным молодым человеком и знал, что его тайная связь с бедной глупенькой миссис Торли Рашуорт была не настолько тайной, чтобы не создать ему репутацию романтического героя. Но миссис Рашуорт была «женщиной известного сорта», глупой, тщеславной, от природы скрытной, и ее гораздо больше привлекала таинственность и опасность их связи, нежели чары и достоинства, которыми обладал он сам. Когда это обстоятельство дошло до его сознания, он чуть не умер с горя, но теперь это казалось ему единственным оправданием всей истории. Короче говоря, связь эта принадлежала к разряду тех, что большая часть молодых людей его возраста оставляла позади со спокойной совестью и твердой уверенностью в существовании непроходимой пропасти, отделяющей женщин, которых человек любит и уважает, от женщин, которыми он обладает и которых жалеет. В этом мнении их старательно поддерживали их матери, тетки и другие пожилые родственницы, единодушно разделявшие уверенность миссис Арчер, что «подобные вещи» со стороны мужчины — просто глупость, тогда как со стороны женщины почему-то всегда преступление. Все знакомые Арчеру пожилые дамы считали всякую безрассудно влюбленную женщину непременно бессовестной интриганкой, а попавшего ей в когти бесхитростного простачка-мужчину — беспомощной жертвой. Единственное, что можно было в таких случаях сделать, это убедить его как можно скорее жениться на порядочной девушке, после чего предоставить ей за ним присматривать.
В сложной жизни европейского общества любовные проблемы, как начинал догадываться Арчер, были, вероятно, не так просты и не так легко поддавались определению. Богатая, праздная, роскошная жизнь гораздо чаще создавала подобные ситуации, причем, вероятно, могли возникнуть даже и такие, при которых женщина, от природы деликатная и сдержанная, силою обстоятельств, а также вследствие беззащитности и одиночества могла оказаться вовлеченной в связь, с общепринятой точки зрения совершенно непростительную.
Придя домой, Арчер написал графине Оленской записку с просьбой назначить время, когда она сможет на следующий день его принять. Посыльный вскоре возвратился с известием, что утром она уезжает на воскресенье в Скайтерклифф к ван дер Лайденам, но нынче после обеда он застанет ее дома одну. Записка была написана на неряшливом листке бумаги без обращения и даты, но почерк был твердый и изящный. Мысль о том, что она проведет уик-энд в царственном уединении Скайтерклиффа, показалась ему забавной, но он тотчас же понял, что именно там — скорее, чем где бы то ни было, — она с наибольшей силой ощутит холод, которым веет от людей, проникнутых непримиримым отвращением ко всему «неприятному».
Ровно в семь часов Арчер явился к мистеру Леттерблеру, очень довольный, что у него есть предлог вскоре после обеда извиниться и уйти. Из доверенных ему бумаг у него сложилось собственное мнение о деле, и он не особенно хотел обсуждать его со старшим компаньоном. Мистер Леттерблер был вдовцом, и они обедали одни, медленно и обстоятельно, в темной запущенной комнате, на стенах которой висели пожелтевшие гравюры «Смерть Чэтема»[84] и «Коронация Наполеона».[85] На буфете, между двумя рифлеными шератоновскими ящичками[86] для ножей, стоял графин с шато-о-брион[87] и графин со старым лэннинговским портвейном (подарок одного клиента). Известный своим мотовством Том Лэннинг распродал портвейн за год или за два до своей таинственной и постыдной смерти в Сан-Франциско — происшествие с точки зрения света менее унизительное для семейства, чем продажа винного погреба.
После бархатного устричного супа была подана рыба с огурцами, затем молодая вареная индейка с кукурузными блинчиками, за которой последовали жареная утка в смородиновом желе и салат из сельдерея под майонезом. Мистер Леттерблер, чей завтрак состоял из чая с бутербродом, обедал плотно и со вкусом и требовал того же от гостя. Наконец весь ритуал был выполнен, скатерть снята, сигары раскурены, и мистер Леттерблер, отодвинув свой портвейн и повернув спину к приятному теплу горящего в камине угля, сказал:
— Вся семья против развода. И, по-моему, они правы. Арчер мгновенно примкнул к противоположной стороне.
— Но почему, сэр? Если когда-либо был случай…
— Какой смысл? Она здесь, он там, они отделены друг от друга Атлантическим океаном. Она никогда не получит из своих денег ни единого доллара сверх того, что он ей добровольно возвратил, — все это точно оговаривается в их отвратительных брачных контрактах.
По тамошним понятиям, Оленский поступил великодушно — он мог вообще оставить ее без гроша. Арчеру это было известно, и он промолчал.
— Сколько я понимаю, она не придает значения деньгам, — продолжал мистер Леттерблер. — Так зачем — по выражению ее родни — зачем же лезть на рожон?
Всего лишь час назад Арчер, направляясь к мистеру Леттерблеру, полностью разделял его точку зрения, но когда этот упитанный, эгоистичный и в высшей степени равнодушный старик облек ее в слова, в них вдруг зазвучал фарисейский голос общества, поглощенного лишь тем, как бы оградить себя от неприятностей.
— Мне кажется, что этот вопрос должна решать она сама.
— Гм, гм… А вы отдаете себе отчет в возможных последствиях, если она решит настаивать на разводе?
— Вы имеете в виду угрозу в письме ее мужа? Какое; это может иметь значение? Это не более чем весьма неопределенное обвинение злобного мерзавца.
— Да, но если он предъявит встречный иск, это может вызвать неприятные толки.
— Неприятные толки! — взорвался Арчер.
Мистер Леттерблер посмотрел на него из-под вопросительно поднятых бровей, и молодой человек, понимая, что все попытки обосновать свою точку зрения бесполезны, поклонился в знак согласия со старшим компаньоном, который между тем продолжал:
— Развод всегда неприятен, — и, не дождавшись ответа, заключил: — Вы согласны?
— Разумеется, — сказал Арчер.
— Следовательно, я могу рассчитывать и Минготты тоже могут рассчитывать, что вы постараетесь убедить ее отказаться от этого намерения?
— Я не могу брать на себя никаких обязательств, прежде чем не повидаюсь с графиней Оленской, — неуверенно ответил Ньюленд.
— Я не понимаю вас, мистер Арчер. Неужели вы хотите вступить в семью, которой грозит скандальный бракоразводный процесс?
— Не вижу, какое это имеет отношение к моей женитьбе.
Мистер Леттерблер поставил на стол бокал с портвейном и вперил в своего младшего партнера хмурый предостерегающий взгляд.
Арчер понял, что рискует лишиться данных ему полномочий, и по какой-то непонятной причине перспектива эта отнюдь его не обрадовала. Раз уж ему навязали это поручение, он не собирался от него отказываться, и ему стало ясно, что, если он хочет оградить себя от такой возможности, необходимо успокоить лишенного всякого воображения старика, который олицетворял юридическую совесть Минготтов.
— Не беспокойтесь, сэр, я не свяжу себя никакими обязательствами, не посоветовавшись с вами. Я только хотел сказать, что предпочитаю не высказывать свое мнение, прежде чем не выслушаю госпожу Оленскую.
Мистер Леттерблер кивнул головой в знак одобрения столь неумеренной, но зато достойной лучших нью-йоркских традиций осторожности, и молодой человек, посмотрев на часы и сославшись на деловое свидание, поспешил откланяться.
12
Старомодный Нью-Йорк обедал в семь часов, и обычай наносить послеобеденные визиты, хотя и осмеянный в кругу Арчера, все еще сохранялся. Когда молодой человек шел от Уэверли-плейс по 5-й авеню, эта обычно оживленная длинная улица была совершенно пуста, если не считать нескольких карет, стоявших у дома Реджи Чиверса (где давали обед в честь герцога), да одиноких фигур закутанных в теплые пальто и шарфы пожилых джентльменов, поднимавшихся в подъезды коричневых особняков и исчезавших в освещенных газом прихожих. Переходя Вашингтон-сквер, Арчер заметил старого мистера дю Лака, который шел навестить своих кузенов Дэгонетов, а, миновав угол Западной 10-й улицы, увидел своего коллегу мистера Скипуорта — тот, несомненно, направлялся к барышням Лэннинг. Немного дальше по 5-й авеню Бофорт темным силуэтом появился на фоне ярко освещенных дверей своего дома, вышел на улицу, сел в собственную карету и укатил в неизвестном и весьма подозрительном направлении. В этот вечер оперы не давали, званых вечеров ни у кого не было, так что прогулка Бофорта была, без сомнения, тайной. Арчер мысленно связал ее с небольшим домиком на Лексингтон-авеню, на окнах которого недавно появились шторы С бантами и ящики с цветами, а у свежеокрашенных дверей часто можно было увидеть стоящую в ожидании хозяйки канареечно-желтую коляску мисс Фанни Ринг.
За маленькой скользкой пирамидой, составлявшей мир миссис Арчер, простиралась малоизученная местность, где обитали художники, музыканты и «пишущая братия». Эти беспорядочно разбросанные осколки человечества никогда не выказывали ни малейшего желания занять место в общественном здании. Несмотря на свой странный образ жизни, они по большей части считались людьми вполне респектабельными, но предпочитали держаться друг друга. Медора Мэнсон в годы своего процветания устроила у себя «литературный салон», но он вскоре прекратил существование, ибо литераторы упорно не желали его посещать.
Подобные попытки предпринимали и другие, а у Бленкеров — семейства, состоявшего из энергичной говорливой мамаши и трех упитанных, во всем подражавших ей дочек, — можно было встретить Эдвина Бута,[88] Патти,[89] Уильяма Винтера[90] и Джорджа Ригнольда[91] — нового актера, игравшего в пьесах Шекспира, редакторов некоторых журналов, а также музыкальных и литературных критиков.
Миссис Арчер и ее окружение несколько робели перед этими личностями. Они были необычайными, они были ненадежными, в их жизни и в их умах таилось много неведомого. В кругу Арчера питали глубокое уважение к литературе и искусству, и миссис Арчер без устали твердила детям, насколько более приятным и утонченным было общество, когда в нем вращались такие знаменитости, как Вашингтон Ирвинг,[92] Фитц Грин Галлек[93] и автор «Преступного эльфа».[94] Наиболее выдающиеся писатели этого поколения были джентльменами; никому не известные люди, которые их сменили, быть может, и испытывали чувства, свойственные джентльменам, но их происхождение, их внешний вид, их прически, их близость к оперной и драматической сцене не позволяли применить к ним какие-либо принятые в старом Нью-Йорке мерки.
— Когда я была девицей, — рассказывала миссис Арчер, — мы знали обо всех, кто жил между Бэттери и Кэнел-стрит, и собственные кареты были только у наших знакомых. В то время очень легко было определить место каждого в обществе, а теперь понять ничего невозможно, и я даже и не пытаюсь.
Одна лишь старуха Кэтрин Мэнсон, совершенно лишенная предрассудков и, напротив, наделенная свойственным выскочкам пренебрежением к тонким нюансам, могла бы перебросить мост через эту пропасть, но она за всю свою жизнь не прочитала ни единой книги, не взглянула ни на одну картину, а музыкой интересовалась лишь постольку, поскольку та напоминала ей гала-представления Итальянского театра[95] в дни ее блистательных побед в Тюильри. Бофорту, который не уступал ей в дерзости, быть может, удалось бы осуществить это слияние, но его роскошный особняк и облаченные в шелковые чулки лакеи никак не способствовали непринужденности атмосферы. Более того, он был столь же невежественным, сколь и сама старуха Минготт, и считал, что «пишущая братия» существует лишь для развлечения богачей, и никто из этих последних ни разу не употребил своего влияния, чтобы его в этом разуверить.
Зная обо всех этих обстоятельствах с тех пор, как он себя помнил, Ньюленд Арчер считал их неотъемлемой частью мироздания. Ему было известно, что есть страны, где знакомства с художниками, поэтами, романистами, учеными и даже с великими актерами домогаются не меньше, чем знакомства с герцогами; он часто рисовал себе атмосферу, царящую в обществе, где гости собираются с единственной целью послушать речи Мериме (чьи «Письма к незнакомке»[96] были одной из его настольных книг), Теккерея, Браунинга[97] и Уильяма Морриса.[98] Но в Нью-Йорке что-либо подобное было просто немыслимо, и думать об этом значило лишь вывести себя из равновесия. Арчер был знаком со многими литераторами, художниками и музыкантами, он встречался с ними в клубе «Сенчери»[99] или в маленьких музыкальных и театральных клубах, которые начинали появляться в Нью-Йорке. Там ему было с ними интересно, тогда как у Бленкеров, где они попадали в окружение экспансивных, неряшливо одетых женщин, которые бесцеремонно их разглядывали, он скучал, и даже после самых увлекательных бесед с Недом Уинсеттом у него всякий раз появлялось чувство, что если его мир ограничен и узок, то их мир ничуть не шире, и что расширить и тот, и другой можно будет лишь тогда, когда нравы достигнут такого уровня, при котором оба естественно сольются друг с другом.
Он думал об этом, пытаясь представить себе общество, в котором графиня Оленская жила, страдала и — быть может — вкусила тайных наслаждений. Он вспомнил, с каким юмором она живописала ему недовольство бабушки Минготт и Велландов по поводу ее жизни в «богемном» квартале, где обитает «пишущая братия». Родственников беспокоили, разумеется, не столько опасности, сколько нищета, но этот оттенок от нее ускользнул, и ей казалось, будто они считают, что мир литературы может ее скомпрометировать.
Сама она этого нисколько не боялась, и книги, в беспорядке разбросанные по гостиной (где держать книги обычно считалось «неуместным»), большей частью романы, раздразнили любопытство Арчера новыми для него именами авторов — Поля Бурже,[100] Гюисманса[101] и братьев Гонкур.[102] Размышляя обо всем этом по дороге к ее дому, он еще раз почувствовал, что она сумела каким-то удивительным образом перевернуть вверх дном все его понятия и что, если он хочет помочь ей в ее теперешних затруднениях, ему необходимо войти во все подробности жизни, столь отличной от всего, что он до сих пор знал.
Настасия, таинственно улыбаясь, открыла ему дверь. На стуле в прихожей лежала соболья шуба, сложенный шапокляк из матового шелка с золотыми инициалами «Дж. Б.» на подкладке и белый шелковый шарф — вещи, не оставлявшие сомнения в том, что они принадлежат Джулиусу Бофорту.
Арчер рассердился — рассердился настолько, что готов был черкнуть на своей карточке несколько слов и уйти, но потом вспомнил, что в записке к госпоже Оленской он от излишней вежливости не упомянул, что хочет говорить с нею наедине. Поэтому, если она принимала других, винить ему было некого, кроме самого себя, и молодой человек вошел в гостиную с твердым намерением дать понять Бофорту, что тот здесь лишний, и дождаться его ухода.
Банкир стоял, прислонившись спиною к каминной доске, покрытой старинной вышитой дорожкой, на которой красовались медные канделябры с церковными свечами желтоватого воска. Выпятив грудь, он всей своей тяжестью оперся на ногу в большом лакированном башмаке. Когда Арчер вошел в комнату, Бофорт с улыбкой смотрел сверху вниз на хозяйку, которая сидела на диване, стоявшем под прямым углом к камину. Позади находился уставленный цветами стол, и на фоне орхидей и азалий, в которых молодой человек безошибочно признал дары Бофортовых теплиц, госпожа Оленская сидела, откинувшись на спинку дивана и опустив голову на обнаженную до локтя руку в широком рукаве.
Вечером дамы обыкновенно принимали в «простых обеденных платьях» — тесных шелковых кольчугах с китовым усом, с кружевами вокруг высокого выреза и узкими сборчатыми рукавами, открывавшими руку ровно настолько, сколько требовалось, чтобы разглядеть этрусский золотой браслет или бархотку. Но госпожа Оленская, пренебрегая традицией, была в длинном свободном платье из красного бархата с блестящим черным мехом, который до самого подбородка закрывал ей шею и спускался по переду вниз. Арчер вспомнил виденный им во время последней поездки в Париж портрет кисти нового живописца, Каролюса Дюрана[103] (чьи картины произвели сенсацию в Салоне[104]), изображавший даму в смелом, облегающем фигуру платье с мехом по вороту. Мех в жарко натопленной гостиной и закрытая шея при обнаженных руках наводили на мысль о чем-то порочном и соблазнительном, но общее впечатление было, несомненно, приятным.
— Великий боже — целых три дня в Скайтерклиффе! — громким насмешливым голосом воскликнул Бофорт, когда Арчер вошел в комнату. — Не забудьте захватить все свои меха и грелку.
— Зачем? Разве дом такой холодный? — спросила графиня, протягивая Арчеру левую руку и как бы давая понять, что ждет поцелуя.
— Нет, но зато там холодная хозяйка, — отвечал Бофорт, небрежно кивнув молодому человеку.
— Но она показалась мне такой доброй. Она сама приезжала меня пригласить. Бабушка говорит, что я непременно должна ехать.
— Бабушка может говорить что хочет. А я говорю, просто скандал, что вы не приедете на скромный ужин с устрицами, который я собирался дать в честь вашего приезда в воскресенье у Дельмонико.[105] Там будут Кампанини,[106] Скалчи[107] и множество других занятных людей.
Она перевела полный сомнений взгляд с банкира на Арчера.
— Ах, это так заманчиво! С тех пор как я здесь, я после того вечера у миссис Стразерс не видела никого из мира изящных искусств.
— О каком виде искусства вы говорите? Я знаком кое с кем из художников, это очень милые люди, и, если позволите, могу привести их к вам, — смело сказал Арчер.
— Из художников? Разве в Нью-Йорке есть художники? — спросил Бофорт таким тоном, который следовало понять как намек, что раз он не покупает картин этих художников, значит, их попросту не существует, а госпожа Оленская, улыбнувшись своею грустною улыбкой, обратилась к Арчеру:
— Это было бы чудесно. Но я имела в виду артистов драмы, певцов и музыкантов. Мой муж всегда их к нам приглашал.
Она произнесла слова «мой муж» таким тоном, как будто они вызывали у нее не. зловещие ассоциации, а, напротив, чуть ли не вздохи сожаления по утраченным радостям замужества. Арчер посмотрел на нее в полной растерянности, дивясь то ли притворству, то ли безразличию, которые позволяли ей с такою легкостью касаться прошлого в ту самую минуту, когда, стремясь навсегда с ним покончить, она готова была поставить на карту свое доброе имя.
— Я уверена, что imprévu[108] лишь увеличивает удовольствие, — продолжала она, обращаясь к обоим мужчинам. — Вероятно, большая ошибка каждый день встречаться с одними и теми же людьми.
— Это, во всяком случае, дьявольски скучно; Нью-Йорк умирает от скуки, — проворчал Бофорт, — а когда я пытаюсь вас развеселить, вы меня подводите. Надеюсь, вы еще передумаете. Воскресенье — последний шанс увидеть Кампанини, на будущей неделе он уезжает в Балтимору и Филадельфию, а я заказал отдельный кабинет с роялем Стейнвея, и они весь вечер будут для меня петь.
— Какая прелесть! Можно, я подумаю и завтра утром вам напишу?
Она сказала это очень любезно, но в голосе ее все же прозвучал еле заметный намек на то, что она ждет его ухода. Бофорт, очевидно, это почувствовал, но он не привык, чтобы его выпроваживали, а потому не двинулся с места и, упрямо нахмурив брови, продолжал на нее смотреть.
— Почему не сейчас?
— Это слишком серьезный вопрос, чтобы решать его так поздно.
— По-вашему, уже поздно?
Она холодно ответила на его взгляд.
— Да, потому что мне еще надо немножко поговорить по делу с мистером Арчером.
— Вот как! — отрезал Бофорт. Не уловив в ее тоне извинения, он слегка пожал плечами, со свойственной ему самоуверенностью взял руку графини, привычным движением поднес ее к губам и, крикнув с порога: — Послушайте, Ньюленд, если вам удастся убедить графиню остаться в городе, вы, разумеется, тоже приглашены, — своей солидной, тяжелой поступью вышел из комнаты.
На мгновенье Арчеру показалось, будто мистер Леттерблер предупредил графиню о его приходе, но ее следующие слова прозвучали так неожиданно, что он тотчас убедился в своей ошибке.
— Вы знакомы с художниками? Вы вращаетесь в их среде? — спросила она, с любопытством глядя на него.
— О нет. Я не думаю, чтобы здесь, в Нью-Йорке, существовала какая-то артистическая среда, они скорее составляют тонкий поверхностный слой.
— Но вы интересуетесь искусством?
— Очень. Бывая в Париже или в Лондоне, я никогда не пропускаю ни одной выставки. Я стараюсь не отставать от века.
Она опустила глаза на кончик атласной туфельки, выглядывавшей из-под ее длинных юбок.
— Я тоже очень интересовалась такими вещами, моя жизнь была полна ими. Но теперь я стараюсь все это забыть.
— Забыть?
— Да. Я хочу отбросить всю свою прежнюю жизнь и стать такою, как все здесь.
Арчер покраснел.
— Вы никогда не станете такой, как все. Она слегка приподняла прямые брови.
— Ах, не говорите так! Если бы вы только знали, как мне тяжело, что я так отличаюсь от других!
Лицо ее стало мрачным, как трагическая маска. Она наклонилась вперед, тонкими руками обхватила колени и, отвернувшись от гостя, вперила взор в неведомую темную даль.
— Я хочу уйти от всего этого, — повторила она. Он помолчал и откашлялся.
— Я знаю. Мистер Леттерблер мне говорил.
— Правда?
— Потому-то я и пришел. Он просил меня… Видите ли, я состою в фирме…
Она удивленно посмотрела на него. Потом глаза ее просияли.
— Вы хотите сказать, что можете мне помочь? Я могу говорить с вами, а не с мистером Леттерблером? О, это будет гораздо легче!
Слова ее растрогали Арчера. Он понял, что она сказала Бофорту о делах, чтоб от него отделаться, а заставить Бофорта отступить уже само по себе было немалой победой, и довольство собой придало ему уверенности.
— Я здесь для того, чтобы об этом поговорить, — повторил он.
Она сидела молча, по-прежнему опустив голову на руку, лежавшую на спинке дивана. Лицо ее казалось бледным и угасшим, словно яркий цвет платья приглушил на нем все краски. Она вдруг показалась Арчеру несчастной и даже жалкой.
«Теперь мы подходим к жестоким фактам», — подумал он, чувствуя, что его охватывает то же самое инстинктивное отвращение, которое он так часто осуждал в матери и ее сверстниках. Как редко ему приходилось сталкиваться с необычными ситуациями! Он даже не знал, какими словами о них говорить, ибо слова эти, казалось, принадлежали изящной литературе и сцене. От того, что должно было сейчас произойти, он чувствовал себя неловким и смущенным, как мальчишка.
Помолчав, госпожа Оленская неожиданно разразилась страстной тирадой.
— Я хочу быть свободной, я хочу стереть все прошлое!
— Я вас понимаю. Лицо ее смягчилось.
— Значит, вы мне поможете?
— Прежде всего, — нерешительно начал он, — я, вероятно, должен знать немного больше подробностей…
Она казалась удивленной.
— Но вы ведь знаете о моем муже… о моей жизни с ним?
Он утвердительно кивнул.
— Тогда… тогда о чем же еще говорить? Разве в нашей стране такие вещи допустимы? Я протестантка, наша церковь в таких случаях не запрещает развода.
— Разумеется, нет.
Оба опять замолчали, и Арчер мысленно увидел, как между ними возник отвратительно ухмыляющийся призрак графа Оленского. Письмо его, размером всего в полстраницы, было именно тем, что он в разговоре с мистером Леттерблером назвал весьма неопределенным обвинением злобного мерзавца. Но есть ли в нем хотя бы доля правды? На этот вопрос могла ответить только жена графа.
— Я просмотрел бумаги, которые вы передали мистеру Леттерблеру, — проговорил он наконец.
— Можно ли представить себе что-либо более отвратительное?
— Нет.
Слегка изменив позу, она прикрыла рукою глаза.
— Вам, разумеется, известно, — продолжал Арчер, — что, если ваш муж захочет предъявить встречный иск… как он грозится…
— И что тогда?
— Он может сказать что-нибудь… что-нибудь непр… что может оказаться для вас нежелательным… сказать публично, так что это может вызвать толки и повредить вам, даже при условии…
— При каком условии?
— Я хочу сказать — даже при условии, что это ни на чем не основано.
Она погрузилась в долгое молчание, такое долгое, что он, отведя глаза от ее затененного лица, имел достаточно времени, чтобы запечатлеть в памяти форму другой ее руки — той, что лежала на коленях, и подробно изучить надетые на безымянный палец и мизинец три кольца, из которых ни одно не было обручальным.
— Какой вред могут причинить мне подобные обвинения здесь — даже если он произнесет их публично?
С губ Арчера готовы были сорваться слова: «Бедная девочка, гораздо больший, чем где бы то ни было!», но вместо этого голосом, который даже в его собственных ушах прозвучал совсем как голос мистера Леттерблера, он ответил:
— По сравнению с тем миром, в котором вы жили, нью-йоркское общество — узкий мирок. И — вопреки всякой видимости — им управляет маленькая кучка людей с весьма… как бы это сказать… с весьма старомодными понятиями.
Она ничего не ответила, и он продолжал:
— Наши понятия о браке и разводе особенно старомодны. Наше законодательство развод одобряет, наши обычаи — нет.
— Ни при каких обстоятельствах?
— Гм… во всяком случае, если женщина — пусть даже обиженная, пусть даже безупречная — может навлечь на себя хоть малейшее подозрение, если она хоть в чем-то преступила условности и тем дала повод для… для оскорбительных инсинуаций…
Она еще ниже опустила голову, и он снова со страстной надеждой ожидал хотя бы вспышки гнева, хотя бы короткого возгласа негодования. Но ни того, ни другого не последовало.
Возле нее тихонько тикали маленькие дорожные часики, потом, вспыхнув россыпью искр, разломилось надвое горящее полено. Вся затихшая в раздумье комната, казалось, молча ждала вместе с Арчером.
— Да, — прошептала наконец госпожа Оленская, — то же самое говорят мне мои родственники.
Он слегка поморщился.
— Вполне естественно…
— Наши с вами родственники, — поправилась она, и Арчер покраснел. — Вы ведь скоро станете моим кузеном, — мягко добавила она.
— Надеюсь.
— И вы разделяете их мнение?
Вместо ответа он встал, прошелся по комнате, вперил невидящий взгляд в одну из картин, висящих на красном камчатном полотне, и нерешительно возвратился к графине. Разве он мог сказать ей: «Да, если намеки вашего мужа справедливы или если вы не можете их опровергнуть»?
— Скажите искренне… — неожиданно проговорила она, видя, что он собирается что-то сказать.
Он посмотрел в огонь.
— Вполне искренне — что может возместить ущерб, который, вероятно — нет, несомненно, — причинят вам гнусные сплетни?
— Свобода — разве она не стоит того?
В эту минуту у него мелькнула мысль, что содержащееся в письме обвинение справедливо и что она надеется выйти замуж за соучастника своего греха. Как объяснить ей, что, если она и в самом деле строит такие планы, законы государства категорически это запрещают? Даже тень подозрения, что она могла об этом думать, вызвала у него досаду и неприязнь к ней.
— Но вы ведь и без того свободны как ветер, — возразил он. — Кто посмеет вас тронуть? Мистер Леттерблер сказал мне, что финансовый вопрос разрешен…
— Да, да, — безучастно подтвердила она.
— Так зачем же навлекать на себя бесконечные неприятности и страдания? Подумайте о газетах — как они низки! Все это глупо, ограниченно, несправедливо — но ведь общество нам не переделать.
— Нет, — согласилась она, но голос ее прозвучал так слабо и горько, что он вдруг устыдился своих жестоких мыслей.
— Личность в таких случаях почти всегда приносят в жертву так называемой общественной пользе; люди цепляются за любую условность, которая сохраняет семью и защищает интересы детей, если таковые имеются, — скороговоркой бормотал он, нагромождая друг на друга все избитые фразы, которые приходили ему на ум, и страстно желая прикрыть ими уродливую действительность, которую, казалось, обнажило ее молчание. Оттого, что она не хотела или не могла произнести то единственное слово, которое разрядило бы атмосферу, он старался не дать ей почувствовать, будто пытается проникнуть в ее тайну. Лучше осторожно скользить по поверхности в стиле старого Нью-Йорка, нежели рисковать открыть рану, которую он не в силах исцелить.
— Вы понимаете, что я обязан помочь вам увидеть эти обстоятельства в том свете, в каком видят их все, кто вас нежно любит: Минготты, Велланды, ван дер Лайдены, все ваши друзья и родные. Было бы нечестно, если б я не объяснил вам, как они судят о подобных вещах. — Он настаивал, он чуть ли не молил ее, стремясь во что бы то ни стало перекинуть мост через зияющую пропасть молчания.
— Да, это было бы нечестно, — медленно проговорила она.
Угли в камине затянуло серым пеплом, одна из ламп, всхлипнув, потребовала к себе внимания. Госпожа Оленская встала, подкрутила фитиль, вернулась к камину и осталась стоять.
Поза ее, очевидно, означала, что говорить им больше не о чем, и Арчер тоже поднялся.
— Ну что ж, я сделаю так, как вы хотите, — отрывисто произнесла она.
Кровь прилила к лицу молодого человека. Ошеломленный внезапной капитуляцией собеседницы, он неловко схватил ее за руки.
— Я… я очень хотел бы помочь вам… — сказал он.
— Вы и так мне уже помогли. Доброй ночи, милый кузен.
Наклонившись, он коснулся губами ее рук, безжизненных и холодных. Она отняла их, он повернулся к дверям, вышел в прихожую, под тусклым светом газовой горелки отыскал пальто и шляпу и шагнул в зимнюю ночь, полный слов, которых не посмел произнести.
13
Театр Уоллока[109] был переполнен. Давали «Шогрэна» Диона Бусико.[110] Главную роль играл автор, роли любовников — Гарри Монтегю и Ада Диас.[111] Популярность великолепной английской труппы достигла апогея, и «Шогрэн» всегда приносил полные сборы. Восторгу галерки не было границ, в партере и в ложах слегка посмеивались над пошлыми сантиментами и рассчитанными на дешевый эффект ситуациями, но наслаждались представлением не меньше, чем на галерке.
Особенно захватила весь театр снизу доверху сцена, в которой Монтегю после грустного, почти односложного прощания с мисс Диас говорит ей «до свиданья» и уходит. На актрисе, которая, глядя в огонь, стояла у камина, было серое кашемировое платье без модных лент и украшений, облегавшее ее высокую фигуру и длинными складками ниспадавшее к ногам. Концы повязанной вокруг шеи узкой черной бархотки спускались на спину.
Когда любовник пошел к выходу, она оперлась о каминную полку и опустила голову на руки. На пороге он обернулся, чтобы еще раз на нее взглянуть, прокрался назад, поднял концы бархотки, поцеловал их и вышел так тихо, что она ничего не слышала и даже не изменила позы. И за этим немым прощанием занавес тотчас опустился.
Ньюленд Арчер всегда ходил на «Шогрэна» только ради этой сцены. Он считал, что последнее прости Монтегю и Ады Диас ничем не уступает игре Круазет и Брессана,[112] которых он видел в Париже, или Мэдж Робертсон[113] и Кендалла в Лондоне; своею сдержанностью и немой скорбью оно трогало его глубже, чем самые неистовые сценические излияния.
Нынче вечером эта сцена приобрела особую остроту, напомнив ему — чем, он не мог бы сказать и сам, — его расставанье с госпожою Оленской после их откровенного разговора неделю назад.
Найти что-либо общее между этими двумя сценами было так же трудно, как уловить сходство во внешности их участников. Ньюленд Арчер никак не мог претендовать на романтическую красоту молодого английского актера, а мисс Диас была высокой рыжей женщиной монументального сложения, чья бледная, забавно уродливая физиономия ничем не напоминала живые черты Эллен Оленской. К тому же Арчер и госпожа Оленская были отнюдь не расстающимися в душераздирающем молчании любовниками, а всего лишь адвокатом и клиенткой, которые разошлись после беседы, оставившей у адвоката прескверное впечатление о деле этой клиентки. В чем же тогда заключалось сходство, которое заставило сердце молодого человека отчаянно забиться при воспоминании об их последнем разговоре? Очевидно, в присущей госпоже Оленской загадочной способности открывать трагические, бередящие душу возможности, таящиеся где-то за пределами повседневной жизни. Она не сказала ему ни единого слова, которое могло бы создать такое впечатление о ней; свойство это скорее составляло часть ее натуры, было отражением ее таинственного, загадочного прошлого или чего-то драматического, страстного и необычного, скрытого в ней самой. Арчер всегда склонялся к мысли, что случай и обстоятельства играют в жизни людей роль весьма незначительную по сравнению с врожденной предрасположенностью к тому или иному повороту событий. Подобную предрасположенность он с первого взгляда почувствовал в госпоже Оленской. Спокойная, почти пассивная, она показалась ему именно такой женщиной, с которой непременно должны происходить всевозможные события, как бы она их ни избегала, как бы ни старалась от них уклониться. Она, очевидно, жила в атмосфере, настолько насыщенной драматическими коллизиями, что ее собственная склонность их вызывать просто осталась незамеченной. Странная неспособность удивляться как раз и внушала ему уверенность, что ее выхватили прямо из водоворота, и то, что она принимала как должное, позволило ему правильно оценить то, против чего она восставала.
Арчер ушел от нее совершенно убежденный, что обвинение графа отнюдь не было необоснованным. Таинственное лицо, которое фигурировало в прошлом его жены под видом «секретаря», едва ли осталось без награды за участие в ее бегстве. Жизнь, от которой она бежала, была невыносима, ее невозможно было описать, невозможно даже себе представить. Она была молода, она была напугана, она была доведена до отчаяния — разве не естественно предположить, что она отблагодарит своего спасителя? К сожалению, с точки зрения закона и света, благодарность эта низводила ее до уровня ее отвратительного супруга. Арчер, как от него и требовалось, дал ей это понять, дал он понять ей также и то, что простодушный и доброжелательный Нью-Йорк, на снисхождение которого она, без сомнения, рассчитывала, был именно тем местом, где она меньше всего могла надеяться на терпимость.
Разъяснить ей это обстоятельство и увидеть, как покорно она с ним примирилась, было ему невыносимо тяжело. Он чувствовал, как его влечет к ней смутное чувство жалости и тревоги за нее, словно, молча признавшись в своей ошибке, она подпала под его власть, униженная, но милая его сердцу. Он был рад, что ее тайна открылась ему, а не холодному испытующему взгляду Леттерблера или испуганным глазам ее родственников. Он немедленно взял на себя миссию убедить и его, и их, что она отказалась от мысли о разводе, что решение ее основано на понимании всей бесполезности этого предприятия, и все они с чувством бесконечного облегчения отвели свои взоры от «неприятностей», от которых она их избавила.
— Я не сомневалась, что Ньюленд сумеет это сделать, — гордо сказала миссис Велланд о своем будущем зяте, а старая миссис Минготт пригласила его для конфиденциальной беседы, похвалила за ум и с досадой добавила:
— Дурочка! Я же говорила ей, что нелепо выдавать себя за старую деву по имени Эллен Минготт, когда она имеет счастье быть замужней дамой и графиней!
Все это так живо воскресило в памяти молодого человека его последний разговор с госпожою Оленской, что, когда вслед за прощаньем обоих актеров занавес опустился, глаза его наполнились слезами, и он встал, намереваясь покинуть театр.
Уходя, он обернулся назад и увидел, что дама, о которой он только что думал, сидит в ложе с Бофортами, Лоренсом Леффертсом и еще двумя или тремя мужчинами. С того вечера он ни разу с ней не говорил, а в обществе старался не оставаться с нею наедине, но теперь их взгляды встретились, а так как миссис Бофорт тоже его узнала и томным жестом пригласила к себе в ложу, он уже не мог туда не пойти.
Бофорт и Леффертс пропустили его вперед, и, обменявшись несколькими словами с миссис Бофорт, которая всегда предпочитала быть прекрасной и молчать, Арчер сел позади госпожи Оленской. В ложе не было больше никого, кроме мистера Силлертона Джексона, который таинственным шепотом рассказывал миссис Бофорт о приеме, состоявшемся в прошлое воскресенье у миссис Лемюэл Стразерс (где, как говорили, были танцы). Воспользовавшись этим обстоятельным рассказом, которому миссис Бофорт внимала, улыбаясь своею ослепительной улыбкой и держа голову под таким углом, чтобы из партера был виден ее профиль, госпожа Оленская обернулась к Арчеру и, бросив взгляд на сцену, тихо спросила:
— Как вы думаете, пришлет он ей завтра утром букет желтых роз?
Арчер покраснел, и сердце его от неожиданности затрепетало. Он лишь дважды был с визитом у госпожи Оленской и оба раза посылал ей коробку желтых роз, причем оба раза без карточки. Раньше она не упоминала о цветах и, как он думал, не знала, что они от него. То, что теперь она вдруг вспомнила о подарке и связала его с трогательным прощанием на сцене, повергло его в приятное волнение.
— Я тоже об этом думал… я хотел уйти из театра, чтоб унести с собой эту картину, — отозвался он.
К его удивлению, лицо ее залилось темным румянцем. Она опустила глаза на перламутровый бинокль, который держала рукою в перчатке, и, помедлив, спросила:
— Чем вы занимаетесь в отсутствие Мэй?
— Работой, — отвечал он, слегка раздосадованный этим вопросом.
По давно установившейся привычке Велланды еще на прошлой неделе уехали в Сент-Огастин,[114] где они из-за мифической болезни бронхов мистера Велланда всегда проводили конец зимы. Мистер Велланд, добродушный молчаливый человек, не имел никаких мнений, но зато имел множество привычек. Одна из этих привычек, которым никто не смел перечить, состояла в том, что жена и дочь обязаны были всегда сопровождать его в ежегодных поездках на юг. Целостность семейного очага составляла непременное условие его душевного равновесия, и, если бы при нем постоянно не находилась миссис Велланд, он не знал бы, где лежат его щетки для волос и как раздобыть почтовые марки.
Все члены семьи обожали друг друга, но главным предметом их обожания был мистер Велланд, и потому ни миссис Велланд, ни Мэй никогда не пришло бы в голову отпустить его одного в Сент-Огастин, а оба его сына — они служили по юридической части и не могли зимой отлучаться из Нью-Йорка — всегда приезжали к нему на пасху и увозили его домой.
Вопрос о том, должна ли Мэй сопровождать отца, не подлежал обсуждению. Репутация домашнего врача Минготтов в большой степени зиждилась на воспалении легких, которого у мистера Велланда никогда не было, и потому он категорически настаивал на поездках в Сент-Огастин. Вначале предполагалось отложить оглашение помолвки Мэй до тех пор, пока она не вернется из Флориды, и то, что оно состоялось раньше, едва ли могло изменить планы мистера Велланда. Арчер охотно присоединился бы к путешественникам и провел несколько недель на солнце, катаясь на лодке со своею невестой, но и он был связан условностями и обычаями. Если б он — несмотря на необременительность своих служебных обязанностей — вздумал просить отпуска в середине зимы, весь минготтовский клан обвинил бы его в легкомыслии, и он принял отъезд Мэй с покорностью, которая, как он начинал понимать, составляла один из главных элементов супружеской жизни.
Он почувствовал, что госпожа Оленская смотрит на него из-под полуопущенных век.
— Я сделала, как вы хотели… как вы советовали, — отрывисто произнесла она.
— А… я очень рад, — отозвался он, смущенный тем, что она заговорила на эту тему в столь неподходящий момент.
— Я понимаю… что вы были правы, — слегка задыхаясь, продолжала она, — но жизнь порою так тяжела… так запутанна…
— Да, это верно.
— И я хотела сказать вам, что вы действительно были правы и что я вам очень благодарна, — закончила она, быстро поднеся к глазам бинокль, когда дверь отворилась и они услышали зычный голос Бофорта.
Арчер встал и покинул ложу и театр.
Он только накануне получил письмо от Мэй Велланд, в котором она со свойственной ей прямотою просила его в ее отсутствие «быть внимательным к Эллен». «Она так хорошо к вам относится, так вами восхищается, и, знаете, хотя она этого и не показывает, она все еще очень одинока и несчастна. По-моему, бабушка ее не понимает и дядя Лавел Минготт тоже; им кажется, что она гораздо более светская и гораздо больше любит общество, чем на самом деле. А я вижу, что Нью-Йорк должен казаться ей скучным, хотя родственники с этим и не согласны. Я думаю, что она привыкла ко многим вещам, которых у нас нет, — к хорошей музыке, к выставкам картин и к знаменитостям — к художникам, писателям и к другим умным людям, которыми вы восхищаетесь. Бабушка никак не может понять, что ей нужны не только званые обеды и наряды, но я знаю, что вы чуть ли не единственный человек во всем Нью-Йорке, кто может говорить с ней о том, что ей действительно интересно».
Умница Мэй! Как его тронуло это письмо! Однако он не намеревался выполнять ее просьбу — во-первых, он был очень занят, а кроме того, будучи женихом, совсем не хотел слишком уж явно выступать в роли покровителя госпожи Оленской. Он считал, что она сумеет гораздо лучше постоять за себя, чем воображала простодушная Мэй. У ее ног был Бофорт; над ней, словно ангел-хранитель, витал мистер ван дер Лайден, а в отдалении только и ждали удобного случая другие охотники добиться ее благосклонности (в том числе и Лоренс Леффертс).
Но всякий раз, когда он с нею разговаривал или просто ее встречал, он чувствовал, что простодушие Мэй на самом деле граничит с ясновиденьем. Эллен Оленская и впрямь была одинока и несчастна.
14
Вфойе Арчер натолкнулся на своего друга Неда Уинсетта, единственного из всех его «умных людей», как называла их Джейни, в разговорах с которым он пытался проникнуть в суть вещей несколько глубже, чем было принято в клубе и в ресторанах.
Он еще в зрительном зале разглядел потертую спину и покатые плечи Уинсетта и обратил внимание, что тот бросил взгляд на ложу Бофорта. Они пожали друг другу руки, и Уинсетт предложил выпить пива в немецком кабачке за углом. Арчер, отнюдь не расположенный к разговорам, которые наверняка ожидали их там, отказался под предлогом, что ему надо еще поработать дома, и Уинсетт сказал:
— Да, мне, пожалуй, это бы тоже не помешало. Они пошли пешком по улице, и вскоре Уинсетт спросил:
— Послушайте, кто эта смуглая дама,[115] которая сидит в вашей шикарной ложе? Если я не ошибаюсь, она там с Бофортами. Та, что поразила в самое сердце вашего друга Леффертса.
Арчер — сам не зная почему — был слегка раздосадован. Какого черта Уинсетту понадобилась Эллен Оленская? А главное, почему он связал ее с Леффертсом? Подобное любопытство совсем не в духе Уинсетта, но ведь он, в конце концов, журналист.
— Надеюсь, вы не собираетесь брать у нее интервью? — засмеялся он.
— Возможно, но не для печати, а для себя лично, — отвечал Уинсетт. — Дело в том, что она живет рядом со мной (довольно странный квартал для такой красавицы) и на днях очень ласково обошлась с моим сынишкой — он гнался за котенком, забежал к ней во двор, упал и сильно порезал ногу. Она примчалась к нам без шляпы, принесла мальчика на руках, перевязала ему колено и была до того добра и очаровательна, что моя жена от изумления даже не спросила, как ее зовут.
У Арчера потеплело на душе. В рассказе Уинсетта не было ничего особенного — любая женщина поступила бы точно так же с соседским ребенком. Но это было уж очень похоже на Эллен — примчаться без шляпы, принести мальчика на руках и до такой степени изумить бедную миссис Уинсетт, что та забыла спросить, кто она такая.
— Это графиня Оленская, внучка старой миссис Минготт.
— Ух ты — графиня! — присвистнул Нед Уинсетт. — А я и не знал, что графини способны на добрососедские чувства. Минготты, во всяком случае, на это не способны.
— Они бы рады, но ведь вы им сами не позволяете.
— А…
Это был их старый вечный спор о том, почему «умные люди» упорно избегают света, и оба знали, что продолжать его бесполезно.
— Интересно, почему эта графиня поселилась в наших трущобах? — вернулся к своему вопросу Уинсетт.
— Потому что ей в высшей степени наплевать на то, где она живет, да и вообще на все наши светские ярлычки, — сказал Арчер, втайне гордясь тем портретом Эллен Оленской, который он сам себе нарисовал.
— Гм… наверняка знавала лучшие времена, — заметил Уинсетт. — Однако мне пора сворачивать. До свидания.
Сутулясь, он перешел на противоположную сторону Бродвея, а Ньюленд остался стоять, глядя ему вслед и раздумывая над его последними словами.
Подобные вспышки прозрения были характерны для Неда Уинсетта; они составляли одну из самых оригинальных его черт и Арчер всегда удивлялся, как он, обладая этим даром, мог спокойно смириться с неудачей в том возрасте, когда большинство его сверстников еще продолжает бороться.
Арчер знал, что у Уинсетта есть жена и ребенок, но никогда их не видел. Они обыкновенно встречались в клубе «Сенчери» или в других излюбленных журналистами и художниками местах вроде кабачка, куда Уинсетт звал его выпить пива. Он как-то намекнул Арчеру, что жена его тяжело больна, — возможно, это соответствовало действительности, а возможно, просто означало, что бедняжка лишена светскости или вечерних туалетов, а скорее и того, и другого. Сам Уинсетт питал непреодолимое отвращение к светским ритуалам. Арчер, который привык по вечерам переодеваться, полагая, что так опрятнее и удобнее, и которому никогда не приходило в голову, что опрятность и удобство — две наиболее дорогостоящие статьи скромного бюджета, считал точку зрения Уинсетта составной частью скучной «богемной» позы — светские люди, которые меняли одежду, не упоминая об этом, и не вели вечных разговоров о том, у кого сколько слуг, казались гораздо более простыми и гораздо менее застенчивыми, чем представители богемы. Несмотря на это, с Уинсеттом ему всегда было интересно; всякий раз, заметив худощавую бородатую физиономию и печальные глаза журналиста, он вытаскивал его из дальнего угла, куда тот забивался, и заводил с ним долгую беседу.
Уинсетт стал журналистом не по доброй воле. Он был прирожденным литератором, который не вовремя родился в мире, не нуждавшемся в литературе. Выпустив сборник коротких и изысканных эссе — его издатели продали сто двадцать экземпляров, роздали тридцать, а остальные (согласно договору) в конце концов уничтожили, чтобы освободить место для более ходкого товара, — он забросил свое истинное призвание и нанялся помощником редактора в женский еженедельник, печатавший моды и выкройки вперемежку с любовными новеллами в стиле Новой Англии и рекламой безалкогольных напитков.
Запас его острот по адресу «Пламени очага» (как называлась эта газета) был неистощим, но за этими шутками скрывалась бесплодная горечь еще не старого человека, который, попытав счастья, сложил оружие. Его речи всегда заставляли Арчера оглянуться на свою собственную жизнь и почувствовать всю ее пустоту, но жизнь Уинсетта, в сущности, была еще более пустой, и, хотя общий запас серьезных и забавных тем придавал их разговорам возбуждающую остроту, взаимный обмен мнениями обыкновенно не выходил за рамки меланхолического дилетантизма.
— Суть в том, что ни ваша, ни моя жизнь ни черта не стоят, — сказал однажды Уинсетт. — Я неудачник, и тут уж ничего не поделаешь. Я могу производить только один товар, но здесь для него нет рынка сбыта и, пока я жив, явно не будет. Но вы свободны и состоятельны. Почему вам не взяться за дело? Единственный путь для этого — заняться политикой.
Арчер тряхнул головой и засмеялся. Слова эти мгновенно раскрыли непроходимую пропасть между людьми, подобными Уинсетту, и другими — такими, как Арчер. В светских кругах всем и каждому было известно, что в Америке «джентльмену не пристало заниматься политикой». Однако он едва ли мог в такой форме объяснить это Уинсетту и потому ответил уклончиво:
— Посмотрите на карьеру честного человека в американской политике. Мы им не нужны.
— Кому это «им»? Почему бы вам всем не собраться и самим не стать «ими»?
Смех Арчера сменился снисходительной улыбкой. Продолжать спор было бесполезно — все знали судьбу тех немногих джентльменов, которые рискнули своим добрым именем, занявшись в Нью-Йорке политикой в масштабе муниципалитета или штата. Те дни, когда это было возможно, давно уже миновали: страна находилась во власти дельцов и иммигрантов, и порядочным людям пришлось отступить в область спорта или культуры.
— Культуры! Да если б она у нас существовала! Конечно, встречаются отдельные полоски тут и там, но они погибают — как бы это получше выразить — от недостатка вспашки и удобрений. Это последние остатки европейских традиций, которые ваши предки привезли с собой. Но вы ничтожное меньшинство, у вас нет ни вождей, ни соперничества, ни аудитории. Вы подобны картине на стене заброшенного дома — «Портрет джентльмена». Никто из вас никогда ничего не добьется, пока не засучит рукава и не залезет прямо в грязь. Либо это, либо эмиграция… О, боже! Если б я только мог эмигрировать…
Арчер мысленно пожал плечами и снова перевел разговор на книги, о которых Уинсетт рассуждал хоть и не совсем уверенно, но всегда занимательно. Эмигрировать! Как будто джентльмен может бросить свою родную страну! Это так же невозможно, как засучить рукава и залезть в грязь. Джентльмен попросту остается сидеть дома и ни в чем не участвует. Но объяснить это человеку вроде Уинсетта невозможно, и поэтому нью-йоркский мир литературных клубов и экзотических ресторанов, с первого взгляда напоминавший калейдоскоп, если его как следует встряхнуть, оказывался всего лишь коробкой гораздо меньших размеров с гораздо более однообразным узором, чем собранные воедино частицы 5-й авеню.
На следующее утро Арчер безуспешно рыскал по городу в поисках желтых роз. Из-за них он опоздал в контору, убедился, что никто этого не заметил, и его вдруг охватило отчаянье от сознания полнейшей тщеты всей своей жизни. Почему он сейчас не на песчаном пляже Сент-Огастина с Мэй Велланд? Относительно служебных обязанностей, которыми он якобы был обременен, решительно никто не обманывался. В старинных юридических фирмах вроде той, которую возглавлял мистер Леттерблер и которые занимались главным образом крупными земельными владениями и «консервативными» вложениями капитала, всегда числилось два-три молодых человека, состоятельных и нисколько не честолюбивых — по нескольку часов в день, сидя у себя за столами, они выполняли мелкие поручения или просто читали газеты. Хотя, по общему мнению, им следовало иметь занятие, все еще считалось, что грубое стяжательство унижает джентльмена, а юриспруденция — как одна из свободных профессий — дело для него более подходящее, нежели коммерция. Впрочем, никто из этих молодых людей не надеялся и даже вовсе не стремился по-настоящему преуспеть на своем поприще, и многие уже начинали зарастать плесенью нерадения.
При мысли, что и он, наверно, тоже зарастает плесенью, Арчер содрогнулся. Конечно, у него были еще и другие вкусы и интересы, он проводил свой отпуск, путешествуя по Европе, дружил с людьми, которых Мэй называла «умными», и вообще старался «не отставать от века», как он сам несколько мечтательно выразился в беседе с госпожою Оленской. Но во что превратится эта узкая полоска настоящей жизни после его женитьбы? Он видел слишком много молодых людей, которые предавались тем же мечтам — хотя, быть может, и менее пылко, чем он, — а потом, по примеру старших, постепенно погрязали в привычном однообразии и роскоши.
Из конторы он отправил с посыльным записку к госпоже Оленской, в которой спрашивал, может ли он посетить ее вечером, и просил послать ему ответ в клуб, но в клубе ничего не оказалось: назавтра никакого письма тоже не было. Это неожиданное молчание почему-то чрезвычайно его оскорбило, и на следующее утро, увидев в витрине цветочного магазина великолепный букет желтых роз, он им пренебрег. Только через два дня пришло по почте коротенькое письмо от графини Оленской. К его удивлению, оно было отправлено из Скайтерклиффа, куда ван дер Лайдены удалились, как только посадили герцога на пароход.
«Я убежала, — отрывисто, без всякого обращения начиналось письмо, — на следующий день после того, как мы виделись в театре, и эти добрые друзья меня приютили. Я хотела успокоиться и все обдумать. Вы были правы, когда говорили, что они очень добры; здесь я чувствую себя в полной безопасности. Я хотела бы, чтобы Вы были здесь с нами». Письмо она закончила обычным «искренне Ваша», ни словом не обмолвившись с дне возвращения.
Тон записки удивил молодого человека. От чего госпожа Оленская бежала и почему она нуждается в безопасности? Сначала он подумал о какой-то смутной угрозе из-за границы, потом ему пришло в голову, что он незнаком с ее эпистолярным стилем, который, возможно, отличается живописными преувеличениями. Женщины всегда преувеличивают, к тому же она не слишком свободно владеет английским языком и речь ее часто звучит как перевод с французского. «Je me suis évadée» — выраженная в такой форме первая фраза письма могла просто означать желание избавиться от скучных приглашений, что, по всей вероятности, вполне соответствовало действительности, — он считал, что она капризна и развлечения быстро ей надоедают.
Забавно, что ван дер Лайдены привезли ее в Скайтерклифф во второй раз и притом на неопределенное время. Двери Скайтерклиффа открывались для гостей редко и со скрипом, и самое большее, на что могли рассчитывать те, кто удостоился этой чести, был зябкий уик-энд. Будучи последний раз в Париже, Арчер видел прелестную пьесу Лабиша «Путешествие мосье Перришона»,[116] и ему вспомнилась упорная и неотвязная преданность мосье Перришона юноше, которого он вытащил из ледника. Участь, от которой ван дер Лайдены спасли госпожу Оленскую, была почти такой же ледяной, и, хотя для симпатии к ней у них имелось много других причин, Арчер знал, что в основе их всех лежит мягкая, но вместе с тем твердая решимость во что бы то ни стало ее спасти.
Он был немало разочарован, узнав, что она уехала, и почти тотчас вспомнил, что всего лишь накануне отказался от приглашения провести воскресенье у Реджи Чиверсов, несколькими милями ниже по течению Гудзона.
Он давно уже пресытился шумным весельем в Хайбенке, где они всей компанией ездили на санках и на буерах, катались с гор, совершали далекие пешие прогулки по снегу и развлекались невинным флиртом и еще более невинными розыгрышами. Он только что получил от знакомого книгопродавца из Лондона ящик новых книг и предпочитал спокойно провести воскресный день дома, наслаждаясь своей добычей. Но теперь он пошел в библиотеку клуба, торопливо набросал телеграмму и велел слуге немедленно ее отправить. Он знал, что миссис Чиверс не сердится, когда ее гости внезапно меняют свои планы, и что в ее «резиновом» доме всегда найдется лишняя комната.
15
Ньюленд Арчер приехал к Чиверсам в пятницу вечером, а в субботу добросовестно выполнил весь ритуал хайбенковского уик-энда. Утром он прокатился на буере с хозяйкой и некоторыми наиболее закаленными гостями, днем совершил с Реджи «обход фермы» и прослушал в его усовершенствованной конюшне пространную обстоятельную лекцию на тему «лошадь», после чая поболтал у горящего камина с молодой девицей, которая призналась, что своей помолвкой он разбил ей сердце, но теперь горела нетерпением сообщить ему о своих собственных матримониальных планах, и наконец и полночь помог засунуть в кровать одного из гостей золотую рыбку, затем, переодетый вором, забрался в ванную комнату нервной тетушки, а на рассвете участвовал в битве подушками, которая разгорелась по всему дому, от подвала до детской. Однако в воскресенье после завтрака он нанял двухместные санки и поехал в Скайтерклифф.
Людям всегда внушали, что дом в Скайтерклиффе — итальянская вилла. Те, кому не довелось побывать в Италии, этому верили; некоторые из тех, кто там бывал, верили тоже. Мистер ван дер Лайден построил этот дом в молодости, когда вернулся из своего первого путешествия по Европе и собирался жениться на мисс Луизе Дэгонет. Это было большое прямоугольное деревянное строение, обшитое шпунтовыми досками, выкрашенное в бледно-зеленый и белый цвет, с коринфским портиком и желобчатыми пилястрами между окон. С пригорка, на котором он стоял, террасы, окаймленные балюстрадами и урнами, точь-в-точь как на гравюре, спускались к озерцу неправильной формы с асфальтовым парапетом, осененным диковинными плакучими хвойными деревьями. Справа и слева знаменитые газоны без сорняков, по которым тут и там были разбросаны по одному «образцовые» деревья различных пород, уходили вдаль, к травянистым лугам, обнесенным затейливой чугунной оградой, а внизу, в лощине, притулился четырехкомнатный каменный домик, который первый пэтрун выстроил на земле, дарованной ему в 1612 году.
На фоне ровного заснеженного луга и серого зимнего неба «итальянская вилла» казалась довольно угрюмой; она даже летом держалась надменно, и самые дерзкие клумбы с колеусом никогда не осмеливались больше чем на тридцать футов приблизиться к ее устрашающему фасаду. Теперь, когда Арчер дернул звонок, долгое звяканье прозвучало словно эхо в мавзолее, а явившийся в конце концов дворецкий был так удивлен, словно пробудился от вечного сна.
К счастью, Арчер приходился сродни хозяевам и потому, несмотря на всю неожиданность его визита, ему любезно сообщили, что графини Оленской нет дома, она как раз три четверти часа тому назад отправилась с миссис ван дер Лайден к обедне.
— Мистер ван дер Лайден дома, сэр, — продолжал дворецкий, — но у меня такое впечатление, что он либо еще дремлет, либо читает вчерашнюю «Ивнинг пост». Сегодня утром, возвратясь из церкви, он говорил, что после завтрака намеревается просмотреть «Ивнинг пост». Если вам угодно, сэр, я могу подойти к дверям библиотеки и послушать…
Арчер поблагодарил его, сказав, что пойдет встречать дам, и дворецкий с нескрываемым облегчением величественно затворил за ним дверь.
Конюх отвел санки на конюшню, и Арчер отправился через парк к большой дороге. До деревушки Скайтерклифф было всего полторы мили, но он знал, что миссис ван дер Лайден никогда не ходит пешком и, чтобы встретить экипаж, надо выйти на дорогу. Спускаясь по тропинке, ведущей к большой дороге, он заметил изящную фигурку в красной пелерине. Впереди бежала большая собака. Он прибавил шагу, и вскоре возле него с радостной улыбкой остановилась госпожа Оленская.
— О, вы приехали! — воскликнула она, вынимая руку из муфты.
В красной пелерине она выглядела оживленной и веселой, как прежняя Эллен Минготт, и, взяв ее руку, Арчер засмеялся и сказал:
— Я приехал узнать, от чего вы бежали. Лицо ее затуманилось, но она ответила:
— Скоро вы сами увидите. Слова эти озадачили Арчера.
— То есть как — вы хотите сказать, что вас догнали? Пожав плечами — совсем как Настасий — она небрежно проговорила:
— Пойдемте? Я так замерзла после проповеди. Да и не все ли равно от чего, раз вы здесь, чтобы меня защитить.
Кровь прилила ему к вискам, и он ухватился за полу ее пелерины.
— Эллен, что случилось? Вы должны мне сказать.
— Да, да, сейчас, но сначала побежим наперегонки, а то у меня ноги примерзают к земле! — воскликнула она и, подобрав пелерину, пустилась бегом по снегу, а пес с задорным лаем поскакал рядом. С минуту Арчер смотрел ей вслед, восхищенный вспышками красного метеора на фоне снега, потом бросился вдогонку, и оба, тяжело дыша, со смехом сошлись у калитки, ведущей в парк.
Она подняла на него глаза и улыбнулась.
— Я знала, что вы приедете.
— Значит, вы этого хотели, — ответил он, охваченный безрассудным весельем. Опушенные белизной деревья таинственно мерцали в ясном воздухе, и, шагая по снегу, оба, казалось, слышали, как поет у них под ногами земля.
— Откуда вы? — спросила госпожа Оленская. Ответив на ее вопрос, он добавил:
— Я приехал потому, что получил вашу записку. Помолчав, она с еле заметным холодком в голосе проговорила:
— Это Мэй просила вас обо мне позаботиться?
— Меня не нужно было об этом просить.
— Неужели я кажусь настолько беспомощной и беззащитной? Какой несчастной вы, наверно, все меня считаете! Зато здешние женщины, кажется, никогда ни в чем не нуждаются — словно ангелы на небесах.
— Что вы хотите этим сказать? — понизив голос, спросил он.
— Ах, не задавайте мне вопросов! Мы с вами говорим на разных языках, — с досадой бросила она.
Слова эти подействовали на него как пощечина, и он остановился, глядя на нее сверху вниз.
— Зачем мне тогда было приезжать, если я не понимаю вашего языка?
— О, друг мой! — Она легонько коснулась рукою его плеча, и он с мольбою в голосе спросил:
— Эллен, почему вы не хотите рассказать мне, что случилось?
Она пожала плечами.
— Разве на небесах что-нибудь когда-нибудь случается?
Он ничего не ответил, и некоторое время они шли молча. Наконец она проговорила:
— Я расскажу вам, но где же, где, где, где? В этом огромном пансионе для благородных девиц никто не может ни на минуту остаться один, все двери настежь, и прислуга беспрестанно приносит вам либо чай, либо полено для камина, либо газету! Неужели во всей Америке не найдется дома, где человек может побыть наедине с самим собой? Вы так робки и в то же время так открыты посторонним взорам. У меня все время такое чувство, будто я опять попала в монастырь или стою на сцене перед публикой, убийственно вежливой публикой, которая никогда не аплодирует.
— Мы вам просто не нравимся! — вырвалось у Арчера.
Они проходили мимо домика старого пэтруна, с его приземистыми стенами и маленькими квадратными оконцами. Ставни были открыты, и сквозь только что вымытые стекла Арчер увидел горящий в очаге огонь.
— Как, дом открыт! — сказал он. Она остановилась.
— Это только на сегодня. Я хотела его посмотреть, и мистер ван дер Лайден велел затопить камин и открыть окна, чтобы мы утром могли зайти сюда на обратном пути из церкви. — Она взбежала по ступенькам и потянула дверь. — Она еще отперта — как нам повезло! Зайдемте, и мы сможем спокойно поговорить. Миссис ван дер Лайден поехала в Райнбек навестить своих старых тетушек, и еще по меньшей мере час нас никто не хватится.
Он последовал за нею в узкий коридор. Настроение, которое от ее последних слов безнадежно упало, теперь, вопреки здравому смыслу, снова поднялось. Уютный домик, казалось, был, как по волшебству, создан специально для них. Деревянные панели и медные украшения блестели в свете большого кухонного очага, в котором все еще теплились угли, а над ними, на старинном кронштейне, висел чугунный котелок. Кресла с плетеными тростниковыми сиденьями стояли друг против друга перед кафельной печью, на стенных полках красовались тарелки из дельфтского фаянса.[117] Арчер нагнулся и подбросил в огонь полено.
Госпожа Оленская сняла пелерину и уселась в кресло. Арчер прислонился к очагу и посмотрел на нее.
— Сейчас вы смеетесь, но, когда вы мне писали, вы чувствовали себя несчастной, — сказал он.
— Да. — Она помолчала. — Но я не могу чувствовать себя несчастной, когда вы здесь.
— Я пробуду здесь недолго, — возразил он. Ему стоило такого труда сказать только это и ничего больше, что от усилия у него застыли губы.
— Да, конечно. Но я недальновидна, я живу минутой счастья.
Слова эти прокрались к нему в сердце как соблазн, и, чтобы закрыть им доступ к своим чувствам, он подошел к окну и принялся разглядывать черные стволы деревьев на фоне снега. Ему почудилось, будто госпожа Оленская тоже передвинулась и он, стоя к ней спиной, видит, что она стоит между деревьями и, наклонясь к огню, улыбается своею слабою улыбкой. Сердце Арчера невольно забилось. А вдруг она бежала именно от него, и, чтобы сказать ему об этом, ждала, когда они останутся одни в этой уединенной комнате?
— Эллен, если я действительно могу вам помочь, если вы действительно хотели, чтобы я приехал, скажите мне, что случилось и от чего вы бежали, — настаивал он.
Он произнес это не двигаясь с места, даже не обернувшись, чтобы на нее посмотреть: если этому суждено Произойти, пусть происходит именно так, когда их разделяет вся комната, а глаза его все еще прикованы к снегу за окном.
Прошла долгая минута, прежде чем она заговорила, и за эту минуту Арчер представил себе, чуть ли не услышал, как она подходит к нему сзади и легкими руками обвивает ему шею. Пока он, трепеща душой и телом, ждал этого чуда, глаза его машинально отметили появление человека в тяжелой шубе с поднятым меховым воротником, который по тропинке приближался к дому. Это был Джулиус Бофорт.
— А! — расхохотался Арчер.
Госпожа Оленская вскочила, подбежала к нему, схватила его за руку, но, бросив взгляд в окно, побледнела и отпрянула.
— Так вот оно что! — насмешливо произнес Арчер.
— Я не знала, что он здесь, — прошептала госпожа Оленская. Рука ее все еще крепко держала руку Арчера, но он вырвался, выскочил в коридор и распахнул входную дверь.
— А, Бофорт! Идите сюда. Госпожа Оленская вас ждет, — сказал он.
Возвращаясь утром в Нью-Йорк, Арчер с утомительной яркостью вновь пережил последние минуты в Скайтерклиффе.
Бофорт, явно разозленный тем, что застал его у госпожи Оленской, все же, по своему обыкновению, и глазом не моргнул. От его манеры игнорировать тех, чье присутствие ему мешало, люди, способные это почувствовать, начинали казаться самим себе чем-то невидимым, несуществующим. Когда они втроем шли по парку, Арчера не оставляло это странное ощущение бестелесности, которое, уязвляя его самолюбие, давало ему, однако, призрачное преимущество все замечать, оставаясь незамеченным.
Бофорт вошел в домик с присущей ему небрежной самоуверенностью, но улыбка не могла стереть вертикальную морщину между его бровей. Было совершенно ясно, что госпожа Оленская не знала о его приезде, хотя в разговоре с Арчером и намекала на такую возможность; во всяком случае, уезжая из Нью-Йорка, она, очевидно, не сказала Бофорту, куда она едет, и ее непонятное исчезновение вывело его из себя. Приехал он якобы потому, что накануне нашел «изумительный домик» — он еще не объявлен к продаже, и именно то, что ей надо. Если она его не купит, его тотчас же перехватят. Бофорт осыпал ее шутливыми упреками по поводу дурацкого положения, в которое она поставила его своим бегством как раз в ту самую минуту, когда этот домик ему попался.
— Если бы эта хитроумная штуковина с проволокой,[118] по которой можно разговаривать, была бы хоть чуточку лучше, я мог бы сообщить вам все это из города, и теперь сидел бы себе в клубе, поджаривая пятки у камина, вместо того чтобы гоняться за вами по снегу, — ворчал он, скрывая подлинную досаду под притворной, и госпожа Оленская, воспользовавшись случаем, заговорила о фантастическом открытии, которое в один прекрасный день позволит людям беседовать друг с другом, находясь не только на разных улицах, но даже — невероятная мечта! — в разных городах. Это напомнило всем троим Эдгара По, Жюля Верна и другие банальности, естественно слетающие с уст даже самых просвещенных людей, когда они от нечего делать болтают об изобретениях, поверить в осуществление которых было бы просто наивно, и эта тема благополучно привела их обратно к дому.
Миссис ван дер Лайден еще не вернулась, и Арчер, откланявшись, отправился за своими санями, между тем как Бофорт последовал за графиней Оленской в дом. Хотя ван дер Лайдены отнюдь не поощряли незваных гостей, он вполне мог рассчитывать, что его пригласят обедать и отвезут на станцию к девятичасовому поезду, однако не более того — они и помыслить не могли, что джентльмен, путешествующий без багажа, пожелает остаться на ночь, а предложить это человеку, с которым они находились далеко не в сердечных отношениях, хозяевам просто претило.
Бофорт все это знал и наверняка предвидел, и лишь крайнее нетерпение могло заставить его пуститься в столь далекий путь в надежде на столь ничтожную награду. Он, несомненно, преследовал графиню Оленскую, а, преследуя хорошеньких женщин, Бофорт имел в виду одну лишь цель. Его скучный бездетный Дом давно уже ему приелся, и он, вдобавок к более долговременным утешениям, постоянно искал любовных приключений в своем кругу. Так вот от кого госпожа Оленская бежала, и вопрос состоял лишь в том, бежала ли она потому, что ей надоела его назойливость, или же потому, что не была уверена в своей способности ему противостоять, если, конечно, ее разговоры о бегстве не были просто обманом, а отъезд — всего лишь хитрым маневром.
Впрочем, этому Арчер не верил. Как бы мимолетны ни были его встречи с госпожой Оленской, ему казалось, что он научился читать по ее лицу или, во всяком случае, по голосу, а сейчас и лицо, и голос выдавали досаду и даже смятение от внезапного появления Бофорта. Но вдруг она нарочно уехала из Нью-Йорка ради встречи с ним? Если так, то она вообще не заслуживает внимания, ибо это значит, что она связала свою судьбу с вульгарнейшим пошляком, а женщина, которая завела роман с Бофортом, безнадежно скомпрометирована.
Нет, было бы в тысячу раз хуже, если бы ее — хотя она осуждала и, вероятно, презирала Бофорта — привлекло то, что выгодно отличало его от остальных окружавших ее мужчин: его знание двух континентов и высшего общества обоих, его короткое знакомство с художниками, актерами и прочими знаменитостями, его презрение к местным предрассудкам. Бофорт был вульгарен, он был необразован и спесив, но обстоятельства его жизни и известная природная сметливость делали его собеседником более занятным, нежели многие мужчины, превосходившие его в нравственном и общественном отношении, чей горизонт, однако, был ограничен Бэттери и Центральным парком. Ведь любая женщина, которая явилась из большого мира, не могла не увидеть этого различия и не плениться им.
Госпожа Оленская в приступе гнева сказала Арчеру, что они говорят на разных языках, и молодой человек знал, что во многом она права. Бофорт же прекрасно понимал все тонкости ее наречия и бегло на нем изъяснялся; его образ мыслей, его манера, его убеждения были всего лишь грубой копией тех, что так ясно проявились в письме графа Оленского. На первый взгляд, это могло бы поставить Бофорта в невыгодное положение перед женою графа, но Арчер был слишком умен и потому не мог предположить, будто молодую женщину, подобную Эллен Оленской, непременно должно отталкивать все то, что напоминало ей о прошлом. Она могла думать, что это ей глубоко отвратительно, но то, что манило ее прежде, могло манить и теперь, хотя, быть может, и против ее воли.
Так, изо всех сил стараясь сохранить беспристрастие, молодой человек рассматривал положение Бофорта и его жертвы. Он действительно стремился ее просветить, и порой ему казалось, будто она только и ждет, чтобы ее просветили.
В тот вечер он распаковал присланные из Лондона книги. В ящике было множество вещей, которых он с нетерпением ожидал, — последний труд Герберта Спенсера,[119] новый сборник несравненных новелл Ги де Мопассана[120] и роман под названием «Мидлмарш»,[121] вызвавший недавно любопытные отклики. Ради этого пиршества он отказался от трех приглашений на обед, однако, перелистывая страницы с чувственной радостью знатока, едва ли понимал, что читает, и книги одна за другою валились у него из рук. Внезапно он наткнулся на томик стихов, который заказал, прельстившись его названием «Дом жизни».[122] Открыв его, он погрузился в атмосферу, какой ему еще не доводилось дышать в книгах, — горячая, пряная и в то же время невыразимо нежная, она придавала новую, тревожную прелесть самым простым человеческим страстям. Всю ночь ему чудился на этих волшебных страницах образ женщины с лицом Эллен Оленской, но наутро, когда он проснулся, поглядел на коричневые каменные дома по другую сторону улицы, вспомнил о своем письменном столе в конторе мистера Леттерблера, о семейной скамье в церкви Милости господней, час, проведенный в парке Скайтерклиффа, показался ему таким же бесконечно далеким от действительности, как и его ночные видения.
— О, боже, как ты бледен, Ньюленд! — воскликнула Джейни за утренним кофе, а миссис Арчер добавила: — Ньюленд, милый, я давно заметила, что ты кашляешь. Надеюсь, ты не переутомился?
Обе дамы были убеждены, что под железным ярмом старших партнеров жизнь молодого человека проходила в невыносимо тяжких трудах, он же никогда не считал нужным их в этом разуверять.
Следующие два-три дня тянулись невыносимо долго. Повседневность горечью отдавала у него во рту, и порой ему казалось, будто он заживо погребен под глыбой собственного будущего. Он ничего не слышал ни о графине Оленской, ни об «изумительном домике», и, хотя он как-то встретил Бофорта в клубе, они всего лишь молча кивнули друг другу через стол для игры в вист. Лишь на четвертый вечер, возвратившись домой, он нашел записку: «Приходите завтра попозже. Я должна объяснить Вам. Эллен». Этим содержание записки исчерпывалось.
Молодой человек был приглашен на обед; чуть улыбнувшись французскому обороту речи, он сунул записку в карман. После обеда он отправился в театр и лишь после полуночи, вернувшись домой, снова вытащил послание госпожи Оленской и несколько раз подряд медленно его перечитал. Ответить на него можно было несколькими способами, и, не смыкая глаз всю ночь, он тщательно обдумал каждый. Наутро он наконец остановился на одном — сунул в саквояж кое-что из белья и платья и сел на пароход, который в тот же день отправлялся в Сент-Огастин.
16
Когда Арчер по песчаной главной улице Сент-Огастина подошел к дому мистера Велланда и увидел стоящую под магнолией Мэй, в волосах которой сияло солнце, он никак не мог понять, почему так долго откладывал свой приезд.
Здесь была правда, здесь была реальная действительность, здесь была его жизнь, а он, воображавший, будто презирает бессмысленные запреты, боялся оторваться от своего письменного стола из-за того, что кто-то может осудить его неурочный отпуск!
Ее первые слова были; «Ньюленд, что-нибудь случилось?», и ему пришло в голову, что было бы гораздо «женственнее», если бы она тотчас прочла в его глазах, зачем он приехал. Но когда он ответил: «Да, я почувствовал, что должен вас видеть», заливший лицо Мэй радостный румянец растопил ее холодноватое удивление, и он понял, как легко его будут прощать и как быстро улыбка снисходительного семейства сотрет из его памяти мягкое неодобрение мистера Леттерблера.
Несмотря на ранний час, главная улица была неподходящим местом для непринужденных приветствий, и Арчер мечтал остаться наедине с Мэй, чтобы излить всю свою нежность и нетерпение. До позднего завтрака Велландов оставался еще целый час, и, вместо того чтобы пригласить его в дом, она предложила прогуляться в старую апельсиновую рощу за городом. Мэй только что каталась на лодке, и солнечные лучи, игравшие на легкой речной зыби, казалось, поймали ее в свою золотую сеть. На фоне загорелых щек растрепавшиеся волосы блестели как серебряные нити, а глаза в своей юной ясности казались светлыми, почти прозрачными. Когда она широким мерным шагом шла рядом с Арчером, лицо ее своей невозмутимой безмятежностью напоминало лицо мраморной статуи какой-нибудь юной амазонки.
Для напряженных нервов Арчера это видение было столь же целительно, сколь голубое небо и тихая река. Они сели на скамейку под апельсиновыми деревьями, и Арчер обнял и поцеловал Мэй. Поцелуй был как глоток холодной воды из освещенного солнцем родника, но объятие оказалось, по-видимому, крепче, чем он думал, потому что лицо Мэй залилось краской и она отпрянула, словно в испуге.
— Что с вами? — улыбаясь, спросил он, и, удивленно взглянув на него, она ответила:
— Ничего.
Оба смутились, и Мэй высвободила свою руку. Это был единственный раз, когда он поцеловал ее в губы, если не считать мимолетного поцелуя в зимнем саду Бофорта, и он заметил, что она взволновалась и утратила свое мальчишеское хладнокровие.
— Расскажите, что вы здесь делаете, — сказал он и, закинув руки за голову, надвинул шляпу на глаза, чтобы прикрыть их от слепящего солнца. Навести ее на разговор о знакомых и простых вещах было простейшим способом не мешать независимому ходу своих мыслей, и он сидел, внимая бесхитростной хронике купаний, прогулок под парусами и верхом и порою танцев в скромной гостинице, когда в порту бросал якорь военный корабль. В гостинице живут приятные люди из Балтиморы и Филадельфии и, кроме того, приехала на три недели семья Селфриджа Мерри, потому что Кейт перенесла бронхит. Они хотят устроить на пляже теннисный корт, но ракетки есть только у Кейт и Мэй, а остальные вообще никогда не слышали о теннисе.
Все это отнимает уйму времени, и она успела только перелистать отпечатанный на веленевой бумаге томик «Сонетов, переведенных с португальского»,[123] который Арчер прислал ей неделю назад, но зато она учит наизусть стихотворение «О том, как принесли добрую весть из Гента в Аахен»,[124] потому что это — одно из первых стихотворений, которые он ей читал, и она смеясь сообщила ему, что Кейт Мерри даже понятия не имела о поэте по имени Роберт Браунинг.
Вскоре она вскочила, воскликнула, что пора завтракать, и они поспешили к ветхому домику с некрашеным крыльцом и неподстриженной живой изгородью из свинчатки и красной герани, в котором Велланды обосновались на зиму. Мистер Велланд, как истый домосед, избегал неряшливых, лишенных элементарных удобств южных гостиниц, и его супруге приходилось из года в год ценой неимоверных усилий и баснословных затрат наскоро налаживать хозяйство с помощью недовольных нью-йоркских слуг и нанятых на месте негров.
«Доктор требует, чтобы муж чувствовал себя как дома, иначе он будет нервничать и климат не пойдет ему на пользу», — каждую зиму объясняла она исполненным сочувствия филадельфийцам и балтиморцам.
Мистер Велланд, лучезарно улыбаясь через стол, уставленный всевозможными чудом раздобытыми деликатесами, сказал Арчеру:
— Вот видите, друг мой, мы здесь как на биваке. Я всегда говорю жене и Мэй, что намерен приучить их к тяготам походной жизни.
Мистер и миссис Велланд были не меньше дочери удивлены внезапным приездом молодого человека, но он догадался объяснить, что чуть не схватил жестокую простуду, и мистер Велланд счел это вполне достаточным основанием для того, чтобы пренебречь любыми обязанностями.
— Необходима сугубая осторожность, особенно ближе к весне, — сказал он, накладывая себе горку соломенно-желтых оладий и поливая их золотистым сиропом. — Если б я в вашем возрасте был благоразумен, Мэй теперь танцевала бы на балах, а не проводила каждую зиму в глуши с тяжело больным стариком.
— Но ведь мне здесь очень нравится, папа, вы же сами знаете. Если б Ньюленд мог здесь остаться, мне было бы в тысячу раз лучше, чем в Нью-Йорке.
— Ньюленд должен здесь остаться, пока не пройдет его простуда, — заботливо сказала миссис Велланд, а Арчер со смехом заметил, что не следует забывать о службе.
Однако посредством обмена телеграммами с фирмой ему удалось растянуть свою простуду на неделю, и по иронии судьбы снисходительность мистера Леттерблера отчасти объяснялась тем, что его талантливый младший партнер так удачно уладил хлопотливое дело с разводом Оленских. Мистер Леттерблер сообщил миссис Велланд, что мистер Арчер «оказал неоценимую услугу» всему семейству, что особенно довольна старая миссис Мэнсон Минготт, и однажды, когда Мэй с отцом поехала кататься на единственном имеющемся в городе экипаже, миссис Велланд, воспользовавшись удобным случаем, коснулась темы, которой она в присутствии дочери всегда избегала.
— Боюсь, что понятия Эллен совсем не похожи на наши. Ей едва минуло восемнадцать, когда Медора Мэнсон увезла ее назад в Европу — помните, какой был шум, когда она явилась на свой первый бал в черном платье? Очередная причуда Медоры, но на сей раз она, право же, оказалась чуть ли не пророческой! Это было не меньше двенадцати лет назад, и с тех пор Эллен ни разу не приезжала в Америку. Не удивительно, что она совершенно европеизировалась.
— Но ведь европейское общество не одобряет разводов, и графиня Оленская считала, что, добиваясь свободы, она поступает в соответствии с американскими понятиями. — В первый раз произнеся ее имя после отъезда из Скайтерклиффа, молодой человек почувствовал, что краснеет.
Миссис Велланд сострадательно улыбнулась.
— Как это похоже на все те басни, которые сочиняют о нас иностранцы. Они воображают, будто мы обедаем в два часа пополудни и поощряем разводы! Вот почему мне кажется такой глупостью устраивать им торжественные приемы, когда они приезжают в Нью-Йорк. Они пользуются нашим гостеприимством, а потом возвращаются домой и повторяют все те же небылицы.
Арчер ничего на это не ответил, и миссис Велланд продолжала:
— Но мы чрезвычайно ценим, что вы убедили Эллен отказаться от этой мысли. Ни ее бабушка, ни ее дядя Лавел ни в чем не могли ее убедить, и оба написали мне, что она изменила свое решение лишь под вашим влиянием, она даже сама сказала об этом бабушке. Она от вас просто в восторге. Бедняжка Эллен всегда была своенравной девочкой. Интересно, как сложится ее дальнейшая судьба.
«Так, как мы замыслили, — вертелось у него на языке. — Если вы все предпочитаете, чтобы она стала любовницей Бофорта, а не женой какого-нибудь честного малого, то вы, несомненно, на правильном пути».
Любопытно, что сказала бы миссис Велланд, произнеси он это вслух. Ему представилось, как искажаются ее твердые спокойные черты, которым целая жизнь, проведенная в преодолении пустячных трудностей, сообщила ложную значительность. В них все еще угадывались следы былой красоты, подобной красоте ее дочери, и Арчер спросил себя, суждено ли лицу Мэй с годами так же огрубеть и приобрести такое же выражение непоколебимой наивности.
О нет, он вовсе не хотел, чтобы Мэй отличалась подобной наивностью, наивностью, которая ограждает ум от воображения, а сердце от жизненного опыта!
— Я уверена, что, если бы эта ужасная история попала в газеты, это было бы смертельным ударом для моего мужа, — продолжала миссис Велланд. — Я не вхожу в подробности, не хочу их знать, как я уже сказала бедняжке Эллен, когда она попыталась о них заговорить. Имея на руках тяжелого больного, я должна быть веселой и счастливой. Но мистер Велланд был страшно расстроен, и пока мы ждали, как решится это дело, у него каждое утро повышалась температура. Он был в ужасе, что его девочка может узнать о существовании подобных вещей. Но ведь и вы, дорогой Ньюленд, вполне разделяли его чувства. Мы все знали, что вы тогда думали о Мэй.
— Я всегда думаю о Мэй, — сказал молодой человек, вставая, чтобы окончить разговор.
Он хотел воспользоваться беседой с миссис Велланд, чтобы убедить ее ускорить свадьбу, но не мог придумать ни единого аргумента, который бы на нее подействовал, и с облегчением увидел, что к дверям подъехали мистер Велланд и Мэй.
Оставалась единственная надежда — еще раз попытаться уговорить Мэй, и за день до отъезда он отправился с нею в заброшенный сад испанской миссии. Сама картина наводила на мысль о европейских пейзажах, и Мэй, Которой придавала особенную прелесть широкополая шляпа, окутывавшая таинственной тенью ее чрезмерно ясные глаза, с жадным любопытством слушала его рассказы о Гранаде и Альгамбре.[125]
— Мы могли бы нынешней весной все это увидеть. Да еще и провести пасху в Севилье, — твердил он, нарочно увеличивая свои требования в надежде добиться хоть каких-нибудь уступок.
— Пасху в Севилье? Но ведь на будущей неделе начинается великий пост! — засмеялась Мэй.
— А почему бы нам не пожениться во время великого поста? — возразил Арчер, но Мэй была настолько шокирована, что он тотчас осознал свою ошибку.
— Я, конечно, пошутил, дорогая, но вскоре после пасхи — так, чтобы отплыть в конце апреля. Я знаю, что в конторе можно будет все уладить.
Мэй мечтательно улыбнулась при мысли о такой возможности, но он понял, что она вполне удовлетворяется мечтой. С таким же точно видом она слушала, как он читал ей стихи о прекрасных вещах, которых никогда не бывает в жизни.
— О, пожалуйста, продолжайте, Ньюленд, мне так нравятся ваши описания.
— Но почему они должны оставаться всего лишь описаниями? Почему бы нам не претворить их в действительность?
— Но ведь мы так и сделаем, милый… в будущем году, — протяжно произнесла она.
— Разве вам не хочется, чтобы это было раньше? Неужели я не могу уговорить вас бросить все сейчас?
Она опустила голову, спрятавшись от него под спасительными полями шляпы.
— Зачем нам проводить еще год в пустых мечтах? Взгляните на меня, дорогая! Неужели вы не видите, как я хочу, чтобы вы стали моей женой?
На мгновение она застыла в неподвижности, потом подняла на него такие безнадежно ясные глаза, что он чуть не отнял своей руки, крепко обвивавшей ее талию. Потом взгляд ее внезапно изменился, и в глубине глаз появилось какое-то новое, загадочное выражение.
— Мне кажется, я не совсем вас понимаю, — сказала она. — Может быть… может быть, вы не уверены, что я и дальше буду вам нравиться?
Арчер вскочил.
— О, господи… возможно… право, не знаю! — с досадой воскликнул он.
Мэй Велланд тоже встала, их взгляды встретились, и, исполненная сознания своего женского достоинства, она как бы выросла в его глазах. С минуту оба молчали, слов* но непредвиденный оборот разговора привел обоих в полное смятение. Потом она тихо сказала:
— Если дело в этом… и есть какая-то другая женщина?
— Какая-то другая женщина между мной и вами? — Он отозвался на ее слова медленно, словно едва их расслышал, и ему потребовалось время, чтобы повторить себе ее вопрос.
Мэй, казалось, уловила неуверенность в его голосе, потому что продолжала, на этот раз более серьезно:
— Поговорим откровенно, Ньюленд. Иногда мне кажется, что вы как-то изменились, особенно после оглашения нашей помолвки.
— Дорогая, да это же просто безумие! — оправившись от изумления, воскликнул он.
Она ответила на этот взрыв слабой улыбкой.
— Если это безумие, почему бы нам о нем не поговорить? — Она остановилась, потом грациозным движением подняла голову и добавила: — Да и если это правда, она нам тоже не повредит. Вы так легко могли совершить ошибку.
Опустив голову, он стал разглядывать узорчатую черную тень листвы на освещенной солнцем дорожке у них под ногами.
— Совершить ошибку всегда легко, но если бы я совершил такую ошибку, о какой вы думаете, разве я стал бы умолять вас ускорить нашу свадьбу?
Она тоже посмотрела вниз и, мучительно подыскивая слова, кончиком зонта нарушила узор.
— Да, — проговорила она наконец, — может быть, вы хотели покончить с этим раз и навсегда — ведь есть и такой способ.
Невозмутимая ясность Май испугала Арчера, заставила заподозрить ее в равнодушии. Из-под полей шляпы ему был виден бледный профиль и легкое трепетание ноздри над решительно сжатыми губами.
— Что это значит? — спросил он, снова усаживаясь на скамейку, и, взглянув на нее, притворно нахмурился.
Она тоже села и продолжала:
— Вы не должны думать, будто девушка знает лишь столько, сколько воображают ее родители, — продолжала она. — Она смотрит, наблюдает, у нее есть свои чувства и мысли. И конечно, задолго до того, как вы сказали мне, что я вам нравлюсь, я знала, что была другая женщина, которой вы интересовались, — два года назад в Ньюпорте[126] все только об этом и говорили. А однажды во время танцев я увидела, как вы сидели вместе на веранде, и, когда она вернулась в дом, лицо у нее было печальное, и мне стало ее жаль. Я вспомнила об этом потом, уже после нашей помолвки.
Голос ее понизился почти до шепота, она сжимала и разжимала руки, державшие зонтик. С чувством невыразимого облегчения молодой человек нежно коснулся их своей рукой.
— Моя милая девочка, так вот о чем вы говорили! О, если бы вы только знали правду!
Она быстро подняла голову.
— Значит, есть правда, которой я не знаю? Не отнимая руки, он продолжал:
— Я хотел сказать: правду о той старой истории, которую вы имеете в виду.
— Но именно об этом я и хочу знать, Ньюленд, именно об этом я должна знать. Я не могла бы быть счастливой, причиняя кому-нибудь боль или обиду. И я хочу думать то же и о вас. Что у нас будет за жизнь, если мы построим ее на такой основе?
Лицо ее приняло такое трагически смелое выражение, что он готов был упасть к ее ногам.
— Я давно хотела вам это сказать, я давно хотела вам сказать, что если два человека действительно любят друг друга, то, по-моему, может возникнуть такое положение, когда они должны… должны пойти против общественного мнения. И если вы чувствуете, что связаны каким-то обещанием… обещанием женщине, о которой мы с вами говорили… и если можно как-то… как-то выполнить это обещание… даже если она получит развод… Ньюленд, не оставляйте ее ради меня!
Удивление, охватившее его, когда он понял, что ее страхи вызваны таким далеким, давно ушедшим в прошлое эпизодом, как его связь с миссис Торли Рашуорт, сменилось восторгом перед ее великодушием. Было нечто невероятное в точке зрения, столь дерзостно отвергающей общепринятые взгляды, и, если бы у него не было других неотложных забот, он просто растерялся бы перед этим чудом — подумать только, дочь Велландов уговаривает его жениться на бывшей любовнице! Но у него все еще кружилась голова при одном только воспоминании о пропасти, по краю которой они ходили, и он вновь склонился в благоговении перед горестями девичества.
С минуту он не мог вымолвить ни слова, потом сказал:
— Нет никаких обещаний, никаких обязательств, подобных тем, о которых вы думаете. Такие дела гораздо сложнее, чем кажется… Но это не имеет значения… Я преклоняюсь перед вашим великодушием, потому что смотрю на эти вещи так же, как и вы… Я думаю, что каждый такой случай надо рассматривать сам по себе… независимо от глупых условностей… Я хочу сказать, что право каждой женщины на свободу… — он остановился, сам испугавшись того, куда завели его собственные мысли, и, с улыбкой глядя на нее, продолжал: — Раз вы все это понимаете, дорогая, почему бы вам не пойти еще чуточку дальше и не понять, как бессмысленно склоняться перед Другой формой тех же глупых условностей? Если между Нами не стоит никто и ничто, разве это не довод в пользу того, чтобы ускорить нашу свадьбу, а не откладывать ее еще больше?
Она подняла к нему вспыхнувшее от радости лицо, и он увидел, что глаза ее наполнились счастливыми слезами. Но уже в следующее мгновенье гордое сознание женского величия сменилось робкой беспомощностью молодой девицы, и он понял, что вся смелость и предприимчивость Мэй распространяются только на других. Заученная сдержанность ничем не выдала, каких усилий стоили ей эти Слова, и, услыхав его новые мольбы, она тотчас вернулась в свое обычное состояние — так чересчур расшалившийся ребенок ищет спасения в объятиях матери.
У Арчера не хватило духу продолжать уговоры — его слишком огорчило исчезновение незнакомого существа, которое бросило на него мимолетный взгляд из глубины ее прозрачных глаз. Мэй, казалось, почувствовала его разочарование, но не знала, как его смягчить, и потому они оба встали и молча отправились домой.
17
Твоя кузина графиня нанесла визит маме, когда ты уезжал, — объявила Джейни брату в вечер его возвращения. Молодой человек, который обедал дома с матерью и сестрой, удивленно поднял глаза и увидел, что миссис Арчер демонстративно смотрит в свою тарелку. Удалившись от света, миссис Арчер не считала, что свет должен поэтому ее забыть, и Ньюленд почувствовал, что его удивление по поводу визита графини Оленской немало ее раздосадовало.
— На ней был черный бархатный полонез с пуговицами из черного янтаря и крошечная зеленая обезьянья муфта; я еще ни разу не видела ее столь изысканно одетой, — продолжала Джейни. — Она приехала одна, в воскресенье днем; к счастью, в гостиной горел камин. У нее был этот новомодный футляр для визитных карточек. Она сказала, что хочет с нами познакомиться, потому что ты сделал ей столько добра.
— Госпожа Оленская всегда говорит так о своих друзьях, — засмеялся Ньюленд. — Она счастлива, что снова среди своих.
— Да, она так и сказала, — заметила миссис Арчер. — Мне кажется, она рада, что вернулась.
— Надеюсь, она понравилась вам, мама. Миссис Арчер поджала губы.
— Она действительно изо всех сил старается произвести приятное впечатление, даже когда навещает старуху.
— Мама не считает ее простодушной, — вмешалась Джейни, скосив глаза на брата.
— Это все мои старомодные понятия, мой идеал — наша милая Мэй, — возразила миссис Арчер.
— Да, они совсем не похожи, — отозвался ее сын.
В Сент-Огастине Арчеру дали множество поручений к миссис Минготт, и дня через два после возвращения в город он отправился к ней с визитом.
Старуха приняла его необычайно приветливо; она была очень благодарна, что он убедил графиню Оленскую отказаться от развода, а когда он поведал ей, как без разрешения удрал из конторы и помчался в Сент-Огастин только потому, что хотел повидать Мэй, она фыркнула, заколыхалась всем своим тучным телом и пухлой рукой погладила его по колену.
— Ага, значит, вы пустились во все тяжкие? Августа с Велландом, конечно, состроили кислую мину и сделали вид, будто настал конец света. Но крошка Мэй — уж она-то наверняка поняла, в чем тут дело!
— Надеюсь; однако она не согласилась на мою просьбу.
— Неужели? А о чем вы ее просили?
— Я хотел добиться у нее обещания, что свадьба будет в апреле. Зачем нам терять еще целый год?
Миссис Минготт в приступе притворной стыдливости скривила свой маленький ротик и сверкнула лукавыми глазками.
— Спросите маму и так далее? Обычная история. Ах уж эти Минготты, все они одинаковы. Всю жизнь идут по проторенной дорожке, и попробуйте уговорить их с нее свернуть. Когда я строила этот дом, можно было подумать, что я переезжаю в Калифорнию. Никто никогда не строил дальше Сороковой улицы — нет, говорю я, не строил, и дальше Бэттери тоже, — прежде чем Колумб открыл Америку. Нет, нет, никто из них не желает отличаться от других, они боятся этого как чумы. Ах, милый мистер Арчер, я, слава богу, всего лишь вульгарная Спайсер, но из всех моих детей и внуков в меня не пошел никто, кроме малютки Эллен. — Она остановилась, все еще сверкая глазами, и со свойственной старикам непоследовательностью вдруг ни с того ни с сего спросила: — И почему вы только не женились на малютке Эллен?
— Хотя бы по одному тому, что ее здесь не было, — засмеялся Арчер.
— Да, тем более жаль. А теперь слишком поздно, ее жизнь кончена. — Она говорила с хладнокровным благодушием старости, бросающей землю на могилу юных надежд.
Молодому человеку стало не по себе, и он поспешно сказал:
— Могу я просить вас повлиять на Велландов, миссис Минготт? Эти долгие помолвки не по мне.
Старуха Кэтрин одарила его сияющей улыбкой.
— Да, вижу, вижу. Уж больно вы шустрый. В детстве вы наверняка требовали, чтоб за столом вам подавали первому. — Она закинула голову, засмеялась, и ее многочисленные подбородки колыхнулись, словно волны. — А вот и Эллен!
За спиной у нее раздвинулись портьеры, и в комнату, улыбаясь, вошла госпожа Оленская. Лицо ее сияло оживлением и счастьем, и, наклоняясь, чтобы поцеловать бабушку, она непринужденно протянула Ньюленду руку.
— А я как раз ему говорю: почему вы не женились на моей малютке Эллен?
Все еще продолжая улыбаться, госпожа Оленская взглянула на Арчера.
— И что же он ответил?
— Ах, милочка, предоставляю тебе выяснить это самой. Он ездил во Флориду повидаться со своей невестой.
— Да, я слышала. — Она все еще не сводила с него взгляда. — Я навестила вашу матушку, чтобы узнать, куда вы исчезли. Я послала вам записку и, не получив ответа, испугалась, что вы заболели.
Арчер пробормотал что-то о неожиданном отъезде, о спешке и о том, что собирался написать ей из Сент-Огастина.
— И конечно, очутившись там, вы тотчас обо мне забыли.
Она все еще смотрела на него с веселой улыбкой, быть может, желая казаться равнодушной.
«Если я ей еще нужен, она решила мне этого не показывать», — подумал он, уязвленный ее тоном. Он хотел поблагодарить ее за визит к матери, но под коварным взглядом прародительницы чувствовал себя скованно, и слова не шли у него с языка.
— Ты только на него посмотри — до того не терпится жениться, что удрал без разрешения и помчался па коленях умолять глупую девчонку! Вот что значит любовь! Точно так же красавец Боб Спайсер увез мою бедную мамочку, но не успели отнять меня от груди, как она ему уже надоела, хоть я и родилась восьмимесячной! Но вы-то ведь не Спайсер, молодой человек, — к счастью и для вас, и для Мэй. Одной лишь бедняжке Эллен досталась в наследство их беспутная кровь, все остальные — образцовые Минготты! — с презрением воскликнула старуха.
Арчер заметил, что госпожа Оленская, которая уселась рядом с нею, все еще внимательно его изучает. Оживление в глазах ее угасло, и она с глубокой нежностью проговорила:
— Я думаю, бабушка, нам удастся уговорить их сделать так, как он хочет.
Собираясь уходить и пожимая руку госпоже Оленской, Арчер почувствовал, что она ждет от него намека на оставшуюся без ответа записку.
— Когда я могу вас видеть? — спросил он, подходя с нею к дверям комнаты.
— Когда вам угодно, но, если вам хочется еще раз увидеть мой домик, поторопитесь. На будущей неделе я переезжаю.
Мысль о часах, проведенных в освещенной лампой низкой гостиной, больно кольнула Арчера. Как ни коротки были эти часы, они вызывали множество воспоминаний.
— Завтра вечером?
— Да, но пораньше. Я еду в гости.
Завтра воскресенье, и если воскресным вечером она едет в гости, то это, несомненно, к миссис Лемюэл Стразерс. Ему стало как-то неприятно — не потому, что она едет именно туда (он был рад, что она ездит куда хочет назло ван дер Лайденам), а потому, что в таком доме она непременно встретит Бофорта, заранее знает, что его встретит, а возможно, именно с этой целью и едет.
— Отлично, завтра вечером, — повторил он, решив про себя, что рано не поедет, а, явившись поздно, либо помешает ей ехать к миссис Стразерс, либо вообще ее не застанет, что при существующем положении вещей, безусловно, будет самым простым выходом.
Было, однако, всего половина девятого — на полчаса раньше задуманного, — когда Арчер, повинуясь какому-то странному беспокойству, позвонил в увитую глицинией дверь. Правда, он подумал, что воскресный прием у миссис Стразерс — это не бал и что ее гости, как бы пытаясь преуменьшить Серьезность своего проступка, обычно приезжают рано.
Чего он не ожидал найти в прихожей госпожи Оленской, так это чужих пальто и шляп. Зачем она просила его приехать пораньше, если у нее обедали гости? Когда он внимательно рассмотрел одежду, рядом с которой Настасия поместила его собственную, возмущение Арчера сменилось любопытством. Ему еще не доводилось встречать таких пальто в приличных домах, и он с первого же взгляда определил, что ни то, ни другое не принадлежит Джулиусу Бофорту. Одно одеяние представляло собой потрепанный желтый ульстер из тех, что продаются в магазинах готового платья, другое — очень старый порыжелый плащ с пелериной — нечто вроде того, что французы называют «макфарланом». Это последнее, судя по его виду, предназначенное для человека огромного роста, было весьма поношено, и его черные с прозеленью складки издавали запах мокрых опилок, свидетельствующий о том, что владелец оного подолгу подпирал собою стены пивной. Сверху лежал рваный серый шарф и немыслимая фетровая шляпа, отдаленно напоминающая головной убор священника.
Арчер вопросительно поднял брови. Настасия ответила ему тем же и, фаталистически махнув рукой, открыла перед ним двери гостиной.
Молодой человек очень удивился, увидев, что хозяйки в гостиной нет, а возле камина стоит какая-то другая дама. Эта дама, длинная, тощая и нескладно скроенная, была облачена в затейливо отделанный бахромой наряд из материала с полосами и клетками, составляющими узор, ключ к которому, казалось, безвозвратно утрачен. Ее волосы, которым хотелось поседеть, но удалось всего лишь поблекнуть, были собраны в высокую прическу, увенчанную испанским гребнем и черным кружевным шарфом, а на изуродованных ревматизмом руках красовались неумело заштопанные шелковые митенки.
Рядом, в облаке сигарного дыма, стояли владельцы пальто, оба в утренних костюмах, которые они с утра, очевидно, не меняли. В одном из них Арчер, к своему удивлению, узнал Неда Уинсетта; другой, постарше и совершенно ему незнакомый, судя по его гигантской фигуре, был хозяином «макфарлана»; он тряс своей львиной седой гривой[127] и широко разводил руки, как бы осеняя мирским благословением коленопреклоненную толпу.
Все трое стояли на каминном коврике, устремив глаза на колоссальный букет темно-красных роз, который вместе с пучком лиловых анютиных глазок лежал на диване, где обыкновенно сидела госпожа Оленская.
— Сколько они должны стоить в это время года — хотя, разумеется, не дорог подарок, а дорога любовь! — прерывистым стаккато произносила дама, когда Арчер вошел в комнату.
При его появлении все трое удивленно обернулись, а дама, выступив вперед, протянула ему руку.
— Дорогой мистер Арчер, можно сказать, кузен Ньюленд! — воскликнула она. — Я маркиза Мэнсон.
Арчер поклонился, и она продолжала:
— Моя милая Эллен на несколько дней меня приютила. Я приехала с Кубы, где проводила зиму с моими испанскими друзьями — очаровательнейшие, достойнейшие люди, высшая знать старой Кастилии. Как бы я хотела вас с ними познакомить! Но меня вызвал мой добрый друг, доктор Карвер. Вы не знакомы с доктором Агафоном Карвером, основателем общины «Долина Любви»?
Доктор Карвер наклонил свою львиную голову, и маркиза продолжала:
— Ах, Нью-Йорк, Нью-Йорк, как мало он соприкасается с жизнью духа! Однако я вижу, вы знакомы с мистером Уинсеттом.
— О да, я соприкоснулся с ним некоторое время назад, но не на этих путях, — со своей сухой улыбкой проговорил Уинсетт.
Маркиза укоризненно покачала головой.
— Почем вы это знаете, мистер Уинсетт? «Дух дышит там, где хочет».[128]
— Да-да, где хочет! — зычным голосом подхватил доктор Карвер.
— Прошу вас, присядьте, мистер Арчер. Мы вчетвером прелестно пообедали, и моя девочка пошла наверх переодеться. Она вас ждет, она сию минуту спустится. А мы как раз восхищались этими великолепными цветами, которые будут для нее таким приятным сюрпризом.
Уинсетт все еще стоял.
— Боюсь, что мне пора. Пожалуйста, передайте госпоже Оленской, что нам будет очень грустно, когда она покинет нашу улицу. Этот дом был настоящим оазисом.
— Ах, но вас она не покинет. Поэзия и искусство для нее дыхание жизни. Вы ведь пишете стихи, мистер Уинсетт?
— Нет, но иногда я их читаю, — сказал Уинсетт и, отвесив общий поклон, выскользнул из комнаты.
— Язвительный ум… un peu sauvage.[129] Но он так остроумен. Доктор Карвер, вы ведь тоже считаете, что он остроумен?
— Остроумие не по моей части, — сурово возразил доктор Карвер.
— Ах, ах, остроумие не по вашей части! Как он безжалостен к нам, слабым смертным, мистер Арчер. Но он живет одной лишь жизнью духа, и сейчас он мысленно готовится к лекции, которую нынче вечером прочитает у миссис Бленкер. Скажите, доктор Карвер, найдется у вас время до отъезда к Бленкерам, чтобы объяснить мистеру Арчеру ваше изумительное открытие «Прямого Контакта»? Но нет, я вижу, что уже скоро девять часов, и мы не вправе задерживать вас, когда столь многие ждут ваших откровений.
Доктор Карвер, казалось, был несколько обескуражен таким заключением, однако, сверив свои увесистые золотые часы с маленькими дорожными часиками госпожи Оленской, он неохотно приготовился к уходу.
— Мы позже увидимся, мой милый друг? — спросил он маркизу, которая с улыбкой отвечала:
— Как только приедет карета Эллен, я к вам присоединюсь; надеюсь, лекция еще не начнется.
Доктор Карвер задумчиво посмотрел на Арчера.
— Быть может, если этого молодого человека интересуют мои опыты, миссис Бленкер позволит вам привезти его с собой?
— О, дорогой друг, если бы это было возможно… Я уверена, что она была бы очень рада. Но боюсь, что Эллен сама рассчитывает на мистера Арчера.
— Весьма прискорбно, — сказал доктор Карвер. — Однако вот моя карточка.
Он вручил Арчеру карточку, на которой тот прочитал выведенную готическим шрифтом надпись:
АГАФОН КАРВЕР
ДОЛИНА ЛЮБВИ
КИТТАСКОТТОМИ
НЬЮ-ЙОРК
Доктор Карвер откланялся, и миссис Мэнсон со вздохом, который мог одинаково означать и сожаление, и облегчение, снова жестом предложила Арчеру сесть.
— Эллен сейчас вернется, а пока я рада посвятить вам это тихое мгновенье.
Арчер пробормотал что-то насчет радости по поводу столь приятной встречи, и маркиза своим низким, как бы задыхающимся голосом продолжала:
— Я все знаю, мистер Арчер, моя девочка рассказала мне обо всем, что вы для нее сделали. Ваш мудрый совет, ваша мужественная твердость — слава богу, что это было не слишком поздно!
Молодой человек слушал ее с глубоким смущением. Есть ли на свете хоть кто-нибудь, кому госпожа Оленская не поведала об его вмешательстве в ее личные дела?
— Мадам Оленская преувеличивает, просто я по ее просьбе дал ей юридический совет.
— Да, но при этом… при этом вы были бессознательным орудием… каким словом мы, современные люди, обозначаем провидение, мистер Арчер? — вскричала маркиза, склонив голову набок и загадочно смежив веки. — В ту минуту вы не знали, что и ко мне обратились с просьбой и мне был задан вопрос — через Атлантический океан!
Она посмотрела через плечо, словно боясь, что их могут подслушать, после чего, придвинув ближе свой стул и подняв к губам крошечный веер из слоновой кости, прошептала:
— Ко мне обратился сам граф — бедный, безумный, глупый Оленский, который умоляет ее вернуться на любых угодных ей условиях.
— Великий боже! — воскликнул Арчер, вскакивая со стула.
— Вы в ужасе? Да, да, конечно, я понимаю. Я не защищаю несчастного Станислава, хотя он всегда называл меня своим лучшим другом. Он не защищает самого себя — он припадает к ее ногам… в моем лице. — Она ударила себя по своей впалой груди: — Здесь у меня его письмо.
— Письмо? Госпожа Оленская его видела? — пробормотал Арчер, совершенно сбитый с толку этим неожиданным сообщением.
Маркиза Мэнсон тихонько покачала головой.
— Время, время. Мне нужно время. Я знаю Эллен, она упряма, надменна и, я бы сказала, иногда не умеет прощать.
— Господи, простить — это одно, а вернуться в этот ад…
— О да, — согласилась маркиза, — это ее слова — моя бедная чувствительная девочка! Но, с точки зрения материальной, мистер Арчер, если можно снизойти до мысли о таких вещах, знаете ли вы, от чего она отказывается? Эти розы здесь на диване — их там целые плантации, в теплицах и под открытым небом в его несравненных, спускающихся террасами садах в Ницце! Драгоценные камни, исторические жемчуга, изумруды Собеских,[130] соболя… Но ей все это не нужно! Искусство и красота— вот что ей нужно, вот чем она живет, точь-в-точь как всегда жила и я, — и это тоже было у нее в избытке. Картины, бесценная мебель, музыка, блестящие беседы — о, мой милый юноша, простите меня, но здесь вы даже понятия об этом не имеете! И все это у нее было, и преклонение великих мира сего в придачу. Она говорит, что в Нью-Йорке ее не считают красивой — о, боже! Ее портрет писали девять раз, величайшие художники Европы домогались этой чести. Неужели все это ничего не значит? А раскаяние безгранично любящего мужа?
Воспоминания о прошлом привели маркизу Мэнсон в состояние экстаза, и восторженное выражение ее лица немало позабавило бы Арчера, если бы он не онемел от изумления.
Он бы рассмеялся, если бы ему сказали, что он впервые увидит несчастную Медору Мэнсон в образе посланца самого Сатаны, но сейчас ему было не до смеха, и ему казалось, что она явилась прямиком из ада, откуда Эллен Оленской только что удалось вырваться.
— Ей еще ничего не известно… обо всем этом? — отрывисто спросил он.
Миссис Мэнсон приложила лиловый палец к губам.
— Я ей ничего не говорила, но, быть может, она подозревает? Кто знает? По правде говоря, мистер Арчер, я хотела сначала повидаться с вами. С той самой минуты, как я услышала о твердой позиции, которую вы заняли, и о вашем влиянии на Эллен, я надеялась, что вы меня поддержите… что я смогу убедить вас…
— В том, что она должна вернуться? Я предпочел бы увидеть ее мертвой! — вне себя воскликнул молодой человек.
— Ах, — без видимых признаков возмущения пробормотала маркиза. Некоторое время она сидела в кресле, пальцами в митенках открывая и закрывая свой нелепый веер из слоновой кости, потом вдруг подняла голову и прислушалась.
— Она идет, — быстро прошептала она и, махнув рукой в сторону лежащего на диване букета, добавила — Следует ли понять вас так, что вы предпочитаете это, мистер Арчер? В конце концов, замужество есть замужество… и моя племянница все еще супруга…
18
Что за козни вы тут вдвоем строите, тетя Медора? — воскликнула госпожа Оленская, входя в комнату. Она была одета как на бал. Все на ней светилось и переливалось, словно сотканное из лучей мерцающей свечи, и она высоко несла голову, как хорошенькая женщина, бросающая вызов полной комнате соперниц.
— Мы говорили о том, душенька, что тебя ждет прелестный сюрприз, — отвечала миссис Мэнсон, вставая и игриво указывая на цветы.
Госпожа Оленская остановилась и взглянула на букет. Лицо ее не покраснело, но, словно молнией в летнюю грозу, озарилось белой вспышкой гнева.
— Фи! — воскликнула она резким голосом, какого Арчер еще ни разу не слышал. — Что за нелепость посылать мне букет! Почему букет? И почему именно сегодня вечером? Я не собираюсь на бал, я не невеста. Но есть люди, которые всегда ведут себя нелепо.
Она вернулась к двери, распахнула ее и крикнула:
— Настасия!
Расторопная служанка тотчас явилась на зов, и Арчер услышал, как госпожа Оленская, нарочно отчеканивая каждое слово, чтобы он мог уловить смысл ее речи, говорит по-итальянски:
— Сейчас же выкинь это в мусорную корзину, — и в ответ на негодующий взгляд Настасий добавляет — Впрочем, нет, бедные цветы тут ни при чем. Вели мальчику отнести их в третий дом отсюда, мистеру Уинсетту — тому темноволосому джентльмену, который сегодня у нас обедал. У него больная жена — быть может, они ее порадуют. Мальчик ушел? Ну что ж, голубушка, тогда сбегай сама. Накинь мое манто и беги. Я хочу поскорее убрать их из дому. И ни за что на свете не говори, что они от меня!
Она накинула на плечи служанки свое нарядное бархатное манто и вернулась в гостиную, громко хлопнув дверью. Грудь ее высоко вздымалась под кружевами, и Арчер подумал, что она вот-вот заплачет, но вместо этого она рассмеялась и, переводя взгляд с маркизы на Арчера, спросила:
— Ну, а вы — вы подружились?
— Об этом пусть скажет мистер Арчер, милочка. Он терпеливо ждал, пока ты одевалась.
— Да, времени у вас было достаточно, я никак не могла прибрать волосы, — сказала госпожа Оленская, подняв руку к взбитым локонам прически. — Кстати, доктор Карвер уже ушел, а вы можете опоздать к Бленкерам, тетя. Мистер Арчер, будьте так добры, посадите тетю в карету.
Она пошла за маркизой в прихожую, проследила, чтобы ее облачили во всевозможные ботики, палантины и шали, крикнула ей вслед:
— Позаботьтесь, чтобы карета вернулась за мною к десяти, — и прошла обратно в гостиную.
Возвратившись туда же, Арчер увидел, что она стоит у камина и смотрит на себя в зеркало. В нью-йоркском обществе дамы обыкновенно не называли своих горничных «голубушками» и не посылали их с поручениями в своих нарядных манто, и Арчер, несмотря на обуревавшие его чувства, испытал, однако, приятное волнение от того, что находится в мире, где действие с такой олимпийской скоростью следует за побуждением.
Когда он подошел к госпоже Оленской сзади, она продолжала стоять неподвижно, и на секунду глаза их встретились в зеркале, потом она обернулась, уселась в углу дивана и вздохнула:
— Теперь самое время закурить.
Он подал ей коробку с сигаретами, зажег лучинку, и, когда пламя осветило ей лицо, она посмотрела на него смеющимися глазами и спросила:
— Как я нравлюсь вам во гневе?
Помолчав, Арчер внезапно собрался с духом и ответил:
— Это помогает мне понять, что сказала о вас ваша тетушка.
— Я так и думала, что она говорила обо мне. Так что же она сказала?
— Она сказала, что вы привыкли ко многому такому, чего мы никогда не сможем дать вам здесь, — к роскоши, развлечениям и удовольствиям.
Госпожа Оленская слегка улыбнулась в колечко дыма, вылетевшее из ее губ.
— Медора неисправимо романтична. Это заменяет ей столько других вещей!
Арчер снова заколебался и снова решил рискнуть:
— Скажите, не влияет ли порою романтичность вашей тетушки на достоверность ее суждений?
— Вы хотите спросить, говорит ли она правду? — задумалась племянница маркизы. — Я бы сказала так: почти во всем, что она говорит, есть доля правды и неправды. Но почему вы спрашиваете? Что она вам тут наговорила?
Он отвернулся к огню, потом снова посмотрел на ее сияющую фигуру. Сердце его сжалось при мысли, что сегодня их последний вечер у этого камина и что через несколько минут за нею приедет карета.
— Она говорит… она уверяет, будто граф Оленский просил ее уговорить вас к нему вернуться.
Госпожа Оленская ничего не ответила. Она сидела неподвижно, держа в приподнятой руке сигарету. Выражение ее лица не изменилось, и Арчер вспомнил, что уже давно заметил ее кажущуюся неспособность удивляться.
— Так вы это знали? — вырвалось у него.
Она молчала так долго, что с сигареты посыпался пепел. Она стряхнула его на пол.
— Она намекала на какое-то письмо. Бедняжка! Намеки Медоры…
— Уж не по просьбе ли вашего мужа она неожиданно сюда приехала?
Госпожа Оленская, казалось, обдумывала эту возможность.
— И этого тоже нельзя утверждать наверное. Она сказала мне, что ее «призвал» доктор Карвер. Боюсь, что она собирается за него замуж… Бедная Медора, у нее всегда есть кто-то, за кого она хочет выйти замуж. Но, возможно, эти люди на Кубе просто от нее устали! По-моему, она была у них чем-то вроде компаньонки. Я, право, не знаю, зачем она приехала.
— Но вы все-таки допускаете, что у нее есть письмо от вашего мужа?
Госпожа Оленская опять погрузилась в молчаливые размышления; потом она сказала:
— Ну что ж, этого следовало ожидать.
Молодой человек встал и прислонился к камину. Его вдруг охватила тревога, и мысль, что их время на исходе и что в любую минуту он может услышать шум колес возвратившегося экипажа, на миг лишила его дара речи.
— Знаете, ведь ваша тетушка уверена, что вы вернетесь.
Госпожа Оленская быстро подняла голову. Густой румянец, покрыв ее лицо, разлился по шее и плечам. Она краснела редко и мучительно, словно кровь обжигала ей кожу.
— Обо мне и раньше плохо думали, — сказала она.
— О, Эллен, простите, я просто дурак и негодяй! Она слегка улыбнулась.
— Вы страшно нервничаете. У вас свои, заботы. Я знаю, вы не одобряете неблагоразумного отношения Велландов к вашей свадьбе, и я совершенно с вами согласна. Европейцам непонятен смысл наших долгих американских помолвок; мне кажется, они не так уравновешенны, как мы. — Слово «мы» она произнесла с еле заметным ударением, которое придало ему иронический оттенок.
Арчер почувствовал иронию, но не осмелился принять вызов. Ведь, может быть, она нарочно не поддержала разговор о своих заботах, а теперь, когда своей последней фразой он, очевидно, причинил ей такую боль, ему ос-# тается лишь повиноваться. Однако ощущение неотвратимого хода времени толкало его на отчаянные поступки; он не мог вынести мысли, что между ними еще раз возникнет словесный барьер.
— Да, — отрывисто проговорил он. — Я ездил на юг просить Мэй выйти за меня замуж после пасхи. Ничто не мешает нам пожениться именно тогда.
— Мэй вас обожает — и вы не могли ее убедить? Мне казалось, она слишком умна, чтобы разделять такие нелепые предрассудки.
— Она и в самом деле слишком умна — она их не разделяет.
Графиня Оленская подняла на него глаза.
— В таком случае я не понимаю… Арчер покраснел и поспешил ответить:
— У нас был откровенный разговор — можно сказать, впервые. Она думает, что мое нетерпение — дурной признак.
— Милосердный боже! Дурной признак?
— Она думает, будто я не уверен, что она мне не разонравится. Короче, она думает, что я хочу немедленно на ней жениться, чтобы уйти от какой-то другой женщины, которая… которая нравится мне больше.
Госпожа Оленская с любопытством на него посмотрела.
— Но если она так думает, почему она не торопится тоже?
— Потому что она не такая, она гораздо благороднее. Она тем более настаивает на продолжительной помолвке, что хочет дать мне время…
— Время отказаться от нее ради другой женщины?
— Если я захочу.
Госпожа Оленская наклонилась и неподвижным взглядом посмотрела в огонь. С тихой улицы до Арчера донесся приближающийся топот ее лошадей.
— Да, это очень благородно, — с легкой дрожью в голосе произнесла она.
— Очень. Но это смешно.
— Смешно? Потому что вы не любите никакую другую женщину?
— Потому что я не собираюсь жениться ни на какой другой женщине.
— А-а-а. — Снова наступило долгое молчание. Наконец она подняла на него глаза и спросила: — Эта другая женщина… она вас любит?
— О, никакой другой женщины нет. То есть та особа, о которой думала Мэй… она никогда…
— Тогда зачем вам так торопиться?
— Вот ваша карета, — сказал Арчер.
Она приподнялась и отсутствующим взглядом посмотрела вокруг. Веер и перчатки лежали возле нее на диване, и она машинально их взяла.
— Да, мне, пожалуй, пора ехать.
— Вы едете к миссис Стразерс?
— Да. — Улыбнувшись, она добавила: — Я должна ездить туда, куда меня приглашают, иначе мне будет совсем одиноко. Почему бы вам не поехать со мной?
Арчер почувствовал, что любой ценой должен ее удержать, должен заставить ее подарить ему остаток вечера. Не отвечая на ее вопрос, он продолжал стоять, опершись о камин, устремив глаза на руку, в которой она держала перчатки и веер, словно желая проверить, хватит ли у него сил заставить ее их отбросить.
— Мэй угадала правду, — сказал он. — Другая женщина есть — но не та, про кого она думает.
Эллен Оленская молчала и не шевелилась. Через некоторое время он подошел, сел с нею рядом и, взяв ее руку, тихонько разжал ее, так что перчатки и веер упали на диван между ними.
Она мгновенно поднялась и, высвободив руку, передвинулась к противоположной стороне камина.
— Прошу вас, не пытайтесь со мною флиртовать! Слишком многие это делали, — нахмурившись, воскликнула она.
Арчер покраснел и тоже встал. Более горького упрека бросить ему она не могла.
— Я никогда не пытался, с вами флиртовать, — сказал рн, — и никогда не буду. Но вы та женщина, на которой я бы женился, если б это было возможно для нас обоих.
— Возможно для нас обоих? — Она с неподдельным изумлением на него взглянула. — И это говорите вы — когда вы сами сделали это невозможным?
Он устремил на нее взгляд, словно отыскивая путь во тьме, сквозь которую пробивался один-единственный ослепительный луч света.
— Я сделал это невозможным?
— Вы, вы, вы! — закричала она. Губы у нее дрожали, как у ребенка, который вот-вот заплачет. — Разве не вы заставили меня отказаться от развода, разве не вы объяснили мне, что это эгоистично и дурно, что надо пожертвовать собой ради сохранения священных уз брака… ради спасения семьи от огласки и от скандала? И потому, что моя семья должна стать вашей семьей… ради Мэй и ради вас я поступила так, как вы мне велели, так, как, по вашим словам, я должна была поступить. — Она неожиданно рассмеялась. — Я и не скрывала, что делаю это ради вас!
Она снова опустилась на диван, поникнув среди волнистых складок своего праздничного наряда, как усталая маска после карнавала, а молодой человек стоял у камина, не сводя с нее глаз.
— Боже мой, — простонал он, — а я-то думал…
— Что вы думали?
— Не спрашивайте меня, что я думал!
Все еще глядя на нее, он увидел, как давешний жгучий румянец, поднимаясь от шеи, заливает ей лицо. Она выпрямилась и исполненным сурового достоинства взглядом отвечала на его взгляд.
— И все же я вас спрашиваю.
— Понимаете… в том письме, которое вы дали мне прочитать… было сказано…
— В письме моего мужа?
— Да.
— Того, что сказано в этом письме, я не боялась. Боялась я только одного: навлечь позор и бесчестье на всю семью — на, вас и Мэй.
— Боже мой, — опять простонал он, закрывая лицо руками.
Наступившее вслед за этим молчание легло на них тяжким грузом непоправимой утраты. Арчеру казалось.
будто оно придавило его, как собственное надгробие, и во всем бесконечном будущем нет ничего, что когда-нибудь снимет этот груз с его души. Он не двигался, не отнимал от лица рук, и закрытые глаза его продолжали смотреть в непроглядную тьму.
— По крайней мере я любил вас… — вырвалось у него. С другой стороны камина, из уголка дивана, где, как он думал, она все еще сидела, послышалось слабое сдавленное рыдание, словно плакал ребенок. Он вскочил и подошел к ней.
— Эллен! Что за безумие? Почему вы плачете? Все, что было сделано, можно переделать. Я пока еще свободен, и вы тоже освободитесь. — Он обнял ее; лицо ее, словно мокрый цветок, коснулось его губ, и все их напрасные страхи рассеялись, как призраки в лучах восходящего солнца. Зачем же было целых пять минут спорить с нею через всю комнату, когда от одного лишь прикосновения все сразу стало так просто?
Она ответила на поцелуй, но тотчас же вся сжалась в его объятиях, отстранила его и встала.
— Бедный Ньюленд, рано или поздно это должно было случиться. Но это ничего не меняет, — сказала она.
— Это меняет всю мою жизнь.
— Нет, нет, так не должно быть и не будет. Вы помолвлены с Мэй Велланд, а я замужем.
Вспыхнув, Арчер тоже поднялся.
— Чепуха! — решительно возразил он. — Слишком поздно думать о таких вещах! Мы не имеем права обманывать себя и других. О вашем замужестве мы говорить не будем, но неужели вы могли себе представить, что после всего этого я женюсь на Мэй?
Она молчала, опершись тонкими руками на плиту камина, а в зеркале у нее за спиной был виден ее профиль. Один локон выбился из прически и упал ей на шею. Она казалась измученной, даже постаревшей.
— Я не могу себе представить, как вы скажете об этом Мэй. А вы можете?
Он равнодушно пожал плечами.
— Слишком поздно делать что-либо другое.
— Вы говорите это потому, что сейчас легче всего сказать именно такие слова, а не потому, что это правда. На самом деле слишком поздно менять наше общее решение.
— Но я вас просто не понимаю!
Она улыбнулась вымученной улыбкой, от которой лицо ее не разгладилось, а лишь еще более сжалось.
— Вы не понимаете потому, что не знаете, как вы все для меня изменили — да, да, с самого начала, задолго до того, как мне стало известно обо всем, что вы сделали.
— Обо всем, что я сделал?
— Да. Сначала я просто не понимала, что здесь все меня сторонятся, считают меня дурной женщиной. По-моему, они даже отказались обедать со мной за одним столом. Я узнала обо всем этом позже, узнала, как вы уговорили свою матушку поехать с вами к ван дер Лайденам и как вы настаивали на оглашении вашей помолвки на балу у Бофортов, чтобы вместо одной семьи меня могли поддержать сразу две…
При этих словах он рассмеялся.
— Вообразите только, как я была глупа и ненаблюдательна! — продолжала она. — Я ничего этого не знала, пока бабушка однажды все это мне не выболтала. Нью-Йорк означал для меня просто покой и свободу, просто возвращение домой. И я была так счастлива вновь очутиться среди своих, что мне казалось, будто все такие хорошие, добрые и все рады меня видеть. Но я с самого начала чувствовала, что нет никого добрее вас; никто не объяснил мне, почему надо сделать то, что сначала казалось таким трудным и… и ненужным. Эти хорошие люди не могли меня убедить, и я чувствовала, что они никогда не подвергались соблазну. Но вы знали, вы поняли, вы чувствовали, как внешний мир цепляется за людей всеми своими золотыми руками, и все же вам было ненавистно то, что он от них требует, вам было ненавистно счастье, купленное ценою вероломства, жестокости и равнодушия. Раньше я этого не знала… и это лучше всего, что я знала.
Она говорила глухим, ровным голосом, без слез, без видимых признаков волнения, и каждое слово, слетавшее с ее уст, расплавленным свинцом жгло ему грудь. Опустив голову на руки, он смотрел на каминный коврик и на кончик атласной туфельки, выглядывавшей из-под ее платья, потом вдруг встал на колени и поцеловал эту туфельку.
Она наклонилась над ним, положила руки ему на плечи и посмотрела на него таким глубоким взглядом, что он не мог шелохнуться.
— О, не будем переделывать то. что вы сделали! — вскричала она. — Я уже не могу вернуться к прежнему образу мыслей. Я не смогу любить вас, если я от вас не откажусь.
В отчаянии он протянул к ней руки, но она отпрянула, и они молча смотрели друг на друга через преграду, которую воздвигли между ними ее слова. Внезапно его охватил гнев.
— А Бофорт? Уж не он ли заменит меня?
Когда у него вырвались эти слова, он приготовился к ответной вспышке гнева, он даже был бы рад, что она даст пищу для его ярости. Но госпожа Оленская лишь чуть-чуть побледнела; опустив руки и слегка наклонив голову, она продолжала стоять, словно что-то обдумывая.
— Он ждет вас сейчас у миссис Стразерс, почему же вы к нему не едете? — усмехнулся Арчер.
Она позвонила.
— Я сегодня никуда не поеду, вели карете вернуться за синьорой маркизой, — сказала она явившейся на зов служанке.
Когда дверь снова затворилась, Арчер все еще смотрел на нее полными горечи глазами.
— К чему эта жертва? Ведь вы сказали, что вы одиноки, и я не смею мешать вам встречаться с друзьями.
Она улыбнулась ему из-под мокрых ресниц.
— Теперь я не буду одинокой. Я была одинока, мне было страшно. Но пустоты и тьмы больше нет, и теперь, заглядывая в свое сердце, я чувствую себя как ребенок, который среди ночи входит в комнату, где всегда светло.
Всем своим обликом и тоном она как бы воздвигала между ними невидимую, но непреодолимую преграду, и Арчер снова простонал:
— Я вас не понимаю!
— Но вы понимаете Мэй!
Он покраснел от досады, но не сводил с нее глаз.
— Мэй готова от меня отказаться.
— Что? Через три дня после того, как вы на коленях умоляли ее ускорить свадьбу?
— Она отказалась, и это дает мне право… *
— Ах, вы объяснили мне, какое это отвратительное слово, — сказала она.
Он отвернулся, охваченный смертельной усталостью. Казалось, будто он много часов подряд карабкался по отвесной скале, и теперь, когда ему удалось наконец добраться до самой вершины, руки его ослабели, и он вниз головой рухнул в темную пропасть.
Если б только можно было снова заключить ее в объятия, он опроверг бы все ее доводы, но она все еще держала его на расстоянии — в ее облике и взгляде было что-то непостижимо отрешенное, да и сам он был исполнен благоговения перед ее искренностью.
— Мы должны сделать это сейчас, ведь потом будет хуже — хуже для всех… — взмолился он наконец.
— Нет, нет, нет! — вскричала она, словно он чем-то ее испугал.
В эту минуту раздался долгий пронзительный звонок. Они не слышали, чтобы к дому подъехал экипаж, и неподвижно застыли, с тревогой глядя друг на друга.
В прихожей послышались шаги Настасии; она открыла входную дверь и тотчас же вручила госпоже Оленской телеграмму.
— Дама очень радовалась цветам, — сказала Настасия, разглаживая фартук. — Она думала, что их прислал ее signor marito,[131] и она немножко поплакала и сказала, что это безумие.
Графиня улыбнулась, взяла желтый конверт, разорвала и поднесла его к лампе, а когда дверь за Настасией закрылась, протянула телеграмму Арчеру.
Телеграмма была отправлена из Сент-Огастина и адресована графине Оленской. Он прочитал: «Бабушкина телеграмма помогла. Папа и мама согласны на свадьбу после пасхи. Телеграфирую Ньюленду. Не нахожу слов от счастья и люблю вас нежно. Благодарная Мэй».
Полчаса спустя, отперев парадную дверь своего дома, Арчер поверх кучки ожидавших его записок и писем нашел на столе в прихожей точно такой же конверт. Телеграмма, тоже от Мэй Велланд, гласила: «Родители согласны свадьбу вторник после пасхи в двенадцать церкви Милости господней восемь подружек пожалуйста повидайтесь пастором счастлива люблю Мэй».
Он скомкал желтый листок, словно этим жестом можно было уничтожить известие, которое в нем заключалось. Потом вытащил маленький карманный календарик и дрожащими пальцами принялся его перелистывать, но, не найдя того, что искал, сунул телеграмму в карман и поднялся по лестнице.
Из-под двери небольшой комнаты, служившей Джейни туалетной и приемной, пробивался свет, и он нетерпеливо в нее постучал. Дверь отворилась, и перед ним предстала сестра в своем допотопном лиловом фланелевом халате с папильотками в волосах. Она казалась бледной и встревоженной.
— Ньюленд! Надеюсь, в этой телеграмме нет ничего плохого? Я нарочно ждала тебя на случай, если… — (Ничто из его переписки не могло укрыться от Джейни.)
Он пропустил ее вопрос мимо ушей.
— Послушай, когда нынче пасха?
Безбожие брата, казалось, потрясло Джейни.
— Пасха? Ньюленд! Разумеется, на первой неделе апреля! Как ты можешь этого не знать?
— На первой неделе? — Он снова стал листать свой календарик, нетерпеливым шепотом что-то подсчитывая. — Ты сказала, на первой неделе?
— Господи, да что случилось?
— Ничего не случилось, если не считать того, что через месяц я женюсь.
Джейни бросилась ему на шею и прижала его к своей лиловой фланелевой груди.
— О Ньюленд, это же чудесно! Я так рада! Но, милый, чему ты смеешься? Тише, ты разбудишь маму!
КНИГА II
19
День выдался свежий, весенний ветерок взметал на улицах пыль. Все старые дамы из обоих семейст. т извлекли свои выцветшие соболя и пожелтевший горностай, и запах камфары из передних рядов почти совсем заглушал весенний аромат белых лилий на алтаре.
По знаку дьякона Ньюленд Арчер вышел из ризницы и вместе с шафером встал на ступеньку алтаря церкви Милости господней.
Это означало, что карета с невестой и ее отцом уже подъезжает, однако предстоит еше долгая суета и возня в притворе, где, словно охапка пасхальных цветов, уже сгрудились подружки невесты. Весь этот неизбежный промежуток времени жениху, в доказательство его нетерпения, полагалось одиноко стоять под взорами публики, и Арчер покорился этому правилу столь же безропотно, сколь и всем остальным, благодаря которым нью-йоркская свадьба XIX века напоминала некий ритуал, совершавшийся, казалось, на заре истории. Все было одинаково легко — или одинаково мучительно, в зависимости от точки зрения, — на пути, которым он был обречен следовать, и он исполнял взволнованные предписания своего шафера с таким же благоговением, с каким другие женихи повиновались ему в те дни, когда он вел их сквозь тот же лабиринт.
До сих пор он был уверен, что выполнил все свои обязательства. Восемь букетов белой сирени и ландышей для подружек невесты были в надлежащее время разосланы, равно как золотые запонки с сапфирами восьмерым распорядителям и халцедоновая булавка в галстук шаферу. Арчер просидел полночи, придумывая различные варианты благодарственных писем за последнюю партию подарков от приятелей и бывших дам сердца; гонорары епископу и пастору благополучно покоились в кармане шафера; его собственный багаж был уже в доме миссис Мэнсон Минготт, где состоится свадебный завтрак, и там же лежал дорожный костюм, в который ему предстояло переодеться; было заказано отдельное купе в поезде, который умчит молодоженов в неизвестном направлении, — тайна, окружавшая место, где они проведут брачную ночь, была одним из самых непререкаемых табу всей этой допотопной церемонии.
— Кольцо не забыли? — шепотом спросил молодой ван дер Лайден Ньюленда. Совсем еще неопытный шафер, он был преисполнен сознания своей ответственности.
Арчер повторил жест столь многих виденных им прежде женихов — правой рукой без перчатки ощупал карман своего темно-серого жилета, убедился, что тоненький золотой обруч (на внутренней поверхности которого было выгравировано: «Мэй от Ньюленда…апреля 187… года») на месте, после чего принял прежнюю позу и, держа в левой руке цилиндр и жемчужно-серые перчатки с черной строчкой, продолжал стоять, глядя на церковные двери.
Под каменными сводами торжественно гремел генделевский марш; волны звуков несли с собою смутные воспоминания о многих свадьбах, во время которых он с веселым безразличием стоял на той же алтарной ступени, наблюдая, как другие невесты вплывали в неф навстречу другим женихам.
«Как похоже на премьеру в опере!» — подумал он, узнавая все те же физиономии в тех же ложах (нет, на тех же скамьях). Интересно, когда прогремит последний звук архангельской трубы, будет ли при сем присутствовать миссис Селфридж Мерри со своим неизменным высоким, как башня, плюмажем из страусовых перьев на шляпе и миссис Бофорт с неизменными бриллиантовыми серьгами и с неизменной улыбкой, и приготовлены ли уже им на том свете соответствующие места на авансцене?
После этого еще осталось время оглядеть одно за другим знакомые лица в первых рядах: женские, полные любопытства и волнения, мужские — хмурые от мысли, что предстоит еще переодевание во фрак, а потом битва за угощение на свадебном завтраке.
Жениху показалось даже, будто он слышит слова Реджи Чиверса: «Как жаль, что завтрак состоится у старухи Кэтрин. Правда, Лавел Минготт, кажется, настоял, чтобы — все блюда готовил его повар, и, значит, они будут хороши — если только удастся до них добраться». А Силлертон Джексон авторитетно заявляет: «Мой милый друг, разве вы не знаете? Завтрак будет сервирован на маленьких столиках, по последней английской моде».
Взор Арчера на мгновение остановился на левом ряде скамей, где его мать, которая вошла в церковь под руку с мистером Генри ван дер Лайденом, тихонько плакала под кружевной вуалью, спрятав руки в отделанную горностаем муфту своей бабушки.
«Бедняжка Джейни, — подумал он, глядя на сестру, — если она даже свернет себе шею, то сможет увидеть лишь самые первые ряды, где сидят, главным образом, безвкусно одетые Ныоленды и Дэгонеты».
По эту сторону белой ленты, отделявшей места для обоих семейств, он увидел красную физиономию Бофорта, который с высоты своего роста дерзко разглядывал женщин. Рядом восседала его супруга, вся в серебристых шиншиллах и фиалках, а на дальнем конце ленты виднелась прилизанная голова Лоренса Леффертса, который, казалось, стоит на страже «хорошего тона», этого невидимого божества, распоряжающегося всею церемонией.
«Интересно, сколько погрешностей острый глаз Леффертса заметит в ритуале своего кумира?» — подумал Арчер. Потом он вдруг вспомнил, что некогда и сам считал все это очень важным. Все, что прежде заполняло его дни, теперь казалось не то ребяческой пародией на жизнь, не то спорами средневековых схоластов о метафизических терминах, смысла которых никто никогда не понимал. Бурная дискуссия по поводу того, следует ли устраивать «выставку» свадебных подарков, омрачила последние часы перед свадьбой, и Ньюленд просто не мог понять, как взрослые люди способны доводить себя до исступления из-за подобных пустяков. В конце концов вопрос решила (отрицательно) миссис Велланд, со слезами возмущения заявив, что скорее пустит к себе в дом репортеров. А ведь было время, когда Арчер имел обо всем этом вполне определенное и довольно непримиримое мнение и когда все, касающееся обычаев и нравов его маленького клана, казалось ему исполненным поистине мирового значения.
«И все это время, — подумал он, — где-то, наверное, жили настоящие люди и с ними происходили настоящие события…»
— Идут! — взволнованно прошептал шафер; однако жених знал, что это еще не они.
Осторожно приоткрывшаяся дверь церкви означала всего лишь, что извозопромышленник мистер Браун (весь в черном, как и подобает дьякону, в качестве которого он теперь выступал) производил предварительный смотр своим войскам, прежде чем построить их в боевой порядок. Дверь снова бесшумно закрылась, затем, спустя еще какое-то время, ее торжественно отворили, и по церкви пронесся шепот: «Родственники!»
Впереди, под руку со старшим сыном, шла миссис Велланд. Ее крупное румяное лицо выражало приличествующую случаю торжественность. Темно-фиолетовое атласное платье с бледно-голубыми вставками по бокам и голубые страусовые перья на маленькой атласной шляпке вызвали всеобщее одобрение, но не успела она, величественно прошелестев юбками, занять свое место в ряду напротив миссис Арчер, как зрители уже принялись вытягивать шеи, стараясь разглядеть, кто следует за ней. Накануне разнесся фантастический слух, будто миссис Мэнсон Минготт, презрев свою немощь, решила присутствовать на церемонии, и это намерение было до такой степени под стать ее отваге, что в клубах заключались пари на большие суммы насчет того, сможет ли она пройти по нефу и втиснуться в узкое сиденье. Стало известно, что она послала своего плотника посмотреть, нельзя ли снять заднюю стенку ее скамьи, и измерить расстояние между сиденьем и спинкой предыдущего ряда, но результат оказался неблагоприятным, и вся семья пережила беспокойный день, в течение которого старуха носилась с мыслью проехать по нефу в своем огромном кресле на колесиках и, словно на троне, воссесть у подножия алтаря.
Чудовищная затея миссис Минготт выставить себя на всеобщее обозрение столь неподобающим способом причинила такие страдания ее родным, что они готовы были озолотить того хитроумного человека, который вдруг обнаружил, что кресло слишком широко и потому не пройдет между железными стойками парусинового тента, натянутого над входом в церковь.
Мысль о том, чтобы убрать этот тент и открыть невесту взорам толпы портних и репортеров, которые с боем рвались к отверстиям в парусине, превозмогла даже храбрость старухи Кэтрин, хотя она какое-то время и рассматривала этот план.
— Но ведь они смогут сделать фотографию моей девочки и поместить ее в газетах! — воскликнула миссис Велланд, когда ей намекнули на последний замысел свекрови, и весь клан единодушно содрогнулся от столь неслыханного неприличия. Прародительнице пришлось сдаться, но ее, уступка была куплена лишь ценою обещания устроить свадебный завтрак под ее крышей, хотя, как заметил один родственник с Вашингтон-сквера, зачем платить Брауну дополнительную сумму за доставку гостей на край света, когда до особняка Велландов просто рукой подать.
Благодаря Джексонам вся эта шумиха получила широкую огласку, но несколько любителей сильных ощущений все еще надеялись, что старуха Кэтрин приедет в церковь, и когда вместо нее явилась ее невестка, накал страстей заметно понизился. У миссис Лавел Минготт был яркий румянец и тусклый взгляд от непомерных усилий, с какими дамы ее возраста и комплекции втискиваются в новое платье, но, когда разочарование, вызванное отсутствием ее свекрови, улеглось, все согласились, что ее черные шелковые кружева в сочетании с сиреневым атласом и шляпкой из пармских фиалок превосходно контрастируют с голубыми и темно-фиолетовыми тонами миссис Велланд. Совсем иное впечатление произвела костлявая жеманная дама, которая шла вслед за нею под руку с мистером Минготтом, и, когда это взъерошенное видение в немыслимом наряде из торчащих во все стороны лент, бахромы и развевающихся шарфов возникло в поле зрения Арчера, сердце его сжалось и на мгновение перестало биться.
Он был уверен, что маркиза Мэнсон все еще в Вашингтоне, куда она около месяца назад уехала со своею племянницей Эллен Оленской. Считалось, что ее внезапный отъезд вызван желанием госпожи Оленской оградить тетушку от пагубного влияния доктора Агафона Карвера, который чуть было не завербовал ее в ряды прозелитов «Долины Любви», и поэтому никто не ожидал, что какая-либо из этих двух дам приедет на свадьбу. С минуту Арчер стоял, вперив взор в фантастическую фигуру Медоры и стараясь разглядеть, кто идет за ней, но оказалось, что она замыкает шествие, — менее значительные члены семьи заняли свои места, и восемь рослых распорядителей, подобно готовым к перелету птицам, проскользнув сквозь боковые двери, уже собрались в притворе.
— Ньюленд! Да послушайте же! Она здесь! — прошептал шафер.
Арчер вздрогнул.
С тех пор как его сердце перестало биться, прошло уже, очевидно, немало времени, ибо бело-розовая процессия теперь добралась до середины нефа, епископ, два его белокрылых помощника и пастор стояли у окаймленного лилиями алтаря, а первые аккорды симфонии Шпора[132] цветами сыпались к ногам невесты.
Арчер открыл глаза (неужели они действительно были закрыты, или ему только так показалось?) и почувствовал, что его сердце вновь принялось за свое обычное дело. Музыка, аромат лилий на алтаре, надвигающееся все ближе и ближе облако из тюля и флёрдоранжа, лицо миссис Арчер, внезапно исказившееся от счастливых рыданий, голос пастора, невнятно бормочущий слова благословения, заученные маневры восьми розовых подружек и восьми черных распорядителей — все эти образы, звуки и ощущения, такие знакомые сами по себе, но такие невыразимо странные и бессмысленные теперь, когда они приобрели прямое отношение к нему, окончательно смешались у него в голове.
«О, боже, где кольцо?» — подумал он, еще раз повторяя конвульсивный жест всех женихов.
Через секунду рядом с ним очутилась Мэй, и от нее исходило такое сияние, что оно согрело застывшее сердце Ньюленда, он выпрямился и с улыбкой посмотрел ей в глаза.
— Коль скоро так судил Спаситель… — начал пастор.
Кольцо надето ей на палец, епископ произнес благословение, подружки готовы вновь занять свои места в процессии, орган вот-вот грянет марш Мендельсона, без которого еще ни разу не выходила в жизнь ни одна молодая нью-йоркская пара.
— Руку! Подайте же ей руку! — нервно прошипел юный шафер, и Арчера снова охватило чувство, будто он блуждает где-то в неведомой дали. Что заставило его отправиться туда? Быть может, внезапно мелькнувший среди толпы незнакомых зрителей темный локон под полями шляпы, которая спустя мгновение оказалась собственностью какой-то длинноносой дамы, до такой степени не похожей на ту, чей образ она ему напомнила, что Арчер со смехом спросил себя, уж не начались ли у него галлюцинации.
И вот они с женою медленно плывут по нефу на гребне легкой мендельсоновской волны, и весенний день манит их сквозь широко раскрытые двери, а гнедые миссис Велланд с большими белыми розетками на лбу щеголевато переступают с ноги на ногу на дальнем конце парусинового туннеля.
Лакей даже с еще более крупной белой розеткой в петлице укутал Мэй белой пелериной, и Арчер уселся в карету рядом с нею. Она повернулась к нему с ликующей улыбкой, и руки их встретились под ее вуалью.
— Милая! — сказал Арчер, и тут перед ним снова разверзлась все та же черная пропасть, и он почувствовал, что падает вниз, все глубже и глубже, меж тем как его голос весело и без запинки произносит: — Да, конечно, мне показалось, что я потерял кольцо, без этого и свадьба не была бы свадьбой. Но долго же ты заставила себя' ждать! Чего я только за это время не передумал!
Мэй удивила его тем, что на виду у всей 5-й авеню повернулась и бросилась ему на шею.
— Но ведь теперь ничего ужасного случиться не может, раз мы с тобой вместе, правда, Ньюленд?
День был рассчитан с точностью до минуты, и после свадебного завтрака молодожены успели переодеться в дорожные костюмы, сойти с широкой минготтовской лестницы между смеющимися подружками и плачущими родителями, сесть в карету под традиционным градом из риса и атласных ночных туфелек, после чего осталось еше полчаса, чтобы доехать до вокзала, с видом искушенных путешественников купить в книжном киоске свежие еженедельники и занять свое купе, куда горничная Мэй уже положила ее серо-голубой дорожный плащ и выписанный из Лондона новенький несессер.
Старые тетушки дю Лак из Райнбека, прельстившись перспективой провести неделю в Нью-Йорке у миссис Арчер, охотно предоставили свой дом в распоряжение юной четы, и Ньюленд, радуясь возможности избежать обычного «свадебного номера» в филадельфийской или балтиморской гостинице, с такой же готовностью принял это предложение.
Мэй, в восторге от предстоящей поездки за город, по-детски забавлялась тщетными попытками восьми подружек проникнуть в тайну их убежища. Получить во временное пользование загородную виллу считалось чем-то «в высшей степени английским» и придавало еще большую изысканность этой, по общему признанию, великолепнейшей свадьбе года, но где эта вилла находится, не знал никто, кроме родителей жениха и невесты, а те в ответ на все расспросы поджимали губы и таинственно отвечали: «Ах, они нам ничего не говорят…», что, впрочем, вполне соответствовало истине, ибо никакой надобности в этом не было.
Когда молодые водворились в купе и поезд, миновав бесконечные деревянные предместья, вырвался в бледный весенний пейзаж, разговор стал более непринужденным, чем ожидал Арчер. Мэй — внешностью и манерами все еще вчерашняя наивная девочка — с нетерпением ожидала минуты, когда можно будет обменяться с ним впечатлениями о свадьбе, и принялась обсуждать все подробности так беспристрастно, словно была подружкой невесты, болтающей с распорядителем. Ньюленд сначала решил, что эта отчужденность — маска, за которой скрывается внутренний трепет, но в ясных глазах Мэй не отражалось ничего, кроме блаженного неведения. Она впервые осталась наедине с мужем, но муж, как и накануне, был всего лишь добрым и милым другом. Он нравился ей больше всех, она всецело ему доверяла, и «гвоздь» всего очаровательного спектакля обручения и свадьбы именно в том и состоял, чтобы пуститься с ним вдвоем в путешествие, словно она — взрослая, а главное, «замужняя дама».
Поразительно — что, впрочем, он узнал еще в саду испанской миссии Сент-Огастина, — как подобные чувства могут сочетаться со столь полным отсутствием воображения. Но, вспомнив, что и тогда Мэй удивила его тем, что, едва успев облегчить свою совесть, тотчас же вновь погрузилась в состояние невыразительного девичества, Арчер понял, что она, вероятно, так и пройдет по жизни, стараясь как можно лучше справиться с любыми обстоятельствами, которые встретятся ей на пути, но никогда не сможет предугадать ни одного из них, хотя бы украдкой заглянув в будущее.
Возможно, именно это неведение и придавало ее глазам такую прозрачность, а всему ее облику такой вид, словно она не человек, а некая абстракция, нечто вроде изображения одной из гражданских добродетелей или греческих богинь. По жилам, просвечивающим сквозь белую кожу, вполне могла бы течь не горячая живая кровь, а какая-то консервирующая жидкость, но благодаря обаянию молодости она казалась не суровой и не вялой, а всего лишь примитивной и чистой. Погрузившись в эти размышления, Арчер вдруг поймал себя на том, что смотрит на нее испуганным взором постороннего наблюдателя, и обратился к воспоминаниям о свадебном завтраке, на котором безраздельно и торжествующе царила бабушка Минготт.
Мэй с искренним удовольствием принялась обсуждать эту тему.
— Между прочим, я очень удивилась — да и вы, наверное, тоже, — что тетя Медора все-таки решила приехать. Эллен мне писала, что они обе нездоровы и не в состоянии пуститься в дорогу. Как жаль, что выздоровела не она! Вы видели, какие замечательные старинные кружева она мне прислала?
Он знал, что рано или поздно эта минута настанет, но почему-то воображал, что усилием воли сможет преградить ей путь.
— Нет… я… да, они прекрасны, — сказал он, глядя на нее пустым взором и боясь, как бы от одного звука этого имени весь так старательно выстроенный им мир не рухнул, словно карточный домик.
— Ты не устала? Хорошо бы по приезде выпить чаю. Надеюсь, что тетушки обо всем позаботились, — без умолку болтал он, взяв ее руку в свою, и мысли Мэй тотчас перенеслись к великолепному кофейному и чайному сервизу балтиморского серебра, который прислали Бофорты и который так «идеально» подходит к подносам и блюдам, подаренным дядей Лавелом Минготтом.
В сумерках поезд остановился на станции Райнбек, и они пошли по платформе к ожидавшей их карете.
— Ах, как любезно со стороны ван дер Лайденов — они прислали за нами слугу из Скайтерклиффа! — воскликнул Арчер, когда степенная личность в партикулярном платье подошла к ним и взяла из рук горничной саквояжи.
— Мне очень жаль, сэр, — промолвил сей посланец, — но в доме барышень дю Лак случилась небольшая неприятность — прохудился бак с водой. Это произошло вчера, и, узнав об этом сегодня утром, мистер ван дер Лайден послал ранним поездом служанку приготовить домик пэтруна. Надеюсь, вам будет там удобно, сэр. Барышни дю Лак отправили туда свою кухарку, так что все будет точно так же, как в Райнбеке.
Арчер с таким недоумением уставился на лакея, что тот еще более извиняющимся тоном повторил:
— Все будет точно так же, уверяю вас, сэр… Неловкое молчание прервал радостный возглас Мэй:
— Точно так же, как в Райнбеке? В домике пэтруна? Да ведь это в сто тысяч раз лучше, правда, Ньюленд? Как мило и любезно со стороны мистера ван дер Лайдена!
Горничная уселась рядом с кучером, новенькие свадебные саквояжи уложили на сиденье против новобрачных, карета тронулась, и Мэй с упоением продолжала:
— Подумать только! Ведь я еще ни разу не бывала в домике пэтруна. А вы? Ван дер Лайдены почти никого туда не пускают. Но они открыли его для Эллен, и она мне рассказывала, как там чудесно. Она говорит, что это единственный дом во всей Америке, где она была бы совершенно счастлива.
— Надеюсь, так же будет и с нами! — весело воскликнул Арчер, и Мэй с мальчишеской улыбкой отозвалась:
— Да! Наше счастье ведь только начинается — мы с вами всегда будем счастливы вместе!
20
Разумеется, мы должны обедать у мисисс Карфрай, дорогая, — сказал Арчер, и Мэй, озабоченно нахмурившись, взглянула на него поверх массивных столовых приборов британского металла,[133] украшавших накрытый для завтрака стол в их пансионе.
Во всей дождливой пустыне осеннего Лондона было только два человека, которых Арчеры знали, но этих двоих они упорно старались избегать по старинной нью-йоркской традиции, согласно которой «бестактно» навязывать свое общество знакомым за границей.
Миссис Арчер и Джейни, посещая Европу, так твердо придерживались этого правила и с такой непоколебимой стойкостью отклоняли любые попытки к дружескому общению со стороны своих попутчиков, что буквально не обменялись ни единым словом с «иностранцами», кроме служащих гостиниц и железных дорог. К соотечественникам, не считая тех, кто был им известен лично или понаслышке, они относились еще более пренебрежительно, так что, если им не случалось натолкнуться на кого-либо из Чиверсов, Минготтов или Дэгонетов, они проводили долгие месяцы своего заграничного путешествия исключительно tête-a-tête. Однако самые крайние меры предосторожности порой оказываются тщетными, и однажды вечером в Боцене[134] одна из двух живших по другую сторону коридора англичанок (чьи имена, туалеты и общественное положение Джейни уже успела досконально изучить) постучалась в дверь и спросила, не найдется ли у миссис Арчер баночки с растиранием. У второй дамы — сестры незваной гостьи, миссис Карфрай, — внезапно разыгрался бронхит, и миссис Арчер, которая никогда не отправлялась в путешествие без домашней аптечки, к счастью, могла снабдить ее необходимым лекарством.
Миссис Карфрай серьезно занемогла, а так как она и ее сестра, мисс Харл, путешествовали одни, эти дамы были очень благодарны госпожам Арчер, которые старались всячески облегчить их участь и чья расторопная служанка помогла поставить больную на ноги.
Покидая Боцен, миссис и мисс Арчер и в мыслях не имели когда-либо снова увидеться с миссис Карфрай и мисс Харл. По мнению миссис Арчер, нет ничего более «бестактного», чем навязываться «иностранцам», которым вам довелось оказать случайную услугу. Однако миссис Карфрай и ее сестре эта точка зрения была не только неизвестна, но попросту непостижима, и потому они чувствовали себя глубоко обязанными «очаровательным американкам», которые оказали им такую любезность в Боцене. С трогательным постоянством они использовали каждую возможность встретиться с миссис Арчер и Джейни во время их путешествий по континенту и с поистине сверхъестественной находчивостью выведывали, когда американки должны заехать в Лондон на пути из Штатов или в Штаты. Дружба стала неразрывной, и всякий раз, как миссис Арчер и Джейни останавливались в гостинице Брауна, их уже ожидали две добрые подруги, которые, как и они, разводили папоротники в ящиках Уорда, плели макраме, читали мемуары баронессы Бунзен[135] и имели свое мнение о наиболее известных лондонских проповедниках. По словам миссис Арчер, знакомство с миссис Карфрай и мисс Харл «совершенно преобразило Лондон», и ко времени помолвки Арчера между обоими семействами установилась такая тесная связь, что сочтено было «вполне уместным» послать англичанкам приглашение на свадьбу, в ответ на которое они прислали прелестный букет засушенных альпийских цветов под стеклом. А на пристани, когда Ньюленд с женой отплывали в Англию, миссис Арчер напутствовала их словами: «Ты непременно должен познакомить Мэй с миссис Карфрай».
Ньюленд и его жена отнюдь не собирались выполнять это предписание, но миссис Карфрай со своей обычной находчивостью ухитрилась их разыскать и послать им приглашение на обед, и именно это приглашение заставило Мэй Арчер хмурить брови за чаем с булочками.
— Тебе хорошо, Ньюленд, ты ведь их знаешь. А я буду чувствовать себя неловко среди такого множества незнакомых людей. И потом, что мне надеть?
Ньюленд откинулся на спинку стула и с улыбкой посмотрел на жену. Она никогда еще не была так хороша и так похожа на Диану. Казалось, от английской сырости румянец на ее щеках стал еще ярче, девическая жесткость черт смягчилась, а возможно, их согревало сияние счастья, что пробивалось изнутри, как свет из-подо льда.
— Что тебе надеть, дорогая? Разве на прошлой педеле из Парижа не прибыл целый сундук платьев?
— Да, конечно. Я просто не знаю, что полагается надевать. — Она слегка надула губы. — Я ни разу не была на званом обеде в Лондоне и не хочу выглядеть смешной.
Он попытался вывести ее из затруднения.
— Разве англичанки по вечерам одеваются не так, как все?
— Ньюленд! Как ты можешь задавать такие глупые вопросы, если они ходят в театр в старых бальных платьях и без шляп!
— А вдруг они и дома носят бальные платья? Впрочем, к миссис Карфрай и мисс Харл это не относится. Они будут в чепцах — как мама — и в шалях, в очень мягких, пушистых шалях.
— Допустим. Но как будут одеты остальные дамы?
— Не так изысканно, как ты, детка, — отвечал он, недоумевая, откуда у нее вдруг появился присущий Джейни нездоровый интерес к нарядам.
Она со вздохом отодвинула назад свой стул.
— Это очень мило с твоей стороны, Ньюленд, но мне от этого не легче.
Его вдруг осенило.
— Почему бы тебе не надеть свое свадебное платье? По-моему, это было бы вполне уместно.
— Ах, дорогой! Если б только оно было здесь! Но его отправили в Париж переделать к будущей зиме, и Уорт[136] его еще не вернул.
— Ну что ж, — сказал Арчер, вставая. — Смотри, туман рассеивается. Если мы сейчас помчимся в Национальную галерею, то успеем еще посмотреть картины.
Молодые Арчеры собирались домой после трехмесячного свадебного путешествия, впечатления которого Мэй в письмах к подругам расплывчато определила словом «блаженство».
На итальянские озера они так и не поехали — Арчер по здравом размышлении решил, что не может представить себе жену на фоне этого пейзажа. Она же (проведя месяц в обществе парижских модных портних) предпочитала в июле полазать по горам, а в августе поплавать. Этот план был пунктуально выполнен — июль они провели в Интерлакене и Гриндельвальде,[137] а август — на Нормандском побережье, в маленьком местечке под названием Этрета,[138] которое им рекомендовали как экзотическое и тихое. В горах Арчер иногда показывал в сторону юга и говорил: «Там Италия», а Мэй, весело улыбаясь, отвечала:
«Хорошо бы съездить туда будущей зимой, но ведь тебе придется быть в Нью-Йорке».
В сущности, путешествовать нравилось Мэй даже меньше, чем он ожидал. После того как все туалеты были заказаны, она стала рассматривать их путешествие просто как возможность погулять, покататься верхом, поплавать и испытать свои силы в новой увлекательной игре лаун-теннис, и, когда молодожены наконец возвратились в Лондон (где им предстояло провести две недели, пока закажет себе костюмы он), Мэй больше не пыталась скрыть нетерпение, с которым ожидала дня отплытия.
В Лондоне Мэй интересовалась только театрами и лавками. Впрочем, театры она нашла менее увлекательными, чем парижские кафе-шантаны под сенью цветущих каштанов на Елисейских полях, где она испытала неведомые дотоле ощущения, рассматривая с террасы ресторана сидящих внизу «кокоток» и слушая в переводе мужа куплеты, которые он не счел чересчур фривольными для ушей новобрачной.
Арчер вернулся ко всем унаследованным им старинным понятиям о браке. Гораздо легче придерживаться обычаев и обходиться с Мэй так, как все их друзья обходятся со своими женами, нежели пытаться осуществить на практике теории, с которыми он носился во время своей вольготной холостяцкой жизни. Нет смысла пытаться эмансипировать жену, которая вовсе не подозревает, что она не свободна; к тому же он давно понял: мнимая свобода нужна Мэй лишь затем, чтоб возложить ее на алтарь супружеской любви. Не униженно — это никогда не позволит ей чувство собственного достоинства; более того, возможно, даже настанет день (что однажды уже и произошло), когда она найдет в себе силы взять этот дар назад, если сочтет, что поступает так ради его же блага. Однако ее понятия о замужестве были настолько простыми, что подобную критическую ситуацию могли вызвать лишь открытые оскорбления с его стороны, но глубина ее чувства к нему совершенно это исключала. Арчер знал — что бы ни случилось, Мэй всегда останется верной, мужественной и незлопамятной, и это требовало от него тех же добродетелей.
Все это способствовало его возвращению к прежнему образу мыслей. Если бы простота Мэй была простотой ограниченности, он бы возмутился и восстал, но коль скоотличались таким же благородством, что и черты ее лица, она превратилась в ангела-хранителя всех его старых святынь и традиций.
Эти качества, хотя и делали ее такой приятной и покладистой спутницей, едва ли могли оживить заграничное путешествие, но он сразу увидел, как они выигрывают в естественной для них обстановке. Арчер не опасался их гнета: его артистическая и интеллектуальная жизнь и раньше протекала за пределами домашнего круга, а в его пределах он не предвидел ничего мелкого и давящего — возвращаясь к жене, он никогда не будет напоминать человека, который входит в душную комнату после прогулки. А когда у них появятся дети, пустоты в жизни их обоих естественно заполнятся.
Такие мысли бродили у него в голове во время их долгой, медленной поездки из Мэйфера в Саут-Кенсингтон,[139] где жили миссис Карфрай и ее сестра. Арчер тоже предпочел бы избежать гостеприимства приятельниц матери — согласно семейному обычаю, он всегда путешествовал как любитель достопримечательностей и сторонний наблюдатель, делая вид, будто не замечает присутствия себе подобных. Один лишь только раз, по окончании Гарварда, он провел несколько недель во Флоренции в компании эксцентричных европеизированных американцев, танцуя ночи напролет с титулованными дамами во дворцах и проводя дни за карточным столом с повесами и денди в модных великосветских клубах, но все это веселье казалось ему таким же нереальным, как карнавал. Эти эксцентричные космополитические женщины, погруженные в сложные любовные интриги, о которых им непременно нужно было рассказывать всем и каждому, эти блестящие молодые офицеры и пожилые остряки с крашеными волосами — предметы их любви или наперсники — разительно отличались от людей, среди которых Арчер вырос, и так напоминали дорогие и скверно пахнущие экзотические тепличные цветы, что не могли долго занимать его воображение. О том, чтобы ввести жену в подобную среду, не могло быть и речи, а на протяжении всего путешествия его общества никто другой особенно не домогался.
Вскоре по приезде в Лондон он встретил герцога Сент-Острей, который тотчас же его узнал и радушно пригласил к себе, но, разумеется, ни один благовоспитанный американец не счел бы необходимым принять подобное приглашение, и больше они не виделись. Они даже ухитрились избежать встречи с тетушкой Мэй — женой английского банкира. Та, правда, еще не приехала из своего йоркширского поместья— вернее, они нарочно отложили свой визит в Лондон до осени, чтобы, явившись в разгар сезона, не дать повода этим незнакомым родственникам обвинить их в навязчивости и бестактности.
— Наверное, у миссис Карфрай никого не будет: в это время года Лондон — сущая пустыня, а ты слишком нарядилась, — сказал Арчер жене, которая сидела рядом с ним в двуколке и была так безукоризненно прекрасна в подбитом лебяжьим пухом небесно-голубом плаще, что казалось просто бесчеловечным подвергать ее действию лондонской копоти.
— Пусть не думают, что мы одеваемся как дикари, — отвечала она с презрением, которому могла бы позавидовать сама Покахонтас,[140] и Арчер еще раз подивился религиозному пылу, с каким даже чуждые всякой суетности американки поклоняются своему божеству — одежде.
«Это их кольчуга, этим они обороняются от неизвестного и бросают ему вызов», — подумал он. И он впервые понял, почему Мэй, которой никогда не пришло бы в голову украсить лишней лентой причёску, чтобы понравиться мужу, так тщательно и самозабвенно выбирала и заказывала свой обширный гардероб.
Он не ошибся, полагая, что гостей у миссис Карфрай будет немного. Помимо хозяйки и ее сестры, в длинной холодной гостиной они увидели еще одну укутанную шалью даму, ее мужа, добродушного приходского священника, молчаливого юношу, племянника миссис Карфрай, и низенького смуглого господина с живыми глазами, которого она представила как гувернера последнего, назвав при этом какую-то французскую фамилию.
В эту тускло освещенную тусклую компанию Мэй Арчер вплыла, словно лебедь в лучах заката; такой статной, прекрасной, такой нарядной в роскошных шелестящих шелках муж, пожалуй, еще ни разу ее не видел, но он чувствовал, что румянец и шелест — всего лишь признаки крайней, чуть ли не детской робости.
«О, боже, о чем мне с ними говорить?» — с мольбою спрашивал его беспомощный взгляд жены в ту самую минуту, когда ее блистательный образ вызвал такое же смятение в сердцах присутствующих. Но красота, пусть даже и полная сомнений в своих силах, пробуждает уверенность в мужском сердце, и священник и француз-гувернер вскоре выказали готовность прийти ей на помощь.
Однако, несмотря на все их старания, обед тянулся невыносимо долго. Арчер заметил, что Мэй, желая показать, будто она чувствует себя непринужденно среди иностранцев, становится все более провинциальной в своих суждениях, и потому, хотя красота ее и вызывала восхищение, ее реплики замораживали всякое остроумие. Священник скоро отказался от безнадежных усилий, но воспитатель, который очень правильно и бегло говорил по-английски, галантно продолжал изливать на нее свое красноречие, покуда дамы, к явному облегчению всех заинтересованных сторон, не поднялись в гостиную.
Священник, выпив стакан портвейна, поспешил на молитвенное собрание, а застенчивого племянника, который, как выяснилось, был тяжко болен, отправили в постель. Арчер и учитель остались сидеть за своими бокалами, и Арчер вдруг поймал себя на том, что говорит, как не говорил со времени своей последней встречи с Недом Уинсеттом. Оказалось, что племяннику миссис Карфрай грозила чахотка, и потому он вынужден был покинуть Харроу[141] и отправиться в Швейцарию, где провел два года в мягком климате на берегу озера Леман. Склонный к серьезным занятиям, он был вверен попечениям мосье Ривьера, который привез его обратно в Англию и должен был оставаться при нем до поступления его будущей весною в Оксфорд. Мосье Ривьер без обиняков добавил, что ему придется тогда подыскивать себе новое место.
Едва ли он долго останется без работы, подумал Арчер, ведь у него такие разносторонние интересы и столько дарований. Это был человек лет тридцати, с худощавым некрасивым лицом (Мэй, конечно, сказала бы, что внешность у него самая заурядная), которому игра ума придавала необычайную выразительность; однако в его оживлении не было ничего легкомысленного или недостойного.
Отец мосье Ривьера, умерший молодым, занимал какой-то незначительный дипломатический пост, и предполагалось, что сын последует по стопам отца, но неуемная страсть к изящной словесности толкнула молодого человека сначала на стезю журналистики, затем литературы (явно безо всякого успеха) и наконец — после долгих попыток и злоключений, о которых он умолчал, — он сделался гувернером английских юношей в Швейцарии. До этого он, впрочем, долго жил в Париже, посещал grenier[142] Гонкуров,[143] получил от Мопассана совет не писать (даже это показалось Арчеру высочайшей честью) и часто беседовал с Мериме в доме его матери.[144] Он, по-видимому, всегда был очень беден и обременен заботами (он содержал мать и незамужнюю сестру), и было очевидно, что его честолюбивые литературные замыслы потерпели фиаско. Положение его, с точки зрения материальной, не многим отличалось от положения Неда Уинсетта, но зато он жил в мире, где, по его словам, тому, кто любит идеи, не грозит духовный голод. Поскольку именно от этой неутоленной любви бедняга Уинсетт умирал голодной смертью, Арчер, поставив себя на место последнего, с некоторой завистью посмотрел на этого пылкого бессребреника, который был так богат при всей своей нищете.
— Я думаю, вы согласитесь, мосье, что интеллектуальная свобода и независимость критических суждений превыше всего. Именно потому я бросил журналистику и избрал гораздо менее интересную профессию гувернера и частного секретаря. Конечно, это сопряжено со скучной, тяжелой работой, но зато сохраняешь моральную свободу и, как говорят французы, остаешься quant à soi.[145] И когда слышишь интересный разговор, то ты волен высказывать свои мнения, а не мнения своих хозяев, либо просто слушать и отвечать про себя. О, приятная беседа! Есть ли на свете что-либо равное ей? Воздух идей — единственный воздух, которым стоит дышать. И потому я никогда не сожалел, что бросил дипломатию и журналистику — две различные формы отречения от самого себя. — Закуривая новую сигарету, он остановил свой живой взгляд на Арчере. — Voyez-vous, monsieur,[146] ради того, чтобы смотреть жизни прямо в глаза, стоит жить на чердаке, не правда ли? Но, разумеется, приходится хоть что-то зарабатывать, чтобы платить за этот чердак, и, признаюсь, перспектива навсегда остаться гувернером или частным секретарем замораживает воображение почти так же, как амплуа секретаря посольства в Будапеште. Иногда я чувствую, что должен сделать решительный шаг. Например, как вы полагаете, могу я рассчитывать на какое-либо место в Америке — в Нью-Йорке?
Арчер испуганно воззрился на собеседника. Нью-Йорк для молодого человека, который бывал у Гонкуров и Флобера, который единственно достойной жизнью считает жизнь идей! Он продолжал с недоумением смотреть на мосье Ривьера, не зная, как объяснить ему, что самые его преимущества и дарования, несомненно, послужат лишь препятствием для его успеха.
— Нью-Йорк, Нью-Йорк… Почему непременно Нью-Йорк? — бормотал он, тщетно силясь представить себе, что может его родной город предложить молодому человеку, который, по-видимому, нуждается лишь в приятной беседе.
Под бледной кожей мосье Ривьера внезапно разлился румянец.
— Я… я думал, что это ваша столица, средоточие умственной жизни, — сказал он. Потом, очевидно, испугавшись, как бы собеседник не подумал, что он обращается к нему с просьбой, поспешно продолжал: — Иной раз высказываешь те или иные соображения, обращаясь не столько к другим, сколько к самому себе. По правде говоря, в ближайшем будущем я не вижу возможности… — И, поднявшись, непринужденно добавил: — Однако миссис Карфрай, вероятно, полагает, что мне пора проводить вас наверх.
По дороге домой Арчер глубоко задумался над этим эпизодом. Час, проведенный с мосье Ривьером, подействовал на него как глоток свежего воздуха, и первым его побуждением было пригласить француза завтра обедать, но он уже начал понимать, почему женатые мужчины не всегда тотчас поддаются своим первым побуждениям.
— Этот молодой учитель оказался очень интересным человеком; у нас с ним был любопытный разговор о книгах и о многом другом, — осторожно заметил он, сидя в двуколке.
Мэй пробудилась от мечтательной дремы, в которую муж ее вкладывал столько разнообразных значений, покуда шесть месяцев супружества не дали ему к ней ключа.
— Этот французик? Но ведь он кажется таким ужасно заурядным! — холодно заметила Мэй, и Арчер догадался, что она втайне разочарована: стоило ли идти в гости в Лондоне, чтобы познакомиться со священником и французским гувернером? Разочарование это было вызвано не тем, что принято называть снобизмом, а всего лишь присущим старом Нью-Йорку понятием о том, на что он может рассчитывать, подвергая риску свое достоинство в чужих странах. Если бы родители Май принимали семейство Карфрай на 5-й авеню, они предложили бы им нечто более солидное, нежели приходский священник и школьный учитель.
Но Арчер был раздражен и не мог промолчать.
— Заурядным? Кому он может показаться заурядным? — спросил он, и Мэй с несвойственной ей живостью отвечала:
— По-моему, всем, кроме его учеников. Эти люди всегда так неловки в обществе. Впрочем, — примирительно добавила она, — мне, наверно, просто не понять, какой он умный.
Слово «умный» в устах Мэй не нравилось Арчеру почти так же, как слово «заурядный», но его начинала пугать собственная склонность останавливаться на тех ее качествах, которые ему не нравились. В конце концов, ее точка зрения всегда была одинаковой. Она совпадала с точкой зрения всех тех, среди кого он вырос, и он всегда считал ее хотя и необходимой, но несущественной. Еще несколько месяцев назад он не знал ни одной «порядочной» женщины, которая смотрела бы на жизнь иначе, а если человек женится, то уж, конечно, на порядочной женщине.
— Hу что ж, тогда я не приглашу его обедать, — смеясь, заключил он, на что Мэй в ужасе воскликнула:
— О, боже! пригласить учителя Карфраев?
— Ну, во всяком случае, не в один день с ними, если ты против. Но я бы с удовольствием еще раз с ним побеседовал. Он рассчитывает на место в Нью-Йорке.
Изумление Мэй не уступало ее безразличию. Арчеру даже показалось, будто она заподозрила, что он проникся тлетворным «иностранным духом».
— На место в Нью-Йорке? Какое место? Никто не нанимает французских гувернеров. Что он там собирается делать?
— Сколько я понял, главным образом — наслаждаться приятной беседой, — из духа противоречия ответил Арчер, и Мэй одобрительно засмеялась.
— Ах, Ньюленд, как забавно! Как это по-французски! В сущности, он даже обрадовался, что она решила все за него, попросту обратив в шутку его желание пригласить мосье Ривьера. Еще в одном послеобеденном разговоре было бы трудно уклониться от вопроса о Нью-Йорке, а чем больше Арчер об этом думал, тем меньше он мог представить себе мосье Ривьера в том Нью-Йорке, каким он его знал.
Он вдруг понял, что еще не одна проблема будет и. впредь так же отрицательно решаться за него, и, хотя от этой мысли его пробрала холодная дрожь, он, расплатившись с изеозчиком и входя в дом вслед за длинным шлейфом жены, утешился банальным суждением, что первые полгода супружества всегда бывают самыми тяжелыми.
«Надеюсь, что после этого мы перестанем натыкаться на острые углы друг друга», — подумал он, но хуже всего было то, что давление Мэй уже начинало сказываться именно на тех углах, остроту которых он всего более желал бы сохранить.
21
Маленькая яркая лужайка ровной полосой уходила к большому яркому морю. Дерн был аккуратно окаймлен алой геранью и колеусом, а из шоколадно-коричневых чугунных ваз, расставленных через равные промежутки вдоль извилистой дорожки, ведущей к морю, на аккуратно подметенный гравий гирляндами ниспадали завитки петуний и пелларгоний.
На равном расстоянии от скалистого обрыва и от квадратного деревянного дома (он был тоже шоколадного цвета, за исключением железной крыши веранды, выкрашенной в желтую и коричневую полоску под матерчатый тент) на фоне кустарника были установлены две огромные мишени. По другую сторону лужайки, напротив мишеней, был натянут настоящий тент, окруженный скамейками и садовыми креслами. Несколько дам в летних платьях и джентльменов в серых сюртуках и цилиндрах стояли на лужайке или сидели на скамейках. Время от времени какая-нибудь стройная девица в накрахмаленном кисейном платье выходила из-под навеса и посылала стрелу в одну из мишеней, а зрители прерывали беседу, чтобы подсчитать очки.
Ньюленд Арчер с любопытством смотрел на эту сцену с веранды. По обе стороны покрашенных блестящей краской ступеней на ярко-желтых фарфоровых подставках красовались синие фарфоровые горшки для цветов. В каждом росло колючее зеленое растение, а вдоль веранды тянулся широкий бордюр из синих гортензий, окаймленный теми же красными геранями. За спиною Арчера, сквозь стеклянные двери гостиной, из которой он только что вышел, за колышущимися кружевными занавесями сверкал навощенный паркет с островками ситцевых пуфов, низеньких кресел и бархатных столиков, уставленных серебряными безделушками.
Августовские состязания ньюпортского Клуба лучников всегда происходили у Бофортов. Этот вид спорта, до сих пор не имевший себе равных, если не считать крокета, начал отступать перед лаун-теннисом, хотя эта игра все еще считалась слишком грубой и неизящной, а уж лучшей возможности пощеголять новыми туалетами и грациозными позами ничто, кроме лука и стрел, предоставить не могло.
Арчер с изумлением смотрел на знакомую картину. Странно, что жизнь идет по-старому, когда его отношение к ней так резко изменилось. Именно в Ньюпорте он впервые понял, насколько велики эти изменения. Прошедшей зимой, после того как они с Мэй поселились в новом зеленовато-желтом доме с эркером и вестибюлем в помпейском стиле, он с облегчением окунулся в привычный распорядок своей конторы, и возвращение к ежедневной деятельности послужило как бы связующим эвеном с его прежним «я». Затем последовало приятное волнение, сопровождавшее покупку шикарного серого рысака для коляски Мэй (экипаж подарили ей Велланды), и хлопоты, связанные с устройством новой библиотеки, которая, вопреки сомнениям и явному неодобрению семейства, была такой, как он мечтал, — с темными тиснеными обоями, с книжными шкафами в стиле «истлейк», простыми, неполированными столами и уютными креслами. В клубе «Сенчери» он снова встретил Уинсетта, в «Никербокере»[147] — светских молодых людей своего круга; если же прибавить к этому часы, посвященные юриспруденции, званым обедам, домашним приемам, а порою вечер в опере или на драматическом представлении, жизнь, которой он теперь жил, все еще представлялась чем-то вполне естественным и неизбежным.
Но Ньюпорт символизировал бегство от обязанностей в атмосферу беспрерывных развлечений. Арчер пытался уговорить Мэй провести лето на отдаленном острове в штате Мэн с весьма выразительным названием Маунт-Дезерт,[148] где несколько отчаянных жителей Бостона и Филадельфии расположились лагерем в «туземных» коттеджах и откуда до Нью-Йорка доносились слухи о чарующих пейзажах и о диком, чуть ли не охотничьем существовании среди лесов и вод.
Между тем Велланды всегда ездили в Ньюпорт, где они владели одним из квадратных домиков на утесах, и их зять не мог придумать никакой убедительной причины, почему бы им с Мэй к ним не присоединиться. Как весьма ядовито заметила миссис Велланд, стоило ли Мэй выбиваться из сил, примеряя летние туалеты в Париже, если ей не дадут возможности их носить, а на подобные аргументы Арчер еще не научился находить возражения.
Сама Мэй никак не могла понять его смутной неприязни к столь разумному и приятному летнему отдыху. Она напомнила мужу, что до женитьбы Ньюпорт всегда ему нравился, а поскольку это не подлежало сомнению, ему оставалось только ответить, что теперь, когда они будут там вместе, он наверняка понравится ему еще больше. Однако, стоя на веранде Бофортов и разглядывая пестревшую яркими нарядами лужайку, он с дрожью в сердце почувствовал, что все это ничуть ему не нравится.
Конечно, бедняжка Мэй ни в чем не виновата. Если в путешествии им порой и случалось слегка повздорить, согласие тотчас восстановилось, стоило им вернуться к привычным для Мэй условиям жизни. Арчер всегда предвидел, что она не обманет его ожиданий, и оказался прав. Подобно большинству молодых людей, он женился потому, что встретил в высшей степени очаровательную девушку в тот самый момент, когда ему вдруг приелись бесплодные любовные похождения, а Мэй казалась ему олицетворением покоя, постоянства, дружбы и отрезвляющего сознания непререкаемого долга.
Он никак не мог сказать, что ошибся в своем выборе, — Мэй дала ему все, чего он ожидал. Без сомнения, лестно быть мужем одной из самых красивых и пользующихся успехом молодых женщин в Нью-Йорке, особенно если она еще самая милая и благоразумная из жен, а Ньюленд Арчер всегда ценил подобные качества. Что же до минутного безумия, овладевшего им накануне свадьбы, то он приучил себя считать его последним из своих неудачных экспериментов. Мысль о том, что он, будучи в здравом уме, мог когда-либо мечтать о женитьбе на госпоже Оленской, казалась почти невероятной, и графиня осталась в его памяти просто как самый трогательный И печальный в длинном ряду призраков прошлого.
Однако он столько раз от чего-то отрешался и отказывался, что у него в мозгу образовалась гулкая пустота, и потому-то, наверно, оживленное общество на лужайке Бофорта производило на него неприятное впечатление детей, резвящихся среди могил.
Рядом послышался шорох юбок, и из стеклянной двери гостиной выпорхнула маркиза Мэнсон, как всегда, в пестром наряде с фестончиками, в поникшей шляпке из итальянской соломки, прибинтованной к голове выцветшим газовым шарфом, а над необъятными полями шляпы нелепо торчал крохотный зонтик из черного бархата с резной костяной ручкой.
— Мой дорогой Ньюленд, я понятия не имела, что вы с Мэй здесь! Вы только вчера приехали? Да, да, конечно… дела… дела… служебные обязанности… Понимаю. Многие мужья могут приезжать сюда только на уик-энд. — Она склонила голову набок и томно смотрела на него, скосив глаза. — Но брак это сплошная жертва, я всегда напоминаю это милой Эллен…
Сердце Арчера, как это однажды уже было, странно дрогнуло и остановилось, словно захлопнув дверь между ним и внешним миром, но на сей раз пауза была, очевидно, очень короткой, ибо он тотчас же услышал, как Медора отвечает на вопрос, который ему все-таки удалось облечь в слова.
— Нет, я живу не здесь, а у Бленкеров, в их приятном уединении в Портсмуте. Бофорт сегодня утром любезно прислал за мною своих знаменитых рысаков, чтобы я могла хоть одним глазком посмотреть на гостей Регины, но вечером я возвращаюсь к сельской жизни. Эти милые чудаки Бленкеры сняли простую старую ферму в Портсмуте и собирают у себя выдающихся людей… — Ссутулившись под спасительными полями шляпы, она, слегка покраснев, добавила: — На этой неделе доктор Агафон Карвер устраивает у них сеансы «Внутренней Мысли». Какой контраст с этой веселой картиной мирских наслаждений, но ведь я всегда жила контрастами! Скука для меня равносильна смерти. Я всегда говорю Эллен: «Берегись скуки, она мать всех смертных грехов!» Но моя бедная девочка сейчас переживает период экзальтации, отвращения к миру. Вы, вероятно, знаете, что она отклонила все приглашения провести лето в Ньюпорте, даже у своей бабушки Минготт. Верите ли, я с трудом уговорила ее поехать со мною к Бленкерам! Жизнь, которую она ведет, убийственна, противоестественна. Ах, если б только она послушалась меня, когда было еще возможно… когда дверь была еще открыта… Но не пойти ли нам посмотреть на этот увлекательный турнир? Говорят, ваша Мэй — одна из претенденток на приз?
По лужайке навстречу им шел Бофорт, высокий, дородный, в слишком тесном сюртуке от лондонского портного, с орхидеей из собственного цветника в петлице. Арчер не видел его месяца два или три и был поражен тем, как он изменился. В ярком летнем свете было видно, что его красное лицо отекло и обрюзгло, и если б не привычка ходить прямо, расправив плечи, он казался бы объевшимся разряженным стариком.
О Бофорте ходили всевозможные слухи. Весной он отправился в долгое плавание в Вест-Индию на своей новой паровой яхте, и рассказывали, что где бы это судно ни бросило якорь, он неизменно появлялся в обществе особы, весьма напоминающей мисс Фанни Ринг. Яхта, построенная на клайдских верфях,[149] с изразцовыми ванными комнатами и тому подобной неслыханной роскошью, как говорили, обошлась ему в полмиллиона, а жемчужное ожерелье, которое он по возвращении преподнес жене, отличалось необычайным великолепием, как и полагается подобным искупительным жертвам. Состояние Бофорта было достаточно велико, и он мог позволить себе такие траты, но тревожные слухи не утихали, причем не только на 5-й авеню, но и на Уолл-стрите. Одни говорили, что он неудачно спекулировал железнодорожными акциями, другие — что у него выманивает деньги одна из самых ненасытных представительниц известной профессии, и на каждое известие о грозящем ему банкротстве Бофорт отвечал очередной сумасбродной выходкой — постройкой новых теплиц для орхидей, покупкой новой скаковой лошади или приобретением нового Мейсонье[150] или Кабанеля для своей картинной галереи.
Он подошел к маркизе и Ньюленду со своей обычной полунасмешливой улыбкой.
— Хэлло, Медора! Ну, каковы рысаки? Сорок минут, а? Что ж, совсем не плохо, тем более что надо было поберечь ваши нервы.
Пожав руку Арчеру, он повернулся, чтобы идти вместе с ними, и, подойдя к миссис Мэнсон с другой стороны, вполголоса сказал ей что-то, чего их спутник не расслышал.
Маркиза отвечала ему одной из своих экстравагантных заморских ужимок и словами «Que voulez-vous?»,[151] от которых морщина на лбу Бофорта еще больше углубилась, однако же, взглянув на Арчера, он изобразил довольно верное подобие одобрительной улыбки и сказал:
— А знаете, ваша Мэй, кажется, получит первый приз.
— О, в таком случае он останется в семье, — прожурчала Медора, и тут они подошли к тенту, где их встретила миссис Бофорт в девичьем облаке розовато-лиловой кисеи и развевающихся вуалей.
Мэй Велланд как раз в эту минуту вышла из-под тента. В белом платье, опоясанном светло-зеленой лентой, с венком из плюща на шляпе, исполненная холодного достоинства Дианы, она была точь-в-точь такой же, как в день их помолвки на балу у Бофортов. Казалось, с тех пор в глазах ее не появилось ни единой мысли, а в сердце ни единого чувства, и, хотя муж знал, что ей не чуждо ни то ни другое, он еще раз подивился тому, что жизненный опыт не оставляет на ней ни малейшего следа.
Держа в руке лук и стрелы, она остановилась на газоне у меловой черты, подняла лук к плечу и прицелилась. Ее поза была исполнена такой классической грации, что по толпе пронесся одобрительный гул, и Арчера объяла гордость собственника, которая так часто внушала ему обманчивое чувство удовлетворения. Соперницы Мэй — миссис Реджи Чиверс, барышни Мерри и множество розовых девиц, принадлежащих к семействам Торли, Дэгонет и Минготт, — взволнованно толпились позади нее, склонив прелестные темные и золотистые головки над таблицей очков, между тем как разнообразные бледные оттенки кисеи и венков на их шляпах переливались всеми цветами радуги. Все они были миловидны, все сияли обаянием молодости, но ни одна не обладала той легкостью нимфы, с которой его жена, напрягая мускулы и хмурясь от избытка счастья, всей душою стремилась к какой-нибудь спортивной победе.
— Боже правый, — услышал Арчер голос Лоренса Леффертса, — ни одна из них не способна так держать лук, — на что Бофорт возразил:
— Да, но это единственная мишень, в которую она способна попасть.
Арчера охватил безрассудный гнев. Презрительная дань «порядочности» Мэй со стороны их хозяина, казалось бы, могла только порадовать мужа. Если какой-то невежа находит вашу жену непривлекательной, то это лишний раз подчеркивает ее добродетель, и тем не менее от слов Бофорта у Ньюленда защемило сердце. Что, если «порядочность», доведенная до столь крайней степени, всего лишь занавес, за которым скрывается пустота? Когда он смотрел, как раскрасневшаяся Мэй, последний раз послав стрелу в самое яблочко, спокойно возвращается под тент, у него было такое чувство, будто ему еще ни разу не довелось этот занавес поднять.
Мэй принимала поздравления соперниц и остальных гостей с простотой, венчавшей все ее достоинства. Никто не завидовал ее успехам, ибо она умела внушить ощущение, что осталась бы такой же безмятежной и в случае неудачи. Но, когда глаза ее встретились с глазами мужа, она просияла от радости, которую прочитала на его лице.
Плетеная коляска миссис Велланд ждала седоков, и они двинулись в путь вместе с остальными экипажами. Мэй правила пони, а Ньюленд сидел рядом.
Вечернее солнце все еще медлило на ярких лужайках и кустарниках; по Бельвю-авеню катились в два ряда виктории, догкарты, ландо и визави, увозя нарядных дам и господ с приема у Бофортов или домой после ежедневной предобеденной прогулки по Океанскому бульвару.
— Давай навестим бабушку, — неожиданно предложила Мэй. — Мне хочется самой рассказать ей, что я получила приз. До обеда еще уйма времени.
Арчер согласился, и коляска повернула на авеню Наррагансет, пересекла Спринг-стрит[152] и направилась в сторону расположенной за нею холмистой пустоши. В этой немодной местности Екатерина Великая со своей всегдашней скупостью и равнодушием к общепринятым обычаям еще в молодости построила себе на клочке дешевой земли над заливом нечто вроде шале со множеством шпилей, и поперечных балок. Его приземистые веранды, скрытые в густых зарослях карликовых дубов, смотрели на усеянный островами залив. Подъездная дорожка. извивавшаяся между железными оленями и стеклянными шарами на клумбах с геранью, вела к парадному крыльцу под полосатым навесом; лакированная ореховая дверь открывалась в узкий коридор с наборным паркетом из черных звезд на желтом фоне. В коридор выходили четыре маленькие квадратные комнаты, оклеенные бархатными обоями, с потолками, которые художник-итальянец щедро размалевал изображениями всех обитателей Олимпа. Когда на миссис Минготт обрушилось тяжкое бремя плоти, она устроила в одной из этих комнат спальню, а в соседней проводила дни, восседая в огромном кресле между открытой дверью и окном и беспрестанно обмахиваясь веером из пальмового листа. Впрочем, ее необъятный бюст так далеко выдавался вперед, что воздух, приводимый в движение веером, колыхал лишь бахрому салфеточек на подлокотниках.
Поскольку старуха Кэтрин помогла Арчеру ускорить свадьбу, она относилась к нему с сердечностью, какую обыкновенно возбуждают в нас те, кому нам случилось оказать услугу. Он убедил ее, что причиной его нетерпения была безумная любовь, и, будучи пылкой сторонницей импульсивных порывов (если они не сопровождались тратой денег), она всегда заговорщически встречала его озорным огоньком в глазах и градом намеков, к счастью, совершенно недоступных пониманию Мэй.
Миссис Минготт с любопытством осмотрела и весьма одобрила стрелу с алмазным наконечником, которую по окончании состязаний прикололи к груди Мэй, заметив, что в ее время ограничились бы филигранной брошью, но у Бофорта, несомненно, есть вкус и размах.
— Это настоящая фамильная драгоценность, милочка, — с улыбкой заметила старуха. — Ты должна оставить ее в наследство своей старшей дочери. — Ущипнув Мэй за руку, она смотрела, как румянец заливает ей лицо. — Ну, ну, что я такого сказала? Разве у вас не будет дочерей, а будут одни только мальчишки? О, господи! Вы только посмотрите, как она краснеет! Неужели даже и этого сказать нельзя? Боже милостивый, когда мои дети умоляют меня закрасить всех этих богов и богинь на потолке, я им всегда отвечаю: слава богу, что у меня тут есть хоть кто-нибудь, кого ничем не проймешь!
Арчер расхохотался, и Мэй, покраснев до корней волос, последовала его примеру.
— Ну, а теперь, пожалуйста, подробно расскажите мне про праздник, потому что от этой бестолковой Медоры я ни одного разумного слова не услышу, — продолжала прародительница.
— От кузины Медоры? Я думала, она возвращается в Портсмут! — воскликнула Мэй.
— Да, — невозмутимо ответила старуха, — но сначала она должна заехать сюда за Эллен. Впрочем, вы ведь не знаете, что Эллен приехала на денек ко мне в гости. Так глупо, что она не хочет провести здесь все лето. Впрочем, я уже пятьдесят лет назад перестала спорить с молодежью. Эллен! Эллен! — резким старческим голосом крикнула она, силясь нагнуться вперед, чтобы увидеть лужайку за верандой.
Никто не ответил, и миссис Минготт нетерпеливо постучала палкой по блестящему паркету. Явившаяся на зов служанка-мулатка в пестром тюрбане сказала хозяйке, что видела, как «мисс Эллен» спускалась по тропинке к берегу, и старуха обернулась к Арчеру.
— Будьте паинькой, сходите за ней, а эта очаровательная дама опишет мне праздник, — сказала она, и Арчер поднялся, словно во сне.
За полтора года, прошедших с его последней встречи с графиней Оленской, он не раз слышал ее имя и даже знал о главных событиях ее жизни. Ему было известно, что она провела прошлое лето в Ньюпорте, где постоянно вращалась в свете, но осенью внезапно сдала «изумительный домик», который Бофорт с таким трудом для нее отыскал, и решила обосноваться в Вашингтоне. Зимою он слышал, что она (как всегда говорят обо всех хорошеньких женщинах в Вашингтоне) блистала в «изысканном дипломатическом обществе», которое должно было восполнить недостаток внимания к светским развлечениям со стороны правительства. Он выслушивал эти рассказы и всевозможные противоречивые мнения о ее внешности, о ее разговорах и мнениях, о ее друзьях с отчужденностью, с какой слушают воспоминания о ком-то давно умершем, и лишь в ту минуту, когда Медора неожиданно произнесла ее имя на состязании лучников, Эллен Оленская вновь для него ожила. Глупый лепет маркизы пробудил в его воображении картину маленькой, освещенной огнем камина гостиной и стук колес возвращавшейся по пустынной улице кареты.
Дорожка, ведущая к берегу, спускалась с крутого склона, на котором прилепился дом, к обсаженной плакучими ивами тропинке над водой. Сквозь листву проглядывал маяк Лайм-Рок с белой башней и крошечным домиком, в котором прославленная смотрительница Ида Льюис доживала свои последние годы. Дальше виднелся плоский берег Козьего острова[153] с уродливыми трубами расположенной там государственной фабрики, а еще дальше мерцающая золотом бухта уходила на север к поросшему карликовым дубом острову Прюденс и к берегам Конаникета,[154] которые едва угадывались в предзакатной дымке.
Осененная ивами тропинка вела на узкие деревянные мостки с беседкой в виде пагоды, а в пагоде, прислонясь к перилам, стояла спиной к берегу какая-то дама. Арчер остановился, словно пробудившись ото сна. Этот призрак прошлого был мечтой, а в домике на высоком склоне его ждала реальная действительность — запряженная пони коляска миссис Велланд у крыльца; Мэй. сидящая под бесстыдными олимпийцами в жарком сиянии тайных надежд; дача Велландов на дальнем конце Бельвю-авеню и, наконец, мистер Велланд, который уже переоделся к обеду и с часами в руке шагал взад-вперед по гостиной, одержимый нетерпением человека, страдающего диспепсией, — ведь это был один из тех домов, где всегда точно знают, что происходит в каждый данный час.
«Кто я такой? Зять…» — подумал Арчер.
Фигура на конце мостков не шевелилась. Молодой человек долго стоял на середине склона, глядя на бухту, по которой сновали парусные лодки, прогулочные яхты, рыболовные суда и шумные буксиры, тянущие черные баржи с углем. Дама в беседке, казалось, тоже была поглощена этим зрелищем. За серыми бастионами Форт-Адамса[155] тысячью огненных осколков сверкал запоздалый закат, и его пламя вдруг окрасило парус одномачтовой лодки, выходившей из пролива между берегом и Лайм-Роком. Глядя на эту картину, Арчер вспомнил сцену из «Шогрэна» и Монтегю, подносящего к губам ленту Ады Диас, которая даже не знала, что он в комнате.
«Она не знает… не догадывается. Неужели я бы тоже не почувствовал, если б она подошла ко мне сзади? — подумал он и вдруг сказал себе: — Если она не оглянется до тех пор, пока этот парус пройдет маяк Лайм-Рока, я вернусь обратно».
Лодка медленно скользила по волнам отлива. Она приблизилась к Лайм-Року, заслонила домик Иды Льюис и прошла мимо башни, в которой висел сигнальный фонарь. Арчер дождался минуты, когда между последней скалой острова и кормою лодки засверкала широкая полоса воды, но фигура в беседке так и не шелохнулась. Он повернулся и зашагал вверх по склону.
— Как жаль, что ты не нашел Эллен, я бы с удовольствием с нею повидалась, — сказала Мэй, когда они в вечерних сумерках ехали домой. — Но, может быть, ей все равно, ведь она так изменилась…
— Изменилась? — безразличным голосом повторил Арчер, не сводя глаз с пони, которые беспрестанно прядали ушами.
— Я хочу сказать, что она равнодушна к друзьям, покинула Нью-Йорк, свой дом и проводит время в обществе таких странных людей. Подумай, как ей, наверное, ужасно неуютно у Бленкеров! Она говорит, что удерживает Медору от глупостей — мешает ей выйти замуж за скверного человека. Но мне иногда кажется, что с нами ей всегда было скучно.
Арчер ничего не ответил, и она с жесткой ноткой, какой он прежде никогда не замечал в ее чистом, искреннем голосе, продолжала:
— Мне все-таки кажется, что она была бы гораздо счастливее с мужем…
— О, sancla simplicitas,[156] — со смехом воскликнул Арчер и в ответ на удивленный взгляд жены добавил — Я еще ни разу не слышал от тебя таких жестоких слов.
— Жестоких?
— Да. Говорят, будто смотреть, как корчатся грешники, — любимое занятие ангелов, но даже и они едва ли считают, что люди гораздо счастливее в аду.
— В таком случае остается пожалеть, что она вышла замуж за границей, — проговорила Мэй тем безмятежным тоном, с каким ее мать всегда отзывалась на причуды мистера Велланда, и Арчер почувствовал, что его мягко перевели в разряд неразумных мужей.
Они свернули с Вельвю-авеню и через ворота, закругленные столбы которых были увенчаны чугунными фонарями, въехали во владения Велландов. В окнах виллы уже горел свет, и, когда коляска остановилась, Арчер увидел тестя — точь-в-точь как он себе представлял, тот шагал взад и вперед по гостиной с часами в руке и со страдальческим выражением, которое, как он давно убедился, было гораздо действеннее гнева.
Войдя вслед за женою в переднюю, молодой человек вдруг ощутил, что его настроение каким-то непонятным образом круто изменилось. В роскошной обстановке велландовского дома, в густой велландовской атмосфере, насыщенной мелочными предписаниями и запретами, было нечто, всегда действовавшее на него как наркотик. Толстые ковры, внимательные слуги, вечно напоминающее о ходе времени тиканье вымуштрованных часов, вечно обновляемая стопка визитных карточек и приглашений на столике в передней, длинная цепь тиранических пустяков, связывающих один час со следующим и каждого члена семьи со всеми остальными — от всего этого любое менее упорядоченное и благополучное существование начинало казаться опасным и нереальным. Но теперь нереальным и бессмысленным стал велландовский дом и жизнь, которую он должен в нем вести, а коротенькая сценка на берегу, когда он в нерешительности стоял на середине склона, была ему близка, как кровь, текущая в его жилах.
Всю ночь, лежа без сна рядом с Мэй в большой, обтянутой ситцем спальне, он смотрел, как по ковру медленно движется косой луч лунного света, и думал об Эллен Оленской, которую рысаки Бофорта везут домой по мерцающим берегам залива.
22
— Прием в честь Бленкеров? Бленкеров?
Мистер Велланд отложил нож и вилку и с тревогой и недоверием посмотрел через стол на Жену, между тем как она, надев очки в золотой оправе, током актрисы классической комедии читала вслух:
— «Профессор и миссис Эмерсон Силлертон просят мистера и миссис Велланд почтить своим присутствием прием в честь миссис Бленкер и ее дочерей 25 августа ровно в три часа пополудни в Клубе „Вечера по средам“.
Ред Гейблз, Кэтрин-стрит. R. S. V. Р.»[157]
— Милосердный боже! — простонал мистер Велланд, словно чудовищная нелепость этого послания со всей очевидностью раскрылась ему лишь после того, как его прочитали дважды.
— Бедняжка Эми Силлертон — никогда нельзя предугадать, что ее муж еще измыслит, — вздохнула миссис Велланд. — Он, наверное, только что открыл Бленкеров.
Профессор Эмерсон Силлертон был шипом в боку ньюпортского общества, и шипом, который нельзя было вытащить, ибо он вырос на почтенном и почитаемом фамильном древе. Он, как говорится, «родился в рубашке». Отец его был дядей Силлертона Джексона, мать — урожденной Пеннилоу из Бостона; обе семьи обладали значительным состоянием и положением в обществе и как нельзя лучше подходили друг к другу. Ничто — неоднократно говаривала миссис Велланд, — ничто на свете не вынуждало Эмерсона Джексона сделаться археологом или профессором каких-либо иных наук, равно как и жить в Ньюпорте зимой или совершать все его остальные революционные поступки, и, уж во всяком случае, если он решил порвать с традициями и бросить вызов обществу, ему незачем было жениться на бедняжке Эми Дэгонет, которая имела право рассчитывать на «нечто совершенно иное», а также была достаточно богата, чтобы держать свой собственный выезд.
Никто из кружка Минготтов не мог понять, почему Эми так безропотно терпела эксцентричные выходки мужа, который вечно собирал в доме длинноволосых мужчин и коротко стриженных женщин и возил жену исследовать гробницы на Юкатане,[158] вместо того чтобы ездить с нею в Париж или в Италию. Но, как бы то ни было, они упорствовали в своих пристрастиях и явно не понимали, что отличаются от всех остальных, а раз в год, когда у них в саду устраивались унылые приемы, все жители Утесов из уважения к Силлертонам, Пеннилоу и Дэгонетам вынуждены были бросать жребий и чуть ли не насильно отправлять к ним кого-либо из членов семьи.
— Еще чудо, что они не выбрали день, когда происходят Гонки на Кубок, — заметила миссис Велланд. — Помнишь, в позапрошлом году они устроили прием в честь какого-то негра одновременно с thé dansant[159] Джулии Минготт? К счастью, на этот раз ничего другого как будто не предвидится, и нам придется к ним поехать.
Мистер Велланд нервно вздохнул.
— Нам, дорогая? Разве кого-нибудь одного недостаточно? Три часа — такое неудобное время. Я должен в половине четвертого быть дома, чтобы принять капли. Стоило ли начинать новый курс лечения доктора Бенкоума, если не придерживаться системы, а если я присоединюсь к тебе позже, я пропущу прогулку.
При этой мысли он снова отложил нож и вилку и его покрытые тонкими морщинками щеки раскраснелись от волнения.
— Тебе вообще незачем туда ехать, милый, — отвечала его жена с живостью, которая уже давно стала машинальной. — Мне нужно оставить несколько визитных карточек на их конце Бельвю-авеню, вот я и заеду к ним в половине четвертого и пробуду ровно столько, сколько нужно, чтобы бедняжка Эми не обиделась. — Она нерешительно взглянула на дочь. — А если у Ньюленда день занят, то Мэй сможет покатать тебя на пони и заодно обновить новую красную сбрую.
В семействе Велландов придерживались принципа, согласно которому часы и дни всех его членов, по выражению миссис Велланд, непременно должны были быть «заняты». Печальная необходимость «убивать время» (особенно обременительная для тех, кто не любил играть в вист и солитер) преследовала миссис Велланд, как призрак безработного преследует филантропа. Другой ез принцип заключался в том, что родители не должны никогда (во всяком случае открыто) вмешиваться в дела своих женатых или замужних детей, а чтобы сочетать независимость Мэй с желаниями мистера Велланда, требовалось столько изобретательности, что у самой миссис Велланд не оставалось ни единой незанятой секунды.
— Конечно, я поеду с папой. Ньюленд наверняка найдет себе занятие, — отозвалась Мэй тоном, который мягко напомнил ее мужу о недостатке отзывчивости с его стороны. Неспособность зятя заранее планировать свои занятия была источником постоянных огорчений миссис Велланд. В течение двух недель, проведенных под ее крышей, на вопрос о том, как он собирается потратить время, Арчер уже несколько раз отвечал каким-нибудь каламбуром, вроде: «вместо того чтобы тратить время, я, пожалуй, для разнообразия его сберегу», а однажды, когда миссис Велланд и Мэй отправились наносить уже давно откладывавшиеся визиты, он признался, что целый день провалялся под скалою на пляже неподалеку от дома.
— Ньюленд никогда не заглядывает вперед, — как-то раз осмелилась пожаловаться дочери миссис Велланд, на что Мэй безмятежно отвечала:
— Да, но, видишь ли, это неважно, потому что, когда ему нечего делать, он читает книгу.
— Ах, точь-в-точь как его отец! — воскликнула миссис Велланд, как бы снисходя к наследственным причудам, после чего вопрос о незанятости Ньюленда больше не обсуждался.
Однако по мере приближения дня приема у Силлертонов Мэй начала выказывать вполне естественную заботу о благе мужа и в качестве утешения за свое кратковременное дезертирство предлагать ему либо партию в теннис у Чиверсов, либо прогулку на катере Джулиуса Бофорта.
— Я буду дома к шести часам, милый, папа никогда позже не возвращается, — уверяла она и успокоилась только тогда, когда Арчер сказал, что хочет нанять коляску и съездить в северную часть острова на конный завод присмотреть там пристяжную для ее кареты. Они уже некоторое время искали такую лошадь, и предложение показалось Мэй настолько разумным, что она взглянула на мать, как бы говоря: «Вот видишь, он не хуже нас умеет распределять свое время».
Мысль о конном заводе и лошади для кареты зародилась у Арчера в тот самый день, когда впервые зашла речь о приглашении Эмерсона Силлертона, но он до поры до времени держал ее при себе, словно в этом намерении была какая-то тайна и упоминание о ней могло помешать его осуществлению. Он, однако, на всякий случай заранее нанял коляску с парой старых извозчичьих лошадок, которые еще были в состоянии пройти восемнадцать миль по ровной дороге, и в два часа пополудни, торопливо поднявшись из-за стола, вскочил в коляску и уехал.
День выдался чудесный. Легкий северный ветерок гнал по ультрамариновому небу клочья белых облаков, а внизу бежали прозрачные волны. В этот час Бельвю-авеню была пуста, и, высадив мальчика-конюха на углу Милл-стрит, Арчер свернул на дорогу к старой гавани, идущую вдоль Истменз-Бич.
Его охватила беспричинная радость, подобная той, с какою он во время коротких каникул выходил из школы навстречу неизвестности. Он пустил упряжку легкой рысью, рассчитывая добраться до конного завода, расположенного неподалеку от Райских Камней,[160] до трех часов, чтобы после осмотра лошади у него осталось еще четыре блаженных часа, которыми он сможет распорядиться по своему усмотрению.
Услышав о приеме у Силлертонов, он сразу подумал, что маркиза Мэнсон непременно поедет в Ньюпорт с Бленкерами, а госпожа Оленская, возможно, опять воспользуется случаем провести день у бабушки. Как бы то ни было, обиталище Бленкеров, вероятно, опустеет, и он, не рискуя показаться нескромным, сможет посмотреть, как оно выглядит. Он совсем не был уверен, что хочет еще раз увидеть графиню Оленскую, но после того, как он смотрел на нее с тропинки над заливом, им овладело странное, неизъяснимое желание увидеть место, где она живет, и воскресить в своем воображении образ женщины, которую он видел тогда в беседке. Это стремленье не оставляло его ни днем, ни ночью, словно капризное, мучительное желание больного отведать еды или питья, которые он пробовал когда-то, но вкус которых давным-давно забыл. Он не знал, к чему это может привести, ибо у него не было осознанного желания поговорить с госпожою Оленской или услышать ее голос. Он просто чувствовал, что если ему удастся унести с собой воспоминание о клочке земли, по которому она ступает, и о том, как обрамляют его небо и море, весь остальной мир, быть может, перестанет казаться ему таким пустым.
Добравшись до конного завода, он тотчас увидел, что лошадь ему не подходит, однако проехался вслед за нею, словно желая доказать самому себе, что никуда не торопится, и только в три часа свернул в один из проселков, ведущих к Портсмуту. Ветер утих, и легкая дымка на горизонте предвещала туман, который с началом прилива поднимется вверх по реке Сакконет,[161] но сейчас окрестные поля и леса были залиты золотым светом.
Он ехал мимо обитых серой дранкой фермерских домов с фруктовыми садами, мимо лугов и дубовых рощ, поселков со взметнувшимися в поблекшее небо остроконечными шпилями и наконец, расспросив работавших в поле людей, свернул на дорожку между высокими зарослями золотарника и куманики. В конце дорожки поблескивала голубая река, а слева, перед купой дубов и кленов, виднелся длинный ветхий дом, обшитый досками с облупившейся белой краской.
На краю дороги, против ворот, стоял открытый сарай, из тех, где жители Новой Англии хранят сельскохозяйственные орудия, а приезжие оставляют лошадей. Арчер соскочил на землю, завел свою упряжку в сарай, привязал к столбу и направился к дому. Газон перед входом превратился в луговину; слева, за густо разросшейся живой изгородью из самшита, виднелись георгины и порыжелые розовые кусты, окружавшие призрачную беседку с некогда белой решеткой, на крыше которой красовался деревянный Купидон — он потерял свой лук и стрелы, но продолжал напрасно целиться в несуществующую цель.
Арчер некоторое время стоял, прислонившись к воротам. Никого не было видно, из открытых окон не доносилось ни звука; серый ньюфаундленд, дремавший у дверей, казался таким же безобидным стражем, как и лишенный стрел Купидон. Мысль о том, что это царство тишины и запустения — обитель неугомонных Бленкеров, казалась странней, но Арчер был уверен, что не ошибся.
Он долго стоял, упиваясь этой картиной и постепенно поддаваясь ее дремотным чарам, пока наконец мысль о том, что время уходит, не заставила его встряхнуться. Может быть, насмотреться вдоволь и уехать? Пока он стоял, не зная, на что решиться, ему вдруг захотелось заглянуть в дом, чтобы составить себе представление о комнате, где живет госпожа Оленская. Ничто не мешало ему подойти к дверям и позвонить — если, как он думал, она уехала со всеми остальными, он назовет свое имя и попросит разрешения зайти в гостиную и написать записку.
Однако вместо этого он пересек лужайку и повернул к живой изгороди. В беседке мелькнуло какое-то яркое пятно, и, подойдя ближе, он разглядел розовый зонтик. Зонтик притягивал его, как магнит, — наверняка он принадлежит ей. Арчер вошел в беседку, сел на расшатанную скамью, взял в руки зонтик и стал разглядывать резную ручку, сделанную из какого-то редкостного дерева, издававшего едва уловимый, тонкий аромат. Арчер поднес рукоятку к губам.
Послышался шорох юбок, цеплявшихся за живую изгородь. Молодой человек оперся о ручку зонтика и, глядя в землю, застыл в ожидании. Он всегда знал, что это должно случиться…
— О, мистер Арчер! — воскликнул громкий молодой голос, и, подняв глаза, он увидел перед собою самую младшую и самую высокую из девиц Бленкер, растрепанную блондинку в измятом кисейном платье. Судя по красному пятну на щеке, она только что оторвалась от подушки, а заспанные глаза приветливо, хотя и с некоторым смущением, смотрели на Арчера.
— Господи, откуда вы взялись? Я, наверное, уснула в гамаке. Все уехали в Ньюпорт. Вы звонили? — бессвязно лепетала девушка.
Арчер смутился еще больше, чем она.
— Я? Нет… то есть я как раз собирался… Я был тут неподалеку, хотел присмотреть лошадь и заехал к вам, надеясь застать миссис Бленкер и ваших гостей. Но мне показалось, что в доме пусто, вот я и решил посидеть и подождать.
Мисс Бленкер, окончательно проснувшись, с возрастающим интересом на него смотрела.
— В доме и вправду пусто. Нет ни мамы, ни маркизы, никого, кроме меня. — В глазах ее появился упрек. — Разве вы не знаете, что сегодня у профессора и миссис Силлертон садовый праздник в честь мамы и всей нашей семьи? Мне ужасно не повезло, у меня болит горло, и мама испугалась, что на обратном пути будет холодно. Такая досада! Конечно, — оживленно добавила она, — я бы ничуть не огорчилась, если бы знала, что приедете вы.
Заметив эти неуклюжие попытки пококетничать, Арчер взял себя в руки и спросил:
— А госпожа Оленская — она тоже поехала в Ньюпорт?
Мисс Бленкер удивленно на него посмотрела.
— Госпожа Оленская? Разве вы не знаете, что ее вызвали?
— Вызвали? Куда?
— Ах, мой любимый зонтик! Я дала его растеряхе Кэти, потому что он подходит к ее лентам, а она забыла его здесь. Мы, Бленкеры, все такие… настоящая богема! — Схватив своей мощной рукою зонтик, она раскрыла его у себя над головой. — Да, Эллен вчера вызвали… она позволила нам называть ее Эллен. Она получила телеграмму из Бостона и сказала, что уезжает на два дня. Мне ужасно нравится ее прическа, а вам? — тараторила мисс Бленкер.
Арчер смотрел сквозь нее так, словно она была прозрачной, но видел всего лишь нелепый зонтик, розовым куполом возвышавшийся над ее улыбающейся физиономией.
Спустя мгновение он осмелился задать вопрос:
— Вы случайно не знаете, зачем госпожа Оленская поехала в Бостон? Надеюсь, она не получила никаких дурных вестей?
Мисс Бленкер весело отвергла столь невероятное предположение.
— Ах, нет, не думаю. Она не сказала нам, что было в телеграмме. По-моему, она хотела скрыть это от маркизы. У нее такой романтический вид, правда? Не напоминает ли она вам миссис Скотт-Сиддонс,[162] читающую «Любовь леди Джеральдины»?[163] Вы никогда ее не слышали?
Арчер судорожно пытался разобраться в теснившихся у него в голове мыслях. Казалось, перед ним внезапно раскрылось все его будущее, и он увидел, как по бесконечной пустыне движется постепенно уменьшающаяся фигурка человека, с которым никогда ничего не случится. Он посмотрел на запущенный сад, на ветхий дом и дубовую рощу, где уже сгущались сумерки. Казалось, именно в таком месте он должен был найти госпожу Оленскую, но она была далеко, и даже розовый зонтик принадлежал не ей…
Он нахмурился и, помедлив, сказал:
— Видите ли, дело в том, что я завтра буду в Бостоне. Если бы я мог ее увидеть…
Он почувствовал, что мисс Бленкер теряет к нему интерес, хотя с лица ее еще не сошла улыбка.
— О, разумеется, как мило с вашей стороны! Она остановилась в гостинице Паркер-хаус; в такую погоду там должно быть ужасно.
После этого до Арчера лишь временами доходил смысл замечаний, которыми они обменивались. Он помнил только, что решительно отклонил ее просьбу дождаться остальных и перед отъездом поужинать и выпить с ними чаю. В конце концов он в сопровождении хозяйки выбрался за пределы досягаемости деревянного Купидона, отвязал лошадей и уехал. На повороте дорожки он увидел мисс Бленкер, которая стояла у ворот и махала ему розовым зонтиком.
23
На следующее утро, сойдя с фолл-риверского поезда,[164] Арчер очутился в душном летнем Бостоне.
По привокзальным улицам, пропахшим пивом, кофе и гнилыми фруктами, с непринужденностью жильцов пансиона, шагающих по коридору в уборную, сновали обыватели в одних рубашках.
Арчер нашел извозчика и поехал завтракать в Сомерсет-клуб. Самые аристократические кварталы имели неопрятный домашний вид, до какого даже в тропический зной никогда не опускаются города Европы. Сторожихи в ситцевых платьях лениво сидели у подъездов богатых домов, а парк Коммон напоминал общественный сад наутро после масонского пикника. Если бы Арчер попытался представить себе Эллен Оленскую в каком-нибудь невероятном окружении, то ничего хуже, чем этот изнывающий от зноя, покинутый всеми Бостон, он бы придумать не смог.
Он завтракал методично и со вкусом, начав с куска дыни и в ожидании яичницы с гренками просматривая утреннюю газету. С той минуты, как он накануне вечером объявил Мэй, что у него есть дело в Бостоне и что нынче же ночью он сядет на пароход, идущий в Фолл-Ривер, а завтра к концу дня отправится в Нью-Йорк, он был полон новых сил и энергии. Все знали, что в начале недели он должен возвратиться в город, и поэтому письмо из конторы, волею судьбы очутившееся на столике в холле к его приезду из Портсмута, оказалось вполне достаточным основанием для внезапной перемены в его планах. Он даже устыдился, до того легко все это сошло ему с рук, и на какую-то долю секунды почувствовал отвращение, вспомнив хитроумные уловки, с помощью которых Лоренс Леффертс гарантировал себе свободу. Однако это беспокоило его недолго — сейчас он менее всего был склонен к размышлениям.
После завтрака Арчер выкурил папиросу и заглянул в «Коммершиэл адвертайзер».[165] В это время в столовую клуба вошло двое или трое его знакомых, с которыми он обменялся обычными приветствиями — ведь, в конце концов, жизнь шла своим чередом, несмотря на охватившее его странное чувство, будто он выскользнул из сети времени и пространства.
Посмотрев на часы и убедившись, что уже половина десятого, он встал, прошел в соседнюю комнату, сел за письменный стол, написал несколько строчек, велел посыльному на извозчике отвезти записку в Паркер-хаус и дождаться ответа, после чего снова спрятался за газетой и попытался вычислить, за сколько времени извозчик доберется до гостиницы.
— Госпожа вышла, сэр, — внезапно раздался голос лакея у него за спиной.
— Вышла? — пробормотал он, словно ему сказали это на незнакомом языке, после чего встал и отправился в холл. Это, наверное, ошибка — она не могла выйти в такой ранний час. Он даже покраснел от досады на собственную глупость — почему было не послать записку тотчас же по приезде?
Захватив шляпу и трость, Арчер вышел на улицу. Город внезапно стал таким чужим, пустым и огромным, словно он был путешественником, который приехал сюда из дальних стран. С минуту помедлив на пороге, Арчер решил отправиться в Паркер-хаус. Что, если посыльного ввели в заблуждение, и она все еще там?
Он зашагал по парку Коммон[166] и на первой же скамейке в тени дерева увидел се. Она сидела под раскрытым зонтиком из серого шелка — как он только мог вообразить, что зонтик у нее розозый? Когда он подошел ближе, его поразила безжизненность ее позы — она сидела так, словно ей больше нечего делать. Он увидел ее поникший профиль, низко заколотый узел волос под темными полями шляпы и длинную измятую перчатку на руке, державшей зонтик. Он приблизился еще на два шага, и тут она обернулась и посмотрела на него.
— О… — проговорила она, и он впервые заметил на ее лице испуганное выражение, которое, впрочем, мгновенно сменилось улыбкой удивления и радости.
— О… — снова прошептала она уже совсем другим тоном.
Он все еще стоял, глядя на нее сверху, и она подвинулась, освобождая ему место на скамейке.
— Я здесь по делу, только что приехал, — пояснил Арчер и, сам не зная почему, сделал вид, будто изумлен их встречей. — Но что делаете в этой пустыне вы?
Он едва ли понимал, что говорит; ему казалось, будто он кричит ей что-то через бесконечные пустые дали, и она может снова исчезнуть, и уж тогда ему ее не догнать.
— Я? Я здесь тоже по делу, — отвечала она, повернув голову, так что они оказались лицом к лицу. Смысл слов доходил до него с трудом, он слышал только ее голос и удивлялся, что в его памяти не сохранилось ни малейшего о нем воспоминания. Он даже не помнил, что голос у нее низкий и что она чуть хрипловато произносит согласные.
— У вас другая прическа, — сказал он, чувствуя, что сердце у него бьется так сильно, словно он произнес нечто непоправимое.
— Другая? Нет, просто это лучшее, на что я способна без Настасии.
— Без Настасии? Разве она не с вами?
— Нет, я одна. Не было смысла привозить ее сюда на два дня.
— Одна в Паркер-хаусе?
Она взглянула на него с искоркой прежнего лукавства.
— Вы находите, что это опасно?
— Нет, не опасно… но…
— Но не совсем обычно? Да, наверное, это так. — Она на минутку задумалась, — Это не приходило мне в голову, потому что сейчас я сделала нечто еще более необычное. — В глазах ее мелькнула ирония. — Я только что отказалась принять назад деньги… мои собственные деньги.
Арчер вскочил и отошел на несколько шагов в сторону. Госпожа Оленская закрыла зонтик и принялась рассеянно чертить узоры на гравии. Вскоре он вернулся и остановился перед нею.
— Кто-нибудь… кто-нибудь приехал сюда говорить с вами?
— Да.
— С этим предложением? Она кивнула.
— И вы отказались — из-за поставленных условий?
— Я отказалась, — помедлив, отвечала она. Он снова сел с нею рядом.
— В чем заключались эти условия?
— О, ничего обременительного, всего лишь время от времени сидеть во главе его стола.
Снова наступило молчание. Сердце Арчера — как уже случалось с ним раньше — вдруг остановилось, словно в груди у него захлопнули дверь, и он тщетно пытался найти слова.
— Он хочет, чтобы вы вернулись, и готов заплатить любую сумму?
— Да, сумма весьма значительная. Во всяком случае, для меня.
Он снова умолк, ломая себе голову над тем, в какие слова облечь вопрос, который ему хотелось задать.
— И вы приехали сюда встретиться с ним? Изумленно посмотрев на него, она расхохоталась.
— Встретиться с ним? С моим мужем? Здесь? Это время года он всегда проводит в Каусе или в Бадене.
— Он кого-нибудь прислал?
— Да.
— С письмом?
Она покачала головой.
— Нет, просто с поручением. Он никогда не пишет. По-моему, я получила от него всего лишь одно письмо. — Воспоминание об этом письме вызвало румянец у нее на щеках, и этот румянец тотчас отразился на лице Арчера.
— Почему он никогда не пишет?
— Зачем тогда секретари?
Молодой человек покраснел еще больше. Она произнесла это слово так, как будто в нем содержалось не более смысла, чем в любом другом. На языке у него вертелся вопрос: «Значит, он послал своего секретаря?», но воспоминание о единственном письме графа Оленского к жене было слишком живо в его памяти. Он снова умолк, после чего предпринял еще одну отчаянную попытку.
— И этот человек?..
— Посланец? — все еще улыбаясь, продолжала госпожа Оленская. — Посланец, по-моему, мог бы уже уехать, но он решил подождать до сегодняшнего вечера… на случай, если… если вдруг появится какая-то возможность…
— И вы пришли сюда, чтобы обдумать эту возможность?
— Я пришла сюда подышать свежим воздухом. В гостинице невыносимая духота. Я возвращаюсь дневным поездом в Портсмут.
Они молча сидели, глядя не друг на друга, а прямо перед собою, на прохожих, идущих по дорожке. Наконец она обернулась к нему и сказала:
— А вы все такой же.
Ему хотелось ответить: «Я был таким же, пока не встретил вас снова», но вместо этого он решительно поднялся и оглядел грязный и знойный парк.
— Здесь отвратительно. Почему бы нам не пойти к заливу? Там дует прохладный ветерок. Мы могли бы съездить на пароходе в Пойнт-Арли, — сказал он и в ответ на ее нерешительный взгляд добавил: — В понедельник утром на пароходе не будет ни души. Мой поезд уходит только вечером, я возвращаюсь в Нью-Йорк. Почему бы нам не поехать? — настаивал он, глядя на нее, и вдруг у него вырвалось: — Разве мы не сделали все, что могли?
— О… — снова прошептала она, встала, раскрыла зонтик и огляделась вокруг, словно желая найти в окружающей картине доказательство того, что оставаться здесь дальше невозможно. Потом снова посмотрела ему в лицо. — Вы не должны говорить мне таких вещей.
— Я буду говорить вам все, что вы хотите, или вообще ничего. Я не раскрою рта, пока вы мне не прикажете. Кому это может повредить? Я хочу только слушать вас, — заикаясь бормотал он.
Она достала маленькие золотые часики на эмалевой цепочке.
— О, не думайте о времени, — воскликнул он, — подарите мне этот день! Я хочу увезти вас от того человека. В котором часу он придет?
— В одиннадцать, — вновь заливаясь краской, отвечала она.
— Тогда вы должны немедленно уйти.
— Вам нечего бояться — если я не уйду.
— Вам тоже — если вы уйдете. Клянусь вам, я хочу только узнать о вас, о том, что вы делали все это время. Мы не виделись сто лет — и может пройти еще сто лет, прежде чем мы увидимся снова.
Она все еще колебалась, с тревогой глядя на него.
— Почему вы не пришли за мной на берег в тот день, когда я была у бабушки? — спросила она.
— Потому что вы не оглянулись — потому что вы не знали, что я там. Я поклялся, что не подойду, если вы не обернетесь. — Он засмеялся, пораженный детской наивностью своего признания.
— Но ведь я не обернулась нарочно.
— Нарочно?
— Когда вы подъезжали, я узнала ваших пони. Поэтому я и пошла на берег.
— Чтобы уйти от меня как можно дальше?
— Чтобы уйти от вас как можно дальше, — тихо повторила она.
Он снова рассмеялся, на этот раз с мальчишеской радостью.
— Вот видите, все напрасно. А дело, которое привело меня сюда, заключалось в том, чтобы разыскать вас. Однако нам пора, иначе мы пропустим наш пароход.
— Наш пароход? — удивленно нахмурилась она, потом с улыбкой добавила: — Да, но мне надо сначала вернуться в гостиницу — я должна оставить записку…
— Хоть десять. Вы можете написать ее тут. — Он достал бумажник и вечное перо, из тех, что только начали входить в моду. — У меня есть даже конверт — теперь вы видите, что все заранее предопределено. Вот — положите бумажник на колени, а я приведу в действие перо. С ним надо уметь обращаться, подождите… — он постучал рукой с пером по спинке скамейки. — Это очень просто — все равно что сбить ртуть на термометре. А теперь попробуйте…
Она засмеялась и, склонившись над листом бумаги, начала писать. Арчер отошел на несколько шагов, невидящими сияющими глазами глядя на прохожих, которые в свою очередь удивленно наблюдали непривычное зрелище — модно одетую даму, которая писала записку у себя на коленях на скамейке в парке Коммон.
Госпожа Оленская вложила записку в конверт, написала на нем фамилию, сунула в карман и тоже встала.
Они пошли по направлению к Бикон-стрит, и возле клуба Арчер заметил обитую плюшем извозчичью карету — так называемый «гердик», на которой возили его записку в Паркер-хаус и кучер которой отдыхал от этого непосильного труда, поливая лицо водой из пожарного крана на углу.
— Я вам говорил, что все предопределено! Вот извозчик! Видите?
Оба рассмеялись, изумленные редкостной удачей — наткнуться на общественный экипаж в такой час, в самом неподходящем месте и притом в городе, где стоянки извозчиков все еще считались «иностранным новшеством».
Взглянув на часы, Арчер убедился, что до отправления парохода они еще успеют заехать в Паркер-хаус. «Гердик» загромыхал по жарким улицам и остановился у дверей гостиницы.
Арчер протянул руку за письмом.
— Прикажете отнести? — спросил он, но госпожа Оленская. покачав головой, выскочила из экипажа и исчезла за стеклянной дверью. Не было еще и половины одиннадцатого, но вдруг посланец, нетерпеливо ожидая ответа и не зная, чем себя занять, уже сидит среди путешественников, распивающих прохладительные напитки в холле, — Арчер заметил их, когда она входила в гостиницу.
Он ждал, шагая взад и вперед возле гостиницы. Юноша-сицилиец с глазами, как у Настасии, предложил почистить ему башмаки, а толстая ирландка — купить у нее персиков; двери поминутно отворялись, выпуская потных мужчин в сдвинутых на затылок соломенных шляпах, которые, проходя, окидывали его взглядом. Он подивился тому, что двери так часто отворяются и что все выходящие из них люди так похожи друг на друга и так похожи на всех остальных потных мужчин, которые в этот час беспрестанно входят и выходят сквозь двустворчатые двери гостиниц по всей стране.
Внезапно перед ним возникло лицо, которое он никак не мог соотнести с остальными. Он заметил его лишь мельком, потому что в эту минуту как раз находился в самой дальней точке своего дозора, и, поворачивая обратно к гостинице, среди множества типичных физиономий — худых и усталых, круглых и удивленных, добродушных и угрюмых — увидел это лицо, которое выражало одновременно нечто гораздо большее и притом совершенно иное. Это было лицо молодого человека, тоже бледное и осунувшееся от жары, или забот, или от того и от другого вместе, однако почему-то более живое, подвижное, более осмысленное; но, быть может, это лишь казалось — потому что сам он был совершенно не таким, как остальные. Арчер на миг ухватился за тонкую ниточку памяти, но она тотчас порвалась и уплыла вместе со скрывшимся из виду лицом — по всей вероятности, какого-то иностранного коммерсанта, который в этом окружении казался вдвойне иностранным. Оно исчезло в потоке прохожих, и Арчер снова двинулся в свой обход.
Он не хотел, чтобы его видели перед гостиницей с часами в руке, и, пытаясь наугад определить, сколько времени он ждет, решил, что если госпожа Оленская так долго задержалась, значит, она либо встретила посланца, либо он ее подстерег. При этой мысли его опасения сменились душевной болью.
— Если она сию минуту не вернется, я пойду и найду ее, — сказал он себе.
Двери снова отворились, и она очутилась рядом с ним. Они уселись в экипаж, и, когда он тронулся, Арчер посмотрел на часы и увидел, что она отсутствовала всего три минуты. Неплотно вставленные стекла так дребезжали, что разговаривать было невозможно, и, громыхая по ухабам неровной булыжной мостовой, они поехали к пристани.
Сидя бок о бок на скамейке в полупустом пароходе, они вдруг поняли, что им почти нечего сказать друг другу, или, вернее, то, что они хотят сказать, лучше всего можно выразить блаженным молчанием одиночества и свободы.
Когда гребные колеса начали вращаться, а суда и причалы постепенно растворились в знойной дымке, Арчеру показалось, будто весь знакомый привычный мир тоже стал растворяться. Ему очень хотелось спросить госпожу Оленскую, нет ли у нее чувства, будто они отправились в дальние края, откуда нет возврата. Но он боялся сказать это или что-либо другое, что могло бы оборвать тонкий волосок, на котором держалось ее доверие к нему. Он не хотел обмануть это доверие. В прошлом бывали дни и ночи, когда воспоминание об их поцелуе горело у него на губах, и даже накануне, по дороге в Портсмут, мысль об Эллен как огонь разливалась в его крови, но теперь, когда она была рядом и они уплывали в этот неведомый мир, между ними, казалось, возникла такая глубокая духовная близость, которую может нарушить даже самое легкое прикосновение.
Когда пароход вышел из гавани в открытое море, подул легкий ветерок и по заливу побежали длинные маслянистые волны с пеною на гребешках. Душный сырой туман все еще висел над городом, но впереди простирался прозрачный мир беспокойных, покрытых рябью вод и освещенных солнцем маяков на далеких мысах. Госпожа Оленская, откинувшись на поручни, полураскрытыми губами впивала морскую прохладу. Она обернула шляпу длинной вуалью, но лицо ее оставалось открытым, и Арчер был потрясен ее безмятежным оживлением. Казалось, она принимала их путешествие как нечто само собою разумеющееся и не только не боялась неожиданных встреч, но (что гораздо хуже) выказывала неуместный восторг по поводу такой возможности.
В скромной гостиничной столовой, где, как он надеялся, они будут одни, сидела крикливая компания безобидных на вид молодых людей и девиц — как пояснил хозяин, это были приехавшие на каникулы учителя, — и у Арчера упало сердце от мысли, что им придется разговаривать при таком шуме.
— Это безнадежно, я попрошу, чтобы нам дали отдельную комнату, — сказал он, и госпожа Оленская, ни словом не возразив, ждала, пока он вернется.
Комната выходила на длинную деревянную веранду, а из окон виднелось море. Здесь было прохладно и пусто; посреди стола, накрытого грубой клетчатой скатертью, красовалась банка пикулей и черничный пирог под стеклянною крышкой. Никогда еще ни одной искавшей уединения паре не доводилось найти убежище в столь незатейливом cabinet particulier,[167] и Арчеру почудилось, будто он прочитал чувство облегчения в едва заметной насмешливой улыбке, с которой госпожа Оленская села за стол напротив него. Женщина, сбежавшая от мужа — и, по слухам, с другим мужчиной, — наверняка владеет искусством непредвзято смотреть на вещи, но в самообладании госпожи Оленской было нечто такое, что притупило иронию Арчера. Ее спокойствие, умение ничему не удивляться и простота помогли ей пренебречь условностями и внушить ему, что желание остаться наедине вполне естественно для двух старых друзей, которым нужно так много сказать друг Другу…
24
Они обедали неторопливо и спокойно, временами прерывая стремительный поток разговора, — когда наваждение рассеялось, у них нашлось множество тем для беседы, но беседа порой становилась лишь аккомпанементом к долгим молчаливым диалогам. Арчер не говорил о себе — не умышленно, а просто потому, что не хотел пропустить ни единого слова из ее повествования, и, опершись подбородком о сложенные на столе руки, она рассказывала ему про те полтора года, что протекли с их последней встречи.
Ей надоело так называемое «общество». Нью-Йорк был снисходителен, он был просто угнетающе гостеприимен, она никогда не забудет, как радушно он ее встретил, но упоенье новизной вскоре сменилось сознанием, что она, по ее выражению, «совсем другая», и потому ей не нужно то, что нужно Нью-Йорку. Тогда она решила попытать счастья в Вашингтоне, где существует гораздо большее разнообразие людей и мнений. И вообще ей следует, вероятно, обосноваться в Вашингтоне и взять к себе бедняжку Медору, которая истощила терпение остальных родственников как раз в тот момент, когда она больше всего нуждается в заботах и в защите от опасных матримониальных поползновений.
— А как же доктор Карвер? Разве вы не боитесь доктора Карвера? Говорят, он тоже живет у Бленкеров?
— О, эта опасность миновала, — улыбнулась она. — Доктор Карвер — человек очень умный. Он ищет богатую жену, которая бы финансировала его затеи, а Медора служит просто хорошей рекламой в качестве неофита.
— Неофита? Чего?
— Всяких новых и безумных социальных реформ. Но. на мой взгляд, они интереснее, чем слепое подражание традициям — чужим традициям, — которое я наблюдаю среди наших друзей. Стоило ли открывать Америку лишь для того, чтоб превратить ее в точную копию другой страны? — Она с улыбкой посмотрела на него через стол. — Как вы думаете, стал бы Христофор Колумб брать на себя столь тяжкий труд ради того только, чтобы пойти в оперу с семейством Селфридж Мерри?
Арчер покраснел.
— А Бофорт… Ему вы это тоже говорите? — отрывисто спросил он.
— Я его давно не видела. Но раньше говорила, и он меня понимает.
— Ах, это как раз то, что я всегда вам твердил: мы вам не нравимся. А Бофорт нравится — потому что он так на нас не похож. — Арчер обвел взглядом пустую комнату, пустое взморье и безупречно белые деревенские домики, ровным рядом вытянувшиеся вдоль берега. — Мы невыносимо скучны. Мы лишены характера, разнообразия, красок. Не понимаю, почему вы не уезжаете назад?
Глаза ее потемнели, и он ждал негодующего ответа. Но она сидела молча, слозно обдумывая его замечание, и он испугался, как бы она не сказала, что и сама этого не понимает.
Наконец она проговорила:
— Думаю, что из-за вас.
Вряд ли можно было сделать признание более бесстрастно или тоном, который менее льстил бы тщеславию того, к кому оно относилось. Арчер покраснел до корней волос, но не смел ни шелохнуться, ни заговорить. Казалось, слова ее — какая-то редкостная бабочка, которая при малейшем движении встрепенется и улетит, но если ее не трогать, соберет вокруг себя всю стайку.
— Во всяком случае, — продолжала она, — именно вы помогли мне увидеть за этой скукой нечто столь тонкое, возвышенное и прекрасное, что многие вещи, которые я в другой своей жизни особенно ценила, кажутся мне по сравнению с этим дешевыми и ничтожными. Не знаю, как это лучше выразить, — сказала она, озабоченно нахмурив лоб, — но мне кажется, я никогда прежде не понимала, какой жестокостью, низостью и бесчестьем приходится порой платить за самые изысканные наслаждения.
«Изысканные наслаждения — о, они стоят того!» — чуть было не вырвалось у Арчера, но немая мольба в ее глазах помешала ему говорить.
— Я хочу быть абсолютно честной по отношению к вам и к самой себе, — продолжала она. — Я всегда надеялась, что рано или поздно мне представится возможность сказать вам, как вы мне помогли, что вы из меня сделали…
Арчер исподлобья смотрел на нее и наконец, рассмеявшись, прервал ее речь.
— А известно ли вам, что вы сделали из меня?
— Из вас? — спросила она, бледнея.
— Да. Ведь я — ваше произведение в гораздо большей степени, чем вы — мое. Я — человек, который женился на одной женщине, потому что так приказала ему другая.
Бледность ее на мгновение сменилась румянцем.
— Я думала… вы обещали… Вы не должны говорить мне об этом сегодня…
— Как это по-женски! Ни одна из вас не способна смотреть в глаза горькой правде!
— Неужели это горькая правда — для Мэй? — тихо промолвила она.
Стоя у окна, он барабанил пальцами по стеклу, каждой клеточкой ощущая проникновенную нежность, с которой она произнесла имя двоюродной сестры.
— Мы всегда должны помнить, что важны не слова, а дела. Разве вы сами не подали мне пример?
— Подал вам пример? — машинально повторил он, все еще не сводя безучастного взгляда с моря.
— А если нет, — продолжала она, с мучительной настойчивостью развивая свою мысль, — если не стоило отказываться от всего, чтобы избавить других от разочарования и горя, — тогда все, ради чего я вернулась домой, все, по сравнению с чем та моя жизнь казалась такой пустой и убогой, потому что там никто об этом не думает, значит, все это — фальшь и химера…
Он обернулся, не двигаясь с места.
— Ив этом случае ничто на свете не может помешать вам вернуться? — закончил он за нее.
В полном отчаянии она не спускала с него глаз.
— О, неужели и вправду ничто?
— Нет, если вы пожертвовали всем ради моего семейного счастья. Мое семейное счастье едва ли удержит вас здесь! — вне себя вскричал он и, так как она ничего не ответила, продолжал: — К чему все это? Благодаря вам я впервые в жизни смог хоть краем глаза увидеть настоящую жизнь, но вы тотчас же велели мне и дальше довольствоваться фальшью. Терпеть это — свыше сил человеческих… вот и все.
— О, не говорите так, ведь я это терплю! — вырвалось у нее, и глаза ее наполнились слезами.
Она уронила руки на стол и, словно забыв обо всем на свете в минуту смертельной опасности, открыла его взгляду свое лицо. Оно выдавало ее так, как будто перед ним было все ее существо, вся ее душа. Арчер молча стоял, потрясенный тем, что оно внезапно ему сказало.
— Как — и вы? И вы тоже? Все это время? Ответом были лишь слезы, которые наполнили ее глаза и медленно потекли по щекам.
Чуть ли не половина комнаты все еще отделяла их друг от друга, и ни один из них не сделал ни малейшего движения. Арчер был как-то странно равнодушен к ее физическому присутствию, он даже едва ли бы его заметил, если бы рука, которую она уронила на стол, не привлекла к себе его взгляд, как в тот день, когда в маленьком домике на 23-й улице он не сводил глаз с ее руки, чтобы не смотреть ей в лицо. Теперь его воображение металось вокруг этой руки, словно по краю водоворота; но он все еще не сделал попытки приблизиться. Он знал любовь, которая питается ласками и питает их, но эта страсть поразила его до мозга костей, и было ясно, что легко и бездумно ее не удовлетворить. Он страшился лишь одного — как бы не сделать чего-нибудь, что могло бы стереть звук и значение ее слов, думал лишь об одном — теперь он никогда не будет совсем одинок.
Но уже в следующее мгновенье его охватило чувство безысходности и невозвратимой утраты. Вот они оба здесь — так близко, так надежно укрытые от посторонних взоров, и тем не менее каждый так крепко прикозан к своей одинокой судьбе, как если бы их отделял друг от друга весь мир.
— К чему это все — если вы вернетесь обратно? — вырвалось у него, а за словами стоял безнадежный вопль: «Какими силами я могу вас удержать?»
Она сидела неподвижно, опустив глаза.
— О… Я пока не вернусь!
— Пока? Значит, потом, и вы уже назначили срок? В ответ она подняла на него ясный взор.
— Я обещаю вам — я не уеду до тех пор, пока вы будете держаться. До тех пор, пока мы сможем прямо смотреть в глаза друг другу — так, как сейчас.
Он рухнул на стул. Ответ ее значил одно: «ЕсХи вы шевельнете хоть пальцем, вы прогоните меня обратно — обратно ко всем мерзостям, о которых вы знаете, и ко всем соблазнам, о которых вы можете только догадываться». Он понял все это так ясно, как если бы она выразила это словами, и эта мысль удерживала его за столом в какой-то растроганной благоговейной покорности.
— Что за жизнь это будет для вас! — простонал он.
— О, ничего страшного — до тех пор, пока эта жизнь будет частью вашей!
— А моя — частью вашей? Она утвердительно кивнула.
— И это будет все — для нас обоих?
— Но ведь это так и есть — разве я ошибаюсь? При этих словах он вскочил, забыв обо всем на свете, кроме ее прелестного лица. Она тоже поднялась — не за тем, чтобы пойти к нему навстречу или от него бежать, а спокойно, словно самое трудное уже позади и теперь ей остается только ждать, так спокойно, что, когда он приблизился, ее протянутые руки его не оттолкнули, а, напротив, повели. Взяв его за руки, она мягко отстранила его на такое расстояние, откуда ее отрешенное лицо могло договорить остальное.
Они стояли так очень долго или, быть может, всегс лишь мгновенье, но вполне достаточно для того, чтобы ее молчание поведало все, что она хотела сказать, а он понял, что важно только одно. Он не должен делать ничего такого, чтобы эта встреча стала последней, он должен вверить ей их будущее и просить лишь о том, чтобы она не выпускала его из рук.
— О, вы не должны быть несчастливы, — прерывающимся голосом промолвила она, отнимая руки.
— Вы не вернетесь, вы не вернетесь туда? — отозвался он, словно это было единственное, чего он не в силах перенести.
— Нет, не вернусь, — ответила она, отстранилась, открыла дверь и прошла в общую столовую.
Шумливые учителя собирали свои пожитки, готовясь всем скопом ринуться на пристань. На взморье у причала стоял белый пароход, а над солнечным заливом полосою дымки смутно вырисовывался Бостон.
25
Когда Арчер вновь очутился на палубе среди посторонних, на него снизошел покой, который, как ни странно, укрепил его душевные силы. Итог дня, если мерить его ходячими мерками, был до смешного плачевным — он даже не коснулся губами госпожи Оленской и не добился от нее ни единого слова, сулившего возможность новых встреч. И тем не менее человек, мучимый неутоленной страстью и на неопределенное время покидающий предмет своей любви, едва ли мог чувствовать себя столь унизительно смиренным и довольным. Его взволновало, однако же и успокоило то идеальное равновесие, которое она сумела установить между их верностью другим и честностью друг к другу, — равновесие, бывшее отнюдь не следствием хитрого расчета, о чем свидетельствовали ее колебания и слезы, а, напротив, естественно вытекавшее из ее неподдельной искренности. Теперь, когда опасность миновала, он был преисполнен трепетной нежности и благодарности судьбе за то, что ни тщеславие, ни сознание, будто он играет какую-то роль перед многоопытными зрителями, не ввели его в соблазн соблазнить также и ее. Даже после того, как они обменялись рукопожатием на фолл-риверском вокзале и он ушел оттуда один, у него осталась уверенность, что от их встречи он получил гораздо больше, чем потерял.
Он воротился в клуб и, сидя в пустой библиотеке, снова и снова воскрешал в памяти каждую секунду, проведенную ими вдвоем. Ему было ясно, а по здравом размышлении стало еще яснее, что если она в конце концов решит вернуться в Европу — или, иными словами, к мужу, — то не потому, что соблазнится прежней своей жизнью даже на новых условиях, которые ей теперь предлагали. Нет, она уедет лишь в том случае, если почувствует, что ввела Арчера в соблазн выйти за те строгие рамки, которые они сами себе поставили. Она останется близ него до тех пор, пока он не попросит ее подойти еще ближе, и в его власти удержать ее здесь, на безопасном, хотя и дальнем расстоянии.
В поезде эти мысли по-прежнему его не оставляли. Они как бы окутывали его золотистою дымкой, сквозь которую лица окружающих казались далекими и смутными, и у него было такое ощущение, что, если он заговорит со своими попутчиками, они его просто не поймут. В состоянии такой рассеянности он пробудился на следующее утро к реальности душного сентябрьского Нью-Йорка. Когда он, направляясь к выходу с вокзала, сквозь тот же золотистый туман глядел на изнуренные зноем лица проходивших мимо пассажиров длинного поезда, одно из этих лиц неожиданно отделилось от общей массы, приблизилось и привлекло к себе его внимание. Он тотчас вспомнил, что это лицо молодого человека, которого он накануне видел у дверей Паркер-хауса, и заметил, как резко оно отличается от типической физиономии постояльца американской гостиницы.
То же самое поразило его и теперь, снова пробудив неясные ассоциации с чем-то виденным прежде. Молодой человек стоял, растерянно осматриваясь вокруг, словно иностранец, попавший во власть грубой стихии, жертвой которой становится каждый путешествующий по Америке, затем подошел к Арчеру и, приподняв шляпу, сказал по-английски:
— Если я не ошибаюсь, сударь, мы с вами встречались в Лондоне.
— Да, да, разумеется, в Лондоне! — с любопытством и участием воскликнул Арчер, схватив его за руку. — Значит, вы все-таки сюда приехали? — добавил он, бросая удивленный взгляд на умное худощавое лицо французского учителя юного Карфрая.
— Приехал, как видите, — слегка улыбнулся мосье Ривьер. — Но не надолго — послезавтра я возвращаюсь обратно.
Он стоял, держа рукою, аккуратно обтянутой перчаткой, легкий саквояж и испуганно, ошарашенно, чуть ли не умоляюще глядя на Арчера.
— Я подумал, сударь, раз уж мне посчастливилось встретить вас… не могу ли я…
— Я как раз хотел пригласить вас со мною позавтракать. Если вы зайдете за мною в контору, мы отправимся в один очень приличный ресторан неподалеку, в деловой части города.
Мосье Ривьер был явно удивлен и тронут.
— Вы очень добры, сударь, но я хотел всего лишь спросить вас, как мне найти какой-нибудь экипаж. Здесь нет носильщиков, и никто не хочет слушать…
— Да, наши американские вокзалы, разумеется, должны вас удивить. Если вы спросите носильщика, вам предложат жевательную резинку. Пойдемте, я постараюсь вам помочь, но вы непременно должны со мной позавтракать.
Молодой человек, несколько поколебавшись, рассыпался в благодарностях и не очень убедительным тоном отвечал, что, к сожалению, занят, однако, когда они наконец очутились на улице в относительно спокойной обстановке, спросил, не может ли он посетить Арчера днем.
Арчер, не слишком обремененный делами ввиду летнего времени, назначил ему час и записал адрес, который француз, сняв шляпу и еще раз поблагодарив, положил себе в карман. Проводив его на конку, Арчер отправился восвояси.
Точно в назначенный час мосье Ривьер явился в контору, чисто выбритый и причесанный, но по-прежнему с серьезным и озабоченным видом. Арчер был один у себя в кабинете, и молодой человек, прежде чем сесть на предложенный ему стул, с места в карьер заявил:
— Мне кажется, сударь, я видел вас вчера в Бостоне. Замечание было вполне невинным, и Арчер уже готов был ответить утвердительно, как вдруг что-то загадочное и в то же время многозначительное в пристальном взгляде гостя его остановило.
— Поразительно, просто поразительно, что мы встретились при таких обстоятельствах, — продолжал мосье Ривьер.
— О каких обстоятельствах вы говорите? — спросил Арчер, у которого мелькнула довольно банальная мысль, что его собеседник нуждается в деньгах.
Мосье Ривьер не сводил с него застенчивого взгляда.
— Я приехал сюда не за тем, чтобы искать себе место, как мы с вами в прошлый раз говорили, а по особому поручению.
— А! — воскликнул Арчер, мгновенно связав две их последние встречи. Он умолк, чтобы обдумать положение, вдруг представшее перед ним в новом свете, и мосье Ривьер тоже молчал, словно сознавая, что сказал уже достаточно.
— По особому поручению… — после долгой паузы повторил Арчер.
Молодой француз слегка развел руками, и оба молча смотрели друг на друга через письменный стол, пока наконец Арчер не предложил мосье Ривьеру сесть, и тот, усевшись на стоявший в дальнем конце комнаты стул, снова застыл в ожидании.
— Вы хотели поговорить со мной об этом поручении? — спросил наконец Арчер.
Мосье Ривьер наклонил голову.
— Не от своего имени — с тем, что мне было поручено, я справился сам. Я хотел бы — если вы позволите — поговорить с вами о графине Оленской.
Арчер уже некоторое время ожидал этих слов, но, когда он их услышал, кровь прилила ему к вискам, словно он зацепился за изогнутую ветку в чаще.
— От чьего же имени вы хотите это сделать? Мосье Ривьер, не дрогнув, встретил этот вопрос.
— Я мог бы сказать, что от имени графини, если б это не звучало некоторой вольностью. Быть может, лучше было бы сказать — во имя абстрактной справедливости?
Арчер иронически на него посмотрел.
— Иными словами, вы посланец графа Оленского? Теперь румянцем — только еще более густым — покрылось бледное лицо мосье Ривьера.
— Да, но меня посылали не к вам, сударь. Если я пришел к вам, то по совершенно иным причинам.
— Что дает вам право, принимая во внимание нынешние обстоятельства, выставлять какие-либо иные причины? — возразил Арчер. — Одно из двух — либо вы по сланец, либо нет.
Молодой человек задумался.
— Моя миссия окончена. Поскольку речь идет о графине Оленской, она потерпела неудачу.
— Ничем не могу вам в этом помочь, — таким же ироническим тоном отозвался Арчер.
— Без сомнения, но вы можете помочь в другом… — мосье Ривьер умолк; руки его, все еще аккуратно обтянутые перчатками, перевернули шляпу, он заглянул внутрь и снова перевел взгляд на Арчера. — Я убежден, сударь, что вы можете способствовать неудаче моей миссии также и у ее семейства.
Арчер отодвинул стул и поднялся.
— И, видит бог, я это сделаю! — воскликнул он. Заложив руки в карманы, он стоял, в бешенстве гляди сверху вниз на маленького француза, лицо которого, хотя он тоже встал, было все равно дюйма на два ниже уровня глаз Арчера.
Лицо мосье Ривьера покрылось его обычной бледностью — бледнее он, казалось, стать уже не мог.
— Какого черта вы вообразили, — гневно продолжал Арчер, — поскольку, как я полагаю, вы обращаетесь ко мне по причине моего родства с госпожою Оленской, что я придерживаюсь мнения, противоположного мнению ее семьи?
Некоторое время единственным ответом мосье Ривьера оставалась перемена в его лице. Застенчивость его сменилась глубоким отчаянием — обычно такой живой и находчивый, он едва ли мог показаться более беспомощным и беззащитным.
— О, сударь…
— Не понимаю, почему вы явились ко мне, когда есть множество людей, гораздо более близких графине, и почему вы вообразили, что я буду менее глух к доводам, с помощью которых вы должны были, очевидно, на нее воздействовать.
Мосье Ривьер встретил эту атаку с обезоруживающим смирением.
— Доводы, которые я намерен перед вами выдвинуть, сударь, принадлежат мне, а не тому, кто меня послал.
— В таком случае у меня еще меньше оснований их выслушивать.
Мосье Ривьер снова оглядел внутренность своей шляпы, словно раздумывая, не содержится ли в этих последних словах достаточно откровенного намека на то, что ему следует надеть ее и удалиться. Затем, внезапно преисполнившись решимости, сказал:
— Сударь, позвольте мне спросить у вас одну вещь. Считаете ли вы, что я не вправе находиться здесь? Или, быть может, по-вашему, вопрос уже решен?
Его невозмутимая настойчивость заставила Арчера почувствовать, насколько неуместными были его шумные выпады. Мосье Ривьеру несомненно удалось произвести на него впечатление. Слегка покраснев, Арчер снова сел и знаком пригласил молодого человека последовать его примеру.
— Простите, но почему вы думаете, что вопрос не решен?
Мосье Ривьер сокрушенно ответил на его взгляд.
— Следовательно, вы разделяете мнение остальных членов семьи, что ввиду новых предложений мадам Оленская едва ли сможет не вернуться к мужу?
— О, господи! — вскричал Арчер, а гость его тихонько пробормотал что-то в подтверждение своих слов.
— Прежде чем повидаться с нею, я — по просьбе графа Оленского — встретился с мистером Лавелом Минготтом, с которым перед отъездом в Бостон неоднократно беседовал. Сколько я понимаю, он выражает мнение своей матушки, а миссис Мэнсон Минготт пользуется большим влиянием в семье.
Арчер сидел молча с таким чувством, будто он цепляется за скользкие края разверзшейся у него под ногами пропасти. Неожиданное открытие, что его отстранили от участия в этих переговорах и даже не известили, что они ведутся, повергло его в изумление, перед которым померкло даже еще более сильное изумление по поводу того, о чем он сейчас услышал. Его внезапно осенило, что если родственники перестали с ним советоваться, значит, какой-то глубокий родовой инстинкт внушил им, что он уже не на их стороне; и теперь ему вспомнились вдруг обретшие новый смысл слова Мэй, сказанные ею по пути домой от миссис Мэнсон Минготт в день состязания лучников: «Быть может, Эллен все-таки была бы счастливее с мужем».
Даже в смятении, вызванном этими новыми открытиями, Арчер вспомнил свой возмущенный ответ и то обстоятельство, что жена его с тех пор ни разу не упомянула при нем имени госпожи Оленской. Ее небрежное замечание, несомненно, было соломинкой, поднятой, чтобы узнать, откуда дует ветер, о результатах было доложено семейству, после чего оно молча исключило Арчера из своих совещаний. Он подивился силе родовой дисциплины, которая заставила его жену покориться этому решению. Он был уверен, что Мэй не поступила бы так, если бы ей не позволила совесть, но она, по-видимому, разделяла мнение семьи, что госпоже Оленской лучше быть несчастливой женой, чем разведенной, и что нет смысла обсуждать это дело с Ньюлендом, которому свойственна нелепая манера вдруг ни с того ни с сего ставить под сомнение самые очевидные истины.
Подняв глаза, Арчер встретил тревожный взгляд гостя.
— Разве вы не знаете, сударь… возможно ли, чтоб вы не знали… ваши родственники начинают сомневаться, вправе ли они советовать графине отвергнуть последние предложения ее мужа?
— Те предложения, с которыми вы приехали?
— Да, те предложения, с которыми я приехал. Арчер уже готов был возразить, что мосье Ривьеру не должно быть дела до того, что он знает и чего не знает, но смиренный и вместе с тем твердый взгляд француза заставил его от этого отказаться, и он ответил вопросом на вопрос:
— Зачем вы говорите об этом со мной? Молодой человек не замедлил с ответом.
— Чтобы просить вас, сударь, — живо отозвался молодой человек, — чтобы просить вас со всей убедительностью, на какую я только способен, не дать ей возвратиться. О, не отпускайте ее! — вскричал он.
Арчер смотрел на него со все возрастающим изумлением. Отчаяние мосье Ривьера и сила его решимости не оставляли ни малейших сомнений: он намерен был высказаться, чего бы это ему ни стоило. Арчер задумался.
— Могу ли я спросить вас, — заговорил он наконец, — придерживались ли вы этой точки зрения в беседе с графиней Оленской?
Мосье Ривьер покраснел, но не отвел глаз.
— Нет, сударь, я честно выполнил свое поручение. Я действительно считал — по причинам, которыми мне не хотелось бы занимать ваше время, — что мадам Оленской будет лучше, если она вновь обретет свое имущество и займет то место в обществе, которое дает ей положение ее мужа.
— Я так и думал — ведь в противном случае вы не взяли бы на себя подобного поручения.
— Конечно, не взял бы.
— Тогда как же… — Арчер снова умолк, и они оба еще раз обменялись долгим испытующим взглядом.
— Ах, сударь, после того как я ее увидел, после того как я ее выслушал, я понял, что ей лучше здесь.
— Вы это поняли?
— Да, я добросовестно выполнил свое поручение — я изложил доводы графа, я передал его предложения, воздерживаясь от каких-либо собственных комментариев. Графиня была столь любезна, что терпеливо все это выслушала, она простерла свою любезность даже до того, что встретилась со мною дважды, она беспристрастно обдумала все, что я имел ей сказать. Но в ходе этих двух бесед я изменил свое мнение и стал смотреть на дело совершенно иначе.
— Могу ли я узнать, что послужило причиной такой перемены?
— Всего лишь то, что я увидел перемену в ней, — отвечал мосье Ривьер.
— Перемену в ней? Значит, вы были знакомы с нею прежде?
Молодой человек снова залился краской.
— Я встречал ее в доме ее мужа. Я много лет знал графа Оленского. Вы, конечно, понимаете, что он не послал бы с таким поручением совершенно постороннего человека.
Взгляд Арчера, блуждавший по голым стенам кабинета, остановился на календаре, украшенном суровым лицом президента Соединенных Штатов.[168] Трудно было вообразить нечто более странное, чем даже самая возможность подобного разговора в пределах многих миллионов квадратных миль подведомственной ему территории.
— Перемена… Какого рода перемена?
— О, сударь, если бы я мог это вам рассказать! — Мосье Ривьер на мгновение умолк. — Мне кажется, я открыл нечто такое, о чем раньше никогда не подозревал, а именно, что она — американка. А для американцев, таких, как она — или как вы, — многие вещи, которые в других странах приняты или с которыми, во всяком случае, мирятся, как с неким удобным для всех компромиссом, становятся немыслимыми, просто немыслимыми. Если бы родственники мадам Оленской понимали, что это такое, они, как и она сама, категорически воспротивились бы ее возвращению, но они, очевидно, считают желание графа вернуть ее домой доказательством его страстной преданности семейному очагу. — Мосье Ривьер сделал паузу и добавил: — Между тем все далеко не так просто.
Арчер снова оглянулся на президента Соединенных Штатов, затем на разбросанные по столу бумаги. Секунду или две он не решался ничего сказать. Тем временем он услышал, как мосье Ривьер отодвинул стул, и понял, что тот встал. Снова подняв глаза, он увидел, что гость его взволнован не меньше, чем он сам.
— Благодарю вас, — просто сказал Арчер.
— Вам не за что благодарить меня, сударь, скорее я… — мосье Ривьер запнулся, как будто и ему трудно было говорить. — Однако я хотел бы сказать вам еще кое-что, — уже более твердым голосом продолжал он. — Вы спросили меня, состою ли я на службе у графа Оленского. Да, в настоящее время это так — я вернулся к нему несколько месяцев назад по личным причинам, знакомым каждому, на чьем попечении находятся больные и пожилые люди. Но с той минуты, как я решился прийти сюда, чтобы сказать вам все это, я считаю себя уволенным от должности, о чем по возвращении объявлю графу, изложив причины, которые меня к тому побудили. Вот и все, сударь.
Мосье Ривьер поклонился и отступил на шаг назад.
— Благодарю вас, — повторил Арчер, пожимая ему руку.
26
Ежегодно пятнадцатого октября 5-я авеню отворяла ставни, расстилала ковры и завешивала окна тремя рядами занавесей. К первому ноября этот домашний ритуал завершался, и общество начинало оглядываться по сторонам и критически присматриваться к самому себе. К пятнадцатому сезон был уже в полном разгаре, опера и драматические театры манили публику новыми соблазнами, все рассылали приглашения на обеды и назначали даты балов. И каждый год именно в это время миссис Арчер всегда говорила, что Нью-Йорк очень изменился.
Глядя на него с возвышенной точки зрения беспристрастного наблюдателя, она с помощью мистера Силлертона Джексона и мисс Софи замечала каждую новую трещинку на его поверхности и каждый незнакомый сорняк, пробившийся на аккуратных грядках фешенебельного огорода. В юности одним из любимых развлечений Ньюленда было ждать этого ежегодного вердикта матери и слушать, как она перечисляет мельчайшие признаки распада, которые его небрежный взор проглядел. Ибо, по мнению миссис Арчер, если Нью-Йорк изменялся, то всегда только к худшему, и это мнение всецело разделяла мисс Софи Джексон.
Что до мистера Силлертона Джексона, то он, как и подобает светскому человеку, не спешил высказывать свое суждение и искренне забавлялся, слушая сетованья дам. Но даже и он никогда не отрицал, что Нью-Йорк изменился, а Ньюленд Арчер на второй год после женитьбы вынужден был признать, что если Нью-Йорк еще не окончательно изменился, то он, бесспорно, меняется.
Эти темы, как обычно, были затронуты у миссис Арчер на обеде по случаю Дня благодарения. В этот день, когда полагалось возносить хвалы за благословенные дары прошедшего года, она взяла себе в привычку мрачно, хотя и не слишком ожесточенно приглядываться к своему мирку и раздумывать, за что, собственно, следует благодарить. Во всяком случае, не за состояние общества — на общество, если можно сказать, что оно вообще существует, следует скорее призывать библейские проклятья — и в самом деле, ведь все знают, что имел в виду его преподобие доктор Эшмор, когда выбрал для проповеди в День благодарения[169] текст из Книги пророка Иеремии (глава II, стих 25).[170] Доктор Эшмор, новый пастор церкви святого Матфея, был избран именно благодаря своим чрезвычайно «передовым» взглядам; его проповеди отличались смелостью мысли и оригинальностью языка. Когда он метал громы и молнии по адресу фешенебельного общества, он всегда говорил о «тенденции» его развития, и от сознания, что она принадлежит к обществу, которое развивается, миссис Арчер охватывала сладостная жуть.
— Доктор Эшмор, без сомнения, прав — определенная тенденция действительно существует, — изрекла она таким тоном, словно эта тенденция являла собою нечто видимое глазу и поддающееся измерению, подобно трещине в стене дома.
— Все же как-то странно читать об этом проповедь в День благодарения, — заметила мисс Джексон, на что хозяйка сухо возразила:
— Ах, он призывал нас благодарить за то, что еще осталось.
Арчер обыкновенно подсмеивался над ежегодными пророчествами матери, но в нынешнем году, выслушав список перемен, даже он вынужден был согласиться, что «тенденция» очевидна.
— Экстравагантные туалеты… — начала мисс Джексон. — Силлертон возил меня на премьеру в оперу, и я могу сказать, что одна только Джейн Мерри была в прошлогоднем платье, но и его немножко переделали. Но я-то знаю, что она получила его от Ворта всего два года назад, потому что моя портниха всегда переделывает ее парижские туалеты, прежде чем она их наденет.
— Ах, Джейн Мерри — одна из нас, — со вздохом сказала миссис Арчер, словно находя весьма малопривлекательным век, когда дамы, едва успев выкупить свои туалеты из таможни, тут же принимаются в них щеголять, не дав им отлежаться и созреть под замком, по обычаю современниц миссис Арчер.
— Да, она одна из немногих, — подхватила мисс Джексон. — Во времена моей молодости считалось вульгарным одеваться по последней моде, и Эми Силлертон всегда мне говорила, что в Бостоне существовало правило прятать парижские платья на два года. Старая миссис Бэкстер Пеннилоу — она всегда соблюдала этикет — каждый год заказывала дюжину платьев — два бархатных, два атласных, два шелковых, а остальные шесть из поплина и тончайшей шерсти. Это был постоянный заказ. Перед смертью она два года болела, а когда она скончалась, у нее нашли сорок восемь вортовских платьев, даже не вынутых из папиросной бумаги, и по окончании траура ее дочери смогли надевать на симфонические концерты платья из первой партии, не боясь опередить моду.
— Да, но ведь Бостон гораздо консервативнее Нью-Йорка. Впрочем, я всегда считала, что надежнее всего надевать французские туалеты сезоном позже, — сказала миссис Арчер.
— Это Бофорт завел новую моду, заставляя жену напяливать новые платья, как только их привезут, и я должна сказать, что иногда только благодаря своей изысканной внешности Регина не выглядит как… как… — мисс Джексон обвела взором стол, встретила вытаращенные глаза Джейни и попыталась загладить неловкость, невнятно пробормотав что-то.
— Как ее соперницы, — закончил мистер Джексон с видом человека, сочинившего эпиграмму.
— Ах, — хором вздохнули дамы, а миссис Арчер, отчасти для того, чтобы отвлечь внимание дочери от запретных тем, добавила:
— Бедная Регина! Боюсь, она не очень весело проводит День благодарения. До вас дошли слухи о спекуляциях Бофорта, Силлертон?
Мистер Джексон небрежно кивнул. Об этих слухах было известно всем и каждому, а он почитал ниже своего достоинства подтверждать новость, давно ставшую секретом полишинеля.
За столом воцарилось мрачное молчание. Бофорта никто особенно не любил, и нельзя сказать, что подозревать о нем худшее было совсем уж неприятно, но мысль, что он навлек финансовый позор на семейство жены, была так чудовищна, что ей не могли радоваться даже его враги. Нью-Йорк Арчеров допускал лицемерие в частной жизни, но в деловых отношениях требовал идеальной, безукоризненной честности. Уже давно никто из крупных банкиров не становился злостным банкротом, но все помнили общественный остракизм, которому подвергли владельцев фирмы, когда произошло последнее событие такого рода. То же самое будет и с Бофортами, несмотря на его могущество и ее популярность; даже соединенными усилиями всех Далласов не удастся спасти несчастную Регину, если в слухах о незаконных спекуляциях ее мужа есть хоть доля правды.
Разговор перешел на менее зловещие темы, но, чего бы он ни коснулся, все, казалось, подтверждало уверенность миссис Арчер, что «тенденция» беспрестанно ускоряется.
— Конечно, Ныоленд, я знаю, что ты разрешил нашей милой Мэй посещать воскресные вечера миссис Стразерс… — начала она, на что Мэй весело возразила:
— Но ведь теперь все ходят к миссис Стразере, и потом она была приглашена на прием к бабушке.
Вот так, подумал Арчер, Нью-Йорк справляется с переменами — сначала упорно их игнорирует, а после того как они уже совершились, искренне воображает, будто все произошло еще в прошлом веке. В крепости всегда найдется предатель, и когда он (или, чаще, она) уже отдал ключи, стоит ли делать вид, будто крепость была неприступной? Раз вкусив непринужденного воскресного гостеприимства миссис Стразерс, люди едва ли захотят сидеть дома, предаваясь размышлениям о том, что ее шампанское — продукт перегонки сапожной ваксы.
— Знаю, милочка, знаю, — вздохнула миссис Арчер. — Такие вещи, по-видимому, неизбежны, если люди гоняются за развлечениями, но я все-таки никак не могу простить вашей кузине, госпоже Оленской, что она первой поддержала миссис Стразерс.
Краска, неожиданно залившая лицо молодой миссис Арчер, удивила ее мужа не меньше, чем всех сидящих за столом.
— Ах эта Эллен, — пробормотала она почти так же осуждающе и в то же время удрученно, как ее родители могли бы сказать: «Ах эти Бленкеры…»
Именно такой тон взяло ее семейство по отношению к графине Оленской, после того как та удивила и поставила их в неловкое положение, категорически отвергнув предложения мужа, но в устах Мэй подобные нотки давали пищу для размышлений, и Арчер посмотрел на нее с чувством отчужденности, которое порой овладевало им, когда она слишком уж очевидно вторила своим родным.
Его мать, которой как будто вдруг изменило свойственное ей чувство такта, упорно продолжала гнуть свое:
— Я всегда считала, что те, кто, подобно госпоже Оленской, вращался в аристократическом обществе, должны помогать нам поддерживать общественные различия, а не пренебрегать ими.
Яркий румянец не сходил с лица Мэй — за ним, очевидно, крылось нечто большее, чем просто признание вероломства госпожи Оленской по отношению к обществу.
— Я уверена, иностранцам мы все кажемся одинаковыми, — с кислой миной заметила мисс Джексон.
— По-моему, Эллен нисколько не интересует общество, но, впрочем, никто не знает, что ее интересует, — продолжала Мэй, словно стараясь выразиться как можно дипломатичнее.
— Ах, — снова вздохнула миссис Арчер.
Все знали, что графиня Оленская впала в немилость у своей родни. Даже ее верная заступница, миссис Мэнсон Минготт, и та ие могла оправдать ее отказ возвратиться к мужу. Минготты не высказывали своего неодобрения вслух — в них было слишком сильно чувство солидарности. Они попросту, как выразилась миссис Велланд, «предоставили бедняжке Эллен самой занять подобающее место в жизни», и это место — страшно подумать! — располагалось в каких-то немыслимых глубинах, где главенствуют Бленкеры и отправляют свои темные обряды «люди, которые пишут». Невероятно, но факт — Эллен, несмотря на все свои возможности и преимущества, скатилась до уровня «богемы». Это лишний раз утвердило всех во мнении, что она совершила роковую ошибку, не пожелав вернуться к графу Оленскому. В конце концов, место молодой женщины — в доме ее мужа, особенно если она покинула его при обстоятельствах, которые… как бы это сказать… по ближайшем рассмотрении…
— Госпожа Оленская пользуется большим успехом у джентльменов, — сказала мисс Софи, под видом примирительного замечания подпуская очередную шпильку.
— Ах, эта опасность всегда угрожает такой молодой женщине, как госпожа Оленская, — горестно согласилась миссис Арчер, после чего дамы, подобрав свои шлейфы, удалились под лампы Карселя в гостиную, между тем как Арчер и мистер Силлертон Джексон отправились в готическую библиотеку.
Усевшись возле камина и вознаградив себя за недостатки обеда превосходной сигарой, мистер Джексон вновь обрел свою важность и словоохотливость.
— Если Бофорт разорится, — возвестил он, — то разоблачений не миновать.
Арчер быстро поднял голову — при упоминании о Бофорте перед ним всегда возникала шагающая по снегам Скайтерклиффа грузная фигура в дорогой шубе и ботах.
— Разразится пренеприятный скандал. Он далеко не все свои деньги тратил на Регину, — продолжал мистер Джексон.
— Но это к делу не относится. Я уверен, что он еще выкарабкается, — сказал молодой человек, желая переменить тему.
— Может быть, может быть. Мне известно, что он сегодня собирался посетить кое-кого из влиятельных лиц. Конечно, — нехотя согласился мистер Джексон, — надо надеяться, что они сумеют его вытащить — во всяком случае, на этот раз. Мне не хотелось бы думать, что несчастной Регине суждено провести остаток дней своих на каком-нибудь убогом заграничном курорте для банкротов.
Арчер ничего не ответил. Ему казалось совершенно естественным — хотя и трагичным — что человека, добывшего деньги нечестным путем, ожидает тяжкое искупление, и поэтому мысли его, не задерживаясь на печальной судьбе миссис Бофорт, вернулись к более близким ему вопросам. Почему при упоминании графини Оленской Мэй покраснела?
Четыре месяца прошло с того летнего дня, который он провел с госпожою Оленской, и с тех пор он с нею не встречался. Он знал, что она вернулась в Вашингтон, в маленький домик, который они сняли с Медорой Мэнсон; однажды он написал ей — всего несколько слов, спрашивая, может ли он ее видеть, и она еще более кратко ответила: «Пока еще нет».
С тех пор всякая связь между ними прервалась, и он воздвиг в своей душе некое святилище, в котором среди его сокровенных дум и желаний царила она. Постепенно оно превратилось в место, где протекала его реальная жизнь и совершались единственно разумные его поступки; сюда он приносил книги, которые читал, мысли и чувства, которые лелеял, свои мечты и суждения. За пределами этого святилища, где протекала его действительная жизнь, он двигался со все возрастающим ощущением нереальности и неполноценности, наталкиваясь на знакомые предрассудки и общепринятые взгляды, подобно человеку, который в рассеянности беспрестанно натыкается на мебель в своей собственной комнате. Он был далек, так бесконечно далек от всего, что было реально и близко для окружающих, что порой его даже пугала их уверенность, будто он все еще среди них.
До его сознания дошло, что мистер Джексон откашливается, готовясь к новым разоблачениям.
— Я, разумеется, не знаю, насколько семья вашей жены осведомлена о разговорах по поводу… по поводу отказа госпожи Оленской принять последнее предложение ее мужа.
Арчер молчал, и мистер Джексон попытался подойти к делу окольными путями.
— Жаль, очень жаль, что ока его отвергла.
— Жаль? Во имя всего святого, почему?
Мистер Джексон окинул взглядом свою ногу и остановился на туго натянутом носке, соединявшем лодыжку с лакированною туфлей.
— Ну, если говорить о предметах наиболее низменных — на какие средства она будет жить теперь?
— Теперь?
— Если Бофорт…
Арчер вскочил, стукнув кулаком по краю письменного стола из черного ореха. В гнездах медного чернильного прибора заплясали стеклянные стаканчики.
— Что, черт побери, вы хотите этим сказать, сэр?
Мистер Джексон, слегка поерзав на стуле, окинул невозмутимым взглядом вспыхнувшее лицо молодого человека.
— Гм… из весьма достоверных источников — точнее, от самой старухи Кэтрин — мне стало известно, что семейство значительно сократило денежное пособие графини Оленской, когда она наотрез отказалась вернуться к мужу, а так как в силу этого отказа она также лишается своего собственного имущества — право распоряжаться которым граф Оленский готов был ей предоставить в случае ее возвращения, — то что, черт побери, хотите сказать вы, мой мальчик, задавая мне этот вопрос? — благодушно отозвался мистер Джексон.
Арчер подошел к камину и, наклонившись, стряхнул туда пепел.
— Я ничего не знаю о личных делах госпожи Оленской, но мне и без того ясно, что ваши намеки…
— Ну, во-первых, они вовсе не мои, а Леффертса, — вставил мистер Джексон.
— Леффертса, который пытался за ней ухаживать и получил отпор! — с презрением воскликнул Арчер.
_ Да что вы? Неужели? — обрадовался его собеседник, словно только и ждал этого ответа, как охотник ждет зверя, на которого расставил капкан. Он сидел сбоку от огня, и его холодные старые глаза не отрываясь смотрели в лицо Арчеру, словно зажав его стальной пружиной.
— Да, очень жаль, что она не вернулась до краха Бофорта, — повторил он. — Если она вернется теперь и если он обанкротится, это лишь подтвердит мнение, которое, кстати, разделяет не один только Леффертс.
— О, она не вернется ни теперь, ни когда бы то ни было!
Не успели эти слова сорваться с уст Арчера, как его снова охватило ощущение, будто именно их мистер Силлертон все время ожидал.
Старик внимательно на него посмотрел.
— Вы так думаете? Что ж, вам лучше знать. Но каждый вам скажет, что те жалкие гроши, которые еще остались у Медоры, находятся в руках Бофорта, и я, по правде говоря, просто себе не представляю, как эти дамы смогут удержаться на поверхности, если он пойдет ко дну. Конечно, не исключено, что госпожа Оленская еще ухитрится задобрить старуху Кэтрин, хотя та больше всех настаивала на ее возвращении, а старуха может назначить ей любое содержание. Однако все мы знаем, что она не любит расставаться с деньгами, а остальным родственникам совершенно незачем удерживать госпожу Оленскую здесь.
Арчер кипел от безрассудной ярости. Он находился именно в том состоянии, когда человек способен совершить любую глупость, все время сознавая, что он ее совершает.
Он видел, что мистер Джексон изумился, узнав, что ему ничего не известно о разногласиях госпожи Оленской с ее бабушкой и другими родственниками. Старик, несомненно, сделал выводы о причинах, по которым Арчера не допустили на семейный совет. Это ясно показало молодому человеку, что ему следует быть настороже, но намеки на Бофорта вывели его из себя. Однако он помнил— если не об опасности, грозящей ему самому, то, во всяком случае, о том, что мистер Джексон находится в доме его матери и, следовательно, является его гостем. Старый Нью-Йорк скрупулезно соблюдал законы гостеприимства, а по этим законам разногласия с гостем ни при каких обстоятельствах нельзя превращать в ссору.
— Не пойти ли нам наверх, к матушке? — отрывисто спросил он, когда мистер Джексон стряхнул остатки пепла со своей сигары в стоящую возле него медную пепельницу.
По дороге домой Мэй хранила непривычное молчание, и даже в темноте он, казалось, видел ее странный, таящий в себе угрозу румянец. Что означала эта угроза, он не мог угадать, но то. что ее вызвало одно лишь упоминание о графине Оленской, уже само по себе служило достаточным предостережением.
Они поднялись наверх, и Арчер направился к библиотеке. Мэй обычно следовала за ним, но на этот раз он услышал, что она направилась в другой конец коридора, к себе в спальню.
— Мэй! — нетерпеливо позвал он, и она, несколько удивленная его тоном, возвратилась назад.
— Лампа опять коптит. Неужели прислуга не в состоянии как следует подрезать фитиль? — раздраженно проворчал он.
— Прости, пожалуйста, это больше не повторится, — отвечала она невозмутимо бодрым тоном, который усвоила от матери, и Арчер с досадой подумал, что она уже начинает его ублажать, словно младшего мистера Велланда. Она наклонилась, чтобы подкрутить фитиль, и, когда свет лампы упал на ее белые плечи и чистые линии ее лица, он подумал: «Как она молода! Сколько бесконечных лет будет продолжаться эта жизнь!»
Он чуть ли не с ужасом ощутил свою собственную молодость и горячую кровь, которая струилась у него в жилах.
— Знаешь. — вдруг сказал он, — мне, наверное, придется на несколько дней съездить в Вашингтон… скоро, возможно, даже на будущей неделе.
Не отнимая руки от лампы, Мэй медленно обернулась к нему. Пламя вновь озарило ее лицо румянцем, но, когда она подняла глаза, Арчер увидел, что оно бледнеет.
— По делу? — спросила она тоном, который подразумевал, что ни о какой иной возможности просто не может быть и речи и что она задает этот вопрос машинально, как бы для того только, чтобы закончить его фразу.
— Разумеется, по делу. Верховный суд будет рассматривать один патент… — Он назвал фамилию изобретателя и принялся перечислять подробности с заученной бойкостью какого-нибудь Лоренса Леффертса, меж тем как Мэй внимательно слушала, время от времени вставляя: «Да, да, понятно».
— Перемена обстановки пойдет тебе на пользу, — просто сказала она, когда он кончил, — и ты должен непременно повидать Эллен.
Улыбаясь своей безоблачной улыбкой и глядя ему прямо в глаза, она произнесла это так, словно просила не пренебречь каким-то неприятным семейным обязательством.
Тем обсуждение вопроса и ограничилось, но на условном языке, которому они оба были обучены, это означало: «Ты, конечно, понимаешь, что мне известны все толки об Эллен и что я от всей души сочувствую стараниям моей родни убедить ее вернуться к мужу. Мне также известно, что по какой-то причине, которую ты предпочел от меня скрыть, ты дал ей совет, противоположный совету всех наших старших родичей, в том числе и бабушки, и что благодаря твоей поддержке Эллен пошла наперекор всем нам и тем дала повод для критических суждений, намек на которые ты, вероятно, услышал сегодня вечером от мистера Силлертона Джексона, что и привело тебя в такое раздражение… Намеков и без того было достаточно, но раз ты не желаешь выслушивать их от других, я намекну тебе сама, в той единственной форме, в какой благовоспитанные люди, подобные нам, могут сообщать друг другу неприятные вещи, а именно дам тебе понять, что я знаю о твоем намерении повидаться с Эллен в Вашингтоне, равно как и о том, что это, вероятно, единственная цель твоей поездки, а раз ты все равно ее увидишь, я хочу, чтобы ты сделал это с моего полного одобрения и воспользовался возможностью объяснить ей, к чему может привести ее поведение, которое ты поощряешь».
Рука ее все еще лежала на лампе, когда до него дошло последнее слово этой безмолвной речи. Она подкрутила фитиль, сняла стекло и подула на темное пламя.
— Если их задувать, они не так сильно пахнут, — пояснила она бодрым тоном заботливой хозяйки. На пороге она обернулась и остановилась в ожидании его поцелуя.
27
На следующий день с Уолл-стрита поступили более утешительные сведения о положении Бофорта.
Сведения были не очень определенные, но обнадеживающие. Говорили, будто в критический момент у него была возможность прибегнуть к помощи влиятельных лиц, что он с успехом и сделал, и в тот же вечер, когда миссис Бофорт появилась в опере со своею прежнею улыбкой на устах и с новым изумрудным ожерельем на шее, общество с облегчением вздохнуло.
Нью-Йорк неумолимо осуждал безнравственность в деловых отношениях. До сих пор не было исключений из неписаного закона: тот, кто совершил бесчестный поступок, должен за это поплатиться, и все знали, что даже Бофорт и жена Бофорта будут безжалостно принесены в жертву этому принципу. Однако пожертвовать ими будет не только неприятно, но и неудобно. Исчезновение Бофортов оставит значительную брешь в их тесном кружке, и те, кого в силу их неведения или равнодушия этот моральный крах едва ли заставил бы содрогнуться, уже заранее оплакивали потерю лучшего бального зала в Нью-Йорке.
Арчер твердо решил ехать в Вашингтон. Он ожидал только начала слушания дела, о котором рассказывал Мэй, чтобы приурочить свою поездку к этой дате, но в следующий вторник мистер Леттерблер сообщил ему, что дело скорее всего будет отложено на несколько недель. Тем не менее в этот вечер он пришел домой с намерением во что бы то ни стало завтра же выехать. Он рассчитывал, что Мэй, которая не имела понятия о его служебных делах и никогда ими не интересовалась, не узнает, что дело отложено, а если даже при ней упомянут фамилии тяжущихся, наверняка их не вспомнит, и во всяком случае он не мог больше откладывать встречу с госпожою Оленской. Слишком многое ему надо было ей сказать.
В среду утром, приехав в контору, он застал мистера Леттерблера чрезвычайно подавленным. Оказалось, что Бофорт не сумел «выкарабкаться», но, распустив слух, будто ему это удалось, обнадежил вкладчиков, и крупные суммы продолжали поступать в банк до вчерашнего вечера, когда опять начались тревожные толки. Вследствие этого все бросились изымать свои вклады, и еще до конца дня следует ожидать закрытия банка. Люди всячески поносили Бофорта за его подлый маневр, и крах его банка обещал стать одним из самых постыдных событий в истории Уолл-стрита.
Размеры бедствия привели мистера Леттерблера в полную растерянность.
— Мне приходилось видеть скверные вещи на своем веку, но это, пожалуй, хуже всего. Все наши знакомые так или иначе пострадают. А чем помочь миссис Бофорт?
И можно ли ей помочь? Но особенно мне жаль миссис Мэнсон Минготт — неизвестно, чем может кончиться такая история для человека ее возраста. Она всегда верила в Бофорта, она даже сделала его своим другом! И потом как быть с Далласами — ведь несчастная Регина сродни вам всем. Единственное, что ей остается, — это уйти от мужа, но как можно ей это советовать? Ее долг — быть рядом с ним, и, к счастью, она, по-видимому, всегда была слепа к его личным слабостям.
В дверь постучали, и мистер Леттерблер раздраженно обернулся.
— Кто там? Я просил мне не мешать.
Клерк подал Арчеру письмо и вышел. Узнав почерк жены, молодой человек распечатал конверт и прочитал: «Не можешь ли ты поскорее приехать? У бабушки ночью был легкий удар. Она каким-то непонятным образом раньше всех узнала эту ужасную новость о банке. Дядя Лавел уехал на охоту, а бедному папе мысль о позоре так подействовала на нервы, что у него поднялась температура, и он должен сидеть дома. Ты очень нужен маме, и я надеюсь, что ты сможешь сразу же уйти и поехать прямо к бабушке».
Арчер протянул записку своему старшему партнеру и уже через несколько минут медленно полз в северную часть города на переполненной конке. Добравшись до 14-й улицы, он пересел в один из высоких тряских омнибусов, которые ходили по 5-й авеню. Был уже первый час пополудни, когда этот трудолюбивый экипаж высадил его возле дома миссис Минготт. В окне гостиной первого этажа, где старуха обычно восседала, виднелась отнюдь не способная заменить ее миссис Велланд, которая, заметив Арчера, печально его приветствовала, а у дверей его встретила Мэй. В прихожей царил противоестественный беспорядок, возникающий в образцово содержащихся домах, когда кто-нибудь внезапно заболевает, — на стульях валялись брошенные в спешке шубы и шали, а на столе рядом с пальто и чемоданчиком доктора высилась кучка забытых карточек и конвертов.
Мэй была бледна, но улыбалась — доктор Бенкоум, который только что приехал вторично, на этот раз высказался в более утешительном духе, а непреклонная решимость миссис Минготт остаться в живых и выздороветь уже благотворно повлияла на ее родственников. Мэн провела Арчера в гостиную, раздвижные двери которой, ведущие в спальню, были закрыты и завешены толстыми портьерами из желтого штофа, и здесь миссис Велланд испуганным шепотом поведала ему подробности несчастья. Оказалось, что накануне вечером произошло нечто таинственное и ужасное. Около восьми часов, сразу после того, как миссис Минготт закончила пасьянс, который она всегда раскладывала после обеда, раздался звонок, и дама под такой густой вуалью, что слуги не сразу ее узнали, попросила миссис Минготт ее принять.
Лакей, услышав знакомый голос, распахнул двери гостиной, возвестил: «Миссис Джулиус Бофорт» и снова закрыл их, оставив обеих дам наедине. Они пробыли там, как ему показалось, около часа. Когда миссис Минготт позвонила, миссис Бофорт успела уже незаметно выскользнуть из дома, и хозяйка, бледная, разбухшая и страшная, сидела одна в своем огромном кресле. Она попросила лакея проводить ее в спальню. В это время она, хотя, по-видимому, чрезвычайно расстроенная, была еще ь полном здравии и рассудке. Мулатка-горничная уложила ее в постель, подала ей, как обычно, чашку чая, прибрала комнату и ушла, но в три часа ночи снова раздался звонок, и слуги, поспешиз на непривычный зов (старуха Кэтрин всегда спала крепко, как дитя), увидели, что хозяйка сидит в постели, откинувшись на подушки, криво улыбаясь и бессильно уронив толстую руку с крошечной ладонью.
Удар, очевидно, был легкий, ибо она могла объяснить, что ей нужно, и вскоре после первого визита доктора вновь обрела способность управлять лицевыми мышцами. Но тревога была велика, и не менее велико было возмущение, когда из отрывочных фраз миссис Минготт выяснилось, что Регина Бофорт явилась просить — неслыханная наглость! — просить поддержать ее мужа, выручить или, как она выразилась, «не оставить» их в беде, то есть, иными словами, склонить всю семью покрыть и предать забвению их чудовищный позор.
— Я ей говорю: «В доме Мэнсон Минготтов честь всегда была честью, а честность — честностью, и так оно и будет, пока меня не вынесут отсюда ногами вперед», — заикаясь, рассказала старуха своей дочери хриплым шепотом, каким говорят полупарализованные. — И когда она сказала: «Тетя, но как же мое имя, ведь мое имя Регина Даллас», я ей ответила: «Когда он осыпал тебя драгоценностями, твое имя было Бофорт, Бофорт оно должно остаться и теперь, когда он покрыл тебя позором».
Все это, всхлипывая и задыхаясь от ужаса, сообщила Арчеру миссис Велланд, бледная и удрученная печальной необходимостью в конце концов обратить свой взор на нечто неприятное и постыдное.
— О, если б только я могла скрыть это от вашего тестя! Он всегда говорит мне: «Ради всего святого, Августа, не разрушай моих последних иллюзий». Но как мне помешать ему узнать про все эти ужасы? — безутешно причитала она.
— Ах, мама, ведь он ничего не увидит, — вставила ее дочь, на что миссис Велланд со вздохом отвечала:
— Слава богу, нет, он благополучно лежит в постели, и доктор Бенкоум обещал держать его там, пока бедной маме не станет лучше, а Регину куда-нибудь не спровадят.
Арчер сел у окна и тупо уставился на пустую улицу. Было совершенно очевидно, что от него требуется не помощь, а лишь моральная поддержка убитых горем дам. Мистера Лавела Минготта вызвали телеграммой, а родственникам, живущим в Нью-Йорке, разослали записки с посыльным, и теперь оставалось только вполголоса обсуждать последствия позора Бофорта и непростительного поступка его жены.
Миссис Лавел Минготт, писавшая записки в соседней комнате, вскоре пришла и присоединилась к разговору. В былое время, сказали старшие дамы, жена человека, который нечестно вел свои коммерческие дела, думала только об одном — как бы стушеваться и вместе с ним скрыться с глаз.
— Например, бедная бабушка Спайсер, твоя прабабушка, Мэй. Конечно, — поспешила добавить миссис Велланд, — денежные затруднения твоего прадеда были чисто личными — он не то проигрался в карты, не то подписал чей-то вексель — я так никогда и не узнала, потому что мама никогда не желала об этом говорить. Но она выросла в провинции, потому что позор — неважно, в чем он заключался, — заставил ее мать покинуть Нью-Йорк, и они зимой и летом жили одни на берегу Гудзона, пока маме не исполнилось шестнадцать лет. Бабушке Спайсер никогда не пришло бы в голову просить родню ее «поддержать» — так, сколько я поняла, называет это Регина, хотя позор в частной жизни — ничто по сравнению с бессовестным разорением сотен ни в чем не повинных людей.
— Конечно, Регине следовало бы спрятать свое лицо, а не просить других помочь ей его «сохранить», — согласилась миссис Лавел Минготт. — Говорят, изумрудное ожерелье, в котором она явилась в оперу в прошлую пятницу, было прислано на пробу от Белла и Блэка. Интересно, получат они его обратно или нет.
Арчер равнодушно внимал безжалостному хору. Понятие о безупречной честности в финансовых делах как главном законе кодекса джентльмена вошло в его плоть и кровь настолько глубоко, что никакие сентиментальные соображения не могли его поколебать. Авантюрист, подобный Лемюэлу Стразерсу, мог заработать миллионы на своей сапожной ваксе посредством темных махинаций, но для финансистов старого Нью-Йорка безукоризненная честность была делом чести. Судьба миссис Бофорт тоже не особенно трогала Арчера. Разумеется, он жалел ее больше, чем ее возмущенные родственники, но и ему казалось, что узы, соединяющие мужа и жену, которые в дни преуспеяния можно порвать, в несчастье должны оставаться неразрывными. Как выразился мистер Леттерблер, когда муж попал в беду, жена должна быть рядом с мужем, но общество вовсе не должно быть с ним рядом, и хладнокровная уверенность миссис Бофорт в обратном ставила ее чуть ли не в положение его сообщницы. Самая мысль, что женщина может обратиться к родне с просьбой покрыть финансовое бесчестье мужа, была недопустима, ибо именно этого семья, как общественный институт, сделать не могла.
Мулатка-горничная позвала миссис Лавел Минготт в прихожую, и та сейчас же вернулась, озабоченно нахмурив брови.
— Она просит меня послать телеграмму Эллен Оленской. Я, конечно, написала Эллен и Медоре, но теперь этого, как видно, недостаточно. Мне велено телеграфировать, чтобы она приехала сюда одна.
Эта новость была встречена общим молчанием. Миссис Велланд смиренно вздохнула, а Мэй встала и принялась собирать разбросанные по полу газеты.
— Я думаю, что это следует сделать, — продолжала миссис Лавел Минготт, словно надеясь услышать возражения.
— Конечно, это следует сделать, — сказала Мэй, оборачиваясь к собеседницам. — Бабушка знает, чего она хочет, и мы должны выполнять все ее желания. Хотите, я составлю телеграмму, тетя? Если отправить ее немедленно, Эллен, может быть, поспеет завтра на утренний поезд.
Она произнесла имя Эллен так отчетливо, словно позвонила в два серебряных колокольчика.
— Но ее никак нельзя отправить немедленно — Джаспера и мальчика уже послали с записками и телеграммами.
Мэй с улыбкой обернулась к мужу.
— Но ведь здесь Ньюленд. Он готов оказать любую услугу. Ты отправишь телеграмму, Ньюленд? Тебе как раз хватит времени до ленча.
Арчер встал, невнятно пробормотав что-то утвердительное, и Мэй уселась за розовый Bonheur du Jour[171] старухи Кэтрин. Написав своим крупным детским почерком телеграмму и аккуратно промакнув чернила, Мэй отдала ее Арчеру.
— Как досадно, что вы с Эллен разминетесь! — сказала она. — Ньюленд должен ехать в Вашингтон по делу о патенте, которое слушается в Верховном суде, — пояснила она матери и тетке. — Я надеюсь, что дядя Лавел завтра к вечеру вернется, а раз бабушке стало лучше, мне кажется, Ньюленду незачем отказываться от важного поручения фирмы, правда?
Она остановилась как бы в ожидании ответа, и миссис Велланд поспешно подхватила:
— Да, да, конечно, милочка. Твоя бабушка ни за что бы на это не согласилась.
Выходя из комнаты с телеграммой, Арчер услышал, как его теща, очевидно, обращаясь к миссис Лавел Минготт, продолжает:
— Не понимаю, зачем ей понадобилось просить вас телеграфировать Эллен Оленской… — а ясный голос Мэй говорит:
— Возможно, она хотела еще раз внушить ей, что ее долг — быть возле мужа.
Закрыв за собою двери, Арчер вышел из дому и торопливо зашагал в телеграфную контору.
28
— Ол… Ол… что-то я не разберу, — сказала бойкая молодая особа, которой Арчер протянул телеграмму жены через медную стойку конторы «Вестерн юнион».
— Оленская. О-л-е-н-с-к-а-я, — повторил он, забирая листок обратно, чтобы написать иностранную фамилию печатными буквами над размашистым почерком Мэй.
— Весьма необычная фамилия для нью-йоркской телеграфной конторы — во всяком случае, в этой части города, — произнес вдруг чей-то голос, и, обернувшись, Арчер увидел стоящего у него за спиной Лоренса Леффертса, который невозмутимо крутил свой ус, притворяясь, будто не смотрит на текст.
— Хэлло, Ньюленд, я так и думал, что поймаю вас здесь. Только что узнал об ударе старой миссис Минготт, по дороге домой увидел, как вы свернули в эту улицу, и помчался за вами. Вы ведь оттуда?
Арчер кивнул и просунул телеграмму под решетку.
— Что, плохо дело, раз вы телеграфируете родственникам? Уж наверно плохо, если даже вызывают графиню Оленскую, — продолжал Леффертс.
Арчер сжал губы — его охватило бешеное желание ударить кулаком эту длинную, благообразную, самодовольную физиономию.
— С чего вы взяли? — спросил он.
Леффертс, известный тем, что он предпочитал никогда не вступать в споры, поднял брови в иронической гримасе, долженствующей предупредить собеседника о присутствии любопытной девицы за решеткой. Взгляд его напомнил Арчеру, что выражать свой гнев в общественном месте — весьма «дурной тон».
Арчер никогда не был более равнодушен к требованиям хорошего тона; однако желание отколотить Лоренса Леффертса было лишь мимолетным. Судачить с ним об Эллен Оленской в такое время и по какому бы то ни было поводу было просто немыслимо. Он расплатился за телеграмму и вместе с Леффертсом вышел на улицу. Там к нему снова вернулось самообладание, и он сказал:
— Миссис Минготт гораздо лучше, доктор не видит оснований для тревоги, — а Леффертс, многословно выразив свое облегчение, спросил, известно ли ему, что о Бофорте снова ходят чертовски скверные слухи…
В этот день все газеты поместили сообщение о банкротстве Бофорта. Оно затмило весть об ударе миссис Минготт, и лишь те немногие, кто слышал о таинственной связи между этими двумя событиями, могли приписать болезнь старухи Кэтрин чему-либо, кроме тяжкого бремени лет и плоти.
Весь Нью-Йорк был омрачен историей позора Бофорта. Как сказал мистер Леттерблер, ничего хуже не случалось ни на его памяти, ни даже на памяти того далекого Леттерблера, который основал фирму. Банк продолжал принимать деньги еще целый день после того, как крах стал неминуем, а поскольку многие из клиентов Бофорта принадлежали к тому или иному правящему клану, его двоедушие казалось вдвойне циничным. Если бы миссис Бофорт не заявила, что подобные несчастья — «испытание дружбы» (ее собственное выражение), сочувствие к ней, быть может, смягчило бы общее негодование против ее мужа. Но теперь — особенно когда стала известна цель ее ночного визита к миссис Мэнсон Минготт — все сочли, что ее цинизм превосходит даже цинизм Бофорта, а поскольку она не могла сослаться на «иностранное» происхождение, ей нечем было оправдаться, а ее хулители приобретали лишний повод для злорадства. Кое-кто (из тех, чьи ценные бумаги не пострадали) мог утешаться мыслью, что Бофорт как раз и есть иностранец, но в конце концов, если представительница южнокаролинских Далласов принимает его сторону и многоречиво распространяется о том, будто он скоро «опять встанет на ноги», этот довод терял свою остроту, и оставалось лишь принять это отвратительное свидетельство нерасторжимости брачных уз. Общество должно будет впредь обходиться без Бофортов, и на том поставили точку все — кроме, разумеется, злополучных старых барышень Лэннинг и еще нескольких введенных в заблуждение дам из хороших семейств, которые, если б они только послушались мистера Генри ван дер Лайдена…
— Лучшее, что могут сделать Бофорты, — заключила миссис Арчер таким тоном, словно ставила диагноз и назначала курс лечения, — это поселиться в маленьком Регинином поместье в Северной Каролине. Бофорт всегда держал скаковых лошадей, вот пусть теперь и займется разведением рысаков. По-моему, у него есть все качества, необходимые удачливому барышнику.
Все с ней согласились, но никто не снизошел до вопроса, что же Бофорты и впрямь собираются делать.
На следующий день миссис Мэнсон Минготт почувствовала себя гораздо лучше: она вновь обрела дар речи и запретила упоминать при ней о Бофортах, а когда явился доктор Бенкоум, осведомилась у него, почему родственники подняли такой шум по поводу ее здоровья.
— Если в мои годы ужинать салатом с курицей, та чего можно ожидать? — вопросила она, и, как только доктор прописал ей более подходящую диету, удар превратился в несварение желудка.
Однако, несмотря на свой решительный тон, старуха Кэтрин уже не смогла вновь обрести прежнего отношения к жизни. Хотя растущий старческий эгоизм и не умерил ее любопытства к делам соседей, он притупил и без того не слишком живое сочувствие их бедам, и она, казалось, без труда выбросила из головы катастрофу Бофорта. Но зато она впервые погрузилась в изучение симптомов своей болезни и начала трогательно интересоваться некоторыми членами семьи, которыми раньше пренебрегала.
Особенного ее внимания удостоился мистер Велланд. Из всех своих зятьев она наиболее упорно не замечала именно его, и ответом на все попытки миссис Велланд изобразить мужа человеком твердого характера и выдающегося ума («О, если бы он только захотел!») был иронический смешок. Теперь, напротив, его феноменальные немощи сделали его предметом величайшего интереса, и миссис Минготт приказала ему явиться пред ее царственные очи, как только у него понизится температура, — ибо теперь старуха Кэтрин охотно признала, что с температурой необходима величайшая осторожность.
Спустя сутки после вызова мадам Оленской пришла телеграмма с известием, что она приедет из Вашингтона вечером следующего дня. На завтраке у Велландов, где случайно присутствовали молодые Арчеры, немедленно возник вопрос, кто встретит ее в Джерси-Сити,[172] и семейство принялось так оживленно обсуждать эту трудную задачу, словно вокзал в Джерси-Сити был отдаленным форпостом на Диком Западе. Все согласились, что миссис Велланд никоим образом ехать не может, ибо в тот день она должна сопровождать мужа к старухе Кэтрин; коляску тоже занимать нельзя, потому что, если мистер Велланд «расстроится», увидев тещу в первый раз после ее болезни, его нужно будет немедленно отвезти домой. Младшие Велланды будут, конечно, заняты в деловой части города. Мистер Лавел Минготт как раз в это время должен вернуться с охоты, и минготтовская карета будет отправлена за ним; что же до Мэй, то едва ли кому-нибудь придет в голову посылать ее зимним вечером одну на паром, пусть даже и в собственной карете. Между тем не встретить госпожу Оленскую на вокзале значит нарушить законы гостеприимства и пойти наперекор недвусмысленному желанию старухи Кэтрин.
— Как это похоже на Эллен — поставить всю семью в такое затруднительное положение, — усталым голосом сказала миссис Велланд. — Беда никогда не приходит одна, — сетовала бедняжка, раз в кои веки позволив себе возроптать на судьбу. — Я начинаю опасаться, что мамино положение серьезнее, чем это хочет признать доктор Бенкоум. По-моему, только этим можно объяснить ее нездоровое желание немедленно вызвать сюда Эллен при том, что ее совершенно некому встретить.
Слова эти, произнесенные в пылу досады, были весьма необдуманны, и мистер Велланд тотчас же за них ухватился.
— Августа, — сказал он, бледнея и откладывая вилку, — есть ли у тебя еще какие-либо основания полагать, что доктор Бенкоум уже не достоин прежнего доверия? Быть может, ты заметила, что он уже не так добросовестно следит за моим здоровьем или за здоровьем твоей матушки?
Теперь, когда перед миссис Велланд раскрылись неисчислимые последствия ее оплошности, она в свою очередь побледнела, но все же сумела рассмеяться и взять себе вторую порцию запеченных в раковинах устриц, после чего, вновь облачившись в испытанную кольчугу бодрости, возразила;
— Милый, как это могло прийти тебе в голову? Я всего лишь хотела сказать, что после того, как мама решительно заявила, что долг Эллен — вернуться к мужу, кажется странным, что ей вдруг ни с того ни с сего вздумалось ее вызвать, когда тут имеется не менее полдюжины других внуков и внучек. Но мы не должны забывать, что, несмотря на свою поразительную энергию, мама — очень старая женщина.
Чело мистера Велланда все еще было нахмурено, и его взволнованное воображение сосредоточилось на этих последних словах.
— Да, твоя мать — очень старая женщина, а Бенкоум, возможно, вовсе не умеет лечить очень старых людей. Как ты выразилась, дорогая, беда никогда не приходит одна, и лет через десять или пятнадцать передо мной, очевидно, возникнет приятная необходимость искать себе другого доктора. Всегда лучше произвести такую перемену заранее. — Приняв столь спартанское решение, мистер Велланд твердой рукою взялся за вилку.
— Однако, — снова начала миссис Велланд, поднимаясь из-за стола и направляясь в дебри лилового атласа и малахита, известные под названием дальней гостиной, — однако мне до сих пор непонятно, как Эллен доберется сюда завтра вечером, а я предпочитаю уладить все не менее чем за сутки вперед.
Арчер оторвал завороженный взгляд от небольшой картины в восьмиугольной рамке из слоновой кости с ониксовыми медальонами, на которой были изображены два пирующих кардинала.
— Может быть, ее встречу я? — предложил он. — Я могу уйти из конторы и возле парома сесть в коляску, если Мэй отправит ее туда.
Сердце его при этих словах взволнованно забилось.
Миссис Велланд с облегчением вздохнула, а Мэй, которая тем временем отошла к окну, повернулась к мужу и одарила его сияющей улыбкой.
— Вот видите, мама, все и уладилось за сутки вперед, — проговорила она и, наклонившись, поцеловала озабоченно нахмуренный лоб матери.
Экипаж Мэй стоял возле дома, и она должна была отвезти Арчера на Юнион-сквер, где, пересев на бродвейскую конку, он мог добраться до конторы. Устроившись в углу коляски, она сказала:
— Я не хотела огорчать маму новыми вопросами, но мне не совсем понятно, как ты можешь завтра встретить Эллен и привезти ее в Нью-Йорк, если ты едешь в Вашингтон.
— Я никуда не еду, — отвечал Арчер.
— Не едешь? Что-нибудь случилось? — голос Мэй звучал звонко, как колокольчик, и был полон супружеской заботы.
— Дело отменено. То есть отложено.
— Отложено? Как странно. Я сегодня утром видела записку от мистера Леттерблера, в которой он пишет маме, что завтра едет в Вашингтон, чтобы выступить в Верховном суде по важному патентному делу. Ты ведь говорил именно про патентное дело?
— Ну да, но не может же вся контора взять и уехать. Мистер Леттерблер сегодня утром решил, что поедет он.
— Значит, дело не отложено? — продолжала она с совсем не свойственной ей настойчивостью, отчего Арчер залился краской так, словно жена его нарушила все привычные условности.
— Отложено не оно, а моя поездка, — отвечал он, проклиная себя за ненужные объяснения по поводу предполагавшейся поездки в Вашингтон и пытаясь вспомнить, где он читал, что умные лгуны приводят подробности, а самые умные их не приводят. Сказать Мэй неправду было вдвое легче, чем смотреть, как она пытается не показать виду, что поймала его с поличным.
— Я поеду позже — ради удобств твоего семейства, — продолжал он, трусливо прикрываясь сарказмом. Говоря это, он все время чувствовал, что она на него смотрит, и, чтобы она не подумала, будто он избегает ее глаз, посмотрел ей прямо в лицо. Взгляды их на мгновение встретились и, возможно, сказали обоим больше, чем они сами того желали.
— Да, страшно удобно, что ты все-таки сможешь встретить Эллен, — бодро согласилась Мэй. — Ты ведь заметил, как мама оценила твою любезность.
— Разумеется, я с удовольствием это сделаю.
Карета остановилась, и, когда он соскочил на мостовую, Мэй наклонилась к нему и положила свою руку на его.
— До свиданья, милый, — сказала она, глядя на него такими нестерпимо голубыми глазами, что он потом спросил себя, уж не блестели ли они от слез.
Он повернулся и поспешно зашагал через Юнион-сквер, как бы напевая про себя: «Целых два часа езды от Джерси-Сити до старухи Кэтрин. Целых два часа, а может быть, и больше».
29
Голубая женина коляска, с которой еще не сошел свадебный глянец, встретила Арчера у парома и с комфортом доставила его на Пенсильванский вокзал в Джерси-Сити.[173]
День был пасмурный, шел снег, и на огромном шумном вокзале горели газовые фонари. Шагая по платформе в ожидании вашингтонского экспресса, Арчер размышлял о людях, которые верят, что в один прекрасный день под Гудзоном построят туннель[174] и поезда Пенсильванской железной дороги будут проходить прямо в Нью-Йорк. Эти фантазеры предсказывали также постройку судов, способных за пять дней пересечь Атлантический океан, изобретение летательного аппарата, электрического освещения, беспроволочного телеграфа и другие чудеса из «Сказок тысячи одной ночи».
«Пускай все эти фантазии осуществятся, лишь бы подольше не строили туннель», — подумалось Арчеру. Охваченный блаженным мальчишеским восторгом, он представил себе, как госпожа Оленская выходит из вагона, он узнает ее издали в массе ничего не значащих лиц, она опирается на его руку, когда он ведет ее к карете, потом коляска медленно ползет к пристани среди оскользающихся лошадей, нагруженных повозок, горланящих возниц, въезжает на паром, и тут внезапно воцаряется тишина, и они, сидя рядом под снегом в неподвижной карете, чувствуют, как земля, вращаясь вокруг солнца, уходит у них из-под ног. Просто удивительно, сколько ему надо ей сказать и в какой красноречивой последовательности все это уложилось у него в голове…
Поезд с грохотом и лязгом подошел к вокзалу и, подобно обремененному добычей чудовищу, влезающему в берлогу, медленно подтянулся к платформе. Арчер бросился вперед, расталкивая толпу и заглядывая в окна высоких вагонов. Потом поблизости вдруг возникло бледное и удивленное лицо госпожи Оленской, и им вновь овладело чувство горечи оттого, что он совершенно забыл, как она выглядит.
Они подошли друг к другу, их руки встретились, и он продел ее руку в свою.
— Сюда, пожалуйста, у меня карета, — сказал он.
Дальше все было так, как он мечтал. Он усадил ее в коляску, уложил вещи и — как ему смутно вспоминалось потом — постарался успокоить насчет здоровья бабушки и коротко рассказал о положении Бофорта (при этом его поразил ее сочувственный возглас: «Бедная Регина!»). Между тем коляска выбралась из привокзальной толчеи и поползла по скользкому склону вниз к пристани, теснимая со всех сторон шатающимися тачками с углем, испуганными лошадьми, набитыми багажом повозками и даже пустыми погребальными дрогами. Ах эти дроги! При виде их госпожа Оленская закрыла глаза и схватила Арчера за руку.
— Бедная бабушка!
— Нет, нет, ей гораздо лучше, она почти совсем поправилась. Посмотрите, мы их миновали! — воскликнул он так, словно от этого зависела вся их жизнь. Ее рука осталась в его руке, и, когда карета накренилась, съезжая с мостков на паром, он расстегнул тесную коричневую перчатку и благоговейно, как святыню, поцеловал ее ладонь. Слегка улыбнувшись, она отняла руку, и он спросил: — Вы не ожидали меня сегодня?
— Нет.
— Я собирался ехать в Вашингтон повидать вас. Все уже было готово… и мы чуть не разминулись.
— О! — вскричала она, словно испугавшись опасности, которой они чудом избежали.
— Знаете, я совсем забыл ваше лицо.
— Совсем забыли?
— Я хочу сказать… как бы это лучше объяснить… Я… со мной это всегда так. Как будто вы каждый раз являетесь передо мной впервые.
— Да, да, я понимаю!
— Значит… значит, так бывает и с вами? Отворотясь к окну, она кивнула.
— Эллен, Эллен, Эллен!
Она ничего не ответила, и он молча смотрел, как ее профиль расплывается на фоне снежной мглы за окном. Что она делала все эти четыре месяца? Как мало они, в сущности, друг о друге знают! Драгоценные минуты ускользали, но он забыл все, что собирался ей сказать, и мог лишь беспомощно раздумывать о тайне их разобщенности и близости, которую, казалось, символизировало то, что и сейчас они сидят здесь рядом, но в темноте не видят даже лиц друг друга.
— Какая прелестная карета! Она принадлежит Мэй? — спросила госпожа Оленская, неожиданно отвернувшись от окна.
— Значит, это Мэй послала вас меня встречать! Как мило с ее стороны!
Помолчав, он с досадой выпалил:
— На следующий день после нашей встречи в Бостоне ко мне приходил секретарь вашего мужа.
В своем коротком письме к ней он ни словом не обмолвился о визите мосье Ривьера и намеревался похоронить этот эпизод в своей груди. Однако напоминание о том, что они сидят в карете его жены, тотчас заставило его отомстить. Пусть ей будет так же неприятно услышать о мосье Ривьере, как ему о Мэй! Однако, как и в других случаях, когда он надеялся нарушить ее обычную сдержанность, она ничем не обнаружила удивления, и он тут же заключил, что мосье Ривьер состоит с ней в переписке.
— Мосье Ривьер к вам приходил?
— Да, разве вы не знали?
— Нет, — просто отвечала она.
— И вас это не удивляет? Она помедлила.
— Что тут удивительного? В Бостоне он мне говорил, что знает вас, что вы — если я не ошибаюсь — встречались в Англии.
— Эллен, я хочу спросить у вас одну вещь.
— Пожалуйста.
— Я хотел спросить это сразу же после встречи с мосье Ривьерой, но мне не хотелось об этом писать. Это Ривьер помог вам уехать, когда вы оставили мужа?
Сердце его билось так сильно, что он задыхался. Неужели она и к этому вопросу отнесется так же сдержанно?
— Да, я очень многим ему обязана, — ответила она недрогнувшим голосом.
Тон ее был таким естественным, чуть ли не равнодушным, что смятение Арчера улеглось. Еще раз — одной лишь своею простотой — она сумела заставить его почувствовать, насколько он скован нелепыми условностями, и притом в ту самую минуту, когда он думал, что окончательно с ними разделался.
— Вы самая честная женщина на свете! — воскликнул он.
— О, это далеко не так, но, быть может, одна из самых спокойных, — отозвалась она. По голосу ее было слышно, что она улыбается.
— Называйте это как хотите. Вы непредвзято смотрите на вещи.
— О, это потому, что мне пришлось смотреть в лицо Медузе Горгоне.[175]
— Но это вас не ослепило! Вы увидели, что она такое же старое пугало, как и все остальные.
— Она не ослепляет, а только осушает слезы.
Ответ ее, исходивший, казалось, из недоступных Арчеру глубин жизненного опыта, заглушил мольбу, готовую сорваться с его уст. Паром, медленно продвигавшийся вперед, остановился, и нос его с такой силой врезался в сваи причала, что коляска зашаталась, а седоков бросило друг к другу. Почувствовав прикосновение плеча госпожи Оленской, Арчер, дрожа, обвил ее рукой.
— Если вы не слепы, вы должны увидеть, что дальше так продолжаться не может.
— Что не может продолжаться?
— То, что мы вместе — и не вместе.
— Нет. Вам не надо было встречать меня сегодня, — изменившимся голосом проговорила она, потом вдруг обернулась, прижалась к его груди и поцеловала его в губы. В то же мгновение экипаж тронулся, и в окне вспыхнул свет фонаря, висевшего у выезда с причала. Она отпрянула, и оба, не шевелясь, молча ждали, пока карета продиралась сквозь затор у пристани. Когда они наконец выехали на улицу, Арчер торопливо заговорил:
— Не бойтесь меня, не забивайтесь в угол. Украденный поцелуй — совсем не то, что мне нужно. Вы видите, я даже не пытаюсь прикоснуться к вашему рукаву. Я прекрасно понимаю: вы не хотите, чтобы наше чувство превратилось в пошлую тайную связь. Я не мог бы говорить так вчера, потому что, когда мы не вместе и я с нетерпением жду встречи с вами, все мои мысли сгорают в жарком пламени. Но вы приходите, и вы для меня настолько больше того, что я помнил, и я хочу от вас настолько больше, чем провести с вами час-другой сегодня или завтра, а в промежутках томиться бесконечным ожиданьем, что я могу совершенно спокойно сидеть рядом с вами — так, как сейчас, — лелеять свою мечту и верить, что она осуществится.
Помедлив, она еле слышно спросила:
— Что значит «верить, что она осуществится»?
— Разве вы не знаете, что она осуществится?
— Ваша мечта о том, чтоб мы не расставались? — Она вдруг засмеялась жестким смехом. — Да, вы нашли подходящее место, чтобы мне это сказать!
— Вы имеете в виду карету моей жены? Может быть, нам лучше выйти и пройтись пешком? Надеюсь, вы не боитесь снега?
Она снова рассмеялась, на этот раз более мягко.
— Нет, я не выйду и не пройдусь пешком, потому что мне надо как можно скорее добраться до бабушки. И вы будете сидеть со мною рядом, и мы станем смотреть в глаза реальности, а не мечтам.
— Не знаю, что вы называете реальностью. Для меня единственная реальность — только это.
Она ответила на эти слова долгим молчанием, а тем временем карета, миновав какую-то полутемную улицу, выехала под ослепительные огни 5-й авеню.
— Значит, раз я не могу стать вашей женой, вы хотите, чтобы я стала вашей любовницей? — спросила госпожа Оленская.
Грубость ее вопроса испугала Арчера; женщины его круга избегали этого слова даже в тех случаях, когда разговор близко касался подобных тем. Он заметил, что госпожа Оленская произнесла его так, как будто оно занимало законное место в ее словаре. Неужели его свободно употребляли при ней в той ужасной жизни, от которой она бежала? От неожиданности он вздрогнул и, запинаясь, проговорил:
— Я… я хочу каким-то образом уйти с вами туда, где подобных слов… подобных понятий… не существует. Туда, где мы будем просто жить, как два человека, которые любят друг друга, не мыслят жизни друг без друга, и где больше ничего на свете не имеет значения.
С глубоким вздохом, который перешел в смех, она проговорила:
— О, мой милый, где эта страна? Бывали ли вы В ней? — Остановившись и увидев, что он угрюмо молчит, она продолжала: — Я знаю стольких людей, которые пытались ее найти, и, поверьте, все они по ошибке сошли на промежуточных станциях вроде Булони, Монте-Карло или Пизы, и эти станции ничем не отличались от того старого мира, который они покинули, — разве что были гораздо меньше, грязнее и беспорядочнее.
Он еще никогда не слышал, чтобы она говорила таким тоном, и ему вспоминалась давешняя ее фраза.
— Да, Медуза Горгона и в самом деле осушила вам слезы.
— И открыла мне глаза. Люди заблуждаются, думая, что она ослепляет. Напротив, она не позволяет им закрыть глаза, и поэтому они никогда больше не могут погрузиться в блаженную тьму. Кажется, есть такая китайская пытка. Непременно должна быть. О, поверьте, это жалкая маленькая страна!
Карета пересекла 42-ю улицу — крепкая лошадка Мэй мчала их на север с быстротою кентуккийского рысака. Арчер задыхался от сознания растраченных напрасно слов и минут.
— Что, по-вашему, ожидает нас? — спросил он.
— Нас? Но ведь нас в этом смысле не существует! Мы близки друг другу, только оставаясь друг от друга вдалеке. Тогда мы можем быть самими собой. В противном случае мы всего лишь Ньюленд Арчер, муж двоюродной сестры Эллен Оленской, и Эллен Оленская, двоюродная сестра жены Ньюленда Арчера, которые пытаются быть счастливыми за спиной у тех, кто им доверяет.
— О, я отрешился от всего этого, — со стоном вырвалось у него.
— Нет! Вы никогда от этого не отрешались. А я отрешалась, — каким-то странным голосом произнесла она, — и я знаю, что это такое.
Он сидел молча, оглушенный немой болью. Потом, пошарив в темноте звонок к кучеру и вспомнив, что Мэй, желая остановиться, звонила два раза, позвонил, и карета подъехала к тротуару.
— Почему вы остановились? Это ведь не дом бабушки! — воскликнула мадам Оленская.
— Нет, но я выйду здесь, — пробормотал он, открывая дверцу и соскакивая на мостовую. В свете уличного фонаря он увидел ее испуганное лицо и инстинктивное движение, которое она сделала, желая его удержать. Он закоыл дверцу и на мгновенье прислонился к окну.
— Вы правы — мне не надо было встречать вас сегодня, — проговорил он, понижая голос, чтобы не расслышал кучер. Она наклонилась вперед, словно хотела что-то сказать, но он уже велел кучеру трогать И, стоя на углу, смотрел вслед удалявшейся карете. Снег перестал, и резкий ветер дул ему в лицо. Вдруг он ощутил на своих ресницах что-то холодное и твердое и понял, что плачет и что от ветра его слезы превратились в льдинки.
Сунув руки в карманы, он быстрым шагом пошел по 5-й авеню к своему дому.
30
Вечером, когда Ньюленд перед обедом вернулся домой, в гостиной было пусто. Они с Мэй обедали вдвоем — по случаю болезни миссис Мэнсон Минготт все приглашения отменили, а так как Мэй была пунктуальнее его, он удивлялся, что ее еще нет. Он знал, что она дома, — переодеваясь, он слышал, как она ходит по своей комнате, и теперь стал гадать, почему она задержалась.
У него вошло теперь в привычку строить подобные предположения, чтобы крепче связать свои мысли с реальностью. Иногда ему казалось, что он нашел причину, почему его тесть до такой степени погряз в пустяках, — возможно, когда-то давно мистером Велландом тоже владели мечты и порывы и он созвал всех духов домашнего очага, чтобы от них оборониться.
Когда Мэй наконец появилась, он обратил внимание на ее усталый вид. Она надела тесно стянутое корсетом обеденное платье с низким вырезом, чего минготтовский церемониал требовал даже в самых неофициальных случаях, и, как всегда, собрала свои белокурые локоны в пышный узел, но лицо ее казалось осунувшимся и даже поблекшим. Однако глаза ее, по обыкновению, ласково на него смотрели, как и накануне сверкая ослепительным голубым светом.
— Куда ты девался, милый? — спросила она. — Я ждала тебя у бабушки, но Эллен приехала одна и сказала, что ты вышел раньше, так как торопился по делу. Что-нибудь случилось?
— Ничего, просто я вспомнил, что до обеда мне надо было отправить несколько писем.
— А… — протянула она. — Жаль, что ты не заехал к бабушке, но раз письма были срочные…
— Очень срочные, — отвечал он, удивленный ее настойчивостью. — Да мне и незачем было заезжать к твоей бабушке. Я не знал, что ты там.
Мэй обернулась и подошла к зеркалу, висевшему над камином. Когда она стояла, подняв руку, чтобы закрепить выбившуюся из затейливой прически прядь, Арчера поразила какая-то скованность и напряженность ее позы, и он подумал, что убийственное однообразие их жизни начинает сказываться и на ней. Потом он вспомнил, что, уходя утром из дому, слышал, как она с лестницы крикнула ему вдогонку, что будет ждать его у бабушки и они вместе поедут домой. Он весело ответил: «Ладно!», а потом, погрузившись в мечты, забыл о своем обещании. Теперь ему стало стыдно, но он рассердился, что такая пустячная оплошность ставится ему в вину после почти двухлетнего брака. Ему надоело жить в умеренно теплой атмосфере бесконечного медового месяца, без жарких порывов страсти, но со всеми ее притязаниями. Если бы Мэй высказала свои жалобы (а он подозревал, что их немало), он мог бы со смехом их отмести, но ее приучили прятать воображаемые раны под спартанской улыбкой.
Чтобы скрыть досаду, он осведомился о здоровье бабушки, и она отвечала, что миссис Минготт лучше, но что ее очень расстроили последние новости о Бофортах.
— Какие новости?
— Говорят, они собираются остаться в Нью-Йорке. По-моему, он хочет заняться страховым делом или чем-то в этом роде. Они подыскивают скромный домик.
Нелепость этой затеи не подлежала сомнению, и они поднялись в столовую. За обедом разговор вращался в своем обычном ограниченном кругу, но Арчер заметил, что жена его ни разу не упомянула ни о госпоже Оленской, ни о том, как встретила ее старуха Кэтрин. Хотя это его и обрадовало, однако же показалось несколько зловещим.
Кофе был сервирован в библиотеке, и Арчер, закурив сигару, снял с полки томик Мишле.[176] С тех пор как Мэй взяла себе в привычку вечерами, увидев у него в руках книгу стихов, просить, чтобы он почитал ей вслух, он пристрастился к истории — не потому, что не переносил звука собственного голоса, а потому, что всегда мог заранее предвидеть ее комментарии по поводу прочитанного. В дни их помолвки она (как он теперь понял) попросту повторяла его слова, но когда он перестал поставлять ей готовые суждения, начала высказывать свои, и эти комментарии портили ему все удовольствие.
Убедившись, что он остановил свой выбор на историческом труде, она достала свою рабочую корзинку, подвинула кресло к лампе с зеленым абажуром и вынула подушку, которую вышивала ему на диван. Она не была рукодельницей — ее большие сильные руки были созданы для верховой езды, гребли и других занятий на открытом воздухе, но раз все жены вышивают подушки своим мужьям, значит, и ей не следует пренебрегать еще одним доказательством супружеской преданности.
Она села так, что Арчер, подняв глаза, мог увидеть ее склоненную над пяльцами фигуру, обшитые кружевом рукава, соскальзывающие к крепким округлым локтям, сверкающий сапфир над широким золотым обручальным кольцом на левой руке и правую руку, которая медленно и старательно прокалывала холст. Глядя, как она сидит в ярком свете лампы, он с тайным отчаянием говорил себе, что всегда будет знать, какие мысли таятся под этим гладким лбом, и что в будущем она ни разу не удивит его никаким неожиданным настроением, никакой новой мыслью, никаким проявлением слабости, жестокости или капризом. Весь свой запас поэзии она истратила за время их короткого романа, и ее способность к эмоциям атрофировалась, потому что нужда в ней отпала. Теперь Мэй просто созревала, постепенно превращаясь в копию своей матери, и каким-то таинственным образом пыталась сделать из него второго мистера Велланда. Он отложил книгу, с шумом встал, и она тотчас подняла голову.
— Что случилось?
— Здесь душно, мне нечем дышать.
По его настоянию шторы в библиотеке не закреплялись неподвижно над несколькими слоями тюля, как в гостиной, а свободно двигались по золоченому карнизу, и теперь он их раздвинул, поднял фрамугу и высунулся из окна в ледяную ночь. Уже от одного того, что он не смотрит на Мэй, сидящую под его лампой возле его стола, а видит другие дома, крыши, трубы, чувствует, что существуют другие люди, кроме него, другие города, за пределами Нью-Йорка, и целый мир за пределами его мира, в голове у него прояснилось, и ему стало легче дышать.
Постояв так несколько минут, он услышал голос Мэй:
— Ньюленд! Закрой окно. Ты простудишься насмерть. Он опустил фрамугу и обернулся.
— Простужусь насмерть? — повторил он. и ему захотелось добавить: «Так ведь я уже умер, умер много месяцев назад».
Эти слова внезапно навели его на дикую мысль. А что, если умрет она? Что, если она обречена умереть, скоро умрет, и он будет свободен! Мысль, что он стоит в этой знакомой теплой комнате, смотрит на нее и желает ей смерти, была такой невероятной, такой заманчивой и всепоглощающей, что он не сразу осознал, насколько она чудовищна. Ему просто казалось, будто судьба посылает ему соломинку, чтоб за нее могла ухватиться его больная душа. Да, Мэй может умереть, ведь умирают же люди — такие же молодые и здоровые, как она, — она может внезапно умереть и дать ему свободу.
Она подняла голову, и по ее широко раскрытым глазам он понял, что она прочитала что-то странное в его глазах.
— Ньюленд! Ты не заболел?
Он покачал головой и пошел к своему креслу. Она склонилась над пяльцами, и, проходя мимо, он погладил ее по голове.
— Бедная Мэй!
— Бедная? Почему бедная? — с каким-то неестественным смехом переспросила она.
— Потому что я никогда не смогу открыть окно, не заставив тебя волноваться, — тоже со смехом отозвался он.
Она помолчала, потом, не поднимая головы от работы, тихо сказала:
— Я никогда не стану волноваться, если ты будешь счастлив.
— Ах, дорогая, я никогда не буду счастлив, если не смогу открывать окна!
— В такую погоду? — возразила она, и он со вздохом погрузился в книгу.
Прошло дней шесть или семь. Арчер ничего не слышал о госпоже Оленской и понял, что при нем никто из членов семьи не упомянет ее имени. Он не пытался с нею видеться — пока она находилась у бдительно охраняемой постели старухи Кэтрин, об этом не могло быть и речи. В состоянии такой неопределенности он позволил себе плыть по течению, сознавая, как в нем подспудно зреет решимость, которую он обрел, когда высунулся из окна библиотеки в ледяную ночь. Сила этой решимости помогла ему ждать, ничем себя не выдавая.
И вот однажды Мэй сказала ему, что миссис Минготт просит его зайти. В этой просьбе не было ничего удивительного, потому что старуха постепенно поправлялась, а она никогда не скрывала, что предпочитает Арчера мужьям всех остальных внучек. Мэй сообщила ему о приглашении с очевидным удовольствием — она очень гордилась тем, что старухе Кэтрин нравится ее муж.
Воцарилась минутная пауза, а потом что-то заставило Арчера сказать:
— Хорошо. Давай съездим сегодня вместе?
Лицо его жены посветлело, но она тотчас ответила:
— О, лучше поезжай сам. Бабушке надоедает слишком часто видеть одни и те же лица.
Когда Арчер позвонил у дверей старой миссис Минготт, сердце его отчаянно билось. Он больше всего на свете хотел ехать к ней один, надеясь, что этот визит даст ему возможность сказать госпоже Оленской несколько слов наедине. Он решил подождать, пока такая возможность естественно представится сама, и вот это наконец случилось, и вот он уже здесь на пороге. За этой дверью, за этими гардинами из желтого штофа в комнате, примыкающей к прихожей, она наверняка его ждет, через минуту он ее увидит и сможет поговорить с ней, прежде чем она проводит его в комнату больной.
Он хотел задать ей только один вопрос, и тогда ему станет ясно, что делать. Его интересовало всего лишь, какого числа она возвращается в Вашингтон, и на этот вопрос она едва ли откажется ответить.
Но в желтой гостиной его ждала мулатка-горничная. Сверкая зубами, словно белыми клавишами рояля, она открыла раздвижные двери, и он предстал перед старой Кэтрин.
Старуха восседала в огромном, похожем на трон кресле возле кровати. Рядом на подставке красного дерева стояла литая бронзовая лампа с круглым гравированным абажуром, прикрытым зеленым бумажным экраном. Нигде не было видно ни книг, ни газет, ничего такого, чем обыкновенно занимаются женщины, — единственный интерес миссис Минготт всегда составлял разговор, и она сочла бы ниже своего достоинства притворяться, будто Арчер не заметил ни малейших последствий удара. Она просто казалась бледнее обычного, в складках и впадинах ее тучной фигуры залегли темные тени, а гофрированный чепец с накрахмаленными бантами между двумя первыми подбородками и кисейный платок, повязанный крест-накрест поверх вздымающегося на груди лилового халата, придавали ей сходство с какой-нибудь из ее собственных умных и добродушных прародительниц, неумеренно предававшихся чревоугодию.
Она протянула ему одну из своих маленьких ручек — они, словно любимые котята, уютно пригрелись на ее необъятных коленях, и сказала служанке:
— Больше никого не пускай. Если приедет дочь или невестка, скажи, что я сплю.
Служанка вышла, и старуха обратилась к Арчеру.
— Скажите, друг мой, я очень безобразна? — весело спросила она, вытягивая другую руку, чтобы пригладить складки кисеи на своей недосягаемой груди. — Дочери мне говорят, что в моем возрасте это не имеет значения — но ведь безобразие тем страшнее, чем труднее его скрыть!
— Дорогая моя, вы прекрасны, как никогда! — в тон ей отвечал Арчер, и она, откинув голову, засмеялась.
— Однако мне далеко до Эллен! — с лукавым огоньком в глазах выпалила она и, прежде чем он успел ответить, добавила: — Надеюсь, вы еще раз убедились в этом, когда везли ее с парома?
Он засмеялся., и старуха продолжала:
— Уж не потому ли она высадила вас из кареты, что вы ей об этом сказали? В мое время молодые люди по своей воле не бросали хорошеньких женщин! — она снова усмехнулась и с досадой заметила: — Как жаль, что она вышла замуж не за вас, я ей давно говорю. Это избавило бы меня от стольких хлопот. Но разве кто-нибудь думает о том, чтобы избавить свою бабушку от хлопот?
Уж не выжила ли она из ума, подумал было Арчер, но она вдруг заявила:
— Впрочем, теперь все уладилось, она останется со мной, а остальные родственники пусть говорят, что им угодно! Стоило ей пробыть здесь пять минут, как я уже готова была встать на колени и умолять ее остаться — и встала бы, если б только за последние двадцать лет мне удалось хоть разок увидеть пол!
Аочео молча слушал, и она продолжала:
— Они меня уговорили, как вам, наверное, известно — Лавел, Леттерблер, Августа Велланд и все остальные, — внушили мне, что я должна твердо стоять на своем и не давать ей денег, пока она не поймет, что ее долг — вернуться к Оленскому. Они думали, что им удалось убедить меня, когда этот секретарь явился сюда с последними предложениями — между прочим, весьма выгодными. В конце концов, брак есть брак, а деньги есть деньги, и то, и другое — вещи по-своему полезные… и я не знала, что отвечать… — Она умолкла и глубоко вздохнула, словно ей стало трудно говорить. — Но стоило мне ее увидеть, как я сказала: «Ах ты моя славная птичка! Снова посадить тебя в эту клетку? Никогда!» И вот теперь решено: она останется здесь и будет ухаживать за бабушкой, пока еще есть бабушка, за которой можно ухаживать. Перспектива не очень веселая, но Эллен ничего не имеет против, и я, конечно же, сказала Леттерблеру, чтобы ей выплачивали приличное содержание.
Молодой человек слушал, раскрасневшись от волнения, не зная, радоваться ему или огорчаться. Он так тщательно разработал план своих дальнейших действий, что не мог сразу направить свои мысли в другое русло. Однако постепенно им овладело восхитительное сознание того, что все препятствия устранены и перед ним чудесным образом открылись новые возможности. Если Эллен согласилась переехать к бабушке, то, несомненно, потому, что не может с ним расстаться. Это ее ответ на его последнюю просьбу: если она не хочет сделать решающий шаг, как он настаивает, то на полумеры она, во всяком случае, согласилась. Он погрузился в эти мысли с невольным облегчением человека, который готов был на любой риск и вдруг вкусил грозную сладость безопасности.
— Она и не могла вернуться… это невозможно! — воскликнул он.
— Ах, мой друг, я всегда знала, что вы на ее стороне, потому я и позвала вас сегодня, и, когда ваша очаровательная жена предложила приехать с вами вместе, я сказала ей: «Нет, милочка, я жажду видеть Ньюленда, и не хочу ни с кем делить радость нашего свидания». Потому _что, друг мой, — она откинула голову, насколько позволяли ей многочисленные подбородки, и посмотрела ему прямо в глаза, — потому что нам с вами еще предстоит бой. Родственники не хотят, чтобы она оставалась здесь, они скажут, что она меня уговорила, потому что я больная и слабая старуха. Я еще не настолько поправилась, чтобы разгромить их всех поодиночке, и вы должны сделать это за меня.
— Я? — пробормотал он.
— Вы. А почему бы и нет? — отрезала она, вперив в него круглые глаза, которые вдруг стали острыми, как перочинные ножички. Рука ее вспорхнула с подлокотника кресла и вцепилась в его руку маленькими бледными ноготками, похожими на когти птицы. — Почему бы и нет?
Под ее проницательным взглядом к Арчеру вернулось самообладание.
— О, они со мной не считаются… я слишком незначителен.
— Но ведь вы партнер Леттерблера. Вы должны действовать через Леттерблера. Конечно, если вы ничего не имеете против, — настаивала она.
— О, дорогая моя, я уверен, что вы справитесь с ними и без моей помощи, но, если она вам потребуется, я готов, — уверил он ее.
— Тогда нам нечего бояться! — вздохнула миссис Минготт и, улыбаясь ему со всем своим старушечьим коварством, добавила, откинувшись на подушки: — Я всегда знала, что вы нас поддержите, недаром, когда они говорят, что долг Эллен возвратиться к мужу, они никогда не ссылаются на вас.
Он слегка поморщился от ее ужасающей проницательности и чуть было не спросил: «А Мэй — на нее они тоже не ссылаются?», но вовремя передумал и вместо этого осведомился:
— А госпожа Оленская? Когда я могу ее увидеть? Старуха фыркнула, прищурилась и изобразила на своем лице нечто игривое.
— Только не сегодня. Пожалуйста, не все сразу. Госпожи Оленской нет дома.
Заметив его разочарование, старуха продолжала:
— Моя детка уехала — уехала в моей карете к Регине Бофорт.
Она умолкла, ожидая, чтобы это сообщение произвело надлежащий эффект.
— Вот до чего она меня уже довела. На второй день после приезда она надела свою лучшую шляпу и не моргнув глазом объявила, что идет навестить Регину Бофорт.
— «Я такой не знаю. Кто это?» — спрашиваю я. «Это ваша внучатая племянница и очень несчастная женщина», — отвечает она. «Она — жена негодяя», — говорю я. «Но ведь и я тоже, а вся моя родня требует, чтоб я к нему вернулась», — говорит она. Это меня окончательно сразило, и я ее отпустила. И вот наконец в один прекрасный день она говорит, что идет проливной дождь и невозможно выйти на улицу, и просит дать ей карету. «Зачем?» — спрашиваю я, а она мне отвечает: «Съездить к кузине Бофорт». К кузине! Тут я посмотрела в окно и вижу, что никакого дождя нет, но я ее поняла и разрешила ей взять карету… В конце концов, Регина — смелая женщина, и она тоже, а я всегда больше всего на свете ценила мужество.
Арчер наклонился и поцеловал маленькую руку, которая все еще лежала на его руке.
— Ну, ну, ну! Хотела бы я знать, чью руку, по-вашему, вы целуете, молодой человек. Надеюсь, что вашей жены, — насмешливо фыркнув, сказала старуха и, когда он встал и направился к двери, крикнула ему вслед — Передайте ей мой поклон, но, пожалуйста, ничего не говорите о нашей беседе.
31
Рассказ старухи Кэтрин ошеломил Арчера. Поспешность, с которой госпожа Оленская приехала из Вашингтона, откликнувшись на зов бабушки, казалась весьма естественной, но что она решилась остаться под кровом миссис Минготт — особенно теперь, когда та почти выздоровела, — объяснить было труднее.
Арчер был убежден, что на решение госпожи Оленской не повлияла перемена в ее финансовых делах. Он точно знал размер скромного денежного содержания, которое муж назначил ей, когда они разъехались. Без помощи бабушки на эти деньги с трудом можно было существовать, во всяком случае, в том смысле, какой вкладывали в это слово Минготты, а теперь, когда Медора Мэнсон, жившая вместе с нею, разорилась, этих жалких грошей едва хватило бы им обеим на одежду и пропитание. И все же Арчер был уверен, что госпожа Оленская приняла предложение бабушки не из корыстных соображений.
Она отличалась беспечной щедростью и порывистой расточительностью людей, привыкших к богатству и равподушных к деньгам, но при этом могла обходиться без многих вещей, которые ее родные считали совершенно необходимыми, и миссис Лавел Минготт с миссис Велланд часто удивлялись, как человек, вкусивший космополитической роскоши в доме графа Оленского, может до такой степени пренебрегать «приличиями». Более того, Арчер знал, что прошло уже несколько месяцев с тех пор, как ей урезали содержание, но за все это время она ни разу не пыталась вновь добиться расположения бабушки. Стало быть, если она переменила свое решение, то, очевидно, по какой-то иной причине.
В поисках этой причины ходить было недалеко. По дороге с парома она сказала ему, что они не должны быть вместе, но говорила она это, спрятав голову у него на груди. Он знал, что в словах ее не было ни кокетства, ни расчета; она пыталась уйти от судьбы, так же, как и он, отчаянно цепляясь за решимость не обманывать тех, кто им доверяет. Но за десять дней, прошедших после ее возвращения в Нью-Йорк, по его молчанию и по тому, что он не пытался ее увидеть, она, быть может, догадалась, что он замышляет решительный шаг, после которого нет возврата. При этом она могла испугаться собственной слабости и почувствовать, что в конце концов лучше согласиться на обычный в подобных обстоятельствах компромисс и пойти по линии наименьшего сопротивления.
Всего лишь час назад, когда Арчер звонил у дверей миссис Минготт, ему казалось, будто путь его совершенно ясен. Он поговорит с госпожою Оленской наедине, а если это ему не удастся, узнает от ее бабушки, когда и каким поездом она возвращается обратно. Он сядет в тот же поезд и поедет с нею в Вашингтон или еще дальше — куда она захочет. Сам он предпочел бы Японию. Как бы то ни было, она тотчас поймет, что он последует за нею хоть на край света. Мэй он оставит письмо, из которого ей станет ясно, что он сжег свои корабли.
Он воображал, что не только способен на отчаянный шаг, но и жаждет его совершить, однако, узнав, что события приняли иной оборот, прежде всего почувствовал облегчение. Теперь же, когда он шел домой от миссис Минготт, будущее казалось ему все более отвратительным. Путь, которым ему предстояло идти, не таил в себе ничего неизвестного и непривычного, но, когда он шел им прежде, он был свободным человеком, не обязанным давать кому-либо отчет в своих поступках, и мог беспечно предаваться игре в предосторожности, увертки, уступки и уловки, каких требует эта роль. Все это вместе взятое называлось «оберегать честь женщины», и изящная словесность вкупе с послеобеденными разговорами старших давно посвятила его во все ее тонкости.
Теперь все дело предстало перед ним в новом свете, а его собственная роль в нем заметно умалилась. Ведь, в сущности, это была та же роль, которую миссис Торли Рашуорт разыгрывала перед любящим и доверчивым мужем и которую он, Арчер, наблюдал с тайным самодовольством — улыбчивая, льстивая, вкрадчивая, опасливая, непрестанная ложь. Ложь днем, ложь ночью, ложь в каждом прикосновении и каждом взгляде, ложь в каждой ласке и в каждой ссоре, ложь в каждом слове и в каждом умолчании.
Да и вообще роль эта была менее трудной и постыдной, когда ее играла жена. По общему молчаливому убеждению, нельзя требовать, чтобы женщина была так же правдива, как мужчина, — будучи существом зависимым, она преуспела в изворотливости, свойственной рабам. К тому же, чтобы ее не судили слишком строго, она всегда может сослаться на настроение или нервы, и даже в самом высоконравственном обществе предметом насмешек всегда был обманутый муж.
Над обманутыми женами в узком мирке Арчера никто не смеялся, а к мужчинам, которые и после женитьбы продолжали вести рассеянный образ жизни, относились с легким презрением. Всякому овощу свое время — и отдавать дань увлечениям молодости разрешалось лишь однажды.
Арчер всегда разделял этот взгляд и в глубине души презирал Леффертса. Но любить Эллен Оленскую вовсе не значило уподобиться Леффертсу — в первый раз в жизни Арчер столкнулся с грозной необходимостью рассматривать индивидуальные особенности частного случая. Эллен Оленская не такая, как все остальные женщины, он не такой, как все остальные мужчины, следовательно, их положение не похоже ни на чье другое и они не подсудны никакому трибуналу, кроме суда собственной совести.
Да, но через десять минут он поднимется по ступенькам своего дома, а там его ждет Мэй, ждут привычки, честь и все старые правила, в которые он и его близкие всегда верили…
Постояв в нерешительности на углу своей улицы, он зашагал дальше по 5-й авеню.
Впереди, в темноте зимней ночи, смутно вырисовывался большой неосвещенный дом. Подойдя ближе, Арчер вспомнил, как часто он видел его сверкающим огнями, когда стоявшие в два ряда кареты ожидали своей очереди подъехать к покрытым ковром ступеням, над которыми был натянут тент. В этом зимнем саду, мертвенно-черная громада которого тянулась вдоль боковой улицы, он в первый раз поцеловал Мэй, в эту освещенную бесчисленными свечами бальную залу она вошла, высокая, сияющая серебристым сиянием, словно юная Диана.
Теперь дом был темен, как могила, и лишь в подвале мерцал газовый фонарь да наверху из-за какой-то ставни пробивался свет. Дойдя до угла, Арчер увидел, что у дверей стоит карета миссис Мэнсон Минготт. Просто находка для Силлертона Джексона, случись ему пройти мимо! Арчера глубоко тронул рассказ старой Кэтрин об отношении госпожи Оленской к миссис Бофорт — по сравнению с ним праведный гнев Нью-Йорка казался грубым пренебрежением. Однако он слишком хорошо знал, как истолкуют визит Эллен Оленской к ее двоюродной сестре в гостиных и клубах.
Он остановился и посмотрел на освещенное окно. Обе женщины, вероятно, сидят в этой комнате, а Бофорт, скорее всего, отправился искать утешения куда-нибудь в другое место. Говорили даже, будто он уехал из Нью-Йорка с мисс Фанни Ринг. Впрочем, судя по тому, как держалась миссис Бофорт, это представлялось маловероятным.
Кроме Арчера, на ночной 5-й авеню почти никого не было. В этот час большая часть его знакомых сидела по домам, переодеваясь к обеду, и он втайне порадовался, что Эллен, по всей вероятности, сможет незаметно выйти. Едва у него мелькнула эта мысль, как дверь отворилась, и на пороге появилась она. Позади нее теплился слабый огонек, словно кто-то освещал ей дорогу. Она обернулась, сказала кому-то несколько слов, потом двери закрылись, и она стала спускаться по ступеням подъезда.
— Эллен, — тихо проговорил он, когда она сошла на мостовую.
Она слегка вздрогнула и остановилась, и в ту же минуту он увидел, что к ним приближаются два светских франта. Было что-то очень знакомое в пальто, в складках модных шелковых шарфов, повязанных поверх белых галстуков, и он подивился тому, что молодым людям их круга вздумалось так рано отправиться на званый обед. Потом он вспомнил, что Реджи Чиверсы, жившие неподалеку, в этот вечер пригласили многих знакомых на «Ромео и Джульетту» с Аделаидой Нильсен,[177] и понял, что эти двое были из их числа. Когда они проходили под фонарем, он узнал Лоренса Леффертса и одного из младших Чиверсов.
Трусливое желание, чтобы никто не видел госпожу Оленскую у дверей Бофортов, исчезло, как только он всем своим существом ощутил тепло ее руки.
— Я смогу видеться с вами теперь… мы будем вместе, — бормотал он, сам не понимая, что говорит.
— Ах, — отозвалась она. — Бабушка вам рассказала? Глядя на нее, он заметил, что Леффертс и Чиверс, дойдя до угла, вежливо перешли на другую сторону 5-й авеню. Такие проявления мужской солидарности когда-то были не чужды и ему, но теперь этот маневр показался ему отвратительным. Неужели она в самом деле воображает, что они смогут жить подобным образом? А если нет, то что она тогда воображает?
— Завтра я должен вас видеть — где-нибудь, где мы можем быть одни, — сказал он голосом, который ему самому показался рассерженным.
Она нерешительно двинулась к карете.
— Но ведь я у бабушки — то есть я хочу сказать, пока, — добавила она, словно почувствовав, что перемена ее планов требует хоть какого-то объяснения.
— Где-нибудь, где мы можем быть одни, — продолжал настаивать он.
Она засмеялась слабым смехом, который неприятно резанул ему слух.
— В Нью-Йорке? Но ведь здесь нет ни церквей, ни памятников.
— Зато есть музей — в парке,[178] — заметив ее удивление, пояснил он. — В половине третьего я буду у входа.
Она ничего не ответила и, повернувшись, быстро села в карету. Когда карета тронулась, госпожа Оленская наклонилась вперед, и ему почудилось, что в темноте она помахала ему рукой. Обуреваемый противоречивыми чувствами, он посмотрел ей вслед. Ему казалось, будто он говорил не с тою женщиной, которую любит, а с какой-то другой, с которой делил уже приевшиеся наслаждения — до того невыносимо было чувствовать себя в плену этих пошлых слов и понятий.
— Она придет! — чуть ли не с презрением сказал он себе.
Избегая популярного собрания Вулф,[179] чьи забавные полотна занимали одну из главных галерей причудливого здания из чугуна и разноцветных изразцов, называемого Метрополитен-музей, они прошли по коридору в комнату, где в унылом уединении плесневели памятники древности Чеснолы.[180]
Никто не нарушал их одиночества в этом унылом убежище и, усевшись на диван, расположенный вокруг центрального калорифера парового отопления, они молча смотрели на шкафы черного дерева, где под стеклом хранились извлеченные из праха обломки Илиона.[181]
— Странно, что я никогда здесь не была, — сказала госпожа Оленская.
— Гм… я думаю, когда-нибудь здесь будет великолепный музей.
— Да, — рассеянно согласилась она.
Она встала и прошлась по комнате. Арчер любовался легкими движениями ее фигуры, девически стройной даже в тяжелых мехах, модной меховой шапочкой, изящно отделанной крылом цапли, и похожими на плоские завитки виноградной лозы колечками темных волос на висках. Как и при каждой их встрече, он был весь поглощен черточками, составлявшими ее особенное очарование. Вскоре и он поднялся и подошел к шкафу, перед которым она стояла. Стеклянные полки были уставлены мелкими обломками, в которых с трудом угадывались предметы домашнего обихода, украшения и безделушки из стекла, глины, потускневшей бронзы и других истертых временем материалов.
— Как жестоко, что в конце концов все теряет смысл… — сказала она. — Как эти вещи — когда-то они были необходимыми и важными для забытых людей, а теперь их нужно рассматривать в лупу и снабжать этикеткой «назначение неизвестно».
— Да, но пока…
— Ах, пока…
Когда она стояла перед ним в своей длинной котиковой шубке, спрятав руки в маленькую круглую муфту, с вуалью, словно прозрачная маска, наполовину закрывшей ее лицо, а букетик фиалок, который он ей принес, колыхался от ее порывистого дыхания, ему просто не верилось, что эта безупречная гармония линий и красок когда-нибудь падет жертвой нелепого закона изменений живой природы.
— А пока имеет значение все, что касается вас, — сказал он.
Задумчиво взглянув на него, она воротилась к дивану. Он сел рядом и молча ждал, как вдруг услышал звук шагов, гулко отдававшихся в анфиладе пустых комнат, и физически ощутил гнет уходящих минут.
— Что вы хотели мне сказать? — спросила она, словно тоже получила предостережение.
— Что я хотел вам сказать? — повторил он. — Мне кажется, вы приехали в Нью-Йорк потому, что испугались. — Испугалась?
— Да, вы испугались, что я приеду в Вашингтон. Она опустила глаза на муфту, и он увидел, что руки ее беспокойно двигаются.
— Так что же вы скажете?
— Что я скажу? Да, — ответила она.
— Значит, вы действительно испугались? Вы знали?
— Да, я знала…
— Ну и?.. — настаивал он.
— Ну и… Ведь так будет лучше, правда? — вздыхая и вопросительно глядя на него, отозвалась она.
— Лучше?
— Так мы причиним меньше зла другим. Разве вы не этого всегда хотели?
— Чтобы вы были здесь — близко и все равно далеко? Встречаться с вами так, как сейчас, тайком? Это прямо противоположно моим желаниям. Я говорил вам прошлый раз, чего я хочу.
Она помедлила.
— И вы по-прежнему думаете, что так будет хуже?
— В тысячу раз! — Он умолк. — Было бы легко сказать вам неправду, но правда заключается в том, что я нахожу это отвратительным.
— О, я тоже! — с глубоким вздохом облегчения воскликнула она.
Он нетерпеливо вскочил.
— Ну вот… теперь моя очередь спросить — ради всего святого, что же, по-вашему, лучше?
Она опустила голову, все еще сжимая и разжимая руки в муфте. Шаги приблизились, и сторож в обшитой галуном шапке безучастно прошел по комнате, словно крадущееся по кладбищу привидение. Оба дружно уставились на стоявший перед ними шкаф, а когда служитель скрылся среди вереницы мумий и саркофагов, Арчер заговорил снова:
— Что же, по-вашему, лучше? Вместо ответа она прошептала:
— Я обещала бабушке остаться с нею. Мне казалось, что здесь я надежнее укроюсь от опасности.
— То есть от меня?
Не глядя на него, она чуть заметно наклонила голову.
— От опасности любить меня?
Профиль ее оставался недвижимым, но Арчер увидел, как слеза скатилась с ресниц и повисла на вуали.
— От опасности причинить непоправимое зло. О, не будем такими, как все остальные! — взмолилась она.
— Остальные? Я ничем не отличаюсь от других. У меня такие же стремления, такие же мечты.
Она чуть ли не с ужасом взглянула на него, и он увидел, что ее щеки заметно покраснели.
— Вы хотите… вы хотите, чтобы я один раз к вам пришла, а потом уехала домой? — вдруг осмелев, тихо и отчетливо спросила она.
Кровь бросилась ему в голову.
— Любимая! — проговорил он, не двигаясь с места. Казалось, что он держит в руках свое сердце, и оно, как полная чаша, от малейшего движения вот-вот перельется через край.
Потом до его сознания дошел смысл ее последней фразы, и он нахмурился.
— Домой? Что значит — домой?
— Домой к мужу.
— И вы хотите, чтобы я сказал вам да? Она подняла на него грустные глаза.
— Что же еще мне остается? Я не могу жить здесь И обманывать тех, кто сделал мне столько добра.
— Но ведь именно поэтому я и прошу вас со мною уехать!
— И погубить их жизнь, когда они помогли мне заново начать мою!
Арчер вскочил и в немом отчаянии смотрел на нее. Легче всего было бы сказать: «Да, придите, придите один раз». Он знал, какую власть он обретет, если она согласится, — после этого уже не составит труда уговорить ее не возвращаться к мужу.
Но что-то помешало этому слову сорваться с его губ. Исступленная честность Эллен мешала ему даже помыслить о том, чтобы заманить ее в эту привычную ловушку. «Позволить ей прийти — значит позволить ей уйти опять», — сказал он себе. Нет, это просто невообразимо.
Однако, увидев тень ресниц на ее мокрой щеке, он заколебался.
— В конце концов, у нас своя жизнь, — начал он снова. — Нет смысла стремиться к невозможному. Вы настолько непредвзято относитесь к некоторым вещам, настолько привыкли — по вашему выражению — смотреть в глаза Медузе Горгоне, что мне просто непонятно, почему вы боитесь увидеть наше положение таким, каково оно на самом деле, — если, конечно, вы не считаете, что это слишком дорогая жертва.
Она тоже встала, сжав губы и нахмурившись.
— Ну что ж… Назовите это так… Мне пора, — сказала она, посмотрела на маленькие часики, висевшие на цепочке у нее на груди, повернулась и пошла к выходу. Он бросился за нею и схватил ее за руку.
— В таком случае придите ко мне один раз, — сказал он, чувствуя, что при мысли о возможности ее потерять у него мутится в голове, и секунду или две они смотрели друг на друга чуть ли не как враги.
— Когда же? — настаивал он. — Завтра?
— Послезавтра, — поколебавшись, отвечала она.
— Любимая! — снова вырвалось у него.
Она высвободила свою руку, но еще мгновенье они не отводили друг от друга глаз, и он увидел, что лицо ее, покрывшееся смертельной бледностью, вдруг засветилось глубоким внутренним сияньем. Сердце Арчера восторженно забилось, и он подумал, что ему впервые явилось живое воплощение любви.
— Я опаздываю. До свидания. Нет, нет, не провожайте меня! — воскликнула она, торопливо проходя по бесконечной комнате, словно испугавшись сияния, которое отразилось в его глазах. Дойдя до двери, она быстро обернулась и на прощанье быстро помахала ему рукой.
Арчер отправился домой один. Когда он вошел в прихожую, уже сгущались сумерки, и знакомые предметы показались ему такими странными, словно он смотрел на них с того света.
Горничная, услыхав его шаги, взбежала по лестнице зажечь газ на верхней площадке.
— Миссис Арчер дома?
— Нет, сэр, после завтрака она уехала в карете и еще не вернулась.
С чувством облегчения он вошел в библиотеку и бросился в кресло. Горничная внесла лампу с абажуром и подбросила угля в угасавший камин. После ее ухода он продолжал сидеть, опустив локти на колени, опираясь подбородком на руки и устремив глаза в огонь.
Он сидел так, ни о чем не думая, не замечая, как идет время, в глубоком восторженном изумлении, которое, однако, не ускоряло, а, напротив, приостанавливало течение жизни. «Значит, так должно было случиться… так должно было случиться», — словно обреченный, твердил он про себя. Мечты его до такой степени отличались от действительности, что могильный холод леденил ему сердце.
Дверь отворилась, и в комнату вошла Мэй.
— Я ужасно задержалась. Ты не беспокоился? — спросила она, в непривычном порыве нежности кладя ему руку на плечо.
Он изумленно поднял на нее глаза.
— Разве уже поздно?
— Восьмой час. Ты, наверное, уснул! — засмеялась Мэй и, вытащив булавки, бросила на диван свою бархатную шляпку. Она выглядела бледнее обычного, но вся искрилась каким-то непривычным оживлением.
— Я ездила проведать бабушку и только собралась уходить, как Эллен вернулась с прогулки, и я осталась, и у нас с ней был долгий разговор. Мы уже целую вечность с ней по-настоящему не разговаривали… — Опустившись в кресло напротив, в котором она всегда сидела, она стала приглаживать растрепавшиеся волосы. Ему показалось, будто она ждет, чтобы он заговорил.
— Мы так хорошо поговорили, — улыбаясь, продолжала она с живостью, в которой Арчеру послышалось что-то неестественное. — Она была такая милая — совсем как прежняя Эллен. Боюсь, что последнее время я была к ней несправедлива. Я иногда думала…
Арчер встал и, отойдя от света, оперся о доску камина.
— Что же ты думала? — воспользовавшись паузой, спросил он.
— Быть может, я слишком строго ее судила. Она так изменилась — во всяком случае, внешне. Она встречается с такими странными людьми — словно ей нравится привлекать к себе внимание. Наверное, всему виной та жизнь, которую она вела в этом легкомысленном европейском обществе, и, конечно, ей с нами смертельно скучно. Но я не хочу ее осуждать.
Она снова умолкла — от непривычно длинной речи у нее перехватило дыхание. Губы ее приоткрылись, щеки разрумянились.
Глядя на нее, Арчер вспомнил, как осветилось ее лицо в саду испанской миссии Сент-Огастина. Он почувствовал, что она делает над собой такое же усилие, так же стремится постичь нечто ей недоступное.
«Она ненавидит Эллен, — подумал он, — пытается преодолеть это чувство и хочет, чтобы я помог ей его преодолеть».
Эта мысль глубоко его тронула, и на мгновенье он готов был нарушить воцарившееся между ними молчание и сдаться ей на милость.
— Ты, конечно, понимаешь, почему родственники иногда недовольны? — продолжала она. — Вначале мы делали для нее все, что только могли, но она так ничего и не поняла. А теперь ей взбрело в голову навестить миссис Бофорт да еще поехать туда в бабушкиной карете' Боюсь, она окончательно восстановила против себя ван дер Лайденов…
— Ах! — с досадой засмеялся Арчер. Приотворившаяся было между ними дверь снова затворилась. — Пора одеваться, мы ведь, кажется, приглашены на обед, — сказал он, отодвигаясь от огня.
Мэй тоже встала, но помедлила у камина. Когда он проходил мимо нее, она, поддавшись внезапному порыву, рванулась вперед, как бы желая его удержать. Глаза их встретились, и он увидел в ее глазах ту же влажную голубизну, которой они сияли, когда он расстался с нею, чтобы ехать в Джерси-Сити.
Она бросилась ему на шею и прижалась щекой к его лицу.
— Ты еще ни разу не поцеловал меня сегодня, — прошептала она, и Арчер почувствовал, что она дрожит в его объятиях.
32
— При дворе Тюильри, — сказал мистер Силлертон Джексон, улыбнувшись своим воспоминаниям, — при дворе Тюильри на такие вещи смотрели сквозь пальцы.
Происходило это в столовой черного ореха в доме ван дер Лайденов на Мэдисон-авеню назавтра после посещения Ньюлендом Арчером Метрополитен-музея. Мистер и миссис ван дер Лайден на несколько дней приехали в город из Скайтерклиффа, куда они стремительно бежали после известия о банкротстве Бофорта. Их уведомили, что замешательство, в которое повергла общество эта прискорбная история, более настоятельно, чем когда-либо, требовало их присутствия в городе. Это было одно из тех событий, когда, по выражению миссис Арчер, «их долг перед обществом» — показаться в опере и даже открыть двери собственного дома.
— Нельзя допускать, чтобы личности вроде миссис Лемюэл Стразерс воображали, что они могут занять место Регины, дорогая Луиза. Именно в такие времена выскочки пытаются пролезть в общество. Той зимою, когда миссис Стразерс впервые появилась в Нью-Йорке, была эпидемия ветряной оспы, и мужчины потихоньку бегали к ней, покуда их жены сидели в детских. Вы и наш милый Генри, Луиза, должны, как всегда, принять удар на себя.
Мистер и миссис ван дер Лайден не могли остаться глухими к такому призыву и неохотно, но самоотверженно приехали в город, сняли чехлы с мебели и разослали приглашения на два званых обеда и один вечерний прием.
В тот вечер, о котором идет речь, они пригласили Силлертона Джексона, миссис Арчер и Ньюленда с женой сопровождать их в оперу, где первый раз в этом сезоне давали «Фауста». В доме ван дер Лайденов ничто не совершалось без церемоний, и, хотя гостей было всего четверо, трапеза началась ровно в семь часов, с тем чтобы можно было без спешки подать все блюда до того, как джентльмены закурят свои сигары.
Арчер не видел жены со вчерашнего вечера. Он рано уехал в контору, где погрузился во множество незначительных дел. Днем его неожиданно задержал один из старших партнеров, и он добрался до дому так поздно, что Мэй, не дождавшись его, уехала к ван дер Лайденам одна и послала за ним карету.
Теперь, на фоне скайтерклиффских гвоздик и массивного столового серебра, она показалась ему бледной и вялой, но глаза ее блестели и она с преувеличенной живостью участвовала в общем разговоре.
Разговор этот, который вызвал вышеозначенное любимое замечание мистера Силлертона Джексона, завела (не без умысла, как подумал Арчер) сама хозяйка. Банкротство Бофорта, или, вернее, поведение Бофорта после банкротства все еще служило неисчерпаемой темой для этого светского моралиста, и, когда оно было надлежащим образом рассмотрено и осуждено, миссис ван дер Лайден обратила свой проницательный взор на Мэй Арчер.
— До меня дошли слухи, будто карету вашей бабушки Минготт видели у подъезда миссис Бофорт. Возможно ли это, милочка? — Примечательно, что она уже не называла преступницу по имени.
Мэй вспыхнула, и миссис Арчер поспешно вмешалась:
— Если это правда, то я уверена, что миссис Минготт об этом не знала.
— Вы так думаете?.. — миссис ван дер Лайден умолкла, вздохнула и посмотрела на мужа.
— Боюсь, что на этот опрометчивый шаг госпожу Оленскую толкнуло ее доброе сердце, — сказал мистер ван дер Лайден.
— Или пристрастие к эксцентричным людям, — сухо вставила миссис Арчер, невинным взором глядя в глаза сыну.
— Мне не хотелось бы думать так о госпоже Оленской, — сказала миссис ван дер Лайден, а миссис Арчер прошептала: — Ах, дорогая… и это после того, как вы дважды приглашали ее в Скайтерклифф!
Вот тут-то мистер Джексон, воспользовавшись удобным случаем, и ввернул свое любимое замечание.
— При дворе Тюильри, — повторил он, видя, что рзоры всего общества выжидательно устремлены на него, — в некоторых отношениях не придерживались слишком строгих правил, и если бы вы спросили, как Морни[182] добывает свои деньги… или кто платит долги некоторых придворных красавиц…
— Надеюсь, дорогой Силлертон, вы не предлагаете нам следовать их примеру, — сказала миссис Арчер.
— Я никогда ничего не предлагаю, — невозмутимо возразил мистер Джексон. — Однако заграничное воспитание госпожи Оленской могло сделать ее менее разборчивой…
— Ах, — вздохнули обе старшие дамы.
— Но держать карету своей бабушки у подъезда банкрота! — возмутился мистер ван дер Лайден, и Арчер подумал, что он с сожалением — вспоминает о корзинах с гвоздиками, которые посылал в маленький домик на 23-й улице.
— Разумеется, я всегда говорила, что она совсем иначе смотрит на вещи, — подвела итог миссис Арчер.
Лицо Мэй залилось краской. Взглянув через стол на мужа, она поспешно заметила:
— Я уверена, что Эллен действовала из лучших побуждений.
— Неосмотрительные люди нередко действуют из лучших побуждений, — сказала миссис Арчер, словно это обстоятельство едва ли могло служить хотя бы частичным оправданием, а миссис ван дер Лайден пробормотала — Если бы она хоть с кем-нибудь посоветовалась…
— Ах, вот уж этого она никогда не делала! — возразила миссис Арчер.
Тут мистер ван дер Лайден посмотрел на жену, которая слегка наклонила голову в сторону миссис Арчер, и блестящие шлейфы всех трех дам скрылись за дверью, а джентльмены тем временем закурили сигары. В те вечера, когда предстояло ехать в оперу, мистер ван дер Лайден угощал укороченными сигарами, но они были так хороши, что заставляли гостей сожалеть о его непоколебимой пунктуальности.
После первого акта Арчер покинул своих спутников и пошел в клубную ложу. Стоя за спинами многочисленных Чиверсов, Минготтов и Рашуортов, он принялся рассматривать ту самую картину, которую наблюдал два года назад, в тот вечер, когда впервые встретил графиню Оленскую. У него даже мелькнула надежда, что она снова появится в ложе старой миссис Минготт, но ложа была пуста, и он неподвижно сидел, не сводя с нее глаз, пока не услышал звучное сопрано госпожи Нильсон: «Любит, не любит…»
Арчер повернулся к сцене, где на знакомом фоне гигантских роз и перочисток анютиных глазок все та же высокая блондинка вот-вот готова была пасть жертвой все того же низенького соблазнителя-брюнета.
Оторвавшись от сцены, взор его скользнул к центру подковы, где между двумя старшими дамами сидела Мэй, — точно так же, как в тот памятный вечер, она сидела между миссис Лавел Минготт и своей вновь прибывшей «иностранной кузиной». Как и тогда, она была в белом, а Арчер, который прежде не обратил внимания на ее туалет, теперь узнал белый с голубым атлас и старинные кружева ее подвенечного платья.
По обычаю старого Нью-Йорка, молодые женщины появлялись в этом дорогом уборе еще год или два после свадьбы, и он знал, что его мать хранит свое подвенечное платье в папиросной бумаге, надеясь, что его еще приведется надеть Джейни, хотя бедняжка уже достигла того возраста, когда жемчужно-серый поплин и свадьба без подружек невесты были бы сочтены более «уместными».
Арчеру вдруг пришло в голову, что после возвращения из Европы Мэй редко надевала свой свадебный наряд, и, удивленный тем, что она в нем появилась, он стал невольно сравнивать ее внешность с внешностью девушки, на которую с такими блаженными предчувствиями смотрел два года назад.
Хотя Мэй чуть-чуть пополнела, к чему всегда склонны женщины, сложенные как античные богини, ее спортивная осанка и девически ясное выражение лица остались неизменными, и, если бы не вялость, которую он в последнее время замечал, она была бы точной копией девушки, игравшей букетом ландышей в день помолвки. Это как бы лишний раз взывало к его состраданию: подобная невинность была трогательной, как доверчивое объятие ребенка. Потом он вспомнил о страстном великодушии, которое скрывалось под этим безмятежным спокойствием. Вспомнился ему и понимающий взгляд, которым она встретила его настойчивую просьбу объявить об их помолвке на балу у Бофортов; он услышал голос, произносивший в саду испанской миссии: «Я не могла бы быть счастливой, причинив кому-нибудь боль или обиду», и им овладело неудержимое желание сказать ей правду, воззвать к ее великодушию и умолить ее дать ему свободу, от которой он тогда отказался.
Ньюленд Арчер был сдержанным и уравновешенным молодым человеком. Подчинение законам его маленького мирка стало чуть ли не второй его натурой. Мысль о том, чтобы совершить какой-либо мелодраматический или экстравагантный поступок, к которому мистер ван дер Лайден отнесся бы с неодобрением, а клубная ложа осудила бы как «дурной тон», была ему глубоко противна. Но клубная ложа, мистер ван дер Лайден и все, что так долго окутывало его теплым покровом привычки, вдруг перестало для него существовать. Он прошел по полукруглому коридору в задней части театра и открыл двери в ложу миссис ван дер Лайден так, словно это были ворота в неизвестность.
— M'ama! — торжествующе пропела Маргарита, и сидевшие в ложе удивленно взглянули на Арчера. Своим появлением он нарушил одно из правил их круга, запрещающее входить в ложу во время сольной партии.
Протиснувшись между мистером ван дер Лайденом и Силлертоном Джексоном, он наклонился к жене.
— У меня ужасно разболелась голова. Поедем домой, только никому ничего не говори, хорошо? — шепнул он.
Мэй бросила на него озабоченный взгляд, шепнула что-то матери, которая сочувственно закивала головой, извинилась перед миссис ван дер Лайден и поднялась как раз в ту минуту, когда Маргарита упала в объятия Фауста. Подавая ей манто, Арчер заметил, что старшие дамы обмениваются многозначительными улыбками.
В карете Мэй робко положила ладонь на его руку.
— Как жаль, что ты нездоров. Ты, наверное, опять переутомился в конторе.
— Нет, нет, не в этом дело… Ты не возражаешь, если я открою окно? — сбивчиво бормотал он, опуская стекло со своей стороны. Выглядывая из окна на улицу, он чувствовал, что жена молча смотрит на него внимательным недоуменным взглядом, и не отрывал глаз от проносившихся мимо домов.
Выходя из кареты, Мэй зацепилась шлейфом за ступеньку и чуть не упала.
— Ты не ушиблась? — спросил он, подставив ей руку.
— Нет, но мое бедное платье, посмотри, как я его порвала! — воскликнула она, нагнулась и, подхватив испачканный шлейф, вошла вслед за Арчером в прихожую. Слуги не ждали их так рано, и газ горел только на верхней площадке..
Арчер поднялся по лестнице, зажег свет и поднес спичку к бра, висевшим в библиотеке по обе стороны камина. Шторы были задернуты, и теплая уютная комната неприятно поразила его, словно знакомое лицо, которое встречаешь, отправляясь по тайному делу.
Заметив, что Мэй очень бледна, он предложил принести ей коньяку.
— Нет, нет! — вспыхнув, воскликнула она, снимая пальто. — Но, может быть, тебе лучше немедленно лечь в постель? — добавила она, заметив, что он открывает лежащий на столе серебряный портсигар и достает из него папиросу.
Арчер бросил папиросу и направился к своему обычному месту возле камина.
— Нет, у меня не настолько болит голова. — Он помолчал. — Кроме того, я хочу сказать тебе что-то… что-то очень важное, и мне надо сказать это сейчас.
Она опустилась на кресло и при этих словах подняла голову.
— Я слушаю тебя, милый, — проговорила она так ласково, что он даже удивился, почему она не выказывает ни малейшего удивления по поводу его предисловия.
— Мэй… — начал он, останавливаясь в нескольких шагах от ее кресла и глядя на нее так, словно небольшое расстояние, отделявшее их друг от друга, было непроходимой пропастью. Голос его жутко прозвучал в уютной тишине дома, и он повторил: — Я должен сказать тебе что-то… про себя…
Она сидела молча, не шелохнувшись, и даже ее ресницы оставались неподвижными. Лицо ее, по-прежнему очень бледное, выражало странное спокойствие, почерпнутое, казалось, из какого-то таинственного внутреннего источника.
Арчер подавил банальные самообвинения, готовые сорваться с его уст. Он решился изложить дело просто и ясно, без ненужных взаимных укоров и извинений.
— Госпожа Оленская… — начал он, но, услышав это имя, Мэй подняла руку, как бы желая его остановить.
При этом свет газовой горелки вспыхнул на ее золотом обручальном кольце.
— Почему мы должны говорить сегодня об Эллен? — спросила она, с легкой досадой надувая губы.
— Потому что мне следовало сказать об этом раньше. Лицо ее оставалось спокойным.
— Но, право, стоит ли, милый? Я знаю, что иногда бывала к ней несправедлива… Наверное, не только я, а вообще все мы. Ты, конечно, понимал ее лучше, чем мы, ты всегда хорошо к ней относился. Но какое это имеет значение, раз все уже кончено?
Арчер изумленно посмотрел на жену. Неужели сковавшее его чувство нереальности сообщилось и ей?
— Кончено?.. Что это значит? — заикаясь, пробормотал он.
Мэй все еще смотрела на него ясными глазами.
— Как что? Разве ты не знаешь, что она скоро возвращается в Европу и что бабушка это одобряет и понимает и распорядилась устроить ее дела так, чтобы она была независима от мужа…
Она умолкла, и Арчер, судорожно ухватившись рукой за угол каминной полки и опершись на нее, чтобы не упасть, тщетно пытался привести в такое же равновесие свои мешавшиеся мысли.
— Я думала, — ровным голосом продолжала его жена, — что ты так поздно задержался в конторе именно из-за этих дел. Все как будто бы решилось сегодня утром. — Она опустила глаза под его невидящим взором, и лицо ее снова на мгновение вспыхнуло.
Он понял, что взгляд его, наверное, непереносим, отвернулся и, опершись локтями о каминную полку, закрыл лицо руками. В ушах у него бешено стучало и звенело, и он не мог понять, биение ли это крови в его жилах или тиканье часов на камине.
Мэй сидела, не шевелясь и не говоря ни слова, пока часы медленно отмеряли пять минут. Кусок угля упал на каминную решетку, и, услышав, как она встает и бросает его обратно, Арчер наконец обернулся и посмотрел ей в лицо.
— Этого не может быть! — воскликнул он.
— Не может быть?
— Откуда ты знаешь… то, что ты мне сейчас сказала?
— Я вчера виделась с Эллен — я же говорила тебе, что встретила ее у бабушки.
— Но ведь она тогда тебе этого не сказала?
— Нет, я сегодня получила от нее записку. Хочешь ее прочитать?
Он пытался ответить, но голос ему отказал; Мэй вышла из комнаты и почти тотчас же вернулась.
— Я думала, ты знаешь, — сказала она просто.
Она положила на стол листок бумаги, и Арчер протянул руку и взял его. Письмо состояло всего из нескольких строчек:
«Дорогая Мэй, мне наконец удалось объяснить бабушке, что мой визит к ней не мог быть не чем иным, как визитом, и она, как всегда, была щедра и великодушна. Она теперь понимает, что, если я вернусь в Европу, я должна жить одна или с бедной тетей Медорой, которая едет со мной. Я спешу обратно в Вашингтон, чтобы уложить вещи, и на будущей неделе мы отплываем. Ты должна быть очень добра к бабушке, когда я уеду, — так же, как ты всегда была добра ко мне.
Эллен.
Если кто-нибудь из моих друзей захочет убедить меня изменить мое решение, пожалуйста, передай им, что это совершенно бесполезно».
Арчер перечитал письмо два или три раза, потом бросил его и расхохотался.
От звуков собственного смеха ему стало не по себе. Он вспомнил ночной испуг Джейни, когда она застала его в приступе непостижимой веселости по поводу телеграммы Мэй, извещавшей, что их свадьбу решено ускорить.
— Почему она это написала? — спросил он, невероятным усилием подавляя смех.
Мэй ответила на этот вопрос со своей непоколебимой прямотой.
— Наверное, потому, что вчера мы все обсудили… — Что вы обсудили?
— Я сказала, что, вероятно, была к ней несправедлива… что не всегда понимала, как ей трудно здесь, одной среди стольких людей, пусть даже родственников, но все равно чужих, которые считали себя вправе осуждать, хотя и не всегда знали обстоятельства… — Она умолкла. — Я знаю, что ты был единственным другом, на которого она всегда могла рассчитывать, и я хотела сказать ей, что мы с тобой единодушны… во всех наших чувствах.
Она поколебалась, словно ожидая, что он заговорит, и медленно добавила:
— Она поняла, почему мне надо было сказать ей это. Я думаю, она вообще все понимает.
Она подошла к Арчеру и, взяв его ледяную руку, порывисто прижала к своей щеке.
— У меня тоже разболелась голова; спокойной ночи, милый, — сказала она и пошла к дверям, а за ней волочился изорванный и перепачканный шлейф ее подвенечного платья.
33
Как с улыбкой сказала миссис Арчер, обращаясь к миссис Велланд, первый званый обед — большое событие в жизни каждой молодой пары. С тех пор как Ньюленд Арчеры зажили своим домом, у них часто бывали гости. Ньюленд любил позвать к обеду троих или четверых друзей, и Мэй, которая во всех домашних делах следовала примеру своей матери, принимала их с лучезарным радушием. Арчер вначале задавался вопросом, приглашала ли бы она кого-нибудь в дом, будучи предоставлена самой себе, но вскоре оставил попытки отделить ее подлинную сущность от внешней формы, которую сообщили ей воспитание и традиции. В Нью-Йорке считалось, что состоятельные пары должны часто принимать у себя, а на представительницу семейства Велландов, вышедшую замуж за одного из Арчеров, обычай налагал двойные обязательства.
Но званый обед со специально нанятым поваром, взятыми на время чужими лакеями, римский пунш, розы от Гендерсона[183] и меню на карточках с золотым обрезом — дело совершенно иное и не допускает легкомысленного к себе отношения. Вся разница именно и состоит в римском пунше, заметила миссис Арчер, и даже не столько в нем самом, сколько во всем, что ему сопутствует, а именно — дикая утка или водяная черепаха, два супа, горячее и холодное сладкое, полное декольте при коротких рукавах и соответственно именитые гости.
Когда молодая пара впервые рассылала приглашения от третьего лица, это событие всегда вызывало большой интерес, и даже самые искушенные и известные люди, общества которых все домогались, редко такие приглашения отклоняли. И тем не менее то обстоятельство, что ван дер Лайдены по просьбе Мэй остались в городе ради прощального обеда, который она давала в честь графини Оленской, было сочтено настоящим триумфом.
В этот достопамятный день свекровь и теща сидели в гостиной у Мэй. Миссис Арчер писала меню на карточках самого толстого бристольского картона с золотым обрезом из ювелирной лавки Тиффани,[184] а миссис Велланд распоряжалась расстановкой пальм и ламп.
Арчер, довольно поздно воротясь из конторы, застал их еще там. Его мать занималась именными карточками для стола, а теща раздумывала о том, можно ли выдвинуть вперед большой позолоченный диван и таким образом устроить еще один «укромный уголок» между окном и роялем.
Они сказали ему, что Мэй пошла в столовую посмотреть, как выглядят розы и адиантум в центре длинного стола и- удобно ли размещены конфеты в серебряных корзиночках между канделябрами. На рояле стояла большая корзина орхидей, которые мистер ван дер Лайден прислал из Скайтерклиффа. Словом, все было так, как и полагается в преддверии столь значительного события.
Миссис Арчер задумчиво пробежала глазами список, отмечая каждую фамилию острым золотым пером.
— Генри ван дер Лайден, Луиза, Лавел Минготты, Реджи Чиверсы, Лоренс Леффертс и Гертруда (да, я думаю, Мэй правильно поступила, что позвала их), Селфридж Мерри, Силлертон Джексон, Вэн Ньюленд с женой (как быстро бежит время! Кажется, только вчера он был твоим шафером, Ньюленд) и графиня Оленская… да, пожалуй, все…
Миссис Велланд ласково посмотрела на зятя.
— Никто не сможет отрицать, что вы с Мэй устроили Эллен прекрасные проводы, Ньюленд.
— Конечно, — сказала миссис Арчер, — мне кажется, Мэй хочет, чтобы ее кузина рассказала за границей, что мы не совсем варвары.
— Я уверена, что Эллен это оценит. Она, кажется, должна была приехать сегодня утром. У нее останется прелестное воспоминание. Вечером накануне отплытия всегда так тоскливо, — весело продолжала миссис Велланд.
Арчер повернулся к дверям, и теща крикнула ему вслед:
— Зайдите полюбоваться столом. И не разрешайте Мэй слишком уставать.
Но он притворился, будто не расслышал, и быстро взбежал по лестнице К себе в библиотеку. Комната взглянула на него словно чужая физиономия, скорчившая вежливую мину, и он заметил, что ее безжалостно «прибрали» и подготовили, согласно заранее обдуманному плану расставив пепельницы и шкатулки из кедрового дерева, чтобы джентльменам было удобно здесь курить.
«Пускай, — подумал он, — все это ненадолго…» — и отправился в свою туалетную комнату.
Прошло десять дней со времени отъезда госпожи Оленской из Нью-Йорка. За эти десять дней она никак не дала о себе знать, если не считать того, что Арчер получил обратно ключ, который был завернут в папиросную бумагу и отправлен к нему в контору в запечатанном конверте с надписанным ее рукою адресом. Этот ответ на его последнюю просьбу можно было истолковать как классический ход в знакомой игре, но молодой человек предпочел придать ему иное значение. Эллен все еще борется с судьбой, но, хоть она и уезжает в Европу, она не возвращается к мужу. Поэтому ничто не мешает ему последовать за нею, и, если он сделает бесповоротный шаг и докажет ей, что шаг этот и в самом деле бесповоротный, она — он был в этом уверен — его не прогонит.
Такая уверенность в будущем помогла Арчеру спокойно играть свою роль в настоящем. Она помешала ему написать ей или каким-либо иным знаком или намеком обнаружить свое разочарование и тоску. Ему казалось, что в их убийственной молчаливой игре козыри все еще у него на руках, и он терпеливо ждал.
Бывали, однако, довольно тягостные минуты, как, например, на следующий день после отъезда госпожи Оленской, когда мистер Леттерблер пригласил его обсудить детали доверенности на распоряжение имуществом, которую миссис Мэнсон Минготт пожелала выдать своей внучке. Арчер часа два изучал документ со своим старшим партнером, и все это время его не покидало смутное ощущение, что если с ним советуются, то отнюдь не по вполне естественной причине родства, и что в конце обсуждения истинная причина непременно раскроется.
— Ну что ж, графиня не может отрицать, что это справедливое решение вопроса, — закончил мистер Леттерблер, невнятно прочитав краткое резюме акта о распоряжении имуществом. — Вообще я должен сказать, что с нею обошлись по всей справедливости.
— По всей справедливости? — несколько иронически повторил Арчер. — Вы имеете в виду предложение ее мужа вернуть ей ее же собственные деньги?
Густые, мохнатые брови мистера Леттерблера поднялись на какую-то долю дюйма.
— Закон есть закон, мой милый, а кузина вашей супруги вступила в брак по французским законам. Следует исходить из предположения, что она знала, что это означает.
— Даже если она знала, то последующие события… — Но тут Арчер умолк. Мистер Леттерблер приложил ручку пера к своему морщинистому носу и посмотрел вниз на его кончик с тем выражением, какое обычно принимают добропорядочные пожилые джентльмены, желая внушить младшим, что неведение отнюдь не добродетель.
— Милостивый государь, я вовсе не хочу оправдывать проступки графа, но… с другой стороны… я бы не дал свою голову на отсечение… что это, если можно так выразиться, не око за око… при участии молодого ходатая… — Мистер Леттерблер отпер ящик стола и положил перед Арчером сложенный лист бумаги. — Вот донесение, итог осторожного наведения справок… — И так как Арчер не сделал попытки ни взглянуть на бумагу, ни отвергнуть предположение, адвокат уже более категорично продолжал: — Заметьте, я не утверждаю, что итог этот неопровержим, далеко нет. Но мелочи порой бывают очень весомы… и вообще, все стороны в высшей степени удовлетворены столь достойным разрешением вопроса.
— О да, в высшей степени, — согласился Арчер, отодвигая от себя бумагу.
Два дня спустя, когда его пригласила к себе миссис Мэнсон Минготт, ему пришлось выдержать еще более тяжкое испытание.
Он нашел старуху удрученной и ворчливой.
— Вы знаете, что она меня бросает? — без всяких предисловий начала она и, не дожидаясь ответа, продолжала: — О, не спрашивайте почему! У нее нашлось столько причин, что я их все позабыла. Мое личное мнение, что она просто боялась умереть со скуки. По крайней мере так думает Августа и мои невестки. И я не уверена, что я всецело ее осуждаю. Оленский — законченный негодяй, но жизнь с ним, наверное, была много веселее, чем на Пятой авеню. Конечно, мои родственники этого не признают, они воображают, будто Пятая авеню — это рай земной и рю де ла Пэ в придачу. А бедная Эллен, конечно, и не думает возвращаться к мужу. В этом она была тверда, как всегда. И потому она поселится в Париже с этой безмозглой Медорой… Разумеется, Париж есть Париж, и там можно буквально за какие-то гроши держать карету. Но она была весела как птичка, и я буду очень без нее скучать… — Две слезинки, скупые старческие слезинки скатились по ее одутловатым щекам и исчезли в необъятных складках ее груди.
— Единственное, чего я прошу, — в заключение сказала она, — это чтоб меня оставили в покое. Пусть мне наконец позволят переваривать мою кашу… — и она с грустным огоньком в глазах взглянула на Арчера.
Именно в этот вечер, когда он приехал домой, Мэй объявила ему о своем намерении дать прощальный обед в честь двоюродной сестры. Со дня бегства госпожи Оленской в Вашингтон они ни разу не произнесли ее имени, и Арчер удивленно посмотрел на жену.
— Обед… зачем? — спросил он. Она вспыхнула.
— Но ведь Эллен тебе нравится. Я думала, что ты будешь доволен.
— Очень мило с твоей стороны. Но я, право, не вижу…
— Я непременно это сделаю, Ньюленд, — сказала она, спокойно вставая, и подходя к своему письменному столу. — Приглашения уже написаны. Мама помогла мне — она тоже считает, что мы обязаны это сделать.
Она умолкла, смущенно улыбаясь, и Арчер вдруг увидел перед собой воплощенный образ семьи.
— Ну, хорошо, — сказал он, невидящими глазами глядя на список гостей, который она вложила ему в руку.
Когда он незадолго до обеда вошел в гостиную, Мэй стояла, наклонясь над камином и пытаясь заставить поленья гореть в непривычном для них окружении безукоризненно вычищенных изразцов.
Все высокие лампы были зажжены, и повсюду красовались орхидеи мистера ван дер Лайдена в разнообразных вместилищах из новомодного фарфора и серебра с шишечками. Гостиная миссис Ньюленд Арчер была единодушно признана великолепной. Позолоченная бамбуковая жардиньерка, в которой аккуратно обновлялись примулы и цинерарии, закрывала доступ к фонарю (где любители старины предпочли бы видеть уменьшенную бронзовую копию Венеры Милосской), обитые светлой парчой кресла и кушетки были картинно размещены вокруг обтянутых плюшем столиков, тесно уставленных серебряными безделушками, фарфоровыми зверьками и фотографиями в рамках с цветочным орнаментом, а среди пальм, словно тропические цветы, высились лампы с абажурами в форме роз.
— Эллен, наверное, ни разу не видела эту комнату при полном освещении, — сказала Мэй, поднимая разгоряченное единоборством с поленьями лицо и окидывая комнату сияющим вполне простительною гордостью взглядом. Грохот от падения медных щипцов, которые она прислонила к камину, заглушил ответ Арчера, и не успел он водворить их на место, как доложили о прибытии мистера и миссис ван дер Лайден.
За ними последовали остальные — все знали, что ван дер Лайдены не любят, когда обед запаздывает. Комната быстро наполнилась гостями, и Арчер как раз показывал миссис Селфридж Мерри маленькую, покрытую густым слоем лака картину Вербекховена[185] «Этюд с овцами», которую миссис Велланд подарила Мэй на рождество, когда рядом с ним очутилась госпожа Оленская.
Она была очень бледна, и от этого ее темные волосы казались еще более темными и густыми, чем обычно. Эта бледность или, быть может, несколько рядов янтарных бус у нее на шее вдруг напомнили ему маленькую Эллен Минготт, с которой он танцевал на детских праздниках, когда Медора Мэнсон впервые привезла ее в Нью-Йорк.
Оттого, что янтарные бусы никак не гармонировали с цветом ее лица, или оттого, что платье совершенно к ней не шло, лицо ее казалось поблекшим и почти уродливым, но он еще никогда не любил его так, как в эту минуту. Руки их встретились, и ему показалось, будто он услышал, как она сказала: «Да, мы отплываем завтра на „России“…» Потом раздался шум открываемой двери и после короткой паузы голос Мэй:
— Ньюленд! Обед подан! Будь добр, проводи, пожалуйста, Эллен в столовую.
Госпожа Оленская взяла его под руку, и, заметив, что она без перчаток, он вспомнил, как не сводил глаз с ее руки в тот вечер, когда сидел в маленькой гостиной на 23-й улице. Красота, которая покинула ее лицо, казалось, нашла прибежище в лежавших у него на рукаве длинных белых пальцах с еле заметными ямочками, и он сказал себе: «Я готов следовать за нею хотя бы для того только, чтобы смотреть на эту руку…»
Лишь на званом обеде в честь «иностранной гостьи» миссис ван дер Лайден могла смириться с тем, что ее посадили по левую руку хозяина. То обстоятельство, что госпожа Оленская — «иностранка», едва ли можно было подчеркнуть более убедительно, нежели этой прощальной данью, и миссис ван дер Лайден приняла отведенное ей второстепенное место с любезностью, не оставлявшей сомнений, что она это одобряет. Есть вещи, которые необходимо делать, а уж если делать, то делать их надо прилично и достойно — и одна из этих вещей, согласно законам старого Нью-Йорка, состояла в том, что весь клан должен сплотиться вокруг родственницы, которая из него изгонялась. Теперь, когда билет в Европу для графини Оленской был заказан и оплачен, Велланды и Минготты готовы были сделать все на свете, чтоб доказать свою неизменную к ней привязанность, и Арчер, сидя во главе своего стола, дивился тому, как они изо всех сил стараются вернуть ей былой успех, заглушить порицания, посетовать по поводу ее прошлого и озарить одобрением семьи ее настоящее. Миссис ван дер Лайден смотрела на нее со смутно благожелательной улыбкой, выражающей наивысшую степень сердечности, на какую она была способна, а мистер ван дер Лайден со своего места по правую руку Мэй оглядывал стол с очевидным намерением оправдаться за все те гвоздики, которые он присылал ей из Скайтерклиффа.
Арчер, который, казалось, помогал разыгрывать эту сцену, в состоянии странной невесомости витая где-то между люстрой и потолком, всего более удивлялся собственному участию в происходящем. Когда взгляд его переходил с одной безмятежной и сытой физиономии на другую, все эти безобидные с виду люди, уписывающие жареную утку за столом Мэй, представлялись ему шайкой безмолвных заговорщиков, а сам он и бледная женщина справа от него — жертвами их заговора. И, подобно тому как бесчисленные мелкие преломленные лучи, соединившись воедино, внезапно вспыхивают во мгле, его вдруг осенило, что, с их точки зрения, он и госпожа Оленская — любовники, любовники в том недвусмысленном значении, какое это слово имеет в «иностранных» словарях. Он догадался, что уже много месяцев на него смотрит бесчисленное множество тихих внимательных глаз, что к нему терпеливо прислушивается множество ушей; он понял, что каким-то еще неизвестным ему образом его разлучили с соучастницей его преступления и что весь клан сплотился вокруг его жены, молча притворяясь, будто никто ничего не знает, ничего даже и представить себе не может и что поводом для обеда послужило всего лишь естественное желание Мэй сердечно проститься со своей любимой подругой и кузиной.
Это был испытанный в старом Нью-Йорке способ лишать жизни «без пролития крови», способ, принятый людьми, которые боялись скандала пуще чумы, которые ставили приличия выше смелости и считали, что нет ничего более неблаговоспитанного, чем «сцены», — разве что поведение тех, кто дает к ним повод.
Обуреваемый этими мыслями, Арчер чувствовал себя как пленник в вооруженном лагере врагов. Он оглядел стол и, увидев, как его тюремщики, смакуя спаржу из Флориды, расправляются с Бофортом и его женой, понял, до чего они безжалостны. «Они хотят показать мне, что будет со мной», — подумал он, и, когда он осознал, насколько намек и аналогия действеннее поступков, а молчание действеннее необдуманных речей, его охватил такой ужас, словно за ним захлопнулись двери фамильного склепа.
Он засмеялся и встретил испуганный взгляд миссис ван дер Лайден.
— Вы находите это смешным? — с принужденной улыбкой сказала она. — Конечно, я согласна, что намерение бедной Регины остаться в Нью-Йорке имеет свою смешную сторону.
И Арчер пробормотал:
— Да, да, конечно.
Тут он заметил, что второй сосед госпожи Оленской уже некоторое время занят беседой с дамой справа от него. Одновременно он увидел, что Мэй, безмятежно восседавшая между мистером ван дер Лайденом и мистером Селфриджем Мерри, окинула быстрым взглядом стол. Было совершенно очевидно, что хозяин и его соседка справа не могут провести весь обед в молчании. Он повернулся к госпоже Оленской и встретил ее бледную улыбку. «О, будем стойко держаться до конца», — казалось, говорила она.
— Путешествие вас не утомило? — спросил он голосом, который испугал его самого своею естественностью, и она ответила, что, нет, напротив, ей редко приходилось путешествовать с таким комфортом.
— Если не считать страшной жары в поезде, — добавила она, и он заметил, что там, куда она едет, ей не придется страдать от жары.
— Я никогда в жизни не мерз так сильно, как однажды в поезде между Кале и Парижем, — громко и отчетливо объявил он.
Она отвечала, что в этом нет ничего удивительного, но ведь всегда можно захватить с собою лишний плед, что все путешествия сопряжены с трудностями, и он отрывисто возразил, что, на его взгляд, все они ничего не стоят по сравнению с блаженным ощущением отъезда. Она покраснела, а он, неожиданно повысив голос, добавил:
— Я тоже скоро собираюсь отправиться в путешествие.
По лицу ее пробежала дрожь, и Арчер, перегнувшись к Реджи Чиверсу, воскликнул:
— Послушай, Реджи, что ты думаешь о кругосветном путешествии — сейчас, то есть я хочу сказать, в будущем месяце? Если ты. согласен, я не прочь… — на что мисс Реджи пропищала, что она не может отпустить Реджи до благотворительного бала имени Марты Вашингтон, который она собирается дать в пользу приюта для слепых на пасхальной неделе, а муж ее безмятежно возразил, что в это время он как раз начнет готовиться к международному матчу по водному поло.
Однако мистер Селфридж Мерри уловил слова «кругосветное путешествие» и, так как он однажды объехал на своей паровой яхте весь земной шар, воспользовался случаем отпустить несколько колких замечаний касательно мелководья в средиземноморских портах. Впрочем, добавил он, это, в конце концов, не имеет значения, ибо, когда вы осмотрели Афины, Смирну и Константинополь, что еще остается? А миссис Мерри сказала, что всю жизнь будет благодарна доктору Бенкоуму за то, что он взял с них обещание не ездить в Неаполь из-за тамошней лихорадки.
— Но чтобы как следует осмотреть Индию, нужно три недели, — признал ее муж, изо всех сил желая показать, что он не какой-нибудь легкомысленный зевака.
И тут дамы удалились наверх в гостиную.
В библиотеке, несмотря на присутствие более значительных лиц, главенствующее место занял Лоренс Леффертс.
Разговор, как и следовало ожидать, перешел на Бофортов, и даже мистер ван дер Лайден и мистер Селфридж Мерри, поместившиеся в почетных креслах, молчаливо им предоставленных, умолкли, чтобы выслушать филиппику молодого человека.
Леффертс никогда еще не был до такой степени обуреваем чувствами, которые сделали бы честь любому доброму христианину, и не возносил на такую высоту святость домашнего очага. Негодование придало язвительность его красноречию, и было совершенно очевидно, что если бы другие следовали его примеру и поступали так, как он говорил, общество никогда не выказало бы такой слабости, чтобы принять в свое лоно иностранного выскочку вроДе Бофорта, — нет, сэр, даже если бы он женился на девице из семейства Лэннингов или ван дер Лайденов, а не Далласов. А откуда у него явилась бы возможность породниться с таким семейством, как Далласы, гневно вопрошал Леффертс, если б он предварительно не пролез в некоторые дома, подобно тому как люди вроде миссис Лемюэл Стразерс сумели пролезть туда вслед за ним? Если общество открывает доступ вульгарным женщинам, вред еще не так велик, хотя польза весьма сомнительна, но стоит ему начать терпимо относиться к мужчинам неизвестного происхождения, обладателям запятнанных грязью богатств, оно кончит полным распадом — и притом в недалеком будущем.
— Если дело и дальше пойдет таким быстрым ходом, — гремел Леффертс с видом юного пророка, который одевается у лучшего портного и которого еще не успели забросать камнями, — мы доживем до того времени, когда наши дети станут драться за приглашения в дома проходимцев и жениться на бофортовских ублюдках.
— Ну, это уж слишком! — вмешались Реджи Чиверс и молодой Вэн Ньюленд, между тем как мистер Селфридж Мерри, казалось, не на шутку встревожился, а чувствительное чело мистера ван дер Лайдена исказилось гри. масой горечи и отвращения.
— Разве они у него есть? — спросил мистер Силлертон Джексон, навострив уши, а когда Леффертс попытался обратить все в шутку, старик прощебетал на ухо Арчеру: — Ох уж эти блюстители порядка! Люди, которые держат самых скверных поваров, вечно твердят, что стоит им пообедать вне дома, как у них тотчас портится желудок. Однако ходят слухи, что у нашего друга Леффертса имеются веские основания для его диатрибы — на этот раз какая-то барышня-машинистка…
Разговор проносился мимо Арчера подобно бессмысленной реке, которая бежит и бежит, потому что не знает, как остановиться. Он видел на лицах окружающих выражение интереса, удовольствия и даже радости. Он слышал смех молодых людей и похвалы арчеровской мадере, которую степенно превозносили мистер ван дер Лайден и мистер Селфридж Мерри. Во всем этом он смутно различал общее дружеское расположение к своей персоне, словно тюремщики пытались облегчить неволю узнику, каким он себя чувствовал, и это ощущение еще больше усиливало его отчаянную решимость вырваться на свободу.
В гостиной, где они вскоре присоединились к дамам, его встретил торжествующий взгляд Мэй, в котором он прочитал уверенность, что все идет великолепно. Она покинула госпожу Оленскую, и миссис ван дер Лайден тотчас же знаком пригласила последнюю занять место на позолоченной кушетке, где она восседала. Миссис Селфридж Мерри перешла через комнату, чтобы к ним присоединиться, и Арчеру стало ясно, что здесь тоже составился заговор с целью восстановить доброе имя Эллен и навсегда предать ее забвению. Его молчаливый, тесно спаянный мирок вознамерился во что бы то ни стало дать понять, что он никогда ни на минуту не ставил под сомнение ни добропорядочность госпожи Оленской, ни полноту семейного счастья Арчера. Все эти любезные и непреклонные особы изо всех сил делали друг перед другом вид, будто они никогда не слышали, не подозревали и даже помыслить ни о чем другом не могут, и из этих хитросплетений тщательно продуманного взаимного притворства Арчер снова извлек то обстоятельство, что Нью-Йорк считает его любовником госпожи Оленской. Он уловил победоносный блеск в глазах жены и впервые понял, что и она разделяет это убеждение. Открытие это вызвало хохот сидящих внутри у Арчера демонов, хохот, раскаты которого сопровождали все его попытки обсудить бал имени Марты Вашингтон[186] с миссис Реджи Чиверс и маленькой миссис Ньюленд, и так тянулся вечер — он все бежал и бежал, подобно бессмысленной реке, которая не знает, как остановиться.
Наконец Арчер увидел, что госпожа Оленская встает и прощается. Он понял, что она сейчас уедет, и попытался вспомнить, что сказал ей за обедом, но не мог восстановить в памяти ни единого слова из их разговора.
Она направилась к Мэй, и вся компания тотчас же их окружила. Обе молодые женщины пожали друг другу руки; потом Мэй наклонилась и поцеловала двоюродную сестру.
— Конечно, наша хозяйка гораздо красивее, — шепнул Реджи Чиверс молодой миссис Ньюленд, и, услышав это, Арчер вспомнил грубую остроту Бофорта насчет никому не нужной красоты Мэй.
Спустя мгновение он был уже в прихожей и набрасывал на плечи госпожи Оленской ее пелерину.
Хотя мысли его мешались, он твердо держался своего решения не сказать ничего такого, что могло бы ее испугать или встревожить. Уверенный, что ничто на свете не может теперь отвратить его от цели, он нашел в себе силы предоставить событиям идти своим чередом. Однако, когда он сопровождал госпожу Оленскую в прихожую, им внезапно овладело страстное желание хоть на секунду остаться с нею наедине у дверцы ее кареты.
— Ваша карета здесь? — спросил он, и тут миссис ван дер Лайден, которую облачали в ее царственные соболя, ласково сказала:
— Мы отвезем милую Эллен домой.
У Арчера дрогнуло сердце, и госпожа Оленская, придерживая одной рукою пелерину и веер, протянула ему другую руку.
— До свидания, — сказала она.
— До свидания, но я скоро увижусь с вами в Париже, — ответил он так громко, что ему показалось, будто он кричит.
— О, — прошептала она, — если бы вы с Мэй могли приехать!..
Мистер ван дер Лайден подошел подать ей руку, и Арчер повернулся к миссис ван дер Лайден. На мгновение в зыбкой тьме внутри большого ландо перед ним смутно мелькнул овал ее лица и ровный блеск глаз — и она уехала.
Поднимаясь по лестнице, он встретил Леффертса, который спускался вниз вместе с женой. Леффертс схватил хозяина за рукав и, отведя его назад, чтобы пропустить Гертруду, сказал:
— Послушай, старина, ты не против, если я скажу, что завтра вечером обедаю с тобой в клубе? Большое спасибо, дружище! Спокойной ночи.
— Все прошло великолепно, правда? — раздался голос Мэй с порога библиотеки.
Арчер вздрогнул и пришел в себя. Когда последняя карета уехала, он поднялся в библиотеку и закрыл за собою дверь, надеясь, что жена, задержавшаяся внизу, пойдет прямо к себе. Но вот она стояла перед ним, бледная и утомленная, но излучающая искусственную энергию, как человек, презревший усталость.
— Можно я зайду поговорить? — спросила она.
— Конечно. Но ведь тебе, наверное, ужасно хочется спать…
— Ничуть. Я хочу немножко посидеть с тобой.
— Прекрасно, — сказал он, подвигая ее кресло к огню. Мэй села, он снова опустился в кресло, и оба долго молчали. Наконец Арчер отрывисто начал:
— Раз ты не устала и хочешь поговорить, я должен что-то тебе сказать. Я пытался в тот вечер…
Она бросила на него быстрый взгляд.
— Да, милый. Ты хотел сказать что-то о себе?
— О себе. Ты говоришь, что не устала. Зато я устал. Смертельно устал…
Не успел он это произнести, как на лице ее изобразилась нежная тревога.
— О, я давно это вижу, Ньюленд! На тебя взваливают столько работы…
— Возможно. Во всяком случае, я хочу переменить обстановку…
— Переменить обстановку? Ты хочешь отказаться от занятий юриспруденцией?
— Я хочу уехать, и притом немедленно. В длительное путешествие, как можно дальше от всего..
Он остановился, чувствуя, что ему не удалось сказать это с безразличием человека, жаждущего перемены, но слишком усталого, чтобы ей радоваться. Как он ни старался, в голосе его звенело нетерпение.
— Как можно дальше от всего, — повторил он.
— Как можно дальше? Куда же?
— О, право, не знаю. В Индию или в Японию.
Она встала, и, так как он сидел, склонив голову и опершись подбородком на руки, он, не видя ее, ощутил рядом с собою ее благоухание и тепло.
— В такую даль? Но я боюсь, что ты не сможешь, милый… — неуверенно произнесла Мэй. — Разве только ты возьмешь меня с собой. — Видя, что он молчит, она продолжала голосом, таким ясным и ровным, что каждый отдельный слог, точно стук маленького молоточка, отдавался у него в мозгу. — То есть если доктора разрешат мне ехать… но я боюсь, они не разрешат… Дело в том, Ньюленд, что я сегодня утром убедилась в чем-то, на что я так надеялась и о чем так мечтала…
Он с тоской посмотрел на нее, и она, зардевшись, словно роза, омытая росой, опустилась на пол и спрятала лицо у него в коленях.
— О, дорогая, — сказал он, прижав ее к себе и холодной рукой гладя ей волосы.
Наступила долгая пауза, которую сидевшие у него внутри демоны заполнили скрипучим смехом; потом Мэй высвободилась из его объятий и встала.
— Ты не догадывался?
— Да… нет. То есть я, конечно, надеялся… Какое-то мгновенье они смотрели друг на друга, потом снова умолкли, и, отвернувшись от жены, Арчер отрывисто спросил:
— Ты еще кому-нибудь об этом говорила?
— Только моей и твоей маме, — она покраснела до корней волос и поспешно добавила: — То есть еще Эллен. Помнишь, я рассказывала тебе, что у нас с ней однажды был долгий разговор и что она была такая милая.
— А… — сказал Арчер, и у него остановилось сердце. Он почувствовал, что жена внимательно на него смотрит.
— Ньюленд, ты не обиделся, что я сказала ей раньше, чем тебе?
— Обиделся? Почему? — сказал он, делая последнюю попытку взять себя в руки. — Но ведь это было две недели назад? А ты, кажется, сказала, что не была уверена до сегодняшнего дня.
Она покраснела еще сильнее, но стойко выдержала его взгляд.
— Да, в тот день я еще не была уверена… но ей я сказала, что уверена. И теперь ты видишь, что я была права! — воскликнула она, и в голубых глазах ее блеснули слезы торжества.
34
Ньюленд Арчер отдел за письменным столом в своей библиотеке на Восточной 39-й улице. Он только что вернулся с официального приема по случаю открытия новых галерей в Метрополитен-музее, и при виде этих огромных помещений, заполненных трофеями многих веков, где среди научно каталогизированных сокровищ сновали фешенебельные толпы, ему почудилось, словно в его памяти внезапно раскрутилась какая-то заржавленная пружина.
— Да ведь это одна из тех комнат, где хранилась коллекция древностей Чеснолы, — услыхал он чье-то замечание, и вдруг все окружающее исчезло, и он снова сидел один на жестком кожаном диване возле калорифера, между тем как стройная фигурка в длинной котиковой пелерине уходила вдаль по пустынной анфиладе старого музея.
Это видение вызвало целый сонм других воспоминаний, и он оглядел новыми глазами свою библиотеку, которая уже свыше тридцати лет была местом его одиноких раздумий и всех дружеских семейных разговоров.
В этой комбате разыгрывалась большая часть событий его жизни. Здесь его жена почти двадцать шесть лет назад со смущением, которое, несомненно, вызвало бы улыбку у современных молодых женщин, краснея и запинаясь, поведала ему, что она ждет ребенка; здесь их старшего сына Далласа, которого из-за слабого здоровья нельзя было среди зимы везти в церковь, крестил их старинный друг епископ Нью-Йоркский, представительный, величественный, незаменимый епископ, краса и гордость всей епархии. Здесь Даллас в первый раз проковылял по полу с криком: «Папа!», между тем как Мэй с няней смеялись за дверью; здесь их дочь Мэри (так похожая на мать) объявила о своей помолвке с самым скучным и самым положительным из многочисленных сыновей Реджи Чиверса, и здесь Арчер поцеловал ее сквозь свадебную вуаль, перед тем как жених и невеста спустились вниз и сели в автомобиль, который должен был отвезти их в церковь Милости господней — ибо в мире, где пошатнулись все основы, свадьба в церкви Милости господней все еще оставалась незыблемым установлением.
Именно здесь, в библиотеке, они с Мэй всегда беседовали о будущем детей: о занятиях Далласа и его младшего брата Билла, о неизлечимом безразличии Мэри к «внешнему светскому лоску» и о ее пристрастии к филантропии и спорту, а также о смутной тяге к «искусству», которая в конце концов привела неугомонного и любознательного Далласа в мастерскую видного нью-йоркского архитектора.
В нынешние времена молодые люди эмансипировались от юриспруденции и бизнеса и пробовали свои силы во всевозможных новых сферах. Если они не были поглощены политикой и муниципальными реформами, то скорее всего следовало ожидать, что они займутся археологией Центральной Америки или декоративным садоводством, со знанием дела углубятся в изучение дореволюционной архитектуры своей родной страны, пытаясь изучить и приспособить к местным условиям георгианскую архитектуру XVIII века[187] и протестуя против бессмысленного употребления термина «колониальный». Нынче домов в «колониальном стиле» не было ни у кого, кроме миллионеров-бакалейщиков в предместьях.
Но самое главное (Арчер иногда считал это самым главным), именно здесь, в этой библиотеке, губернатор штата Нью-Йорк — он как-то вечером приехал из Олбани к обеду и остался ночевать — стуча кулаками по столу и поблескивая очками, заявил хозяину дома:
— К черту профессиональных политиков! Вы, Арчер, один из тех людей, в которых нуждается страна! Если эту конюшню когда-нибудь суждено расчистить, за работу должны взяться такие люди, как вы.
«Такие люди, как вы…» — как взволновали Арчера эти слова! С каким пылом откликнулся он на них! Это был отзвук давнишнего призыва Неда Уинсетта засучить рукава и окунуться прямо в грязь, но теперь слова эти произнес человек, который сам показал всем пример и на зов которого просто нельзя было не откликнуться.
Оглядываясь назад, Арчер сомневался, действительно ли страна нуждалась в таких людях, как он, — во всяком случае, в области активной политической деятельности, которую имел в виду Теодор Рузвельт;[188] напротив, у него были все основания полагать, что она в них отнюдь не нуждалась, ибо, пройдя в законодательное собрание штата, он через год не был переизбран, с удовольствием вновь погрузился в безвестность и занялся незаметной, хотя и полезной работой в городском самоуправлении, которую, в свою очередь, сменил на сочинение статей для одного из реформистских еженедельников, пытавшихся пробудить страну от спячки. Да, особенно гордиться было нечем, но, когда он вспомнил, какое будущее ожидало молодых людей его поколения и его круга — узкая колея наживы, спорта и светского общества, коим ограничивался весь их кругозор, — то даже его скромный вклад в новый порядок имел, казалось, некоторый вес, подобно тому как каждый отдельный кирпич имеет вес в добротно выложенной стене. Он мало сделал в общественной жизни — ибо по самой своей природе всегда был и останется созерцателем и дилетантом, — но он созерцал великие дела, восхищался высокими идеалами, гордился своей дружбой с одним великим человеком и черпал в ней силы.
Короче говоря, он был из тех, кого стали называть «добрыми гражданами». В Нью-Йорке уже много лет ни одно новое начинание, будь то в области филантропии, местного самоуправления или искусства, не обходилось без его совета и поддержки. Когда возникала мысль о создании первой школы для детей-калек, о преобразовании Художественного музея, об основании клуба Гролье,[189] открытии новой библиотеки или учреждении нового общества камерной музыки, люди говорили: «Спросите Арчера». Дни его были заполнены делом, и делом благородным. А о большем человеку не приходится и мечтать.
Однако он знал: в его жизни недоставало душевной гармонии. Впрочем, теперь ему было ясно — это вещь совершенно немыслимая и недостижимая, и потому роптать— все равно что отчаиваться по поводу проигрыша в лотерее. В этой лотерее было сто миллионов билетов, и только один выигрыш, а шансов у него не было решительно никаких. Если он думал об Эллен Оленской, то лишь отвлеченно и безмятежно, как можно думать о некоей идеальной возлюбленной из книги или с картины — она сделалась как бы собирательным образом всего, чего ему недоставало. Этот образ, смутный и едва различимый, удерживал его от мыслей о других женщинах. Арчер был верным мужем, и, когда Мэй внезапно скончалась, заразившись инфекционной пневмонией от младшего сына, за которым она ухаживала, он искренне ее оплакивал. Их долгая совместная жизнь показала ему: пусть брак и скучное исполнение долга, важно, чтобы он сохранял присущее чувству долга достоинство, ибо стоит этим поступиться, как брак тотчас же превращается в борьбу низменных страстей. Оглядываясь вокруг, Ньюленд чтил свое прошлое и оплакивал его. В конце концов, в старых обычаях было много хорошего.
Глаза его, обведя комнату, которую Даллас украсил английскими гравюрами «меццо-тинто»,[190] шифоньерками в стиле «чиппендейл», тщательно подобранными образчиками синего с белым фарфора и электрическими лампами с уютными абажурами, вернулись к старомодному письменному столу в стиле «истлейк», с которым он ни за что не хотел расстаться, и к первой фотографии Мэй, которая по-прежнему стояла на своем обычном месте рядом с чернильницей.
Она смотрела на него, высокая, полногрудая и гибкая, в накрахмаленном кисейном платье и шляпе из итальянской соломки с опущенными полями — точь-в-точь такая, какой он видел ее в саду испанской миссии. И такой, какой он видел ее в тот день, она и осталась — никогда уже не поднимаясь до такого совершенства, но никогда и не опускаясь ниже — великодушной, верной, неутомимой, но настолько лишенной всякого воображения, настолько неспособной к духовному росту, что мир ее молодости развалился на куски и перестроился, а она этих перемен так никогда и не заметила. Благодаря этой стойкой и бодрой слепоте горизонт ее навсегда остался неизменным. Ее неспособность видеть перемены заставляла детей скрывать от нее свои взгляды точно так же, как Арчер скрывал от нее свои; отец и дети с самого начала лицемерно сделали вид, будто все остается, как было, и бессознательно составили нечто вроде невинного семейного заговора. И она умерла с уверенностью в том, что мир — прекрасное место, полное таких же любящих и гармоничных семей, как ее семья, и смиренно его покинула, ни на минуту не усомнившись, что при любых обстоятельствах Ньюленд будет прививать Далласу принципы и предрассудки родителей и что Даллас в свою очередь (когда Ньюленд последует за ней) передаст эти священные заветы маленькому Биллу. А в Мэри она была так же уверена, как в самой себе. И вот, вырвав маленького Билла из когтей смерти И поплатившись за это собственной жизнью, она удовлетворенно заняла свое место в фамильной усыпальнице Арчеров в церкви святого Марка, где уже покоилась миссис Арчер, надежно укрытая от страшной «тенденции», о существовании которой ее невестка никогда даже не узнала.
Против портрета Мэй стоял портрет ее дочери. Мэри Чиверс была такой же высокой и белокурой, как и ее мать, но талия у нее была широкая, грудь плоская, а сама она немного сутулилась, как того требовала изменчивая мода. Спортивные подвиги Мэри Чиверс были бы немыслимы при наличии талии объемом в двадцать дюймов, которую с такою легкостью охватывал лазурный шарф Мэй Арчер. И эта разница казалась символической — жизнь матери была перепоясана так же туго, как и ее фигура. Мэри, ничуть не менее светская и ничуть не более умная, жила, однако, более полноценной жизнью и придерживалась более широких взглядов. В новом порядке тоже были свои достоинства.
Зазвонил телефон, и Арчер, отвернувшись от фотографии, снял трубку. Как далеко они ушли от тех дней, когда единственным в Нью-Йорке средством связи были быстроногие мальчишки-рассыльные в куртках с медными пуговицами!
— Вас вызывает Чикаго.
А, это, наверное, Даллас — фирма послала его в Чикаго обсудить план дворца на берегу озера, который она собирается строить для молодого миллионера, полного передовых идей. По таким поручениям фирма всегда посылала Далласа.
— Алло, папа! Да, это Даллас. Послушай, как ты насчет того, чтобы отплыть во вторник? На «Мавритании». Ну да, в будущей вторник. Наш клиент хочет, чтобы я посмотрел кое-какие итальянские сады, прежде чем мы примем решение, и просит меня махнуть туда на ближайшем пароходе. К первому июня я должен быть здесь, — в трубке раздался веселый застенчивый смешок, — поэтому нам надо поторапливаться. Слушай, папа, мне требуется твоя помощь, пожалуйста, поедем.
Казалось, он говорил здесь, в комнате: голос звучал так близко и естественно, словно он сидел, развалясь в своем любимом кресле у камина. В другое время это не удивило бы Арчера, потому что междугородные переговоры по телефону стали не менее привычными, чем электрическое освещение и пятидневный переезд в Европу через Атлантический океан. Что его немного испугало, так это смех: ему все еще казалось чудом, что через все эти многие сотни миль — через горы, леса, реки, через прерии, через грохочущие города, где суетятся равнодушные миллионы, — смех Далласа мог сказать: «Конечно, я во что бы то ни стало должен вернуться к первому, потому что на пятое у нас с Фанни Бофорт назначена свадьба». Голос продолжал:
— Подумать? Нет, сэр, ни минуты. Ты должен сказать «да» сейчас же. Нет? Почему? Ты можешь привести хотя бы один разумный довод? Не можешь? Я так и знал. Значит, едем? Пожалуйста, завтра первым делом позвони в контору «Кьюнард»[191] и закажи обратный билет на пароход из Марселя. Ну, конечно, папа, ведь мы уже не сможем так часто бывать вместе. Чудесно! Я знал, что ты согласишься!
Чикаго дал отбой, и Арчер зашагал взад и вперед по комнате.
Они уже не смогут так часто бывать вместе. Да. мальчик прав. Конечно, и после свадьбы Далласа они еще не раз будут вместе — сама природа создала их добрыми товарищами, и Фанни Бофорт, что бы там о ней ни думать, вряд ли станет мешать их дружбе. Наоборот, насколько он успел ее узнать, она скорее присоединится к их компании. Однако прошлого не вернешь, теперь все будет по-другому, и, несмотря на всю его симпатию к будущей невестке, весьма соблазнительно воспользоваться этой последней возможностью побыть вдвоем с сыном.
И в самом деле, ничто не мешало ему это сделать, если не считать одной весьма серьезной причины — он утратил вкус к путешествиям. Мэй не любила сниматься с места без веских на то оснований, как, например, необходимость вывезти детей к морю или в горы; других причин для того, чтобы покидать дом на 39-й улице или удобные владения Велландов в Ньюпорте, она не могла себе даже и представить. Когда Даллас окончил университет, она сочла своим долгом предпринять шестимесячное путешествие, и вся семья совершила освященное обычаем турне по Англии, Швейцарии и Италии. Поскольку время было ограничено (никто не знал почему), во Францию они не поехали. Арчер вспомнил негодование Далласа, когда вместо Реймса и Шартра[192] ему предложили любоваться Монбланом, но Мэри с Биллом хотели лазать по горам — им уже надоело зевать, таскаясь по английским соборам вслед за старшим братом, и Мэй, всегда справедливая к детям, настояла на необходимости как-то примирить спортивные и артистические склонности. Она даже предложила мужу съездить с Далласом на две недели в Париж и присоединиться к ним на итальянских озерах после того, как они «осмотрят» Швейцарию, но Арчер отказался. «Будем держаться вместе», — сказал он, и лицо Мэй просветлело, когда она увидела, какой хороший пример он подает Далласу.
Но вот уже почти два года как она умерла, и нет смысла цепляться за прежние привычки. Дети настоятельно советовали ему путешествовать. Мэри Чиверс была убеждена, что ему полезно съездить за границу «посмотреть картинные галереи». Самая таинственность подобного лечения внушала ей тем большую уверенность в его действенности. Но Арчер обнаружил, что его удерживают привычки, воспоминания и неожиданная боязнь новизны.
Теперь, оглядываясь назад, на прошлое, он увидел, в какой глубокой колее он увяз. Хуже всего, что человек, неуклонно выполняющий свой долг, не может заниматься ничем другим. По крайней мере такого взгляда придерживались люди его поколения. Четкое разграничение добра и зла, честности и бесчестья, приличного и неприличного оставляло слишком мало простора для непредвиденного. Бывают минуты, когда воображение человека, так легко покоряющееся условиям, в которых он живет, внезапно взмывает над повседневностью, и тогда перед ним открываются долгие извилистые пути судьбы. Витая на этой высоте, Арчер мог только дивиться…
Что осталось от узкого мирка, в котором он вырос и чьи законы связывали его по рукам и ногам? Он вспомнил насмешливое пророчество бедняги Лоренса Леффертса, произнесенное много лет назад в этой самой комнате: «Если дела пойдут таким быстрым ходом, наши дети будут вступать в брак с бофортовскими ублюдками».
Именно это и собирался сделать старший сын Арчера, его гордость, его любимец, и никто не удивлялся, и никто его за это не корил. Даже тетя Джейни, которая все еще оставалась такой же, как в дни своей старообразной юности, вынула из розовой ваты материнские изумруды и мелкий жемчуг и трясущимися руками преподнесла их будущей невестке, а Фанни Бофорт, ничуть не огорчившись, что ей не подарили «гарнитур» работы какого-нибудь парижского ювелира, наоборот, пришла в восторг от их старинного изящества и объявила, что в них она будет чувствовать себя дамой с миниатюры Изабе.
Фанни Бофорт, которая появилась в Нью-Йорке в возрасте восемнадцати лет, после смерти своих родителей, покорила его почти так же, как госпожа Оленская тридцатью годами раньше, но, вместо того чтобы отнестись к ней с недоверием и страхом, общество беспечно приняло ее как должное. Она была хорошенькая, веселая и получила отличное воспитание — чего еще можно было желать? Никто не был столь ограничен, чтобы копаться в полузабытых обстоятельствах ее происхождения и прошлого ее отца. Только пожилые люди помнили такое незначительное происшествие в деловой жизни Нью-Йорка, как банкротство Бофорта, или что после смерти жены он без лишнего шума женился на небезызвестной Фанни Ринг и эмигрировал вместе со своею новой женой и маленькой дочкой, унаследовавшей красоту матери. Впоследствии доносились слухи о его пребывании в Константинополе, потом в России, а спустя еще лет десять он радушно принимал американских путешественников в Буэнос-Айресе, где был представителем крупного страхового агентства. Он и его жена жили там в полном достатке и благополучно скончались, и в один прекрасный день их осиротевшая дочь появилась в Нью-Йорке, где ее вверили попечению невестки Мэй Арчер, миссис Джек Велланд, муж которой был назначен опекуном девушки. Благодаря этому она сразу как бы вступила в родственные отношения с детьми Арчеров, и никто не удивился, когда было объявлено о ее помолвке с Далласом.
Ничто не могло яснее показать, насколько изменился мир. Теперь люди были слишком заняты — заняты реформами и «движениями», всякими культами, кумирами и кутерьмой, — чтобы чрезмерно интересоваться своими ближними. Да и какое значение может иметь чье-либо прошлое в гигантском калейдоскопе, где все общественные атомы вращаются в одной и той же плоскости?
Ньюленд Арчер, глядя из окна отеля на горделивое оживление парижских улиц, чувствовал в сердце волнение и жар молодости.
Сердце его давно уже не билось и не трепетало под его свободным жилетом с такою силой, словно оно вот-вот выскочит из груди, заставив кровь волною прилить К голове. Любопытно было бы узнать, ведет ли себя так же сердце его сына в присутствии Фанни Бофорт, подумал он и решил, что нет. «Оно, без сомнения, бьется не менее сильно, но совсем в ином ритме», — размышлял он, вспоминая холодную сдержанность, с которой молодой человек объявил о своей помолвке, считая само собою разумеющимся, что семья ее одобрит.
«Эта молодежь уверена, что она получит все, чего только пожелает, тогда как мы почти всегда были уверены, что не получим ничего, и в этом вся разница. Любопытно, однако, узнать, может ли сердце так бешено биться от чего-то, в чем человек уже заранее твердо уверен?»
Дело происходило назавтра после их приезда в Париж, и весеннее солнце удерживало Арчера у открытого окна, из которого открывался серебристый простор Вандомской площади. Единственное — почти единственное — условие, которое он поставил, когда согласился поехать с Далласом за границу, что его не заставят жить в одном из пресловутых новомодных «дворцов».
— Да, конечно, — добродушно согласился Даллас. — Мы поедем в какое-нибудь славное старомодное местечко — ну, скажем, в «Бристоль», — и отец его онемел, услышав, как вековую резиденцию императоров и королей нынче называют старомодным заведением, где останавливаются ради забавных неудобств и застарелого местного колорита.
В первые, беспокойные годы Арчер не раз мысленно рисовал себе картину своего возвращения в Париж, но постепенно мечты его тускнели, и он пытался увидеть город лишь как фон, на котором проходила жизнь госпожи Оленской. Ночами, одиноко сидя в библиотеке, когда все домашние давно уже спали, он воскрешал в памяти лучезарный приход весны на окаймленные каштанами проспекты, цветы и статуи в общественных садах, аромат сирени, несущийся с тележек цветочниц, величавое течение реки под большими мостами, толпу художников, артистов и студентов, до краев заполняющую все городские артерии. Теперь это зрелище во всем своем великолепии предстало его взору, и, любуясь им из окна, он чувствовал себя робким, старомодным, неполноценным — всего лишь жалкой серой тенью, ничем не похожей на того блестящего молодого человека, каким он некогда мечтал быть…
Даллас весело похлопал его по плечу.
— Ну как, папа! Правда, здорово? — Некоторое время они молча любовались видом, а потом молодой человек продолжал: — Кстати, у меня есть для тебя приятная новость — в половине шестого нас ждет графиня Оленская.
Он произнес это небрежно, равнодушно, словно сообщал что-то не особенно важное, например, в котором часу отходит завтра их поезд во Флоренцию. Арчер посмотрел на сына, и ему почудилось, будто в веселых глазах юноши блеснула озорная искорка его прабабушки Минготт.
— Разве я тебе не говорил? — продолжал Даллас— Я обещал Фанни сделать в Париже три вещи — раздобыть ей последние пьесы Дебюсси[193] в переложении для фортепьяно, сходить в Гранд-Гиньоль[194] и повидать госпожу Оленскую. Понимаешь, она столько сделала для Фанни, когда мистер Бофорт послал ее из Буэнос-Айреса в монастырский пансион Успения пресвятой девы. У Фанни не было ни друзей, ни знакомых в Париже, и госпожа Оленская была очень к ней добра и во время каникул показывала ей город. Она, кажется, дружила с первой миссис Бофорт, и потом она ведь нам родня. Сегодня утром перед уходом я ей позвонил и сказал, что мы с тобой здесь и хотим к ней зайти.
Арчер не сводил с него удивленного взгляда.
— Ты сказал ей, что я здесь?
— Конечно, почему же нет? — Даллас вопросительно поднял брови. Не получив ответа, он взял отца под руку и красноречиво стиснул ему плечо. — Слушай, папа, а какая она была?
Арчер почувствовал, как под бесцеремонным взглядом сына кровь бросилась ему в лицо.
— Да уж признайся, вы ведь с ней были большие друзья. Говорят, она была прехорошенькая.
— Прехорошенькая? Не знаю. Она была не такая, как все.
— Вот-вот, в этом-то все дело! Когда она является, она не такая, как все, и ты сам не знаешь почему. Точно так же и у меня с Фанни.
Отец отступил от него, высвобождая руку.
— С Фанни? Ну что ж, мой милый… я очень рад. Однако я не вижу…
— Да перестань, папа, что ты за ископаемое! Ведь она когда-то была… твоей Фанни, правда?
Даллас телом и душой принадлежал к новому поколению. Он был первенцем Ньюленда и Мэй Арчер, но никто никогда не мог внушить ему ни капли скромности. «Какой смысл из всего делать секреты? Это приводит лишь к тому, что люди стараются их разнюхать», — возражал он, когда его призывали к сдержанности. Однако теперь, встретив насмешливый взгляд сына, Арчер прочитал в нем сочувствие.
— Моей Фанни?
— Ну да, женщиной, ради которой ты готов был бросить все на свете… но только ты не бросил, — продолжал его непонятный сын.
— Нет, не бросил, — с некоторой торжественностью подтвердил Арчер.
— Да, старина, но мама сказала…
— Мама?
— Да, за день до смерти. Помнишь, она позвала к себе меня одного? Она сказала, что с тобой мы не пропадем, потому что очень давно, когда она тебя попросила, ты отказался от того, чего хотел больше всего на свете.
Арчер молча выслушал это странное сообщение. Невидящий взор его по-прежнему был прикован к людной, освещенной солнцем площади под окном. Наконец он тихо произнес:
— Она никогда меня об этом не просила.
— Ну да, я забыл. Вы ведь никогда ни о чем друг друга не просили, правда? И никогда ничего друг другу не говорили. Вы просто сидели, смотрели друг на друга, и каждый гадал, что происходит у другого внутри. Сумасшедший дом для глухонемых! Впрочем, надо отдать справедливость вашему поколению — вы знали о тайных мыслях друг друга гораздо больше, чем когда-нибудь узнаем мы — у нас просто не хватит на это времени. Слушай, папа, ты на меня не сердишься? — внезапно прервал свою речь Даллас. — Если да, то давай помиримся и пойдем позавтракаем у Анри. Мне надо еще успеть в Версаль.
Арчер не поехал с сыном в Версаль. Он предпочел провести день в одиноких скитаниях по Парижу. Ему нужно было избавиться сразу от всех невысказанных сожалений и подавленных воспоминаний долгой бессловесной жизни.
Вскоре он перестал сокрушаться по поводу нескромности Далласа. Казалось, с его сердца сняли железный обруч — так легко стало ему, когда он узнал, что кто-то все-таки догадался, кто-то его пожалел… А то, что это была его жена, бесконечно его тронуло. Далласу, при всей его чуткости, этого не понять. Для мальчика этот эпизод был, наверное, всего лишь грустным примером несбывшихся надежд и напрасно растраченных сил. Но неужели это не было чем-то большим? Арчер долго сидел на Елисейских полях и думал, а поток жизни между тем катился мимо…
Всего несколько улиц, всего несколько часов отделяли его от Эллен Оленской. Она так и не вернулась к мужу, а когда он несколько лет назад умер, никак не изменила своего образа жизни. Теперь ничто уже не могло разлучить ее с Арчером — и сегодня вечером он ее увидит.
Он встал и через площадь Согласия и сад Тюильри прошел к Лувру. Госпожа Оленская как-то говорила ему, что часто туда ходит, и ему захотелось провести оставшееся время там, где она, возможно, совсем недавно была. Часа два он бродил по залитым ярким светом галереям, и картины одна за другой ослепляли его своим полузабытым великолепием, переполняя душу долгими отзвуками красоты. Ведь жизнь его, в сущности, была так пуста..
Очутившись перед одним из блистательных полотен Тициана,[195] он вдруг поймал себя на мысли: «Но ведь мне всего только пятьдесят семь…» — и отвернулся. Для летних снов, пожалуй, уже поздно, но ведь не поздно же еще для дружбы и товарищества в блаженной осенней тишине ее близости.
Он вернулся в отель, где должен был встретиться с Далласом, и вдвоем они еще раз прошли через площадь Согласия и через мост, ведущий к Палате депутатов.
Даллас, не подозревая о том, что творится в душе отца, без умолку рассказывал о Версале. Во время одной из коротких каникулярных поездок в Париж он пытался разом охватить как можно больше достопримечательностей, которые ему раньше не удалось увидеть из-за того, что семейство вместо Франции отправилось в турне по Швейцарии, и теперь неумеренные восторги и самонадеян* ные критические замечания, с молниеносной быстротой сменяя друг друга, сыпались с его уст.
Слушая его, Арчер чувствовал, как в нем растет сознание своей неполноценности и немоты. Он знал, что мальчик не лишен чуткости, но отличается беспечностью и самоуверенностью, свойственными людям, которые не склоняются перед судьбой, а, напротив, готовы померяться с ней силами. «В том-то и дело — они знают, чего хотят, и не намерены никому уступать», — раздумывал он, рисуя себе сына как выразителя идей нового поколения, которое смело все старые межевые знаки, а заодно с ними указатели и сигналы опасности.
Вдруг Даллас остановился как вкопанный и, схватив отца за руку, воскликнул:
— Вот это да!
Они подошли к обширному скверу перед Домом инвалидов.[196] Воздушный купол Мансара парил над распускающимися деревьями и длинным серым фасадом здания; вобрав в себя все лучи предвечернего света, он возвышался перед ними как зримый символ славы великого народа.
Арчер знал, что госпожа Оленская живет близ одной из улиц, расходящихся лучами от Дома инвалидов, и этот квартал представлялся ему тихим и даже глухим — он совершенно упустил из виду блеск, который придавал ему его великолепный центр. Теперь по какой-то причудливой ассоциации все, что ее окружало, озарилось для него этим золотым светом. Жизнь ее, о которой он странным образом знал так мало, почти тридцать лет проходила в этой насыщенной атмосфере, уже казавшейся ему слишком густой и слишком возбуждающей для его легких. Он подумал о театрах, в которые она ходила, о картинах, которыми она любовалась, о сумрачной роскоши старинных особняков, в которых она бывала, о людях, с которыми она беседовала, о непрерывной смене идей, образов и ассоциаций, которые рождались в этом живом, общительном народе, и поныне сохранившем нравы и манеры былых времен, и ему вдруг вспомнились давние слова молодого француза: «О, интересный разговор! Есть ли на свете что-либо равное ему?»
Арчер почти тридцать лет не видел мосье Ривьера и ничего о нем не слышал, и уже по одному этому можно было судить, как мало ему известно о госпоже Оленской. Более половины жизни отделяло их друг от друга, и она провела этот долгий промежуток среди людей, которых он не знал, в обществе, о котором он имел лишь самое смутное представление, в условиях, которых он никогда до конца не поймет. Все это время он прожил со своим юношеским воспоминанием о ней, но ведь у нее, наверное, были другие, более реальные связи. Быть может, и в ее воспоминаниях ему отводилось совершенно особое место, но, если так, его образ был, вероятно, чем-то вроде реликвии в маленькой полутемной часовне, где за недостатком времени молятся далеко не каждый день…
Отец и сын пересекли площадь Инвалидов и зашагали по одной из широких улиц, окаймляющих здание. Несмотря на всю свою славную историю и великолепие, квартал этот и впрямь был тихим, и это помогало понять, какими богатствами обладает Париж, если такие картины — достояние лишь немногих и равнодушных.
День угасал в мягкой солнечной дымке, пронизанной кое-где желтым светом электрических фонарей, и на маленькой площади, куда они теперь вышли, почти никого не было. Даллас опять остановился и взглянул наверх.
— Наверное, это здесь, — сказал он, взяв отца под руку таким ласковым движением, что Арчер хоть и смутился, но не отпрянул, и оба некоторое время постояли, молча рассматривая дом.
Это было ничем не примечательное современное здание со множеством окон и красивых балконов по широкому кремовому фасаду. На одном из верхних балконов, расположенном намного выше закругленных верхушек каштанов в сквере, была все еще опущена маркиза, как будто солнце только-только оттуда ушло.
— Интересно, на каком этаже? — задумчиво проговорил Даллас; подойдя к воротам, он просунул голову в привратницкую и вернулся со словами: — На пятом. Должно быть, там, где маркиза.
Арчер стоял неподвижно, не сводя глаз с окон верхнего этажа, словно цель их паломничества была достигнута.
— Знаешь, уже около шести, — заметил наконец сын. Отец посмотрел на пустую скамейку под деревьями.
— Я, пожалуй, посижу тут немножко, — сказал он.
— Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь? — встревожился Даллас.
— Нет, нет, прекрасно. Но ты, пожалуйста, поднимись наверх без меня.
Даллас остановился перед ним в полном недоумении.
— Слушай, папа, ты что, совсем туда не пойдешь?
— Не знаю, — медленно проговорил Арчер.
— Но ведь она обидится.
— Иди, сынок, может быть, я приду позже.
Даллас окинул его долгим взглядом сквозь сумерки.
— Но что мне сказать?
— Ты, мой милый, по-моему, всегда найдешь, что сказать, — с улыбкой отвечал отец.
— Ладно. Я скажу, что ты придерживаешься старомодных взглядов и предпочитаешь идти пешком на пятый этаж, потому что не любишь лифтов.
Отец снова улыбнулся.
— Скажи, что я придерживаюсь старомодных взглядов; этого будет довольно.
Даллас еще раз на него посмотрел, потом недоверчиво махнул рукой и скрылся под сводами подъезда.
Арчер сел на скамейку и продолжал смотреть на завешенный маркизою балкон. Он подсчитал, сколько времени потребуется сыну, чтобы подняться на лифте на пятый этаж, позвонить, войти в прихожую, подождать, пока о нем доложат, а потом проведут в гостиную. Он представил себе, как Даллас быстрым, решительным шагом входит в комнату, увидел его обаятельную улыбку и подумал: интересно, правы ли те, кто говорит, что мальчик «весь в него».
Потом он попытался представить себе людей, собравшихся в комнате, ведь в этот гостеприимный час их там, наверное, будет несколько — и среди них смуглая дама, бледная и смуглая, — она быстро поднимет голову, привстанет и протянет Далласу длинную тонкую руку с тремя кольцами… Она, скорее всего, сидит в углу дивана возле камина, а позади нее столик с цветущими азалиями…
— Для меня это более реально, чем если бы я поднялся наверх, — внезапно услышал он свой голос, и опасение, что эта последняя тень реальности может внезапно рассеяться, приковала его к месту, а минуты меж тем уходили одна за другой.
Он долго сидел на скамейке в сгущающихся сумерках, не сводя глаз с балкона. Наконец в окнах зажегся свет, и спустя мгновенье на балкон вышел слуга, поднял маркизу и закрыл ставни.
И, словно это был сигнал, которого он ждал, Ньюленд Арчер медленно поднялся и в одиночестве пошел обратно к себе в гостиницу.
Итан Фром[197] повесть Перевод И. Комаровой
Эту историю — вернее, отдельные ее эпизоды — мне рассказывали разные люди, и, как водится в подобных случаях, их рассказы разнились между собой. Если вы бывали в Старкфилде, в штате Массачусетс, вы знаете тамошнюю почту. А если вы знаете почту, вы не раз замечали там Итана Фрома — видели, как против белоколонного фасада останавливается его двуколка, запряженная приземистой лошадью гнедой масти, как, бросив вожжи, он с видимым усилием переходит булыжную мостовую, — и наверняка задавались вопросом: кто бы это мог быть?
У почты впервые увидел его и я — несколько лет назад, и наружность этого человека глубоко меня поразила. Он показался мне самой примечательной фигурой в Старкфилде, хотя в те дни это была всего лишь тень прежнего Итана Фрома. Выделялся он не столько великолепным ростом — большинство местных уроженцев люди рослые и сухощавые, в отличие от коренастых чужаков, — сколько небрежной силой, запечатленной во всем его облике, невзирая на хромоту, которая словно кандалами сковывала его шаг. Лицо его носило всегда угрюмое и замкнутое выражение, а седина в волосах и затрудненность движений поначалу заставили меня принять его за старика — и я был искренне удивлен, услышав, что ему всего пятьдесят два года. Сведения эти я почерпнул у Хармона Гау, который гонял почтовый дилижанс из Бетсбриджа в Старкфилд в те времена, когда еще не действовала электрическая железная дорога, и потому знал всю подноготную об окрестных жителях.
— Он как расшибся, сразу стал такой; а лет тому, чтобы не соврать, будет в феврале месяце двадцать четыре, — сообщил Хармон, имевший привычку перемежать свои и без того не слишком пространные воспоминания долгими паузами.
Из того же источника мне постепенно удалось выяснить, что загадочный несчастный случай не только оставил на лбу Итана Фрома глубокий красный шрам, но причинил ему и более тяжкое увечье: правый бок был у него так искривлен и изуродован, что какой-нибудь десяток шагов от двуколки до почтового окошка стоил ему огромного напряжения. Он приезжал со своей фермы около полудня, и поскольку я обыкновенно заходил за почтой в тот же час, мы нередко сталкивались у входа, а иной раз вместе дожидались очереди у забранного решеткой окошка. Являлся он всегда регулярно, но я заметил, что чаще всего он получал одну только местную газету, которую не глядя засовывал в отвисший карман штанов. Правда, время от времени почтмейстер протягивал ему фирменный конверт, адресованный миссис Зенобии (или, сокращенно, Зене) Фром, с броско напечатанным в верхнем левом углу адресом какого-нибудь поставщика патентованных медикаментов и с названием рекламируемого им снадобья. Конверты эти получатель тоже совал в карман не глядя, привычным движением человека, которого уже не удивляло ни количество их, ни разнообразие, и уходил, коротко кивнув почтмейстеру.
Всякий в Старкфилде знал его в лицо, все почтительно здоровались с ним, но по причине его нелюдимого нрава никто с ним не заговаривал; лишь изредка к нему обращались местные старожилы. В таких случаях он молча выслушивал собеседника, остановив на нем пристальный взгляд голубых глаз, но отвечал так тихо, что мне ни разу не удавалось расслышать слов. Затем он с трудом забирался в свою двуколку, наматывал на левую руку вожжи и не спеша трогал с места.
— Сильно он, должно быть, тогда… расшибся? — спросил я как-то у Хармона, глядя вслед удалявшемуся Фрому и думая о том, как хорош он, наверно, был в молодые годы, пока его не покалечило, как гордо нес на мощных плечах свою великолепно посаженную голову с копной белокурых волос.
— Хуже некуда, — подтвердил мой информатор. — Из другого бы сразу дух вон. Только Фромы, они все двужильные. Итан, пожалуй, до ста лет дотянет.
— Боже милосердный! — вырвалось у меня. Как раз в этот момент Итан Фром, взгромоздившись на козлы, перегнулся назад, проверяя, прочно ли стоит под сиденьем деревянный ящичек с наклейкой очередной аптечной фирмы, и я увидел его лицо: очевидно, таким оно бывало, когда он думал, что на него никто не смотрит. — Какие сто лет? Похоже, что он уже умер и терпит муки ада!
Хармон вытащил из кармана плитку прессованного жевательного табаку, отрезал клинышек и, заложив его за щеку, старательно примял большим пальцем.
— Зазимовался он в Старкфилде, вот беда. Кто поумнее, подается отсюда.
— Отчего же он не уехал?
— Да в доме у них хворали все. А кому о них печься-то? Кроме Итана некому. Сперва отец занемог, после мать, потом жена.
— А потом он сам… расшибся?
Хармон хмыкнул с некоторым злорадством.
— Вот-вот. Тут уж, хочешь не хочешь, деваться некуда.
— Понятно. И тогда, стало быть, он остался у родных на попечении?
Хармон помолчал, сосредоточенно передвинул языком табачную жвачку под другую щеку и наконец изрек:
— На попечении, говорите… Кто о нем когда пекся? Все только он о них.
Хотя Хармон Гау изложил мне основные события с той степенью вразумительности, какую допускал его умственный и нравственный уровень, в его рассказе оставались существенные пробелы, и я подозревал, что истинный смысл истории скрывается именно там. Но одно его выражение крепко засело у меня в памяти и послужило отправной точкой для позднейших изысканий и догадок: «Зазимовался он в Старкфилде…»
Смысл этого выражения я понял как нельзя лучше во время моей собственной зимовки в Старкфилде. А между тем я приехал туда в эпоху, уже развращенную цивилизацией, — в эпоху электрической железной дороги,[198] велосипедов и доставки городских товаров в деревню; в эпоху, когда между разбросанными в горах поселками поддерживалось регулярное сообщение, а расположенные в долинах города покрупнее, вроде Бетсбриджа или Шедс-Фолза, Христианской ассоциации молодых людей,[199] куда окрестная молодежь съезжалась провести свой досуг. Но когда на Старкфилд спустилась зима и поселок оказался погребенным под снежной пеленой, а с неба, сплошь затянутого хмурыми тучами, без конца сыпал и сыпал снег, я начал представлять себе, какова была здешняя жизнь — вернее, отрицание жизни — в дни юности Итана Фрома.
Фирма, в которой я работал, прислала меня наблюдать за строительством крупной электрической станции вблизи железнодорожного узла Корбери. Однако работы затянулись по причине забастовки плотников, и я застрял в Старкфилде — ближайшем пригодном для жилья поселке — почти на целую зиму. Сперва я злился, потом привык и под усыпляющим воздействием рутины стал даже находить во всем этом некоторое мрачное удовлетворение. Поначалу меня поражал контраст между здоровым климатом и полнейшим застоем общественной жизни. После декабрьских снегопадов вновь настала полоса ясной погоды, когда день за днем с ослепительно голубого неба лились потоки света и воздуха, отражаясь от снежной равнины с удвоенным блеском. Казалось бы, в такой атмосфере все чувства должны обостряться, а кровь быстрее струиться в жилах. Ничуть не бывало: и без того редкий пульс Старкфилда только еще более замедлился. Однако когда я прожил там подольше и увидел, как хрустальная ясность сменилась мраком и холодом, когда февральские бураны раскинули свои белые шатры на подступах к обреченному Старкфилду, а в подкрепление им была брошена лихая кавалерия мартовских ветров, я начал понимать, почему после полугодовой зимней осады поселок напоминает взятый измором гарнизон, готовый сдаться на милость победителя. Сломить сопротивление осажденных деревушек было, разумеется, гораздо легче двадцать лет назад, когда враг мог перерезать почти все жизненно важные коммуникации, — и в свете этого особенно зловеще прозвучали в моей памяти слова Хармона: «Кто поумнее, подается отсюда». Но что же помешало уехать такому человеку, как Итан Фром, какая цепь препятствий возникла на его пути?
В бытность мою в Старкфилде я снимал квартиру у одной немолодой местной жительницы, известной в обиходе как вдова Неда Хейла. Ее отец был в свое время деревенским стряпчим, и «дом стряпчего Варнума», где моя хозяйка жила со старушкой матерью, до сих пор считался первым в поселке. Стоял он в самом конце главной улицы; его фасад украшали традиционные колонны, из окон с частым переплетом открывался вид на стройную белую колокольню старкфилдской церкви, а от калитки, у которой росли две раскидистые норвежские ели, вела к дому вымощенная каменными плитами дорожка. Благосостояние семейства Варнумов явно находилось в упадке, но мать и дочь изо всех сил старались соблюсти внешние приличия, а в облике и манерах миссис Хейл сквозила некая томная изысканность, в чем-то гармонировавшая с ее выцветшим, старомодным особняком.
В парадной гостиной Варнумов (она именовалась тут «залой»), в окружении кожаных кресел и мебели красного дерева, при слабом свете масляной лампы Карселя,[200] издававшей ритмичное бульканье, я слушал из вечера в вечер историю Старкфилда в ином, более тонко окрашенном изложении. Не то чтобы миссис Хейл ощущала себя стоящей в социальном смысле выше своих соседей или принимала такую позу сознательно: просто благодаря ее врожденной интеллигентности и порядочному образованию между нею и ее окружением сама собою возникла некая дистанция, достаточная для того, чтобы судить о ближних более или менее беспристрастно. Своими наблюдениями она делилась весьма щедро, и я питал надежду с ее помощью восполнить недостающие эпизоды истории Итана Фрома — или по меньшей мере получить ключ к разгадке его характера, который помог бы связать воедино уже известные мне факты. Память ее хранила неиссякаемый запас безобидных анекдотов, и стоило мне проявить интерес к кому-нибудь из ее знакомых, как на меня тут же выплескивался целый поток подробностей. Однако Итан Фром оказался неожиданным исключением: о нем моя хозяйка не говорила ничего. В ее молчании не чувствовалось недоброжелательства — в нем сквозило только упорное нежелание сообщать что бы то ни было о Фроме и его делах; единственной ее уступкой моему любопытству были одна-две нехотя брошенные фразы: «Да, я знала их обоих… Это было ужасно…»
Перемена в ее манере всякий раз казалась мне столь разительной, за нею ощущалась такая глубина скорбного знания, что я, рискуя проявить неуместную назойливость, решился снова обратиться к моему присяжному оракулу, Хармону Гау; но наградой за труды мне было лишь сердитое бурчанье.
— Рут Варнум трусиха известная. Чуть что, сразу в панику. И то сказать, она ведь первая их увидела. Как подобрали-то их. Аккурат под домом Варнума все и стряслось — где дорога на Корбери сворачивает. Тогда как раз ихнюю помолвку объявили с Недом Хейлом. Все молодые были, дружили. Видно, вспоминать тяжело, вот и не говорит. Своего горя хватает.
Своего горя хватало у всех жителей Старкфилда — как, впрочем, и у жителей любой другой местности, — так что проявлять бурное сострадание к горю ближнего было у них не в обычае. И хотя все сходились на том, что с Фромом судьба обошлась особенно жестоко, никто не мог мне объяснить, почему на его лице застыл отпечаток такого отчаяния — отчаяния, которое, как я все больше убеждался, не могла породить одна только нужда или одни только физические муки. Тем не менее я наверняка удовольствовался бы добытыми мною отрывочными сведениями, если бы меня не заинтриговала уклончивость миссис Хейл и если бы — чуть позже — обстоятельства не столкнули меня лицом к лицу с героем моего рассказа.
В самом начале своего пребывания в Старкфилде я условился с местным лавочником Деннисом Иди, преуспевающим ирландцем, державшим что-то вроде извозчичьего двора, чтобы меня каждое утро доставляли на ближайшую станцию, в Корбери-Флэтс, где я садился в поезд до узловой. Но в середине зимы на его лошадей напала какая-то местная болезнь, перекинувшаяся и на другие старкфилдские конюшни, так что дня два мне пришлось провести в спешных поисках средства передвижения. И тут Хармон Гау заметил, что не худо бы переговорить с Итаном Фромом, — может, он возьмется подвозить меня к поезду, поскольку гнедой его пока что на ходу.
Это предложение застало меня врасплох.
— Итан Фром? — воскликнул я. — Да я с ним даже не знаком. Станет ли он утруждаться ради постороннего человека?
То, что я услышал в ответ, удивило меня еще больше:
— Утруждаться он, может, и не стал бы, но заработать лишний доллар не откажется, уж я-то знаю.
Мне рассказывали, что Фром живет скудно, что доходов от лесопилки и урожая, который он собирает с худородных полей своей фермы, еле хватает на то, чтобы продержаться до весны, но такой крайней бедности я все же не предполагал и потому выразил вслух свое недоумение.
— Не повезло человеку, вот и весь сказ, — отвечал Хармон. — Ежели мужик двадцать с лишним лет едва ноги таскает, а хозяйство у него на глазах прахом идет, так это его точит, ясное дело, и раньше ли, позже ли руки-то совсем опускаются. Ихняя ферма и всегда-то была небогатая — в худые дни хоть шаром покати, кошка миску так не вылижет, а лесопилке по теперешним временам и вовсе грош цена. Ну, когда Итан еще в силе был, спину гнул с утра до ночи, жили как-то, с грехом пополам, да почти что все и проедали, а уж как он нынче концы с концами сводит, ума не приложу. Сами посудите: сперва отца удар хватил, прямо на сенокосе; совсем ум отшибло у старого — денежки свои стал раздавать направо и налево, что бумажки с молитвами, покуда сам богу душу не отдал. Потом мать рассудком повредилась — сколько лет жить не жила и умирать не умирала, хуже малого дитяти. Или взять жену его, Зену: та всегда была мастерица и лечить, и лечиться, другой такой в округе не сыщешь. Хвори да горе, хвори да горе — как началось, так и пошло, век расхлебывай — не расхлебаешь.
На другое утро, выглянув в окошко, я увидел между елок у калитки Варнумов знакомого гнедого — и вскоре уже садился в сани рядом с Итаном Фромом, молча откинувшим потертую медвежью полсть. Так начались наши ежедневные поездки: по утрам он заезжал за мной и подвозил до Корбери-Флэтс, где я пересаживался в поезд, а по вечерам встречал меня на той же станции и вез обратно в Старкфилд. Дорога была не длинная — всего мили три, но старый конь трусил не спеша, и хотя полозья саней легко скользили по твердому снегу, путь всякий раз занимал без малого час. Фром правил лошадью молча, перекинув вожжи через левую руку; на голове он носил высокий картуз с козырьком, похожий на старинный воинский шлем, и его бронзовый, прорезанный глубокими морщинами профиль чеканно вырисовывался на фоне снежных сугробов — словно выбитый на медали профиль античного полководца. Он никогда не поворачивался ко мне лицом, а на мои вопросы или робкие попытки пошутить отвечал односложно. Он представлялся мне частицей унылого зимнего безмолвия, воплощением застывшего горя, когда все, что способно жить и чувствовать, погребено под снегом и сковано холодом; но в его молчании не было никакой враждебности. Я видел, что стена, которой он отгородился от мира, так надежно укреплена, что походя к ней не подступиться, и в то же время мне казалось, что его одиночество и отрешенность объясняются не только его личной бедой или даже трагедией, но что в его душе, по меткому наблюдению Хармона Гау, скопился холод многих и многих старкфилдских зим.
Только раз или два через разделявшую нас пропасть перекидывался временный мостик, но и этого было достаточно, чтобы мое намерение как можно больше узнать о нем окончательно укрепилось. Однажды я заговорил с ним о Флориде, где я работал год назад, и упомянул между прочим о том, как разительно не похожа здешняя зима на пейзаж Флориды в это же время года. К моему удивлению, Фром вдруг откликнулся:
— Это верно. Я тоже раз был во Флориде, и потом она еще долго мне вспоминалась, зимой особенно. Но теперь это уже все снегом замело.
Больше он ничего не сказал — и по особой интонации, прозвучавшей в его голосе, и по тому, как он резко оборвал свою речь, я мог только догадываться об остальном.
Через пару дней, садясь в поезд в Корбери-Флэтс, я хватился книжки, которую брал с собою читать в вагоне, — это была научно-популярная брошюра, посвященная, насколько мне помнится, недавним открытиям в области биохимии. Не найдя ее, я тут же о ней позабыл, а вечером, когда Фром приехал за мною, увидел свою книжку у него в руках.
— Вот, вы в санях оставили, — сказал он.
Я сунул брошюрку в карман, и мы, как всегда молча, тронулись в путь. Однако когда конь пошел шагом — по дороге к Старкфилду был пологий, но долгий подъем, — я заметил в сгущающихся сумерках, что мой возница повернулся ко мне лицом. Он заговорил первый:
— В этой книге пишут про такое, что я и понятия не имел.
Удивили меня не столько его слова, сколько неожиданный оттенок то ли обиды, то ли неудовольствия в его голосе: он был как будто неприятно поражен собственным невежеством.
— Вам это интересно? — спросил я.
— Было когда-то.
— Что же, там действительно есть кое-что новое. В последнее время в этих науках замечается явный прогресс. — Я помедлил и, не дождавшись ответа, добавил: — Если хотите поподробнее познакомиться с этой книжицей, я с удовольствием ее вам оставлю.
Итан промолчал, и на мгновение мне показалось, что его снова затягивает омут привычного безразличия; но потом он все же коротко отозвался:
— Благодарствую — я возьму.
Ободренный этим эпизодом, я решил было, что теперь Итан будет охотнее общаться со мной. Человек он был прямой и бесхитростный, так что интерес, который он выказал к моей брошюрке, мог объясняться только искренней тягой к знаниям. Подобная тяга в сочетании с известной осведомленностью еще резче выявляла контраст между внешним его положением и внутренними запросами, и я надеялся, что возможность дать какой-то выход этим запросам разомкнет наконец его уста. Но мои надежды не оправдались: слишком глубоко он ушел в себя — то ли из-за пережитой трагедии, то ли в силу своих нынешних обстоятельств, и случайного сближения было явно недостаточно для того, чтобы его снова потянуло к людям. На другой день он ни словом не обмолвился о книжке: минутного порыва откровенности как не бывало, и нашему общению предназначено было, судя по всему, оставаться по-прежнему односторонним и натянутым.
С начала наших совместных поездок прошло уже около недели, когда, поднявшись поутру, я увидел, что за окном валит густой снег. По высоте сугробов, наметенных вдоль садовой изгороди и церкви, я понял, что снегопад длился всю ночь: очевидно, в открытой степи бушевала метель. При такой погоде мой поезд вполне мог задержаться в пути и выбиться из расписания, но мне непременно надо было попасть в этот день на строительство, хотя бы на пару часов, и я решил, что если Фром заедет за мной, я все же попытаюсь добраться до Корбери-Флэтс и там подожду поезда. Сам не знаю, почему я подумал «если», — я ни минуты не сомневался в том, что Фром появится: не такой он был человек, чтобы нарушить слово из-за какой-то прихоти стихий. И точно: в назначенный час перед окном замаячили его сани, и все вместе — внезапное их появление и густеющая марлевая завеса снегопада — почему-то напомнило мне театральное зрелище.
Я уже достаточно хорошо знал своего возницу и потому не стал ни рассыпаться в благодарностях, ни выражать изумление по поводу того, что он приехал за мной в такую метель; однако когда он повернул коня не налево, как обычно, а направо, у меня невольно вырвалось недоуменное восклицание.
— По железной дороге не доберетесь, там заносы. Товарняк застрял у Корбери-Флэтс, — пояснил Итан, подхлестнув гнедого, и сани покатили в слепящую снежную мглу.
— Но послушайте — куда же вы едете?
— На узловую, напрямки, — отвечал Итан, указывая кнутовищем в сторону холма, на котором стояла местная школа.
— На узловую — в такой-то буран?! Да ведь дотуда не меньше десятка миль!
— Гнедой дотянет, если не очень гнать. Вы же сами говорили, что сегодня вам до зарезу нужно туда попасть. Раз я взялся отвозить, то и отвезу.
Он произнес это как нечто само собой разумеющееся, и я в ответ мог только вымолвить:
— Вы мне делаете огромнейшее одолжение.
— Пустое, — отозвался он.
Напротив школы дорога разветвлялась; мы свернули налево под гору и поехали по проселку, окаймленному с обеих сторон густыми зарослями гемлока, чьи ветви под тяжестью снега провисли и пригнулись почти вплотную к стволам. По воскресеньям я часто прогуливался по этой дороге и знал одинокую крышу, видневшуюся сквозь облетевшие кусты у подножья холма, — это была крыша фромовской лесопилки. Сейчас она выглядела заброшенной и безлюдной; над черной водой ручья, подернутой желтовато-белой пеной, торчало неподвижное мельничное колесо, а окружавшие лесопилку мелкие деревянные постройки, казалось, совсем вросли в землю под нахлобученными на них снеговыми шапками. Фром, не поворачивая головы, проехал мимо, и так же молча мы стали опять подниматься в гору. Примерно милю спустя, уже на незнакомом мне отрезке дороги, мы поравнялись с запущенным фруктовым садом — я разглядел несколько чахлых яблонь на склоне холма, где на поверхность там и сям пробивались залежи аспидного сланца, похожие на зверюшек, зимующих под снегом и высунувших нос подышать. К подножью холма примыкали поля, чьи границы сейчас терялись под снежными сугробами, а на самом верху, выделяясь невзрачным пятном на фоне бескрайней белизны земли и неба, стоял фермерский дом — типичное для Новой Англии одинокое жилище, в сочетании с которым пустынный окрестный пейзаж оставляет еще более унылое впечатление.
— Вон там я живу, — сказал Фром, с усилием отводя в сторону искалеченный локоть, и я не нашел что ответить — так удручающе подействовало на меня все увиденное. Снегопад прекратился, и в белесых проблесках солнца дом на холме предстал во всем своем неприглядном убожестве. Над крыльцом раскачивалась, как черный призрак, плеть какого-то ползучего растения, а дощатые стены дома под облупившимся слоем краски, казалось, дрогли на ветру, который задул с прекращением снегопада.
— При отце дом был больше — перемычку пришлось снести, не так давно, — продолжал Фром, рывком левой вожжи придержав гнедого, который явно намеревался свернуть к знакомым покосившимся воротам.
Тут я понял, что унылый и заброшенный вид жилища объяснялся отчасти отсутствием того, что в Новой Англии именуют «перемычкой», — крытой пристройки, которая возводится обычно под прямым углом к жилому дому и соединяет его с дровяным сараем и коровником. В самой перемычке размещаются кладовые для съестных припасов и хранится всякого рода инструмент. То ли потому, что эта пристройка символизирует связь крестьянской жизни с землей и одновременно служит хранилищем источников тепла и пищи, то ли просто потому, что в суровом климате Новой Англии она создает для хозяев немаловажное удобство — поутру они могут браться за работу, не выходя на улицу, — словом, как бы там ни было, не сам жилой дом, а именно «перемычка» считается в здешних местах показателем и средоточием благополучия — чем-то вроде домашнего очага. Подтверждение этой мысли я не раз находил во время своих одиноких прогулок по окраинам Старкфилда; может быть, оттого в словах Фрома мне послышалась тоскливая нотка, а его усеченное жилище, по вполне понятной ассоциации, показалось мне похожим на его собственное изувеченное тело.
— Мы теперь, можно сказать, на задворках живем, — продолжал Фром, — а раньше-то тут было бойкое место, пока железную дорогу не протянули к Корбери-Флэтс. — Он снова дернул вожжи, чтобы подбодрить сбавившего шаг гнедого, и, словно рассудив, что теперь, когда я увидал его дом, мне можно полностью довериться, не спеша продолжал: — Мать мою покойницу это крепко подкосило. Она и в прежние годы прихварывала, но ведь тогда что? Начнет ревматизм ее донимать, так она усядется на крыльце и сидит себе часами, на дорогу смотрит — кто куда едет да за чем. Раз в весеннее половодье в Бетсбридже плотину прорвало, так покуда ее ремонтировали, Хармон Гау свою колымагу чуть не полгода вкруговую гонял — по этой самой дороге. Мать тогда совсем молодцом была: что ни день сама к воротам спускалась, поджидала его — словечком перекинуться. Ну, а как поезд пустили, почитай никто уж мимо нас и не ездил. Матери все невдомек было — что стряслось, куда народ подевался. До самой смерти не могла успокоиться.
Когда мы свернули на узловую, снова пошел снег, и дом вскоре совершенно пропал из виду. Умолк и мой возница; между нами опустилась завеса прежней отчужденности. На сей раз с возобновлением снегопада ветер не утих — напротив, он внезапно усилился. По временам порывы ветра разгоняли серые клочья туч, и тогда бледное зимнее солнце озаряло окрестность, где яростно бушевала метель. Но гнедой был верен слову, данному его хозяином, и мы продолжали двигаться к цели, невзирая на хаос, царивший вокруг.
Во второй половине дня буран прекратился; небо на западе очистилось, и я по неопытности решил, что к вечеру погода разгуляется. Я на скорую руку закончил все дела на станции, и мы тронулись в обратный путь, рассчитывая попасть в Старкфилд к ужину. Однако ближе к закату тучи снова заволокли небо; стало быстро темнеть, и при полном безветрии повалил густой, обильный снег. Казалось, что неудержимая снежная лавина вот-вот погребет под собою весь мир, — это было пострашнее утреннего кружения метели. Вокруг нас постепенно сгущалась мгла — словно сама зимняя ночь в обличье снегопада спускалась вниз, слой за слоем окутывая землю.
Слабый свет от фонаря Фрома вскоре затерялся в кромешной мути, а через некоторое время отказало и его чувство направления, и даже безошибочный инстинкт лошади, всегда умеющей найти дорогу к дому. Два-три раза перед нами возникал и тут же растворялся в тумане какой-нибудь неожиданный предмет, как бы подавая нам знак, что мы сбились с пути; и когда мы наконец вновь выбрались на твердую дорогу, старый конь совсем обессилел. Я чувствовал за собою вину оттого, что не отказался утром от поездки, и после недолгих пререканий убедил Фрома позволить мне вылезти из саней и идти дальше пешком рядом с лошадью. Так мы одолели еще милю-другую, и тут Фром, вглядевшись в казалось бы непроглядную ночь, произнес:
— Вроде вон там мои ворота.
Последний отрезок пути дался нам тяжелее всех предыдущих. Пронизывающий холод и снежные наносы окончательно вымотали меня; я задыхался сам и чувствовал под своей ладонью судорожно вздымающийся лошадиный бок.
— Слушайте, Фром, — начал я, — вам нет ни малейшего смысла ехать дальше…
Но он тут же перебил меня:
— Ни мне, ни вам нет смысла. Хватит, наездились. Я понял это так, что он предлагает мне заночевать на ферме, и без слов повернул за ним к воротам. В конюшне я помог ему распрячь измученную лошадь и подостлать ей соломы. Управившись с этим, Фром отцепил с оглобли фонарь, вышел в ночь и через плечо позвал меня:
— Сюда пожалуйте.
Где-то высоко над нами сквозь снежную завесу мерцал прямоугольник света. Спотыкаясь и стараясь не отставать от Фрома, я побрел в эту сторону и в темноте едва не угодил в сугроб у самого крыльца. Обминая снег тяжелыми сапогами, Фром с усилием поднялся по ступенькам, посветил фонарем, нащупал дверную ручку и вошел внутрь. Я шагнул за ним следом и очутился в неосвещенной, с низким потолком прихожей, в глубине которой поднималась, теряясь во мраке, крутая узкая лестница. Справа, судя по полоске света под дверью, находилась та комната, окошко которой мы видели с улицы; из-за двери доносился монотонно-плаксивый женский голос.
У порога Фром потопал сапогами по рваной клеенке, сбивая снег, поставил фонарь на табуретку — единственный предмет, имевшийся в прихожей, — и тогда уже отворил дверь.
— Заходите, — пригласил он, и при звуке этого слова плаксивый женский голос умолк…
В ту ночь я нашел разгадку тайны Итана Фрома, и его история начала складываться в моем воображении в том виде, в каком я и решаюсь предложить ее читателю.
ГЛАВА I
Деревня утопала в снегу. Толщина снежного покрова была, пожалуй, не менее двух футов, а на перекрестках, где гулял ветер, намело целые горы снега.
В иссиня-черном небе горело холодным блеском созвездие Ориона; яркие звезды ковша Большой Медведицы застывшими ледяными сосульками висели в морозном воздухе. Луна зашла, но ночь стояла такая ясная, что белые фасады домов между деревьями на фоне снега казались серыми; резко чернели пятна кустов, а желтые полосы света, расходившиеся веером из окон цокольного этажа церкви, терялись где-то далеко впереди, в бескрайнем снежном море.
Молодой Итан Фром шел быстрым шагом вдоль главной улицы, на которой в этот поздний час не было ни души. Миновав банк и новое кирпичное здание лавки Майкла Иди, он поравнялся с домом стряпчего Варнума, где у калитки росли две черные норвежские ели. Поблизости от этого места дорога сворачивала вниз, к долине Корбери, а напротив дома Варнума высилась стройная белая колокольня церкви, обращенной в сторону улицы узким фасадом. Еще издали Итан различил на боковой стене церкви узорчатую аркаду окон верхнего этажа, а по мере приближения разглядел в лучах света из подвальных окошек множество свежих следов санных полозьев. Следы вели ко входу в церковь с противоположной стороны, где почти от самой стены начинался крутой откос в сторону дороги на Корбери; недалеко от входа виднелся навес, а под ним вереница саней с лошадьми, укрытыми теплыми попонами.
Ночь выдалась безветренная, и воздух был такой сухой и чистый, что мороз почти не чувствовался. Фрома преследовало ощущение полного отсутствия атмосферы — все пространство вокруг, от снега под ногами до сияющего металлическим блеском купола над головой, казалось ему заполненным одним только невесомым эфиром. «Как в колоколе, из которого выкачан воздух», — подумалось ему. Лет пять тому назад он проучился год в технологическом колледже в Вустере[201] и успел поработать в физической лаборатории под началом одного расположенного к нему профессора. Его нынешний круг мыслей ничем не походил на прежний, однако полученные в колледже начатки знаний нет-нет да и напоминали о себе — в самые неожиданные моменты, благодаря какой-нибудь случайной ассоциации. Смерть отца и последовавшие за ней невзгоды вынудили Итана оставить ученье, и хотя практические результаты от его недолгого пребывания в колледже были невелики, оно дало толчок его воображению и заставило задуматься о грандиозном и туманном смысле, скрытом за будничным обликом окружающего.
И сейчас, когда он спешил по заснеженной дороге, голова его пылала от обострившегося вдруг сознания таинственного смысла вещей, а лицо горело от быстрой ходьбы. Дойдя до конца улицы, он остановился перевести дыхание перед неосвещенным фасадом церкви и огляделся — вокруг было по-прежнему безлюдно. В нескольких шагах, почти от самых варнумовских елок, начинался длинный обледеневший спуск; старкфилдская молодежь издавна облюбовала это место для катанья на санках, и в погожие вечера окрестность допоздна оглашалась смехом и гомоном катавшихся. Но сегодня на сверкающей под луной белой ленте дороги не видно было ни единого темного пятнышка. Близилась полночь: деревня погрузилась в сон, и все, что еще бодрствовало в этот поздний час, сосредоточилось в подвальном этаже церкви, откуда вместе с лучами света вырывались наружу звуки музыки.
Обойдя церковь, Итан стал спускаться вниз, ко входной двери нижнего этажа. Чтобы не попасть ненароком в полосу света из окошка, он сделал круг по снежной целине и подошел сперва к дальнему углу здания, а оттуда, стараясь держаться в тени, осторожно прокрался к ближайшему окну. Прижавшись к стене своим поджарым, гибким телом и вытянув шею, он смог наконец увидеть, что делается внутри.
С улицы, из прозрачной морозной тьмы, ему показалось, что помещение, куда он заглянул, плавится от духоты. Металлические отражатели газовых рожков бросали резкий свет на беленые стены, а пышущие жаром железные бока печки вздымались, словно в ней бушевал вулканический огонь. Зал был полон молодых парней и девушек. Вдоль стены напротив окон выстроились в ряд табуретки, с которых только что поднялись просидевшие там весь вечер женщины постарше. Музыка уже смолкла, и музыканты — скрипач и барышня, игравшая по воскресеньям на фисгармонии, — на скорую руку подкреплялись за столом, накрытым на возвышении в дальнем конце зала. От угощения там уже мало что осталось — на столе громоздились глиняные миски с крошками от пирогов да пустые блюдечки из-под мороженого. Молодежь готовилась расходиться, и кое-кто уже прокладывал себе дорогу в прихожую, где висели шубы и накидки, как вдруг какой-то легконогий молодой человек с кудрявой черной шевелюрой выбежал на середину зала и хлопнул в ладоши. Этот сигнал тут же возымел действие. Музыканты поспешили к своим инструментам, танцоры, хотя многие из них успели наполовину одеться, живо выстроились в два ряда друг против друга, старушки-зрительницы снова уселись на свои места, а молодой человек, порыскав среди танцующих, вытащил на середину зала девушку, уже накинувшую на голову малиновую шаль, и завертел ее в бешеном танце под заразительную музыку виргинской кадрили.
У Фрома гулко забилось сердце. Он и сам выискивал в толпе именно эту темноволосую головку, эту малиновую шаль, и теперь досадовал, что чужой глаз оказался проворнее. Заводила танца, в жилах которого текла, по-видимому, ирландская кровь, плясал отлично и сумел заразить своим пылом партнершу. Ее легкая фигурка, кружась все быстрее и быстрее, плавно переходила вдоль шеренги танцующих от партнера к партнеру; от движения шаль слетела у нее с головы и развевалась за плечами, и при каждом повороте перед Фромом мелькали ее полуоткрытые, смеющиеся губы, облачко темных волос надо лбом и карие глаза — единственное, что он четко различал в сумбурном вихре линий.
Темп пляски все убыстрялся, и музыканты, чтобы не отстать от танцующих, наяривали что было силы, точно жокеи, нахлестывающие скаковых лошадей на финишной прямой; но наблюдателю у окна казалось, что кадрили не будет конца. То и дело он переводил взгляд с девушки на ее партнера, лицо которого, радостно-возбужденное, теперь приняло какое-то почти бесстыдно собственническое выражение. Парня этого звали Деннис, а его отец, Майкл Иди, был тот самый предприимчивый ирландский бакалейщик, чья ловкость и беззастенчивость впервые познакомила Старкфилд с новомодными методами торговли. Судя по недавно выстроенной новой кирпичной лавке, дела у Майкла Иди процветали. Сынок, по всем приметам, готовился пойти по стопам отца, а пока что не терял времени даром, пытаясь с достойной папаши предприимчивостью покорить старкфилдский прекрасный пол. Итан и раньше был о нем весьма низкого мнения, но сейчас у него просто руки чесались отделать наглеца кнутом. Странно, что девушка как будто ничего не замечала, — она обращала к нему сияющее лицо и протягивала ему руки, словно не чувствуя оскорбительности его взглядов и прикосновений.
В те редкие вечера, когда в деревне устраивалось какое-нибудь веселье и Мэтти Силвер, двоюродная племянница его жены, отправлялась немного поразвлечься, Фром всегда приходил за ней в Старкфилд, и они вместе возвращались домой. Когда Мэтти поселилась в их доме, жена Итана сама предложила давать молоденькой девушке возможность побыть на людях. Раньше Мэтти Силвер жила в Стамфорде,[202] когда же она переехала к Фромам и стала помогать своей родственнице по хозяйству, было решено, что, поскольку денег ей платить не собирались, иногда ее надо отпускать поразвлечься, чтобы она не чувствовала слишком остро разницу между городским образом жизни и уединением старкфилдской фермы. Если бы не это соображение, как потом с горечью думал Фром, его жене вряд ли пришло бы в голову позаботиться о том, чтобы девушка у них не тосковала.
Когда Зена в первый раз предложила отпускать Мэтти по вечерам в поселок, Итан внутренне воспротивился — перспектива вышагивать по две мили туда и назад после тяжелого дня на ферме его отнюдь не привлекала; но по прошествии недолгого времени его позиция совершенно переменилась, и теперь, если бы гулянья в Старкфилде стали устраиваться каждый вечер, он с восторгом бы это приветствовал.
Мэтти Силвер жила у них уже год, и Итан мог видеть ее по многу раз в день — с раннего утра до того часа, когда все собирались за ужином. Однако никакое будничное общение не могло сравниться с теми минутами, когда они поздним вечером вдвоем возвращались домой и он держал ее под руку, а она старалась приноровить к его размашистым шагам свою летящую походку. Он почувствовал к ней симпатию с первого дня, когда встречал ее на станции в Корбери-Флэтс; еще из вагона она улыбалась и махала ему рукой, а потом с подножки крикнула: «Вы, наверно, Итан!» И когда она сошла на платформу, обвешанная узелками и котомками, он подумал, оглядев ее щупленькую фигурку: «Такая вряд ли много наработает, но зато по крайней мере без фокусов». С нею в его доме поселилась юность и радость жизни, и это было благотворно само по себе, как если бы в остывшем очаге развели огонь. Но еще важнее было то, что при ближайшем рассмотрении эта смышленая и старательная девочка, какою она на первых порах показалась Итану, раскрылась с новой, неожиданной стороны. Она умела смотреть и слушать; ей можно было показывать и рассказывать, и Итан испытывал подлинное блаженство, сознавая, что все, чему он ее научил, глубоко западает ей в память и что в любой момент по своему желанию он может вновь заставить зазвучать однажды затронутые струны ее души.
Сладость близкого общения с нею Итан чувствовал особенно остро во время этих уединенных ночных возвращений. С детства, не в пример окружающим, он был восприимчив к красоте мира. Позднее это прирожденное свойство получило опору в тех начатках естествознания, которые он успел приобрести, и даже в самые горькие минуты голоса земли и неба, звучавшие с такой убедительной силой, приносили ему душевное успокоение. Но до сих пор восприимчивость к красоте жила в нем молчаливой болью, и к радости, которую давало лицезрение прекрасного, нередко примешивалась грусть. Он даже не знал, живут ли кроме него на свете люди, подвластные таким же чувствам, или он один наделен этим печальным даром.
И вот неожиданно у него появилась родная душа, как и он, трепетавшая перед необъяснимым чудом природы. Рядом с ним — под одной крышей, за одним столом — был теперь кто-то, кому можно было сказать: «Смотри, во-он там Орион, а правее, видишь, большая, яркая, эта называется Альдебаран, а чуть подальше целая стайка звездочек — будто пчелы роятся, правда? — это Плеяды…»; кто-то, кого можно было остановить перед гранитным пластом, проглядывающим сквозь заросли папоротника, и заворожить величественной панорамой ледникового периода, а заодно и рассказом обо всех остальных туманных эрах истории Земли… С жадностью впитывая все, чему он ее учил, Мэтти одновременно поражалась его учености, и это льстило его самолюбию. Были к тому же и другие моменты — необъяснимого и острого блаженства, когда они вместе замирали в немом восторге при виде алого морозного заката над грядой заснеженных холмов, или вереницы облаков, плывущих над золотистой жнитвой, или густо-синих теней на блестящем под солнцем снегу.
Когда Мэтти один раз воскликнула при нем: «До чего красиво — прямо как на картине нарисовано!» — Итан решил, что лучше не скажешь, что наконец-то найдены слова, способные выразить сокровенную тайну его души…
Но сейчас, пока он стоял в темноте, прильнув к церковному окну, к его воспоминаниям уже примешивалась горечь утраты. Как только он мог подумать, что его скучные разговоры и впрямь занимают ее? Сам он оживлялся только в ее присутствии, и то, что она без него была так оживлена и весела, так упоенно кружилась в танце, перелетая от партнера к партнеру, казалось ему прямым доказательством ее равнодушия. На тех, кто танцевал с нею, она смотрела с тем же открытым, радостным выражением, которое — всякий раз, когда ее лицо обращалось к нему, — напоминало ему распахнутое окно, озаренное отблесками заката. В глаза ему бросились еще какие-то знакомые и милые черточки — а ведь он в своем глупом самодовольстве был уверен, что они предназначаются для него одного: привычка откидывать голову назад перед тем как рассмеяться — она словно пробовала собственный смех на вкус, — или манера медленно опускать ресницы, когда что-то волновало ее или трогало.
Все, что Итан успел увидеть, больно задело его и пробудило дремавшие в нем страхи. Его супруга никогда не выказывала признаков ревности, но в последнее время беспрестанно ворчала, что в доме все делается не так, как следует, и разными окольными путями давала понять, что недовольна своей нерасторопной помощницей. Зена всегда была, как говорили в Старкфилде, «хворая», и Фрому волей-неволей приходилось признать, что если ее хворобы не выдуманные, то для помощи по хозяйству ей и вправду нужна пара более крепких рук, чем у Мэтти.
Хозяйственными способностями Мэтти не блистала, да и в родительском доме ее мало к чему приучили. Правда, она схватывала все на лету, но при этом была забывчива, рассеянна, а главное — не относилась к своим обязанностям всерьез. Итану думалось иногда, что, выйди она замуж по собственному выбору, в ней проснулся бы прирожденный инстинкт хозяйки, и ее печенья и соленья славились бы на всю округу; но работа по дому без ясной цели ничуть ее не привлекала. На первых порах все шло у нее вкривь и вкось — Итан частенько потешался над ее неумелостью, но она и сама смеялась вместе с ним, так что они быстро стали друзьями. Он старался как мог снять с нее часть забот — подымался раньше обычного, чтобы развести огонь в кухне, дрова приносил накануне вечером, забросил лесопилку и почти все время проводил на ферме, чтобы успеть и днем подсобить Мэтти по дому. В субботу вечером, дождавшись, пока женщины улягутся, он крадучись спускался в кухню и мыл пол, а однажды Зена застала его за ручкой маслобойки и молча пошла прочь, смерив мужа своим обычным непроницаемым взглядом.
С недавних пор он стал замечать и другие признаки ее недовольства — неопределенные, как и раньше, но явно тревожные. Как-то раз морозным зимним утром, когда он одевался при колеблющемся свете свечи — из неплотно пригнанного окна тянуло холодом, — Зена, еще лежавшая в постели, неожиданно нарушила молчание.
— Доктор не велит мне оставаться без помощи, — произнесла она своим всегдашним унылым тоном.
Он думал, что она еще спит, и при звуке ее голоса невольно вздрогнул, хотя и знал за женой привычку подолгу молчать, а потом ни с того ни с сего разражаться какой-нибудь речью.
Он обернулся и посмотрел на нее. В темноте контуры ее тела едва обозначались под ватным одеялом, а остроскулое лицо на белой подушке казалось тусклым и серым.
— Как это без помощи? — в недоумении повторил он.
— Ты же говоришь, что прислугу нам нанять не на что, а Мэтти-то не вечно здесь будет жить.
Фром снова повернулся к ней спиной, взял бритву, выпятил щеку и наклонился, пытаясь поймать свое отражение в мутном зеркале над умывальником.
— Где же ей еще жить, по-твоему?
— Возьмет да замуж выйдет, — протянула Зена.
— Пока она тебе нужна, никуда она отсюда не денется, — возразил он, энергично выскабливая подбородок.
— А я не желаю, чтоб люди говорили, будто я стою поперек дороги бедной девушке, мешаю ей выйти за такого самостоятельного парня, как Деннис Иди, — возразила Зена тоном обиженного самоуничижения.
Метнув в зеркало сердитый взгляд, Итан запрокинул голову, чтобы провести бритвой от уха к подбородку; рука у него не дрожала, но момент был ответственный, и под этим предлогом он промолчал.
— А доктор мне не велит оставаться без помощи, — снова завела Зена. — Сказал, чтоб я тебя предупредила. У него есть на примете одна девушка, вот и надо бы с ней поговорить…
Итан отложил бритву и, усмехнувшись, выпрямился.
— Деннис Иди! Ну, коли в нем вся опасность, горячку пороть рано, еще успеем прислугу подыскать.
— Как знаешь, мое дело сказать, — не унималась Зена.
Итан торопливо заканчивал одеваться.
— Ладно, будет. В другой раз потолкуем, а то я и так замешкался, — кинул он через плечо, поднося к свету свои старинные серебряные часы-луковицу.
Зена, по-видимому, поняла, что разговор окончен, и теперь помалкивала, глядя, как муж пристегивает подтяжки и всовывает руки в рукава куртки. Но когда он пошел к двери, она вдруг ядовито заметила ему вслед:
— Еще бы не замешкаться! Каждый день бы не брился, быстрей бы собирался.
Этот неожиданный выпад испугал его больше, чем туманные намеки на Денниса Иди. Действительно, после того как Мэтти Силвер поселилась у них, он стал бриться каждое утро; но жена его в этот ранний час обычно спала или делала вид, что спит — зимою Итан подымался затемно, — и он, как последний дурак, считал, что никакой перемены в его наружности она не заметит. По опыту прошлых лет он знал одну малоприятную особенность ее характера: она обычно не вмешивалась в ход событий и многого как будто вообще не замечала, но по прошествии недель, а то и месяцев вдруг какой-то вскользь брошенной фразой давала понять, что она преотлично все видела, взяла на заметку и сделала должные выводы. Правда, в последнее время голова его была занята совсем другим, так что всякого рода смутные опасения отодвинулись на задний план; да и сама Зена из гнетущей реальности незаметно превратилась в почти бесплотную тень. Вся его жизнь шла теперь под знаком Мэтти Силвер; кроме нее, он никого не видел и не слышал, и уже представить себе не мог, что можно жить как-то иначе. Но сейчас, пока он стоял под окном и видел, как Мэтти кружится в паре с Деннисом Иди, все намеки и угрозы, которые он дотоле не принимал всерьез, сплелись в единый клубок и заполонили его мысли…
ГЛАВА II
Когда веселье подошло к концу и молодежь стала расходиться, Фром укрылся за выступом тамбура, разделявшего наружную и внутреннюю двери, и оттуда наблюдал за разъездом гостей. То и дело луч фонаря выхватывал из группы нелепо закутанных фигур чье-нибудь юное лицо, раскрасневшееся от ужина и танцев. Те, кто жил в поселке и пришел пешком, первыми потянулись в гору, к главной улице; те же, кто приехал с окрестных ферм, еще толпились у навеса с лошадьми, шумно рассаживаясь по саням.
— А ты не едешь, Мэтти? — прокричал незнакомый женский голос, и сердце у Фрома дрогнуло. Тамбур загораживал от него выходящих — им надо было сделать несколько шагов вперед, чтобы попасть в его поле зрения; но звонкий голос, который раздался в ответ, прозвучал над самым его ухом:
— Боже упаси! В такую-то погоду!
Да, это была она — совсем рядом, близехонько; их разделяла только хлипкая дощатая перегородка. Вот сейчас она шагнет за порог, и его глаза, привыкшие к темноте, увидят ее так же ясно, как если бы на дворе была не ночь, а белый день. Внезапно накатившая робость заставила его снова укрыться за тамбуром, и вместо того чтобы показаться и окликнуть Мэтти, он продолжал стоять молча, прижавшись к стене. С самого начала их знакомства девушка, более живая, впечатлительная и открытая, ничуть не подавляла его — напротив, он исподволь перенимал присущую ей естественность и свободу обращения и сам удивлялся и радовался этому; но сейчас он чувствовал себя таким же неотесанным мужланом, что и в годы ученья в колледже, когда на загородном пикнике пытался приударить за вустерскими барышнями.
Он по-прежнему не двигался с места, а тем временем Мэтти вышла на улицу и остановилась в нескольких шагах от двери. Вышла она почти последняя и теперь растерянно оглядывалась, вероятно недоумевая, отчего не видно ее провожатого. И тут из темноты вынырнула закутанная до самых глаз мужская фигура; подошедший бесцеремонно стал к девушке вплотную, так что для Итана они оба слились в бесформенное пятно.
— Что, Мэтт, обманул тебя дружок, не явился? Ай-яй-яй, вот обидно-то! Ну ладно, не кручинься, так и быть, я никому не скажу. Я не сплетник, я человек благородный! (Как ненавистно было Фрому это дешевое, развязное зубоскальство!) Считай, что тебе повезло: папашины саночки — вот они, родимые, нас дожидаются!
И в ответ — недоверчиво-веселый голос Мэтти:
— Откуда тут возьмутся санки? Куда тебе ехать?
— Выходит, есть куда! Я и чалого жеребца запряг. Я как знал, что придется нынче ночью покататься! — Заранее торжествуя победу, Деннис попытался смягчить свой обычный наглый тон льстивыми нотками.
Девушка явно заколебалась, и Фром видел, как она в нерешительности теребит бахрому своей шали. Ни за что на свете он не выдал бы своего присутствия, хотя от ее решения зависела сейчас вся его жизнь — или по крайней мере так ему казалось…
— Погоди минутку, я отвяжу чалого! — крикнул Деннис и кинулся к навесу.
Мэтти стояла, глядя ему вслед, в позе спокойного ожидания, которая терзала душу нашему тайному соглядатаю. Он заметил, что Мэтти перестала напряженно всматриваться в темноту, словно ища кого-то глазами. Она не двигалась с места, пока Деннис Иди выводил лошадь, усаживался в сани и откидывал медвежью полсть, освобождая место для барышни; и вдруг, словно ее ветром сдунуло, повернулась и быстро пошла, почти побежала, вверх по косогору, огибая церковь.
— До свиданья! Желаю приятно прокатиться! — крикнула она на ходу, махнув ему рукой.
Деннис расхохотался и так хлестнул лошадь, что сани в два счета поравнялись с беглянкой.
— Хватит ломаться! Садись-ка живей! Тут на повороте вон какая скользота! — И Деннис перегнулся через бортик саней, протягивая ей руку.
Но она только рассмеялась в ответ:
— Спокойной ночи! Я с тобой не поеду!
На расстоянии их голоса уже не доносились до Фрома, и все дальнейшее превратилось для него в пантомиму теней, двигавшихся по гребню снежного косогора. Он увидел, как Деннис соскочил с саней и, перекинув через руку вожжи, направился к Мэтти. Свободной рукой он попытался ухватить ее под локоть, но она ловко увернулась, и сердце Фрома, замершее было на краю черной бездны, вздрогнув, возвратилось на свое законное место. Еще мгновенье — и он услышал затихающий звон бубенцов и различил на снежном пустыре перед церковью одиноко бредущую фигурку.
Он нагнал ее у дома Варнумов, в густой тени норвежских елок, и она, ахнув, обернулась.
— Небось подумала, что я про тебя забыл, а, Мэтт? — спросил он с радостной ухмылкой.
— Я подумала — вдруг что-нибудь случилось и ты не мог уйти из дому, — отвечала она серьезно.
— Новое дело! Из-за чего бы это я не мог уйти?
— Ну, мало ли — вот Зена с утра себя неважно чувствовала…
— Да она спит давным-давно. — Он помолчал, не решаясь задать вопрос, который вертелся у него на языке. — Так ты, стало быть, вознамерилась одна добираться до дому?
— Я ничего не боюсь! — засмеялась она.
Так они стояли вдвоем в темноте под елками, а вокруг, поблескивая под звездным небом, простирался безлюдный зимний мир. И Фром, собравшись с духом, задал свой вопрос:
— Если ты думала, что я не приду, отчего ты не поехала с Деннисом Иди?
— Господи, да где же ты был? Откуда ты знаешь? Я тебя там не видела!
Ее удивленные возгласы слились с его ответным смехом и дружно зазвенели в тишине, словно бегущие наперегонки ручейки талой воды. Свой поступок Итан находил теперь необыкновенно изобретательным и остроумным; он принялся лихорадочно составлять в голове какую-нибудь эффектную фразу, чтобы окончательно поразить воображение своей спутницы, однако смог произнести всего два слова охрипшим от волнения голосом:
— Ну, пошли.
Он взял ее под руку — как недавно пытался это сделать Деннис Иди, — и ему почудилось, что она чуть-чуть прижала его локоть к себе; но с места они не сдвинулись. Под елками было так темно, что он с трудом различал ее головку у своего плеча. Его подмывало нагнуться и потереться щекой о ее шаль. Он согласился бы простоять тут с нею всю ночь напролет.
Она сделала несколько нерешительных шагов вперед и вновь остановилась, глядя на обледенелый спуск, изборожденный бесчисленными следами санных полозьев и похожий на старое, поцарапанное зеркало на постоялом дворе.
— Сколько народу тут сегодня каталось, пока луна не зашла! — сказала Мэтти.
— А ты бы хотела тоже как-нибудь вечерком покататься?
— Ой, Итан, правда? Мы вдвоем? Вот было бы славно!
— Давай хоть завтра, если луна будет.
Она помедлила в раздумье, теснее прижимаясь к нему.
— Что сегодня было! Нед Хейл и Рут Варнум чуть не наехали на старый вяз — там, внизу. Все так перепугались, решили, что они убились. — Мэтти поежилась, и эта легкая дрожь передалась ему. — Вот был бы ужас, правда? Они сейчас такие счастливые!
— Нед Хейл растяпа, он и править толком не умеет. Вот я, например, могу тебя с этой горы так скатить, что любо-дорого будет смотреть!
Он и сам чувствовал, что расхвастался не хуже Денниса Иди, но его не покидало настроение беспечной веселости; к тому же слова Мэтти, сказанные о женихе и невесте— «Они сейчас такие счастливые!» — прозвучали для него так, словно она думала о нем и о себе.
— Все равно это дерево очень опасно стоит. Надо было давно его срубить, — не уступала Мэтти.
— И ты побоялась бы съехать? Со мной?
— Я же сказала — я ничего не боюсь! — неожиданно равнодушно бросила Мэтти и тут же быстро пошла вперед.
Эти моментальные смены настроений, хорошо знакомые Итану, повергали его то в восторг, то в смятение. Повороты ее мысли были так же непредсказуемы, как движения птицы, перелетающей с ветки на ветку. То обстоятельство, что он не имел права выказывать свои чувства и ожидать ответного проявления чувств от нее, придавало непомерную важность любой перемене, которую он ловил в ее взгляде или голосе. То он решал, что она догадывается обо всем, и его охватывал страх, то вдруг уверялся, что она ни о чем не догадывается, и приходил в отчаяние. Нынче вечером под тяжестью накопившихся опасений и дурных предчувствий весы явно склонялись в сторону отчаяния, и внезапная холодность Мэтти подействовала на него как ведро ледяной воды — особенно после прилива жаркой радости, которую он испытал, когда она дала отставку Деннису Иди. Молча они поднялись на Школьную горку, так же молча спустились с нее и пошли дальше. Перед самым поворотом на лесопилку Итан не выдержал: ему надо было услышать что-то определенное, он не мог дольше мучиться неизвестностью.
— Ты бы меня сразу увидела, если б не осталась плясать со своим Деннисом, — проговорил он запинаясь. При одном звуке этого ненавистного имени у него судорожно сжималось горло.
— Господи, Итан, ну откуда же мне было знать, что ты ждешь?
— Наверно, правду люди говорят, — буркнул он вместо ответа.
Она остановилась и подняла к нему лицо — он почувствовал это скорее, чем увидел.
— Что такое? Что еще люди говорят?
— Смотришь, как бы бросить нас поскорей, — продолжал свою мысль Итан, с трудом выдавливая слова.
— Ах вон что люди говорят! — со смехом передразнила его она и тут же упавшим голосом спросила: — Может быть, это Зена… не хочет, чтобы я у вас жила?
Он больше не держал ее под руку; они стояли друг против друга, и каждый силился разглядеть в темноте лицо собеседника.
— Я знаю, я все не так делаю, как надо бы, — торопливо продолжала она, покуда он тщетно бился в поисках нужного слова. — Я копуша, косолапая, любая работница в сто раз лучше со всем управится, да и силы у меня маловато. Ну так пускай бы она сказала, если что не по ней! А то молчит по целым дням, будто язык проглотила — знаешь ведь, какая она. Я и сама часто вижу, что я ей не угодила, а чем — ума не приложу. — Вспылив, она вдруг напустилась на него: — Она молчит, так хоть бы ты мне говорил! Или тоже глядишь, как бы от меня избавиться?
Избавиться! Этот гневный выкрик был для него как бальзам на свежую рану. Ледяные небеса над ним растаяли и пролились животворным дождем. Итан взял Мэтти под руку и стал опять подыскивать всемогущее, всевыражающее слово — и опять не смог найти ничего, кроме глухого «ну, пошли»…
Они молча повернули в ту сторону, где в ночи смутно маячила фромовская лесопилка, и в полной тьме миновали проселок, окаймленный зарослями гемлока. На открытом месте было посветлее; вокруг расстилались поля, пустынные и серые под звездным небом. Тропинка то ныряла в овражек, то врезалась в сквозистую тень деревьев, сбросивших листву. Среди полей там и сям мелькали в отдалении фермерские дома, немые и холодные, как могильные камни. Ночь стояла такая тихая, что слышно было, как снег поскрипывает под ногами. Треск сучка, обломившегося под тяжестью снега далеко в лесу, разносился окрест, словно ружейный выстрел, один раз они услышали лай лисицы, и Мэтти, вздрогнув, теснее прижалась к своему провожатому и ускорила шаг.
Мало-помалу впереди стала вырисовываться купа лиственниц у ворот фромовской фермы, и, чувствуя, что путь подходит к концу, Итан снова обрел дар речи.
— Так ты не собираешься нас бросать, Мэтт?
Ему пришлось наклониться, чтобы разобрать ее сдавленный шепот:
— Куда б я тогда делась-то?..
Сами по себе эти слова резанули его, но тон, которым они были сказаны, переполнил его ликованьем. На радостях все, о чем он еще готовился спросить, вылетело у него из головы; он только крепче прижал к себе локоть Мэтт, и ему показалось, будто по его жилам струится тепло ее тела.
— Ты часом не плачешь, а, Мэтт?
— Вот еще! С какой стати! — проговорила она прерывающимся голосом.
Они свернули в ворота и стали подыматься к дому, оставив в стороне тенистый холм, где за низкой оградой виднелись покосившиеся, наполовину занесенные снегом семейные надгробия Фромов. Итан задержал на них взгляд с каким-то странным чувством. Все предыдущие годы это молчаливое сообщество как бы насмехалось над его метаниями, над его тягой к свободе и переменам. На каждом из старых могильных камней ему чудилась надпись: «Здесь мы родились, здесь и остались на веки вечные; и тебя ждет та же участь». Всякий раз по дороге домой или из дому, проходя мимо них, Итан с дрожью говорил себе: «Вот так и я — живу, пока жив, а помру — станет одним камнем больше». Но сейчас ему не думалось ни о каких переменах, и вид этого уютного маленького кладбища подействовал на него согревающе, как воплощение преемственности и незыблемости существования.
— Мы тебя никуда не отпустим, — прошептал он, мысленно объединяясь с теми, кто покоился сейчас за оградой — ведь и они когда-то любили, и они должны были помочь ему удержать ее навсегда. И, проходя мимо могил своих предков и союзников, он повторял про себя: «Мы будем жить здесь вместе, долго-долго, а когда придет время, нас похоронят рядом».
Пока они медленно одолевали подъем, он целиком отдался во власть своего воображения. Картины его будущей жизни с Мэтти нередко рисовались перед ним, и никогда он не бывал так счастлив, как в эти минуты. На полдороге Мэтти обо что-то споткнулась и уцепилась за его рукав, чтобы не упасть; от этого прикосновения по его телу разлилась волна блаженного тепла, словно мечты его уже начинали сбываться. Впервые в жизни он отважился обнять ее за талию, и она не противилась. Остаток пути до дома они не прошли, а словно проплыли по ласковой летней реке.
Зена обыкновенно отправлялась спать сразу после ужина, и теперь окна, не защищенные ставнями, зияли чернотой. Над крыльцом шелестела и раскачивалась на ветру сухая огуречная плеть — словно черная лента, которую привязывают у входа, когда в доме покойник; и в голове у Итана мелькнула мысль: «Вот был бы это траур по Зене…» И тут же он отчетливо представил себе, как его жена спит наверху, приоткрыв рот, а в стакане с водой у кровати мокнут ее искусственные зубы…
Обогнув дом и осторожно ступая между залубеневшими от мороза кустами крыжовника, они подошли к кухонной двери. Если Зена знала, что они вернутся поздно, она запиралась на ночь и подсовывала ключ под половик с наружной стороны. Но Итан не торопился открывать дверь: он был еще во власти своих грез, и рука его все еще обнимала Мэтти.
— Мэтт… — начал он, сам толком не зная, что хочет сказать.
Девушка молча высвободилась; тогда он наклонился, чтобы нашарить ключ, и тут же в испуге выпрямился: ключа не было.
Они застыли у порога, растерянно вглядываясь друг в друга сквозь морозную тьму. Раньше ничего подобного не случалось.
— Может, она просто забыла? — произнесла Мэтти дрожащим шепотом, хотя оба знали, что Зена никогда ничего не забывает.
— А может, он в снег провалился, — продолжала Мэтти, после того как они с минуту постояли, напрягая слух.
— Сам по себе? Навряд ли, — так же шепотом возразил Итан. Еще одна безумная мысль пронеслась у него в голове. А вдруг на дом напали грабители? А вдруг…
Он вновь прислушался, и на этот раз ему померещилось, что изнутри донесся какой-то отдаленный звук. Тогда он нашарил в кармане спичечный коробок и, припав на колено, чиркнул спичкой, чтобы посмотреть, нет ли на снегу у дома чужих следов.
Пригнувшись к самому порогу, он краешком глаза заметил, что из-под двери пробивается слабый свет. Кто мог расхаживать ночью в доме? Потом на лестнице послышались шаги, и снова мысль о грабителях мелькнула в его мозгу. Но тут дверь отворилась, и он увидел свою жену.
Она стояла на пороге, одной рукой придерживая на плоской груди стеганое одеяло — в другой у нее была лампа, и ее высокая, угловатая фигура резко обрисовывалась е черном дверном проеме. Лампа бросала безжалостный свет на ее дряблую шею и костлявые пальцы, сжимавшие край одеяла; на голове у нее красовался венчик из папильоток, и все выступы и впадины ее остроскулого лица приобрели вдруг пугающую рельефность. Итан, который после прогулки с Мэтти еще пребывал в краю безоблачных грез, воспринял это зрелище как необыкновенно отчетливый сон, обычно предшествующий пробуждению. Он с трудом возвратился к действительности и понял, что только сейчас впервые по-настоящему увидел свою жену.
Не говоря ни слова, она посторонилась, и Мэтти с Итаном прошли в кухню; после бодрящего морозного воздуха на них дохнуло могильным холодом.
— Ты, наверно, про нас забыла, Зена, — пошутил Итан, стряхивая с сапог снег.
— Нет. Я себя погано чувствовала, не могла уснуть.
Мэтти подошла к ней, разматывая на ходу свои платки и накидки; снова мелькнула ее малиновая шаль, отсвечиваясь в ярких губах и пылавших румянцем щеках.
— Ах, Зена, бедненькая! Может, что-нибудь нужно сделать?
— Ничего мне не нужно. — Зена демонстративно отвернулась. — Снег-то мог бы и на крыльце стряхнуть, — попрекнула она мужа.
Она вышла из кухни и, задержавшись в прихожей, подняла лампу повыше, как бы освещая им обоим путь вверх по лестнице.
Итан тоже замешкался, делая вид, что никак не может найти колок, на который он вешал свою куртку и шапку. Супружеская спальня и комната Мэтти выходили на узкую лестничную площадку дверь в дверь, и сегодня ему было особенно непереносимо на глазах у Мэтти подниматься по ступенькам вслед за женой.
— Я, пожалуй, не пойду еще спать, — сказал Итан, шагнув в сторону кухни.
Зена остановилась и смерила его взглядом.
— Побойся бога — что сейчас внизу делать?
— Надо к завтрему кой-какие счета проверить.
Она еще постояла, глядя на него в упор, и не затененная щитком лампа продолжала высвечивать в мельчайших подробностях ее брюзгливое лицо, со всеми его складками и морщинами.
— В этакую-то поздноту? Да ты прозябнешь до смерти. Печка давно прогорела.
Не отвечая, он двинулся к кухонной двери — и тут ему почудилось, что Мэтти сквозь полуопущенные ресницы кинула на него быстрый предостерегающий взгляд. Еще мгновенье — и ресницы скова опустились; девушка прошла вперед и стала подниматься по лестнице.
— Что верно, то верно. Холод тут зверский, — согласился Итан. Понурив голову, он последовал за женой и наверху молча затворил за собою дверь супружеской спальни.
ГЛАВА III
На другой день Итан рано вышел из дому: на лесопилке его ждала срочная погрузка. Стояло ясное морозное утро. В безоблачном небе пламенела заря; на заснеженной опушке ближней рощицы лежали густо-синие тени. Кругом, насколько хватал глаз, тянулись сверкающие белизной поля, а на горизонте дымком стлались далекие, еле различимые полоски леса.
В этой утренней тишине, когда его мышцы были заняты привычным делом, а легкие вдыхали полной мерой целительный горный воздух, мысль Итана работала с особенной ясностью. Вчера за закрытой дверью спальни он и Зена не обменялись ни словом. Она только взяла со стула у кровати пузырек, накапала себе каких-то капель, выпила, замотала голову лоскутом желтой фланели и улеглась лицом к стене. Итан торопливо разделся и задул лампу — ему не хотелось видеть жену, ложась в постель с ней рядом. Какое-то время он еще слышал, как Мэтти ходит по комнате напротив; горевшая у нее свеча бросала слабый отблеск на площадку, и под дверью спальни виднелась узенькая полоска света. Итан не отрывал от нее глаз, пока она не погасла. Наступила полная темнота, и слышно было только свистящее дыхание Зены. Итан смутно сознавал, что ему следует о многом поразмыслить, но в его усталом мозгу и напряженных нервах сейчас жило только одно ощущение: теплое плечо Мэтти у его плеча. Почему он не поцеловал ее, когда она была так близко? Несколько часов назад такой вопрос и в голову бы ему не пришел. Да что там часов — даже несколько минут назад, когда они вдвоем стояли перед домом, он и подумать не посмел бы о том, чтобы поцеловать ее. Но чуть позже, увидев ее лицо в луче лампы, он внезапно почувствовал, что ее губы принадлежат ему.
И теперь, в прозрачном утреннем воздухе, ее лицо все еще стояло перед ним. Оно мерещилось ему и в алых отсветах зари, и в блеске нетронутого снега. Как изменилась девушка с тех пор как приехала в Старкфилд! В тот памятный день год назад, на станции, она показалась ему тщедушной и бесцветной. А как она дрожала от холода в первую зиму, когда северный ветер грозился разнести в щепки дощатые стены дома, а снежный град яростно барабанил по стеклам неплотно пригнанных окон!
Поначалу он опасался, что девушка возненавидит здешнюю тяжелую жизнь, холода и уединенность; но за все это время она ни разу не проявила недовольства. Зена объясняла это просто: поскольку Мэтти все равно деваться некуда, она волей-неволей должна делать вид, что ей тут нравится. Но Итан не удовлетворялся таким объяснением, тем более что сама Зена отнюдь не следовала этому разумному принципу.
Он испытывал к Мэтти сочувствие и жалость еще и потому, что по печальному стечению обстоятельств он как бы сделался ее опекуном. Отец Мэтти Силвер, состоявший с женой Фрома в родстве, совершил в свое время поступок небывалой решимости — он променял родные горы на Коннектикут, женился там на уроженке Стамфорда и унаследовал от своего тестя процветающее предприятие по производству медикаментов. Многочисленная родня завидовала и восторгалась, но, к несчастью, Орин Силвер, человек незаурядного размаха, умер, не успев продемонстрировать на собственном примере, что цель оправдывает средства. Ревизия его финансовой отчетности обнаружила только характер самих средств — и хорошо еще, что это произошло не до, а после пышных похорон, которые устроили главе семьи жена и дочь. Когда махинации покойного Силвера выплыли наружу, вдова не вынесла позора и скончалась, а Мэтти в двадцать лет осталась брошенной на произвол судьбы, имея за душой пятьдесят долларов, вырученных от продажи фортепьяно. Оказалось, однако, что при всех ее разнообразных дарованиях к жизни она была подготовлена недостаточно. Она умела отделать цветами шляпку, сварить из патоки карамель, прочесть с выражением «Не раздастся звон вечерний»[203] и сыграть на фортепьяно «Молитву девы»[204] или попурри из оперы «Кармен». Когда она попыталась расширить сферу своей деятельности за счет изучения стенографии и основ бухгалтерии, ее здоровье стало сдавать, а шесть месяцев, проведенные на ногах за прилавком большого магазина, окончательно его подорвали. Ближайшие родственники Мэтти, поддавшись в последние годы на уговоры ее покойного отца, доверили ему свои сбережения; и хотя после его смерти они безропотно исполняли свой христианский долг и за зло воздавали добром, давая дочери Силвера все имевшиеся у них в запасе добрые советы, ожидать от них вдобавок и материальной поддержки, разумеется, не приходилось. Но когда доктор, лечивший Зенобию Фром, порекомендовал ей подыскать кого-нибудь для помощи по хозяйству, вся родня моментально сообразила, что тут из Мэтти удастся извлечь хоть какую-то выгоду. Сама же Зена, не возлагая особых надежд на расторопность своей будущей помощницы, соблазнилась тем, что к ней можно будет вволю придираться без опасения, что та возьмет расчет. Так Мэтти попала в Старкфилд.
Недовольство и придирки Зены почти не выражались в словах, но тем не менее задевали за живое. Все первые месяцы Итан то сгорал от желания увидеть, как Мэтти наконец выйдет из себя и ответит Зене какой-нибудь дерзостью, то мучился страхом за последствия подобной вспышки. Но мало-помалу обстановка разрядилась. Деревенский воздух и долгие летние дни, когда Мэтти с утра до вечера находилась на улице, вернули краски ее щекам и упругость походке; в свою очередь Зена, получив возможность больше времени уделять своим многочисленным недомоганиям, несколько ослабила бдительность и перестала цепляться к Мэтти на каждом шагу, так что Итан, который, как прежде, тянул свой воз, выжимая все что можно из скудородных полей и маломощной лесопилки, совсем было решил, что в его доме воцарился мир.
Собственно говоря, и сейчас не было веских причин считать, что этот мир нарушен; но со вчерашнего вечера на горизонте маячил какой-то неясный страх. Он складывался сразу из многого: из враждебного молчания Зены, из тревожного предостерегающего взгляда Мэтти и из других всплывавших в памяти мимолетных и неуловимых примет, похожих на те, по которым иногда утром, еще при совершенно безоблачном небе, мы угадываем, что к вечеру разразится гроза.
Страх этот был так силен, что Итан, как все мужчины, подсознательно оттягивал время. С погрузкой он управился только к середине дня, и поскольку бревна и доски нужно было доставить Эндрю Хейлу, старкфилдскому плотнику, Итан прикинул, что разумнее будет, если он сам повезет их в поселок, а своего подручного, Джотама Пауэлла, отправит на ферму пешком. Он запряг в сани пару серых рабочих лошадок, взобрался наверх и уже примостился было на штабеле досок, когда вдруг, заслонив на мгновенье вспотевшие лошадиные шеи, перед ним возникло лицо Мэтти и тот быстрый, тревожный взгляд, который она метнула на него накануне.
— Нет, если там начнется какая-нибудь история, надо мне быть на месте, — смутно мелькнуло у него в голове, и он тут же велел немало удивленному Джотаму выпрячь лошадей и отвести их обратно в конюшню.
До дому они добирались довольно долго, увязая в глубоком снегу, и когда наконец вошли в кухню, Зена уже сидела за столом, а Мэтти снимала с плиты кофейник. Взглянув на жену, Итан обомлел. Вместо обычного бесформенного ситцевого капота и вязаной шали на ней было ее лучшее мериносовое коричневое платье, а прическу, хранившую следы вчерашней завивки, венчала твердая перпендикулярная шляпка, последние воспоминания о которой относились у Итана к тому дню, когда он на ярмарке в Бетсбридже выложил за нее пять долларов. Рядом на полу стоял старый чемодан и обернутая газетами картонка.
— Батюшки, куда это ты собралась, Зена? — еле выговорил Итан.
— У меня опять почечные колики и в ноги отдает, так что я решила съездить в Бетсбридж. Переночую у тетушки Марты Пирс и покажусь тамошнему новому доктору, — отвечала Зена своим обычным невыразительным голосом — точно так, как сообщила бы, что собирается подняться на чердак проветрить одеяла или в чулан поглядеть, не портятся ли ее припасы.
Несмотря на то, что Зена была заядлая домоседка, она уже дважды или трижды на памяти Итана ни с того ни с сего укладывала чемодан и отправлялась в Бетсбридж, а то и дальше — в Спрингфилд, чтобы посоветоваться с каким-нибудь новым городским доктором, всякий раз повергая мужа в трепет, потому что эти поездки обходились ему недешево. Возвращалась она всегда с целой кучей дорогостоящих лекарств, а ее последняя экспедиция в Спрингфилд ознаменовалась тем, что она потратила двадцать долларов на какую-то электрическую батарею, которой так и не научилась пользоваться. Но сейчас Итан испытал несказанное облегчение, вытеснившее все иные чувства. Он окончательно уверился, что Зена не кривила душой, объясняя свою вчерашнюю бессонницу «поганым» самочувствием: внезапное решение показаться врачу явно свидетельствовало о том, что она, как всегда, была без остатка поглощена заботой о собственном здоровье.
Как бы предвидя возможные возражения, Зена кислым тоном добавила:
— Ты, конечно, лесопилку не бросишь, но уж по крайней мере пускай Джотам меня подвезет на гнедом до станции и посадит в поезд.
Итан слушал ее вполуха. В зимние месяцы сообщение между Старкфилдом и Бетсбриджем было не очень надежным — почтовый дилижанс не ходил, а поезда, которые останавливались в Корбери-Флэтс, курсировали редко, да и то вечно опаздывали. Итан быстренько прикинул в уме, что при всех обстоятельствах Зена попадет домой не раньше завтрашнего вечера…
— Ну вот, знала бы я, что ты Джотама не отпустишь… — снова начала Зена, очевидно приняв его молчание за отказ. Перед отъездом ее всегда почему-то прорывало, и она разражалась длиннейшими монологами. — Ладно, все мне ясно, только имей в виду — я в таком состоянии долго не протяну. У меня теперь вся боль вниз спустилась, до самых лодыжек сверлит, а то стала бы я перед тобой одалживаться, пешком бы лучше дошла до Старкфилда да попросила Майкла Иди, чтоб он меня посадил на свой фургон — он его так и так всякий день за товаром посылает к поезду. Конечно, часа два пришлось бы просидеть на станции, ну и пускай, мне легче на морозе ждать, чем слушать, как ты станешь отговариваться…
— Господи, да отвезет тебя Джотам, — выговорил наконец Итан. Он вдруг поймал себя на том, что пока Зена произносила свою тираду, он не сводил глаз с Мэтти, и только теперь с усилием перевел взгляд на жену. Она сидела напротив окна, и в бледном отсвете снежных сугробов ее лицо показалось ему бескровнее и мертвеннее обычного. Параллельные морщины на щеках, по три с каждой стороны, сделались еще резче, а от носа к углам поджатых губ протянулись брюзгливые складки. Хотя она была старше мужа всего на семь лет, а ему только недавно минуло двадцать восемь, она уже глядела старухой.
Итан попытался сказать что-нибудь приличествующее случаю, но в голове его вертелась одна-единственная мысль: ведь с тех пор как Мэтти жила у них, Зена ни разу не уезжала из дому с ночевкой. И вот сегодня… А Мэтти — о чем-то она сейчас думает? Может быть, тоже об этом?
Он понимал, что Зена, наверно, ждет, чтобы он отправил Джотама с досками в Старкфилд и отвез бы ее на станцию сам, но он никак не мог придумать подходящей отговорки и в конце концов брякнул:
— Я бы и сам тебя подвез, да Хейл обещал со мной сегодня рассчитаться.
Сказавши это, он с досады чуть не прикусил себе язык: во-первых, это была грубая ложь, поскольку никакой надежды получить с Хейла наличными не имелось, а во-вторых, как он знал по собственному горькому опыту, крайне опрометчиво было в канун очередной медицинской вылазки давать Зене понять, будто он при деньгах. Но, как бы там ни было, под этим предлогом он избавлялся от мучительно долгой поездки на станцию в обществе своей супруги — престарелый гнедой умел передвигаться только шагом.
Зена ничего не ответила — казалось, она пропустила его слова мимо ушей. Она уже отодвинула тарелку и теперь отмеривала себе микстуру из вместительной бутылки, стоявшей рядом.
— Пользы от этого питья никакой, но уж начала, так надо допить, не выливать же, — заметила она и, шаркнув порожней бутылкой по столу, кинула Мэтти: — Сумеешь отмыть, чтоб лекарством не пахло, можно будет в ней наливку поставить.
ГЛАВА IV
Как только его жена, погрузившись в сани, уехала, Итан снял с колка куртку и шапку. Мэтти мыла посуду, напевая мотив, который запомнился ей со вчерашних танцев. Он оделся и сказал: «Пока, Мэтт», и она весело отозвалась: «Пока, Итан!»
В кухне было тепло и светло. Косые лучи солнца проникали в окно с южной стороны дома и освещали фигурку Мэтти, хлопотавшей у стола, дремлющую на стуле кошку, горшки с геранью, которую Итан летом посадил перед крыльцом, чтобы у Мэтти был «палисадничек», а осенью выкопал и перенес под крышу. Уходить ему не хотелось. Он с радостью подождал бы, пока Мэтти кончит прибираться и усядется за шитье, но рассудил, что лучше поскорее разделаться с досками и засветло вернуться на ферму.
Всю дорогу от лесопилки до поселка он не переставая думал о том, как он вернется домой — к Мэтти. Даже собственная убогая кухня рисовалась ему вожделенным местом. Конечно, по сравнению с детскими воспоминаниями Итана она выглядела довольно жалко — не то что при матери, когда все там сияло и сверкало; но уже одно отсутствие Зены придавало кухне на удивление уютный вид. И ему представилось, какое блаженство наступит после ужина, когда, закончив все дела, они с Мэтти смогут провести долгий вечер вдвоем. Ни разу еще они не оставались одни в доме, и он заранее предвкушал, как они усядутся у печки, друг против друга, словно муж и жена; он снимет сапоги, чтобы дать ногам отдых, и раскурит трубку, и будет слушать ее смех и голос. Ее разговор никогда не мог ему наскучить, потому что говорила она не как все, а по-особенному, по-своему, и всякий раз он слышал ее как будто впервые.
Любуясь картиной, возникшей в его воображении, Итан одновременно радовался тому, что Зена явно не собиралась затевать никакой «истории» и опасаться, в сущности, было нечего. Поэтому настроение у него окончательно исправилось, и посреди безлюдных снежных полей он, обычно такой молчаливый, принялся напевать и насвистывать, погоняя своих косматых лошаденок. В нем дремала еще искорка общительности, которую не успели загасить бесконечные старкфилдские зимы. По природе немногословный и замкнутый, он любил в других бесшабашность и веселый нрав, и всякое проявление дружеского интереса согревало его душу. В Вустере он пользовался среди товарищей репутацией нелюдима и некомпанейского парня, однако ему было втайне приятно, когда кто-нибудь бесцеремонно хлопал его по спине и бросал на ходу: «Здорово, старик!» или «Как жизнь, старое чучело?» И позднее, вернувшись в мрачный, холодный Старкфилд, он вдвойне оценил теплоту студенческого панибратства.
Дома год от года вокруг него сгущалось молчание После несчастья с отцом на плечи Итана лег двойной груз — и хозяйство, и лесопилка, так что времени ходить на молодежные сборища совсем не оставалось. Когда же заболела мать, тишина в доме сделалась еще тягостнее, чем пустынное безмолвие полей. В прежние годы мать Итана была охотница поговорить, но с тех пор, как на нее напала «хвороба», голос ее слышался в доме все реже и реже, хотя дара речи она не лишилась. Бывало, долгим зимним вечером сын не выдерживал и начинал упрашивать ее «вымолвить хоть словечко»; тогда она медленно поднимала палец и отвечала: «Не могу — я слушаю…» Если же он пытался заговорить с ней во время ненастья, когда вокруг дома завывал ветер, она только жаловалась в ответ: «Больно уж они там шумят, я из-за них тебя и не слышу».
Только когда она окончательно слегла и из соседней долины приехала дальняя родственница Фромов, Зенобия Пирс, чтобы помочь Итану ходить за больной, в доме снова зазвучала человеческая речь. После длительного одиночного заключения и пытки тишиной говорливость Зены показалась ему волшебной музыкой. Он чувствовал, что еще немного — и он сам бы «тронулся», как мать, если б не этот новый голос, который так вовремя поддержал его. Зена мгновенно оценила положение. Она высмеяла его за неумелость и незнание простейших вещей по части ухода за больными, а потом велела «идти подобру-поздорову» и в ее дела не мешаться, потому что она со всем управится сама. Уже одно то, что кто-то в доме стал решать за него и он смог вернуться к своим прямым обязанностям и к общению с людьми, восстановило его пошатнувшееся душевное равновесие — и он тут же убедил себя, что он у Зены в неоплатном долгу. Ее энергия и расторопность были ему живым укором. Казалось, она от рождения владела всеми секретами и хитростями домоводства, которых он так и не сумел постичь за двадцать с лишним лет ученичества. Она распоряжалась — он слушался. Когда наступил конец, она должна была втолковать ему, что надо заложить лошадь в сани и ехать за гробовщиком, а потом никак не могла уразуметь, почему он загодя не выспросил у матери, кому отдать после нее одежду и швейную машинку. После похорон, увидав, что Зена укладывается в дорогу, он вдруг панически испугался одиночества и, плохо сознавая, что делает, кинулся к ней и попросил остаться в его доме — навсегда. Позднее ему не раз приходило в голову, что ничего бы этого не случилось, умри его мать не зимой, а весной…
Перед женитьбой они договорились, что как только Итану удастся уладить денежные затруднения, возникшие за время долгой болезни матери, они продадут лесопилку и ферму и попытают счастья в большом городе. Любовь Итана к природе не была равнозначна приверженности к ремеслу земледельца. Ему всегда хотелось стать инженером и жить в городах, где читаются публичные лекции, где есть библиотеки и где люди занимаются «чем-то стоящим». Когда он учился в Вустере, ему довелось несколько недель поработать механиком во Флориде, и это укрепило его веру в свои силы и желание повидать мир; и теперь он был убежден, что с такой оборотистой женой, как Зена, быстро сумеет отвоевать себе в этом мире прочное место.
Деревня, где выросла Зена, была побольше и поближе к железной дороге, чем Старкфилд, и с самого начала она дала Итану понять, что не за тем выходила замуж, чтобы заживо похоронить себя в глуши. Но, время шло, покупателей на ферму все не подворачивалось, и мало-помалу Итан осознал, что Зена и сама отдумала переезжать. На своих старкфилдских соседей она смотрела свысока, и это ее вполне устраивало; переселяться же в другое место с риском, что там кто-то станет смотреть свысока на нее, ей отнюдь не улыбалось. Даже в таких городках, как Бетсбридж или Шедс-Фолз, ее вполне могли бы недооценить, а в городах покрупнее, куда, собственно, и стремился Итан, она и вовсе бы утратила свое лицо. Вдобавок уже через год после замужества у нее обнаружились всевозможные «хвори», которые в дальнейшем расцвели пышным цветом и даже прославили Зену на весь поселок, где разных неслыханных болезней и так было хоть отбавляй. Когда она приехала ухаживать за его матерью, она показалась Итану воплощением здоровья, но довольно скоро он понял, что лекарские навыки она приобрела прежде всего благодаря углубленному изучению собственных недугов.
Потом и она замолчала. Возможно, это был неизбежный результат уединенного образа жизни на ферме, а возможно, причина была в том, что Итан, как она утверждала, «никогда ее не слушал». Обвинение это имело под собой некоторую почву. Все речи Зены сводились к жалобам и сетованиям, а сетовала она, как правило, на то, чего он не в силах был изменить; и чтобы не ответить ей какой-нибудь резкостью, Итан сперва выработал у себя привычку никак не отзываться на ее слова, а потом и вообще отучился в определенных обстоятельствах слушать, думая о своем. Правда, в последнее время, когда у него появились основания присматриваться к жене внимательнее обычного, ее упорное молчание стало внушать ему тревогу. Он припомнил, как постепенно отвыкала говорить его мать, и забеспокоился: он ведь слыхал, что на женщин частенько «находит стих». Еще при жизни матери Зена, которая знала наперечет, кто чем болеет во всей округе, рассказывала ему про разные случаи тихого помешательства, да и от соседей доводилось слышать то про одну, то про другую фермерскую семью, где годами содержались в четырех стенах несчастные умалишенные; бывало и так, что из-за них в доме разыгрывались настоящие трагедии. Порой при виде угрюмо сжатых губ жены у него мороз пробегал по коже от недобрых предчувствий. Порой же ему мерещилось, что молчание ее только напускное и за ним скрываются какие-то далеко идущие замыслы, что в ее мозгу роятся таинственные подозрения, а сердце разъедает злоба. Такая возможность пугала его еще больше, и как раз об этом он подумал вчера, увидав свою жену на пороге.
Но сегодня, с отъездом Зены в Бетсбридж, он окончательно успокоился, и мысли его целиком сосредоточились на перспективе провести вечер с Мэтти. Его угнетало только одно обстоятельство — то, что он сболтнул насчет денег, которые якобы рассчитывал получить за доски. Он так явственно предвидел последствия своей неосмотрительности, что скрепя сердце решился попросить у Эндрю Хейла хотя бы часть платы вперед.
Когда Итан въехал к Хейлу во двор, его заказчик как раз вылезал из саней.
— Здорово, Ит! — крикнул он. — Молодец, что привез. Эндрю Хейл, седоусый и краснолицый, за последние годы раздобрел и не стеснял воротничками свой щетинистый двойной подбородок, но на его безукоризненно свежей рубашке всегда красовалась запонка с брильянтиком. Правда, это выставленное напоказ благосостояние мало кого обманывало: хотя дела у него шли неплохо, все в Старкфилде знали, что он частенько увязает в долгах под бременем расходов на содержание большой семьи, а также по причине собственной беспорядочности. Он состоял в дружеских отношениях еще с родителями Итана, и его дом принадлежал к числу немногих, куда время от времени выбиралась Зена: ее привлекало то, что жена Хейла в молодости перелечила чуть ли не всех своих односелян и до сих пор слыла непревзойденной мастерицей по части пользования больных.
Хейл подошел к лошадям Итана и похлопал их по дымящимся бокам.
— Ну, брат, — пошутил он, — я смотрю, ты их забаловал: ишь какие гладкие!
Итан сразу принялся за разгрузку; закончив, он прошел к сарайчику, служившему Хейлу конторой, и толкнул застекленную дверь. Хейл сидел спиной к заваленному бумагами столу и грел ноги на печке; это тесное рабочее помещение показалось Итану таким же теплым, добродушным и беспорядочным, как сам хозяин.
— Присаживайся, оттай малость, — кивнул он Итану. Наш герой долго не знал, с чего начать, но в конце концов собрался с духом и, запинаясь, попросил у Хейла полсотни долларов аванса. Тут же он едва не сгорел со стыда, увидев нескрываемое удивление на лице своего собеседника. Обычно Хейл рассчитывался с поставщиками не раньше чем через три месяца, и в его практике не было еще случая, чтобы он сразу платил наличными.
Итан сознавал, что, сошлись он на крайнюю нужду в деньгах, Хейл, вероятно, поступился бы своими правилами и как-нибудь выкроил бы ему эти несчастные полсотни; однако прибегнуть к такому средству ему мешало не только самолюбие, но и инстинктивная осторожность. Он помнил, сколько времени прошло после смерти отца, покуда ему удалось твердо встать на ноги, и не хотел, чтобы Эндрю Хейл — или неважно кто еще в Старкфилде — думал, что он снова теряет под собой почву. Кроме того, ложь всегда была ему не по нутру: нужны деньги— значит, нужны, а зачем — это никого не касается. Поэтому с Хейлом он говорил сухим, натянутым тоном гордеца, который даже самому себе не хочет признаться, что унижается до просьбы, — и отказ, в сущности, не явился для него неожиданностью.
Хейл отказал Итану так же добродушно, как он делал все остальное: он обратил разговор в шутку и поинтересовался, не надумал ли Итан приобрести рояль или соорудить для красоты на своем доме «кумпол» — в последнем случае он готов был бесплатно предложить свои услуги.
Итан не знал, куда девать глаза. Немного помявшись, он пожелал Хейлу всего хорошего и уже открыл было дверь на улицу, когда Хейл вдруг окликнул его:
— Слушай-ка, — а у тебя часом не поджимает с деньгами?
И тут самолюбие Итана, не дав вступиться благоразумию, поспешило ответить:
— Нет, что вы!
— Ну, тогда ладно. Я-то, правду тебе сказать, порядком поиздержался. Если хочешь знать, я сам тебя хотел просить повременить малость с расчетом. Дела сейчас идут не бог весть как, да я еще тут обещал домишко отделать для своих молодых — свадьба-то уже не за горами. Мне, конечно, охота им сделать приятное, что Неду, что Рут, да ведь даром-то ничего не достается. — Он покосился на Итана, ожидая сочувствия. — А молодежи подавай все новенькое да свеженькое. Ты небось лучше меня знаешь — сам не так давно в доме блеск наводил, как женился на Зене.
Итану надо было завернуть в поселок по делу; он оставил лошадей на конюшне у своего заказчика и отправился дальше пешком. Прощальное замечание Хейла все звучало у него в ушах, и он, горько усмехаясь, думал, что, выходит, с точки зрения Старкфилда семь лет с Зеной — это еще срок небольшой, раз женился он «не так давно»…
День клонился к вечеру; там и сям в домах засветились окошки, поблескивая в холодных серых сумерках, а снег словно стал еще белее. Мороз загнал всех под крышу, и длинная деревенская улица была пустынна. Вдруг Итан услышал веселый перезвон бубенцов, и навстречу ему вынеслись запряженные резвой лошадью сани. Он узнал чалого жеребца Майкла Иди, успел разглядеть и Денниса в щегольской меховой шапке — парень обернулся и помахал ему рукой. «Здорово, Ит!» — крикнул он и покатил дальше.
Сани исчезли в направлении фромовской фермы; треньканье бубенцов понемногу затихло, но сердце у Итана тревожно сжалось. Может статься, Деннис прослышал об отъезде Зены и теперь пользуется случаем застать Мэтти одну и провести с ней часок? В груди у Итана поднялась такая буря ревности, что ему самому стало стыдно. Нет, допускать такие мысли по отношению к Мэтти было несправедливо: она ничем этого не заслужила.
Он продолжал идти в сторону церкви и вскоре поравнялся с калиткой Варнумов, где накануне они с Мэтти стояли под густым шатром норвежских елок. Тут как раз прямо перед собой он заметил какую-то неясную тень. При его приближении тень на мгновенье распалась надвое, потом опять слилась, и он услышал звук поцелуя и притворно-испуганное «ой!» — очевидно, его заметили. Потревоженная тень снова торопливо раздвоилась, на сей раз окончательно — за одной ее половинкой захлопнулась калитка, другая бодро зашагала прочь. Итана все это позабавило. Чего, собственно, они так переполошились? Ну, увидел кто-то, как они целуются, — все равно ведь все а Старкфилде знали, что Нед Хейл и Рут Варнум — жених и невеста. На том самом месте, где Итан спугнул влюбленных, они с Мэтти стояли вчера, чувствуя, как неодолимо их влечет друг к другу. Такое совпадение было приятно Итану, но мысль о том, что застигнутой им парочке не надо прятаться и скрывать свое счастье, наполнила его сердце горечью.
Вернувшись к Хейлу, он забрал лошадей и пустился в обратный путь на ферму. Мороз к вечеру немного отпустил; небо сплошь заволоклось тучами и обещало на завтра снег. Кое-где сквозь облака проглядывала одинокая звездочка в воронке густеющей синевы. Через час-другой над горами за фермой должна была взойти луна. Ее холодный огонь лишь ненадолго прожигал пелену туч над горизонтом, и, позолотив их рваные края, она снова исчезала из глаз. Поля были объяты каким-то скорбным покоем. Зажатые в тисках многонедельной стужи, они, казалось, получили передышку и могли неторопливо потянуться, перед тем как снова застыть в своей суровой зимней спячке.
Итан то и дело прислушивался, не раздастся ли впереди звон колокольчиков, но дорога была пустынна, и вокруг стояла тишина. Уже подъезжая, он увидел сквозь прозрачный заслон лиственниц у ворот, что наверху чуть светится окошко. «Она в своей комнате, — сказал он себе. — Наверно, прихорашивается к ужину». И ему вспомнилась презрительная гримаса на лице Зены, когда б свой первый вечер Мэтти спустилась к ужину с тщательно приглаженными волосами и с ленточкой на шее.
Он миновал кладбище и задержался взглядом на одной из самых старых могильных плит, которая в детстве всегда манила и пугала его, потому что на ней было выбито его собственное имя:
ЗДЕСЬ ПОКОЯТСЯ
ИТАН ФРОМ И СУПРУГА ЕГО ЭНДЬЮРЕНС,
ПРОЖИВШИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ
В МИРЕ И СОГЛАСИИ.
Вечная память!
Мальчишкой он считал, что пятьдесят лет вместе — это ужас как долго, но сейчас ему казалось, что они могут пролететь в один миг. А впрочем, подумал он с горькой иронией, скорей всего похожая эпитафия будет высечена, когда наступит срок, над ним и Зеной…
Он отворил дверь в конюшню и, вытянув шею, стал вглядываться в темноту, боясь увидеть рядом со стариком гнедым Деннисова чалого жеребца. Но его страхи оказались напрасными — там стоял один понурый гнедой, который жевал солому, шамкая беззубыми челюстями.
Весело насвистывая, Итан распряг серых лошадок, подстелил им свежей соломы и засыпал в кормушки лишнюю мерку овса. Он никогда не отличался особой музыкальностью, но, запирая конюшню, начал даже что-то напевать себе под нос и замолчал только у самого дома. Поднявшись на крыльцо, он нажал на ручку кухонной двери, но дверь не открывалась.
Сбитый с толку, он яростно затряс дверную ручку, но тут же сообразил, что Мэтти, одна в пустом доме, скорее всего побоялась на ночь глядя оставлять дверь незапертой. Он еще немного постоял в темноте, ожидая услышать ее шаги. Однако шагов все не было; тогда он бросил прислушиваться и, приложив ладонь ко рту, крикнул голосом, дрожащим от радостного нетерпения:
— Эй, Мэтт, где ты там!
Ответом ему было молчание; спустя две-три минуты с лестницы донесся легкий скрип, и щель под дверью слабо засветилась — точно так же, как было вчера. Вообще все события вчерашнего вечера повторялись одно за другим с такой пугающей похожестью, что, когда в замке загремел ключ, Итан не удивился бы, если бы дверь ему открыла жена. Но дверь распахнулась — и он увидел Мэтти.
Она стояла на пороге, в черном прямоугольнике дверного проема, с лампой в руке — точь-в-точь как стояла вчера Зена. Лампу она держала так же — на высоте плеча, и перед глазами Итана была ее нежная юная шея и смуглое, еще совсем детское запястье. Луч от лампы отсвечивал бликами на ее свежих губах, обводил бархатистой тенью глаза и подчеркивал матовую белизну открытого лба над темными дугами бровей.
Она была одета в свое домашнее темненькое платье, без всяких бантиков у ворота, но волосы в честь сегодняшнего вечера перевязала узкой красной лентой. Эта дань необычности придавала ей какой-то новый, праздничный вид. Она показалась Итану выше, стройнее, женственнее, чем всегда; ее фигура вдруг приобрела статность, движения стали свободнее. С улыбкой она посторонилась, давая ему пройти, и он, идя за нею по пятам, дивился легкости и плавности ее походки. Она поставила лампу на стол, который был старательно накрыт к ужину — Итан увидел горку свежих пышек, моченую бруснику и свои любимые маринованные огурчики, выложенные в глубокое блюдо красного стекла. В печи пылал яркий огонь, а на полу перед дверцей нежилась кошка, поглядывая сонными глазами на стол.
Итан чуть не задохнулся от нахлынувшего на него чувства блаженства и покоя. Он вышел в прихожую повесить куртку и стянуть намокшие от снега сапоги. Воротившись в кухню, он увидел, что Мэтти уже сняла с плиты чайник и хлопочет у стола, а кошка усердно трется ей об ноги.
— Брысь, негодница! Смотри-ка, я из-за тебя чуть не упала! — воскликнула Мэтти, глаза которой лучились смехом.
Итан снова почувствовал укол ревности. Полно, да ему ли она так радуется, из-за него ли так светится ее лицо?
— Ну, как тут без меня, кто-нибудь заходил? — небрежно спросил он и нагнулся к печке, будто проверяя, хорошо ли закрыта дверца.
Она со смехом кивнула:
— Как же, как же, был один гость!
Мрачнее тучи, Итан выпрямился и кинул на девушку косой хмурый взгляд:
— Кто такой?
В глазах у нее заплясали лукавые искорки.
— Как кто? Да Джотам Пауэлл, кто же еще? Приехал, поставил лошадь и кофейку попросил, согреться на дорогу.
Черная туча пронеслась, и в душе у Итана снова засияло солнце.
— Только-то? Ну, надо полагать, у тебя нашлось чем его попотчевать. — Помолчав, он почел своим долгом добавить: — Как он Зену-то довез, успели к поезду?
— Успели, успели, еще даже ждать пришлось.
При звуке этого имени между ними пробежал мгновенный холодок, и оба замерли в смущении, украдкой поглядывая друг на друга. Но тут Мэтти тряхнула головой и сказала:
— А не пора ли ужинать?
Они придвинули к столу свои стулья, а кошка, не дожидаясь приглашения, вспрыгнула на Зенино кресло и уселась между ними с довольным видом.
— Ах ты проныра! — прыснула Мэтти, и оба дружно расхохотались.
Еще минуту назад Итан был, как ему казалось, на грани красноречия, но упоминание о Зене внезапно сковало ему язык. Его замешательство передалось и Мэтти; она сидела, не подымая глаз, и потягивала свой чай, покуда он, делая вид, что голоден как волк, уничтожал огурцы и пышки. Наконец, так и не придумав, с чего бы начать, он отхлебнул чаю, кашлянул и произнес:
— Похоже, завтра опять снег пойдет.
— Правда? — откликнулась Мэтти с преувеличенным интересом, поднося к губам чашку. — А как ты думаешь, Зена из-за этого не задержится?
Этот нечаянно вырвавшийся вопрос тут же вогнал ее в краску, и она торопливо поставила чашку на стол. Итан протянул руку и выловил из блюда еще огурчик.
— Кто его знает, в это время года пути часто заносит. У Корбери место открытое, метет там здорово.
Звук Зениного имени начисто отбил у него охоту говорить, и ему снова померещилось, что она незримо присутствует здесь, за столом.
— Ты что же это делаешь? Ах негодница! — напустилась вдруг Мэтти на кошку, которая залезла всеми четырьмя лапами на стол и потихоньку подбиралась к кувшину с молоком. Кувшин стоял как раз между Мэтти и Итаном; оба одновременно наклонились вперед, и руки их соприкоснулись. Мэтти первая схватилась за ручку кувшина — ее рука оказалась внизу, и Итан задержал на ней свою ладонь чуть-чуть дольше, чем требовалось. Кошка, воспользовавшись таким неожиданным развитием событий, решила незаметно удалиться со сцены и, пятясь, толкнула стеклянное блюдо, которое грохнулось на пол и разбилось.
Мэтти, охнув, вскочила.
— Ой, Итан, Итан, все вдребезги! Что теперь Зена скажет? — запричитала она, стоя на коленях перед грудой осколков.
Но тут Итан проявил необходимое мужество.
— Подумаешь — что скажет! Кошке своей пусть говорит, а не нам, — возразил он смеясь и опустился на колени рядом с Мэтти, чтобы подобрать из лужи маринада огурцы.
Она вскинула на него испуганные глаза.
— Кошка-то кошка, но ты ведь знаешь — она это блюдо так берегла, никогда на стол не ставила, даже для гостей, она и держала-то его в чулане, на самом верху, где все лучшие вещи спрятаны. А я его без спросу взяла, еще нарочно стремянку пододвинула, а она теперь, конечно, скажет — как я посмела…
Дело принимало серьезный оборот, и Итан призвал на помощь всю свою решительность.
— Да она и не узнает ничего — ты только сама не подымай шуму. Я завтра достану точно такое же. Не знаешь, где оно куплено? В Шедс-Фолз сгоняю, коли на то пошло!
— Такого другого нигде не найти! Это ведь свадебный подарок — разве ты не помнишь? Из самой Филадельфии Зенина тетка прислала, та, что замужем за священником. Потому она над этим блюдом так и тряслась. Ох, Итан, что мне теперь делать?
Она расплакалась, и каждая ее слезинка жгла ему руки, словно капля расплавленного свинца.
— Перестань, Мэтт, не плачь, перестань ради бога! — взмолился Итан.
Она с трудом поднялась на ноги; он тоже встал и пошел за ней к кухонному столу, беспомощно глядя, как она раскладывает на нем осколки. Ему казалось, что вместе с блюдом разбились вдребезги его надежды на этот долгожданный вечер.
— Ну-ка, давай это все сюда, — произнес он вдруг тоном, не допускающим возражений.
Она отступила на шаг, бессознательно повинуясь приказу, и только спросила:
— А что ты будешь делать?
Вместо ответа он собрал черепки в свои широкие ладони и вышел из кухни в прихожую. Там он засветил огарок, открыл чулан, дотянулся, привстав на носки, до верхней полки и аккуратно сложил все части разбитого блюда. Придирчиво осмотрев результат своей работы, он удостоверился, что снизу блюдо невозможно отличить от целого. Если завтра склеить черепки, то Зена могла ничего не заподозрить еще много месяцев, а он тем временем раздобыл бы в Шедс-Фолзе или в Бетсбридже какую-нибудь похожую посудину. Убедившись, что немедленное разоблачение им не грозит, он победной походкой вернулся на кухню, где Мэтти с безутешным видом подтирала пол.
— Полный порядок, Мэтт. Садись к столу и кончим ужинать, — распорядился он.
Со вздохом облегчения она взглянула на него сквозь ресницы, еще слипшиеся от слез, и душа его переполнилась гордостью оттого, что Мэтти так готовно подчинилась ему. Она даже не стала спрашивать, что он придумал, — и его захлестнуло пьянящее ощущение собственной силы, какое он, бывало, испытывал, когда ему случалось особенно удачно спустить с горы на лесопилку тяжелое бревно.
ГЛАВА V
После ужина, покуда Мэтти убирала со стола, Итан вышел посмотреть коров, а потом совершил обычный ежевечерний обход дома, проверяя, все ли в порядке. Поля под низко нависшим небом были окутаны тьмой; малейший звук в неподвижном воздухе разносился далеко вокруг, и Итан слышал, как с деревьев в ближнем леске время от времени срываются и шлепаются о землю комья снега. Когда он вернулся в кухню, Мэтти уже успела пододвинуть его стул к печке, а сама уселась у стола под лампой с каким-то шитьем. Все выглядело в точности так, как ему рисовалось утром. Он сел, вытянул ноги к огню и достал из кармана трубку. Целый день тяжелой работы на морозе давал себя знать: на него напала истома, а в голове клубилась какая-то мешанина мыслей — но мысли были все легкие, приятные… Ему грезилось, что он перенесся в совсем другой мир, над которым не властно время и где все живут в тепле и сердечном согласии. Одного только ему недоставало для полного блаженства — со своего места он не видел Мэтти. Но ему уже лень было двигаться, и он позвал ее:
— Подсаживайся-ка поближе к печке.
Напротив него стояла пустая качалка Зены. Мэтти послушно подошла и опустилась в качалку, прислонившись головой к той самой расшитой пестрыми лоскутками подушке, на фоне которой Итан привык из вечера в вечер видеть постное лицо жены. И теперь, увидев на этом месте темноволосую головку Мэтти, Итан невольно вздрогнул. На мгновенье ему померещилось, что лицо законной хозяйки маячит в воздухе, заслоняя лицо пришелицы. Мэтти тоже, очевидно, почувствовала какую-то неловкость. Она переменила положение и еще ниже склонилась над шитьем, так что он видел только кончик ее носа да красную ленточку в волосах; вскоре она поднялась, сказала: «Я тут ничего не вижу», и снова пересела к столу.
Итан сделал вид, что пора подкинуть дров в печку, и бы видеть профиль Мэтти и ее руки в круге света от лампы. Кошка, которая с недоуменным видом следила за всеми этими странными перемещениями, вспрыгнула на качалку Зены, свернулась клубком и, прижмурив глаза, утихла.
В комнате воцарилось молчание. На буфете размеренно тикали часы; из печи то и дело доносилось потрескиванье догоравших головешек; едва уловимый резковатый аромат герани смешивался с запахом трубочного дыма, который голубоватым облачком стлался над лампой и повисал серой паутиной в дальних углах.
Напряжение как-то само собой сошло на нет, и они наконец разговорились. Говорили они о самых простых и обычных вещах: о том, будет завтра снег или не будет, когда в церкви снова устроят танцы, кто кого любит или недолюбливает в Старкфилде… Непритязательное содержание и естественный тон их беседы внушили Итану ощущение давней близости, которого не могло бы дать никакое открытое проявление чувств; он снова углубился в мечтания и вообразил, будто они уже давным-давно проводят вечера вдвоем — а впереди у них таких вечеров еще столько, что и не счесть!..
— А помнишь, Мэтт, мы ведь нынче собирались идти кататься с горки, — заметил он под конец и, успев окончательно вжиться в роль, подумал, что, собственно, спешить некуда — покататься можно и в другой раз, стоит только захотеть.
Она улыбнулась:
— Ну вот, а я думала — ты забыл!
— Нет, забыть я не забыл, только сейчас на дворе тьма египетская. Может, завтра выберемся, если будет луна.
Она рассмеялась от удовольствия, откинув по своей всегдашней привычке голову и задорно блестя зубами:
— Ах, вот было бы славно!
Итан не сводил с нее глаз, дивясь живости и подвижности ее лица — при каждом новом повороте разговора оно менялось, словно поле пшеницы под ветром. Самое невероятное, что изменения эти вызывали его собственные слова, хоть говорить он был не мастер, и его тянуло снова и снова испытывать свою чудодейственную, пьянящую власть.
— А ты бы не побоялась съехать со мной по спуску вот в такую темноту, как сейчас?
Мэтти немедленно вспыхнула: — Нет, конечно! Что я, трусиха?
— А я бы вот струсил. Сам бы не съехал и тебя не пустил. Помнишь тот старый вяз? Мимо него съезжать — надо глядеть в оба, а то неровен час врежешься — и крышка.
Говоря все это уверенным тоном человека, который может стать надежной опорой и защитой, Итан сам упивался производимым впечатлением и, чтобы растянуть это блаженное состояние, добавил:
— Нам ведь и тут хорошо.
Она медленно — как он любил — опустила ресницы, вздохнула и согласилась:
— Правда, нам и тут хорошо.
И сказала она это так ласково, что он отложил трубку и пододвинул свой стул поближе. Наклонившись, он прикоснулся пальцами к коричневой материи, которую она подрубала с другого конца.
— Ну-ка, Мэтт, — начал он, улыбаясь, — угадай, что я видел нынче по дороге домой у Варнумов под елками! Ни за что не угадаешь: я видел, как одна твоя приятельница с кем-то целовалась!
Эти слова весь вечер вертелись у него на языке, но теперь, сказанные вслух, они прозвучали неописуемо грубо и неуместно.
Мэтти покраснела до корней волос и сделала два-три торопливых стежка, машинально потянув к себе шитье.
— Наверно, это Рут была с Недом, — сказала она тихо, как будто речь шла о чем-то очень серьезном.
Поскольку над влюбленными принято подшучивать, Итан рассчитывал, что его сообщение позабавит Мэтти, они вместе посмеются, и тут он ненароком обнимет ее или хотя бы возьмет за руку. Но она восприняла это иначе и, залившись краской, словно укрылась за высокой стеной. Он проклинал свою дурацкую недотепистость. Он знал, что для большинства его сверстников поцеловать хорошенькую девушку — сущий пустяк, и помнил, что накануне, когда он обнял Мэтти за талию, она не противилась. Но то было совсем другое дело: под открытым небом, в поздний час, некоторая безответственность казалась простительной. Сейчас же, в тепле, при свете лампы, в окружении извечных и незыблемых символов добропорядочности, Мэтти представлялась ему далекой и неприступной.
Чтобы стряхнуть с себя оцепенение, он возобновил разговор:
— Скоро, надо полагать, и свадьбу назначат.
— Да, наверно. Я так думаю, что они до конца лета поженятся. — Слово «поженятся» она произнесла с благоговейным трепетом, словно раздвигая завесу, за которой начинается путь в страну несбыточных грез. У Итана сжалось сердце; он отодвинулся от стола и, глядя в сторону, заметил:
— Не удивлюсь, если и ты по примеру подружки выскочишь замуж.
Она рассмеялась и пожала плечами:
— Что это ты все время замужество поминаешь? Он в свою очередь усмехнулся:
— Привыкаю, чтоб ты меня врасплох не застала. Он снова придвинулся к столу и, пока Мэтти молча шила, некоторое время наблюдал за ней как зачарованный. Ее руки безостановочно мелькали над шитьем и живо напомнили ему пару вьющих гнездо пичужек — они с такой же легкостью сновали в воздухе, то вспархивая, то опускаясь. Наконец Мэтти тихо сказала, не подымая ресниц и еще ниже наклонив голову:
— А ты не из-за Зены спрашиваешь? Может, она что-то имеет против меня?
Стоило ей произнести эти слова, как прежний страх ледяными клещами сдавил ему горло.
— Это еще что за новости? С чего ты взяла? — с усилием выговорил он.
Она тревожно и беспомощно взглянула на него:
— Сама не знаю. Вчера мне показалось, будто я ей мешаю.
— Интересно знать чем, — буркнул Итан.
— Разве у Зены узнаешь? — печально отозвалась Мэтти.
Впервые они заговорили так открыто об отношении Зены к Мэтти, и имя хозяйки дома, дважды прозвучавшее вслух, словно эхом отозвалось в дальних углах кухни и возвратилось назад, многократно повторенное и усиленное. Мэтти помолчала, как бы выжидая, пока стихнут его последние отголоски, и спросила опять:
— А тебе она ничего не говорила? Он покачал головой.
— Ни слова не говорила.
Мэтти засмеялась и тряхнула головой, откидывая волосы со лба:
— У меня, наверно, просто нервы. Не буду больше об этом думать.
— Правда, Мэтт, правда — не надо об этом думать!
Страстная мольба в его голосе заставила девушку снова покраснеть — но на этот раз ее щеки не вспыхнули, а медленно и нежно зарделись, как бы отражая ход ее сокровенных мыслей. Она молча сидела с шитьем в руках, и ему вдруг почудилось, что по лежащему между ними куску материи струится ему навстречу какое-то странное тепло. Не отрывая ладони от стола, он потихоньку подобрался к краешку ткани и дотронулся до нее кончиками пальцев. Ресницы девушки слегка дрогнули, давая ему знать, что этот жест не остался незамеченным. Теперь поток тепла заструился в обратном направлении; видимо, Мэтти тоже это почувствовала, потому что перестала шить и сидела совсем неподвижно, уронив на стол руки.
Внезапно Итан услышал за собой какой-то шум и обернулся. Должно быть, кошка почуяла за стенкой мышь — она спрыгнула с Зениной качалки и бросилась в угол, и от этого резкого движения пустое кресло начало раскачиваться взад и вперед, словно в нем сидел кто-то невидимый.
«Не пройдет и суток, как она сама будет тут качаться, — подумал Итан. — Мне все это только приснилось, и сегодняшний вечер — первый и последний». Возврат к действительности был для него столь же мучителен, как возвращение к сознанию для больного, перенесшего наркоз. Голова у него разламывалась, все тело ныло от невыразимой усталости, и он не мог придумать, что бы такое сказать или сделать и хоть немного задержать безумный бег минут.
Мэтти чутко уловила перемену в настроении Итана. Она медленно подняла на него глаза, словно ей стоило немалого усилия разомкнуть отяжелевшие, как от сна, веки. Ее взгляд задержался на его руке; пальцы Итана судорожно сжимали уже весь конец ткани, как если бы эта мертвая материя была частичкой ее собственного существа. По ее лицу пробежала чуть заметная тень, и, сам не понимая, что делает, он опустил голову и прижался губами к этой скомканной коричневой тряпке. Почти сразу он почувствовал, как девушка потянула ее к себе, и увидел, что она встала и начала торопливо складывать работу.
Она скатала материю, заколола ее булавкой, взяла наперсток и ножницы и сложила все в оклеенную цветной бумагой коробку, которую Итан когда-то привез ей в подарок из Бетсбриджа.
Он тоже поднялся на ноги, рассеянно глядя кругом. Часы на буфете пробили одиннадцать.
— В печке все прогорело? — негромко спросила Мэтти.
Он открыл дверцу, бесцельно поворошил угли и постоял еще, глядя, как Мэтти подтаскивает к печке старый деревянный ящик из-под мыла, обитый войлоком, где по ночам спала кошка. Потом она перешла к окну и составила с подоконника два горшка с геранью, чтобы цветы не замерзли. Тогда он тоже включился в работу и перенес подальше от окна остальную герань, потрескавшуюся глиняную миску, где зимовали луковицы нарциссов, и еще один горшок с воткнутыми в землю старыми крокетными воротцами, вокруг которых вился крестовник.
Когда этот ежевечерний ритуал был закончен, оставалось только сходить в прихожую за оловянным подсвечником, зажечь свечу и задуть лампу. Итан протянул подсвечник Мэтти, и она первой вышла из кухни. В желтом круге света от свечи, которую она несла перед собой, ее пушистые темные волосы казались набежавшим на луну облачком.
Когда она поставила ногу на ступеньку, Итан негромко окликнул ее:
— Спокойной ночи, Мэтт.
Она повернулась и посмотрела на него.
— Спокойной ночи, Итан.
Не оглядываясь больше, она поднялась наверх, и когда за нею закрылась дверь, он вспомнил, что за весь вечер не успел даже подержать ее за руку.
ГЛАВА VI
На другое утро с ними вместе завтракал Джотам Пауэлл. Чтобы скрыть переполнявшую его радость, Итан напустил на себя преувеличенно равнодушный вид: поев, он откинулся на стуле и продолжал сидеть барином, кидая кошке остатки со стола и ворча на погоду, и даже не пошевелился, чтобы помочь Мэтти, когда она принялась убирать посуду.
Он и сам не знал, отчего он так счастлив, — ведь ни его, ни ее жизнь ни в чем не изменилась. Он даже не дотронулся до ее руки, не посмел поглядеть ей прямо в глаза. Но один-единственный вечер, проведенный с Мэтти, показал ему, какой могла бы быть их совместная жизнь, и теперь он радовался, что ничем не нарушил безмятежности этой картины. Он был уверен, что она поймет, почему он не поступил иначе…
Последняя порция бревен и досок дожидалась отправки в Старкфилд, и Джотам Пауэлл, который в зимнее время не работал у Итана постоянно, в это утро пришел «подсобить». Однако все складывалось неудачно: ночью шел мокрый снег, который тут же таял; к утру подморозило, и все дороги обледенели, как стекло. Правда, в воздухе по-прежнему сквозила сырость, и оба решили, что к середине дня погода скорее всего «помягчает» и добраться до поселка будет легче. Поэтому Итан предложил своему подручному разделить работу на два этапа: с утра только нагрузить сани, а доставку отложить на после обеда. Такой план имел еще то преимущество, что Итан мог во второй половине дня послать работника на станцию за Зеной, а сам поехал бы с грузом в поселок.
Он велел Джотаму идти запрягать лошадей, и на несколько минут они с Мэтти остались в кухне одни. Она сложила грязные тарелки и чашки в жестяной таз для посуды, плеснула в него горячей воды и, закатав рукава, принялась за мытье. От пара ее лоб покрылся блестящими капельками влаги, а непокорные волосы закрутились в колечки, похожие на пушистые завитки, которые видишь летом на цветах ломоноса. Он стоял, любуясь ее лицом и обнаженными по локоть руками, и подкативший к горлу ком напрочь сковал ему язык. Он хотел сказать: «Мы уже никогда теперь не сможем побыть вдвоем», но вместо этого достал с буфетной полки кисет с табаком, сунул его в карман и уже с порога проговорил:
— Постараюсь попасть домой к обеду.
— Хорошо, Итан, — отозвалась Мэтти и продолжала мыть посуду, что-то напевая.
Он собирался поскорей покончить с погрузкой, отправить Джотама обратно на ферму и сгонять пешком в поселок за клеем для починки разбитого блюда. При нормальном везенье он сумел бы выполнить то, что наметил, но в этот день все как будто ополчилось против него. По дороге на лесопилку одна из лошадей поскользнулась на льду, упала и сильно повредила колено; когда ее подняли, Джотаму пришлось бежать назад в конюшню за ветошью, чтобы перевязать лошади ногу. Не успели они приняться за погрузку, как снова посыпал снег пополам с дождем, бревна сделались мокрые и скользкие, и они провозились вдвое дольше обычного, перетаскивая их и укладывая на сани. Словом, все шло вкривь и вкось; Джотам ворчал, а лошади, дрожа под мокрыми попонами и нетерпеливо переступая копытами, тоже на свой манер выражали неудовольствие. Когда они наконец управились, час обеда уже давно миновал, так что поход в поселок Итану пришлось отложить: сперва надо было отвести домой захромавшую лошадь и промыть ей раненое колено.
Он решил, что если выедет с лесопилки сразу после обеда, то, быть может, еще успеет обернуться и попадет домой с клеем раньше, чем Джотам на старике гнедом привезет Зену со станции; но он понимал, что шансы невелики. Успех зависел от состояния дороги и еще от того, опоздает или прибудет вовремя поезд из Бетсбриджа. Позднее, вспоминая, как лихорадочно он взвешивал в уме все эти возможности, он мог лишь горько усмехнуться…
Наскоро пообедав и не дожидаясь, пока Джотам уедет на станцию, он стал собираться на лесопилку. Джотам еще сидел и сушил у печки промокшие ноги, так что Итан только мигнул Мэтти и вполголоса бросил на ходу: «Я скоро вернусь».
Ему показалось, что она понимающе кивнула в ответ, и с этим слабым утешением он пустился по дождю в свой нелегкий путь.
На полдороге между лесопилкой и поселком нагруженные до отказа сани Итана обогнал Джотам Пауэлл, отчаянно понукавший гнедого. Вскоре он свернул к станции и исчез за Школьной горкой, а Итан подумал еще раз, что надо поторапливаться, иначе не успеть. Он разгрузил бревна, работая за десятерых, и помчался в лавку Иди за клеем. Ни самого хозяина, ни другого продавца в лавке не оказалось — они «отлучились тут недалечко»; налицо имелся один Деннис, который вместо того, чтобы стоять за прилавком (он считал это ниже своего достоинства), точил лясы у печки в окружении местной золотой молодежи. Итана встретили насмешливыми приветствиями и пригласили разделить компанию, но где найти клей, никто не знал. Итан, томившийся желанием поскорее вернуться домой и хоть сколько-то времени еще побыть с Мэтти вдвоем, нетерпеливо переминался с ноги на ногу, покуда Деннис безрезультатно шарил по дальним углам лавки.
— Похоже, что весь наш запас распродан. Подожди, пока придет папаша — может, он откопает.
— Премного обязан; я уж лучше доеду до миссис Хоман, у нее скорее найдется, — отвечал Итан, вконец потеряв терпение.
Как прирожденный коммерсант, Деннис не мог стерпеть такой обиды и торжественно поклялся, что если в их фамильной лавке отсутствует какой-либо товар, то у отцовой конкурентки его и подавно не сыщешь; однако Итан уже не слушал этих хвастливых уверений — он уселся в сани и отправился к вдове Хоман. Там, после продолжительных поисков, сопровождавшихся сочувственными расспросами — для чего ему понадобился клей и не заменит ли его обычный клейстер из муки, если фабричного клея у нее все-таки не окажется, — старушка Хоман вытащила на свет божий единственный, последний пузырек, чудом завалявшийся в куче корсетных шнурков и таблеток от кашля.
— Надеюсь, ничего такого особо ценного у Зены не разбилось, — прокричала она ему вдогонку, когда он уже разворачивал сани.
Если по пути с лесопилки ему в лицо хлестал мокрый снег, то теперь надолго зарядил дождь, и лошадям, даже при пустых санях, приходилось туго. Раза два, услышав звон бубенцов, Итан оглядывался, думая, что его нагоняют Джотам с Зеной; но знакомого гнедого видно не было, и он, сжав зубы, принимался снова понукать своих отяжелевших лошадей.
Конюшня была пуста. Он наскоро поставил лошадей, вопреки обыкновению не позаботившись даже сменить им подстилку, и почти бегом одолел подъем от конюшни до дома.
Отворив дверь на кухню, он увидел, что Мэтти одна;— и вообще все было в точности так, как он себе представлял по дороге. Она стояла у плиты и что-то разогревала в глиняной миске, но при звуке его шагов вздрогнула, повернулась и кинулась к нему.
— Гляди, Мэтт, я клей принес! Сейчас мы живо склеим эту штуку. Ну-ка, где она у нас там? — крикнул он, торжествующе размахивая пузырьком, а другой рукой легонько отстраняя от себя девушку. Но Мэтти как будто не слышала его слов.
— Итан… Зена приехала, — прошептала она, схватив его за рукав.
Они стояли, глядя друг на друга, бледные, словно соучастники преступления.
— А где же гнедой? Его в конюшне нет! — запинаясь, выговорил Итан.
— Джотам в Корбери накупил чего-то для своей жены и взял гнедого отвезти домой покупки, — объяснила Мэтти.
Невидящим взглядом он обвел кухню, казавшуюся холодной и убогой в дождливых зимних сумерках.
— Как она? — тоже понизив голос, спросил Итан. Мэтти пожала плечами.
— Не знаю. Как приехала, сразу пошла наверх. — И ничего не сказала?
— Ничего.
Итан в задумчивости присвистнул и спрятал пузырек с клеем обратно в карман.
— Ладно, не беспокойся: я ночью спущусь и все склею, — пообещал он, снова натянул промокшую куртку и пошел в конюшню засыпать лошадям на ночь овса.
Пока он возился с лошадьми, подъехал Джотам Пауэлл, и Итан предложил ему подняться в дом перекусить. Присутствие работника, нейтрализующее атмосферу за столом, сегодня вечером пришлось бы очень кстати, поскольку Зена после своих поездок в город обычно бывала «не в себе». Однако Джотам, который никогда не отказывался поесть на дармовщинку, на сей раз, к удивлению Итана, отверг его хлебосольство.
— Премного вам благодарен, но я уж того, лучше пойду, — процедил он сквозь зубы.
— Зайди обсушись, — уговаривал его Итан. — На ужин сегодня что-то горяченькое.
Но Джотам выслушал призыв своего работодателя с каменным лицом, и так как его словарь был не слишком обширен, он ограничился тем, что повторил:
— Да нет уж, я лучше пойду.
В этом стоическом отказе от бесплатного ужина и согрева Итану почудилось нечто зловещее, и он стал гадать, что же могло приключиться по дороге, чтобы у Джотама начисто отбило аппетит. Может быть, Зене не удалось показаться новому доктору, а может, его советы пришлись ей не по вкусу? Итан знал, что в таких случаях она способна была сорвать злость на первом, кто подворачивался под руку.
Когда он вернулся на кухню, там уже горела лампа, и вокруг стало снова так же весело и уютно, как вчера. Стол был накрыт так же старательно, в печи весело трещал огонь, на полу перед дверцей дремала кошка, а в руках у Мэтти была полная тарелка свежих пышек.
Они молча обменялись взглядами, и Мэтти сказала — точно так же, как накануне:
— А не пора ли ужинать?
ГЛАВА VII
Итан вышел в прихожую повесить мокрую одежду. Он постоял, прислушиваясь, не раздаются ли наверху шаги жены, потом окликнул ее. Ответа не было, и после минутного колебания он поднялся по лестнице и отворил дверь в спальню. В комнате было почти совсем темно, и в этом полумраке Итан с трудом разглядел жену: она сидела у незанавешенного окна, прямая как доска, и по жестким линиям ее силуэта на фоне оконного стекла он догадался, что она еще не переоделась с дороги.
— Как дела, Зена? — спросил он, стоя в дверях. Она не двинулась, и он добавил:
— Ужин на столе. Пойдешь ужинать? Она ответила:
— Я не в состоянии проглотить ни крошки.
Это была формула, освященная традицией, и он ожидал, что, произнеся ее, Зена, как всегда, поднимется и сойдет ужинать. Но она осталась сидеть, и он не нашел ничего лучшего, как заметить:
— Ты, должно быть, утомилась с дороги.
В ответ на это она повернула голову и торжественно изрекла:
— Я больна гораздо серьезнее, чем вы думаете. Хотя он слышал такие слова далеко не впервые, они заставили его встрепенуться: а вдруг на сей раз это правда?
Он сделал два шага в комнату.
— Надеюсь, что ты ошибаешься, Зена.
Она продолжала глядеть на него в густеющих сумерках с томно-величественным видом мученицы, отмеченной перстом судьбы.
— У меня признали осложнения, — объявила она наконец.
Услышав это грозное слово, Итан понял, что дело плохо. Оно произносилось в округе в редчайших, особо важных случаях. На людей обыкновенных нападали болезни и всякие «хворобы», которые нетрудно было распознать и определить, и лишь избранные страдали «осложнениями». «Осложнения» сами по себе были уже знаком отличия, хотя в большинстве случаев они оказывались равнозначными смертному приговору. С «хворобами» можно было жить да жить, «осложнения» же, как правило, сводили в могилу.
Сердце Итана разрывалось между двумя противоположными чувствами, но жалость все-таки пересилила. Очень уж мрачный и отрешенный вид был у его жены — и правда, невелика радость сидеть одной в темноте с такими мыслями.
— Это что, новый доктор у тебя нашел? — спросил Итан, невольно понижая голос.
— Да. И еще он сказал, что любой доктор с понятием посоветует мне лечь на операцию.
Итан знал, что окрестное женское население, проявляя жгучий интерес к проблеме хирургического вмешательства, придерживается различных точек зрения относительно его целесообразности. Одни утверждали, что подвергнуться операции весьма почетно, другие же находили такой способ лечения грубым и неприличным. Итан, по чисто финансовым соображениям, всегда радовался, что Зена примыкает ко второй фракции.
Неожиданная серьезность ее сообщения привела его в замешательство, и он попытался ее успокоить, выбрав самый простой и легкий путь.
— Что он смыслит, твой новый доктор? Откуда он вообще взялся? Раньше тебе никто ничего такого не говорил.
Ход был явно неудачный, и он понял свою оплошность еще до того, как Зена раскрыла рот: сейчас она нуждалась не в разубеждении, а в сочувствии.
— Мне и не надо ничего говорить. Я сама знаю, что мне с каждым днем хуже делается. И все это видят, кроме тебя. И если хочешь знать, доктор Бак не кто-нибудь, а очень даже известный врач. У него в Вустере свой кабинет, а раз в две недели он ездит в Бетсбридж и в Шедс-Фолз, дает там консультации. Элиза Спирс, например, сколько лет мучилась почками, прямо высохла вся, а доктор Бак ее в два счета поставил на ноги. Она теперь даже в церковном хоре поет.
— Видишь, как хорошо! Значит, надо его слушаться — что он скажет, то и делай.
Она пристально взглянула на него и ответила:
— Само собой.
Новая нотка в голосе Зены заставила Итана насторожиться. В ее последних словах он уловил не жалобу и не упрек, а сухую решимость.
— Так что же доктор тебе велит? — спросил он, и перед ним сразу же встала пугающая перспектива новых затрат.
— Он велит нанять прислугу. Говорит, что по дому мне ничего делать нельзя, что я даже пальцем ни к чему не должна прикасаться.
— Прислугу нанять? — Итан остолбенел.
— Вот именно. И тетя Марта мне уже нашла девушку. И все сказали, что мне еще повезло — в такую даль наниматься никто не соглашается. Я уж набавила ей лишний доллар, чтоб она не раздумала. Завтра и приедет, дневным поездом.
Гнев и смятение охватили Итана. Он уже приготовился к тому, что придется выложить какую-то сумму единовременно, но примириться с постоянной утечкой своих и без того скудных ресурсов никак не мог. Он сразу же решил, что Зена ему солгала, что никакого серьезного ухудшения в ее здоровье нет и не было, а поездку в Бетсбридж она затеяла только для того, чтобы в тайном сговоре с родственниками осуществить давно задуманный коварный план и навязать ему лишний расход на содержание прислуги. И на этот раз он дал волю гневу.
— Если ты собиралась нанимать работницу, надо было мне заранее сказать, — произнес он сквозь зубы.
— Интересно, как это я могла тебе заранее сказать? Откуда я знала, что мне скажет доктор Бак?
— Доктор Бак, доктор Бак! — злобно хмыкнул Итан. — Может, твой доктор Бак заодно сказал тебе, откуда мне взять денег платить ей жалованье?
Его слова тут же потонули в яростном крике Зены:
— Нет, этого он не сказал! Потому что я бы посовестилась ему говорить, что ты жалеешь мне денег на лечение! А я здоровье свое погубила из-за твоей же, матери!
— Ты… погубила здоровье из-за матери?!
— Вот именно! Недаром мои родные в один голос говорили, что ты обязан на мне жениться — хотя бы из благодарности!
— Зена!
Их лица скрывала темнота, но тем отчаяннее они метали друг в друга стрелы взаимной ненависти, и поединок их мыслей был похож на схватку двух ядовитых змей. Итан опомнился первым, осознав весь ужас этой сцены и свою собственную постыдную роль. Как два врага, сцепившиеся в темноте, они наносили удары вслепую — продолжать было жестоко и бессмысленно.
Он протянул руку к полке над камином, нашарил спички и зажег свечу. Пламя разгоралось медленно и неохотно, но мало-помалу на фоке уже не серого, а черного квадрата окна проступило хмурое лицо Зены.
За все семь безрадостных лет их совместной жизни они впервые поссорились в открытую, и Итану стало жаль, что, опустившись до уровня перебранки, он безвозвратно утратил какое-то важное преимущество. Между тем практическая сторона дела еще ожидала решения.
— Зена, ты ведь знаешь, что денег на прислугу у меня нет. Нанять твою девушку я не могу. Придется ей отказать.
— А доктор сказал, что если я буду надрываться, как раньше, то я себя угроблю. Он прямо удивился, как это я до сих пор жива.
— Надрываться! — Итан задохнулся, но тут же одернул себя. — Ладно, ты больше в доме пальцем ни к чему не притронешься. Я все буду делать сам…
— Ты и так ферму совсем забросил, — перебила Зена, и поскольку это была чистая правда, он сразу не нашелся что ответить, а она ехидно закончила: — Отправь меня сразу в богадельню — и дело с концом… Небось мне не первой там век доживать из вашего семейства!
Эта колкость больно задела его, но он решил пропустить ее мимо ушей.
— У меня нет денег. Выходит, и говорить не о чем.
В сражении наступила минутная передышка — противники проверяли оружие. Потом Зена ровным голосом сказала:
— Ты вроде должен был получить с Эндрю Хейла пятьдесят долларов за доски.
— Хейл платит всегда через три месяца, — отозвался Итан и тут же вспомнил, под каким предлогом он отказался вчера провожать Зену на станцию. Он нахмурился и покраснел.
— Да ты же сам вчера сказал, что договорился получить с него наличными. И поэтому не можешь отвезти меня к поезду.
По части лицемерия Итан был совершенно неопытен. Впервые в жизни его уличили во лжи, и вывернуться он не умел, как ни старался.
— Там вышло недоразумение, — в конце концов выдавил он из себя.
— Значит, денег у тебя нет?
— Нет.
— И он тебе заплатить не обещает?
— Нет.
— Вот видишь! Я же не могла про это знать, когда договаривалась с девушкой, — так или не так?
— Так. — Он помолчал, чтобы не сорваться опять. — Зато сейчас ты знаешь. Стало быть, ничего не попишешь. Не забывай — ты замужем за бедняком, Зена; но все, что я в силах для тебя сделать, я сделаю.
Какое-то время она сидела неподвижно, как бы в раздумье, положив руки на подлокотники кресла и устремив невидящий взгляд в пространство.
— Ну что ж, проживем как-нибудь, — сказала она неожиданно миролюбивым тоном.
Эта перемена настроения окрылила Итана.
— Конечно, проживем! И я буду больше по дому помогать, да и Мэтти…
Пока он говорил, Зена, по-видимому, производила в уме какие-то сложные расчеты и теперь подытожила их вслух:
— Мэтти больше кормить не придется, так что одной тратой уж всяко будет меньше…
Итан, который полагал спор оконченным, собирался уже сойти вниз, но, услышав последнюю реплику жены, застыл как вкопанный. Полно, да верно ли он расслышал?
— То есть как — не придется кормить?.. — начал он. Зена рассмеялась. Это был какой-то странный, незнакомый звук — Итан никогда прежде не слышал ее смеха.
— А ты что, думал — я двух прислуг собираюсь держать? То-то ты так переполошился!
Он все еще не мог взять в толк, что она такое говорит. С самого начала разговора он старался не упоминать имя Мэтти, безотчетно опасаясь чего-то, — он и сам не мог бы сказать чего: то ли жалоб и недовольства, то ли туманных намеков насчет ее возможного замужества. Однако он и подумать не мог, что Зена заведет речь о том, чтобы избавиться от Мэтти. Даже и сейчас эта мысль просто не укладывалась у него в голове.
— Я что-то не понимаю, — сказал он. — Какая же Мэтти Силвер прислуга? Она твоя родственница.
— Дармоедка она, вот кто! Сперва ее папаша чуть всю нашу родню не разорил, а теперь она присосалась, как пиявка. Я год ее кормила, хватит: пусть теперь другие помучаются!
Во время этой визгливой тирады Итан услышал осторожный стук в дверь, которую он притворил, вернувшись в комнату.
— Итан! Зена! — раздался веселый голос Мэтти. — Вы знаете, который час? Ужин давным-давно готов!
В комнате наступило минутное молчание, потом Зена крикнула от окна:
— Я ужинать не буду!
— Ах, как жалко! А ты не заболела? Может, наверх чего-нибудь принести?
С трудом Итан взял себя в руки и приоткрыл дверь.
— Ступай вниз, Мэтт. Зена просто устала с дороги. А я сейчас спущусь.
— Ладно! — отозвалась она, и с лестницы донесся дробный перестук ее каблучков. Он захлопнул дверь и вернулся в спальню. Зена сидела в прежней позе, все с тем же неумолимым лицом, и его охватило отчаяние от собственной беспомощности.
— Неужели ты это сделаешь, Зена?
— Что — это? — прошипела она, не разжимая губ.
— Ну… отошлешь Мэтти?
— Подрядилась я, что ли, всю жизнь с ней нянчиться?
Он собрался с духом и заговорил, все больше и больше распаляясь:
— Послушай, Зена, она ведь сирота. Без друзей, без денег. Нельзя же прямо так взять и выставить ее из дому, словно воровку какую-нибудь. Она как могла старалась тебе угодить, а теперь куда она денется? Ты вот хочешь от нее избавиться, знать ее не желаешь, но люди-то помнят, что она тебе не чужая. Подумай, что люди скажут!
Зена выждала минутку, как бы давая ему время в полной мере прочувствовать контраст между собственной горячностью и ее ледяным спокойствием, и ответила прежним бесстрастным тоном:
— Я знаю, что люди сейчас говорят. И что думают, тоже знаю.
После того как Мэтти ушла, Итан продолжал стоять у порога, держась за ручку двери; теперь его рука бессильно упала вниз. От злобного выпада жены у него подкосились колени, будто кто-то полоснул его ножом по поджилкам. Он уже готов был, откинув гордость, попытаться уломать Зену оставить Мэтти в доме; собирался объяснить, что кормить ее не так уж накладно, хотел пообещать, что как-нибудь выкроит денег на печку и оборудует для прислуги комнатку на чердаке… Но из последней реплики Зены ему стало ясно, что уговоры могут иметь опасные последствия.
— И что же, ты ее так сразу и отправишь?.. — пробормотал он, испугавшись, как бы Зена не захотела добавить еще что-нибудь к своему предыдущему высказыванию.
Она невозмутимо отозвалась, словно повторяя очевидную истину:
— Завтра приедет новая девушка — спать-то ей где-то надо.
Итан смотрел на нее с чувством острого отвращения. Это была уже не бессловесная, бесцветная фигура, привычно существовавшая где-то рядом и всецело поглощенная собой; нет, это была чужая и враждебная сила, сгусток злобной энергии, накопившейся за годы угрюмого молчания. Беспомощность только усугубляла его отвращение. Он и прежде не питал к жене никакой привязанности, но покуда он был хозяином положения, неприятные свойства ее характера мало его трогали. Теперь же, когда она одержала верх, она внушала ему ужас и омерзение. Он понимал, что бессилен повлиять на нее — в конце концов, в родстве с Мэтти была она, а не он. Волна горечи поднялась у него в груди — ему вспомнилась вся его несчастливо сложившаяся жизнь, молодость, потраченная на тяжкий и бессмысленный труд; все это всколыхнулось в памяти и воплотилось в женщине, которая вечно стояла ему поперек дороги. Она отобрала у него все, чем он дорожил, и теперь грозилась отобрать то единственное, что искупало все предыдущие потери. В его душе вдруг вспыхнула такая ненависть, что кулаки у него непроизвольно сжались. Не помня себя, он шагнул вперед, но вовремя остановился.
— Так что — не идешь ты вниз? — спросил он сдавленным голосом.
— Нет. Я, пожалуй, прилягу на часок, — ответила она мирным тоном. Тогда он повернулся и вышел.
Мэтти сидела у печки; на коленях у нее, свернувшись клубком, дремала кошка. Увидев Итана, она вскочила и перенесла с плиты на стол миску, где подогревалась запеканка с мясом.
— Зена случайно не заболела? — спросила она.
— Нет.
Она улыбнулась ему через стол сияющей улыбкой.
— Ну так садись. Наверно, умираешь с голоду!
Она сняла крышку и пододвинула к нему горячую запеканку. «Вот и еще один вечер нам подарили!» — казалось, говорил ее счастливый вид.
Он машинально положил кусок себе на тарелку и принялся за еду; но тут же у него перехватило горло, и он бросил вилку.
Мэтти, которая не спускала с него ласковых глаз, тут же это заметила.
— Что такое, Итан? Невкусно?
— Нет, нет, очень вкусно. Только я… — Он отодвинул тарелку и, обойдя стол, встал рядом с Мэтти. Она в испуге поднялась со стула.
— Итан, что-то стряслось! Я так и знала!
В страхе она прильнула к нему, и он порывисто обнял ее и крепко прижал к себе, чувствуя, как ее ресницы трепещут у его щеки, словно крылья попавшейся в сетку бабочки.
— Что же, что?.. — задыхаясь, прошептала она; но он нашел наконец ее губы, приник к ним и уже не сознавал ничего вокруг.
Охваченная тем же порывом, она не сопротивлялась, потом осторожно высвободилась и отступила на шаг, бледная и взволнованная. Итана пронзило ощущение вины — как будто во сне ему привиделось, что Мэтти утонула у него на глазах; и он исступленно выкрикнул:
— Ты не уедешь, Мэтт! Я тебя не отпущу!
— Не уеду?.. — растерянно повторила она. — А разве надо уезжать?
Звук этих слов еще долго отдавался у них в ушах, и раз от разу их грозный смысл разгорался все ярче, словно сигнал опасности, пылающий в ночи.
Итан проклинал себя за то, что не сдержался и так сразу огорошил ее этой новостью. Голова у него кружилась, и он бессильно прислонился к столу. Он еще чувствовал вкус ее губ и умирал от желания целовать их снова и снова…
— Что случилось, Итан? Я чем-то прогневала Зену? Ее возглас заставил его снова взять себя в руки, хотя сердце его переполняли гнев и жалость.
— Нет, нет, — запротестовал он, — не в этом дело! Просто доктор ее напугал. Знаешь ведь, она как найдет себе нового советчика, так по первости только его и слушает. А этот, из Бетсбриджа, ей напел, что надо сидеть сложа руки, а еще лучше лежать в кровати, иначе, мол, она не поправится, а лечиться надо долго — много месяцев…
Он умолк и, окончательно уничтоженный, отвел глаза. Она тоже молчала и стояла перед ним — маленькая, хрупкая, поникшая, как сломанная ветка. Душа его разрывалась; но Мэтти вдруг подняла голову и взглянула на него в упор.
— И она решила вместо меня подыскать кого-нибудь попроворнее? Верно?
— Сегодня она так говорит.
— Если сегодня говорит, то и завтра не передумает.
Это была чистая правда, и им обоим оставалось только покориться: они знали, что Зена никогда не отступается от своих слов и единожды принятое решение у нее равносильно действию.
После долгой паузы Мэтти тихо сказала:
— Не надо так убиваться, Итан.
— О, господи, господи! — простонал он. Недавний порыв страсти сменился у него щемящим чувством нежности. Он увидел, как она смаргивает навернувшиеся на глаза слезинки, и ему хотелось только одного — обнять ее, приласкать и утешить.
— Смотри-ка, твой ужин совсем простыл, — попеняла она ему, силясь улыбнуться сквозь слезы.
— Ох, Мэтт, что с тобой теперь будет?
Она опустила ресницы, и по лицу у нее пробежала тень. Он понял, что только сейчас она всерьез задумалась о собственном будущем.
— Ну… может, подвернется какое-нибудь местечко в Стамфорде, — нерешительно произнесла она, зная, что он ей не поверит, как не верила в это она сама.
Он сел на стул и закрыл руками лицо. При мысли о том, что ей придется одной, без всякой помощи, обивать пороги в надежде найти работу, его охватило отчаяние. В единственном месте, где ее знали, в ее родном городке, она была окружена равнодушием, если не враждебностью; что же ожидало ее в больших городах, где ей, неопытной и ничему не обученной, пришлось бы в погоне за пропитанием соперничать с сотнями и тысячами других?..
Ему припомнились скверные истории, которые он слышал в Вустере; припомнились лица девушек, жизнь которых начиналась так же радужно, как у Мэтти… Нет, про такое нельзя было даже думать — все его нутро восставало против этого. Он вскочил на ноги.
— Ты не уедешь, Мэтт! Я тебя не пущу! Она всегда делала как ей заблагорассудится, но теперь пришел мой черед поставить на своем!
Мэтти предостерегающе подняла руку, и он услышал за спиной шаги жены.
Зена вошла в кухню, шаркая стоптанными туфлями, и не спеша уселась в кресло у стола.
— Мне малость полегчало, а доктор Бак говорит, что даже если совсем нет аппетита, все равно надо кушать, а то у меня сил не будет, — сообщила она своим бесстрастным голосом и протянула руку за чайником. «Парадную форму» она успела снять и облачилась в свой всегдашний ситцевый капот и коричневую вязаную шаль; вместе с будничным нарядом на ее лицо вернулось всегдашнее постное выражение. Она налила себе большую чашку чаю, щедро плеснула туда молока, положила на тарелку солидную порцию запеканки, зачерпнула ложкой маринаду, и перед тем как приступить к еде, привычным жестом подправила во рту искусственную челюсть. Кошка тут же принялась усердно тереться ей об ноги; она сказала: «Кисанька, умница!», наклонилась ее погладить и кинула ей кусочек запеканки.
Итан сидел, не произнося ни звука, и не дотрагивался до ужина. Мэтти, напротив, самоотверженно что-то жевала и даже поинтересовалась, хорошо ли Зена съездила. Та отвечала ей как ни в чем не бывало, а под конец даже увлеклась и описала, с упоминанием всех красочных подробностей, наиболее примечательные случаи расстройства пищеварительного тракта среди ее знакомых и родственников. Рассказывая, она глядела на Мэтти с едва заметной усмешкой, углублявшей складки, которые тянулись у нее от носа к подбородку.
Поужинав, она встала и приложила руку к тому участку плоской поверхности, под которым должно было находиться ее сердце.
— После твоей запеканки, Мэтт, мне всегда не продохнуть, — заметила она незлобиво. Она редко звала девушку этим домашним именем — разве что пребывала в особо благодушном настроении.
— Пойти, пожалуй, поискать порошки от несварения, что мне прошлый год прописали в Спрингфилде, — продолжала она. — Давненько я их не пила — вдруг помогут, а то у меня изжога.
Мэтти подняла глаза.
— Может, мне сходить? — несмело предложила она.
— Нет, нет, они у меня в таком месте, где только я сама знаю, — уклончиво отвечала Зена, напустив на себя многозначительный вид.
Она вышла из кухни; Мэтти тоже встала и принялась убирать со стола. Итан следил за ней в горестном молчании. В какую-то секунду взгляды их встретились, и потом они еще долго не могли отвести глаз друг от друга. В кухне было тепло и тихо; она выглядела так же мирно, как накануне. Кошка снова примостилась в качалке Зены; огонь в печке догорал, и, как всегда в натопленном помещении, стал сильнее чувствоваться резковатый запах герани.
Итан с трудом заставил себя подняться на ноги.
— Выйду взгляну, все ли в порядке, — проговорил он и направился в прихожую за фонарем.
Не успел он дойти до двери, как чуть не столкнулся с Зеной, которая появилась на пороге. Губы ее в бешенстве подергивались, а обычно бескровное лицо горело лихорадочным румянцем. Шаль сползла у нее с плеч и волочилась по полу, а в руках она несла осколки разбитого блюда.
— Я хочу знать, кто это сделал, — произнесла она, смерив их обоих грозным взглядом.
Ответа не последовало. Тогда она заговорила прерывающимся голосом:
— Иду это я преспокойно за порошками — а они у меня были в чулане припрятаны, в отцовом футляре от очков, на верхней полке — я там все свои самые драгоценные вещи храню, от чужих рук подальше… — Голос ее дрогнул; две слезы повисли на лишенных ресниц веках и медленно сползли по щекам. — До верху без стремянки не дотянешься, вот я и подумала — приберу-ка я туда блюдо, что мне тетушка Филура Мейпл к свадьбе подарила, целее будет, и как поставила, так больше и не снимала — смахну, бывало, пыль, когда весной чулан проветриваю, и все. Уж так берегла, так берегла… — Она благоговейно разложила черепки на столе. — Я желаю знать, кто это сделал, — повторила она дрожащим голосом.
Молчать Итан больше не мог. Он отошел от двери и встал напротив Зены.
— Я тебе скажу, кто это сделал. Кошка!
— Как это кошка? Что ты городишь?
— То, что слышишь.
Она сверкнула на него глазами и повернулась к Мэтти, которая несла к столу таз для посуды.
— Интересно знать, как это кошка попала в чулан, — ядовито заметила она.
— Наверно, мышь учуяла, — отозвался Итан. — Она вчера целый вечер по кухне за мышью гонялась.
Зена постояла, переводя взгляд с Итана на Мэтти, потом сказала с коротким, странным смешком, подчеркивая каждое слово:
— Я и раньше знала, что кошка у нас смышленая, а она, выходит, умнее, чем я думала! Смотрите-ка: все осколочки подобрала и на верхнюю полочку сложила, да еще так ловко приладила — не вдруг заметишь!
Мэтти не выдержала и бросила мыть тарелки.
— Зена, Итан ни при чем! Блюдо правда кошка разбила, но из чулана я его вынула, так что я и виновата.
Зена стояла над своим погибшим сокровищем, и ее лицо на глазах застывало в каменную маску негодования.
— Ты… ты его вынула? Чего ради? Мэтти залилась краской.
— Я хотела… чтобы на столе было красиво, — еле выговорила она.
— Ты хотела, чтобы на столе было красиво, и ты воспользовалась моим отсутствием и взяла самовольно вещь, которую я берегла как зеницу ока! Да знаешь ли ты, что я это блюдо ни разу на стол не ставила, даже когда пастор приходил к обеду, когда тетя Марта приезжала из Бетсбриджа! — Зена задохнулась, словно заново потрясенная подобным святотатством. — Ты плохо кончишь, Мэтти Силвер. Ты, видно, в отца пошла. Не зря мне люди говорили, когда я тебя брала в дом, не зря меня предупреждали, и уж как я старалась свое добро от тебя уберечь, а все-таки ты до него добралась, погубила самое мое любимое… — Тут у нее вырвалось рыдание, но она поборола минутную слабость и снова окаменела, на этот раз окончательно.
— Если б я вовремя людей послушалась, тебя бы уже давно здесь не было, и все бы было в целости и сохранности, — сказала она, снова собрала осколки и вышла из кухни, неся их перед собой, словно мертвое тело…
ГЛАВА VIII
В свое время, когда болезнь отца вынудила Итана прервать ученье и вернуться домой, мать выделила ему комнатушку рядом с пустовавшей «залой». Он прибил там полки для книг, соорудил себе из досок холостяцкое ложе, разложил на кухонном столе свои бумаги, повесил на грубо оштукатуренную стенку портрет Авраама Линкольна и календарь под названием «Бессмертные мысли поэтов» и с помощью этих незатейливых средств попытался придать комнатушке сходство с кабинетом знакомого вустерского священника, который ему симпатизировал и давал читать книжки. Он по-прежнему уединялся здесь в летние месяцы, но с приездом Мэтти ему пришлось перенести свою печку наверх, а ночевать в неотапливаемой комнате в холодное время года было невозможно.
Об этом своем убежище он и вспомнил в тот вечер. Как только в доме все утихло и мерное посапыванье Зены убедило его, что продолжения кухонной сцены не будет, он крадучись спустился вниз. Тогда, после ухода Зены, они с Мэтти еще долго стояли в оцепенении, не в силах вымолвить ни слова. Потом, все так же молча, Мэтти домыла посуду и стала прибирать в кухне на ночь, а Итан снял с гвоздя фонарь и вышел на улицу, чтобы совершить ежевечерний обход дома. Когда он вернулся, кухня была пуста, но на столе лежали его кисет и трубка, а под ними записка на клочке бумаги, вырванном из каталога садовых семян. В записке было всего три слова: «Не беспокойся, Итан».
Он заперся в своем холодном, темном «кабинете», поставил фонарь на стол и, наклонившись к свету, стал читать и перечитывать записочку. Впервые в жизни Мэтти написала ему, и, держа в руках этот обрывок бумаги, он по-новому ощутил ее близость. Но одновременно он с удвоенной остротой осознал, что всякий иной способ общения отныне будет для них закрыт и он уже не увидит ее сияющей улыбки, не услышит ласкового голоса; взамен всего этого останется только холодная бумага и мертвые слова.
Все чувства его взбунтовались. Неужели он примирится с крушением всех своих надежд — он, такой молодой и сильный, еще полный жизненных соков? Неужели ему придется до конца своих дней жить бок о бок со сварливой, озлобленной женщиной? А между тем в нем были заложены иные возможности, но все они, одна за другой, оказались принесенными в жертву ограниченности и невежеству его жены — и, главное, без всякого проку: сейчас она была в сто раз сварливее и ожесточеннее, чем тогда, когда выходила за него замуж. В жизни ей осталось одно только удовольствие — измываться над ним.
В конце концов, почему он должен так бесполезно растрачивать свои дни? В нем вдруг пробудился и бурно восстал здоровый инстинкт самосохранения.
Укрывшись выношенной енотовой шубой, он прилег на свою дощатую койку, чтобы собраться с мыслями. Голова его упиралась во что-то твердое и комковатое. Это была диванная подушка, которую Зена смастерила сразу после их помолвки, — с тех пор он никогда больше не видел ее с иголкой в руках. Он вытащил подушку, швырнул ее на пол и прислонился головой к стене…
На память ему пришла история, которая случилась с одним парнем из ближних мест, примерно того же возраста, что Итан. Он тоже был женат, влюбился в девушку, все бросил и уехал с ней на Запад. Жена дала ему развод, он женился на своей девушке, разбогател и навсегда покончил с прежней своей никчемной жизнью. Итан сам видел эту счастливую пару прошлым летом в Шедс-Фолзе, куда они приезжали проведать родственников. У них была уже прехорошенькая дочка с льняными кудряшками, разодетая как кукла, с золотым медальончиком на шее. Брошенная жена тоже времени даром не теряла. Ферму, которая осталась ей от мужа, она продала и на эти деньги да еще на алименты, которые он ей уплатил, открыла закусочную: дела у нее шли отменно, и довольно скоро она завоевала себе в Бетсбридже прочное положение. Что если поступить так же — уехать завтра вместе с Мэтти, а не отпускать ее одну неведомо куда? Он мог бы потихоньку уложить свой чемодан и заранее спрятать его в сани под сиденье, и Зена ничего бы не заподозрила; а потом она поднялась бы наверх вздремнуть после обеда и нашла бы на кровати письмо…
Повинуясь неодолимому побуждению, он вскочил, снова засветил фонарь и сел к столу. В выдвижном ящике он нашарил листок бумаги, расправил его и принялся писать:
«Зена, я сделал для тебя все, что мог, и вижу, что напрасно старался. Тебя я не обвиняю, но и я не виноват. Может быть, нам обоим будет полезно расстаться. Я намерен попытать счастья на Западе, а ты можешь продать лесопилку и ферму и деньги оставить себе…»
На слове «деньги» его перо запнулось, и он сразу вспомнил, в какие жесткие денежные рамки поставлено его существование. Если он уступит Зене ферму и лесопилку, то сам останется без гроша за душой и начинать новую жизнь будет не на что. Он был уверен, что, оказавшись на Западе, сможет найти работу, и, будь он один, он рискнул бы уехать с пустым карманом. Но на его попечении будет Мэтти, а это уже совсем другой коленкор. А что станется с самой Зеной? И ферма, и лесопилка были заложены на полную стоимость, и даже если ей удалось бы найти покупателя — что само по себе было весьма сомнительно, — в лучшем случае она выручила бы за все целиком тысячу долларов. А как быть, пока ферма не продана? Зене ведь с ней не управиться. Итану еще удавалось извлекать из своей земли хотя бы скудный доход, потому что он за всем наблюдал самолично и сам трудился не покладая рук; но, разумеется, его жене, даже если со здоровьем у нее обстоит не так уж худо, как она воображает, не под силу будет тащить такой груз.
Ну что ж, она может уехать к своим родственникам и пожить у них на иждивении. То-то они обрадуются! Сейчас она толкала на это Мэтти — пусть-ка сама испытает, каково просить помощи у родни. Покуда она его разыщет, покуда возбудит бракоразводный процесс, он уже успеет обосноваться на новом месте, неважно где, и сможет уплатить ей достаточную сумму в виде алиментов. Либо он осуществит этот замысел, либо должен будет отпустить Мэтти одну — почти без всякой надежды позаботиться о ней в будущем.
Ища бумагу, он все переворошил в ящике стола, и когда снова взялся за перо, его внимание привлек старый номер бетсбриджской городской газеты. Газета лежала той стороной, на которой печатаются рекламные объявления, и ему сразу попался на глаза броский заголовок:
НА ЗАПАД — ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!
Он пододвинул фонарь поближе и стал торопливо пробегать столбики цифр; но скоро газета выпала у него из рук, а письмо так и осталось недописанным. Минуту назад он ломал голову над тем, на что они с Мэтти будут жить, перебравшись на Запад; теперь он понял, что им туда и доехать-то будет не на что. О том, чтобы взять где-то в долг, даже речи быть не могло: полгода назад он использовал свою единственную возможность занять денег под обеспечение, чтобы оплатить безотлагательный ремонт лесопилки; а он знал, что никто в Старкфилде не одолжит ему и десяти долларов без залога. Неумолимые факты подступили к нему со всех сторон и прижали к стене, как тюремщики, настигшие беглого каторжника. Выхода не было. Ему оставалось покорно отбывать пожизненное заключение — и единственный луч света, скрашивавший до сих пор его существование, должен был с минуты на минуту погаснуть.
С трудом он дотащился до постели и лег; все его тело словно налилось свинцом, и ему казалось, что он не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Судороги сводили ему горло, и слезы, подступая к глазам, немилосердно жгли веки.
Пока он лежал без сна, окно напротив постепенно светлело и обозначилось в темноте мерцающим квадратом лунного неба, который прорезала наискось узловатая ветка яблони, той самой, под которой летними вечерами любила сиживать Мэтти, — он часто заставал ее там, возвращаясь с лесопилки домой. Туманные испарения, нависавшие над землею после дождя, вспыхнули в лунном зареве и мало-помалу выгорели дотла: луна плыла теперь в сквозистой, незамутненной синеве. Опершись на локоть, Итан наблюдал, как светлеет и хорошеет окрестный пейзаж, — луна, словно умелый скульптор, придавала ему форму и поворачивала выгодной стороной. Нынче ночью он обещал взять Мэтти покататься на санках — и небесный фонарь был к их услугам! Он глядел на сверкающие под луной склоны холмов, на отороченный серебристой каемкой силуэт дальнего леса, на призрачно-лиловые зубцы гор на фоне неба — и думал, что природа нарочно выплеснула на землю всю эту красоту, — будто в насмешку над его безутешным горем…
Наконец он задремал и проснулся от холода: на дворе занимался рассвет. Он продрог до костей и, к своему стыду, отчаянно проголодался. Протерев глаза, он подошел к окну. Над туманной полосой полей, проглядывающей сквозь ломкие черные силуэты деревьев, багровым диском всходило солнце. «Сегодня Мэтти здесь последний день», — подумал он, но, как ни силился, не мог себе представить, что теперь здесь будет без нее.
Вдруг у дверей послышались шаги, и в комнату вошла Мэтти.
— Ох, Итан, неужто ты всю ночь тут пробыл?
Она выглядела такой худенькой и жалкой в своем невзрачном платьишке, и хотя на плечи она накинула малиновую шаль, лицо ее в сером утреннем свете казалось бледным и бескровным. Он стоял перед ней, не говоря ни слова.
— Ты, наверно, совсем закоченел, — продолжала она, устремив на него грустный, потерянный взгляд.
Он сделал шаг ей навстречу.
— Откуда ты знаешь, что я тут ночевал?
— Да я, когда ложилась спать, слышала, как ты спускался вниз… а потом всю ночь лежала слушала, но ты так и не вернулся.
Итан взглянул на нее, не в силах выразить переполнявшую его нежность, и сказал:
— Пошли на кухню, я затоплю.
Он принес уголь и растопку, освободил плиту от всего лишнего и разжег огонь. Когда от печки потянуло теплом и на кухонном полу заиграл первый солнечный луч, его мрачные мысли стали понемногу рассеиваться. При виде Мэтти, хлопочущей на кухне, как всегда бывало по утрам, он просто не мог поверить, что вся эта привычная обстановка будет продолжать существовать без нее. Он решил, что скорее всего преувеличил серьезность Зениных угроз, что утро вечера мудренее и она наверняка успела одуматься.
Он подошел к Мэтти, которая стояла, наклонившись над плитой, и положил руку ей на плечо.
— И ты не беспокойся, хорошо? — шепнул он, с улыбкой заглядывая ей в глаза.
Она радостно вспыхнула и ответила тоже шепотом:
— Хорошо, Итан, не буду.
— Все еще уладится, вот посмотришь, — пообещал он. Она промолчала, только вскинула и опустила ресницы, а Итан спросил:
— Сегодня она тебе ничего не говорила?
— Я ее сегодня еще не видела.
— Вот и ладно. А увидишь — тоже поменьше внимания обращай.
Отдав ей это распоряжение, он вышел и направился в коровник. По дороге он увидел сквозь утренний туман, что от ворот шагает Джотам Пауэлл; день начинался как обычно, и это окончательно укрепило его уверенность в том, что все будет хорошо.
Вдвоем они принялись чистить стойла; потом Джотам остановился перевести дух и, опершись на вилы, изрек:
— Днем на станцию Дэн Берн поедет, дак пускай он сундук заберет. Без сундука-то оно способней будет.
Итан остолбенело уставился на своего помощника, а тот как ни в чем не бывало продолжал:
— Мэтти велено к пяти часам свезти. Миссис Фром сказала, что новая в пять приедет, ну и того, надо поспеть, а уж Мэтти сядет на шестичасовой, на Стамфорд, значит.
Кровь застучала у него в висках, и он не сразу нашел в себе силы ответить:
— Насчет Мэтти ничего еще окончательно не решено.
— Вон как? — равнодушно отозвался Джотам, и оба снова принялись за работу.
Вернувшись в дом, они застали женщин за завтраком. Зена в это утро была необычайно деятельна и оживлена. Она выпила две чашки кофе, выскребла из миски и бросила кошке остатки вчерашней запеканки, потом встала, подошла к окну и стала отщипывать с герани в горшке засохшие листья.
— А вот у тетушки Марты на цветах ни одного желтого листочка нету… Конечно, если за растением не ухаживать, оно зачахнет, — произнесла она задумчиво и, повернувшись к Джотаму, спросила: — Так в котором часу, ты сказал, поедет Дэниел Берн?
Джотам кинул нерешительный взгляд на хозяина.
— Обещался около полудня, — пробормотал он.
Зена повернулась к Мэтти:
— Сундук у тебя такой тяжелый, что его на санях не увезти; я договорилась — Дэниел Берн заедет и свезет его на станцию.
— Большое спасибо, — ответила Мэтти.
— Вот и отлично, только сперва посмотрим, все ли вещи в доме на месте, — невозмутимо продолжала Зена. — Я недосчитываюсь одного сурового полотенца, и еще я давно хотела спросить, куда ты задевала ящичек для спичек, что всегда у меня в зале лежал, за совиным чучелом.
С этими словами она вышла, Мэтти последовала за ней, и когда мужчины остались одни, Джотам кашлянул и пробурчал:
— Надо, значится, сказать Дэну, чтоб заехал.
Покончив с утренними делами по хозяйству, Итан сказал Джотаму, что ему надо в Старкфилд и чтобы к обеду его не ждали.
Бунт снова закипал в его душе. То, во что с трудом верилось при трезвом рвете дня, все-таки произошло: изгнание Мэтти превратилось в близкую реальность, а ему предстояло быть беспомощным свидетелем — иными словами, играть самую жалкую роль. Его мужское достоинство было втоптано в грязь, а при мысли о том, что о нем подумает Мэтти, ему становилось совсем скверно. В нем боролись разноречивые побуждения, от которых голова шла кругом. Он постановил предпринять что-то решительное, но еще толком не знал, что именно.
Утренний туман рассеялся, и поля вокруг, словно повернутый к солнцу серебряный щит, отсвечивали матовым блеском. Стоял один из тех дней, когда земля еще закутана в сверкающий зимний наряд, а в воздухе уже сквозит слабое дыхание весны. Каждый отрезок дороги в Старкфилд напоминал ему о Мэтти; он беспрестанно ощущал ее живое присутствие. Ветка дерева на фоне неба или ежевичные кусты у края оврага воскрешали в нем обрывки радостных воспоминаний. Раз с придорожной рябины до него донесся птичий щебет, показавшийся ему в тишине до того похожим на ее смех, что сердце у него остановилось, а потом заколотилось как бешеное. Думы о Мэтти не оставляли его ни на секунду и требовали безотлагательных действий.
Внезапно ему пришло на ум, что Эндрю Хейл, человек в сущности мягкосердечный, может все-таки — вопреки своему первоначальному решению — поддаться на уговоры и согласится уплатить Итану хоть сколько-нибудь наличными, в особенности если ему объяснить, что слабое здоровье Зены вынуждает их нанять работницу. В конце концов, Хейл достаточно хорошо знал положение Итана, и наш герой мог бы обратиться к нему еще раз без большого ущерба для своего самолюбия. Да и чего стоило самолюбие по сравнению с бурей страсти, бушевавшей в его груди!
Чем дольше он раздумывал об этом плане, тем больше он приходился ему по душе. Если б еще удалось поговорить с миссис Хейл, тогда уж точно все было бы в порядке, а имея в кармане полсотни долларов, он в два счета увез бы Мэтти, и только бы их и видели…
Теперь необходимо было попасть в Старкфилд, покуда Хейл еще не уехал, — Итан знал, что он что-то строит на окраине поселка, по дороге на Корбери, и выезжает из дому довольно рано. Он ускорил шаги, приноровляя их к стремительному бегу своих мыслей, и у подножья Школьной горки еще издали завидел сани Хейла. Он поспешил им навстречу, но скоро увидел, что лошадью правит не сам Хейл, а его младший сын; в санях восседала старая миссис Хейл, до того закутанная, что она смахивала на большущий поставленный торчком кокон в очках. Итан махнул им рукой; парень придержал коня, а миссис Хейл, добродушно сияя всеми своими розовыми морщинками, перегнулась к Итану.
— Дома ли? Дома, дома, ты его сейчас как раз застанешь. Он нынче с утра никуда не пошел — как встал, поясницу у него заломило, так я уж его заставила пластырь налепить, как старый доктор Киддер прописывал, да у огня как следует прогреться.
По-матерински улыбаясь Итану, она наклонилась поближе и добавила:
— Я только сейчас узнала — Зена-то, оказывается, к новому доктору ездила в Бетсбридж. Ах ты, горе какое, опять она, видать, расхворалась! Ну, даст бог, этот доктор за нее возьмется, может, поставит на ноги. И что за напасть такая! Вот я гляжу на наших деревенских — ведь ни у кого таких болезней нету, как у Зены. Я старику своему всегда говорю: что бы она, бедняга, делала, если б тебя не было, кто бы о ней заботился? И про твою мать покойницу то же самое говорила. Что греха таить, не много ты видел в жизни радости, Итан Фром!
И на прощанье она сочувственно кивнула ему головой. Младший Хейл причмокнул языком, сани покатили дальше, а Итан еще долго стоял посреди дороги, глядя им вслед.
Давно уже никто не говорил ему таких добрых, сердечных слов. По большей части люди проявляли к его невзгодам полное безразличие и не находили ничего особенного в том, что молодой парень его возраста столько лет безропотно несет свое бремя, — ведь у него на руках один за другим оставались трое тяжких больных. Но миссис Хейл сказала: «Не много ты видел в жизни радости, Итан Фром!», и на душе у него немного полегчало. Если Хейлы так жалеют его, они непременно откликнутся на его просьбу…
Он решительно двинулся по дороге к их дому, но, сделав несколько шагов, вдруг остановился, и вся кровь бросилась ему в лицо. Только сейчас, когда в его ушах еще звучали слова миссис Хейл, Итан сообразил, что, собственно, он задумал. Ведь он собрался воспользоваться их расположением, чтобы под фальшивым предлогом выманить у них деньги! Именно к этому сводилось — если говорить без обиняков — то сомнительное намерение, которое подхлестывало его весь остаток пути.
Внезапно осознав, до чего он дошел в своем безумии, Итан окончательно прозрел, и вся его жизнь предстала перед ним в истинном свете. Денег у него не было; его жена, больная женщина, осталась бы в нищете и одиночестве, если бы он бросил ее. И даже решись он на этот шаг, он смог бы осуществить свой замысел только обманув двух добросердечных людей, которые отнеслись к нему с сочувствием.
Он повернулся и побрел назад на ферму.
ГЛАВА IX
У дома, со стороны кухни, стояли сани, запряженные ширококостой кобылой серой масти, которая нетерпеливо мотала головой и рыла копытом снег. В санях дожидался Дэниел Бери.
Итан прошел на кухню и застал там свою жену. Замотав голову шалью, она сидела в качалке перед печкой и штудировала книгу под названием «Болезни почек и их лечение», которую Итан несколько дней назад получил на почте и еще доплатил за пересылку.
На мужа она не взглянула и даже не шевельнулась, и он, немного выждав, спросил:
— А Мэтти где?
Не подымая глаз от книги, она ответила:
— Наверно, пошла свой сундук вниз снести. Итен оцепенел.
— Снести сундук — одна, что ли?
— Джотам Пауэлл на лесопилке, а Дэниел Берн говорит, что не может отлучаться от лошади.
Не дослушав, Итан кинулся в прихожую и в мгновение ока взбежал по лестнице. Дверь в комнату Мэтти была закрыта, и он в нерешительности остановился на площадке.
— Мэтт, — позвал он тихонько и, не услышав ничего в ответ, повернул дверную ручку.
Он был в ее комнате один-единственный раз — летом, когда понадобилось залатать течь в карнизе, но до мелочей запомнил всю обстановку: красное с белым одеяло на узкой кровати, вышитую подушечку для иголок на комоде; на стене тогда висела увеличенная фотография ее матери в потемневшей металлической рамке, за которую был заткнут пучок крашеной травы. Все это, вместе с другими приметами ее присутствия, теперь исчезло, и комната выглядела так же голо и неуютно, как в день приезда Мэтти год назад, когда Зена привела ее наверх.
Посреди комнаты стоял сундук, а на сундуке, спиной к дверям, сидела Мэтти в самом лучшем своем платье. Оклика Итана она не услышала, потому что плакала, закрыв лицо руками; шагов его она тоже не слыхала, покуда он не подошел к ней вплотную и не положил ладони ей на плечи.
— Мэтт, перестань — перестань, ради бога!
Она вздрогнула и подняла на него мокрое от слез лицо.
— Итан! А я уж думала, что я тебя больше не увижу!
Он обнял ее и крепко прижал к себе, дрожащими пальцами отводя ей волосы со лба.
— То есть как больше не увидишь? Что ты такое говоришь?
Она проговорила, всхлипывая:
— Джотам сказал, будто ты ему велел передать, чтоб тебя не ждали к обеду, вот я и решила…
— Решила, что я сбежал? — докончил он за нее с горькой ухмылкой.
Вместо ответа она прильнула к нему, и он зарылся лицом в ее волосы. Они были мягкие и в то же время пружинистые и напоминали на ощупь темно-зеленый мох, растущий обычно на песчаных откосах; и пахли они тоже каким-то лесным запахом — точно свежие опилки, прогревшиеся на солнце.
Сквозь закрытую дверь до них донесся снизу голос Зены:
— Дэниел Берн велит поторапливаться, а то он уедет без сундука!
Они в страхе отпрянули друг от друга. Слова протеста, уже готовые были вырваться у Итана, замерли на его губах. Мэтти достала носовой платок и вытерла глаза, потом нагнулась и взялась за ручку сундука.
Итан властно отстранил ее:
— Пусти-ка, я сам. Она возразила:
— Нет, надо вдвоем, а то его в дверях не развернуть! Он не стал спорить, ухватился за другую ручку, и вместе, лавируя, они вытащили увесистый сундук на площадку.
— А теперь пусти, — распорядился он, вскинул сундук на плечо, снес его вниз по лестнице и прошел через кухню к двери на улицу. Зена уже вернулась на свое место у печки и снова углубилась в книгу, не обратив на них никакого внимания. Мэтти вышла следом за Итаном и помогла ему погрузить сундук в сани. Установив его как следует, они отошли и уже с порога проводили взглядом Дэна Берна с его норовистой кобылой, которая с места рванула рысью.
Итану казалось, что его сердце обмотано жесткими веревками и что с каждой секундой, которую отсчитывают часы, чья-то невидимая рука затягивает их все туже. Дважды он раскрывал рот, чтобы сказать что-нибудь, но слова не шли у него с языка. Когда Мэтти повернулась к дверям, он задержал ее, положив ей руку на плечо, и шепнул:
— Я сам тебя свезу на станцию, Мэтт. Она прошептала в ответ:
— По-моему, Зена Джотама хочет послать.
— Нет, я тебя сам свезу, — упрямо повторил он, и она не стала спорить.
За обедом кусок не шел ему в горло. Стоило ему поднять глаза, как его взгляд упирался в тощее лицо жены; уголки ее сжатых в ниточку губ кривились еле заметной усмешкой. Она кушала с большим аппетитом, заявив, что теперь, когда потеплело, ей стало получше, и усердно потчевала Джотама, хотя обыкновенно его нужды ее мало заботили.
Когда отобедали, Мэтти, как всегда, взялась за мытье посуды. Зена, покормив кошку, снова расположилась в качалке у печки, а Джотам Пауэлл, который обычно засиживался за столом дольше других, с явной неохотой поднялся и направился к двери.
На пороге он обернулся и спросил у хозяина:
— Дак когда мне, значит, заезжать-то?
Итан, стоя у окна, машинально набивал трубку и наблюдал за Мэтти, которая ходила взад и вперед по кухне.
— Не надо тебе заезжать — я сам ее отвезу.
Он заметил, как вспыхнула Мэтти, стоявшая вполоборота к нему, — и тут же Зена подняла голову.
— Нет уж, Итан, ты побудь дома, — проговорила она. — Джотам прекрасно ее довезет.
Мэтти кинула на него умоляющий взгляд, но он отрывисто повторил:
— Сказал — отвезу сам, значит, отвезу.
— Нет, Итан, — возразила Зена все тем же ровным тоном, — ты побудь дома. У Мэтти в комнате печка дымит, там уже с месяц тяга не в порядке, так надо к приезду новой девушки подправить.
— Выходит, для Мэтти и такая была хороша, а для этой уже нехороша стала? — вознегодовал Итан.
— Эта девушка говорила, что у кого она раньше жила, там дом котлом отапливался, — монотонно-увещевающим голосом продолжала Зена.
— Вот пускай бы там и дальше жила, — обрезал Итан и, повернувшись к Мэтти, сурово приказал: — К трем будь готова, Мэтт; у меня в Корбери дела.
Джотам Пауэлл направился в конюшню, и Итан, превозмогая себя, двинулся следом. В висках у него стучало, глаза заволакивал туман. Он что-то делал, не сознавая, что за сила им движет и чьи руки и ноги повинуются ее распоряжениям. Только когда он вывел из стойла гнедого и, пятя, завел его в оглобли саней, он немного пришел в себя. Надевая на коня уздечку и закрепляя на оглоблях постромки, он припомнил тот день, когда точно так же запрягал гнедого, чтобы ехать на станцию встречать незнакомую родственницу жены… С той поры минул год с небольшим; и тогда стояла точно такая же мягкая погода, а в воздухе пахло весной. Как и в тот раз, гнедой покосился на него темным выпуклым глазом и ткнулся теплыми ноздрями ему в ладонь; и все дни, из которых складывался прошедший год, разом воскресли в его памяти…
Он кинул в сани медвежью полсть, взобрался на козлы и подъехал к дому. В кухне никого не было, но саквояжик и шаль Мэтти лежали наготове у дверей. Он вышел в прихожую и прислушался. Сверху не доносилось ни звука, но ему почудилось, что в его холостяцком «кабинете» кто-то ходит. Он толкнул дверь и увидел Мэтти, которая стояла к нему спиной у стола, в шапочке и теплой жакетке.
При его приближении она вздрогнула и обернулась:
— Уже пора?
— Ты что тут делаешь, Мэтт?
Она смущенно взглянула на него и, виновато улыбнувшись, ответила:
— Так — смотрю…
В молчании они прошли в кухню; Итан взял ее саквояж и шаль и спросил:
— А Зена где?
— Наверх поднялась — сразу после обеда. Сказала, что у нее опять все разболелось, и велела ее не беспокоить.
— Что ж она, даже до свиданья тебе не сказала?
— Нет. Ушла наверх и все.
Медленно оглядывая кухню, Итан подумал, что через несколько часов он снова вернется сюда — уже один. Все происходящее опять утратило реальность, и он никак не мог заставить себя поверить, что видит Мэтти в последний раз.
— Поехали! — сказал он нарочито бодрым голосом, открыл дверь, поставил саквояж в сани и взобрался на козлы. Мэтти примостилась рядом с ним и натянула на себя меховую полсть; тогда Итан перегнулся и заботливо подоткнул ее со всех сторон.
— Ну, трогай! — Он дернул за вожжи, и гнедой пустился под гору неторопливой трусцой.
— Еще уйма времени — успеем прокатиться на славу! — крикнул он и под медвежьей шкурой нашел и сжал ее пальцы. Лицо у него покалывало от ветра, а в голове шумело, как будто он в нечаянно выдавшийся свободный день пропустил в трактире стаканчик.
Выехав за ворота, Итан повернул коня направо, к Бетсбриджу, хотя дорога на Старкфилд шла влево. Мэтти не выказала никакого удивления — только, помолчав, спросила:
— Хочешь проехать мимо Черного озера? Итан, рассмеялся в ответ:
— Я знал, что ты догадаешься!
Она теснее прижалась к нему, так что, косясь через плечо, он видел только кончик ее носа и выбившуюся из-под шапочки прядку темных волос. Дорога тянулась между полями, поблескивавшими в неярком свете солнца; потом они свернули еще правее и поехали вдоль проселка, по сторонам которого росли ели и лиственницы. Далеко впереди виднелась гряда холмов, кое-где покрытая черными заплатками леса; их округлые белые очертания плавно уходили вдаль, сливаясь с небом. Потом дорога пошла среди сосен, стволы которых в лучах предзакатного солнца отсвечивали красным, бросая на снег голубоватые тени. В лесу ветра не было, и казалось, что с деревьев вместе с осыпающимися иголками спадает на землю теплая тишина. Снег здесь был такой чистый и гладкий, что на нем четко виднелись узенькие цепочки следов лесных зверюшек, которые сплетались в замысловатый кружевной узор, а нападавшие с деревьев шишки напоминали бронзовые лепные украшения.
В молчании они ехали дальше, пока не добрались до той части леса, где сосны росли пореже. Тут Итан придержал лошадь и помог Мэтти сойти. Вдыхая запах смолы, они прошли между деревьями к небольшому озеру с крутыми лесистыми берегами. Высившийся поблизости одинокий холм отбрасывал на скованную льдом поверхность длинную треугольную тень; летом, в вечерние часы, вода в озере всегда казалась черной — отсюда и пошло его название.
В воздухе вокруг этого тихого, уединенного места была разлита та же немая печаль, которая переполняла сейчас сердце Итана. Он обвел глазами прибрежную полосу гальки и задержался взглядом на поваленном стволе дерева, темневшем в снегу.
— Помнишь, мы тут сидели, когда был пикник? — проговорил он задумчиво.
Речь шла об одном из редких деревенских развлечений, в котором им обоим довелось принять участие. Прошлым летом церковная община устроила пикник, на целый долгий день внесший праздничное оживление в небогатую событиями захолустную жизнь.
Мэтти долго упрашивала его пойти вместе с ней, но он отказался. И только на закате, возвращаясь из лесу, где он валил деревья, Итан очутился поблизости от Черного озера. Тут он попался на глаза каким-то весельчакам, оторвавшимся от основной группы участников, и его силой затащили на берег. У самого озера он увидел Мэтти в широкополой шляпе, оживленную и румяную, как спелая ягода; она варила на костре кофе, а вокруг нее толпились балагурившие парни. Он помнил собственное смущение оттого, что появился перед ней в обтрепанной рабочей одежде; помнил и то, как радостно она вспыхнула, завидев его, и как решительно раздвинула окружавшее ее плотное кольцо, чтобы протянуть ему чашку горячего кофе. А потом они посидели на упавшем дереве у самой воды, и она хватилась своего медальончика, и все парни дружно принялись его искать, но первым углядел его в траве все-таки Итан… Казалось бы, ничего особенного, но ведь и все их общение до недавних пор складывалось именно из таких мимолетных вспышек, из таких безотчетно счастливых мгновений, которые возникали нежданно-негаданно, словно бабочка, мелькнувшая в зимнем лесу.
— А помнишь, я здесь нашел твой медальончик, — сказал он, вороша носком сапога кусты черничника под снегом.
— Конечно, помню! Я еще удивилась, до чего ты зоркий.
Она присела на ствол дерева, освещенный солнцем; он опустился рядом.
— Ты тогда была красивая, как картинка, в своей розовой шляпке! — сказал Итан.
— Ох, наверно, это шляпка была красивая, а не я! — засмеялась Мэтти, польщенная.
Впервые за все это время они решились заговорить вслух о своем взаимном влечении, и на минутку Итану показалось, что он свободен и ухаживает за девушкой, на которой хочет жениться. Он смотрел на ее волосы, и его тянуло снова прикоснуться к ним и сказать Мэтти, что они пахнут лесом; но найти для этого подходящие слова он не умел.
— Итан, пора ехать, — сказала вдруг Мэтти и встала. Он продолжал рассеянно глядеть на нее, не вполне отрешившись от власти своих грез, и машинально отмахнулся:
— Много еще времени…
Они стояли, не сводя друг с друга глаз, и каждый словно старался вобрать в себя и навсегда удержать черты другого. Он столько собирался сказать ей, но здесь, у озера, где роились летние воспоминания, сказать ничего не мог — и, повернувшись, молча пошел вслед за нею к саням. Когда они снова проезжали сосновой рощей, солнце уже скрылось за холмами и стволы из красноватых сделались серыми.
По кружной дороге между полями они выбрались на проселок, ведущий в Старкфилд. На открытом пространстве было еще совсем светло; горы на востоке сияли холодным алым отблеском заката. По пути им попадались купы деревьев, похожие на взъерошенных птиц, спрятавших голову под крыло, — с приближением ночи деревья как будто теснее прижимались друг к другу. Небо понемногу бледнело и на глазах отдалялось от земли, и земля от этого казалась еще более одинокой и унылой.
Повернув к Старкфилду, Итан спросил:
— Ты что-нибудь надумала, Мэтт? Она немного помедлила.
— Попробую опять наняться в магазин…
— Ты же знаешь, что эта работа не по тебе. Целый день на ногах, в духоте — ты и в прошлый раз едва выжила.
— Я теперь стала сильная, не то что раньше.
— Вот-вот, поздоровела мало-мальски на свежем воздухе, так теперь хочешь, чтобы все пошло насмарку!
На это возразить было нечего, и разговор снова на некоторое время прервался. Итан не сводил глаз с дороги, любой отрезок которой был ему чем-то памятен: вот тут они с Мэтти стояли, тут смеялись, там просто молчали… На каждом шагу прошедшее цеплялось за него и тянуло назад.
— А у отца твоего нету родственников, чтоб могли тебе помочь?
— Есть-то они есть, да я к ним не пойду. Собравшись с духом, он заговорил глухим голосом:
— Ты знаешь, Мэтт, я бы все сделал для тебя, если б мог…
— Я знаю, Итан…
— Но я не могу!
Она не ответила, но Итан почувствовал, что плечи у нее задрожали.
— Ох, Мэтт, — вырвалось у него, — если б я мог сейчас с тобой уехать — все бы бросил, пропади оно пропадом!
Она повернулась к нему и вытащила из-за пазухи листок бумаги.
— Я… я у тебя нашла вот это.
И хотя в воздухе уже темнело, он сразу узнал свое прощальное письмо к жене — то самое, которое он начал прошлой ночью и позабыл на столе.
Мгновенное изумление сменилось бурным приливом радости.
— Мэтт, а ты? Ты согласилась бы уехать со мной?
— Ох, Итан, Итан, что теперь об этом говорить? — И она исступленно порвала письмо на мелкие клочки, которые, кружась, упали в снег.
— Нет, ты скажи! Скажи! — молил он.
Она помедлила, потом сказала тихо-тихо, так что ему пришлось пригнуться к ней почти вплотную:
— Я и сама об этом думала, особенно летом, по ночам, когда луна мне спать не давала.
Волна нежной благодарности захлестнула Итана.
— Так, значит, ты еще с лета?..
Она ответила не раздумывая, словно давно уже вела отсчет времени от этого дня:
— С того раза, как мы были на Черном озере.
— Стало быть, ты потому тогда подошла и дала мне кофе первому?
— Не знаю. Разве первому? Я сначала ужасно огорчилась, что ты не захотел со мной пойти на этот пикник, а когда я тебя потом на берегу увидела, то подумала — а вдруг ты нарочно сделал круг, пошел домой мимо озера, и я сразу так обрадовалась!
В молчании они доехали до места, где дорога ныряла в заросший гемлоком овражек у поворота на фромовскую лесопилку; и пока сани спускались под гору, вместе с ними, словно черная пелена, ниспадавшая с раскидистых ветвей, в лощину спустилась темнота.
— Я связан по рукам и ногам, Мэтт, — снова начал он. — Я ничего не могу, ничегошеньки.
— Ты хоть пиши- мне время от времени, Итан.
— Да что письма, какой в них прок! Мне надо, чтоб вот я протянул руку—и ты рядом. Я хочу для тебя все делать, хочу, чтоб ты никаких забот не знала. Всю жизнь хочу с тобой быть — ив беде, и в болезни.
— Ты не думай, я не пропаду.
— И без меня проживешь? Ты это хочешь сказать? Замуж, что ли, выйдешь?
— Ох, Итан! — задохнулась Мэтти.
— Я как представлю тебя с другим, так прямо сам не знаю, что со мной творится… Кажется, скорей готов тебя в могиле увидеть!
— И пускай бы, пускай бы я умерла! — прорыдала Мэтти.
Ее слезы вмиг отрезвили Итана, и он тут же устыдился своей безрассудной вспышки.
— Полно, что ты! Не надо так говорить! — сказал он тихо.
— Почему же не надо, раз это правда? Я с самого утра только и думаю, как бы мне умереть!
— Мэтт, прекрати! Не смей так говорить!
— Ни от кого я в жизни добра не видела, кроме как от тебя!
— И так не говори! Каково мне это слушать, когда я для тебя пальцем не могу шевельнуть?
— Ну и что? Все равно это правда!
Они были уже на вершине Школьной горки; внизу под ними, в ранних сумерках, раскинулся Старкфилд. В гору от поселка весело катили щегольские санки, которые скоро вынеслись им навстречу, оглушив их переливчатым звоном бубенцов, так что они едва успели выпрямиться и придать лицу безразличное выражение.
В домах вдоль главной улицы уже засветились огоньки, и было видно, как то тут, то там распахивались калитки — жители понемногу расходились по домам. Итан тронул гнедого кнутом, и тот немного прибавил шагу.
Подъезжая к краю деревни, они услышали ребячий гомон и увидели на пустыре у церкви ораву мальчишек с салазками, которые, вдоволь накатавшись, разбегались в разные стороны.
— День-два теперь не будет у них забавы, — сказал Итан, взглянув на небо. — Похоже, оттепель идет.
Мэтти не отозвалась, и он добавил:
— А ведь мы вчера сами собирались покататься!
Она по-прежнему не отвечала, и, повинуясь безотчетному желанию как-то скоротать тот последний мучительный час, который им еще оставалось провести вместе, он заметил с некоторой непоследовательностью:
— Правда, странно, что мы так толком и не покатались? Один-единственный раз выбрались, прошлой зимой.
— Меня ведь в Старкфилд редко отпускали, — проговорила она.
— И то верно, — согласился Итан.
Они приближались к началу спуска. Между смутно белевшей в темноте церковью и черной завесой варнумовских елок дорога на Корбери круто уходила вниз; на ней не было ни души. Итан и сам не знал, что подтолкнуло его сказать:
— А хочешь, я тебя сейчас прокачу? Она недоверчиво засмеялась:
— Что ты, у нас времени нет!
— Времени хоть отбавляй. Давай прокатим!
У него было только одно желание — подольше оттянуть тот момент, когда надо будет поворачивать к Корбери-Флэтс.
— А как же эта… новенькая? — в нерешительности проговорила Мэтти. — Она ведь будет ждать на станции.
— Подождет, ничего с ней не сделается! Не ей, так тебе пришлось бы ждать. Пошли!
Властная нотка, прозвучавшая в его голосе, заставила ее подчиниться, и когда он соскочил с козел и подал ей руку, она не стала упираться и только сказала, растерянно оглядываясь по сторонам:
— А где же мы салазки возьмем?
— Будут и салазки! Вон, видишь, стоят под елками.
Он накинул медвежью полсть на гнедого, который покорно стоял у обочины, в задумчивости понурив голову; потом схватил Мэтти за руку и потащил за собой.
Она послушно уселась на санки, а он умостился сзади, обхватил ее рукой и притянул к себе вплотную, так что ее волосы касались его щеки.
— Ну, как ты там, Мэтт? Все в порядке? — крикнул он — почему-то так громко, словно она была на той стороне улицы.
Она повернула голову и сказала:
— Ужасно темно, Итан. Ты увидишь, как съезжать? Он расхохотался с видом превосходства: — Да я по этой горе с завязанными глазами съеду! — и Мэтти тоже засмеялась, словно радуясь его бесстрашию.
Тем не менее он минуту помедлил, напряженно вглядываясь в покатую ледяную плоскость. Наступало самое обманчивое время суток — тот час, когда остатки дневного света смешиваются с вечерней мглой и в этой путанице дня и ночи искажаются расстояния и пропадают ориентиры.
— И-эхх! — выкрикнул Итан.
Санки, подпрыгнув, рванулись вперед и, постепенно выравнивая ход и набирая скорость, полетели вниз, в зияющую впереди черную бездну. Ветер пел у них в ушах, как гигантский церковный орган. Мэтти сидела не шевелясь, но когда они были уже недалеко от того места, где кончался первый спуск и где кривой ствол старого вяза угрожающе выдавался на дорогу, ему почудилось, что она вздрогнула и теснее прижалась к нему.
— Не робей, Мэтт! — крикнул он в упоении бешеного разлета и, ловко обогнув опасное место, снова направил санки вниз. Они со свистом пронеслись по второму спуску и покатили по ровной дороге, постепенно замедляя ход; и тут Итан услышал счастливый смех Мэтти.
Они встали и двинулись обратно в гору. Одной рукой Итан тащил салазки, другой держал под руку свою спутницу.
— Ты что, испугалась, что мы врежемся в дерево? — по-мальчишески задорно спросил он.
— Я ведь говорила, что с тобой я ничего не боюсь, — отвечала она.
Опьяненный происходящим, Итан ни с того ни с сего расхвастался, что случалось с ним крайне редко.
— Место, между прочим, каверзное. Чуть-чуть не туда подашь — и готово дело, так съедешь, что больше не встанешь. Но я умею так рассчитывать, что на волосок не ошибусь — у меня отроду такой глазомер.
— Я знаю, что у тебя глаз очень верный… — тихо сказала Мэтти.
Уже почти стемнело; небо было беззвездное; вокруг стояла мертвая тишина. Молча, рука об руку они поднимались в гору, и на каждом шагу Итан твердил про себя: «Мы идем вместе в последний раз».
Наконец они добрались до самого верха и поравнялись с церковью. Итан наклонился и спросил у Мэтти:
— Устала?
И она, часто дыша, отозвалась:
— Ну что ты! Было так чудесно!
Он повел ее к варнумовским елкам, крепче прижав к себе.
— Салазки, наверно, Нед Хейл позабыл. Оставлю-ка я их где взял.
Он подкатил санки к калитке Варнумов и прислонил к забору в густой тени елок. Выпрямившись, он почувствовал в темноте, что Мэтти придвинулась к нему вплотную.
— Здесь целовались тогда Нед и Рут? — задыхаясь, шепнула она и порывисто обняла его. Ее губы, как бы ища спасения, скользили по его лицу, и он сжал ее в объятиях, потрясенный и счастливый.
— Прощай, Итан, прощай! — прошептала Мэтти и снова поцеловала его.
— Нет, Мэтт! Я тебя не отпущу! — вырвалось у него, как давеча на кухне.
Она высвободилась из его объятий и разрыдалась.
— Я и сама уехать не смогу!
— Что же делать, Мэтт? Что нам делать?
В напряженной тишине часы на церковной башне пробили пять.
— Ой, Итан, мы опоздаем! — воскликнула она сквозь слезы.
Он снова привлек ее к себе.
— Опоздаем? Куда? Неужто ты думаешь, что я теперь дам тебе уехать?
— Если я не сяду на поезд, что со мной будет?
— А что тебя ждет, если ты сядешь на этот несчастный поезд?
Она замолчала и потерянно стояла перед ним, и он сжимал ее холодные, безжизненные пальцы.
— Нам друг без друга не жить. Как же мы можем теперь разлучиться? — сказал он тихо.
Она не двигалась и как будто не слышала его слов Потом вдруг вырвала руки, обхватила его за шею и судорожно прижалась к его лицу мокрой от слез щекой.
— Итан, Итан! Давай съедем вниз!
— Вниз? Куда вниз?
— По горе. Давай съедем! — взмолилась она. — Съедем так, чтоб больше не встать.
— Мэтт! Что это еще за выдумки?
Она торопливо зашептала ему в самое ухо:
— Так, чтобы врезаться в дерево. Ты сам сказал, чтс у тебя глазомер… И тогда не нужно нам будет разлучаться.
— Что ты такое несешь? С ума сошла?
— Пока нет, но без тебя сойду.
— Ох, Мэтт! — простонал он.
Кольцо ее рук сжалось еще отчаяннее, и она заговорила в сильном волнении:
— Итан, если я уеду, я все равно пропаду. Одна я жить не смогу. Что меня ждет? Ты же сам говорил. И от кого я видела добро, кроме тебя? А теперь в дом заявится какая-то посторонняя… уляжется на мою кровать, где я столько ночей проворочалась… всё твои шаги слушала…
Каждое ее слово было будто клок, вырванный у него из сердца. Он до мельчайших подробностей видел этот постылый дом, куда ему предстояло вернуться, лестницу, по которой он должен будет всходить каждый вечер, женщину, которая будет ждать его за дверью спальни… Неожиданное признание Мэтти, когда он понял наконец, что все случившееся с ним случилось и с нею, казалось ему невероятным чудом, и он никак не мог опомниться; и потому мысль о доме возбуждала у него еще большее отвращение, а возврат к прежней жизни представлялся еще более невыносимым.
Она продолжала еще о чем-то просить его, перемежая мольбы рыданиями, но он уже не слышал ее слов. Шапочка сбилась у нее на затылок, и он гладил ее по волосам, гладил без конца, чтобы унести и сохранить в своей ладони это ощущение, как земля хранит спящее зерно. Потом он опять отыскал ее губы и как будто перенесся вместе с ней к Черному озеру, в тот далекий, жаркий августовский день… Но ее щека, когда он прикоснулся к ней лицом, была холодная и мокрая от слез, и он увидел в ночи дорогу к станции и услышал отдаленный свисток паровоза…
Под густым шатром елок, смыкавшимся у них над головой, было темно и тихо, как в могиле. «Может, в могиле так и будет, — сказал себе Итан. — Хотя тогда я уже ничего не буду чувствовать…»
Старый гнедой, привязанный на той стороне дороги, внезапно заржал, и Итан подумал: «Наверно, вспомнил, что пора ужинать…»
— Пойдем, — шепнула Мэтти и потянула его за руку. Ее мрачная решимость совершенно парализовала его волю; она казалась ему олицетворенным орудием судьбы. Он вытащил из-под елок санки и, выйдя на дорогу, где было посветлее, еще долго хлопал глазами, как разбуженная днем ночная птица. Настал час ужина, и все старкфилдские жители сидели по домам; поблизости не было ни души. Небо, набухшее тяжелыми тучами — предвестниками оттепели, — нависало так низко, как бывает летом перед грозой. Он напряженно вглядывался в полумрак, и собственное зрение казалось ему не таким острым, как всегда.
Он сел на санки, и Мэтти тут же уселась спереди. Шапочку она потеряла, и ее волосы щекотали ему лицо. Он вытянул ноги, уперся каблуками в снег и обеими руками запрокинул ее голову назад — но тут же вскочил и приказал:
— Ну-ка, вставай!
Она всегда подчинялась его повелительному тону, но на этот раз только вся сжалась и отчаянно запротестовала:
— Нет, нет, нет!
— Вставай, слышишь?
— Зачем?
— Я сам хочу сесть спереди.
— Нет, нет, Итан! Как же ты будешь править?
— Зачем мне править? Поедем по колее.
Они переговаривались сдавленным шепотом, словно боясь, что их подслушает ночь.
— Вставай, вставай же! — торопил он, но она только беспокойно повторяла:
— Почему ты хочешь сесть вперед?
— Да потому… потому что мне хочется, чтобы ты обняла меня сзади, — выговорил он запинаясь и рывком поднял ее на ноги; и она больше не противилась, то ли поверив этим словам, то ли просто покорившись его властному голосу.
Он наклонился, провел рукой по гладкой как стекло колее, накатанной бесчисленными полозьями, и старательно установил санки в нужное положение. Она подождала, пока он, скрестив ноги, усаживался на переднее место, потом быстро села сама и цепко обхватила его руками. Ег дыхание обожгло ему затылок, и он уже готов был вскочить — но мгновенно вспомнил, что выбора нет. Мэтти права: чем разлука, уж лучше так… Он перегнулся назад и снова привлек ее к себе.
В тот момент, когда санки тронулись с места, гнедой опять тоскливо заржал, и этот знакомый звук, потянувший за собой целую вереницу спутанных образов, преследовал его весь первый отрезок пути. На середине спуска, где была впадина, санки резко подпрыгнули и снова начали головокружительный лет по прямой. Они неслись как на крыльях, и ему казалось, что они и впрямь летят, летят не вниз, а вверх, в затянутое тучами ночное небо, а Старкфилд, словно песчинка во вселенной, остается где-то далеко под ними… Потом впереди, у изгиба дороги, возник и затаился до поры до времени старый вяз, и Итан сказал, стиснув зубы: «Сейчас все кончится — сейчас все кончится!»
Теперь он не спускал глаз с дерева. По мере приближения Мэтти все теснее прижималась к Итану, и ему уже казалось, что ее кровь струится по его жилам. Раза два санки слегка вильнули вбок, и он наклонил корпус, выравнивая их ход. Он без конца твердил себе: «Сейчас все кончится»; и какие-то обрывки сказанных ею фраз проносились у него в голове и кружились перед глазами. Старый вяз приближался и вырастал на глазах, и на последних метрах Итан подумал: «Он ждет нас — как будто знает…» Но вдруг перед ним, заслонив цель, к которой он был уже близок, возникло искаженное уродливой гримасой лицо его жены, и он невольно отпрянул. Санки, послушные его малейшему движению, накренились, но он тут же восстановил равновесие и направил их прямо на маячившую впереди черную массу. В последний миг ветер обжег ему лицо миллионом огненных бичей — и за этим последовал удар…
Небо все еще было в тучах, но прямо над ним поблескивала одинокая звезда; он с трудом соображал, что же это — Сириус или… или… Думать дальше почему-то нехватало сил; глаза у него смыкались от усталости — заснуть, поскорее заснуть… Вокруг стояла такая тишина, что он слышал неподалеку, под снегом, слабое попискиванье какого-то зверька. Этот тоненький, жалобный звук, похожий на писк полевой мышки, не прекращался, и Итан рассеянно подумал, что, должно быть, мышонок попал в беду. Немного погодя он окончательно понял, что невидимый зверек мучается от боли, потому что эта боль каким-то таинственным образом передалась и ему и терзала теперь его собственное тело. Он безуспешно попытался перекатиться по снегу поближе к тому месту, откуда доносился писк, и вытянул в сторону левую руку. Теперь он не только слышал этот звук, но как будто осязал его пальцами — его ладонь прикоснулась к чему-то мягкому и пружинистому…
Сердце у него разрывалось от жалости, и он сделал нечеловеческое усилие, чтобы подняться на ноги, — и не смог, потому что его придавил к земле огромный камень или еще что-то тяжелое. Но он продолжал потихоньку шевелить пальцами, надеясь добраться до злополучной зверюшки и как-то помочь ей — и тут вдруг понял, что дотрагивался до волос Мэтти и что его ладонь лежит на ее лице.
С неимоверной затратой сил он приподнялся на колени, приподняв и давивший на него чудовищный груз, провел рукой по ее лицу и нащупал ее шевелившиеся губы…
Он нагнул голову и приник ухом к этим губам, и в темноте увидел, как открылись ее глаза, и услышал, как она произнесла его имя.
— Ох, Мэтт, а я уж думал — все кончилось, — простонал он; где-то далеко на горе снова тоскливо заржал гнедой, и он еще успел подумать: «Давно бы надо задать ему овса…»
_______
Как только я переступил порог кухни, монотонно-плаксивый женский голос умолк, и я не понял, кому из двух находившихся там женщин принадлежал этот голос.
Одна из них, высокая и сухопарая, при мрем появлении поднялась со стула — не потому, чтобы хотела оказать мне как гостю внимание, поскольку она лишь скользнула по моему лицу недоуменным взглядом, а для того, чтобы заняться ужином, запоздавшим из-за долгого отсутствия хозяина. На ее тощих плечах болтался, как на вешалке, неопрятный ситцевый капот; жидкие седые волосы, зачесанные назад и подхваченные на затылке сломанной гребенкой, открывали костлявый лоб. Глаза у нее были тусклые и бесцветные — из тех, что ничего не отражают и ничего не выражают, а тонкие, сжатые в ниточку губы были так же бескровны, как все лицо.
Вторая женщина показалась мне более щуплой и низкорослой. Она сидела сгорбившись в глубоком кресле перед печкой и, когда я вошел, быстро повернула ко мне голову, но тело ее при этом осталось совершенно неподвижным. Волосы у нее как и у первой женщины, были совершенно седые, лицо такое же высохшее и бескровное, только желтоватого оттенка; во всех направлениях его бороздили тени, от которых становились еще заметнее ее впалые виски и острый, птичий нос. Мешковатое одеяние не могло скрыть вялую безжизненность ее тела, а блестящие карие глаза глядели пронзительно и недобро — такой взгляд я не раз замечал у горбунов и вообще у людей с больным позвоночником.
Даже по тамошним понятиям кухня выглядела необычайно убого. Обстановка была самая примитивная — исключение составляло лишь кресло больной женщины, судя по всему приобретенное на деревенском аукционе и видавшее лучшие дни. На щербатом, плохо выскобленном столе красовались три дешевые фаянсовые тарелки и глиняный кувшин с отбитым носиком; вдоль грубо оштукатуренных стен стояли два-три стула с соломенными сиденьями и подобие буфета из некрашеных сосновых досок.
— Ну и холодина тут! Верно, огонь в печи погас, — сказал Фром, входя за мной следом и оглядывая кухню в некотором замешательстве.
Высокая женщина равнодушно перешла от печки к буфету, не подавая виду, что слышала эти слова; но та, что сидела в обложенном подушками кресле, немедленно отозвалась резким, визгливым голосом, полным обиды и возмущения:
— Давным-давно погас! А Зена спит себе и ухом не ведет, и никакими силами ее не добудиться. Я уж боялась, что закоченею до смерти, покуда она подымется, а она вот только сию минуту соизволила затопить!
И я понял тогда, что это ее голос я слышал из прихожей.
Ее товарка, по-прежнему не говоря ни слова, подошла к столу, поставила на него потрескавшуюся миску с малоаппетитными на вид остатками холодной запеканки и снова отошла, не обратив ни малейшего внимания на возводимые на нее обвинения.
Фром стоял, глядя на нее в нерешительности; потом проговорил, обратившись ко мне:
— Моя жена — миссис Фром.
Немного помедлив, он повернулся к той, которая сидела в кресле, и добавил:
— А это — мисс Мэтти Силвер…
Миссис Хейл, добрая душа, уже успела вообразить, что я сбился с пути по дороге со станции и лежу неизвестно где, погребенный под снегом; увидев меня на другой день в целости и сохранности, она так искренне обрадовалась, что я окончательно уверился в ее расположении ко мне и даже решил, что после пережитой опасности мои акции заметно поднялись.
И она сама, и ее матушка, миссис Варнум, несказанно удивились, услышав, что древний гнедой Итана Фрома совершил вчера героическое путешествие в Корбери и обратно, невзирая на самую свирепую за эту зиму метель. Когда же они узнали, что владелец гнедого предложил мне ночлег в своем доме, изумлению их просто не было границ.
За их оханьем и аханьем я уловил с трудом скрываемое любопытство — им обеим не терпелось узнать, какие впечатления я оттуда вынес; и я справедливо рассудил, что лучший способ побороть их собственную скрытность — это до поры до времени помалкивать и дождаться, чтобы они сами вызвали меня на разговор. Поэтому я сообщил им как нечто само собой разумеющееся, что был принят с большим радушием и на ночь помещен в комнатке, которая, по всей видимости, в более благополучные времена служила чем-то вроде кабинета.
— Ну что я могу вам сказать… — задумчиво произнесла миссис Хейл. — В такой буран Итан, конечно, обязан был вас пригласить переночевать — у него другого выхода не было. Но ему это недешево далось. Я так думаю, что вы единственный посторонний человек, которого он впустил к себе в дом за последние двадцать лет. Он ведь страх какой гордый — старых друзей своих и то на порог не пускал. Да теперь, пожалуй, никто к ним уже и не ходит — я вот только да еще доктор…
— Вы там и сейчас бываете, миссис Хейл? — поинтересовался я.
— Раньше-то бывала частенько, то одна, то с мужем — я тогда как раз замуж вышла, вскоре после того как эта беда стряслась. Ходила я, ходила, пока не поняла, что от этих приходов им только хуже. А потом, как водится, то одно, то другое… да тут еще свое горе накатило… Но я к ним раза два в год все же наведываюсь. На Новый год обязательно, и разочек летом. Только всегда стараюсь подгадать в такой день, когда Итана дома нет. На женщин и то тяжело смотреть, как они там сидят целый день в четырех стенах, но как сам он войдет да оглянется на все это убожество, у него такое лицо делается — ну прямо убивает меня его лицо. Я ведь помню, какой он был в молодости, когда еще мать его жива была, до всех этих несчастий.
Старая миссис Варнум к этому времени, отужинав, пошла спать, и мы с ее дочерью остались вдвоем в их чинной, старомодной «зале». Миссис Хейл глядела на меня в нерешительности, как бы пытаясь определить, насколько много мне известно и может ли она со спокойной совестью продолжать разговор; и я догадался, что до сих пор она хранила молчание только потому, что все эти годы ждала, пока кто-нибудь еще своими глазами увидит то, о чем знала она одна.
Я выждал, пока ее доверие ко мне окончательно наберет силу, и осторожно сказал:
— Да, невесело на них троих смотреть.
На ее лбу тотчас же собрались скорбные морщинки.
— Это с самого начала был какой-то ужас. Их тогда перенесли к нам в дом, и Мэтти уложили вот в этой самой комнате. Мы ведь с ней были приятельницы, я ее даже пригласила быть у меня весной подружкой на свадьбе… Ну и вот, как только она немножко опомнилась, я к ней села и просидела всю ночь. Ей давали что-то успокоительное, чтобы она не металась, и она так и лежала в полузабытьи до самого утра, а поутру вдруг пришла в сознание, взглянула на меня своими черными глазищами и говорит… Ох, и зачем только я вам все это рассказываю! — воскликнула миссис Хейл и расплакалась.
Она сняла очки, протерла их и дрожащими руками надела снова.
— На другой день прошел слух, что Зена Фром отправила Мэтти домой без всякого предупреждения, потому что наняла работницу, и уж как они с Итаном очутились в тот вечер на горе, никто не мог взять в толк: им не на санках надо было кататься, а торопиться к поезду… Говорили всякое, а вот что сама Зена думала, я как тогда не знала, так и по сей час не знаю. У Зены не узнаешь, что она думает. Но одно надо сказать: чуть только она прослышала о беде, сразу собралась и приехала. Итана на другой день перенесли в дом пастора, так она там находилась при нем безотлучно. А потом, когда доктора разрешили, послала за Мэтти и взяла ее обратно на ферму.
— Так она и осталась у них… навсегда?
— Пришлось остаться — больше-то деться некуда было, — отвечала со вздохом миссис Хейл; и сердце у меня сжалось при мысли о тяжких лишениях, выпадающих на долю бедняков.
— Да, так она там и осталась, — продолжала миссис Хейл, — и все это время Зена как могла ходила за ней, да и за Итаном тоже. Чудеса да и только — раньше-то сама вечно хворала, а тут вдруг, как нужда заставила, точно переродилась. Лечиться, конечно, она так и не бросила, и прибаливать тоже прибаливала, но, видно, бог ей силы послал — сами посудите: двадцать с лишним лет она их обоих обслуживает, а до того, как с ними стряслась эта беда, она и себя не могла как следует обслужить.
С минуту миссис Хейл помолчала; молчал и я, мысленно представляя себе, как это все происходило на самом деле.
— Кошмарная у них жизнь, — пробормотал я наконец.
— Тяжело, что и говорить. И характер у них у всех нелегкий. У Мэтти-то раньше был золотой характер — такая была добрая, такая милая. Но столько, сколько ей пришлось перенести, — тут кто хочешь ожесточится, и пусть люди что угодно говорят, а я лично ее не обвиняю. Другое дело Зена, та всегда была с причудами. Правда, надо ей отдать справедливость — с Мэтти она как-то при* способилась ладить: я бы не поверила, если б сама не видела. Но иногда на них обеих будто находит что-то: как сцепятся, как пойдут друг дружку честить… А если еще при Итане, так на него просто смотреть невозможно — сердце на части разрывается. Я когда вижу его лицо, всегда думаю, что ему тяжелее всех достается. Зена, во всяком случае, так не мучается, да у нее и времени нету… Жалко, конечно, — добавила она со вздохом, — что они все сидят, как в тюрьме, в этой несчастной кухне. Летом-то, в погожие дни, Мэтти переносят в залу, а то, бывает, и на улицу вынесут — все легче… Но зимой, конечно, не станешь еще одну комнату отапливать, если в доме копейки лишней нет, как у Фромов.
Миссис Хейл глубоко вздохнула, словно память ее наконец-то освободилась от непосильного груза, который несла столько лет, и добавить ей было уже нечего. Но какая-то мысль, видимо, все еще тяготила ее, и я вдруг прочел у нее на лице, что она решилась сказать мне все.
Она снова сняла очки, положила их на расшитую бисером салфеточку, наклонилась ко мне через стол и, понизив голос, закончила:
— Я помню, был один день — примерно неделю спустя, — когда все решили, что Мэтти не выживет. И я лично считаю, что это было бы лучше. Я даже нашему пастору прямо так и сказала, так он на меня руками замахал. Только он при ней не был в то утро, когда она очнулась… Одно я знаю: если б Мэтти тогда умерла, Итан бы еще пожил, — а так, как сейчас… Да, вот вам и Фромы: большое было семейство, а что от него осталось? Покойники в могилах да эти трое в доме, а какая между ними разница? Разве что одни на земле, а другие в земле… Только те, что в земле, лежат себе спокойно, да и женщины там молчат.
Рассказы
ГЛАЗА[205] Перевод Е. Беловой
I
Удивительная история Фреда Мерчада о том, как его посетил призрак, рассказанная однажды вечером после великолепного обеда у нашего старого друга Калвина, настроила всех на мистический лад.
Окутанная дымом наших сигар, тускло освещенная сонно тлеющими в камине угольками, библиотека Калвина с дубовыми панелями на стенах и темными старинными переплетами была хорошим фоном для подобных историй; а так как после вступления Мерчада никто не хотел слышать ничего, кроме рассказов о привидениях, мы решили узнать, на что способна наша компания, и обязали каждого внести свою лепту. Нас было восемь, и семеро смогли более или менее успешно выполнить поставленные условия. Все мы были немало удивлены, обнаружив, что нам удалось собрать такую коллекцию рассказов о сверхъестественных явлениях, — ведь никто из нас, если не считать самого Мерчада да еще юного Фила Френхема, чья история, пожалуй, была наименее интересной, не имел обыкновения предаваться размышлениям о потустороннем мире. Так что у нас были все основания гордиться своими семью «экспонатами», и никому даже в голову не пришло ожидать восьмого рассказа из уст самого хозяина.
Наш старый друг, мистер Эндрю Калвин, который, удобно устроившись в кресле, молча слушал эти повествования, посматривая на нас сквозь кольца дыма с добродушной терпимостью мудрого древнего идола, был не из тех, кого посещают призраки, хотя и обладал достаточным воображением, чтобы без всякой зависти наслаждаться необыкновенными свойствами своих гостей. По возрасту и образованию он придерживался здоровых позитивистских традиций, и его образ мыслей сформировался во времена эпической битвы между физикой и метафизикой. Но И в те дни, как, впрочем, и всегда, он был, в сущности, лишь сторонним наблюдателем, насмешливым зрителем в огромном беспорядочном балагане жизни, и если он порою потихоньку покидал свое место, то лишь для того, чтобы мимоходом заглянуть в мир кулис, но никогда, сколько нам было известно, не выказывал ни малейшего желания выйти на сцену и исполнить собственный номер.
Среди его сверстников сохранилось туманное предание, будто в далеком прошлом, находясь в каком-то романтическом краю, он был ранен на дуэли, но эта легенда столько же мало соответствовала тому, что мы, люди младшего поколения, знали о его характере, сколько утверждение моей матушки, что в свое время это был невысокий обаятельный человек с прелестными глазами, могло дать представление о его физиономии.
— Он, наверное, всегда был похож на вязанку хвороста, — однажды заметил о нем Мерчад.
— Скорее на гнилушку, — поправил его кто-то, и это сравнение показалось нам весьма удачным.
Его короткое приземистое туловище и в самом деле напоминало обрубок бревна, а лицо с блестящими красными глазами было пятнистым, как древесная кора. Он постоянно пребывал в праздности, которую всячески оберегал и лелеял, стараясь не растрачивать ее на суетные дела. Его заботливо охраняемое время было посвящено развитию утонченного ума и нескольким тщательно подобранным привычкам, и никакие людские треволнения, по-видимому, не омрачали его безоблачного горизонта. Однако бесстрастное созерцание вселенной не улучшило его мнения об этом дорогом эксперименте, а изучение рода человеческого, казалось, привело его к выводу, что все мужчины излишни, а женщины необходимы лишь постольку, поскольку кто-то должен стряпать. В важности последнего пункта он не сомневался ни на йоту, и гастрономия была единственной наукой, которую он почитал как некую догму. Следует признать, что его небольшие званые обеды были убедительным аргументом в пользу подобной точки зрения, и, кроме того, они были причиной — хотя и не главной — верности его друзей.
Его духовное гостеприимство было менее соблазнительным, но не менее увлекательным. Ум его был подобен форуму или какому-то находящемуся на открытом воздухе месту для обмена мыслями; несколько холодному и ветреному, но светлому, просторному и тщательно прибранному, вроде Академической рощи,[206] в которой облетели все листья. На этой доступной лишь избранным арене человек десять из нас нередко собирались, чтобы помериться силами и поупражняться в красноречии; и словно для того, чтобы сохранить эту, как нам казалось, исчезающую традицию, два-три неофита время от времени присоединялись к нашему обществу.
Юный Фил Френхем был последним и наиболее интересным из таких новообращенных и мог служить хорошим подтверждением несколько мрачных слов Мерчада, что наш старый друг «любит их свеженькими». Действительно, Калвин, несмотря на всю свою сухость, особенно высоко ценил лирические свойства юности. Он был слишком большим эпикурейцем, чтобы губить цветы души, которые он собирал для своего сада, и потому его дружба не оказывала разлагающего влияния на молодежь; напротив, она заставляла юную мысль распускаться в полную силу, а в лице Фила Френхема он приобрел прекрасный предмет для своих опытов. Юноша был несомненно умен, а неиспорченность его натуры была подобна чистейшей глине, покрытой тонкой глазурью. Калвин извлек его из тумана домашней скуки и открыл ему новый, неведомый мир, но это приключение ничуть ему не повредило. И в самом деле, искусство, с которым Калвину удалось возбудить любопытство Френхема, не заглушая в нем благоговейного трепета, казалось мне убедительным опровержением несколько кровожадной метафоры Мерчада. В цветении Френхема не было ничего болезненного, и старший друг даже и пальцем не коснулся столь любезных его юному сердцу предрассудков. И наилучшим тому доказательством служило то, что Френхем до сих пор почитал таковые же предубеждения в Калвине.
— В его характере есть черта, которой вы, друзья, не замечаете. Я уверен, что история с дуэлью не выдумка! — уверял он; и именно эта уверенность заставила его как раз в ту минуту, когда наша небольшая компания расходилась, обратиться к нашему хозяину с шутливой просьбой: — А сейчас ваша очередь рассказать нам о своем призраке.
Входная дверь захлопнулась за Мерчадом и другими гостями, остались только мы с Френхемом; преданный слуга, которому Калвин вверил свою судьбу, принес свежий запас содовой, и его лаконично отправили спать.
Общительность Калвина была подобна цветку, paспускающемуся ночью, и мы знали: он всегда ожидает, что после полуночи ближайшие друзья тесным кружком соберутся вокруг него. Казалось, однако, будто просьба Френхема несколько его смутила, и он приподнялся с кресла, в котором только что вновь устроился, проводив гостей в прихожую.
— О моем призраке? Неужели я, по-вашему, настолько глуп, чтобы раскошелиться на собственное привидение, когда у моих друзей в запасе столько прекрасных экземпляров? Хотите еще сигару? — со смехом обратился он ко мне.
Повернувшись к своему ощетинившемуся коренастому другу, стройный Френхем выпрямился во весь рост у камина и тоже рассмеялся.
— Ну нет! Если бы вы встретили привидение, которое вам действительно понравилось, вы никогда не согласились бы поделиться им с кем-нибудь! — сказал он.
Калвин снова погрузился в кресло. Его голова с копной волос утопала в углублении, образовавшемся в потертой кожаной обивке, а небольшие глазки тускло мерцали над только что раскуренной сигарой.
— Что? Понравилось?! О, господи! — проворчал он.
— Ага! Значит, оно у вас все-таки есть! — в ту же секунду накинулся на него Френхем, искоса бросив на меня победоносный взгляд; но Калвин, словно гном, съежился среди подушек, скрывшись за спасительными клубами дыма.
— К чему отрицать? Вы же видели все на свете — значит, вы видели и призрака, — настаивал его юный друг, бесстрашно пробиваясь сквозь эти клубы, — а если вы все же утверждаете, что не видели такового, то лишь потому, что видели сразу двух!
Форма, в которой был сделан этот вызов, казалось, потрясла нашего хозяина. Он как-то странно, по-черепашьи, высунул голову из облака дыма и одобрительно уставился на Френхема.
— Вот именно! — воскликнул он, визгливо рассмеявшись. — Это лишь потому, что я видел сразу двух!
Эти неожиданные слова медленно затихали в глубокой тишине, меж тем как мы с изумлением смотрели друг на друга поверх головы Калвина, а он безмолвно созерцал свои привидения. Наконец Френхем молча опустился в кресло по другую сторону камина и с выжидательной улыбкой наклонился вперед…
II
Конечно, это не какие-то выдающиеся призраки: ценитель не обратил бы на них внимания… Я не хочу вас напрасно обнадеживать… Их единственное достоинство заключается в их количестве — в исключительном факте существования двух призраков одновременно. Правда, я вынужден признать, что в любой момент я, возможно, сумел бы изгнать их, попросив своего врача прописать мне какое-нибудь лекарство либо сходив к окулисту за очками. Но я так и не мог решить, к кому мне обратиться (страдал ли я от расстройства пищеварения или от обмана зрения?), я предоставил им возможность и дальше вести их любопытную двойную жизнь, хотя временами они делали мою собственную чрезвычайно неприятной…
Да, именно неприятной, а вы знаете, что я не терплю неприятностей. Но, когда началась эта история, глупая гордость не позволила мне сознаться в том, что меня может вывести из равновесия поразительное явление, что я вижу сразу двух…
К тому же у меня вовсе не было оснований предполагать, что я болен. Я был уверен, что мне просто скучно, — я буквально умирал от скуки. Однако вспоминаю, что именно благодаря этой скуке я чувствовал себя необыкновенно бодрым и не мог придумать, куда девать излишнюю энергию. Я только что возвратился из длительной поездки по Южной Америке и Мексике и поселился на зиму близ Нью-Йорка у своей старой тетушки, которая знавала Вашингтона Ирвинга[207] и переписывалась с Н. П. Виллисом.[208] Она жила недалеко от Ирвингтона в унылом готическом особняке под сенью старых елей, который напоминал сувенирную коробочку, сплетенную из волос. Внешность самой тетушки была под стать этому сувениру, а свои собственные волосы, которых почти не осталось, она, должно быть, пожертвовала на его изготовление.
Я прожил весьма беспокойный год, и мне необходимо было восполнить затраты чувств и денег, и я надеялся, что спокойное радушие моей тетушки благотворно скажется и на моих нервах, и на моем кошельке. Но ведь вот какая нелепость! Стоило мне почувствовать себя под дружеским кровом, как силы вновь стали ко мне возвращаться. Но на что я мог употребить их, сидя в этом сувенире? В то время я ошибочно полагал, будто умственные усилия могут поглотить всю энергию человека, и потому решил написать великую книгу — не помню уж с чем. Мои замыслы произвели большое впечатление на тетушку, и она предоставила в мое распоряжение свою готическую библиотеку, полную сочинений классиков в черных холщовых переплетах и дагерротипов забытых знаменитостей, и я принялся за работу, чтобы пополнить собою их ряды. Желая облегчить мою задачу, тетушка приставила ко мне кузину для переписки моих сочинений.
Кузина была славная девушка, а мне казалось, что для восстановления веры в человечество и, главным образом, в самого себя мне как раз и недостает славной девушки. Бедная Алиса Ноувелл! Она не была ни умной, ни красивой, но мое любопытство привлекло то, что женщина может быть удовлетворена такой непривлекательностью, и я захотел узнать, в чем заключается секрет ее удовлетворенности. Я действовал довольно поспешно и несколько переусердствовал — о, всего лишь на минуту! В том, что я вам рассказываю, нет ни капли самодовольства: просто бедная девочка никогда не видела никаких мужчин, кроме своих родственников…
Разумеется, я раскаивался в содеянном и страшно беспокоился о том, как поправить дело. Алиса жила там же в особняке, и однажды вечером, когда тетушка уже легла спать, она спустилась в библиотеку, чтобы отыскать книгу, которую куда-то засунула, подобно простодушным героиням романов, заполнявших полки. Ее носик порозовел от волнения, и мне вдруг пришло в голову, что к старости ее волосы, хотя тогда они были довольно густыми и красивыми, станут точь-в-точь такими же, как у тетушки. Я очень обрадовался этому открытию, ибо теперь мне было легче решиться сделать то, что следовало, и, когда я нашел книгу, которую она и не думала терять, объявил ей, что на этой неделе отправляюсь в Европу.
В те дни Европа была ужасно далеко, и Алиса тотчас поняла, что я имел в виду. Она отнеслась к этому совсем не так, как я ожидал, — мне было бы легче, если бы Алиса повела себя иначе. Она крепко прижала к себе книгу и на минутку отошла, чтобы прикрутить лампу на моем письменном столе; помнится, на этой лампе был абажур из матового стекла с рисунком из виноградных листьев и со стеклянными подвесками по краю. Затем она вернулась, протянула мне руку и сказала: «До свиданья». С этими словами она посмотрела мне прямо в глаза и поцеловала меня. Я никогда не испытывал ничего более чистого, смелого и вместе с тем робкого, чем этот поцелуй. Это было хуже всякого упрека, и мне вдруг стало стыдно, что я заслужил ее упрек. Я сказал себе: «Я женюсь на ней, и, когда тетушка умрет, она оставит нам этот особняк, и я буду продолжать работать над книгой за этим столом, а Алиса будет сидеть вон там, вышивать и посматривать на меня так же, как сейчас, и мы будем жить так много-много лет». Подобная перспектива меня несколько напугала, но в тот момент ничто не могло напугать меня больше, чем возможность обидеть Алису, и через десять минут мой перстень был уже надет на ее пальчик, и я обещал, что, когда отправлюсь за границу, она поедет со мной.
Вас, наверное, удивляет, почему я так подробно останавливаюсь на этом эпизоде? Дело в том, что именно в тот вечер мне впервые явилось странное видение, о котором я говорил. В те годы я горячо верил в существование необходимой связи между причиной и следствием и, естественно, постарался проследить зависимость между тем, что произошло со мною в тетушкиной библиотеке, и тем, что случилось этой же ночью несколько часов спустя, и потому совпадение этих двух событий навсегда осталось в моей памяти.
Я поднялся к себе в спальню с тяжелым сердцем, сгибаясь под тяжестью первого хорошего поступка, который сознательно совершил; и, как я ни был молод, я понимал всю серьезность своего положения. Однако не подумайте, что до этого я был орудием разрушения. Я был всего лишь безобидным молодым человеком, который следовал своим наклонностям и избегал всякого сотрудничества с Провидением. Теперь же я вдруг взялся содействовать моральному совершенствованию всего света и чувствовал себя как доверчивый зритель, который отдал свои золотые часы фокуснику и не знает, в каком виде он получит их обратно, когда тот закончит свой трюк… Однако уверенность в собственной правоте несколько умеряла мои опасения, и, раздеваясь, я сказал себе, что, когда я привыкну быть добропорядочным, возможно, это уже не будет так угнетать меня. А когда я лег в постель и задул свечу, то почувствовал, что и впрямь начинаю привыкать, и мне показалось, будто это все равно что погружаться в мягчайшую перину моей тетушки.
С этой мыслью я закрыл глаза, а когда я их открыл, было уже, наверное, очень поздно, ибо в спальне стало холодно и необычайно тихо. Я проснулся от знакомого всем нам странного ощущения, будто в комнате появилось нечто, чего не было, когда я засыпал. Я сел и стал напряженно всматриваться в темноту. В спальне была кромешная тьма, и сначала я не мог ничего различить; но постепенно неясное мерцание в изножье кровати превратилось в два глаза, которые пристально на меня смотрели. Я не мог разглядеть лица, которому они принадлежали, но чем больше я всматривался, тем отчетливее становились глаза — они светились во тьме.
Чувство, которое я испытал, когда меня так разглядывали, было весьма далеко от приятного, и вы в праве предположить, что первым моим побуждением было вскочить с постели и наброситься на незримого обладателя этих глаз. Но нет — я просто замер. Не могу сказать, чем это объяснялось, — то ли тем, что я мгновенно ощутил сверхъестественность видения, то ли уверенностью, что если даже и вскочу с постели, я наткнусь всего лишь на пустоту, то ли сами глаза каким-то образом меня парализовали. Я никогда в жизни не видел таких страшных глаз. Это были глаза человека — но какого! Вначале я подумал, что он, наверное, ужасно стар. Глаза у него ввалились, и красные, тяжелые, набухшие веки нависали над ними, словно ставни, сорвавшиеся с петель. Одно веко опустилось чуть ниже другого, отчего взгляд стал кривым и злобным; и между этими складками кожи с редкой щетиной ресниц сами глаза — маленькие, тусклые кружочки с агатовым ободком — напоминали гальку, цепко зажатую морскою звездой.
Но самым отвратительным в этих глазах был вовсе не их возраст. От чего меня просто мутило, так это от их порочной самоуверенности. Не знаю, как иначе объяснить то, что они, казалось, принадлежали человеку, который сделал в жизни много зла, но при этом всегда оставался в рамках дозволенного. То были глаза не труса, а человека слишком умного, чтобы идти на риск, и от их низкого коварства мое отвращение усиливалось. Но хуже всего было даже не это: пока мы продолжали изучать друг друга, я почувствовал во взгляде насмешку и понял, что она адресована мне.
Тут меня охватил порыв ярости, который заставил меня вскочить с постели и наброситься на невидимую фигуру. Разумеется, никакой фигуры не было, и мои кулаки встретили лишь пустоту. Пристыженный и замерзший, я отыскал спички и зажег свечи. Как и следовало ожидать, комната выглядела совершенно обычно, и я возвратился в постель и задул свечи.
Однако стоило комнате вновь погрузиться во тьму, как глаза появились' опять, и на этот раз я попробовал объяснить их присутствие на основе научных принципов. Сначала я подумал, что видение вызвано отблесками догоравших в камине угольков, но камин находился по другую сторону кровати и был расположен так, что огонь не мог отражаться в зеркале туалетного столика, которое было единственным в комнате. Затем мне пришло в голову, что меня могло обмануть отражение угольков на какой-нибудь полированной деревянной или металлической поверхности, и, хотя я не мог обнаружить ничего подобного в поле зрения, я снова встал и, ощупью добравшись до камина, раз-, бросал и без того погасшие угли. Но как только я лег, глаза вновь появились в изножье кровати.
Итак, все ясно: это галлюцинация. Однако то обстоятельство, что глаза не были разыгранной кем-то шуткой, отнюдь не придало им привлекательности. Ибо если они были отражением чего-то в моем сознании, то в чем же причина его расстройства? Я достаточно глубоко проник в тайны различных патологических состояний, чтобы представить себе условия, при которых мозг может быть подвержен подобным ночным галлюцинациям, но никак не мог связать это с теперешним моим состоянием: я никогда не чувствовал себя более здоровым — как умственно, так и физически, и единственное необычайное обстоятельство в моем положении, а именно то, что я осчастливил одну милую девушку, казалось бы не могло привлечь злых духов к моей постели. И тем не менее глаза по-прежнему на меня смотрели…
Я зажмурился и постарался вспомнить взгляд Алисы Ноувелл. В ее глазах не было ничего необыкновенного, но они были чисты, как родник, и, будь у нее побольше фантазии или же подлиннее ресницы, выражение их было бы приятным. Однако они не обладали достаточной силой, и вскоре я заметил, что они каким-то таинственным образом превратились в глаза у изножья кровати. Даже сквозь закрытые веки я ощущал, как они смотрят на меня, это было еще отвратительнее, и потому я вновь открыл глаза и встретился с этим ненавистным взглядом…
Так продолжалось всю ночь. Не могу вам описать, что это была за ночь и как долго она длилась. Приходилось ли вам лежать в постели без сна и стараться не открывать глаз, зная, что, открыв их, вы увидите нечто, внушающее вам ужас и отвращение? Это легко сказать, но дьявольски трудно выдержать. Глаза маячили передо мной и притягивали к себе. Я почувствовал vertige de l'abîme,[209] и их багровые веки были краем моей бездны. У меня в жизни и раньше бывали минуты, когда я испытывал тревогу, — минуты, когда ветер опасности, казалось, дует мне в спину, но я никогда не испытывал такого напряжения. Нельзя сказать, чтоб глаза эти были ужасны — в них не было величия, присущего силам тьмы. Как бы вам объяснить? Они физически воздействовали на меня, как дурной запах, их взгляд оставлял за собою след, подобный тому, что тянется за улиткой. Я никак не мог понять, какое отношение они имеют ко мне, и все смотрел и смотрел, стараясь разгадать эту тайну…
Не знаю, чего именно они хотели от меня добиться, но добились они того, что рано утром, захватив небольшую дорожную сумку, я удрал в город. Тетушке я оставил записку, что заболел и поехал к доктору; кстати, я и впрямь чувствовал странное недомогание— казалось, эта ночь высосала из меня всю кровь. Но, добравшись до города, к доктору я не пошел. Я отправился к приятелю, бросился на кровать и проспал десять восхитительных часов. Когда я проснулся, была глубокая ночь, и я похолодел при мысли о том, что меня ожидает. Дрожа от страха, я сел и всмотрелся в темноту; ее благословенная поверхность была спокойной и ровной, и, убедившись, что глаз нет, я снова заснул мертвым сном.
Удирая из дому, я не написал Алисе ни слова, так как собирался возвратиться на следующее утро. Но на следующее утро я почувствовал себя настолько измученным, что был не в силах пошевелиться. В течение дня мое изнеможение не исчезло, как бывает после обыкновенной бессонной ночи, а, наоборот, стало нарастать; казалось, воздей ствие глаз усилилось, и мысль о том, что я увижу их вновь, становилась невыносимой. Два дня я боролся со своим страхом; на третий вечер взял себя в руки и решил утром вернуться домой. Приняв это решение, я почувствовал себя намного лучше, ибо знал, что мое внезапное бегство и странное молчание должны были очень огорчить бедную Алису. С легким сердцем я лег спать и тотчас уснул, но среди ночи проснулся и снова увидел глаза…
Это было выше моих сил, и, вместо того чтобы возвратиться к тетушке, я наспех собрался и сел на первый же пароход, идущий в Англию. Когда я очутился на борту, я был настолько измучен, что, добравшись до каюты, лег на койку и проспал большую часть пути. Не могу вам передать, какое блаженство, просыпаясь после долгого сна без сновидений, бесстрашно смотреть в темноту, зная, что больше не увидишь этих глаз…
Я провел за границей год, потом еще год, и за это время глаза ни разу не появились. Даже если бы я находился на необитаемом острове, это было бы достаточной причиной, чтобы продлить мое пребывание там. Другой причиной, разумеется, было то, что за время путешествия я окончательно убедился в полной невозможности жениться на Алисе Ноувелл. Меня раздражало, что я потратил столько времени на это открытие, и я не хотел никаких объяснений. Я одним махом избавился и от глаз, и от второй неприятности, что придало моей свободе особый вкус, и чем больше я ею наслаждался, тем больше она мне нравилась.
Глаза оставили в моем сознании такой неизгладимый след, что я еще долго ломал себе голову над природой этого явления и пытался угадать, вернется ли оно вновь? Но время шло, и постепенно мой страх исчез и в памяти осталось лишь четкое воспоминание. Затем стерлось и оно.
Через год после отъезда из Америки я поселился в Риме, где, помнится, собирался написать другую великую книгу— исчерпывающий труд о влиянии этрусков на итальянское искусство.[210] Во всяком случае, я нашел предлог для того, чтобы снять солнечную квартиру на площади Испании и бродить по Форуму,[211] и там-то однажды утром ко мне подошел очаровательный юноша. Он предстал передо мною в теплых лучах солнца, стройный, изящный, прекрасный, как Гиацинт;[212] казалось, он сошел с развалин алтаря, посвященного Антиною;[213] а меж тем он всего лишь прибыл из Нью-Йорка с письмом — от кого бы вы думали? От Алисы Ноувелл. Это письмо — первое со времени нашей разлуки — состояло всего из нескольких слов, в которых она представляла мне своего юного кузена Гилберта Нойза и просила ему помочь. В письме говорилось, что несчастный мальчик «талантлив» и «жаждет писать», но жестокие родители требуют, чтобы он употребил свою каллиграфию на поприще бухгалтерии, и вот, благодаря стараниям Алисы, он получил шестимесячную отсрочку, которую должен провести за границей и, имея в кармане жалкие гроши, каким-то образом доказать, что своим пером может увеличить эту сумму. В первый момент меня поразили необычайные условия испытания; оно казалось почти столь же категоричным, сколь средневековый «суд божий».[214] Потом меня тронуло то, что она прислала своего кузена ко мне. Я всегда хотел хоть как-нибудь ей услужить, дабы оправдать себя — правда, не в ее глазах, а скорее в своих, — и теперь мне представилась прекрасная возможность.
Я думаю, можно с уверенностью сказать, что будущие гении не являются вам в лучах весеннего солнца на Форуме, подобно его низверженным богам. Во всяком случае, бедняге Нойзу не было предначертано стать гением. Но он был красивым юношей и прекрасным товарищем. Лишь когда он пускался в рассуждения о литературе, мне становилось не по себе. Я насквозь видел все симптомы его болезни — столкновение между тем, что «таилось в нем», и окружающим миром. Ведь, в сущности, это и есть настоящее испытание! Неминуемо, пунктуально, с неумолимостью законов природы ему в голову всегда приходили исключительно нелепые мысли. Со временем я стал даже развлекаться, заранее угадывая, какая именно нелепость будет следующей, и приобрел поразительную сноровку в этой игре…
Хуже всего, что его глупость не бросалась в глаза. Дамы, с которыми он встречался на пикниках, считали его мыслящей личностью, и даже на званых обедах он сходил за «умника». Да и я, человек, который рассматривал его под микроскопом, порою надеялся, что он все-таки обнаружит хоть какой-нибудь талантишко, способный одарить его удачей и счастьем, а разве не ради этого я старался? Он был так мил и продолжал оставаться таким милым, что самое его обаяние внушало мне эту мысль, и в течение первых месяцев я и вправду верил, что ему еще улыбнется фортуна…
То были изумительные месяцы; Нойз не расставался со мной, и чем больше времени мы проводили вместе, тем больше он мне нравился. Его глупость составляла часть его очарования — она была прекрасна, как его ресницы. И он был так весел, так счастлив со мной, что сказать ему правду было бы все равно что перерезать горло какому-нибудь кроткому зверьку. Сначала я не мог понять, что вложило в эту очаровательную голову бредовую мысль, будто в ней содержатся мозги. Постепенно я понял, что это было лишь мимикрией — бессознательным обманом с целью освободиться от родительского дома и конторского стола. Нельзя сказать, что бедняга Гилберт не верил в себя. В нем не было ни капли лицемерия. Он был убежден, что у него действительно есть «призвание», тогда как я считал, что его украшало именно отсутствие оного и что немного денег, немного свободы и немного развлечений превратят его в безобидного бездельника. К несчастью, денег ждать было неоткуда, а так как перед ним маячил конторский стол, он не мог отложить свои литературные опыты. Его писанина была ужасна, и сейчас мне понятно, что я знал это с самого начала. Однако нелепо было бы решать судьбу человека по результатам первого опыта, и это несколько оправдывало то, что я откладывал свой приговор, а возможно, даже слегка поощрял Нойза: ведь чтобы расцвести, человеческое растение нуждается в тепле.
Как бы то ни было, я продолжал придерживаться этой точки зрения и добился продления испытательного срока. Когда я уехал из Рима, он отправился со мной, и мы беззаботно провели восхитительное лето между Капри и Венецией. Я сказал себе: «Если в нем что-то есть, то это обнаружится именно теперь». Так и получилось. Он никогда не был так очарован и так очарователен. Во время нашего путешествия бывали минуты, когда казалось, что красота, рожденная плеском морской волны, отразилась на его лице, но, увы, лишь для того, чтобы вылиться в потоке бледных чернил.
Однако пришло время запрудить этот поток, и я знал, что, кроме меня, сделать это некому. Мы возвратились в Рим, и я пригласил его к себе — я не хотел, чтобы он оставался один в своем пансионе, когда ему придется отказаться от своих честолюбивых замыслов. Разумеется, решив посоветовать ему оставить литературу, я полагался не только на собственное суждение. Я посылал его сочинения разным людям — и издателям, и критикам, — но они всякий раз возвращали их с одинаковым ледяным молчанием. Да и о чем было говорить?
Признаюсь, я никогда не чувствовал себя так скверно, как в тот день, когда вознамерился поговорить с Гилбертом начистоту. Легко сказать себе, что мой долг— разбить надежды бедного юноши, но хотел бы я знать, бывал ли случай, чтобы добровольная жестокость не оправдывалась подобными аргументами? Мне всегда претила необходимость присваивать себе функции Провидения, а когда я вынужден это делать, я предпочитаю, чтобы они не были связаны с необходимостью кого-то уничтожить. Да и, в конце концов, кто я такой, чтобы всего лишь после годового испытания решать, есть ли у бедняги Гилберта талант или нет?
Чем больше я думал о той роли, которую решился исполнить, тем меньше она мне нравилась, и она понравилась мне еще меньше, когда Гилберт сел напротив меня и свет лампы упал на его откинутую голову — точь-в-точь как сидит сейчас Фил… Я просматривал его последнюю рукопись, и он это знал; знал он также, что его будущее зависит от моего приговора — на этот счет у нас с ним было молчаливое соглашение. Рукопись, а это был роман — если хотите знать, его первый роман! — лежала на столе между нами; он наклонился вперед, положил на нее руку и посмотрел на меня так, словно от этого зависела вся его жизнь.
Глядя на рукопись, чтобы не встречаться с ним глазами, я встал и откашлялся.
«Дело в том, мой дорогой Гилберт… — начал я. Тут я увидел, что он побледнел, но тотчас же вскочил и посмотрел мне прямо в лицо. — Помилуйте, не надо так волноваться, друг мой. Я совсем не собираюсь разносить вас в пух и прах».
Его руки легли мне на плечи, и он засмеялся с высоты своего роста с какой-то убийственной веселостью, поразившей меня в самое сердце.
Он держался с таким достоинством, что я не мог продолжать эти жалкие рассуждения о своем долге. Я вдруг представил себе, какие страдания причиню другим, заставив страдать его: прежде всего самому себе, ибо отправить его домой значило потерять его, но особенно бедной Алисе Ноувелл, которой я так стремился доказать свое усердие и желание быть полезным. И в самом деле, казалось, что, предавая Гилберта, я вторично предаю ее…
Но тут мне вдруг пришла в голову мысль, которая, подобно молнии, озаряющей весь горизонт, открыла мне, что произойдет, если я солгу Гилберту. Я сказал себе: «Он на всю жизнь останется со мной», а ведь я еще не встречал никого — ни мужчины, ни женщины, — кто был бы мне необходим на подобных условиях. И этот эгоистический порыв решил все. Мне стало стыдно, и, чтоб избавиться от этого чувства, я сделал шаг вперед и очутился прямо в объятиях Гилберта.
«Все прекрасно, и вы напрасно беспокоитесь!» — воскликнул я, глядя на него снизу вверх, и, пока он крепко сжимал меня в объятиях, в то время как я внутренне сотрясался от смеха, я на секунду ощутил самодовольство — оно, как полагают, сопутствует праведным. Черт побери, не так уж плохо доставлять людям радость!
Разумеется, Гилберт захотел пышно отпраздновать свое освобождение, но я отправил его изливать свои чувства в одиночестве, а сам лег спать, чтобы избавиться от своих. Раздеваясь, я задумался над тем, каково мне будет завтра: ведь самые лучшие чувства порою оставляют неприятный осадок. И все же я не жалел о случившемся и намеревался осушить бутылку, даже если вино окажется безвкусным.
Я еще долго не спал, с улыбкой вспоминая его глаза — его счастливые глаза… Потом я заснул, а когда проснулся, в комнате был ледяной холод; я резко привстал и увидел те, другие глаза…
Прошло три года с тех пор, как я их видел, но я думал о них так часто, что был уверен: они больше не смогут застать меня врасплох. Но теперь, увидев перед собою эти красные насмехающиеся глаза, я понял, что никогда не верил в их возвращение и снова совершенно беззащитен перед ними… Как и прежде, меня ужасала именно дикая бессмысленность их появления. Какого черта им нужно, почему они вдруг явились мне сейчас? Годы, прошедшие с тех пор, как я их видел, я прожил более или менее беззаботно, хотя даже самые неблагоразумные мои поступки не были настолько дурными, чтобы привлечь к себе их дьявольское внимание; а уж теперь я, можно сказать, вступил на путь истинный; но это обстоятельство почему-то делало их еще страшнее.
Однако мало сказать, что они были так же отвратительны, как раньше: они стали еще хуже. Хуже ровно настолько, насколько более гнусный смысл вкладывал в них мой собственный опыт. И тут я понял то, чего не понимал прежде: эти глаза стали такими отвратительными не сразу, их гнусность росла, как коралловый риф, крупица за крупицей, она складывалась из множества мелких низостей, которые накапливались постепенно, год за годом. Да, теперь мне было ясно: их сделало такими мерзкими именно то, что они становились мерзкими постепенно…
И вот они маячили во тьме, их опухшие веки нависали над маленькими водянистыми шариками, свободно вращавшимися в глазницах, а складки вздувшейся кожи отбрасывали густую тень. И, пока они неотрывно следили за мной, меня охватило сознание их явной сопричастности всему происходящему, какого-то тайного взаимопонимания между нами, и это было еще хуже, чем потрясение от первой встречи с ними. Не то чтобы я понимал их, нет, они просто давали мне понять, что в один прекрасный день я их пойму… Да, несомненно, это было ужаснее всего, и с каждым разом это чувство становилось все сильнее…
Ибо у них появилось дьявольское обыкновение возвращаться снова и снова. Они напоминали мне вампиров, смакующих юную кровь; казалось, они с особым вкусом смакуют чистую совесть. Целый месяц, из ночи в ночь, они появлялись, чтобы потребовать еще одну частичку моей совести; раз я сделал Гилберта счастливым, они просто не желали выпустить меня из когтей. Бедняга! Совпадение это — хоть я и понимал, что оно случайное, — заставило меня чуть ли не возненавидеть его. Я долго ломал себе голову, но не мог найти ни малейшего объяснения, кроме того, что он как-то связан с Алисой Ноувелл. Но раз глаза отстали от меня, как только я ее покинул, они вряд ли могут быть посланцами оскорбленной женщины, даже если бы и можно было представить себе, что бедняжка Алиса поручит таким силам за себя отомстить. Это навело меня на размышления, и я подумал, не отстанут ли они от меня, если я покину Гилберта. Искушение подкралось ко мне незаметно, и мне пришлось собрать всю свою волю, чтобы ему не поддаться; да и в самом деле несчастный был слишком хорош, чтобы принести его в жертву этим демонам. И потому я так никогда и не узнал, чего они хотели…
III
Огонь в камине ослабевал, и последние вспышки ярко осветили грубое лицо рассказчика, заросшее седовато-черной щетиной. Его голова была плотно прижата к спинке кресла, и на мгновение лицо выделилось на его фоне, подобно инталии из желтого камня, испещренного красными прожилками, с двумя капельками эмали вместо глаз; затем огонь угас, и лицо снова превратилось в тусклое рембрандтовское пятно.
Фил Френхем, расположившись в низком кресле по другую сторону камина, опирался одной рукой о стоящий позади него стол, а другой поддерживал запрокинутую голову; с самого начала рассказа он сидел неподвижно, не сводя глаз с лица своего старого друга. Не шелохнулся он и после того, как Калвин умолк, и только я, слегка разочарованный таким неожиданным концом, спросил:
— А долго вы еще их видели?
Калвин настолько слился со своим креслом, что казалось, перед нами лишь ворох одежды, лишенной своего обладателя. Можно было подумать, что его удивил мой вопрос; он слегка поерзал в кресле с таким видом, словно уже наполовину забыл, о чем нам рассказывал.
— Долго ли? Да почти всю зиму. Это было невыносимо. Я никак не мог к ним привыкнуть и просто заболел.
Френхем изменил свое положение и при этом случайно задел локтем небольшое зеркало в бронзовой оправе, стоявшее позади него на столе. Он обернулся и чуть-чуть отодвинул его, а, затем принял прежнее положение и, облокотившись темной головой на поднятую руку, не сводил глаз с хозяина. Его молчаливый взгляд несколько смутил меня, и, чтобы отвлечь от него внимание, я поспешил с новым вопросом:
— Неужели вы никогда не пытались пожертвовать Нойзом?
— Конечно, нет! В этом просто не было нужды. Бедняга сделал это за меня.
— За вас? Но как?!
— Он надоел мне; надоел всем. Он непрерывно занимался своей жалкой писаниной, приставая с ней к каждому встречному, пока наконец не стал наводить ужас. Я старался отвадить его от сочинительства, но, как вы сами понимаете, очень деликатно: знакомил его с приятными людьми, пытался объяснить ему, чем он действительно может заняться. С самого начала я знал, чем это должно кончиться; я был уверен, что, когда угаснет первый писательский пыл, он войдет в свою роль — роль очаровательного бездельника, этакого вечного Керубино,[215] для которого в обществе, где придерживаются старинных обычаев, всегда найдется и место за столом, и покровительство дам. Я уже видел, как он становится «поэтом» — поэтом, который ничего не пишет. Такие встречаются в каждой гостиной. Подобный образ жизни не требует особых затрат — я все это уже продумал и был уверен, что стоит лишь немного ему помочь, и он продержится несколько лет, а тем временем женится. Я представлял себе его женатым на богатой вдове, гораздо старше его, с хорошим поваром и поставленным на широкую ногу домом. У меня даже была на примете одна такая вдова… А пока я всеми силами способствовал этой метаморфозе — одалживал ему деньги, чтобы облегчить его совесть, знакомил с хорошенькими женщинами, чтобы он забыл о своих клятвах. Но все было напрасно — в его прекрасной упрямой голове была только одна мысль. Он жаждал не роз, а лавров и, беспрестанно повторяя заповедь Готье,[216] упорно долбил и оттачивал свою хромающую на обе ноги прозу, растягивая ее на многие сотни страниц. Время от времени он посылал очередную порцию своих трудов издателям, но она всегда возвращалась обратно.
Сначала это на него не действовало — он считал себя «непонятым». Он встал в позицию гения, и всякий раз, как очередной опус возвращался от издателя, писал новый, чтобы составить ему компанию. Затем он пришел в отчаяние и обвинил меня в том, что я его обманул, и бог знает в чем еще. Я рассердился и объявил ему, что обманул себя он сам. Он приехал ко мне, намереваясь стать писателем, и я сделал все от меня зависящее, чтобы ему помочь. Он обидел меня до глубины души, к тому же я старался не для него, а для его кузины.
Казалось, это до него дошло, и некоторое время он молчал. Затем он произнес: «У меня нет больше ни времени, ни денег. Что мне, по-вашему, делать?»
«Я думаю, не надо быть ослом», — ответил я.
«Что вы имеете в виду?» — удивился он.
Я взял со стола письмо и протянул ему.
«Я имею в виду ваш отказ от предложения миссис Эллингер стать ее секретарем с жалованьем в пять тысяч долларов. Кроме того, за этим может крыться многое другое».
Он взмахнул рукой так яростно, что выбил у меня из рук письмо.
«О, я прекрасно знаю, что за этим кроется», — сказал он, покраснев до корней волос.
«Так, может, вы знаете, что надо делать?» — спросил я.
Он ничего не ответил, повернулся и медленно направился к двери. На пороге он задержался и тихо спросил:
«Значит, вы действительно думаете, что мои сочинения никуда не годятся?»
Я был утомлен и раздосадован, и я рассмеялся. Это было непростительно и бестактно. Но в свое оправдание Я должен сказать, что юноша был очень глуп, я же сделал для него все, что мог, право же, все.
Он вышел из комнаты, тихо закрыв за собой дверь. В тот же день я уехал во Фраскати,[217] где обещал друзьям провести с ними воскресенье. Я был рад, что отделался от Гилберта и, как выяснилось ночью, я избавился также и от глаз. И, как и в первый раз, после их исчезновения я погрузился в летаргический сон, а утром, проснувшись в своей мирной комнате и увидев верхушки дубов под окнами, я, как и всегда после такого сна, почувствовал страшную усталость и вместе с тем огромное облегчение. Я провел две божественные ночи во Фраскати, а когда возвратился в Рим, Гилберта уже не было… Нет, нет, ничего трагического не произошло — этот эпизод ни разу не возвысился до трагедии. Он просто-напросто уложил свои рукописи и уехал в Америку— к своей семье и, конторскому столу на Уолл-стрит. Он оставил мне вполне благопристойную записку, в которой говорил о своем решении; в этих обстоятельствах он вел себя, в общем-то, настолько разумно, насколько это возможно для глупца.
IV
Калвин снова умолк; Френхем по-прежнему сидел неподвижно, и неясные очертания его головы отражались в зеркале, стоящем у него за спиной. — А что стало с Нойзом? — в конце концов спросил я, все еще обеспокоенный ощущением незавершенности и необходимостью найти связующие нити между параллельными линиями рассказа. Калвин пожал плечами:
— Не волнуйтесь, с ним ничего не стало, потому что он стал ничем. Не могло быть даже и речи о том, что он «чем-то станет». Некоторое время он, очевидно, прозябал в своей конторе, а затем получил место клерка в каком-то консульстве и весьма неудачно женился в Китае. Много лет спустя я как-то встретил его в Гонконге. Он был толст и небрит. Говорили, что он пьет. Меня он не узнал.
— А глаза? — спросил я после следующей паузы, которую сделало тягостной затянувшееся молчание Френхема.
Потирая подбородок, Калвин задумчиво посмотрел на меня в полутьме.
— Я ни разу не видел их со времени моей последней беседы с Гилбертом. Судите сами. Что до меня, я так и не нашел связи…
Он поднялся и, засунув руки в карманы, с трудом доковылял на онемевших ногах до столика с прохладительными напитками.
— Вы наверняка умираете от жажды после моего сухого рассказа. Налейте себе, друг мой. Послушайте, Фил… — он снова повернулся к камину.
Френхем ничего не ответил на радушное предложение нашего хозяина. Он по-прежнему неподвижно сидел в своем низком кресле, но, когда Калвин обратился к нему и глаза их встретились в долгом взгляде, молодой человек внезапно отвернулся и, уронив руки на стол, спрятал в них лицо.
Удивленный столь неожиданным поступком, Калвин остановился как вкопанный, и лицо его вспыхнуло.
— Фил! Какого черта? Неужели глаза вас испугали? Дорогой мой, дорогой мой друг, мой литературный дар еще ни разу не удостоился столь высокой оценки.
При этом он захихикал и, все еще держа руки в карманах, остановился на коврике перед камином и пристально посмотрел на склоненную голову юноши. Френхем все еще молчал, и он подошел ближе.
— Не вешайте нос, дорогой Фил! Прошло столько лет с тех пор, как я видел их в последний раз, — вероятно, я давно уже не совершал ничего настолько дурного, что могло бы вызвать их из ада. Если только, конечно, мои воспоминания не заставили вас их увидеть. Это было бы самым гнусным их поступком.
Его шутливое обращение завершилось натянутым смешком, и, приблизившись к Френхему, он склонился над ним, положив на плечи юноши свои изуродованные подагрой руки.
— Фил, мой мальчик, в самом деле, что с вами? Почему вы молчите? Уж не увидели ли вы глаза?
Френхем по-прежнему не поднимал головы. Я стоял за спиною Калвина и видел, как он, изумленный столь странным поведением, медленно отодвинулся от своего друга. Свет настольной лампы на мгновение осветил его налитое кровью лицо, и я увидел его отражение в зеркале позади Френхема.
Калвин тоже заметил свое отражение. Лицо его было вровень с зеркалом. Он помедлил, словно с трудом узнавая в нем себя. И, пока он разглядывал себя в зеркале, лицо его постепенно менялось, и еще довольно долго он и его двойник смотрели друг на друга со все возрастающей ненавистью. Затем Калвин отпустил Френхема и попятился…
Френхем, уткнувшись головой в руки, сидел все так же неподвижно.
ШИНГУ[218] Перевод М. Шерешевской
I
Миссис Беллингер принадлежала к породе дам, которые, словно страшась иметь дело с Культурой один на один, знакомятся с нею сообща. Именно с этой целью она и основала Обеденный клуб — содружество, состоящее из нее самой и других неукротимых охотниц за знаниями. После нескольких зим совместных обедов и дискуссий клуб приобрел такое значение в городе, что одной из его неотъемлемых функций стало принимать знаменитых приезжих, и по этой причине не успела известная всему миру Озрик Дейн прибыть в Хилл-бридж, как немедленно получила приглашение посетить очередное заседание клуба.
Заседание должно было состояться у миссис Беллингер. За ее спиной коллеги по клубу единодушно сокрушались, что их председательница не желала уступить свое право гостеприимства миссис Плинт: более внушительная обстановка в доме последней позволяла лучше принять заезжую знаменитость, к тому же, как кстати заметила миссис Леверет, там имелась картинная галерея, на которую в случае чего всегда можно переключиться.
Миссис Плинт не скрывала, что разделяет эту точку зрения. Она всегда считала своей первейшей обязанностью принимать у себя именитых гостей Обеденного клуба. Своими обязанностями перед обществом она гордилась не меньше, чем своей картинной галереей, и, по правде говоря, любила дать понять, что одно подразумевает другое и что только женщина с ее состоянием может позволить себе жить согласно тем высоким принципам, которые отстаивает. На ее взгляд, от людей среднего достатка Провидение требовало наличия общего представления о чувстве долга, проявляемого в зависимости от обстоятельств, но ей, кому Высшие силы начертали держать лакея, несомненно, предназначалось иметь особый круг обязанностей. Тем более прискорбно, что миссис Беллингер, чьи возможности ограничивались штатом из двух горничных, так упорствовала в своем праве принимать у себя Озрик Дейн.
Еще за месяц до приезда прославленной леди членами Обеденного клуба овладело беспокойство. Не то чтобы они боялись ударить в грязь лицом, но в преддверии счастливого события их охватила приятная нерешительность, которая овладевает всякой дамой, перед тем как сделать выбор в плотно набитом платяном шкафу. Правда, только миссис Леверет, подвизавшаяся в клубе на вторых ролях, трепетала при мысли, что ей придется обменяться мнениями с самим автором «Крыльев смерти». Ни миссис Плинт, ни миссис Беллингер, ни тем паче мисс Ван-Влюк, вполне уверенные в своей компетентности, дурными предчувствиями не терзались. На последнем заседании, по предложению мисс Ван-Влюк, темой дискуссии были избраны «Крылья смерти», и каждый член клуба получил возможность высказать свое суждение об этой книге или присоединиться к тем, которые сочтет наиболее приемлемыми.
Единственная, кто не воспользовался блестящей возможностью, была миссис Роуби, но миссис Роуби — по общему приговору — совершенно не годилась в члены клуба.
— Вот что значит, — как однажды выразилась мисс Ван-Влюк, — оценивать женщину, полагаясь на мнение мужчины.
Миссис Роуби, которая вернулась в Хиллбридж после длительного пребывания в какой-то экзотической стране (в какой — остальные дамы не сочли нужным запомнить), была провозглашена известным биологом, профессором Форлендом, приятнейшей в мире женщиной, и члены клуба, для которых этот хвалебный отзыв имел силу диплома, опрометчиво решив, что в своих светских симпатиях профессор непременно должен руководствоваться профессиональными склонностями, обрадовались случаю пополнить свои ряды дамой-биологом. Велико же было их разочарование! При первом знакомстве, когда мисс Ван-Влюк сказала что-то мимоходом о птеродактиле, миссис Роуби смущенно пробормотала:
— Я плохо разбираюсь в поэтических метрах…
И после этого фиаско, обнажившего всю глубину ее невежества, благоразумно воздерживалась от участия в их интеллектуальной гимнастике.
— Думаю, она взяла его лестью, — решила мисс Ван-Влюк. — Или, возможно, он не устоял перед ее прической.
Ввиду того, что столовая мисс Ван-Влюк вмещала не более шести персон, количество членов клуба было ограничено этим числом, и то, что одна из участниц дискуссий оказалась пустым местом, мешало бесперебойному обмену мнениями. Кое-кто уже начал роптать: с какой стати миссис Роуби позволяет себе жить, так сказать, за счет умственного багажа других! Недовольство это еще более усилилось, когда стало ясно, что она даже не удосужилась прочесть «Крылья смерти». Имя Озрик Дейн она, если ей верить, слыхала, но на этом — подумать только! — ее знакомство с прославленной романисткой и ограничивалось. Дамы просто не в силах были скрыть своего изумления! Правда, миссис Беллингер, чрезвычайно дорожившая репутацией своего детища и поэтому желавшая, чтобы даже миссис Роуби выглядела наилучшим образом, мягко дала понять, что если та не успела ознакомиться с последним романом писательницы, то уж наверное читала предшествующий — и не менее значительный — «Критический момент».
Миссис Роуби нахмурила золотистые брови, старательно напрягая память, и в итоге вспомнила: да, конечно, она видела эту книгу в доме брата, когда гостила у него в Бразилии, и даже намеревалась почитать ее во время катания по реке, но потом в лодке они в шутку стали швыряться друг в друга чем попало, и книга угодила в воду — словом, ей так и не удалось…
Картина, вызванная в воображении членов клуба рассказом миссис Роуби, не помогла упрочить ее репутацию, а породила лишь тягостное молчание, прерванное наконец миссис Плинт.
— Я понимаю, — сказала она, — что при таком обилии различных занятий вам не хватало времени для чтения, но, согласитесь, просмотреть «Крылья смерти» перед приездом Озрик Дейн вы все-таки могли.
Миссис Роуби выслушала упрек вполне добродушно. Она, право, собиралась полистать этот роман, но так увлеклась книгой Троллопа,[219] что…
— Кто это теперь читает Троллопа! — перебила ее миссис Беллингер.
Миссис Роуби смутилась.
— Я только начала, — призналась она.
— И вам интересно его читать? — осведомилась миссис Плинт.
— У него занимательные романы.
— Занимательность, — сказала миссис Плинт, — последнее, чем я руководствуюсь при выборе книги.
— О, что и говорить, «Крылья смерти» не назовешь занимательным чтением, — ввернула миссис Леверет, выражавшая свои суждения на манер угодливого коммивояжера, всегда готового предложить любую другую вещь, если та, на которую пал его выбор, окажется покупателю не по вкусу.
— Разве для этого писался роман Озрик Дейн? — спросила миссис Плинт, любившая задавать вопросы, на которые никому, кроме нее, не дозволялось давать ответы. — Разумеется, нет.
— Разумеется, нет. Я именно это и хотела сказать, — подтвердила миссис Леверет, поспешно убирая один товар и заменяя его другим. — Он писался, чтобы… чтобы возвышать!
Мисс Ван-Влюк водрузила на нос очки и с видом судьи, надевающего черную шапочку для оглашения обвинительного приговора, изрекла:
— Вот уж не знаю, как о книге, проникнутой таким горьким пессимизмом, при всей ее нравоучительности, можно сказать, что она возвышает.
— Конечно, я как раз имела в виду сказать, что роман поучает, — залепетала миссис Леверет в полном смятении оттого, что слова, которые она считала синонимами, вдруг оказались различными по значению. Удовольствие, получаемое миссис Леверет на заседаниях Обеденного клуба, часто омрачалось такого рода неожиданностями, а так как она не догадывалась, какую важную роль играла, давая остальным членам возможность самоутверждаться за ее счет, то нередко мучилась сознанием, что недостойна участвовать в их дискуссиях. Не будь у нее туповатой сестрицы, восхищавшейся ее умом, бедняжка вряд ли избежала бы комплекса неполноценности.
— А они женятся в конце? — спросила миссис Роуби.
— Кто они? — хором возопил Обеденный клуб.
— Как кто? Она и он. Ведь «Крылья смерти» — роман. А в романе, по-моему, это самое главное. Если героев разлучают, я просто места себе не нахожу.
Миссис Плинт и миссис Беллингер обменялись негодующими взглядами.
— Ну если вы настроены на подобный лад, — сказала миссис Беллингер, — то я вряд ли стала бы рекомендовать вам «Крылья смерти». Что до меня, я никогда не могла понять, как можно тратить время на занимательные поделки, когда есть столько книг, которые нельзя не прочесть.
— Но самое замечательное, — произнесла вполголоса Лора Глайд, — во всем этом то, что никто не может сказать, как кончаются «Крылья смерти». Пораженная ужасным смыслом того, что ею же было облечено словами, Озрик Дейн милосердно скрыла его от нас — быть может, даже от себя самой, — как Апеллес скрыл лицо Агамемнона, приносящего в жертву Ифигению.[220]
— Что это? Стихи? — шепотом спросила миссис Леверет у миссис Плинт, которая, не удостоив ее прямым ответом, холодно посоветовала:
— А вы посмотрите в энциклопедии. Я взяла себе за правило смотреть решительно все сама. — И в тоне ее звучало: «Хотя мне ничего не стоит приказать сделать это моему лакею».
— Я хотела сказать, — вновь взяла слово мисс Ван-Влюк, — что тут неизбежно встает вопрос: а может ли книга поучать, если она не возвышает?
— О! — только и выдохнула миссис Леверет, ощущая, что почва окончательно уходит у нее из-под ног.
— Не знаю, — возразила миссис Беллингер, которой в тоне мисс Ван-Влюк почудилось нечто посягающее на ее, миссис Беллингер, вожделенную привилегию принимать у себя Озрик Дейн. — Не знаю, уместен ли такой вопрос, когда речь идет о книге, возбудившей к себе больший интерес всех мало-мальски думающих людей, чем любая другая после «Роберта Элсмера».[221]
— Как вы не видите, — воскликнула Лора Глайд, — что именно благодаря этой своей мрачной безысходности, этой поразительной гамме всех оттенков черного на черном фоне, она и подымается до вершин искусства. Читая «Крылья смерти», я беспрестанно вспоминала maniere noire[222] принца Руперта…[223] Эта книга словно выгравирована, а не выписана, и при этом играет всеми красками…
— Кто этот Руперт? — шепотом спросила миссис Леверет у соседки. — Кто-нибудь, с кем она познакомилась за границей?
— И самое удивительное в «Крыльях смерти», — решила пойти на уступку миссис Беллингер, — это то, что эту книгу можно рассматривать с самых различных сторон. Я слышала, что детерминист профессор Лаптон ставит ее в один ряд с «Фактами этики».[224]
— А мне говорили, — сказала миссис Плинт, — что Озрик Дейн потратила девять лет на подготовительную работу, прежде чем взяться за перо. Она обо всем справляется, все выверяет. Я, как вы знаете, руководствуюсь тем же принципом. Я никогда не бросаю книгу, не дочитав до конца, хотя могу позволить себе покупать их сколько угодно.
— А что вы сами думаете о «Крыльях смерти»? — спросила вдруг миссис Роуби.
Подобный вопрос принадлежал к разряду неуместных, и дамы переглянулись между собой, словно отмежевываясь от соучастия в нарушении приличий. Они все знали, что миссис Плинт положительно не переносит, когда интересуются ее собственным мнением о книге. Книги пишутся, чтобы их читали, и, коль скоро она их читала, чего же еще можно было от нее требовать? Задавать ей вопросы с содержании того или иного произведения было, в ее глазах, столь же возмутительно, как подвергать таможенному досмотру ее чемоданы и искать в них контрабандное кружево. Члены клуба всегда считались с этой ее особенностью. Те немногие мнения, коих она придерживалась, отличались внушительностью и прочностью; в своем уме — как и у себя в доме — она держала только монументальные «предметы», и о том, чтобы сдвинуть их с места, не могло быть и речи. К тому же, согласно одному из неписаных законов Обеденного клуба, каждый член этого содружества мог рассчитывать — в пределах своей компетенции — на уважение к своему образу мыслей. Вот почему по окончании дискуссии ее участницы теперь уже полностью убедились, что миссис Роуби решительно не подходит к их кружку.
II
В знаменательный день миссис Леверет явилась к миссис Беллингер пораньше, не забыв прихватить с собой сборник «Полезные изречения». Миссис Леверет всегда панически боялась опоздать на заседание клуба: она любила собраться с мыслями и, пока сходились остальные, угадать, какое направление примет беседа. Но сегодня она чувствовала себя совершенно потерянной, и даже тесное соприкосновение со сборником, который, как только она села, врезался ей корешком в бок, ни на йоту не придало ей уверенности. Эта прелестная книжечка была составлена на все случаи жизни, и тому, кто ее изучил, не приходилось долго искать подходящую цитату ни на юбилеях, веселых или грустных (как значилось в оглавлении), ни на банкетах, светских или служебных, ни на крестинах, англиканских или баптистских. Но, хотя миссис Леверет уже много лет старательно зубрила страницы сборника, она ценила его скорее за моральную поддержку, чем по — причине практической для себя полезности, ибо, какой бы легион цитат ни выстраивала она в тиши собственной комнаты, все они неизменно в критический момент рассеивались, а единственная остававшаяся ей верной фраза — «можешь ли ты удою вытащить левиафана»[225] — так и не нашла себе применения.
На этот раз ее не покидало ощущение, что, даже знай она все изречения назубок, это все равно не помогло бы ей обрести душевное равновесие: ведь если бы даже она каким-то чудом затвердила нужную цитату, где гарантия, что Озрик Дейн пользуется тем же, а не другим сборником (по глубокому убеждению миссис Леверет, все пишущие не выпускали их из рук), и, следовательно, узнает приводимую ею выдержку.
Вид гостиной миссис Беллингер еще более усилил ее тревогу. Менее наметанный глаз не заметил бы никаких перемен, но каждый, кто знал, по какому принципу миссис Беллингер располагает книги, немедленно уловил бы следы недавних перестановок. Как член Обеденного клуба миссис Беллингер посвятила себя Последней новинке сезона. В этой области — будь то роман или исследование по экспериментальной психологии — она была несомненно и полностью «на высоте». Куда потом девались последние новинки прошлого сезона и даже предпоследние нынешнего, куда она убирала тех кумиров, которым вчера еще столь же усердно поклонялась, никому до сих пор обнаружить не удалось. Ее ум был подобен гостинице, где факты, словно временные постояльцы, обитали недолгий срок и уезжали, не оставив адреса, а порою и платы за услуги. Сама же миссис Беллингер гордилась тем, что «идет в ногу с передовыми идеями» и что ее место во главе прогресса отражают книги, лежащие на ее столе. На этих, то и дело обновляемых, изданиях стояли, как правило, неизвестные миссис Леверет имена, и, листая их почти всегда еще влажные от типографской краски страницы, она с содроганием обнаруживала все новые и новые области знаний, куда ей предстояло, запыхавшись, поспешать за миссис Беллингер. Но сегодня несколько солидных фолиантов были искусно перемешаны с primeurs[226] книжного рынка: Карл Маркс теснил Анри Бергсона,[227] а рядом с «Исповедью блаженного Августина»[228] красовалась свежайшая монография о менделизме.[229] Даже миссис Леверет, не отличавшейся большой проницательностью, стало ясно, что миссис Беллингер понятия не имеет, о чем может заговорить Озрик Дейн, а потому ею приняты меры на все возможные случаи. Миссис Леверет почувствовала себя как пассажир океанского парохода, когда объявляют, что, хотя непосредственной опасности нет, всем лучше надеть спасательные пояса.
К счастью, приход мисс Ван-Влюк развеял ее дурные предчувствия.
— Ну, моя дорогая, — сказала мисс Ван-Влюк, оживленно приветствуя хозяйку дома, — какие темы намечены на сегодня?
Миссис Беллингер как раз потихоньку заменяла сборник Вордсворта томиком Верлена.[230]
— Право, не знаю, — ответила она несколько нервно. — Пожалуй, посмотрим по обстоятельствам.
— По обстоятельствам? — сухо произнесла мисс Ван-Влюк. — То есть, как я это себе представляю, вы хотите, чтобы Лора Глайд потопила нас в рассуждениях о литературе.
Сама мисс Ван-Влюк посвятила себя филантропии и статистике, и даже мысль о том, что кто-то отвлечет внимание высокой гостьи от этих предметов, приводила ее в негодование.
Тут вошла миссис Плинт.
— О литературе! — воскликнула она протестующе. — Но для меня это полная неожиданность. Я рассчитывала, что мы будем говорить о романе Озрик Дейн.
Миссис Беллингер внутренне вздрогнула, но оставила шпильку без внимания.
— Право, мы не можем сделать его главной темой — во всяком случае, подчеркнуто главной, — объяснила она. — Можно, конечно, направить разговор в это русло, но начать надо с чего-нибудь другого, и об этом я как раз хотела с вами посоветоваться. Не будем забывать, что мы почти ничего не знаем ни о вкусах, ни об интересах нашей гостьи, и тут трудно подготовиться заранее.
— Трудно, но необходимо, — внушительно заявила миссис Плинт. — Уж я-то знаю, к чему приводит, когда полагаются на авось. Как я на днях сказала племяннице: бывают всякие обстоятельства, и настоящая леди обязана быть к ним готовой. Недопустимо надевать пестрое платье, когда идешь с траурным визитом, или носить прошлогодние туалеты, когда пущен слух, будто твой муж — банкрот. Точно так же и с темой беседы. Я хочу одного — знать заранее, о чем пойдет речь. Тогда я, несомненно, сумею сказать то, что должно.
— Полностью с вами согласна, — кивнула миссис Беллингер, — однако…
И в эту минуту, возвещенная раскрасневшейся от волнения горничной, на пороге появилась Озрик Дейн.
Миссис Леверет — как она впоследствии сказала сестре — сразу поняла, что их ждет. Она с первого взгляда определила, что Озрик Дейн не станет облегчать им задачу. Судя по ее натянутому виду, менее всего приходилось рассчитывать на то, что эта гостья поможет хозяевам исполнить долг гостеприимства. Она выглядела так, словно явилась сфотографироваться для нового издания своих произведений.
Желание умилостивить божество, как правило, обратно пропорционально его ответной реакции, и холод, которым веяло от знаменитой особы, удвоил стремление членов клуба быть ей приятными. Ее манера держаться мгновенно рассеяла даже робкую надежду на то, что она может питать признательность за приглашение, а под ее взглядом — как сказала впоследствии миссис Леверет сестре — невольно казалось, что у вас шляпка съехала набок. Все эти знаки величия не замедлили произвести впечатление на присутствующих, и они просто замерли от ужаса, когда миссис Роуби, следуя вместе со всеми за хозяйкой дома в столовую, куда та вела знатную гостью, вдруг обернулась и шепотом сказала:
— Ну и мегера!
Час, проведенный за обеденным столом, не дал повода пересмотреть ее приговор. Все это время Озрик Дейн молча поглощала предложенные ей миссис Беллингер блюда, а члены клуба, нащупывая почву, сыпали банальностями, которые гостья глотала с тем же безразличием, что и сменявшие друг друга кушанья.
Отказ миссис Беллингер утвердить тему беседы внес разлад и смятение в умы членов клуба, и, когда они вернулись в гостиную, где, собственно, и должен был — состояться настоящий разговор, замешательство их только усилилось. Каждая ждала, чтобы первой заговорила другая; но все были неприятно удивлены, когда хозяйка дома начала беседу с избитой до неприличия фразы:
— Вы, кажется, у нас в Хиллбридже впервые?
Даже миссис Леверет понимала, что не с этого следовало начать, а мисс Глайд, не в силах сдержать неодобрения, позволила себе вмешаться:
— Наш Хиллбридж — маленький городок! Тут уж не выдержала миссис Плинт.
— Здесь живет много весьма представительных особ, — сказала она тоном человека, защищающего честь своей корпорации.
— И что же они собой представляют? — обернулась к ней Озрик Дейн.
Миссис Плинт, которая питала врожденную неприязнь к вопросам, и к тому же была не готова отвечать, полным укоризны взглядом переадресовала обращенный к ней вопрос миссис Беллингер.
— Ну, — произнесла та, в свою очередь бросая взгляд на остальных членов клуба, — надеюсь, не будет слишком смело сказать, что наш город отличается интересом к культуре.
— К искусству, — подхватила мисс Глайд.
— К искусству и литературе, — уточнила миссис Беллингер.
— И к социологии, полагаю, — выпалила мисс Ван-Влюк.
— У нас есть принципы, — сказала миссис Плинт, внезапно почувствовав, что может безопасно плыть в этом море общих слов, а миссис Леверет, решив, что на столь широких просторах всем хватит места, осмелилась пробормотать:
— О да, у нас есть принципы.
— Цель нашего маленького клуба, — продолжала миссис Беллингер, — собрать воедино все лучшее, что есть в Хиллбридже, объединить и сосредоточить его интеллектуальные усилия.
Это показалось дамам настолько удачным, что все с облегчением вздохнули.
— Мы стремимся, — заключила председательница клуба, — приобщаться ко всему, что есть самого высокого в искусстве, в литературе, в этике.
— Какой этике? — обернулась к ней Озрик Дейн. В комнате воцарилось трепетное молчание. Ни одной из дам не требовалось подготовки, чтобы выразить свое суждение по вопросам морали, но когда мораль называли этикой, это было другое дело. Полистав Британскую энциклопедию, или литературный справочник, или мифологический словарь Смита,[231] члены клуба сумели бы справиться с любой темой, но, застигнутые врасплох, они, как известно, могли отнести агностицизм к раннехристианским ересям,[232] а Зигмунда Фрейда — к известным специалистам по гистологии; что же касается таких ученых дам, как миссис Леверет, то она в глубине души считала этику чем-то языческим. Даже миссис Беллингер вопрос Озрик Дейн поверг в смятение, и все благодарно вздохнули, когда Лора Глайд, подавшись вперед, произнесла наисладчайшим голосом:
— Вы извините нас, миссис Дейн, но сегодня мы не способны говорить ни о чем ином, кроме «Крыльев смерти».
— Да-да, — сказала мисс Ван-Влюк, внезапно решив перенести бой на территорию противника. — Нам так хотелось бы узнать, какую цель вы преследовали, когда писали эту чудесную книгу.
— Здесь, — подхватила миссис Плинт, — вы найдете вдумчивых читателей.
— Нам так не терпится, — продолжала мисс Ван-Влюк, — услышать от вас самой, отражает ли пессимизм «Крыльев смерти» ваши собственные воззрения, или…
— Или, — подхватила мисс Глайд, — это просто мрачный фон, на котором живее и рельефнее выступают ваши герои. Ведь главное для вас — пластический эффект?
— Нет, я всегда утверждала, — возразила миссис Беллингер, — что вы представительница сугубо объективного метода.
Озрик Дейн с критической миной принялась за кофе.
— Как вы трактуете понятие «объективный»? — спросила она, сделав несколько глотков.
Наступила напряженная пауза; наконец Лора Глайд, собрав все силы, пробормотала:
— Читая вас, мы не трактуем, мы переживаем. Озрик Дейн улыбнулась.
— Конечно, — заметила она, — центр литературных эмоций у многих находится в мозжечке.
И она взяла кусочек сахара.
Дамы смутно ощутили скрытую в этом замечании колкость, но она искупалась приятным сознанием, что с ними говорят на профессиональном языке.
— Да-да, в мозжечке, — сказала мисс Ван-Влюк, очень довольная собой. — Прошлой зимой мы всем клубом слушали курс психологии.
— Какой психологии? — спросила Озрик Дейн. Наступила тягостная пауза, и каждая дама в душе досадовала на то, что другие оказались так ненаходчивы. Только миссис Роуби продолжала невозмутимо потягивать шартрез. Наконец миссис Беллингер сделала попытку вернуться к светскому тону.
— Да, знаете ли, в прошлом году мы занимались психологией, а нынче погрузились…
Она замолчала, судорожно пытаясь вспомнить, о чем они, собираясь, говорили, но под замораживающим взглядом Озрик Дейн у нее словно отшибло память. Чем же они все-таки занимались? И, невольно пытаясь оттянуть время, миссис Беллингер медленно повторила:
— Нынче просто целиком погрузились…
Миссис Роуби опустила на стол ликерную рюмочку и, улыбаясь, вступила в разговор:
— В Шингу? — мягко подсказала она.
Нервный ток пробежал по остальным членам клуба. Они смущенно переглянулись и в едином порыве устремили на свою спасительницу недоуменно-благодарный взгляд. Лицо каждой отразило разные фазы одного и того же чувства. Миссис Плинт первая вернула своим чертам спокойное выражение: мгновенно перестроившись, она теперь сидела с таким видом, словно именно от нее миссис Беллингер получила нужное слово.
— Шингу, конечно же! — воскликнула председательница клуба со свойственной ей стремительностью, тогда как мисс Ван-Влюк и Лора Глайд все еще шарили в глубинах памяти, а миссис Леверет в страхе нащупывала в кармане «Полезные изречения», и тяжесть их увесистой массы вернула ей спокойствие.
Что касается Озрик Дейн, то с ней происходили перемены не менее разительные, чем с устроительницами встречи. Она тоже — правда, с явным раздражением — опустила свою чашечку с кофе на стол; она тоже — пусть мгновение! — сидела с таким видом, словно — как впоследствии выразилась миссис Роуби — судорожно шарила у себя в черепной коробке. Но, прежде чем ей удалось завуалировать эти признаки мгновенной слабости, миссис Роуби, обернувшись к ней с почтительной улыбкой, сказала:
— А мы так надеялись услышать сегодня, что вы об этом думаете.
Озрик Дейн приняла улыбку как само собой разумеющуюся дань уважения, но сопровождающая ее просьба, очевидно, привела ее в замешательство, и наблюдавшим за ней дамам нетрудно было заметить, что знаменитая писательница плохо владеет своим лицом. Казалось, на нем так давно застыло выражение непререкаемого превосходства, что мускулы перестали слушаться.
— Шингу… — произнесла Озрик Дейн, словно пытаясь в свою очередь оттянуть время.
Но миссис Роуби не отставала:
— Зная, как завлекателен этот предмет, вы поймете, почему так случилось, что сейчас мы все предали забвению. С тех пор как мы увлеклись Шингу, ничто, позволю себе сказать, ничто — кроме ваших книг — не кажется нам достойным внимания.
Вымученная улыбка не столько осветила, сколько омрачила застывшие черты Озрик Дейн.
— Рада слышать, что вы сделали для них исключение, — ответила она, проталкивая слова сквозь вытянутые о ниточку губы.
— О, конечно, — любезно откликнулась миссис Роуби. — Но поскольку вы, как видно, не склонны — и это так понятно! — говорить о своих произведениях, мы, право, не можем отпустить вас, не расспросив, что все-таки вы думаете о Шингу. Тем более, — добавила она с учтивой улыбкой, — что, говорят, последний ваш роман в ней буквально купается.
Ах, в ней! Вот оно что… Установление этого факта моментально оживило поникшие было головы остальных членов клуба. В своей жажде заполучить хотя бы маленький, хотя бы самый крохотный ключик к этой Шингу они готовы были пожертвовать удовольствием содействовать провалу миссис Дейн.
Под натиском противницы лицо последней покрылось нервными пятнами.
— Позвольте спросить, — замялась она, — какой из моих романов имеется в виду?
Миссис Роуби парировала без заминки:
— Вот его-то я и прошу вас назвать, потому что я только присутствовала, но не участвовала.
— Присутствовала — при чем? — сделала выпад миссис Дейн, и на мгновение членам Обеденного клуба показалось, что воительница, ниспосланная им Провидением, потеряла в турнире очко. Но это было не так.
— При обсуждении, — весело объявила она. — Итак, мы умираем от нетерпения услышать, каким образом вас занесло в Великую Шингу.
Наступила зловещая пауза, и, хотя молчание было чревато неисчислимыми опасностями, все дамы, как одна, придержали готовые сорваться с языка слова, — так складывают оружие воины, когда спор разрешается поединком вождей. И тут миссис Дейн высказала вслух то, что каждая из них в смятении таила про себя.
— А… так вы говорите — Великая Шингу? Миссис Роуби отважно улыбнулась:
— Пожалуй, это звучит напыщенно. Как правило, я опускаю эпитет, но не знаю, как отнесутся к этому другие члены клуба.
Другие члены клуба, судя по их виду, явно предпочитали, чтобы в данном случае вопрос решился без их участия, и, обведя присутствующих веселым взглядом, миссис Роуби продолжала:
— Думаю, что выражу общее мнение, если скажу — не это главное… Все это не важно, все, кроме самой Шингу.
У миссис Дейн, видимо, не было наготове ответа, и миссис Беллингер, собравшись с духом, вступила в разговор:
— Все, безусловно, именно так и относятся к Шингу. Ее поспешила поддержать миссис Плинт, промычавшая нечто невнятное, а Лора Глайд сказала с жаром:
— Мне известны случаи, когда Шингу послужила причиной к перемене целой жизни.
— Не могу даже перечислить все то, чем я ей обязана! — вмешалась миссис Леверет, которой и в самом деле сейчас казалось, что прошлой зимой она не то что-то слышала, не то читала об этой Шингу.
— Конечно, — сказала миссис Роуби, — трудность в том, что на нее идет уйма времени. Она очень длинная!
— Не могу себе представить, чтобы можно было жалеть о времени, затраченном на такой интересный предмет, — заявила мисс Ван-Влюк.
— И очень глубокая местами, — продолжала миссис Роуби. (Значит, это все-таки книга!) — И ведь ни одно из них нельзя проскочить.
— Я никогда ничего не проскакиваю, — наставительно изрекла миссис Плинт.
— Ну, в Шингу это просто опасно. Там даже в начале достаточно мест, которые никак не проскочишь — приходится через них продираться.
— Я вряд ли сказала бы «продираться», — саркастически бросила миссис Беллингер.
Миссис Роуби с интересом на нее посмотрела:
— А вы считаете, что чувствуете себя в ней как рыба в воде?
Миссис Беллингер заколебалась:
— Нет, разумеется, там есть трудные части, — пошла она на компромисс.
— Вот именно. И они вовсе не так уж прозрачны. Даже для тех, — добавила миссис Роуби, — кто знаком с оригиналом.
— Как вы, например, — вмешалась Озрик Дейн, бросив противнице вызывающий взгляд.
Миссис Роуби только пожала плечами.
— До известного предела трудности и в самом деле невелики. Правда, некоторые ответвления мало изучены, а до истоков почти невозможно добраться.
— А сами вы пробовали? — осведомилась миссис Плинт, которая по-прежнему не доверяла миссис Роуби по части усердия и тщательности.
Миссис Роуби помолчала.
— Я — нет, — сказала она потупившись. — Но один мой знакомый — блестящий молодой человек — прошел ее от начала до конца, и он сказал мне, что женщине вообще не следует…
У присутствующих мороз прошел по коже. Миссис Леверет закашлялась, чтобы горничная, как раз обносившая дам сигаретами, этого не услышала; на лице мисс Ван-Влюк появилось брезгливое выражение, а миссис Плинт приняла такой вид, каким встречают человека, с которым предпочитают не раскланиваться. Но самое сильное действие последнее замечание миссис Роуби оказало на именитую гостью Обеденного клуба. Непроницаемые черты Озрик Дейн, вдруг помягчав, приобрели выражение живого человеческого участия, и, придвинув свой стул к миссис Роуби, она с любопытством спросила:
— Так и сказал? А вы… вы считаете, он прав? Однако миссис Беллингер, в душе которой, вытесняя благодарность за оказанную помощь, уже зрело недовольство миссис Роуби, не по чину выдвинувшейся вперед, не могла допустить, чтобы та целиком завладела, да еще столь сомнительными средствами, вниманием их гостьи. Если у Озрик Дейн недостает чувства собственного достоинства, чтобы пресечь пустую болтовню миссис Роуби, Обеденный клуб сделает это в лице своего председателя. И миссис Беллингер опустила руку на плечо миссис Роуби.
— Не будем забывать, — сказала она с ледяной учтивостью, — что при всем нашем увлечении Шингу эта тема может показаться не столь интересной…
— Нет-нет! Напротив, уверяю вас… — воскликнула Озрик Дейн.
— …для других, — решительно закончила миссис Беллингер. — К тому же мы не можем закрыть наше маленькое заседание, не убедив миссис Дейн — это было бы недопустимо! — сказать нам несколько слов о том, что сейчас целиком поглощает наши мысли, — разумеется, я говорю о «Крыльях смерти».
Остальные дамы, испытывающие, хотя и в разной степени, те же чувства, и теперь при виде смягчившейся физиономии их грозной гостьи несколько воспрянувшие духом, хором подтвердили:
— Да-да. Ах, пожалуйста, вы непременно… вы должны рассказать нам о вашей книге.
На лице Озрик Дейн появилось такое же кислое, хотя и не столь надменное выражение, каким она встретила первое упоминание о «Крыльях смерти». Но не успела она ответить миссис Беллингер, как миссис Роуби поднялась с места и, опуская на свой задорный носик вуальку, сказала:
— Прошу прощения, но мне нужно уйти, — и она двинулась к хозяйке дома, протягивая ей для прощания руку, — и лучше сделать это, пока миссис Дейн еще не начала говорить. Я, как известно, не читала ее романа, и на вашем фоне у меня будет очень жалкий вид. К тому же я приглашена на бридж.
Если бы миссис Роуби, уходя, сослалась только на незнание произведений Озрик Дейн, Обеденный клуб, ввиду проявленной ею находчивости, возможно, принял бы ее уход как свидетельство осмотрительности, но, присовокупив к такому объяснению наглое заявление о том, что пренебрегает честью находиться в столь высоком обществе ради бриджа, она лишний раз выказала достойный сожаления дурной вкус.
Дамы, однако, склонны были считать, что без нее — особенно после того как она уже оказала им ту единственную услугу, на которую была способна, — предстоящее обсуждение пройдет более слаженно и достойно; к тому же они избавятся от чувства неуверенности, которое неизвестно почему всегда охватывало их в ее присутствии. Поэтому миссис Беллингер ограничилась несколькими вскользь брошенными словами официального сожаления, а остальные члены клуба стали поудобнее рассаживаться вокруг Озрик Дейн, как вдруг эта увенчанная лаврами дама, ко всеобщему смятению, поднялась с занимаемого ею дивана.
— Подождите, подождите, — окликнула она миссис Роуби. — И я с вами.
И, поспешно хватая руки оторопевших членов Обеденного клуба, принялась награждать их прощальными пожатиями с такой же автоматической быстротой, с какой железнодорожный кондуктор пробивает проездные билеты.
— Ах, мне очень жаль… Я совсем забыла… — бросила она с порога, присоединяясь к миссис Роуби, которая с изумлением обернулась на ее призыв, и оставшиеся в гостиной дамы с чувством глубокого негодования услышали, как их гостья, даже не дав себе труда понизить голос, сказала:
— Я, с вашего позволения, провожу вас немного. Мне не терпится задать вам еще несколько вопросов о Шингу.
III
Вся сцена заняла так мало времени, что, когда за удаляющейся парой закрылась дверь, остальные не сразу взяли в толк, что, собственно, произошло. Затем на смену чувству обиды, вызванному бесцеремонным бегством Озрик Дейн, пришло сознание, что их обманули, лишив чего-то, принадлежащего им по праву, но как и почему — они не могли понять.
В наступившей тишине миссис Беллингер механически перекладывала в ином порядке так искусно подобранные ею книги, на которые заезжая знаменитость даже не удосужилась взглянуть. Наконец мисс Ван-Влюк прервала молчание.
— Вот уж не сказала бы, — желчно бросила она, — что мы много потеряли с уходом Озрик Дейн.
Эта реплика дала выход возмущению, владевшему ее коллегами по клубу, и миссис Леверет немедленно отозвалась:
— А я так просто уверена, что она единственно за тем и пришла, чтобы насмехаться над нами.
Правда, миссис Плинт в глубине души придерживалась особого мнения: возможно, Озрик Дейн отнеслась бы к Обеденному клубу совсем иначе, если бы прием происходил в величественной обстановке ее, миссис Плинт, гостиной; однако, не желая намекать на скудное убранство помещения, предоставленного миссис Беллингер, удовлетворилась тем, что попеняла последней за недостаток предусмотрительности.
— Я с самого начала говорила: нужно обдумать тему беседы. Так всегда случается, когда мы не готовы. Если бы мы почитали о Шингу…
Члены клуба всегда считались со свойственной миссис этот раз она превысила меру терпения миссис Беллингер.
— Шингу! — презрительно засмеялась она. — Да ведь именно то, что мы — при всей нашей неподготовленности — знали о Шингу во сто крат больше, чем она, и вывело ее из себя. По-моему, это всем ясно.
Такой ответ возымел свое действие даже на миссис Плинт, а Лора Глайд в порыве великодушия сказала:
— Мы, право, должны быть благодарны миссис Роуби, затронувшей эту тему. Пусть это вывело Озрик Дейн из себя, но и вынудило ее быть с нами вежливой.
— Мы сумели — чему я особенно рада — показать ей, — добавила мисс Ван-Влюк, — что широкая, современная образованность не является достоянием только больших культурных центров.
Это высказывание принесло членам клуба еще большее удовлетворение, и от приятной мысли, что они способствовали провалу Озрик Дейн, вызванный ею гнев стал понемногу утихать.
Мисс Ван-Влюк задумчиво протерла очки.
— Больше всего меня поразило, — продолжала она, — как превосходно миссис Роуби владеет Шингу.
Это замечание несколько охладило пыл собравшихся, но миссис Беллингер сумела подвести итоги.
— Миссис Роуби, — сказала она со снисходительной иронией, — всегда была мастерицей выкраивать многое из очень малого. Конечно, мы кое-чем ей обязаны: она вовремя вспомнила, что слышала о Шингу.
И члены клуба поняли: этой изящной репликой вопрос о том, обязаны ли они миссис Роуби или нет, раз и навсегда снят.
Даже миссис Леверет осмелилась пустить скромную ироническую стрелу:
— Вот уж, думаю, Озрик Дейн не ожидала, что в Хиллбридже ей преподадут урок Шингу.
Миссис Беллингер улыбнулась.
— Помните, она спросила меня, что мы собой представляем? Жаль, что я не ответила: мы представляем Шингу.
Дамы встретили этот всплеск остроумия одобрительным смехом — все, кроме миссис Плинт, которая, немного Подождав, сказала:
— Не уверена, что это было бы разумно.
Миссис Беллингер, которой уже казалось, что она и в самом деле сразила Озрик Дейн метким ответом, хотя он только что пришел ей в голову, повернулась к миссис Плинт и иронически спросила:
— А почему, позвольте узнать? Миссис Плинт помрачнела.
— Если я правильно поняла миссис Роуби, — сказала она, — дело идет об одном из тех предметов, в которые лучше не слишком углубляться.
Мисс Ван-Влгок сочла нужным уточнить:
— По-моему, в этом плане речь шла только об истоках этого… этой… — и она вдруг обнаружила, что ее обычно цепкая память ей изменила. — Впрочем, — закончила она, — этой части предмета мне не приходилось касаться.
— Мне тоже, — сказала миссис Беллингер.
Лора Глайд посмотрела на них широко раскрытыми глазами:
— И все же, кажется, именно эта часть — не так ли? — особенно полна скрытого очарования?
— Не вижу, на чем основывается ваш вывод, — возразила мисс Ван-Влюк, приглашая собравшихся открыть дискуссию.
— Ну как же! Разве вы не заметили, как Озрик Дейн вся превратилась в слух, как только было упомянуто, что сказал этот блестящий иностранец — он ведь иностранец? — который сообщил миссис Роуби об истоках этой… этого таинства… или как это еще назвать?
Миссис Плинт глядела неодобрительно, а миссис Беллингер явно колебалась. Наконец она сказала:
— Мне бы, пожалуй, не очень хотелось касаться этой части предмета в нашем разговоре; но, судя по тому, какое значение придает ему Озрик Дейн, думаю, мы можем, не опасаясь, обсудить его между собой — без околичностей, так сказать, но при закрытых, если понадобится, дверях.
— Полностью с вами согласна, — тотчас откликнулась мисс Ван-Влюк. — Но, разумеется, при условии, что мы будем избегать грубых выражений.
— О, мы, конечно, и без них во всем разберемся, — хихикнула миссис Леверет, а Лора Глайд многозначительно добавила:
— Полагаю, мы умеем читать между строк.
При этих словах миссис Беллингер встала, чтобы проверить, затворены ли плотно двери.
Но еще не высказала своего мнения миссис Плинт.
— Я не совсем понимаю, — начала она, — какую пользу можно извлечь, разбираясь в столь необычном ритуале?
Тут уж у миссис Беллингер окончательно лопнуло терпение.
— По крайней мере ту, — отрезала она, — что в следующий раз мы не окажемся в унизительном положении, внезапно обнаружив, что Фанни Роуби владеет одной из наших тем лучше нас самих.
Даже для миссис Плинт такой довод был окончательным. Она украдкой оглядела комнату и, несколько снизив свой начальственный тон, спросила:
— У вас найдется лишний экземпляр?
— Э-экземпляр? — запинаясь, переспросила миссис Беллингер.
Она видела, что все глаза выжидательно на нее устремились, и, понимая, что подобный ответ никого не удовлетворил, решила подкрепить его встречным вопросом:
— Экземпляр чего?
Дамы перевели выжидательный взгляд на миссис Плинт, которая, против обыкновения, не казалась сейчас уверенной в себе.
— Ну… этой… этой книги, — пояснила она.
— Какой книги? — спросила мисс Ван-Влюк, не уступая в резкости самой Озрик Дейн.
Миссис Беллингер посмотрела на Лору Глайд, Лора Глайд вперила вопросительный взгляд в миссис Леверет. Миссис Леверет, которой было крайне непривычно, что к ней прибегали, исполнилась бесшабашной смелости.
— Как какой! — воскликнула она. — Шингу, конечно! Воцарилась мертвая тишина: под сомнение ставилась полноценность библиотеки миссис Беллингер! И та, бросив нервный взгляд на свои Последние новинки, с достоинством сказала:
— Такую вещь не оставляют где попало.
— Еще бы! — воскликнула миссис Плинт.
— Значит, это все-таки книга, — резюмировала мисс Ван-Влюк.
Эта реплика снова привела общество в смятение, и миссис Беллингер, недовольно вздохнув, сказала:
— Ну, есть такая книга, разумеется.
— Тогда почему мисс Глайд назвала это религией?.
— Религией? Я? — взвилась мисс Глайд. — И не думала…
— Нет, называли, — упорствовала мисс Ван-Влюк. — Вы говорили о таинстве, а миссис Плинт — о ритуале.
Мисс Глайд, казалось, делала отчаянные усилия, пытаясь восстановить в памяти, что именно она сказала, но точность в деталях не относилась к числу ее сильных сторон. Наконец она глухо пробормотала:
— Да-да, что-то в таком роде разыгрывалось в Элевсинских мистериях…[233]
— О! — почти с укором произнесла мисс Ван-Влюк, а миссис Плинт запротестовала:
— Нет уж, пожалуйста, мы договорились не касаться ничего такого.
— Право, это из рук вон, — не сумела скрыть раздражения миссис Беллингер, — если мы не в состоянии спокойно обсудить такой вопрос в своем кругу. Лично я полагаю, что, если вообще браться за изучение Шингу…
— Я тоже, — вскричала Лора Глайд.
— А я не вижу, как можно от этого отказаться, если мы хотим идти в ногу с передовыми идеями…
Миссис Леверет с облегчением вздохнула.
— Ах… вот что это! — перебила она миссис Беллингер.
— Что это? — повернулась к ней глава клуба.
— Ну, что… это… это — идея, то есть философия, хотела я сказать.
Миссис Беллингер и Лора Глайд приняли такое решение вопроса с явным облегчением, но мисс Ван-Влюк возразила:
— Простите, но должна вам сказать — вы все ошибаетесь. Шингу, как это ни странно, язык.
— Язык? — ахнул Обеденный клуб.
— Да, язык. Неужели вы не помните, что Фанни Роуби говорила об ответвлениях, среди которых, сказала она, есть почти неизученные? А это может относиться только к диалектам.
Миссис Беллингер не могла сдержать презрительный смешок:
— Ну, знаете, если наш Обеденный клуб дошел до того, что прибегает к авторитету Фанни Роуби в такой теме, как Шингу, то лучше его вообще закрыть!
— Конечно, это ее вина — ей следовало выражаться яснее, — заметила Лора Глайд.
— Ясность — и Фанни Роуби! — пожала плечами миссис Беллингер. — Да у нее, позволю себе сказать, что ни слово, то ошибка.
— А не посмотреть ли нам эту Шингу в энциклопедии? — предложила миссис Плинт.
Как правило, в пылу дискуссии дамы оставляли этот совет, который так любила повторять миссис Плинт, без внимания, следуя ему позже — каждая в тиши собственного дома. Но в сложившихся обстоятельствах, желая объяснить сумбур в своих головах туманным и противоречивым характером изложения миссис Роуби, Обеденный клуб в полном составе потребовал справочник.
Вот тогда-то миссис Леверет и предъявила свой заветный сборник, и на мгновение ей довелось испытать непривычное чувство человека, находящегося в центре внимания, но, увы, долго ей в этом положении удержаться не удалось: в «Полезных изречениях» Шингу не значилась.
— Это совсем не то, что нам нужно, — воскликнула мисс Ван-Влюк и, окинув презрительным взором книжные богатства миссис Беллингер, сердито спросила: — Неужели у вас нет справочных изданий?
— Разумеется, есть, — ответила возмущенная миссис Беллингер. — Я держу их в гардеробной мужа.
Именно оттуда, не без затруднений и промедлений, горничная извлекла том энциклопедического словаря на Ш — Я и, принимая во внимание, что его затребовала мисс Ван-Влюк, положила сей объемистый фолиант перед ней.
Прошла минута напряженного ожидания, пока мисс Ван-Влюк протирала очки, водружала их на нос и наконец, открыв книгу на ШЫ, произнесла:
— Здесь этого нет.
По комнате прокатился испуганный гул. — Наверное, это такое слово, — сказала миссис Плинт, — которое нельзя поместить в словарь.
— Какие глупости! — вскричала миссис Беллингер. — Посмотрите на ШИ.
Мисс Ван-Влюк перелистала несколько страниц назад, водя по ним сверху вниз близорукими глазами, и вдруг остановилась, словно гончая, делающая стойку.
— Ну что, нашли? — спросила миссис Беллингер после продолжительной паузы.
— Да, нашла, — сказала мисс Ван-Влюк изменившимся голосом.
Миссис Плинт поспешила вмешаться:
— Умоляю, только не вслух, если там что-то оскорбительное.
Мисс Ван-Влюк продолжала молча изучать страницу.
— Так что же там? — взволнованно воскликнула Лора Глайд.
— Да скажите же нам! — взмолилась миссис Леверет, предчувствуя, что ей будет о чем рассказать сестре.
Мисс Ван-Влюк отложила в сторону раскрытый том и медленно повернулась к терзающимся ожиданием дамам.
— Это — река.
— Река?!
— Да, река. В Бразилии. Она ведь там и жила, не так ли?
— Кто? Фанни Роуби? Вы, наверно, ошиблись. Вы что-то не то прочли, — запротестовала миссис Беллингер, перегибаясь через мисс Ван-Влюк и пытаясь завладеть словарем.
— Другой Шингу в энциклопедии нет, а она как раз жила в Бразилии, — не сдавалась мисс Ван-Влюк.
— Да, ее брат служит там консулом, — вмешалась миссис Леверет.
— Что за вздор! Я… мы… мы же все помним, как изучали Шингу не то прошлой, не то позапрошлой зимой, — пролепетала миссис Беллингер.
— Мне тоже так показалось, когда вы об этом сказали, — кивнула Лора Глайд.
— Я? — вскричала миссис Беллингер.
— Да, вы. Вы заявили, что Шингу вытеснила у вас все остальное на задний план.
— А вы сказали, что Шингу послужила причиной к перемене всей вашей жизни.
— Ну, если на то пошло, мисс Ван-Влюк сказала, что не жалеет о времени, потраченном на такой предмет.
— Я, во всяком случае, — вмешалась миссис Плинт, — ясно дала понять, что ничего не знаю об оригинале.
Но тут миссис Беллингер положила конец препирательствам.
— О, какое это имеет значение, — простонала она. — Ведь она выставила нас дурами! И, конечно, мисс Ван-Влюк права: она все время говорила о реке!
— Как — о реке? Нет, это просто нелепо! — вскричала Лора Глайд.
— А вот послушайте, — и мисс Ван-Влюк, вернув себе энциклопедию, вновь водрузила на покрасневший от волнения нос очки. — «Шингу, одна из главных рек Бразилии, берет начало на плоскогорье Мату-Гросу[234] и течет на север на протяжении примерно 1118 миль, впадая в Амазонку вблизи устья последней. В верхнем течении Шингу богата золотоносным песком и имеет множество ответвлений. Истоки Шингу были впервые исследованы в 1884 году немецким путешественником фон ден Штайном,[235] совершившим трудный и опасный переход по территории, населенной племенами на первобытном уровне развития».
Дамы выслушали эти сведения в состоянии немого оцепенения, и первой из него вышла миссис Леверет:
— Ну да, она же говорила об ответвлениях.
Это слово, по-видимому, развеяло последнюю тень владевшего ими сомнения.
— И что Шингу очень длинная, — с трудом выдавила из себя миссис Беллингер.
— И что она очень глубокая, и что ни одно место нельзя проскочить и через них надо продираться, — добавила мисс Глайд.
Только в сознание миссис Плинт новая идея проникала медленно, преодолевая упорное сопротивление.
— Что же может быть неприличного в реке? — спросила она.
— Неприличного?
— Но она же сказала об истоках, что они непристойны.
— Не непристойны, а неприступны, — поправила Лора Глайд. — Так ей объяснил ее знакомый, который там побывал. Наверно, это тот самый путешественник — написано же, что переход был опасный.
— «Трудный и опасный», — процитировала мисс Ван-Влюк.
Миссис Беллингер сжала ладонями пульсирующие виски.
— Все, все, что она говорила — все, до последнего слова, — подходит к реке, к этой реке. — И она нервно обернулась к остальным членам клуба. — Помните, она сказала, что не прочла «Критический момент», потому что, когда, живя в гостях у брата, захватила книгу в лодку, кто-то швырнул ее за борт. Она именно так и выразилась — «швырнул».
Дамы, почти не дыша, безмолвно подтвердили, что от них не ускользнуло упомянутое выражение.
— А потом, говоря с Озрик Дейн, она сказала, что один из романов писательницы просто купается в Шингу. Разумеется, так оно и есть, если какой-то из расходившихся приятелей миссис Роуби бросил книгу в реку.
Восстановленная в памяти, эта удивительная сцена, в которой они только что участвовали, лишила членов Обеденного клуба дара речи. Наконец миссис Плинт, явно изо всех сил старавшаяся освоиться со случившимся, внушительным тоном произнесла:
— Озрик Дейн тоже попалась на ее удочку. Тогда и миссис Леверет воспряла духом:
— А может быть, она как раз для нее все это и разыграла. Она назвала ее мегерой — вот и решила разыграть.
— Вряд ли это стоило делать за наш счет, — хмуро возразила мисс Ван-Влюк.
— Во всяком случае, — сказала мисс Глайд не без горечи, — ей удалось заинтересовать нашу гостью, а мы и этого не сумели.
— А как мы могли это сделать? — спросила миссис Беллингер. — Миссис Роуби сразу же ею завладела. Вот это-то, поверьте, и было ее главной целью — создать у Озрик Дейн ложное впечатление о том, какое место она занимает в клубе. Она ни перед чем не остановится — лишь бы привлечь к себе внимание: мы же знаем, как попался к ней на крючок бедняжка Форленд.
— Она прямо-таки заставляет его устраивать по четвергам партии в бридж, — сообщила срывающимся голосом миссис Леверет.
— Позвольте, — всплеснула руками Лора Глайд. — Сегодня как раз четверг. Уж не к нему ли она пошла? Да еще увела с собой Озрик Дейн.
— И сейчас они там хохочут над нами, — процедила миссис Беллингер.
Это было уж слишком! Это не укладывалось в голове!
— Нет, она не посмеет сознаться Озрик Дейн, — сказала мисс Ван-Влюк, — что так ее дурачила.
— Не знаю, не знаю. По-моему, я видела, как, уходя, она сделала той знак. Иначе зачем бы Озрик Дейн помчалась за ней следом.
— Ну, видите ли, мы так на все лады превозносили перед ней Шингу, что ей, как она сказала, захотелось еще кое-что спросить, — заявила миссис Леверет из запоздалого чувства справедливости к отсутствующей.
Но ее напоминание не только не утишило гнев Обеденного клуба, а скорее подлило масла в огонь.
— О да… — иронически произнесла Лора Глайд, — и над этим они сейчас потешаются.
Тут миссис Плинт встала с места и, укутав свои монументальные формы в дорогие меха, произнесла:
— Я не имею намерения никого критиковать, но, пока Обеденный клуб не в состоянии защитить своих членов ст повторения подобных… подобных непристойных сцен, я лично…
— И я, — подхватила мисс Глайд, также вставая. Мисс Ван-Влюк закрыла энциклопедию и принялась застегивать пуговицы на жакете.
— Я, право, слишком дорожу своим временем… — начала она.
— Полагаю, мы все едины в своем мнении, — сказала миссис Беллингер, искательно глядя на миссис Леверет, которая ловила взгляды остальных дам.
— Мне всегда претило быть причастной к чему-либо напоминающему скандал… — вновь заговорила миссис Плинт.
— А по ее вине сегодня вышел скандал! — воскликнула мисс Глайд.
— Как она могла! — простонала миссис Леверет, а мисс Ван-Влюк, забирая свою записную книжку, сказала:
— Есть женщины, которые ни перед чем не останавливаются.
— …но если бы, — внушительно развивала свою мысль миссис Плинт, — что-либо подобное произошло в моем доме (судя по тону, это было исключено!), я сочла бы себя обязанной либо предложить миссис Роуби покинуть клуб, либо сама ушла со своего поста.
— О, миссис Плинт… — вырвалось у членов клуба.
— К счастью, — продолжала миссис Плинт с необычайным великодушием, — этот вопрос оказался вне моей компетенции, поскольку наша председательница считает, что право принимать у себя именитых гостей — одна из ее привилегий, полученных ею вместе с занимаемым постом. Думаю, члены клуба согласятся со мной, что коль скоро она одна придерживается такого мнения, то ей одной и надлежит решать, как наилучшим образом устранить те… те, скажем прямо, плачевные последствия, к которым оно привело.
Глубокая тишина воцарилась вслед за этим взрывом давно сдерживаемого гнева.
— Не вижу, право, на каком основании, — начала было миссис Беллингер, — мне следует просить миссис Роуби покинуть клуб…
Лора Глайд не преминула напомнить:
— Знаете ли, по ее подсказке вы заявили, что чувствуете себя в Шингу как рыба в воде.
Миссис Леверет, не сдержавшись, хихикнула, что было весьма неуместно, а миссис Беллингер решительно продолжала:
— …но не думайте, что я боюсь на это пойти. Двери гостиной закрылись за спинами удалявшихся членов Обеденного клуба, а председательница этого почтенного собрания, усевшись за письменный стол и отодвинув локтем мешавший ей экземпляр «Крыльев смерти», достала листок бумаги с гербом клуба и принялась за письмо. «Дорогая моя миссис Роуби…» — начала она.
ПОДРАЖАНИЕ ГОЛЬБЕЙНУ[236] Перевод Н. Рахмановой
I
У Энсона Уорли были задатки человека выдающегося, но проявлялись они лишь эпизодически, а в интервалах, которые все удлинялись, он оставался жалким убогим созданием, дрожащим от душевной пустоты и холода, хотя и прикрытым приятной и даже незаурядной оболочкой.
Он полностью отдавал себе отчет в двойственности своей натуры, хотя даже в тайниках сознания с презрением отказывался окрестить ее «раздвоением личности». И поскольку выдающийся муж в нем отлично умел сам о себе позаботиться, то внимание Уорли и было преимущественно направлено на то, чтобы пестовать дрожащую тварь, все чаще носившую его имя и все упорнее принимавшую приглашения, которыми тридцать с лишним лет без устали осыпал его Нью-Йорк. Именно в угоду этой одинокой, неугомонной, праздной личности Уорли в молодые годы посещал самые шикарные рестораны и самые дорогие отель-паласы обоих полушарий, выписывал самые передовые литературные и художественные журналы, покупал картины молодых художников, по поводу которых жарче всего спорили, посещал почти все самые нашумевшие премьеры Нью-Йорка, Лондона или Парижа, искал общества мужчин и женщин — в особенности женщин, — пользовавшихся наибольшей светской, скандальной или любой другой известностью, и таким образом пытался согреть в себе дрожащую тварь у каждого мимолетного костра удачи.
На первых порах, пока другое, жалкое существо предавалось развлечениям, главный Энсон Уорли оставался дома, в своей уютной квартирке, наедине с книгами и мыслями. Но постепенно — он сам не заметил, как и когда, — у него вошло в привычку выезжать в свет вместе с тем, другим, и под конец он сделал горькое открытие, что они с жалким существом стали нераздельны. И теперь лишь в редчайших случаях, стремясь уйти от всех непредвиденных случайностей, он подымался к горним истокам, питавшим его презрение. Вид оттуда открывался беспредельный и великолепный, воздух был обжигающе холодный, но бодрящий. Однако скоро ему стало казаться там чересчур уединенно, а подъем чересчур труден, тем более что меньшой Энсон не только отказывался следовать за ним, но еще и начал насмехаться — сперва едва заметно, потом все более откровенно — над его, видите ли, пристрастием к высотам. «И какой прок лезть туда? Я еще понимаю, ты бы приносил оттуда что-нибудь путное — собственноручно написанные стихи или картину. А так — карабкаться наверх и глазеть по сторонам — что это дает? Личность творческая, не спорю, должна время от времени бывать на своем Синае.[237] Но у простого наблюдателя вроде тебя это, право, смахивает на позу. Разглагольствуешь ты очень хорошо, даже блестяще (только без ложной скромности, любезный друг, прошу тебя, между нами это ни к чему!). Но кто, скажи на милость, будет тебя слушать там, наверху, среди ледников? И я замечаю, что потом, спустившись вниз, ты иногда бываешь… как бы это сказать… сонным, косноязычным. Берегись, чего доброго, нас перестанут приглашать! А сидеть все вечера дома… бр-р-р-р! Кстати, послушай, если у тебя на сегодня нет ничего интереснее, пойдем со мной к Крисси Торенс… или к Бобу Бриггсу… или к княгине Катиш. Словом, туда, где пир и веселье, куда подкатывают в роллс-ройсах, где шум, жара и толчея и надо немало так или иначе заплатить, чтобы попасть туда».
Пока еще, правду сказать, Уорли старался улизнуть от своего второго «я», удрать в какое-нибудь отдаленное и неуютное место, чтобы полюбоваться там церковью или картиной, или же запирался дома и запоем читал, а то, почувствовав отвращение к пошлости своего партнера, проводил вечер в обществе людей, по-настоящему что-то делающих или думающих. Это, однако, случалось теперь реже, чем прежде, и все более воровски, так что постепенно, чтобы провести два-три дня с приятелем, увлекающимся археологией, или вечер в обществе тихого книгочея, он стал разводить такие тайны, будто ускользал на любовное свидание. Что, вообще-то говоря, было честной заменой, коль скоро любовные свидания происходят нынче у всех на виду. Тем не менее, совершая эти эскапады, он испытывал чувство вины перед вторым Уорли, а если к тому же тайна выплывала наружу, то к чувству вины добавлялось ощущение скуки и беспокойства, не покидавшее его до конца приключения. И во время походов к вершинам его неотступно сверлила тревожная мысль — как бы не пропустить чего-нибудь там, где шум, жара и толчея. «Согласись, что все это умничанье сильно преувеличено», — внушал ему меньшой Уорли, перерывая ящики в поисках жемчужных запонок и так нервно поглядывая на плоские часы, которые носил в кармане вечернего костюма, как будто это было железнодорожное расписание. «А вдруг из-за твоих шатаний-метаний мы пропустим самое главное веселье…» — «Эх ты, бедняга ты этакий! Все боишься куда-то не попасть. Ладно, так и быть, побалую тебя, да и мне не мешает развлечься. Но подумать только — чтобы человек в здравом рассудке рвался куда-то лишь оттого, что там шум, жара и толчея!..»
И они стремглав мчались вместе…
II
Так было давным-давно. С той поры, когда существовали два Энсона Уорли, протекло много лет. Меньшой Уорли устранил главного, прикончив его незаметно, без кровопролития. И лишь немногие подозревали (но и тем это было уже безразлично), что бледный седовласый человек с изящной фигурой, иронической улыбкой и в безупречном фраке, которого Нью-Йорк без устали продолжает приглашать, не кто иной, как убийца.
Энсон Уорли, Энсон Уорли! Без него не обходился ни один званый вечер. За границу он больше не выезжал — одеревенели суставы, да и не раз покруживалась голова… Ничего особенного, пустяки, не стоило об этом говорить и даже не стоило задумываться, просто когда пригреешься к насиженному месту, как-то все меньше хочется покидать его, разве что съездишь в автомобиле на Лонг-Айленд на конец недели или летом в Ньюпорт[238] погостить то у одного, то у другого. Поездка в Хот-Спрингз[239] к горячим источникам, чтобы избавиться от ломоты в суставах, мало что дала, и стареющий Энсон Уорли (в остальном, право же, чувствовавший себя, как никогда, молодым) испытывал все больше отвращения к пестроте гостиничной жизни и однообразию гостиничной пищи.
Да, с возрастом он становился разборчивым. Это хорошо, думал он. Разборчивым не только в еде и жизненных удобствах, но и в людях. Видеть его у себя на обеде все еще оставалось привилегией, честью. Старые знакомые соблюдали ему верность, новые добивались его, но им далеко не всегда удавалось его заполучить. Чтобы достичь цели, им приходилось пускать в ход особые приманки: изысканную кухню, остроумную беседу или женскую красоту. Молодость и красота — да, это, пожалуй, решало дело. Ему нравилось сидеть и любоваться прелестным личиком и вызывать смех на прелестных губках. Но скучный обед… Нет, увольте, хоть корми его на золоте. Тут Уорли стоял на евоем так же твердо, как тот, другой, нелюдимый отшельник, с которым они… э-э-э… расстались — о, вполне дружелюбно — изрядное количество лет назад.
В целом жизнь после того, как они расстались, сделалась много легче и приятнее. И к шестидесяти трем годам меньшой Уорли преспокойно взирал на будущее в предвкушении нескончаемой череды нью-йоркских обедов.
Да, но только в лучших домах — исключительно в лучших! — это само собой подразумевалось. Лучшее общество, лучшая атмосфера, лучшие вина… Он слегка усмехнулся при мысли о своем неувядающем умении наслаждаться благами жизни, сказал «глупости, Филмор» преданному, но надоедливому слуге, который начал было намекать: мол, право, сэр, каждый вечер, да еще иногда танцы после обеда, не многовато ли, сэр, особливо без передышки, несколько месяцев кряду, вот и доктор…
— К черту докторов! — огрызнулся Уорли.
Он редко раздражался, зная, что выходить из себя глупо и только себе во вред, но уж очень надоел Филмор, все пристает, поучает его. Кому лучше знать, как не ему самому… А кроме того, он соглашается далеко не всегда, он придирчиво выбирает общество и считает, что лучше остаться дома, чем проскучать целый вечер. Филмор просто чепуху говорит, утверждая, будто бы он выезжает каждый божий день. Он ведь не то что престарелая миссис Джаспер.
Он самодовольно усмехнулся, вызвав в памяти ее дряхлый образ. «Нашел с кем сравнивать», — хихикнул он про себя. При этом сопоставлении, от которого он так выигрывал, к нему вернулось хорошее расположение духа.
Бедная старушенция, бедная Эвелина Джаспер! Во времена его молодости, да и зрелости, она была главной в Нью-Йорке по части званых обедов, «хозяйка номер один» — называли ее газеты. Ее большой особняк на 5-й авеню представлял собой увеселительную машину. Только ради званых вечеров она жила, дышала и снова и снова помещала капитал. Сначала она устраивала свои приемы под тем предлогом, что ей надо выдать замуж дочерей и развлечь сыновей. Но, когда сыновья женились, а дочери повыходили замуж, она этого словно и не заметила: так и продолжала принимать гостей. Сотни, нет, тысячи обедов (на золоте, разумеется, с орхидеями и деликатесами не по сезону) прошли в этой громадной, богатой столовой, которую ничего не стоило, закрыв глаза, усилием воображения превратить в железнодорожный буфет для миллионеров на крупной станции до изобретения вагонов-ресторанов.
Уорли так и сделал: прикрыл глаза и вообразил себе это превращение. Забавы ради он пустился в подсчеты годового числа гостей, седел барашков, бараньих ног, черепах, нырков, бутылок шампанского и пирамид из парниковых фруктов, прошедших через эту комнату за последние сорок лет.
Даже и сейчас — разве не сказала ему на днях одна из племянниц старой Эвелины, одновременно подтрунивая над нею и ужасаясь своего признания, что старая дама, угасающая от размягчения мозга, все еще мнит себя первой хозяйкой Нью-Йорка, все еще рассылает приглашения (которые, конечно, не доставляют по адресу), все еще заказывает черепаховое филе, шампанское и орхидеи и всякий вечер в диадеме, криво сидящей поверх иссиня-черного парика, спускается в большие, уставленные мебелью в чехлах гостиные, чтобы принимать вереницы воображаемых гостей?
Вздор, разумеется, макаберные шутки сумасбродной Нелли Пирс, всегда любившей подтрунивать над своей тетушкой… Однако Уорли не удержался от улыбки, представив себе, как скучные, однообразные обеды все еще продолжают происходить в затуманенном сознании Эвелины. «Бедная старуха!» — подумал он. А ведь по-своему она права. Зачем, спрашивается, и в самом деле прекращаться этому устоявшемуся типу развлечения? Действо это совершалось настолько на один лад, настолько никогда не менялось, что не так уж трудно вообразить, как в усталом мозгу хозяйки все обеды, которые она дала за свою жизнь, слились в одну гигантскую пирамиду яств и напитков, а одни и те же сонные лица, неизменно одни и те же, склоняются над теми же золотыми приборами.
Энсон Уорли, слава тебе господи, никогда не измерял жизненные ценности массой и объемом. Уже много лет он не обедал у миссис Джаспер. Он и сам сознавал, что вел себя в этом отношении не вполне безупречно. В прошлом он, бывало, не раз и не два принимал ее приглашение (всегда присылавшееся за несколько недель), а потом в самую последнюю минуту отказывался ради чего-то более занимательного. В конце концов, чтобы избежать подобных ситуаций, он взял себе за правило тут же отвечать ей отказом. Он даже, помнится, как-то раз удачно пошутил, когда ему передали, что миссис Джаспер не понимает, в чем дело… немного обижена… не верит, чтобы и вправду он всегда был уже приглашен в другое место в день ее приемов… «Ах, не верит? Она хочет правды? Хорошо же! В следующий раз ответом на „Миссис Джаспер просит оказать ей честь…“ будет „Мистер Уорли отказывается от чести скучать“. Уж это она поймет, а?» Его фразу в том сезоне сразу же подхватили в их узком кругу: «Мистер Уорли отказывается от чести скучать», — отлично, просто превосходно. «Любезный Энсон, надеюсь, вы не откажетесь от чести поскучать у нас в следующее воскресенье на ленче и познакомиться с неким индийским йогом?», или с саксофонистом, или с гениальным юным мулатом, исполняющим негритянские спиричуэлс на зубной щетке, и так далее, и тому подобное. Он, правда, надеялся, что до бедной старой Эвелины его «мо» не дошло…
— И не подумаю оставаться дома, с какой стати? Болен я, по-вашему, что ли? — он резко повернулся лицом к Филмору. — Что вы такое во мне узрели?
Длинная физиономия лакея вытянулась еще больше. Она всегда вытягивалась, когда он слышал подобные вопросы, — это был единственный способ придать ей какое-то выражение. Затем он удалился в спальню, а Уорли остался сидеть у камина в библиотеке… один… Интересно бы знать, что такого увидел в нем Филмор сегодня? Утром, когда он совершал свою обычную прогулку вокруг Парка (а этим нынче и ограничивался его моцион!), у него и в самом деле появилось ощущение тумана в голове, но ощущение было мимолетным, и Филмор ничего не мог об этом знать. К тому же, едва состояние это прошло, голова у него словно сделалась еще яснее и глаза зорче обычного. Так бывает, размышлял он, с электрическим светом: читаешь у себя в библиотеке, и вдруг лампочки, на мгновение потухнув, вспыхивают особенно ярко, и, моргнув от ослепительной вспышки, говоришь себе: «Значит, сейчас опять погаснут».
Да, мозг его в тот миг заработал с пронзительной четкостью, глаза с обновленной остротой охватили весь пейзаж, до мелочей. С минуту он постоял неподвижно под обнаженными деревьями аллеи, оглядывая все вокруг, и с внезапной умудренностью, какую дает только старость, вдруг понял, что достиг возраста, когда Альпы и соборы начинают казаться столь же преходящими, как и цветы. Все куда-то помчалось, понеслось… Да, от этого у него и закружилась голова. Доктора, дурачье несчастное, приписывают это желудку или высокому давлению, но это просто головокружительное осыпание песка в песочных часах, бесконечное падение, от которого возникает пустота в сердце и животе, как бывает в кабине лифта, быстро спускающейся с верхнего этажа небоскреба.
Правда, после такого озарения он весь день чувствовал непривычную усталость, свет в его мозгу по временам тускнел, как в лампах библиотеки. У Крисси Торенс, где он был на ленче, его упрекнули в молчаливости, хозяйка заметила, что он бледен, но он тут же парировал шуткой и с лихорадочной словоохотливостью окунулся в общий разговор. А что он еще мог сделать — не оповещать же всех за столом, что нынче утром он достиг того поворота тропы, откуда горы кажутся столь же преходящими, что и цветы, и все присутствующие один за другим доберутся туда же.
Он откинул голову на спинку кресла и прикрыл глаза, но не для того, чтобы уснуть. Спать ему не хотелось, напротив, он чувствовал себя бодрым, возбужденным. Он слышал, как в соседней комнате Филмор с недовольным ворчанием выкладывает на постель его фрак.
…Сегодняшнего обеда опасаться было нечего: тихий вечер у старого знакомого в тесном кругу. Две-три близкие души, пианист Эльфман (который, возможно, будет играть) и очаровательная Фрида Флайт. То, что его пригласили на обед специально, чтобы познакомить с Фридой Флайт, довольно убедительно доказывало, что он еще не вышел из игры. Мрачные опасения Филмора его насмешили. «Что делать, наверное, никто не кажется молодым своему лакею… Пора одеваться», — подумал он. Но позволил себе роскошь еще некоторое время не вставать с кресла.
III
— Что-то она сегодня хуже всегдашнего, — пожаловалась дневная сиделка пришедшей сменить ее ночной. Она отложила в сторону газету. — Подавай ей драгоценности, и все тут.
Ночная сиделка, успевшая выспаться и сходить во второй половине дня в кино со своим кавалером, кинула на столик модную сумочку, сняла и бросила туда же шляпку и взбила волосы перед высоким туалетным зеркалом миссис Джаспер.
— Не волнуйтесь, я с ней справлюсь, — бойко сказала она.
— Только вы уж не раздражайте ее, мисс Кресс, — первая сиделка с усталым видом поднялась с кресла. — Что ни говори, мы тут неплохо устроены, и мне совсем ни к чему, чтобы у нее ни с того ни с сего давление подскочило.
Мисс Кресс, продолжавшая глядеться в зеркало, ободряюще улыбнулась бледному отражению стоявшей позади нее мисс Дан. Они с ней отлично ладили, обе не упускали из виду своих интересов. Но мисс Дан к концу рабочего дня выдыхалась, и ее одолевали всякие опасения.
На самом деле с больной не так уж и трудно управляться — пускай себе вызывает горничную, старую Лавинию, и говорит: «Приготовьте на вечер сапфировое бархатное платье и бриллиантовые звезды», а уж Лавиния умеет с ней обращаться.
Мисс Дан уже надела пальто и шляпку и засунула вязанье и газету в сумку, объемистую и обшарпанную, в отличие от модной сумочки мисс Кресс, но все еще медлила и нерешительно топталась у двери.
— Я бы, конечно, могла посидеть тут с вами до десяти…
С выражением, близким к отвращению, она оглядела большую, высокую туалетную (в доме все было высоким), дорогой темный ковер и занавеси, монументальный туалет, накрытый кружевной накидкой, заставленный флаконами с золотыми пробками, золотыми щетками и гребенками и всевозможными очаровательными вещицами — спутниками дамской красоты, выстроившимися вдоль зеркала. Старая Лавиния по-прежнему ставила каждое утро розы и гвоздики в узкие хрустальные вазы между пудреницами и замшевыми подушечками для полировки ногтей. Мисс Кресс подозревала даже, что с тех пор, как семейство закрыло оранжереи в загородном поместье на Гудзоне, где никто не жил, старая горничная платит за цветы из своего кармана.
— Холодно на улице? — осведомилась мисс Дан уже в дверях.
— Жуть… На перекрестках ветер с ног валит. Постойте, может, одолжить вам мое боа? — Мисс Кресс, довольная проведенным днем (по ее мнению, дело шло к помолвке) и убаюкивающей перспективой провести вечер в глубоком кресле у мерцающего камина, от которого исходило тепло, не прочь была проявить добросердечие по отношению к мисс Дан, — несчастная, заморенная, да еще содержит мать и двух слабоумных близнецов — детей брата. Кроме того, ей хотелось, чтобы мисс Дан обратила внимание на ее новый мех.
— Ой, какая прелесть! Нет, нет, ни за что, спасибо, — и, взявшись за ручку двери, мисс Дан повторила: — Уж вы ее не сердите.
И исчезла.
Дважды бешено прозвенел звонок, вызывающий Лавинию, затем дверь в туалетную отворилась и из спальни появилась сама миссис Джаспер.
— Лавиния! — позвала она раздраженным, пронзительным голосом, но, увидев сиделку, которая уже надела халатик и накрахмаленную косынку, добавила более спокойным тоном: — Ах, мисс Лемуан, добрый вечер. — Ее первую сиделку, очевидно, звали мисс Лемуан, и теперь она называла так всех последующих, совершенно не замечая, что в штате ее происходят изменения. — Я услышала голоса, стук экипажей. Уже начали съезжаться гости? — с тревогой спросила она. — Где Лавиния? Она так и не принесла мне драгоценностей.
Она стояла перед сиделкой, — каждый раз, когда это страшное видение появлялось в этот час перед мисс Кресс, оно производило на сиделку настолько ошеломляющее впечатление, что та лишалась дара речи. Миссис Джаспер была высокого роста, в свое время она была крупной женщиной, и костяк ее по-прежнему оставался величественным, но плоть, покрывавшая его, ссохлась. Лавиния, как всегда, облачила ее в лиловое бархатное, с глубоким вырезом платье со старомодными защипками на талии, пышными складками на бедрах и длинным шлейфом, тянущимся по более темному бархату ковра. Распухшие ноги миссис Джаспер уже не втискивались в атласные туфли на высоких каблуках, полагавшиеся к этому платью, но длинная и широкая юбка (если делать коротенькие шажки) полностью скрывала, как каждодневно заверяла ее Лавиния, широкие тупые носки черных ортопедических башмаков.
— Драгоценности, миссис Джаспер? Так они же на вас, — бодрым тоном возразила мисс Кресс.
Миссис Джаспер обернула к сиделке багровонарумяненное лицо й уставилась на нее остекленелым недоверчивым взором. «Хуже всего у нее глаза», — подумала мисс Кресс… Миссис Джаспер поднесла старую, в венах и узлах, похожую на физическую карту, руку к своему замысловатому иссиня-черному парику и принялась ощупывать завитки и пушистые волны («Занятно, — подумала мисс Кресс, — ей в голову никогда не приходит поглядеть в зеркало»). Провозившись какое-то время, она заявила:
— Вы, должно быть, ошиблись, милочка. Не надо ли вам показаться глазному врачу?
Дверь снова отворилась, и, прихрамывая, бочком, вошла очень старая женщина, такая старая, что на ее фоне миссис Джаспер выглядела чуть ли не молодой.
— Прошу прощения, мадам, я была внизу, когда вы позвонили.
Лавиния, вероятно, и всегда небольшая и хрупкая, сейчас, рядом с величественно возвышавшейся госпожой, казалась перышком, соломинкой. Все в ней высохло, съежилось, испарилось, улетучилось, сохранились только внимательно наблюдавшие, горевшие, словно две неподвижные звезды, глаза, которые светились умом и пониманием.
— Прошу прощения, мадам, — повторила она. Миссис Джаспер бросила на нее отчаянный взгляд.
— Я слышу, уже подъезжают кареты. Вот мисс Лемуан утверждает, будто драгоценности на мне, но я же знаю, что их нет.
— Такое колье прелестное! — воскликнула мисс Кресс. Подагрическая рука снова поднялась кверху, на этот раз к обнаженным плечам, таким же голым и бесплодным, как каменная порода, из которой эта рука казалась высеченной. Миссис Джаспер ощупывала их и ощупывала, и слезы выступили у нее на глазах.
— Зачем вы мне лжете? — гневно воскликнула она.
— Мадам, мисс Лемуан хотела сказать, — мягко вмешалась Лавиния, — что вы будете прелестно выглядеть в колье.
— Бриллианты, мои бриллианты, — повторила миссис Джаспер с жуткой улыбкой.
— Сейчас, мадам.
Миссис Джаспер села за туалет, и Лавиния неверными движениями рук с усердием принялась оправлять венецианские кружева на плечах госпожи и улаживать беспорядок, произведенный в иссиня-черном парике его обладательницей, когда та искала диадему.
— Вот теперь вы и в самом деле выглядите прелестно, мадам, — вздохнула она.
Миссис Джаспер опять поднялась во весь рост, она держалась напряженно, но была на удивление полна энергии. («Живучая, как кошка», — рассказывала обычно Кресс.)
— Кажется, подъезжают экипажи. Или это автомобили? По-моему, у Магроузов есть эта новомодная штука. Я слышу, парадная дверь открывается. Живо, Лавиния! Веер, перчатки, носовой платок… Сколько раз вам повторять. Когда-то у меня была образцовая горничная.
Глаза Лавинии наполнились слезами.
— Это была я, мадам, — она нагнулась, расправляя складки длинного лилового бархатного трена. («Гляди на этих двух — и никакого цирка не надо», — делилась мисс Кресс с кружком сочувствующих слушателей.)
Миссис Джаспер не слушала Лавинию. Она выдернула шлейф из ее слабых рук, поплыла к двери и там вдруг застыла, как будто ее рывком остановили сократившиеся мышцы.
— Да, а мои бриллианты, где бриллианты? Вы меня замучили! По вашей милости я должна выходить к гостям без бриллиантов!
Ее уродливое лицо все сморщилось в плаксивой гримасе, как у новорожденного, и она принялась отчаянно рыдать.
— Все… все… против меня… — жаловалась она, всхлипывая в бессильном горе.
Лавиния, опираясь об пол, с трудом поднялась на ноги и заковыляла к двери. Просто невыносимо было видеть страдания госпожи.
— Мадам, мадам, пожалуйста, подождите, пока их вынут из сейфа, — молила она.
Женщина, которая стояла перед ней, которую она умоляла и успокаивала, была не старая окаменелая миссис Джаспер с багрово-нарумяненным лицом и сбившимся на сторону париком, на которую с ухмылкой взирала мисс Кресс, а молодое гордое создание, властное, великолепное, в парижском муаровом платье янтарного цвета; однажды она вот так же разразилась негодующими рыданиями, когда ей, величественно плывшей вниз по лестнице навстречу своим гостям, доктор сообщил, что у маленькой Грейс, с которой она играла днем, дифтерит и в дом не должен войти ни один посторонний. «Все против меня… все…» — негодующе рыдала она, и молодая тогда Лавиния, потрясенная столь олимпийским проявлением гнева, стояла онемев, не зная, как утешить ее, и втайне досадуя на маленькую Грейс и доктора.
— Если бы вы подождали, мадам, я только спущусь вниз и попрошу Мансона открыть сейф. Гости еще не приехали, уверяю вас.
Старый дворецкий Мансон был единственным, кто знал шифр сейфа, стоявшего в спальне миссис Джаспер. Лавиния раньше тоже знала его, но сейчас не могла удержать в памяти. Больше всего она опасалась, что Мансон, гостивший сегодня в Бронксе, до сих пор не вернулся. Мансон тоже состарился и подчас забывал про нынешние званые обеды миссис Джаспер, и тогда гостей объявлял бестолковый лакей Джордж. А что, если миссис Джаспер заметит отсутствие Мансона, и это ее разволнует и рассердит. Эти званые вечера убивали Лавинию, а ей так хотелось жить; ей хотелось прожить ровно столько, сколько понадобится, чтобы до последнего ухаживать за миссис Джаспер.
Она исчезла, и мисс Кресс, помешивая кочергой в камине, стала уговаривать миссис Джаспер сесть в кресло и рассказать, кто сегодня ожидается. Миссис Джаспер доставляло удовольствие перечислять длинный список гостей; обычно она довольно твердо помнила всех, тем более что они всегда были одни и те же, — последние, по словам Лавинии и Мансона, гости, которые обедали в доме накануне той ночи, когда у нее случился удар. И в самом деле, хорошее расположение духа тут же вернулось к ней, и она начала перебирать их одного за другим, считая по пальцам, унизанным кольцами: итальянский посол, епископ, мистер и миссис Торингтон Блай, мистер и миссис Фред Эймсуорт, мистер и миссис Митчел Магроу, мистер и миссис Торингтон Блай. («Вы их уже упоминали», — вставила мисс Кресс, вынимая вязанье и начиная считать петли, она вязала галстук своему дружку.) Огорченная, сбитая с толку этой поправкой, миссис Джаспер несколько раз повторила «Торингтон Блай, Торингтон Блай», только тогда связь восстановилась, и дальше пошло уже как по маслу: «Мистер и миссис Фред Эймсуорт, мистер и миссис Митчел Магроу, мисс Лора Лэдью, мистер Гарольд Лэдью, мистер и миссис Бенджамин Бронкс, мистер и миссис Торингтон Бл… то есть нет, мистер Энсон Уорли. Да, именно так, мистер Энсон Уорли», — удовлетворенно заключила она.
Мисс Кресс улыбнулась и прервала свое занятие.
— Нет, не так.
— Не так? Что вы хотите этим сказать, милочка?
— Что мистера Энсона Уорли не будет.
Челюсть у миссис Джаспер отвисла, она во все глаза смотрела на холодно улыбавшееся лицо сиделки.
— Не будет?
— Нет, не будет, его нет в списке.
Ох уж этот список! Мисс Кресс его назубок знает! Все в доме успели выучить его назубок, кроме этого олуха Джорджа. Почитай, каждый вечер слышит, как его отбарабанивает Мансон, а вечно спотыкается на именах и заглядывает в бумажку.
— Нет в списке? — с удивлением переспросила миссис Джаспер.
Мисс Кресс покачала хорошенькой головкой.
На лице миссис Джаспер отразилось беспокойство, губы задрожали. Мисс Кресс нравилось устраивать ей такие вот легкие встряски, хотя она знала, что мисс Дан и доктора ее не одобряют. Она знала также, что вести себя подобным образом не в ее интересах, и старалась не забывать неоднократного предостережения мисс Дан и не подстегивать давление у больной. Но, когда настроение у нее бывало приподнятое, как, например, сегодня (теперь-то они точно обручатся), не могла она устоять перед искушением раздразнить старуху. И, кроме того, ее развеселила неизвестно откуда взявшаяся новая личность среди давнишних гостей. («Интересно, как посмотрит на него остальная компания», — хихикнула она про себя.)
— Нет, в списке его нет, — объявила после глубокого размышления миссис Джаспер, которая уже обрела обычный самоуверенный вид.
— А я вам что говорю, — огрызнулась мисс Кресс. — Его нет в списке, но он обещал мне сегодня быть.
Вчера я его видела, — с таинственным видом продолжала миссис Джаспер.
— Видели? Где это? Та на минуту задумалась.
— На балу у Эймсуортов.
— Вот как, — отозвалась мисс Кресс, поежившись; она-то знала, что миссис Эймсуорт умерла, она дружила с медицинской сестрой, нанятой поддерживать посредством уколов и тока высокой частоты жизнь в разбитом параличом бессловесном и неподвижном мистере Эймсуорте.
— Странно, что-то вы раньше его не приглашали, — заметила она.
— Да, я уже давно его не приглашала. Вероятно, он почувствовал, что я его забросила, и вчера подошел ко мне и сказал, что очень сожалеет, но он не мог посетить меня раньше. Оказывается, бедняжка болел. Все-таки годы берут свое. Я, разумеется, пригласила его. Он очень обрадовался.
Миссис Джаспер торжествующе улыбнулась, вспомнив об этой небольшой победе. Но мисс Кресс слушала уже невнимательно, как и всегда, когда пациентка становилась послушной и разумной. «Куда подевалась Лавиния? — раздумывала она. — Поспорю, что старуха не может найти Мансона». Мисс Кресс встала и, перейдя комнату, заглянула в спальню миссис Джаспер, где стоял сейф.
Глазам ее предстало удивительное зрелище! Как она и ожидала, Мансона в помине не было, зато Лавиния, стоя на коленях перед сейфом, сама открывала его, неуверенно поворачивая дрожащей рукой загадочный диск.
— Вот как, а я думала, вы забыли комбинацию! — воскликнула мисс Кресс.
Лавиния испуганно оглянулась.
— Я и забыла, мисс. Но мне, слава богу, удалось вспомнить. Пришлось, что же делать — Мансон запамятовал про обед.
— Да-а-а? — недоверчиво протянула сиделка. («Старая лиса, — подумала она, — а еще притворялась, будто не помнит».)
Откуда было мисс Кресс знать, что чудеса случаются и в наше время.
Радуясь, дрожа от волнения, проливая слезы благодарности, старушка поднялась на ноги, прижимая к груди бриллиантовые звезды, колье из солитеров, диадему, серьги. Она разложила драгоценности рядышком на. выстланном бархатом подносе, на котором их всю жизнь переносили из сейфа в туалетную. Затем непослушными пальцами ухитрилась опять запереть сейф и положила ключи на место в ящик, а тем временем мисс Кресс не отрывала от нее глаз. «Сдается, старая карга вовсе не такая ветхая, как прикидывается», — мысленно заключила она, когда Лавиния пронесла мимо нее драгоценности в туалетную, где миссис Джаспер, предаваясь приятным воспоминаниям, все еще бормотала: «…итальянский посол, епископ, Торингтон Блай, мистер и миссис Митчел Магроу, мистер и миссис Эймсуорт…»
В те вечера, когда устраивались званые обеды, миссис Джаспер разрешалось спускаться вниз одной, так как для нее было бы унизительно выходить к гостям в сопровождении горничной или сиделки. Но мисс Кресс и Лавиния всегда наблюдали за ней, перегнувшись через перила, пока она спускалась по лестнице, чтобы удостовериться, что все сошло благополучно.
— Она по-прежнему очаровательна во всех своих драгоценностях, — вздохнула Лавиния, когда изукрашенный камнями парик и лиловый бархат исчезли за последним лестничным поворотом; подслеповатые глаза ее затуманились воспоминаниями. Мисс Кресс пожала плечами и, вернувшись к камину, снова взялась за вязанье, а Лавиния приступила к медленному ритуалу уборки комнаты своей госпожи; Снизу до них доносился громогласный монолог Джорджа: «…мистер и миссис Торингтон Блай, мистер и миссис Митчел Магроу… мистер Лэдью, мисс Лора Лэдью…»
IV
Энсон Уорли, всегда гордившийся своим уравновешенным характером, в тот вечер испытывал какое-то возбуждение. Однако некоторая взвинченность не испугала его (хотя эскулапы и твердят вечно о необходимости соблюдать спокойствие), — он знал, что она проистекает из сегодняшней необычайной ясности сознания. В сущности, он давно не чувствовал себя так хорошо: мозг его работал четко, и он воспринимал окружающее с такой обостренностью, что буквально слышал мысли, проносившиеся в голове его лакея, который по ту сторону двери с неохотой приготовлял ему для выхода фрак.
Упрямство лакея насмешило его. «Расскажу-ка я сегодня вечером про то, как Филмор считает, что я больше не гожусь для светской жизни», — подумал он. Ему всегда было приятно услышать в ответ опровергающий смех своих младших друзей, которым они встречали всякий намек на его так называемую дряхлость: «Это вы-то? Ну и вздор!» Он и сам тоже так думал.
Но, переодеваясь в спальне, он при виде Филмора опять вдруг вышел из себя.
— Нет, не эти запонки, будь они прокляты! Черные, ониксовые, сто раз вам говорить, что ли? Потеряны, я полагаю? Наверное, опять сдали в стирку вместе с рубашкой? Так ведь?
Он раздраженно засмеялся и, усевшись за туалетный столик, начал короткими сердитыми взмахами зачесывать назад волосы.
— А главное, — выкрикнул он внезапно, — нечего стоять и пялиться на меня с таким видом, будто вы только и ждете, когда вызывать гробовщика!
— Гро?.. Что вы, сэр! — с ужасом произнес Филмор.
— Проклятье, вы к тому же и оглохли? Кто сказал «гробовщика»? Я говорю «такси», не слышите, что ли?
— Вы хотите, чтобы я вызвал такси, сэр?
— Нет, не хочу, и я вам об этом уже сказал. Я пойду пешком.
Уорли поправил галстук, встал и дал надеть на себя фрак.
— Страшно холодно, сэр, разрешите, я все-таки вызову такси.
Уорли коротко рассмеялся.
— Признайтесь, на самом деле вы хотите, чтобы я позвонил и сказал, что не смогу приехать на обед. А вы мне сделаете яичницу, не так ли?
— Как было бы чудесно, сэр, если бы вы остались. И яйца дома есть.
— Пальто! — отрывисто бросил Уорли.
— Тогда позвольте я вызову такси, сэр, пожалуйста. Уорли сунул руки в рукава пальто, похлопал себя по груди, желая удостовериться, что часы (плоские, вечерние) и бумажник на месте, обернулся к столику, чтобы попрыскать лавандой носовой платок, после чего быстрым шагом, держась очень прямо, направился к выходу.
Потерпевший фиаско Филмор забежал вперед, нажал кнопку лифта и, пока лифт тарахтел вверх по глубокой шахте, повторил:
— Страшно холодный вечер, сэр, вы и так сегодня уже нагулялись.
Уорли смерил его презрительным взглядом.
— Смею думать, потому я и чувствую себя таким бодрым, — отчеканил он, входя в кабину.
Холод на улице был и в самом деле зверский. Когда он вышел из жарко натопленного помещения, ледяной воздух ударил его в грудь, так что пришлось помедлить на ступенях и перевести дух. «Филмор не тем занялся: ему бы стать сиделкой при паралитике, — подумал он. — С удовольствием возил бы меня в кресле…»
После первого неприятного ощущения пронизывающий колод показался ему бодрящим, и он зашагал быстрее, чуть-чуть приволакивая одну ногу. (Массажист обещал, что эта затрудненность скоро пройдет.) Да, решительно, такому молодцу, как он, впору иметь лакея помоложе, во всяком случае — пожизнерадостнее. Сегодня он чувствовал себя и впрямь молодцом. Заворачивая на 5-ю авеню, он подумал, что хорошо было бы встретить кого-нибудь из знакомых, кто потом сказал бы в клубе: «Уорли? Как же, встретил его на днях — бежал вприпрыжку по Пятой авеню, точно мальчишка, а было, кстати, четыре-пять ниже нуля»… Ему требовалось противоядие против мрачности Филмора. «Всегда окружайте себя молодыми людьми», — размышлял он дорогой. При этом мысли его обратились к Фриде Флайт, рядом с которой ему вскоре предстояло сидеть в теплой, весело освещенной столовой… У кого?.. Где?..
Вот так, внезапно, это и случилось — провал в памяти. Он резко остановился, как будто под ногами у него вдруг разверзлась бездна. Куда, черт возьми, он идет обедать? К кому? Проклятье! Но ведь так не бывает: крепкий, здоровый человек не застывает ни с того ни с сего посреди улицы и не задает себе вопрос: к кому он идет обедать?..
«В здравом уме и твердой памяти». Старая юридическая формула совершенно неожиданно всплыла в мозгу. Меньше чем две минуты назад он полностью отвечал этой характеристике, а теперь что можно про него сказать? Он приложил руку ко лбу, голова его лопалась; он приподнял шляпу, чтобы охладить горевший лоб. Даже странно, как он разгорячился от ходьбы. Все оттого, что он летел как на пожар. В будущем надо не забывать, что спешить вредно. Черт побери, вот и еще что-то надо не забывать!.. Но, в конце концов, из-за чего он так разволновался? У стареющих людей всегда случаются такие секундные провалы в памяти, он не раз замечал это за своими сверстниками. Бодрости и живости ему, конечно, не занимать, но нелепо было бы думать, что его минуют обычные людские напасти…
Так где он сегодня обедает? Постойте-ка, где-то дальше по Пятой авеню, в этом он совершенно уверен. С прелестной… прелестной… нет, лучше пока не делать лишних усилий, надо успокоиться и брести себе потихоньку дальше. Когда он доберется до нужной улицы, он сразу ее узнает, и тогда все встанет на свои места. Теперь он шел неторопливым шагом, стараясь выбросить из головы все мысли. «Главное, — сказал он себе, — перестать волноваться».
В попытке обуздать свою нервозность он постарался думать о чем-нибудь повеселее. «Отклоняет честь скучать…» Пожалуй, сегодня можно пустить в ход эту шутку. «Миссис Джаспер просит оказать честь — мистер Уорли отклоняет честь скучать». А что, недурно. И, кажется, в том доме ее еще не слыхали. Черт побери, как же все-таки их фамилия? Тех, к кому он направляется обедать?..
«Миссис Джаспер просит оказать честь…» Бедная старая миссис Джаспер… У него снова мелькнула мысль, что в прежние времена он не всегда поступал с ней вежливо. Когда тебя рвут на части, простительно иногда и отказаться в последнюю минуту от скучного обеда. Но все равно, с возрастом начинаешь понимать, как такое ненамеренное пренебрежение может причинить обиду, даже боль. А не в его правилах причинять другим боль… Пожалуй, не грех было бы как-нибудь навестить миссис Джаспер днем. То-то она удивится! Или позвонить старушенции и напроситься без церемоний на обед! Ну, поскучает он вечер, от него не убудет, зато она как обрадуется! Да, решено… Когда он доживет до ее возраста, можно себе представить, как ему будет приятно, если кто-то, еще не вышедший в тираж, вдруг позвонит ему и скажет…
Он остановился и медленно, с недоумением поднял глаза на выросший перед ним длинный, залитый светом фасад. Странное совпадение — джасперовский дом. И все окна освещены — видимо, предстоит обед. И что еще более странно — ив этом есть нечто сверхъестественное, — вот он стоит перед дверью, и в эту минуту часы бьют четверть девятого. Ну, разумеется… теперь-то он. ясно помнит: именно здесь, у миссис Джаспер, он и обедает сегодня… Эти легкие провалы в памяти никогда не длятся больше одной-двух секунд. Как он был прав, что запретил себе волноваться по этому поводу. Он нажал пальцем звонок.
«О, боже, — подумал он, когда двустворчатая дверь распахнулась, — какое блаженство попасть с холода в тепло».
V
Звонок в парадную, раздавшийся в торжественной тишине дома, обеим женщинам, находившимся наверху, показался таким громким, как будто позвонили в соседней комнате.
Мисс Кресс в изумлении подняла голову, а Лавиния со стуком уронила вставную челюсть миссис Джаспер (вторую, более удобную) на мраморный умывальник. Она поспешно проковыляла по комнате и вышла на лестничную площадку. Мансон отсутствовал, а с Джорджем ничего нельзя было предугадать: он мог и перепутать все на свете…
Мисс Кресс вышла тоже.
— Кто там? — прошептала она возбужденно.
Они услышали, как на большой мраморный стол легли шляпа и трость, потом раздался громовой голос Джорджа:
— Мистер Энсон Уорли.
— Он тут, тут! Мне его видно — джентльмен во фраке, — зашептала мисс Кресс, перегибаясь через перила.
— Боже милосердный, помилуй меня! И Мансона нет! Ох, как быть, как быть? — Лавиния так сильно дрожала, что ей пришлось ухватиться за перила, чтобы не упасть.
«Эта еще почище больна, чем хозяйка», — со свойственной ей холодной трезвостью подумала мисс Кресс.
— Что нам делать, мисс Кресс? Олух Джордж, он уже провел его внутрь. Ну можно ли представить себе такое?
Мисс Кресс знала, какие картины проносились сейчас в голове у Лавинии: при виде незваного гостя у миссис Джаспер ручается второй удар; мистер Энсон Уорли лицезрит ее во всей ее беспомощности и унижении; созываются все родные, они врываются в дом, восклицают, пристают с расспросами, ужасаются, негодуют… И все из-за того, что у старика Мансона память слабеет — как и у госпожи, как и у Лавинии, — и он забыл, что на сегодня назначен один из ее званых обедов. Горе какое!
Слезы бежали у Лавинии по щекам, мисс Кресс знала, что она думает: «Если дочери госпожи уволят его, а они непременно его уволят, куда он денется — старый, глухой, и вся-то родня у него перемерла. Только бы ему продержаться, пока она жива, и получить пенсию…»
Лавиния, как всегда, овладела собой гигантским усилием воли.
— Мисс Кресс, мы сию минуту спускаемся вниз, сию же минуту! Иначе произойдет что-то ужасное…
Она заковыляла к небольшому, обитому изнутри бархатом лифту в углу площадки.
Мисс Кресс сжалилась над ней.
— Пошли, — сказала она, — но только ничего ужасного не произойдет, вот увидите.
— Спасибо вам, мисс Кресс. А потрясение — страшное потрясение, когда она увидит чужого джентльмена?
— Глупости, — мисс Кресс засмеялась, входя в лифт. — Он вовсе не чужой. И она его ждет.
— Ждет? Ждет мистера Уорли?
— Можете мне поверить. Она сама мне сейчас сказала. Говорит, вчера его пригласила.
— Да что вы такое придумываете, мисс Кресс? Пригласила? Каким образом? Вы же знаете, ни писать, ни звонить по телефону она не может.
— Ну, а она говорит, что видела его вчера, на балу.
— О, господи, — прошептала Лавиния, прижимая к глазам ладони.
— Да, на балу у Эймсуортов — так она сказала, — продолжала мисс Кресс, испытывая ту же дрожь сладостного ужаса, как и во время признания миссис Джаспер.
— У Эймсуортов? Не может быть, — Лавиния тоже содрогнулась. Она опустила руки и вышла вслед за мисс Кресс из лифта. Выражение ее лица перестало быть таким страдальческим, и сиделка терялась в догадках — по какой причине. В действительности же Лавиния размышляла с какой-то сумрачной отрадой: «Раз ей стало вдруг так плохо, значит, бедная моя госпожа умрет раньше меня, и уж я позабочусь, чтобы ее как следует убрать и одеть, и ничьи руки, кроме Лавиньиных, не дотронутся до нее».
— Вот увидите, раз она его ждала, как говорит, значит, никакого потрясения не будет. Но ему-то откуда известно, что она его ждала? — дрожь охватила мисс Кресс с новой силой.
Сиделка последовала за Лавинией неслышными шагами по коридору в буфетную, оттуда обе прокрались в столовую и притаились там на дальнем конце за высокой эбеновой ширмой, чтобы сквозь щели заглядывать в пустую комнату.
Длинный стол был накрыт, как по настоянию миссис Джаспер его всегда накрывали в таких случаях. Но, поскольку старый Мансон не явился, тарелки с позолотой (на которых также настаивала госпожа) отсутствовали, а по всей длине стола, к ужасу Лавинии, Джордж расставил грубые синие с белым, взятые из помещения для прислуги. Электрические бра были зажжены, в севрских канделябрах горели свечи[240] — хоть это было в порядке. Но про цветы в большой фарфоровой низкой вазе «Роз Дюбарри»[241] в центре стола и в вазах поменьше из того же сервиза — про цветы, о, позор! — было забыто! Цветы были ненастоящие — семья давно уже упразднила эту статью расхода, и немудрено, ибо миссис Джаспер признавала лишь орхидеи. Но Грейс, младшая дочь, которая была подобрее прочих, нашла мудрый выход — заказать три красивейших букета из искусственных орхидей и папоротника. Их надо было только взять с полки в буфетной и поставить в вазы, но, естественно, бестолковый лакей забыл это сделать или не знал, где их искать. И — о, ужас! — слишком поздно заметив свою оплошность и. без сомнения, желая умилостивить Лавинию, он взял несколько старых газет, скомкал, думая, очевидно, что в таком виде они сойдут за букеты, и сунул по одной в бесценные вазы «Роз Дюбарри». Лавиния вцепилась в руку мисс Кресс.
— Ох, посмотрите, что он наделал! Я умру со стыда… Ох, мисс, а что, если все-таки проскользнуть в гостиную и попробовать уговорить мою бедную госпожу вернуться наверх, пока она ничего не заметила?
Мисс Кресс, как раз прильнувшая к щели, с трудом подавила смех. Ибо в эту минуту половинки двери распахнулись, в столовую шаркающей походкой вошел Джордж в мешковатой ливрее, унаследованной от какого-то давно усопшего предшественника более внушительного телосложения, и провозгласил громовым монотонным голосом:
— Обед подан, мадам.
— Ох, теперь поздно, — простонала Лавиния.
Мисс Кресс сделала ей знак соблюдать тишину, и зрительницы приникли каждая к своей щели.
И вот вдалеке, в конце анфилады гостиных, они увидели, как, выдержав паузу, в течение которой (как знала Лавиния) должны были войти в столовую вереницей воображаемые гости и занять свои места, в хвосте этого призрачного кортежа появилась очень старая, но все еще высокая и величественная женщина, опиравшаяся на руку мужчины пониже ее ростом, с худощавой прямой фигурой, в безупречном фраке; на его багровом лице застыла улыбка, он продвигался вперед короткими, размеренными шажками, пользуясь (по наблюдению мисс Кресс) как опорой рукой, для которой должен был служить поддержкой.
«Ну и ну!» — прокомментировала про себя сиделка.
Пара приближалась, неподвижно улыбаясь, уставившись прямо перед собой. Они не поворачивали друг к другу головы, не разговаривали. Все их внимание было сосредоточено на грандиозной, почти невыполнимой задаче — достичь места в середине длинного стола, напротив большой вазы «Роз Дюбарри», где Джордж уже отодвинул позолоченное кресло для миссис Джаспер. Наконец они добрались туда, миссис Джаспер уселась и махнула мистеру Уорли своей каменной десницей.
— Справа от меня.
Он сделал коротенький поклон, точно кукла на шарнирах, и с крайней осторожностью опустился на свой стул. На лбу его выступила испарина, и мисс Кресс заметила, что он достал платок и украдкой вытер лоб. Затем он с некоторым трудом повернул голову к хозяйке.
— Прекрасные цветы, — выговорил он совершенно серьезно, с какой-то особой внятностью, поведя рукой в сторону скомканной газеты в севрской вазе.
Миссис Джаспер приняла комплимент совершенно невозмутимо.
— Очень рада… орхидеи… из Хай-Лоун… каждое утро… — жеманно пробормотала она.
— И-зу-мительно, — похвалил мистер Уорли.
— Я всегда говорю епископу… продолжала миссис Джаспер.
— Да… естественно, — горячо поддержал ее мистер Уорли.
— Не то чтобы я считала…
— Да… еще бы!
Джордж показался из буфетной, неся голубое фаянсовое блюдо с картофельным пюре. Он обнес всех воображаемых гостей по порядку и под конец предложил миссис Джаспер и ее соседу справа.
Они опасливо положили себе пюре, и миссис Джаспер бросила мистеру Уорли игривую улыбку:
— Еще месяц — и никаких устриц!
— Да… абсолютно!
Джордж с бутылкой минеральной, обернутой салфеткой, предлагал гостям по очереди:
— Перье-жуэ,[242] девяносто пятого.
«Наслушался, как повторяет Мансон», — подумала мисс Кресс.
— Черт побери, разве что глоток, — промямлил мистер Уорли.
— За старые времена, — шутливо произнесла миссис Джаспер, и оба, повернувшись друг к другу, наклонили головы и чокнулись.
— А я вот часто говорю миссис Эймсуорт, — опять начала миссис Джаспер, кивая через стол в сторону воображаемой визави.
— Да… да!.. — одобрительно буркнул мистер Уорли. Снова появился Джордж и медленно обошел стол с блюдом шпината. После шпината по бокалам еще раз была разлита минеральная, на сей раз сошедшая поочередно за шато-лафит семьдесят четвертого года, а затем за старую мадеру Ньюболда. Каждый раз, как Джордж приближал бутылку к бокалу, мистер Уорли притворно заслонял его рукой, а потом с улыбкой покорялся:
— Двум смертям не бывать… — с улыбкой повторял он, и миссис Джаспер хихикала.
Наконец подали блюдо с виноградом из Малаги и яблоками. Жесты миссис Джаспер явно делались все более замедленными; она все с большим трудом кивала на шутки мистера Уорли и, положив себе на тарелку кисть винограда, отщипнула всего две-три виноградины.
— Устала, — вдруг прохныкала она, как ребенок. Она поднялась, опираясь на ручки кресла и перегибаясь через стол, как бы желая привлечь внимание невидимой дамы (очевидно, миссис Эймсуорт), сидящей напротив. Мистер Уорли тоже поднялся и теперь стоял, опершись о стол одной рукой, в несколько развязной позе. Миссис Джаспер сделала ему знак сесть.
— Составите нам компанию — после сигар, — она повелительно улыбнулась.
Мистер Уорли, сосредоточив все свои усилия, поклонился ей, а она проследовала к дверям, которые уже распахнул перед ней Джордж. Медленно и величественно лиловый бархатный трен скрылся в глубине анфилады освещенных комнат, и за миссис Джаспер закрылись последние двери.
— Ну уж теперь-то она, надо думать, довольна! — со смешком сказала мисс Кресс, подхватывая Лавинию под руку, чтобы отвести ее в вестибюль. Но Лавиния так рыдала, что не смогла ответить.
VI
Энсон Уорли обнаружил, что снова стоит в вестибюле и надевает свое пальто на меху. Он вдруг вспомнил ощущение, возникшее у него в столовой, — что в комнатах слишком жарко натоплено, а все гости разговаривают очень громко и неумеренно смеются.
«Впрочем, разговоры весьма интересны, ничего не скажешь», — вынужден был он признать.
Всовывая руки в рукава шубы (легко ли после перьежуэ!), он вспомнил, как сказал кому-то (возможно, старому дворецкому): «Удираю пораньше — пора дальше бежать. Приглашен еще в один дом». При этом он подумал, что стоит ему выйти на свежий воздух — и он непременно вспомнит, в какой именно дом его приглашали. Слуга, неуклюжий, как видно, малый, долго возился с запорами на дверях. «А Филмор-то считал, что мне вообще не следует обедать сегодня в гостях… Осел несчастный! Что бы он сказал, если бы знал, что я бегу дальше, еще в одно место?»
Дверь отворилась, и мистер Уорли, испытывая небывалый подъем и безмерное чувство ликования, вышел из дома и глубоко затянулся ночным воздухом. Двери за ним захлопнулись, послышался звук запираемых запоров, а он продолжал стоять неподвижно на пороге, раздувая грудную клетку и впивая ледяные глотки.
«Наверное, это уже один из последних домов, где подают перье-жуэ девяносто пятого, — подумал он. И потом — В жизни не слыхал разговоров интереснее…»
Он снова удовлетворенно улыбнулся, вспомнив о вине и остроумной беседе. Затем сделал шаг вперед, туда, где только что был тротуар — и где сейчас была пустота.
РИМСКАЯ ЛИХОРАДКА[243] Перевод Л. Поляковой
Встав из-за столика, за которым они завтракали, две уже не первой молодости, но хорошо сохранившиеся холеные американки прошли по террасе расположенного наверху римского ресторана и, облокотясь на перила, взглянули с одинаково рассеянным, хотя и благожелательным одобрением сначала друг на друга, потом вниз, на распростертые перед ними во всем великолепии Палатин[244] и Форум.[245]
«Ну пошли, пошли скорее! — долетел до них в это мгновение с лестницы, которая вела во внутренний двор, задорный девический голос, взывавший не к ним, а к незримой спутнице. — И пусть себе наши барышни на здоровье вяжут!» — «Но почему же вяжут, Бэбс, это ты чересчур», — рассмеялся в ответ такой же звонкий голосок. «Я ведь не буквально, — отозвалась первая. — Мы-то не даем нашим родителям опекать нас, что же им, бедненьким, остается…» — но тут поворот лестницы заглушил продолжение разговора.
Дамы снова переглянулись, на этот раз чуть сконфуженно улыбаясь, и та, что была миниатюрнее и бледнее, слегка покраснев, покачала головой.
— Барбара! — прошептала она с запоздалой укоризной вслед насмешливому голосу на лестнице.
Вторая дама, более пышная и яркая, с решительным носиком и ему под стать черными густыми бровями, добродушно рассмеялась:
— Вот что думают о нас наши дочери!
Ее собеседница сделала рукой протестующий жест.
— Не о нас, как таковых. Об этом не следует забывать. Просто сейчас так принято думать о матерях. И как видишь… — Чуть ли не с виноватым видом она вынула из элегантной черной сумочки моток малинового шелка, проткнутый двумя тонкими спицами. — Всякое бывает, — пробормотала она. — При нынешнем положении вещей столько свободного времени, что не знаешь, куда его и девать; а мне иногда надоедает просто смотреть… даже на это. — И она жестом указала на величественную панораму внизу.
Смуглая дама опять рассмеялась. И обе они снова обратились к открывающемуся виду и молча погрузились в созерцание, исполненные той же безмятежности, что и по-весеннему лучезарное римское небо. Время завтрака давно истекло, и тот угол просторной террасы, где находились дамы, был всецело предоставлен им. На противоположном конце несколько туристов, заглядевшись на распростертый перед ними город, прятали в сумки путеводители, искали мелочь для чаевых. Наконец и они разбрелись, и дамы оказались вдвоем на овеваемой ветерком террасе.
— А почему бы нам не остаться прямо здесь? — сказала миссис Слейд, дама с ярким румянцем и энергичными бровями. Поблизости стояли два отставленных в сторону плетеных кресла; подтолкнув их в угол, к перилам, она уселась в одно из них, по-прежнему не сводя глаз с Палатина. — В общем, это все же самый прекрасный на свете вид.
— Для меня он таким останется навсегда, — согласилась с ней ее приятельница миссис Энсли, так незаметно сделав ударение на «для меня», что миссис Слейд, хоть и расслышала, но решила, что скорей всего это случайность, — что-то наподобие старомодной манеры авторов писем почему-то подчеркивать отдельные слова.
«Грейс Энсли всегда была старомодна», — подумала она, а вслух с улыбкой, обращенной к прошлому, сказала:
— Этот вид знаком нам с очень давних времен. Когда мы с тобой впервые здесь встретились, мы были моложе, чем сейчас наши дочери. Помнишь?
— О да, я помню, — пробормотала с тем же неуловимым ударением миссис Энсли и, оборвав себя, добавила — Вон метрдотель смотрит на нас и недоумевает.
Она явно была менее уверена в себе, в своих правах, чем ее приятельница.
— Сейчас он перестанет у меня недоумевать, — сказала миссис Слейд, протягивая руку к такой же скромной, но безусловно дорогой сумочке, что и у миссис Энсли.
Подозвав метрдотеля, она объяснила ему, что они с приятельницей — давние поклонницы Рима и им хотелось бы провести остаток дня, любуясь сверху этим видом, — разумеется, если это не помешает персоналу. Склонясь над протянутой ему мздой, метрдотель заверил ее, что им всегда рады, тем более если они соблаговолят остаться обедать. Нынче полнолуние, им этот вечер запомнится…
Черные брови миссис Слейд нахмурились, словно упоминание о луне было неуместным, даже нежелательным. Но как только метрдотель отошел, она, улыбнувшись, разогнала набежавшее облако.
— Почему бы и нет? Здесь вполне сносно. Думаю, трудно предугадать, когда девочки вернутся. Знаешь ли ты по крайней мере, откуда они вернутся? Я так нет.
Миссис Энсли снова слегка покраснела.
— По-моему, те молодые итальянские авиаторы, с которыми мы познакомились в посольстве, пригласили их слетать с ними в Тарквинию[246] выпить чаю. Вероятно, им захочется подождать и лететь назад при лунном свете.
— Лунный свет… лунный свет. Какое ему до сих пор придают значение! Ты считаешь, они так же сентиментальны, как были мы?
— Я пришла к выводу, что совсем не знаю, какие они, — сказала миссис Энсли. — Да, пожалуй, и друг о друге мы знали с тобой немногим больше.
— Да, пожалуй.
Миссис Энсли робко на нее посмотрела.
— Вот уж никак не думала, что ты была сентиментальна, Элида.
— Пожалуй что, не была.
Миссис Слейд прищурилась, вглядываясь в прошлое, и несколько мгновений обе дамы, знакомые с детства, размышляли о том, как плохо они, в сущности, друг друга знают. У каждой, разумеется, заготовлена была этикетка, чтобы в случае надобности прикрепить к имени другой; миссис Делфин Слейд, например, сказала бы себе — как, впрочем, и всякому, кто спросил бы ее, — что двадцать пять лет назад миссис Хорас Энсли была неповторимо очаровательна, — в это сейчас трудно поверить, правда?.. хотя, безусловно, она по-прежнему мила, изысканна… Ну так в юности она была неповторима; намного красивее, чем ее дочь Барбара, хотя по теперешним меркам Бэбс, конечно, гораздо эффектнее, — в ней, как говорится, больше пикантности. Странно только, откуда это у нее при таких пресных родителях? Да, Хорас Энсли был… ну, скажем, вторым изданием своей жены. Музейный экспонат старого Нью-Йорка. Приятной наружности, безупречный, примерного поведения. Миссис Слейд и миссис Энсли прожили долгие годы — в прямом и переносном смысле — на противоположных сторонах. Когда на окнах гостиной в доме номер двадцать на Восточной 73-й улице обновлялись портьеры, в доме номер двадцать три, через дорогу, об этом знали. И обо всех перестановках, покупках, путешествиях, семейных торжествах, заболеваниях тоже — всю скудную хронику достойной супружеской пары. Редко что ускользало от внимания миссис Слейд. Но мало-помалу ей это все приелось. И к тому времени, когда ее муж преуспел на Уолл-стрит и они приобрели себе дом в аристократической части Парк-авеню,[247] она уже начинала подумывать: «Да лучше разнообразия ради жить напротив подпольного салуна, по крайней мере есть возможность увидеть, как туда нагрянет полиция». Мысль о возможности увидеть, как полиция нагрянет к Грейс Энсли, показалась ей настолько забавной, что она не преминула обнародовать ее (до своего переезда) на дамском завтраке. Острота произвела фурор и обошла всех знакомых — временами миссис Слейд хотелось знать, перебралась ли она через улицу и долетела ли до миссис Энсли. Это было ни к чему, но, в общем, миссис Слейд ничего не имела против. В те дни респектабельность была не в чести, а этим безупречным только на пользу, если над ними посмеются.
Несколько лет спустя, на протяжении каких-нибудь двух-трех месяцев, обе дамы овдовели. Последовал соответствующий обмен венками, соболезнованиями и кратковременное возобновление дружбы в полутени траура; и вот теперь, после еще одного перерыва, они встретились в Риме, где обе случайно оказались в той же гостинице в качестве скромного приложения к расцветающим дочерям. Сходство судеб сблизило их на время снова, послужив поводом для безобидных шуток и взаимных признаний, — что, мол, если раньше, когда надо было всюду «успевать» за дочерьми, наверное, приходилось трудно, то теперь, когда в этом отпала надобность, бывает порядком скучно.
Безусловно, рассуждала про себя миссис Слейд, она куда острее, чем бедняжка Грейс, ощущает свою ненужность. Сделаться из жены Делфина Слейда его вдовой равносильно полному краху. Когда-то она (не без супружеской гордости) считала, что по части светских талантов не уступает мужу и не меньше чем он способствовала их превращению в столь незаурядную пару, но его смерть все непоправимо изменила. На жену крупного юриста, который вел одновременно не меньше двух-трех дел международного масштаба, каждый новый день налагал ряд неожиданных и увлекательных обязанностей: принимать экспромтом его выдающихся коллег из-за границы, срываться с места в связи с участием мужа в процессах и лететь в Париж, Лондон, Рим, где их в свою очередеь прекрасно принимали; а до чего приятно было слышать у себя за спиной: «Как, эта интересная женщина, прекрасно одетая, с прекрасными глазами, миссис Слейд — жена того самого Слейда? Обычно жены знаменитостей — безвкусные мегеры».
Да, очень тоскливо потом оказаться вдовой «того самого» Слейда. Чтобы быть достойной такого мужа, приходилось напрягать все способности, а теперь ей некого быть достойной, кроме дочери, поскольку сын, унаследовавший, судя по всему, одаренность отца, внезапно умер в отрочестве. Если она не сошла с ума от отчаяния, то потому, что рядом был муж, которому надо было помочь и который помогал ей. После смерти отца мысль о мальчике стала непереносима. Единственное, что ей оставалось, — это опекать дочь, но ее милая Дженни была идеальной дочерью и в чрезмерной опеке не нуждалась. «Вот будь я матерью Бэбс, вряд ли я спала бы так спокойно», — думала иногда не без зависти миссис Слейд; но Дженни, которая была младше своей блестящей подружки, являлась редким исключением: ее молодость и красота — а она была прехорошенькой — казались почему-то такими же неопасными, как и их отсутствие. Это иногда ставило в тупик… и отчасти раздражало миссис Слейд. Лучше бы уж Дженни влюбилась, пусть даже в кого-нибудь неподходящего, — и тогда понадобилось бы охранять ее, стараться перехитрить, насильно спасать. А вместо этого Дженни охраняла свою маму от сквозняков и проверяла, приняла ли она вовремя лекарство.
Миссис Энсли не отличалась таким красноречием, как ее приятельница, и потому психологический портрет миссис Слейд был менее обстоятелен, написан более легкими штрихами: «Элида Слейд блестяща, но не так блестяща, как ей кажется», — подвела бы она итог, однако сразу же добавила бы для сведения тех, кто не знал, что в юности миссис Слейд пользовалась «бешеным» успехом, куда большим, чем ее дочь, которая красива, конечно, и по-своему умна, но ей бы хоть немножко материнского, ну что ли, «темперамента», как кто-то в свое время назвал это. Миссис Энсли охотно подхватывала такого рода словечки и приводила их, взяв в кавычки, как неслыханную вольность. Нет, Дженни ничем не напоминала свою мать. Иногда миссис Энсли казалось, что Элида Слейд этим разочарована. В общем, невеселая была у нее жизнь, полная ошибок и неудач. Миссис Энсли всегда склонна была жалеть ее…
Так, смотря не с того конца в свой крошечный телескоп, дамы представляли себе друг друга.
Они долго сидели рядом, не говоря ни слова, как будто, отказавшись на время перед лицом этого гигантского Memento Mori[248] от своих более или менее бесплодных усилий, отдыхали душой. Миссис Слейд сидела совершенно неподвижно, устремив взгляд на золотящийся Дворец цезарей;[249] вскоре и миссис Энсли оставила в покое свою сумочку и молча погрузилась в задумчивость. Как и многим близким приятельницам, им никогда не случалось, оставаясь вдвоем, молчать, и миссис Энсли была несколько смущена этой наступившей после стольких лег новой фазой их близости и пока не совсем понимала, как себя при этом вести.
Внезапно воздух огласился густым звоном колоколов, который время от времени покрывает Рим гулким серебряным куполом. Миссис Слейд взглянула на свои часики.
— Уже пять часов, — сказала она, как бы удивившись.
— В посольстве в пять часов начинается бридж, — произнесла вопросительным тоном миссис Энсли.
Миссис Слейд долго не отвечала — была, как видно, поглощена своими мыслями, и миссис Энсли решила, что она не расслышала ее слов. Но немного погодя она, словно очнувшись, сказала:
— Бридж, говоришь? Только если тебе очень хочется. А меня, знаешь, что-то не тянет.
— Да нет, я вовсе не жажду, — поспешила заверить ее миссис Энсли. — Здесь так чудесно, и, как ты говоришь, столько встает воспоминаний.
Она села глубже в кресло и чуть ли не украдкой взялась за спицы. Миссис Слейд невольно подметила этот маневр, но ее собственные холеные руки лежали на коленях все так же неподвижно.
— А я вот думала о том, — сказала она медленно, — какие разные вещи знаменует Рим для каждого поколения путешественников. Для наших бабушек это римская лихорадка, для наших матерей — романические опасности— как нас стерегли! — для наших дочерей не больше опасностей, чем в центре Нью-Йорка. Им этого не понять, но сколько они от этого потеряли!
Так долго сиявший золотыми лучами день начал меркнуть, и миссис Энсли поднесла вязанье чуть ближе к глазам.
— Да, как нас стерегли!
— Я всегда считала, — продолжала миссис Слейд, — что нашим матерям куда хуже пришлось, чем нашим бабушкам. Когда по улицам города незримо рыскала римская лихорадка, наверное, не составляло большого труда в опасные часы загнать девочек в дом. Но когда мы с тобой были молоды, и со всех сторон нас манила эта красота, и в нас уже зародился дух неповиновения, и в худшем случае нам грозило всего лишь простудиться в прохладные часы после заката, — нашим матерям нелегко было держать нас на привязи, правда?
Она снова повернулась к миссис Энсли, но у той наступил в вязании ответственный момент:
— Одна, две, три… две снимаем… да, вероятно, — согласилась она, не поднимая глаз.
Устремленный на нее взгляд миссис Слейд стал более пристальным: «И она способна перед лицом всего этого вязать! Как это на нее похоже…»
Занятая своими мыслями, миссис Слейд откинулась на спинку кресла, скользя взглядом по руинам, находившимся прямо напротив, по вытянутой зеленой впадине Форума, по догоравшим за ним в предзакатных отблесках фасадам церквей и по отдаленной громаде Колизея.[250] Вдруг она подумала: «Хорошо, конечно, рассуждать о том, что наши дочери покончили с сентиментами и лунным светом. Но если Бэбс Энсли не отправилась ловить молодого авиатора… того, который маркиз… тогда я ничего в этом не понимаю. И у моей Дженни рядом с ней нет никаких шансов. Это я тоже понимаю. Интересно, не потому ли Грейс Энсли любит, чтобы девочки всюду бывали вместе. Моя бедняжечка Дженни служит выигрышным фоном…»
Миссис Слейд еле слышно рассмеялась, миссис Энсли тем не менее от неожиданности выпустила из рук вязанье.
— Что?..
— Да нет, я так. Просто я подумала, что перед твоей Бэбс никто не может устоять. Этот юный Камполиери — один из самых завидных женихов Рима. Не смотри на меня с таким невинным видом, моя дорогая… ты прекрасно это знаешь. И я вот не могу понять при всем моем, разумеется, уважении к тебе и к Хорасу… не могу понять, каким образом двум столь примерным родителям удалось произвести на свет этакий магнит.
Миссис Слейд снова рассмеялась, — не без язвительности.
Руки миссис Энсли с перекрещенными спицами бездействовали. Она смотрела прямо перед собой на это грандиозное скопление обломков былых страстей и величия. Но ее миниатюрный профиль был почти лишен выражения. Наконец она сказала:
— По-моему, ты переоцениваешь Бэбс, моя дорогая.
— Нет, нисколько; просто я отдаю ей должное, — ответила миссис Слейд уже более приятным тоном. — И, возможно, завидую тебе. О, у меня идеальная дочь, и, будь я беспомощной калекой, я бы… да, вероятно, я бы предпочла попасть в руки к Дженни. Все может быть… и все же… Я всегда мечтала иметь блестящую дочь и никогда не могла понять, почему вместо этого мне достался ангел.
Миссис Энсли тихо рассмеялась вслед за своей приятельницей.
— Бэбс тоже ангел.
— Конечно, конечно! Но крылья у нее переливают всеми цветами радуги. Итак, они бродят по берегу моря со своими молодыми людьми, а мы вот сидим… От этого что-то слишком уж остро воскресает прошлое.
Миссис Энсли снова принялась вязать. Можно было бы вообразить (если не знать ее так хорошо), подумала миссис Слейд, что и в ней при виде удлиняющихся теней этих царственных руин пробуждаются воспоминания. Но какое там! Она просто поглощена своим вязаньем. Да и о чем ей тревожиться? Она знает, что Бэбс почти наверняка возвратится уже невестой этого чрезвычайно подходящего Камполиери. «И она продаст свой дом и обоснуется неподалеку от них в Риме и никогда не будет им в тягость… она слишком тактична. Но у нее будет и первоклассный повар, и всегда самое изысканное общество на бридже с коктейлями… и безмятежная старость среди внучат».
Миссис Слейд с чувством глубокого отвращения к себе прервала этот пророческий полет фантазии. К кому, к кому, а к Грейс Энсли она не вправе быть недоброжелательной. Неужели она так никогда и не перестанет ей завидовать? Слишком давно это, наверное, началось. Встав, она облокотилась на перила, пытаясь усладить свои взволнованные глаза умиротворяющим волшебством предвечернего часа. Но умиротворение не наступило; казалось, то, что она увидела, ожесточило ее еще больше. Взгляд ее обратился к Колизею. Его золотой бок тонул уже в лиловом сумраке, а над ним, без единого луча, без единой краски, изгибалось прозрачное, как стекло, небо. Был тот миг, когда день и вечер медлят на небесах, прежде чем сменить друг друга.
Миссис Слейд повернулась к своей приятельнице и положила ей на плечо руку. Жест был настолько резким, что миссис Энсли, вздрогнув, подняла глаза.
— Солнце село, ты не боишься, моя дорогая?
— Боюсь?
— Схватить римскую лихорадку, воспаление легких. Помнишь, как ты болела в ту зиму? В юности ты ведь очень легко простужалась.
— Ну здесь-то наверху нам ничего не грозит — внизу, в Форуме, там в самом деле мгновенно становится безумно холодно… но не здесь.
— Тебе, конечно, лучше знать, ты должна была так беречься. — Миссис Слейд снова повернулась лицом к перилам. Она подумала: «Я должна сделать еще одну попытку перестать ее ненавидеть». Вслух она сказала: — Всякий раз. когда я смотрю отсюда на Форум, мне вспоминается история твоей… двоюродной бабки, если не ошибаюсь? Злодейки бабки?
— Как же, двоюродной бабушки Хэрриет. Той, что будто бы послала свою младшую сестру после заката в Форум нарвать ей для альбома ночных цветов. У всех наших родных и двоюродных бабушек всегда были альбомы с засушенными цветами.
Миссис Слейд кивнула.
— Но на самом деле она послала ее туда потому, что обе они влюбились в одного и того же…
— Да, таково семейное предание. Ходили слухи, что бабушка Хэрриет много лет спустя покаялась. Как бы то ни было, ее бедная сестренка схватила лихорадку и умерла. Когда мы были маленькими, мама часто рассказывала нам эту историю, чтобы запугать нас.
— А ты пыталась запугать ею меня в ту зиму, когда мы приехали сюда уже барышнями. В ту зиму, когда я стала невестой Делфина.
Миссис Энсли приглушенно рассмеялась.
— Вот как? И мне удалось? Не верю, что тебя можно легко запугать.
— Не часто, но тогда можно было. Меня легко было запугать, оттого что я была бесконечно счастлива. Знаешь ли ты, что это значит?
— Я… да, пожалуй, — ответила, запнувшись, миссис Энсли.
— Ну, видно, поэтому история твоей злодейки бабки произвела на меня такое впечатление. И я подумала: «С римской лихорадкой покончено, но в Форуме после заката страшно холодно, особенно если день был жаркий. А в Колизее еще более холодно и сыро».
— В Колизее?
— Да, туда нелегко было проникнуть после того, как ворота запирались на ночь. Очень нелегко. И все же в то время иногда это удавалось, даже часто удавалось. Там встречались влюбленные, которым больше негде было. Ты об этом знала?
— Я… пожалуй. Не помню.
— Не помнишь? Не помнишь, как однажды вечером ты отправилась осматривать какие-то руины, когда уже стемнело, и сильно простудилась? Кажется, тебе захотелось полюбоваться восходом луны. Многие считали, что из-за этой прогулки ты и заболела.
Несколько секунд длилось молчание. Потом миссис Энсли отозвалась:
— Разве? Все это было так давно.
— Конечно. И поскольку ты выздоровела, все это не имело значения. Но твоих друзей это так поразило — причина, я хочу сказать, которой объясняли твое заболевание, потому что все знали, как ты из-за своих вечных простуд осторожна. И твоя мама так тебя оберегала… ты и в самом деле загулялась в тот вечер, правда?
— Возможно. Самые осторожные девушки не всегда бывают осторожны. А почему ты сейчас об этом вспомнила?
Миссис Слейд, по-видимому, не ожидала вопроса. Но в следующее мгновение ее словно прорвало:
— Да потому, что я не могу больше этого выдержать!.. Миссис Энсли быстро подняла голову; ее широко открытые глаза совсем померкли.
— Чего ты не можешь выдержать?
_ Того, что ты не знаешь, что я всегда знала, почему ты пошла.
— Почему я пошла?
— Да… Ты думаешь, я блефую? Так вот, ты пошла, чтобы встретиться с тем, кто был моим женихом. И я могу повторить слово в слово письмо, которое заставило тебя на это решиться.
Пока она говорила, миссис Энсли, держась не очень устойчиво на ногах, поднялась с кресла. Ее сумочка, вязанье, перчатки словно в испуге дружно скатились на пол. Она смотрела на миссис Слейд так, будто увидела привидение.
— Нет, нет… не надо, — пробормотала она.
— Почему же не надо? Если ты не веришь, слушай: «Моя ненаглядная, так больше продолжаться не может. Я должен увидеться с вами наедине. Завтра, как только стемнеет, приходите в Колизей. Там вас будут ждать и впустят. Никто из тех, кого вам следует опасаться, ничего не узнает…» Но, быть может, ты забыла, что говорилось в письме?
Миссис Энсли с неожиданной твердостью приняла брошенный ей вызов. Прислонясь к стулу и обретя тем самым устойчивость, она, посмотрев на свою приятельницу, ответила:
— Нет, я тоже знаю его наизусть.
— И подпись? «Только ваш Д. С.» Так? Я не ошиблась? Это письмо заставило тебя выйти из дому в тот вечер, когда стемнело?
Миссис Энсли по-прежнему смотрела на нее. И миссис Слейд казалось, что под маской самообладания, сознательно надетой на это спокойное, с мелкими чертами лицо, происходит сдержанная борьба. «Вот уж не подозревала, что она способна так владеть собой», — подумала чуть ли не с возмущением миссис Слейд, но тут миссис Энсли заговорила:
— Только я не понимаю, как ты узнала. Письмо я сразу сожгла.
— Ну еще бы, разумеется… ты же так осторожна, — теперь она откровенно издевалась. — И поскольку письмо ты сожгла, ты не понимаешь, откуда я знаю, что в нем было. Так ведь?
Миссис Слейд ждала, но миссис Энсли продолжала молчать.
— Ну вот, моя дорогая, я знаю, что было в этом письме, потому что его писала я.
— Ты?
— Да, я.
В последнем предзакатном луче женщины стояли и с полминуты, не отрываясь, смотрели друг на друга. Потом миссис Энсли опустилась в кресло. «О-о», — прошептала она и закрыла лицо руками.
Миссис Слейд нервно ждала еще какого-нибудь слова, жеста. Но ничего не последовало, и в конце концов она не выдержала.
— Ты в ужасе от меня?
Миссис Энсли опустила на колени руки, открыв залитое слезами лицо.
— Я думала не о тебе. Я думала… это было единственное письмо, которое я получила от него.
— А писала его я. Да, писала его я. Но ведь он был моим женихом. Об этом, я надеюсь, ты помнила?
Миссис Энсли снова опустила голову.
— Я не пытаюсь ни в чем оправдываться… помнила…
— И все-таки пошла?
— Все-таки пошла.
Миссис Слейд стояла и смотрела сверху вниз на поникшую возле нее фигурку. Вспышка ярости угасла, и теперь она не понимала, как ей когда-либо могло казаться, что, причинив так бесцельно боль своей приятельнице, она испытает чувство удовлетворения. Но ей нужно было объяснить свой поступок.
— Ты ведь понимаешь? Я догадалась — и возненавидела тебя, возненавидела! Я знала, что ты влюблена в Делфина, — и боялась; боялась тебя… твоей мягкости… твоей миловидности… твоей… ну, словом, я захотела избавиться от тебя, вот и все. Только на несколько недель, только пока не буду до конца в нем уверена. И, дойдя до исступления, я написала это письмо… Сама не понимаю, почему я тебе сейчас это рассказываю.
— Наверное, потому, — сказала медленно миссис Энсли, — что ты так с тех пор и продолжала меня ненавидеть.
— Возможно. Или потому, что мне захотелось снять с души эту тяжесть. — Она на мгновение замолкла. — Я рада, что ты сожгла письмо. И, конечно, я ни секунды не думала, что ты можешь умереть.
Миссис Энсли снова молчала, и у склонившейся над ней миссис Слейд появилось странное ощущение разобщенности, отрезанности, точно прервалась связывающая людей струя тепла.
— По-твоему, я чудовище?
— Не знаю… у меня было одно-единственное письмо от него, а ты говоришь, его писал не он.
— Как он тебе все еще дорог!
— Мне дорого было это воспоминание, — сказала миссис Энсли.
Миссис Слейд по-прежнему смотрела на свою приятельницу сверху вниз. Удар как бы физически ее сокрушил. Казалось, стоит ей подняться, и ее тут же развеет ветром, как горстку праха. Миссис Слейд почувствовала, что ее снова жжет ревность. Все годы эта женщина жила его письмом. Как же надо было любить его, чтобы так хранить в сердце память о пепле сожженного письма! Письма от того, кто был женихом ее подруги. Не она ли после этого чудовище?
— Ты старалась изо всех сил отнять его у меня, так ведь? Но тебе это не удалось, я удержала его. Вот и все.
— Да. Вот и все.
— Напрасно я рассказала тебе. Но я никак не ожидала, что ты так это воспримешь. Я думала, тебя это позабавит. Все это, как ты говоришь, случилось так давно и, согласись, у меня не было ни малейших оснований предполагать, что ты придала этому серьезное значение. Откуда же мне было знать, если, как ты помнишь, через два месяца ты вышла замуж за Хораса Энсли. Как только ты начала вставать с кровати, твоя мама умчала тебя во Флоренцию и тут же выдала замуж. Многих это удивило, они не понимали, почему все было проделано так стремительно. Но я-то считала, что знаю. По-моему, ты сделала это с досады, чтобы иметь потом возможность сказать, что ты опередила меня и Делфина. Девушки часто самые серьезные поступки совершают из-за чистейших глупостей. И когда ты так быстро вышла замуж, это убедило меня, что он не был тебе никогда по-настоящему дорог.
— Да, наверное, должно было убедить, — согласилась миссис Энсли.
В прозрачном небе над головой погасло все, до последнего луча. По нему разлился сумрак, сразу окутавший темнотой Семь Холмов.[251] Внизу в листве замелькали тут и там огоньки. На пустынной террасе то приближались, то удалялись шаги — постояв наверху в дверях, официанты возвращались снова с подносами, салфетками и бутылками вина. Двигали столы, отставляли стулья. Замигала тусклая ниточка электрического света. Унесли кое-какие вазы с увядшими цветами и принесли их назад со свежими. Внезапно появилась полная дама в пыльнике: на ломаном итальянском она спросила, не находил ли кто резинку, скреплявшую ее ветхий бедекер.[252] Она шарила палкой под столиком, за которым завтракала, и официанты усердно ей помогали.
Тот угол, где сидели миссис Слейд и миссис Энсли, был по-прежнему пустынен и не освещен. Обе долго молчали. Наконец миссис Слейд снова начала:
— Вероятно, мне просто захотелось подшутить над тобой.
— Подшутить?
— Понимаешь, девушки иногда бывают страшно безжалостны, а влюбленные — особенно. Помню, как я тихонько посмеивалась весь тот вечер, представляя себе, как ты дожидаешься где-то там в темноте, прячешься от всех, прислушиваешься к каждому звуку, пытаешься войти. Конечно, я была очень огорчена, когда узнала, как ты после этого расхворалась.
Миссис Энсли уже долгое время сидела не шелохнувшись. Теперь она медленно повернула голову.
— Но мне не пришлось ждать. Он все подготовил. Он был уже там. Нас тут же впустили, — сказала она.
Миссис Слейд резким движением выпрямилась.
— Делфин — там? Вас впустили?.. Ну нет, это ты лжешь! — воскликнула она негодующе.
Голос миссис Энсли стал более звонким, полным удивления.
— Ну, конечно же, он был там. Естественно, он пришел…
_ Пришел? Откуда он мог знать, что ты там будешь?
Да ты, видно, бредишь!
Миссис Энсли помедлила, словно задумавшись.
— Но я же ответила на письмо. Написала, что буду там. Поэтому он и пришел.
Вскинув руки, миссис Слейд закрыла ладонями лицо.
— Боже — ты ответила! Мне в голову не могло прийти, что ты ответишь…
— Странно, что тебе не пришло это в голову, если ты написала письмо.
— Я была в исступлении, у меня помрачился разум. Миссис Энсли встала и накинула на плечи свой меховой палантин.
— Здесь холодно. Уйдем лучше отсюда. Мне жаль тебя. — сказала она, рукой придерживая палантин у горла.
Неожиданные слова причинили миссис Слейд острую боль.
— Да, лучше уйдем. — Она взяла в руки сумочку, накидку. — Не понимаю только, почему тебе вздумалось меня жалеть, — пробормотала она.
Отвернувшись от нее, миссис Энсли стояла и смотрела на темнеющую вдали уединенную громаду Колизея.
— Ну… потому что мне не пришлось ждать в тот вечер.
Миссис Слейд беспокойно рассмеялась.
— Да, тут я потерпела поражение — впрочем, смешно мне быть на тебя за это в обиде. После стольких лет. В конце концов я получила все. Я получила его на целых двадцать пять лет. А ты ничего не получила, кроме того письма, которое и писал не он.
Миссис Энсли снова молчала. Потом она повернулась к двери, сделала шаг и, оглянувшись, посмотрела своей приятельнице прямо в глаза.
— Я получила Барбару, — сказала она и, опережая миссис Слейд, направилась к выходу.
Примечания
1
Роман опубликован в 1920 году.
(обратно)2
…Кристина Нильсон пела в «Фаусте»… — Известная шведская певица Кристина Нильсон (1843–1921) исполняла в опере Шарля Гуно «Фауст» роль Маргариты.
(обратно)3
Музыкальная Академия — старое здание оперного театра в Нью-Йорке, в районе пересечения Бродвея с 5-й авеню.
(обратно)4
…скоро начнут строить новый оперный театр… — Имеется в виду знаменитая «Метрополитен-опера», открытая в 1883 году.
(обратно)5
…недоступна «новым людям»… — «Новыми людьми» Уортон называет американских нуворишей, богачей в первом поколении, которые противопоставляются «свету» — старой нью-йоркской буржуазии с ее вековыми традициями и строгими правилами бытового поведения.
(обратно)6
«Он любит — не любит — он любит меня!» — слова Маргариты из III акта «Фауста».
(обратно)7
…Капуля-Фауста… — Речь идет о французском оперном певце Жозефе Капуле (1839 —?), который в семидесятых годах прошлого века жил в Нью-Йорке и пел с Нильсон в «Фаусте».
(обратно)8
Бербанк Лютер (1849–1926) — американский селекционер, создавший много новых сортов овощей, цветов и фруктов. В 1875 году заложил сад в Калифорнии, где выводил свои гибриды.
(обратно)9
«Лоэнгрин» (1848) — романтическая опера немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813–1883).
(обратно)10
«А ля Жозефин» — мода периода французской Первой империи (1804–1815), когда носили платья с высокой талией и ниспадающей свободными складками юбкой. Названа по имени Жозефины Богарне (1763–1814), первой жены Наполеона Бонапарта.
(обратно)11
…с олбанскими Чиверсами… — то есть с семейством Чиверсов из города Олбани, столицы штата Нью-Йорк.
(обратно)12
Юниверсити-плейс — площадь в Нью-Йорке.
(обратно)13
Лонг-Айленд — часть Нью-Йорка.
(обратно)14
Бэттери — парк на южной оконечности острова Манхаттан.
(обратно)15
Статен-Айленд — пригород Нью-Йорка.
(обратно)16
Тюильри — королевский дворец в Париже, сожженный коммунарами в 1871 году.
(обратно)17
Луи Наполеон Бонапарт (1808–1873) — французский император Наполеон III (1852–1870).
(обратно)18
Мадам Тальони — знаменитая прима-балерина итальянского происхождения Мария Тальони (1804–1884), танцевавшая на сценах Парижа, Лондона и других европейских столиц.
(обратно)19
Двойной смысл (фр.).
(обратно)20
Право гражданства (фр.).
(обратно)21
«Вдова Клико» — сорт французского шампанского.
(обратно)22
Прическах (фр).
(обратно)23
Лютика (фp).
(обратно)24
«Буль» — по имени французского мастера Буля (1642–1732) — мебель из дерева, инкрустированного металлом, слоновой костью и перламутром.
(обратно)25
«Любовь Победоносная» — картина французского художника Вильяма-Адольфа Бужеро (1825–1905).
(обратно)26
«Голубой Дунай» — знаменитый вальс Иоганна Штрауса (1825–1899), написанный в 1867 году.
(обратно)27
…эпохи Второй империи. — Имеется в виду период царствования императора Наполеона III (см. примеч. 17). то есть 1852–1870 годы.
(обратно)28
…место действия любовных сцен из «Мосье де Камора». — Речь идет о светской новинке, легкомысленном романе французского писателя Октава Фейе (1821–1890) «Мосье де Камор» (1867), герой которого, циничный и безнравственный аристократ, соблазняет жену своего друга.
(обратно)29
«Мраморный фавн» (1860) — последний роман великого американского писателя-романтика Натаниэля Готорна (1804–1864), произведения которого считались в американском «свете» образцом изысканности и благопристойности в литературе.
(обратно)30
…мадеру как-никак доставляли из-за мыса Доброй Надежды. — В XIX веке отборные сорта португальской мадеры отправляли с острова Мадейра, где производилось вино, в длительные морские путешествия (главным образом вокруг Африки), во время которых они приобретали нужную выдержку.
(обратно)31
Уордовские ящики — по имени изобретателя, английского ботаника Натаниэля Уорда (1791–1868) — переносные стеклянные оранжереи с дном из глины или металла, в которых разводили растения, нуждающиеся в большом количестве влаги.
(обратно)32
…зачитывались романами Уйды… — Уйда — псевдоним английской писательницы Луизы де ла Раме (1839–1908), автора свыше сорока романов из великосветской жизни. Действие многих из них происходит в Италии, где Уйда поселилась в 1874 году.
(обратно)33
…знает большой свет гораздо лучше Булвера… — Речь идет об известном английском романисте Эдуарде Булвер-Литтоне (1803–1873), авторе романа «Пелэм, или Приключения джентльмена» (1828), в котором изложены основные правила поведения в свете.
(обратно)34
Рескин Джон (1819–1900) — известный английский эстетики художественный критик, автор капитальных трудов по истории живописи и архитектуры: «Современные художники» (1843–1860), «Семь светильников архитектуры» (1849) и т. д.
(обратно)35
Рейнолдс, сэр Джошуа (1723–1792) — английский художник-портретист.
(обратно)36
Дородность, тучность (фр., ирон.).
(обратно)37
…миновать Остров Сирен… — реминисценция из XII песни гомеровской «Одиссеи». Сирены — по Гомеру — полуптицы-полуженщины, которые своим волшебным пением завлекают к себе на остров мореплавателей и губят их.
(обратно)38
Честь мундира, кастовый дух (фр.).
(обратно)39
Кухня (фр.).
(обратно)40
Карселевская лампа — по имени изобретателя, французского мастера Карселя (ум. 1812) — дорогая лампа, в которой масло нагнетается в горелку посредством часового механизма.
(обратно)41
…в книгах о первобытном человеке, которые образованные люди уже начинали читать… — Очевидно, здесь имеются в виду труды американского этнографа и историка первобытного общества Льюиса Генри Моргана (1818–1881), получившие известность в 1870-е годы и возбудившие интерес к проблемам древней истории и антропологии.
(обратно)42
«Королевские идиллии» (1859) — цикл поэм известного английского поэта-лауреата викторианской эпохи Альфреда Тенни-сона (1809–1892) на сюжет легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.
(обратно)43
…не умела почувствовать всю красоту Улисса и Лотофагов. — Речь идет о двух стихотворениях Теннисона, «Улисс» и «Лотофаги», написанных на темы «Одиссеи». Лотофаги, то есть пожиратели лотоса, у Гомера — мифический народ, обитающий в Ливии. Люди, отведавшие лотоса, забывают свое прошлое. (Песнь IX, 90–97).
(обратно)44
«Младенцы в лесу» — герои английской баллады XVI века, мальчик и девочка, которые погибли, не сумев выбраться из леса, куда их завел злой опекун, желавший завладеть их имуществом.
(обратно)45
Римский пунш — лимонный сок с ромом и взбитым белком.
(обратно)46
Один ив ваших прадедов подписал Декларацию независимости… — то есть был одним из пятидесяти пяти «отцов-основателей» США, делегатов второго континентального конгресса, провозгласившего 4 июля 1776 года независимость американских колоний от Великобритании.
(обратно)47
…после сражения при Саратоге получил шпагу генерала Бергойна. — Имеется в виду одна из решающих битв американской Войны за независимость, происходившая близ поселка Саратога (ныне Скай-лервилл, штат Нью-Йорк), в которой королевские войска под командованием генерала- Джона Бергойна (1730–1792) потерпели сокрушительное поражение и были вынуждены сложить оружие 17 октября 1777 года.
(обратно)48
Вашингтон-сквер — площадь в Нью-Йорке, упоминание о которой, очевидно, должно было вызвать у читателя ассоциацию с одноименной повестью Генри Джеймса (1881).
(обратно)49
Питты и Фоксы — английские аристократические семейства, из которых происходят, в частности, выдающиеся государственные деятели XVIII в. Уильям Питт (1759–1806) и Чарлз Джеймс Фокс (1749–1806).
(обратно)50
Граф де Грасе Франсуа-Жозеф (1722–1788) — генерал-лейтенант французских военно-морских сил во время американской Войны за независимость.
(обратно)51
«Чиппендейл» — по имени мастера-краснодеревщика Томаса Чиппендейла (1718–1779) — английская мебель XVIII века в стиле рококо, с обилием тонкой резьбы.
(обратно)52
Корнуоллис Чарлз (1738–1805) — английский генерал, одержавший несколько побед над американцами во время Войны за независимость. В 1782 году сдался американской армии и французскому флоту, которые блокировали Йорктон.
(обратно)53
Пэтрун — владелец поместья с некоторыми феодальными привилегиями (отмененными в 1850 году), дарованного голландским правительством Нью-Йорка членам голландской Ост-Индской компании.
(обратно)54
Гейнсборо Томас (1727–1788) — один из наиболее известных английских художников XVIII века.
(обратно)55
Хантингтон Даниэл (1816–1906) — англо-американский художник, автор многочисленных салонных портретов н картин на исторические и библейские сюжеты.
(обратно)56
Кабанель Александр (1823–1889) — модный французский художник-портретист академического направления.
(обратно)57
…улыбкой Эсфири, молящей Артаксеркса о снисхождении… — Имеется в виду библейская Книга Эсфири, где рассказывается, как жена персидского царя Артаксеркса, «красивая станом и пригожая лицом» иудейка Эсфирь, вступилась за свой народ, который царь по наущению злодея Амана хотел уничтожить, и добилась его спасения.
(обратно)58
Патти Аделина (1843–1919) — знаменитая итальянская оперная певица-сопрано.
(обратно)59
«Сомнамбула» (1831) — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801–1835).
(обратно)60
Каус — фешенебельный английский курорт на острове Уайт.
(обратно)61
Трансильвания — область на северо-западе Румынии.
(обратно)62
«Дебретт» — ежегодный справочник английского дворянства, издающийся с 1802 года (по фамилии первого издателя Джона Дебретта).
(обратно)63
…эпохи Георга //…— то есть времен царствования английского короля Георга II (1683–1760, царств, с 1727 г.).
(обратно)64
«Лоустофт» и «Краун Дерби» — сорта английского фарфора.
(обратно)65
Изабе Жан-Батист (1767–1865) — французский художник-миниатюрист.
(обратно)66
Диана (греч. Артемида) — богиня охоты и деторождения в Древнем Риме. Обычно изображалась юной девушкой в коротком хитоне с колчаном за спиной. В более поздние времена — символ девственности.
(обратно)67
…под знаком Рескина… — см. примеч. 34.
(обратно)68
…читал он и все новейшие труды… — В приведенном ниже списке книг, прочитанных Арчером, Уортон допускает анахронизм. Хотя действие романа, судя по многочисленным указаниям в тексте, следует датировать 1875 годом (не ранее 1674-го, не позднее 1876-го), писательница включает в круг чтения героя не только шестнтомное исследование английского искусствоведа и литературного критика Джона Эддингтона Саймондса «Ренессанс в Италии» (1875–1876), но и сборник «Эвфорион, эссе о Ренессансе» английской писательницы Вайолет Пэджит (1856–1935), писавшей под псевдонимом Вернон Ли, который вышел в свет лишь в 1884 году.
(обратно)69
Хемертон Филип Гилберт (1834–1894) — английский искусствовед, с 1869 года — редактор журнала «Портфолио», в котором печатались его многочисленные статьи по истории и теории живописи.
(обратно)70
Патер Уолтер (1839–1894) — влиятельный английский критик, искусствовед и писатель. Его книга, которую имеет в виду Уортон, «Очерки по истории Ренессанса», была опубликована в 1873 году, то есть на три года ранее труда Саймондса, и поэтому говорить о ней как о последней новинке — неточно.
(обратно)71
Он свободно рассуждал о Боттичелли… — творчество великого художника итальянского Возрождения Сандро Боттичелли (1444–1510) английские критики Дж. Рескин и У. Патер, под влиянием которых складывались вкусы Арчера, считали абсолютной вершиной изобразительного искусства.
(обратно)72
…несколько снисходительно отзывался о Фра Анджелико. — Очевидно, эстетические взгляды героя Уортон соответствуют оценкам прерафаэлитов — группы английских художников и писателей, провозгласивших своим идеалом искусство итальянских художников дорафаэлевской эпохи. Итальянский художник раннего Возрождения Фра Анджелико (1387–1455) был для них, как и для Арчера, лишь второстепенной фигурой по сравнению с гениальными Джотто и Боттичелли.
(обратно)73
…статуэтками Роджерса… — Речь идет о работах одного из братьев Роджерс (американских скульпторов второй половины XIX века), очевидно, Джона Роджерса (1829–1904), автора скульптурных групп.
(обратно)74
…столики под «буль»… — см. примеч. 24.
(обратно)75
…настоящим «истлейком»… — мебель машинной работы, распространенная в Англии и США во второй половине XIX века (по имени английского искусствоведа Чарлза Локка Истлейка; 1836–1906).
(обратно)76
Эксцентричных кварталах (фр.).
(обратно)77
На скорую руку (лат.).
(обратно)78
Хотите… послушать Иоахима? — Имеется в виду немецкий скрипач Жозеф Иоахим (1831–1907).
(обратно)79
…о кентуккийской пещерной рыбе… — Речь идет о рыбе, обитающей в пещерных водоемах, с рудиментарными глазами, о ко-торой упоминает Ч. Дарвин в своем «Происхождении видов».
(обратно)80
Рю де ля Пэ— фешенебельная улица в Париже.
(обратно)81
…только что опубликованный «Шателяр»… — еще один анахронизм. Трагедия английского поэта Алджернока Чарлза Суин-берна (1837–1909) «Шателяр» — первая часть драматической трилогии о шотландской королеве Марии Стюарт — была опубликована в 1865 году. В 1874 году вышла в свет вторая часть трилогии — «Босвелл».
(обратно)82
…томик «Озорных рассказов»… — сборник эротических, стилизованных под Рабле новелл Оноре де Бальзака (1833).
(обратно)83
Кассандра — в греческой мифологии прорицательница, вещим пророчествам которой никто не верил.
(обратно)84
«Смерть Чэтема» — гравюра Ф. Бартолоцци с картины английского художника Джона Синглтона Копли (1737–1815). На ней изображен предсмертный обморок Уильяма Питта, герцога Чэтема (см. примеч. 49), во время парламентских прений о признании независимости США, когда Питт выступил с антиамериканской речью.
(обратно)85
«Коронация Наполеона» (1804) — гравюра с картины французского художника Луи Давида (1748–1825), изображающей две церемонии — коронацию Наполеона и коронацию его первой жены, Жозефины Богарне (см. примеч. 10).
(обратно)86
Шератоновские ящички — по имени английского мастера Томаса Шератона (1751–1806), создавшего неоклассический стиль мебели с инкрустациями.
(обратно)87
Шато-о-брион — сорт красного французского вина типа бордо.
(обратно)88
Эдвин Бут (1833–1893) — американский актер, брат Джона Бута, убийцы президента А. Линкольна.
(обратно)89
Патти — см. примеч. 58.
(обратно)90
Уильям Винтер (1836–1917) — американский поэт и театральный критик.
(обратно)91
Джордж Ригнольд (1838–1912) — американский актер и режиссер.
(обратно)92
Вашингтон Ирвинг (1783–1859) — выдающийся американский писатель-романтик, стоявший у истоков национальной литературы США.
(обратно)93
Фитц Грин Галлек (1790–1867) — американский поэт-дилетант, банкир и политический деятель.
(обратно)94
Автор «Преступного эльфа» — друг и соавтор Галлека, американский поэт-романтик Джозеф Родмэн Дрейк (1795–1820). Его популярная поэма «Преступный эльф», написанная под сильным влиянием С. Колриджа. была опубликована посмертно в 1835 году.
(обратно)95
…представления Итальянского театра… — то есть старинного театра в Париже, где ставились итальянские оперы и драмы.
(обратно)96
«Письма к незнакомке» (1874) — вышедшая посмертно книга французского писателя-романтика Проспера Мериме (1803–1870), в которую вошли его письма к Жанне Дакен (1811–1895).
(обратно)97
Браунинг Роберт (1812–1889) — один из наиболее известных английских поэтов викторианской эпохи, автор усложненных поэм и драматических монологов на материале средневековья и Возрождения.
(обратно)98
Уильям Моррис (1834–1896) — английский писатель, дизайнер и публицист, близкий к прерафаэлитам. В последние годы жизни — активный участник социалистического движения.
(обратно)99
Клуб «Сенчери» («Столетие») — основанный в 1847 году нью-йоркский клуб писателей, артистов и художников.
(обратно)100
Поль Бурже (1852–1935) — французский поэт и писатель. Героям Уортон мог быть известен лишь его первый сборник стихов «Беспокойная жизнь» (1875), так как его первые романы появились только в середине восьмидесятых годов.
(обратно)101
Гюисманс Жорж (1848–1907) — французский писатель и критик. Его первый натуралистический роман «Марта. Жизнь проститутки» вышел в свет в 1875 году.
(обратно)102
Братья Гонкур, Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870) — выдающиеся французские писатели, создавшие в содружестве много исторических трудов, романов и драм.
(обратно)103
Каролюс Дюран — французский художник-портретист Карл-Август-Эмиль Дюран (1837–1917).
(обратно)104
Салон — галерея в Лувре, где устраивались ежегодные художественные выставки.
(обратно)105
…у Дельмонико… — то есть в нью-йоркском модном ресторане, принадлежавшем некоему Лоренцо Дельмонико.
(обратно)106
Кампанини Итало (1846–1896) — итальянский тенор.
(обратно)107
Скалчи София (1850—?) — итальянская оперная певица.
(обратно)108
Непредвиденное (фр.).
(обратно)109
Театр Уоллока — известный в Нью-Йорке драматический театр, открытый — в 1861 году англо-американским актером и режиссером Джеймсом Уильямом Уоллоком (1795–1864).
(обратно)110
«Шогрэн» — мелодрама англо-ирландского актера и драматурга Диона Бусико (1822–1890), с 1853 года жившего в США. Премьера ее состоялась в Нью-Йорке в октябре 1874 года.
(обратно)111
Гарри Монтегю (1843–1878) и Ада Диас (1844–1908) — известные американские актеры.
(обратно)112
Круазет Софи (1857–1901) и Брессан Жан-Баптист-Франсуа (1815–1886) — французские актеры.
(обратно)113
Мэдж Робертсон (ум. 1930) и Лендам У. Г. (1844–1917) — английские драматические артисты.
(обратно)114
Сент-Огастин (штат Флорида) — старейший город в США, основанный испанцами в 1565 году.
(обратно)115
Смуглая дама — намек на героиню «Сонетов» Шекспира (сонеты 127–154).
(обратно)116
Лабиш Эжен-Мариа (1815–1888) — французский драматург, «король водевиля». «Путешествие мосье Перришона» — одна из его известнейших пьес.
(обратно)117
Дельфтский фаянс — голландская глиняная посуда коричневого цвета, покрытая матовой глазурью с узорами.
(обратно)118
…эта хитроумная штуковина с проволокой… — Телефон был изобретен Беллом в 1876 году.
(обратно)119
…последний труд Герберта Спенсера… — Очевидно, имеется в виду сочинение английского философа-позитивиста Герберта Спенсера (1820–1903) «Принципы психологии» (1872) или третий том его «Эссе, научных, политических и философских», вышедший в свет в 1874 году.
(обратно)120
…новый сборник несравненных новелл Ги де Мопассана… — анахронизм. Первый сборник новелл Мопассана был издан в 1881 году.
(обратно)121
«Мидлмарш» (1871–1872) — роман английской писательницы Джордж Элиот (1819–1880).
(обратно)122
«Дом жизни» — цикл сонетов известного английского художника и поэта, лидера прерафаэлитского братства Данте Габриела Россетти (1828–1882). В семидесятые годы отдельно не издавался, вошел в сборники «Стихотворения» (1870) и «Баллады и сонеты» (1881).
(обратно)123
«Сонеты, переведенные с португальского» (1850) — сборник любовных стихотворений английской поэтессы Элизабет Баррет Браунинг (1806–1861), жены Р. Браунинга (см. примеч. 97).
(обратно)124
«О том, как принесли добрую весть из Гента в Аахен» — стихотворение Р. Браунинга (см. примеч. 97).
(обратно)125
…рассказы о Гранаде и Альгамбре… Альгамбра — дворец-крепость мавританских королей, недалеко от испанского города Гранады, образец восточной роскоши в архитектуре. В американской культуре известна по одноименному сборнику новелл Вашингтона Ирвинга (см. примеч. 92).
(обратно)126
Ньюпорт (штат Род-Айленд) — старинный портовый город, модный курорт на Атлантическом побережье США.
(обратно)127
…судя по его гигантской фигуре, был хозяином «макфарлана»; он тряс своей львиной седой гривой… — Портрет и описание одежды доктора Карвера дают основание предположить, что одним из возможных его прототипов был великий американский поэт Уолт Уитмен (1819–1892).
(обратно)128
«Дух дышит там, где хочет» — цитата из Евангелия от Иоанна (III, 8).
(обратно)129
Несколько грубоват (фр.)
(обратно)130
Собеские — семейство богатейших польских магнатов XVI–XIX веков.
(обратно)131
Супруг (ит.).
(обратно)132
Шпор Людвиг (1784–1859) — немецкий композитор, автор девяти симфоний.
(обратно)133
Британский металл — сплав олова, меди, сурьмы и цинка.
(обратно)134
Боцен — город в Тироле, известный своими достопримечательностями; зимний курорт.
(обратно)135
…мемуары баронессы Бунзен… — опубликованные в 1868 году воспоминания баронессы Фрэнсис фон Бунзен о своем муже, прусском ученом и дипломате Христиане Карле фон Бунзене (1791–1860).
(обратно)136
Уорт Чарлз Фредерик (1825–1895) — знаменитый английский дамский портной. В 1846 году поселился в Париже и стал законодателем мировой моды.
(обратно)137
Интерлакен и Гриндельвальд — курорты в Швейцарии.
(обратно)138
Этрета — небольшой курорт с минеральными водами в 18 милях от Гавра.
(обратно)139
Мэйфер, Саут-Кенсингтон — районы Лондона.
(обратно)140
Покахонтас (1595–1617) — дочь индейского вождя, помогавшая колонистам в Виргинии. Впоследствии вышла замуж за англичанина Джона Ролфа и умерла в Англии.
(обратно)141
Харроу — одна из девяти старейших привилегированных мужских средних школ в Англии (основана в 1571 году).
(обратно)142
Чердак (фр).
(обратно)143
…посещал «чердак» Гонкуров… — Имеются в виду литературные собрания, происходившие на последнем этаже дома братьев Гонкур (см. примеч. 102) в предместье Парижа Отей, где было устроено нечто вроде музея, получившего название «чердак». В семидесятые годы на «чердаке» у Эдмона Гонкура бывали все наиболее талантливые молодые писатели, художники и журналисты того времени.
(обратно)144
…беседовал с Мериме в доме его матери… — Мать Мериме (см. примеч. 96), Жанна Моро, была художницей, и в ее салоне собирались видные писатели и художники.
(обратно)145
Самим собой (фр.).
(обратно)146
Видите ли, мосье (фр.).
(обратно)147
«Никербокер» — нью-йоркский клуб, основанный в 1871 году потомками первых американских колонистов (по имени Дитриха Никербокера, персонажа комической «Истории Нью-Йорка» Вашингтона Ирвинга (см. примеч. 92).
(обратно)148
Горная пустыня (англ.).
(обратно)149
…на клайдских верфях… — Имеются в виду судостроительные заводы в Глазго (Шотландия), на реке Клайд.
(обратно)150
Мейсонье Жан-Луи-Эрнест (1815–1891) — французский художник-баталист академического направления.
(обратно)151
Что вы хотите? (фр.)
(обратно)152
Бельвю-авеню, Океанский бульвар, Наррагансет, Спринг-стрит — названия улиц и районов в Ньюпорте (см. примеч. 126).
(обратно)153
Козий остров (там находился государственный минный завод).
(обратно)154
Прюденс, Конаникет — острова в заливе Наррангасет.
(обратно)155
Форт-Адамс — форт, защищающий вход в Ньюпортскую гавань. Там же расположен маяк Лайм-Рок, смотрительница которого Ида Льюис Уилсон (род. 1841) известна тем, что спасла многих моряков.
(обратно)156
Святая простота! (лат.)
(обратно)157
Repondez s'il vous plait (фр.) — очень просим ответить,
(обратно)158
Юкатан — полуостров, отделяющий Мексиканский залив от Карибского моря.
(обратно)159
Вечерний чай или файвоклок е танцами (фр).
(обратно)160
Милл-стрит, Истменз-Бич, Райские камни — улица и районы на окраине и в окрестностях Ньюпорта (см. примеч. 126).
(обратно)161
Сакконет — река, впадающая в Атлантический океан близ Ньюпорта.
(обратно)162
Миссис Скотт-Сиддонс (1843–1896) — английская драматическая актриса.
(обратно)163
«Любовь леди Джеральдины» — поэма Элизабет Баррет Браунинг (см. примеч. 123).
(обратно)164
…сойдя с фолл-риверского поезда… — Фолл Ривер — город в штате Массачусетс, имеющий пароходное сообщение с Ньюпортом.
(обратно)165
«Коммершиэл адвертайзер» — бостонская газета.
(обратно)166
Коммон — большой парк в центре Бостона.
(обратно)167
Отдельный кабинет (фр.).
(обратно)168
…суровым лицом президента Соединенных Штатов. — По-видимому, речь идет о генерале Улиссе Гранте (1822–1885), президенте США с 1869 по 1877 год.
(обратно)169
День благодарения — отмечающийся в последний четверг ноября американский праздник в память о первых поселенцах, прибывших в 1620 году на побережье Новой Англии и основавших там колонию Новый Плимут.
(обратно)170
…текст из Книги пророка Иеремии. — «Не давай ногам твоим истаптывать обувь и гортани твоей — томиться жаждой. Но ты ска-зал: не надейся, нет! ибо люблю чужих и буду ходить во след их».
(обратно)171
Маленький письменный столик, бюро (фр.).
(обратно)172
Джерси-Сити — город на западном берегу Гудзона, ныне фактически часть Большого Нью-Йорка. В XIX веке был крупным центром железнодорожного сообщения, связанным с Нью-Йорком паромами.
(обратно)173
Джерси-Сити — город на западном берегу Гудзона, ныне фактически часть Большого Нью-Йорка. В XIX веке был крупным центром железнодорожного сообщения, связанным с Нью-Йорком паромами.
(обратно)174
…в один прекрасный день под Гудзоном построят туннель… — Строительство первого туннеля под Гудзоном, соединившего Джерси-Сити с Нью-Йорком, началось в 1874 году.
(обратно)175
Медуза Горгона — в греческой мифологии одна из трех сестер Горгон, чудовищ со змеями вместо волос, под взглядом которых все живое обращалось в камень.
(обратно)176
Мишле Жюль (1798–1874) — известный французский историк, автор «Истории Франции» (1833–1867) и «Истории французской революции» (1847–1853).
(обратно)177
Аделаида Нильсен (настоящее имя Элизабет Энн Браун, миссис Ли; 1848–1880) — английская актриса.
(обратно)178
…музей — в парке… — Имеется в виду знаменитый ныне Метрополитен-музей, расположенный в Центральном парке Нью-Йорка. Основан в 1870 году.
(обратно)179
Вулф Катарина Лориллард (1828–1887) — американская меценатка-миллионерша, завещавшая Метрополитен-музею большую сумму денег и коллекцию картин.
(обратно)180
…памятники древности Чеснолы. — Граф Луиджи Пальма ди Чеснола (1832–1904) — итало-американский археолог, с 1878 года директор Метрополитен-музея.
(обратно)181
Илион—древняя Троя.
(обратно)182
Морни Шарль-Опост-Луи-Жозеф, граф, герцог де (1811–1865) — сводный брат Наполеона III (см. примеч. 17), известный своим рассеянным образом жизни и участием в рискованных финансовых спекуляциях.
(обратно)183
…розы от Гендерсона… — Речь идет об известном американском садоводе Питере Гендерсоне (1823–1890), имевшем в Нью-Йорке большой цветочный магазин.
(обратно)184
Тиффани Чарлз Льюис (1820–1902) — американский ювелир, владелец самого дорогого ювелирного магазина в Нью-Йорке.
(обратно)185
Вербекховен Эжен Жозеф (1798–1881) — бельгийский художник-анималист.
(обратно)186
Марта Вашингтон (1732–1802) — жена первого президента США Джорджа Вашингтона.
(обратно)187
…георгианскую архитектуру XVIII века… — Имеется а виду стиль, сложившийся в Англии в период царствования королей Георгов (1714–1760) и существовавший до тридцатых годов XIX века. Его разновидность — «колониальный стиль», господствовавший в британских поселениях Северной Америки перед Войной за независимость.
(обратно)188
Теодор Рузвельт (1858–1919) — американский государственный деятель, в 1901–1909 годах — президент США, проводивший агрессивную внешнюю политику. Пост губернатора штата Нью-Йорк занимал с 1898 по 1900 год.
(обратно)189
Клуб Гролье (по имени французского библиофила XVI века) — основанный в 1884 году в Нью-Йорке клуб для поощрения искусства книгопечатания. Издавал большое количество книг и каталогов своих выставок.
(обратно)190
«Меццо-тинто» («черная манера») — вид углубленной гравюры на металле.
(обратно)191
«Кьюнард» — крупная пароходная компания (основана в 1839 году), обслуживавшая линии между Великобританией и США.
(обратно)192
Реймс и Шартр — французские города, знаменитые своими прославленными готическими соборами.
(обратно)193
Дебюсси Клод (1862–1918) — французский композитор.
(обратно)194
Гранд-Гиньоль — небольшой театр на Монмартре, где в конце XIX — начале XX века ставились преимущественно одноактные «пьесы ужасов».
(обратно)195
Тициан (Тициано Вечеллио) (1477–1576) — знаменитый живописец венецианской школы.
(обратно)196
…перед Домом инвалидов. — Имеется в виду здание парижской богадельни для ветеранов-солдат, построенное знаменитым французским архитектором Жюлем Мансаром (1645–1708) и славящееся своим куполом и фасадом церкви.
(обратно)197
Повесть опубликована в 1911 году.
(обратно)198
…электрической железной дороги… — В начале XX века города и поселки Новой Англии были соединены сетью железных дорог, по которым ходили местные поезда, устроенные по принципу трамвая.
(обратно)199
Христианская ассоциация молодых людей (YМСА) — массовая молодежная организация в США (основана в 1844 году).
(обратно)200
Лампа Карселя — см. примеч. 40.
(обратно)201
Вустер — город в штате Массачусетс, где имеется небольшой университет (основан в 1871 году).
(обратно)202
Стамфорд — город в штате Коннектикут, близ Нью-Йорка.
(обратно)203
«Не раздастся звон вечерний» (1867) — хрестоматийная мелодраматическая баллада американской поэтессы Розы Хартвик Торп (1850–1939).
(обратно)204
«Молитва девы» — популярная во второй половине XIX века пьеса для фортепьяно Феклы Бондаржевской-Барановской (1834–1861).
(обратно)205
Из сборника «Рассказы о людях и привидениях» (1910).
(обратно)206
…вроде Академической рощи… — В Древней Греции Академией называлась роща близ Афин, где великий философ Платон (427–347 до н. э.) беседовал со своими учениками.
(обратно)207
…знавала Вашингтона Ирвинга… — см. примеч. 92.
(обратно)208
…и переписывалась с Н. П. Виллисом. — Речь идет о влиятельном американском поэте и журналисте Натаниэле Паркере Виллисе (1806–1867), основателе журнала «Америкен мансли мэгезин» (1829).
(обратно)209
Головокружение, которое человек испытывает, стоя на краю пропасти (фр.).
(обратно)210
…о влиянии этрусков на итальянское искусство. — Этруски — общее название народностей, населявших в древности Этрурию, провинцию в Италии у Тирренского моря. Этрусское искусство представляло промежуточное звено между греческим и римским искусством.
(обратно)211
Форум — у римлян городская площадь для народных собраний, ярмарок и суда.
(обратно)212
Гиацинт — в греческой мифологии прекрасный юноша, любимец Аполлона, убитый им из ревности.
(обратно)213
…с развалин алтаря, посвященного Антиною… — Антиной — красивый юноша, любимец римского императора Адриана, утопившийся в 130 году в Ниле. В память о нем в Риме были сооружены храм и многочисленные статуи.
(обратно)214
…средневековый «суд божий». — Имеется в виду распространенная в средние века форма определения виновности посредством огня, воды или яда.
(обратно)215
Керубино — паж в «Женитьбе Фигаро» (1774), комедии французского драматурга Пьера-Огюстсна Бомарше (1732–1799), и в одноименной опере Моцарта.
(обратно)216
…повторяя заповедь Готье… — Теофиль Готье (1811–1872) — французский писатель, поэт и критик, сторонник «искусства для искусства», призывал молодых писателей как можно более тщательно работать над формой и стилем своих произведений.
(обратно)217
Фраскати — город в 15 милях от Рима, известный своими прекрасными виллами.
(обратно)218
Из сборника «Шингу и другие рассказы» (1916).
Шингу — река в Бразилии, приток Амазонки.
(обратно)219
Троллоп Энтони (1815–1882) — английский писатель-реалист, бытописатель провинциальной жизни.
(обратно)220
… Апеллес скрыл лицо Агамемнона, приносящего а жертву Ифигению. — Апеллес — знаменитый греческий художник IV веке до н. э. Агамемнон — в греческой мифологии аргосский царь, предводитель греков в Троянской войне. Прогневив Артемиду (см. примеч. 66), дал обет принести ей в жертву свою любимую дочь Ифигению, но в последний момент Артемида заменила девушку на жертвеннике ланью. Однако картина, о которой идет речь — «Жертвоприношение Ифигении», — принадлежит не Апеллесу, а другому греческому художнику, Тиманфу (ок. 400 г. до н. э.). Она известна нам по копии на помпейских фресках, а также по описанию Плиния, отметившего, что Тиманф лицо Агамемнона «скрыл под покрывалом, не будучи в состоянии придать ему достаточное выражение». Очевидно, Уортон намеренно заставляет героиню рассказа сделать ошибку, чтобы подчеркнуть ее невежество под маской образованности.
(обратно)221
«Роберт Элсмер» (1888) — проблемный роман английской писательницы Мэри Августы Уорд (миссис Хамфри Уорд; 1851–1920) об английском священнике, отказавшемся от религиозных догматов и занявшемся филантропией.
(обратно)222
Черный стиль (фр.).
(обратно)223
Руперт Принс (1619–1682) — племянник английского короля Якова I, видный вельможа и военачальник. В последние годы жизни создал несколько гравюр, усовершенствовав метод «меццо-тинто» (см. примеч. 190).
(обратно)224
«Факты этики» (1892–1893) — первая часть труда «Принципы этики» английского философа Г. Спенсера (см. примеч. 119).
(обратно)225
«Можешь ли ты удою вытащить левиафана?» — цитата из библейской Книги Иова (XI, 20). Лезиафан—чудовищный морской змей.
(обратно)226
Новинками (фр).
(обратно)227
Анри Бергсон (1859–1941) — выдающийся французский философ-иррационалист, туды которого пользовались широкой известностью на рубеже веков.
(обратно)228
«Исповедь блаженного Августина» — сочинение христианского богослова Аврелия Августина, прозванного «блаженным» (354–430), интерес к которому возродился на Западе в 1890-е годы в связи с распространением неохристианских идеи.
(обратно)229
Менделизм (по имени австрийского генетика Грегора Иоганна Менделя; 1822–1884) — направление в генетике и эволюционном учении, оживленно обсуждавшееся в начале XX пека.
(обратно)230
…заменяла сборник Вордсворта томиком Вердена. — Чтобы не показаться «отсталой», героиня рассказа прячет книгу стихов английского поэта-романтика Уильяма Вордсворта (1770–1850), считавшегося в конце века безнадежно устаревшим, и выкладывает на видное место модную новинку — стихи французского символиста Поля Верлена (1844–1896).
(обратно)231
Смит Уильям (1813–1893) — издатель и один из авторов «Словаря греческих и римских древностей» (1842).
(обратно)232
…могли отнести агностицизм к раннехристианским ересям… — Очевидно, герои рассказа путали новый для них термин «агностицизм» (введенный английским естествоиспытателем Л. Гексли в 1869 году) — то есть учение, отрицающее познаваемость мира, с раннехристианской сектой агностиков (IV–V века).
(обратно)233
Элевсинские мистерии — в Древней Греции тайные религиозные празднества в честь богини плодородия Деметры и ее дочери Персефоны, похищенной богом подземного царства Аидом. Элсвсин — город в Греции, близ Афин.
(обратно)234
…плоскогорье Мату-Гроссо — расположено в юго-западной части Бразилии.
(обратно)235
Фон ден Штайнен Карл — немецкий путешественник, совершивший в 1883–1888 годах две экспедиции в неисследованные области бассейна Амазонки.
(обратно)236
Из сборника «Некоторые люди» (1930). Тематически рассказ восходит к серии гравюр по рисункам знаменитого немецкого художника Ганса Гольбейна-младшего (1497–1543) «Пляска смерти», на которых аллегорически показано вторжение смерти в жизнь людей различных рангов, от короля до простолюдина. Особенно близка к фабуле рассказа гравюра «Старик», где Смерть одной рукой тянет старого человека в разверстую могилу, а другой — играет на цитре. Важное для рассказа совмещение мотива смерти с мотивом пиршества напоминает о гравюре «Король», на которой Смерть держит чашу с вином, как бы прислуживая пирующему.
(обратно)237
Синай (библ.) — гора, с которой Моисей возвестил народу свой завет с господом.
(обратно)238
Лонг-Айленд, Ньюпорт — см. примеч. 13 и 126.
(обратно)239
Хот-Спрингз — курорт в американском штате Дакота.
(обратно)240
…в севрских канделябрах горели свечи… — Имеется в виду дорогой французский фарфор (по названию города Севр, где в 1751 году был открыт фарфоровый завод).
(обратно)241
«Роз Дюбарри» — сорт севрского фарфора, получивший свое название по имени графини Дюбарри (1746–1793), фаворитки Людовика XV.
(обратно)242
Перье-жуэ, шато-лафит — французские вина.
(обратно)243
Из сборника «По всему миру» (1936).
Римская лихорадка. — Так называли род малярии, распространенный в Риме до конца XIX века.
(обратно)244
Палатин — один из семи холмов, на которых, по преданию, был построен Рим.
(обратно)245
Форум — см. примеч. 211.
(обратно)246
Тарквиния—городок к северо-западу от Рима, на берегу Тирренского моря.
(обратно)247
Парк-авеню — фешенебельная улица в центральной части Манхаттана (Нью-Йорк).
(обратно)248
Помни о смерти (лат.).
(обратно)249
Дворец цезарей — группа зданий на Палатине, начатая первым римским императором Августом (27 г. до и. 8.— 14 г. н. э.) и впоследствии расширявшаяся другими императорами.
(обратно)250
Колизей — величайший амфитеатр Древнего Рима, на котором происходили битвы гладиаторов.
(обратно)251
Семь Холмов — то есть Рим.
(обратно)252
Бедекер — популярный путеводитель (по имени немецкого издателя Карла Бедекера; 1801–1859).
(обратно)

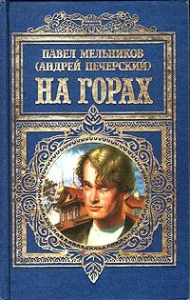
Комментарии к книге «Избранное», Эдит Уортон
Всего 0 комментариев