Жид Андре Изабель
Посвящается Андре Рюитеру
Жерар Лаказ, у которого мы с Франсисом Жаммом гостили в августе 189… года, решил показать нам замок в Картфурше (от него вскоре останутся одни развалины) и заброшенный парк, где вовсю бушевало лето. вход в него к тому времени уже ничто не преграждало: ров был наполовину засыпан, ограда обветшала, а полуразвалившаяся решетка поддалась при первом же напоре плечом. Аллеи как не бывало; на заросших газонах мирно паслись коровы, поедая обильную, буйно разросшуюся траву или ища прохладу в глубине поредевшей чащи; в диких зарослях с трудом можно было различить цветок или необычное растение — многострадальные остатки культурных насаждений, почти совсем заглушенных сорняками. Мы молча шли за Жераром, потрясенные красотой представившейся нам в это время года и в этот час дня картины, одновременно ощущая, сколько запустения и скорби может таить в себе непомерная роскошь. Мы подошли к замку — нижние ступени крыльца утопали в траве, верхние потрескались; застекленные двери, ведущие в переднюю, были накрепко заколочены. Мы проникли в дом через подвальный проем; по лестнице поднялись в кухню; все двери в доме были открыты… Мы проходили из комнаты в комнату, осторожно ступая, поскольку пол местами прогибался и, казалось, вот-вот провалится, приглушая шаги не из боязни, что кто-то услышит, а потому, что в мертвой тишине пустого дома звуки нашего присутствия раздавались вызывающе, едва не наводя страх на нас самих. в окнах первого этажа было выбито несколько стекол; между створками ставен в сумраке столовой пробивались длинные, бесцветные и немощные ростки бигнонии.
Жерар оставил нас одних, предпочитая, как нам показалось, в одиночестве вновь увидеть места, с владельцами которых он был некогда знаком, и мы продолжали осмотр замка без него. Он опередил нас на втором этаже с его унылыми голыми комнатами: об этом свидетельствовала висящая на стене на крючке самшитовая ветка, перевязанная выцветшей шелковой ленточкой; мне показалось, что она еще слабо покачивается, и я вообразил, что Жерар, пройдя мимо, отломил от нее сучок.
Мы нашли его на третьем этаже, в коридоре около окна с выбитыми стеклами, через которое снаружи была протянута веревка от колокола; я хотел потянуть за нее, как вдруг Жерар схватил меня за руку; вместо того чтобы помешать мне, он только подтолкнул меня — раздался хриплый звон, так близко и так неожиданно, что мы вздрогнули от испуга; и потом, когда уже, казалось, вновь воцарилась тишина, прозвучали еще два отчетливых, разделенных промежутком и уже далеких удара. Я повернулся к Жерару, у него дрожали губы.
— Уйдем отсюда, — сказал он. — Мне нечем дышать.
Как только мы вышли наружу, он извинился, что не может нас сопровождать, под тем предлогом, что должен повидать одного своего знакомого, жившего поблизости. По тому, как он говорил, мы поняли, что было бы бестактно следовать за ним, и вернулись в Р., куда вечером пришел и Жерар.
— Дорогой друг, — сказал ему некоторое время спустя Жамм, — знайте, я твердо решил не рассказывать больше ни одной истории, пока вы не выложите свою, которая не дает вам покоя.
А надо сказать, что рассказы Жамма составляли усладу наших ночных бдений.
— Я охотно поделился бы с вами тем романом, что имел место в доме, который вы видели, — начал Жерар, — но из-за того, что сам я смог раскрыть или восстановить его только частично, боюсь, что внесу в свой рассказ хоть какой-то порядок лишь ценой той загадочной привлекательности, в которую мое любопытство некогда облекало каждое событие…
— Вносите в рассказ какой угодно беспорядок, — отвечал Жамм.
— Зачем стараться восстанавливать события в хронологическом порядке? — сказал я. — Не лучше ли повествовать о них в том порядке, в котором они происходили?
— Тогда не взыщите, если я буду много говорить о себе, — сказал Жерар.
— Все мы только этим и заняты! — воскликнул Жамм.
Вот о чем поведал нам Жерар.
I
Сегодня мне трудно понять то нетерпение, с которым я стремился жить. В двадцать пять лет я мало что знал о жизни, и то из книг, и, конечно, поэтому считал себя писателем: ведь я и понятия не имел, с какой дьявольской хитростью события скрывают от нашего взора сторону, заинтересовавшую бы нас более всего, и как мало они поддаются тем, кто не умеет взять их силой.
Я работал тогда над диссертацией на степень доктора на тему хронологии проповедей Боссюэ;[1] не то чтобы меня как-то особенно привлекало церковное красноречие, я выбрал эту тему из уважения к моему старому учителю Альберу Десносу, труд которого «Жизнь Боссюэ» как раз выходил в свет. Как только Деснос узнал о моих намерениях, он предложил мне помочь. один из его старых друзей, Бенжамен Флош, член-корреспондент Академии надписей и словесности, обладал источниками, которые, несомненно, могли мне пригодиться, и в частности Библией с пометками самого Боссюэ. Лет пятнадцать назад г-н Флош уединился в Картфурше, фамильном владении недалеко от Пон-л'Евека, который окрестили Перекрестком, где он оставался безвыездно и где был готов принять меня, предоставив в мое распоряжение рукописи, библиотеку и свою неисчерпаемую, по словам Десноса, эрудицию.
Они обменялись письмами. Книг и рукописей оказалось больше, чем предполагал мой учитель, и речь шла уже не просто о моем визите, а о длительном пребывании в Картфурше, которое по рекомендации Десноса г-н Флош мне любезно предложил. Не имея своих детей, г-н и г-жа Флош жили тем не менее не одни: несколько неосторожных слов Десноса завладели моим воображением и вселили надежду, что я найду там приятное общество, мыли о котором тотчас увлекли меня больше, чем пыльные бумаги Великого века,[2] моя диссертация была уже не более чем предлог, я мысленно входил во дворец не как простой школяр, а как Нежданов или Вальмон и предвкушал приключения. Картфурш! Картфурш! — повторял я это таинственное название; это здесь, думал я, Геракл оказался на перепутье… Я знаю, конечно, что ждет его на пути добродетели, но куда ведет другая дорога?.. другая…
К середине сентября, отобрав лучшее из своего скромного гардероба и с обновленным набором галстуков я отправился в путь.
До станции Брей-Бланжи, расположенной между Пон-л'Евеком и Лизье, я добрался почти ночью. С поезда сошел я один. Встречал меня человек в ливрее, крестьянин по виду, он взял мой чемодан и повел меня к коляске, стоявшей по другую сторону вокзала. При виде лошади и коляски воодушевление мое поубавилось: более жалкое зрелище трудно было вообразить. Крестьянин (он же кучер) сходил за моим дорожным сундуком, который я сдал в багаж; под его тяжестью рессоры повозки осели. Внутри ее стоял удушливый запах курятника… Я хотел опустить стекло дверцы, но кожаная ручка осталась у меня в руке. Днем шел дождь, и дорогу развезло, на первом же подъеме что-то случилось со сбруей. Кучер вытащил из-под сиденья кусок веревки и начал винить постромки. Я слез с повозки и предложил посветить ему, при свете фонаря я разглядел, что ливрея бедняги, как и конская сбруя, была штопана-перештопана.
— Кожа несколько поистерлась, — начал было я.
Он взглянул на меня так, будто я его обругал, и произнес чуть ли не грубо:
— Скажите спасибо, что вас вообще смогли встретить.
— Замок далеко отсюда? — спросил я как можно мягче.
Он ответил уклончиво:
— Ездим сюда не каждый день. — Потом, помолчав, добавил: — Коляска-то вот уже месяцев шесть как не выезжала…
— А… ваши хозяева часто выезжают на прогулку? — снова начал я, отчаянно стараясь завязать беседу.
— Вы что ж, думаете, им делать больше нечего!
Неполадки были устранены, он жестом пригласил меня садиться, и мы тронулись.
Лошадь еле плелась на подъемах, на спусках, спотыкалась, ноги ее заплетались на ровном месте; иногда совсем неожиданно она останавливалась. «Так, как мы едем, — подумал я, — мы доберемся до Перекрестка, когда хозяева уже давным-давно встанут из-за стола, а может быть (опять остановка), когда уже лягут спать». Я очень проголодался, хорошего моего настроения как не бывало. Я попытался разглядеть окрестности: оказывается, я и не заметил, как мы свернули с большой дороги на проселочную, гораздо менее ухоженную, фонари высвечивали тянувшуюся по обе стороны от нее плотную и высокую живую изгородь — казалось, она окружает нас, преграждая путь, и расступается только в тот момент, когда мы ее проезжаем, чтобы затем снова сомкнуться.
У подножия подъема покруче коляска снова остановилась. Кучер соскочил с козел, открыл дверцу и бесцеремонно предложил:
— Если бы господин соблаговолил сойти. Подъем трудноват для лошади. — И, взяв клячу под уздцы, повел ее в гору. На середине склона он обернулся ко мне:
— Скоро доберемся, — сказал он, смягчившись. — Да вот и парк.
Перед нами выросла темня масса деревьев, заслонявшая небо. Это была аллея высоких кедров; мы вошли в нее, и она вывела нас к той дороге, с которой мы съехали. Кучер пригласил меня снова занять место в коляске, которая вскоре доставила нас к ограде; мы въехали в парк.
Было слишком темно, дом был едва различим; коляска доставила меня к крыльцу; несколько ослепленный светильником, который держала в руке малопривлекательная, плотная и плохо одетая женщина неопределенного возраста, я поднялся по трем ступенькам. Женщина несколько сухо поприветствовала меня. Я поклонился ей в ответ, сомневаясь, правильно ли поступаю.
— Вы, видимо… мадам Флош?
— Я просто мадемуазель Вердюр. Господин и госпожа Флош легли спать. Они просят извинить, что не встречают вас, ведь ужинают и ложатся спать у нас рано.
— А вам, мадемуазель, пришлось бодрствовать.
— Что ж, я привыкла, — ответила она, и не оборачиваясь, и, проводив меня в прихожую, предложила: — Вы, должно быть, не прочь перекусить что-нибудь?
— Пожалуй, должен вам признаться: я сегодня не ужинал.
Она провела меня в просторную столовую, где была приготовлена вполне приличная ночная трапеза.
— Сейчас печь уже остыла; в деревне приходится довольствоваться тем, что найдется.
— Но мне это кажется превосходным, — произнес я, усаживаясь перед блюдом холодного мяса. Она бочком устроилась на стуле возле двери и все время, пока я ел, сидела опустив глаза и сложив на коленях руки, с подчеркнутой покорностью. Беседа наша шла на убыль, и я несколько раз пытался извиниться, что задерживаю ее, но она дала понять, что дождется, пока я закончу, чтобы убрать со стола:
— А как вы один найдете свою спальню?..
Я заторопился и начал есть быстрее, когда дверь из прихожей отворилась: вошел седовласый священник с суровым, но приятным лицом.
Он подошел ко мне, протянул для пожатия руку:
— Не хотелось откладывать на завтра удовольствие поприветствовать нашего гостя. Я не спустился раньше потому, что знал, что вы беседуете с мадемуазель Олимпией Вердюр, — сказал он, обернувшись к ней с улыбкой, которая могла означать лукавство, но та, поджав губы, сидела с каменным лицом.
— Поскольку вы закончили ужинать, продолжал он, пока я поднимался из-за стола, — мы оставим мадемуазель Олимпию, чтобы она могла навести здесь порядок; я полагаю, она сочтет более уместным, чтобы мужчина проводил господина Лаказа в его спальню, и уступит в этом свои обязанности мне.
Он церемонно поклонился мадемуазель Вердюр, которая ответила ему более коротким, чем следовало, реверансом.
— О! Я уступаю, уступаю… Господин аббат, вам, вы знаете, я всегда уступаю… Потом вдруг добавила, обернувшись ко мне: — Из-за вас я чуть было не забыла спросить господина Лаказа, что ему приготовить на завтрак.
— Да что хотите, мадемуазель… А что здесь обычно подают?
— Все. Дамам подают чай, господину Флошу — кофе, господину аббату — суп-пюре, а господину Казимиру — ракау.[3]
— А вам, мадемуазель, вам ничего?
— Я? Я пью просто кофе с молоком.
— Если позволите, я, как и вы, буду пить кофе с молоком.
— Так-так, мадемуазель Вердюр, — беря меня за руку, сказал священник, — сдается мне, что господин Лаказ за вами ухаживает!
Она пожала плечами, кивнула мне, и аббат увел меня.
Отведенная мне спальня находилась на втором этаже, почти в конце коридора.
— Это здесь, — сказал аббат, отворив дверь просторной комнаты, освещенной пламенем большого очага: — Боже правый! Для вас и огонь зажгли!.. Вы, может быть, и без него обошлись бы… правда, здешние ночи очень сырые, а лето в этом году необычайно дождливое…
Он подошел к огню, протянул к нему широкие ладони и откинул голову назад, как благочестивый от искушения. Казалось, он был расположен скорее беседовать со мной, чем дать мне поспать.
— Да, — начал он, заметив мой сундук и саквояж, — Грасьен принес ваш багаж.
— Грасьен — это кучер, который меня привез? — поинтересовался я.
— Он же садовник, ибо обязанности кучера не отнимают у него много времени.
— И впрямь, он говорил мне, что коляску используют нечасто.
— Всякий раз, когда ею пользуются, — это историческое событие. Кстати, господин Сент-Ореоль уже давно не содержит конюшни, а в особых случаях, как сегодня, лошадь берут у фермера.
— Господин Сент-Ореоль? — с удивлением переспросил я.
— Да. Я знаю, что вы приехали к господину Флошу, но Картфурш принадлежит его шурину. Завтра вы будете иметь честь быть представленным господину и госпоже Сент-Ореоль.
— А кто такой господин Казимир, о котором я знаю только то, что на завтрак ему подают шоколадное желе?
— Их внук и мой ученик. Вот уже три года, как я, слава тебе, Господи, учу его. — Он произнес эти слова, закрыв глаза и с таким смеренным видом, словно речь шла о принце крови.
— Его родители живут не здесь? — спросил я.
— В отъезде. — Он плотно сжал губы, но тут же заговорил снова: — Я знаю, господин Лаказ, какие благородные и святые цели привели вас сюда…
— Не преувеличивайте их святость, — смеясь, тотчас прервал я его, — мои исследования занимают меня только как историка.
— Тем не менее, — произнес он, как бы отстраняя жестом руки сколько-нибудь неподобающую мысль, — история имеет свои права. Вы найдете в лице господина Флоша самого любезного и надежного из наставников.
— То же самое утверждал и мой учитель, господин Деснос.
— Как! Вы ученик Альбера Десноса? — Он снова сжал губы.
Я имел неосторожность спросить:
— А что, вы слушали курс его лекций?
— Нет! — жестко ответил он. — То, что я о нем знал, меня от этого предостерегло… Это — авантюрист мысли. В вашем возрасте легко увлекаются тем, что выходит за рамки обыденного… — Я ничего не отвечал, и он продолжал: — Его теории сначала имели некоторое воздействие на молодежь, но сейчас, как мне говорили, это уже проходит.
Мне гораздо меньше хотелось дискутировать, чем спать.
— Господин Флош будет вам в этом более спокойным собеседником, — снова начал он, чувствуя, что не получит от меня ответа, и, увидев, как откровенно я зеваю, добавил:
— Уже поздно; завтра, если позволите, мы сможем продолжить беседу. После такого путешествия вы, должно быть, устали.
— Признаться, господин аббат, я просто изнемогаю от желания спать.
Как только он вышел, я помешал поленья в камине и настежь распахнул окно, отворив деревянные ставни. Промозглый потом воздуха поколебал пламя свечи; я загасил ее, чтобы полюбоваться ночью. Окно моей спальни выходило в парк, но не со стороны фасада дома, как комнаты длинного коридора, из которых, очевидно, открывался более обширный вид; мой взгляд сразу остановился на деревьях; над ними едва оставался кусочек чистого неба, где появившийся было лунный серп почти тотчас скрылся за облаками. Снова был дождь, ветви еще слезились его влагой…
«Да, не очень-то праздничный вид», — подумал я, закрывая окно и ставни. Эта минута созерцания привела в оцепенение мое тело и еще больше душу; поворошив поленья, я оживил огонь и был рад обнаружить в постели грелку, положенную туда, конечно же, предупредительной мадемуазель Вердюр.
Тут я вспомнил, что забыл выставить за дверь свои ботинки. Я встал и вышел на минуту в коридор, в другом его конце я заметил мадемуазель Вердюр. Ее комната была расположена над моей — я понял это по тяжелым шагам, которые некоторое время спустя стали сотрясать потолок в моей комнате. Затем наступила глубокая тишина, и в момент, когда я погружался в сон, весь дом поднял якоря, чтобы унестись в ночное плавание.
II
Я проснулся довольно рано он шума, доносившегося из кухни, дверь которой была как раз под моим окном. Отворив ставни, я с радостью увидел почти безоблачное небо; сад, еще не обсохший от недавнего ливня, сверкал, воздух светился голубизной. Я намеревался закрыть окно, когда увидел появившегося со стороны огорода и бегущего в сторону кухни мальчика, трудно было определить его возраст: взрослое выражение его лица контрастировало с его маленьким ростом. Совершенно безобразный, он передвигался неуклюже: кривые ноги делали его поступь невообразимой, он как-то кособоко бежал или скорее двигался прыжками; казалось, его ноги непременно запутаются, если он пойдет шагом… Это был ученик аббата, Казимир. Около него резвился и радостно прыгал с ним заодно огромный ньюфаундленд; мальчик с трудом справлялся с его буйным натиском, но, когда кухня была совсем рядом, сбитый собакой с ног, он покатился в грязь. Подоспевшая, чтобы его поднять, неряшливая толстуха напустилась не него:
— Да, хорош, нечего сказать! Бог знает во что превратились! Сколько раз вам говорить, чтобы оставляли Терно в сарае!.. Ладно! Идите сюда, я вас вытру…
Она увела его в кухню. Тут в мою дверь постучали; горничная принесла горячую воду. Четверть часа спустя позвонили к завтраку.
При моем появлении в столовой аббат сделал несколько шагов мне навстречу со словами:
— Госпожа Флош, а вот и наш любезный гость.
Г-жа Флош поднялась со стула, но не показалась от этого выше ростом; я глубоко поклонился; она удостоила меня коротким резким кивком; в свое время на ее голову, должно быть, упало что-то чудовищное, от чего она так и осталась непоправимо вдавленной в плечи и сидела там даже несколько криво. Г-н Флош тоже встал, чтобы пожать мне руку. Старички были одного роста, одинаково одеты, казались одного возраста, одной плоти… Некоторое время мы обменивались ничего не значащими любезностями, все трое говоря одновременно. Затем воцарилось чинное молчание, и тут подоспела м-ль Вердюр с чайником.
— Мадемуазель Олимпия, — произнесла г-жа Флош, не имея возможности повернуть головы и поэтому поворачиваясь к нам всем телом, — мадемуазель Олимпия, друг нашей семьи, очень беспокоится, хорошо ли вам спалось и удобна ли была постель.
Я поторопился заверить, что отдохнул как нельзя лучше и что грелка, которую я обнаружил, ложась в постель, была очень кстати.
М-ль Вердюр, поприветствовав меня, вышла.
— А шум с кухни утром не очень беспокоил вас?
Я вновь возразил.
— Прошу вас, скажите, сделайте одолжение, нет ничего проще, как приготовить вам другую комнату…
Г-н Флош не произносил ни слова, лишь покачивал склоненной набок головой и всей своей улыбкой показывал, что полностью согласен с женой.
— Да, я вижу, дом очень просторный, — отвечал я, — но уверяю вас, что вряд ли возможно разместиться приятнее.
— Господину и госпоже Флош, — вставил аббат, — нравится баловать своих гостей.
М-ль Олимпия принесла на блюде кусочки поджаренного хлеба; перед собой она, подталкивая, вела маленького калеку, которого я только что увидел в окно. Аббат взял его за руку:
— Ну что же вы, Казимир! Вы же не маленький; подойдите, поздоровайтесь с господином Лаказом, как подобает мужчине. Подайте руку… Не опускайте глаза!.. — Затем, повернувшись ко мне и как бы извиняясь за него, пояснил: — Мы еще не привыкли к светским манерам…
Застенчивость мальчика смущала меня.
— Это ваш внук? — спросил я г-жу Флош, забыв объяснения, полученные накануне от аббата.
— Наш внучатый племянник, — ответила она, — чуть позже вы познакомитесь с моей сестрой и шурином — его бабушкой и дедушкой.
— Он не хотел идти домой потому, что заляпал грязью всю одежду, когда играл с Терно, — объяснила м-ль Вердюр.
— Ничего себе игра, — сказал я, приветливо обернувшись к Казимиру, — я был у окна, когда он вас сбил с ног… Вам не было больно?
— Надо сказать, господин Лаказ, — пояснил в свою очередь аббат, — что мы не очень сильны в равновесии…
Чет возьми! Я не хуже его это видел; необходимости подчеркивать это не было. Этот пышащий здоровьем, с глазами разного цвета аббат стал мне вдруг неприятен.
Мальчик мне ничего не ответил, но лицо его зарделось. Я сожалел о произнесенной мной фразе, о том, что он мог почувствовать в ней какой-то намек на его недуг. Аббат, съев свой суп, поднялся из-за стола и ходил теперь по комнате; когда он замолкал, он так сжимал губы, что верхняя превращалась в валик, как у беззубых стариков. Он остановился за спиной Казимира и, как только тот допил свою чашку, заторопил: — Идемте! Идемте, молодой человек, Авензоар[4] ждет нас!
Мальчик встал, они вышли.
После завтрака г-н Флош позвал меня:
— Идемте со мной в сад, мой дорогой гость, и поведайте мне новости мыслящего Парижа.
Господин Флош витийствовал с утра. Не особенно слушая мои ответы, он задавал мне вопрос о своем друге Гастоне Буассье и о многих других ученых, которые вполне могли бы быть моими учителями и с которыми он все еще время от времени переписывался; он расспрашивал меня о моих вкусах, учебе… Я, разумеется, ничего не сказал ему о своих писательских намерениях и представился ему только как исследователь из Сорбонны; затем он заговорил об истории Картфурша, где он провел почти безвыездно без малого пятнадцать лет, об истории парка, замка; рассказ об истории семьи, жившей в нем ранее, он отложил и перешел к тому, как он оказался обладателем рукописей XVII века, которые могли бы представить интерес для моей диссертации… Он шел мелкими, частыми шажками, или, точнее, семенил, за мной; как я заметил, брюки он носил так низко на бедрах, что ширинка доходила ему почти до колен; спереди ткань ниспадала на ступни множеством складок, а сзади задиралась над ботинками — непонятно, с помощью какого ухищрения. Некоторое время спустя я слушал его уже вполуха, так как разомлел от ласкового теплого воздуха и весь был во власти какой-то безвольной расслабленности.
Идя по аллее очень высоких каштанов, которые образовывали над нами свод, мы дошли почти до конца парка. Там, скрытая от солнца кустами акации, стояла скамейка, и г-н Флош предложил мне присесть. А затем задал неожиданный вопрос:
— Аббат Санталь сказал вам, что мой шурин несколько?.. — он не договорил, но прислонил ко лбу указательный палец.
Я был слишком удивлен, чтобы сразу ответить, и он продолжал:
— Да, барон де Сент-Ореоль, мой шурин; аббат вам, может быть, не сказал больше того, что сказал мне… но я тем не менее знаю, что он так думает; да и я думаю так же… А обо мне аббат не говорил, что я несколько того?..
— Но, господин Флош, как вы можете думать?..
— Но, мой молодой друг, — по-свойски похлопывая меня по руке, сказал он, — я бы счел это вполне естественным. Что вы хотите? Здесь мы приобрели привычку скрываться от мира, несколько… выпадая из общего движения. Ничто не занимает здесь нашего внимания; как бы это сказать?.. Да, вы оказали нам большую любезность, приехав к нам, — я попытался что-либо возразить, но он повторил: — Да-да, вы были очень любезны, и я сегодня же вечером напишу об этом моему замечательному другу Десносу; но должен вас предупредить; вздумай вы мне рассказать о том, что близко вашему сердцу, о том, что вас тревожит, интересует… я уверен, что не пойму вас.
Что я мог сказать на это? Я молча водил кончиком трости по песку.
— Видите ли, — снова начал он, — мы здесь несколько утратили способность общаться. Да нет, нет! Не возражайте же — это бесполезно! Барон глух как тыква, но настолько кокетлив, что никак не хочет показать и предпочитает притворяться, что слышит, а не просит говорить громче. Что касается меня, то к идеям сегодняшнего дня я так же глух, как и он, и от этого, кстати, не страдаю. Я даже не очень стараюсь их услышать. Общение с Массийоном[5] и Боссюэ заставило меня поверить в то, что идеи, волновавшие эти великие умы, так же прекрасны и значительны, как те, которые захватывали меня в молодости, которые этим великим умам, конечно же, было не понять… так же как я не могу понять проблем, увлекающих сегодня вас… Поэтому я просил бы вас, мой юный коллега, чтобы вы скорее заговорили о ваших исследованиях, поскольку они в то же время и мои, и извините меня, если я не стану расспрашивать вас о ваших любимых музыкантах, поэтах, ораторах или о форме государственной власти, которую вы считаете наиболее приемлемой.
Он взглянул на свои карманные часы на черном шнурке и, вставая, сказал:
— Пора возвращаться. День кажется мне потерянным, если я в десять утра не сяду за работу.
Я предложил ему локоть, он не возражал; время от времени, когда я из-за него замедлял шаг, он повторял:
— Скорее! Скорее! Мысли как цветы: сорванные утром, они дольше остаются свежими.
Библиотека Картфурша размещалась в двух комнатах, разделенных простой занавеской: в одной из них, очень тесной, расположенной на три ступеньки выше, за столом около окна работал г-н Флош. Вид из окна закрывали бившие в стекла ветви вяза и ольхи, на столе стояла старинная керосиновая лампа с зеленым фарфоровым абажуром, под столом виднелась огромная меховая грелка для ног; в одном углу — небольшая печка, в другом — еще один стол, заваленный словарями, между ними — шкаф для бумаг. Вторая комната просторнее; стены до потолка уставлены полками с книгами, два окна, посредине комнаты — большой стол.
— Вот ваше место, — сказал господин Флош, и, поскольку я снова попытался возразить, добавил:
— Нет, нет, я привык работать в тесноте, сказать по правде, мне там лучше: словно бы мысли лучше сосредоточиваются. Занимайте без всяких стеснений большой стол, и, если хотите, чтобы мы не беспокоили друг друга, можно опустить занавес.
— Для меня в этом нет никакой необходимости, если бы для работы мне требовалось одиночество, то я бы до сих пор не…
— Вот и хорошо! — прервал он меня. — Значит, занавешивать не будем. По правде сказать, мне доставит большое удовольствие подглядывать за вами. (И впрямь все последующие дни, всякий раз, когда я отрывал глаза от работы, я встречал взгляд этого добродушного старика, который, улыбаясь, кивал мне головой или из опасения показаться назойливым быстро отводил глаза, делая вид, что погружен в чтение.)
Он тут же подготовил все необходимое, чтобы я легко мог располагать интересующими меня книгами и рукописями, большинство из которых теснились в книжном шкафу меньшей комнаты; их количество и важность значительно превосходили предположения г-на Десноса, и, как выяснилось, мне понадобится минимум неделя для того, чтобы извлечь из них те ценные данные, которые я искал. Последним г-н Флош открыл стоявший рядом с книжным шкафом маленький шкафчик и достал из него знаменую Библию Боссюэ, на которой рукой Орла из Мо[6] против строф, взятых им за основу и послуживших источником вдохновения, были начертаны даты проповедей, прочитанных под их воздействием. Я удивился тому, что Альбер Деснос не воспользовался этими данными в своих работах, но оказалось, что эта книга появилась у г-на Флоша недавно.
— Я подготовил памятную записку по этому поводу, — продолжал он, — но сегодня рад, что еще никого не познакомил с ней и вы сможете использовать ее для своей диссертации.
Я опять возразил:
— Тогда всеми достоинствами моей диссертации я буду обязан вам. Вы позволите мне по крайней мере сделать вам посвящение, господин Флош, в знак моей признательности?
Он грустно улыбнулся:
— Когда ты так близок к тому, чтобы покинуть землю, то охотно улыбаешься всему, что обещает тебе хоть какое-то продление жизни.
Я счел неуместным продолжать в том же духе.
— Ну а теперь, — произнес он, — вступайте во владение библиотекой и вспоминайте о моем присутствии только тогда, когда вам потребуется какая-то помощь. Берите какие вам нужно документы… и… до свидания!..
Когда я, спустившись на три ступеньки, с улыбкой обернулся к нему, он помахал рукой:
— До скорого!
Я захватил с собой в большую комнату несколько документов, к работе над которыми собирался приступить. Не отрываясь от стола, я мог наблюдать за г-ном Флошем в его каморке: некоторое время он проявлял беспокойство, выдвигал и задвигал ящики стола, вытаскивал бумаги, снова убирал их с видом занятого человека… Я подозревал, что он был очень смущен или стеснен моим присутствием и что малейшее вмешательство в его такой размеренный образ жизни могло поставить под угрозу его душевное равновесие. Наконец он успокоился, поглубже засунул ноги в меховую грелку, замер…
Я со своей стороны сделал вид, что целиком погрузился в работу, однако мне было трудно собраться с мыслями, да я и не старался — они кружили вокруг Картфурша, как вокруг башни в поисках входа. То, что я тонкая, чувствительная натура, еще требовалось доказать. «Раз ты писатель, мой друг, — говорил я себе, — так мы тебя посмотрим в деле. Описать! Э, нет! Не о том речь, надо раскрыть истину, скрытую под внешней оболочкой… Если за то короткое время, которое тебе отведено в Картфурше, ты позволишь хотя бы жесту, хотя бы малейшему движению пройти мимо тебя, не объяснив его с психологической, исторической и общечеловеческой точки зрения, грош тебе цена как писателю».
Я перевел глаза на г-на Флоша, сидевшего ко мне в профиль; мне был виден крупный вислый нос, лохматые брови, скошенный подбородок, который не переставал двигаться, как будто его обладатель жевал жвачку… и я подумал, что ничего не делает лицо столь непроницаемым, как маска доброты.
Звонок к обеду прервал на этом мои размышления.
III
Именно за этим обедом г-н Флош неожиданно и без ораторских приемов ввел меня в общество четы Сент-Ореолей. Но ведь аббат накануне вечером мог бы меня предупредить. Помню, впервые я испытал подобное оцепенение однажды в Ботаническом саду при виде Phoenicopterus antiquorum, или утконосого фламинго.[7] Я не смог бы сказать, кто из них двоих — барон или баронесса — был более живописен; они абсолютно подходили друг другу, как, впрочем, и пара Флошей: в музее естественных наук их без колебаний поставили бы рядом в одну витрину в разделе «Исчезнувшие виды». Сначала я испытал перед ними своего рода смутное восхищение, которое испытываешь в первое мгновение перед совершенным произведением искусства или чудом природы, теряя способность к анализу. Медленно и с трудом я смог привести в порядок свои впечатления…
Барон Нарцисс де Сент-Ореоль был в коротких штанах, туфлях с очень броскими пряжками, при муслиновом галстуке и жабо. Адамово яблоко величиной с подбородок торчало из ворота и пряталось, насколько это было возможно, в вихре муслина; подбородок при малейшем движении челюсти совершал неимоверное усилие, чтобы дотянуться до носа, который со своей стороны охотно соглашался на это. Один глаз был наглухо закрыт; второй, к которому тянулись уголки губ и все складки лица, сверкал, глубоко засев в скуле, и, казалось, говорил: «Осторожно! Я один, но ничего от меня не ускользает».
Г-же де Сент-Ореоль вся целиком утопала в облаке дешевых кружев. Забившись вовнутрь вздрагивающих рукавов, тряслись тонкие пальцы рук, унизанные огромными кольцами. Что-то вроде чепца из черной тафты, подбитого белыми кружевами, обрамляло лицо; завязки из той же тафты под подбородком были испачканы пудрой, осыпавшейся с ужасно накрашенного лица. Когда я вошел, она вызывающе встала передо мной в профиль, отбросила голову назад и сильным голосом с непреклонными нотками проговорила:
— Было время, сестра, когда фамилии Сент-Ореоль оказывалось больше почтения…
На кого она сердилась? Ей, конечно, хотелось дать мне почувствовать и дать понять сестре, что хозяевами здесь были не Флоши; в подтверждение этого, подняв в мою сторону правую руку и склонив набок голову, она жеманно произнесла:
— Мы с бароном рады, сударь, принять вас за нашим столом.
Я ткнулся губами в кольцо и покраснел, выпрямляясь, ибо мое положение между четой Сент-Ореолей и Флошами становилось щекотливым. Г-же Флош, однако, казалось, не обратила никакого внимания на выходку сестры. Что касается барона, то сама реальность его присутствия вызывала у меня сомнения, хотя он был со мной подчеркнуто любезен. За все время моего пребывания в Картфурше его так и не удалось заставить называть меня иначе, как г-н Лас Каз, что позволяло ему утверждать, что он часто встречался с моими родственниками в Тюильри… главным образом с моим дядей, с которым он якобы играл в пикет.
— О! Это был большой оригинал! — вспоминал он. — Всякий раз когда он открывал туза, то громко кричал: «Домина!»
Все высказывания барона были примерно в таком духе. За столом почти всегда говорил он один, но тут же после трапезы становился нем, как мумия.
Когда мы выходили из столовой, г-жа Флош подошла ко мне и тихо попросила:
— Не окажет ли мне господин Лаказ любезность и не побеседует ли со мной?
Похоже, она не хотела, чтобы беседу эту кто-либо услышал, поскольку повела меня в сторону сада, громко объясняя, что хотела бы показать мне ягодные кусты.
— Я по поводу моего племянника, — начала она, убедившись, что никто нас не слышит. — Я бы не хотела, чтобы у вас создалось мнение, что я критикую преподавание аббата Санталя, но вы, ныряющий в сами источники образования (она так и сказала), вы, возможно, могли бы дать нам хороший совет.
— Продолжайте, сударыня, я к вашим услугам.
— Так вот, я опасаюсь, что тема его диссертации для такого малолетнего ребенка слишком необычна.
— Какой диссертации? — спросил я, насторожившись.
— Тема диплома на степень бакалавра.
— А, понятно, — сказал я, решив отныне больше ничему не удивляться. — Какова же она? — спросил я.
— Так вот, господин аббат опасается, что литературные или чисто философские темы могут усугубить неустойчивость юного сознания, и без того склонного к мечтательности… (так по крайней мере считает господин аббат). И потому он предложил Казимиру избрать историческую тему.
— Но, сударыня, это вполне оправданно.
— Извините меня, я боюсь исказить имя… Аверроэс.
— Господин аббат, конечно же, имел свои причины для выбора темы, которая на первый взгляд и вправду кажется не совсем обычной.
— Они выбрали ее вместе. Что касается причин, которыми руководствуется господин аббат, то я готова их принять; эта тема, по его словам, содержит некий особый забавный смысл, способный привлечь внимание Казимира, который частенько бывает несколько рассеян, кроме того (говорят, экзаменаторы придают этому самое большое значение), эта тема еще никогда не затрагивалась.
— Действительно, что-то не припомню…
— И естественно, чтобы найти тему, которой еще никто не касался, нужно было искать не на проторенных тропинках.
— Разумеется!
— Только у меня, признаться, есть опасения… но не злоупотребляю ли я вашим доверием?
— Сударыня, поверьте, моя добрая воля и желание быть вам полезным неистощимы.
— Хорошо, я скажу; я не сомневаюсь, что Казимир сможет достаточно успешно и довольно скоро завершить свою работу, но опасаюсь, как бы из-за желания направить ребенка на стезю истории… желания несколько преждевременного… как бы аббат несколько не упустил общее образование, например арифметику или астрономию…
— А что думает по этому поводу господин Флош? — спросил я в полной растерянности.
— О! Господин Флош соглашается со всем, что делает и говорит аббат.
— А родители?
— Они доверили ребенка нам, — ответила она после легкого замешательства, а затем, остановившись, продолжала: — В порядке любезности, дорогой господин Лаказ, я бы просила вас побеседовать с Казимиром, чтобы самому во всем разобраться, но так, чтобы это не выглядело слишком прямолинейно… и ни в коем случае не в присутствии господина аббата, которого это может несколько расстроить. Уверена, что вы смогли бы таким путем…
— Весьма охотно, сударыня. Мне, конечно же, будет нетрудно найти повод для прогулки с вашим племянником. Он покажет мне какие-нибудь укромные уголки в парке…
— Он кажется немного застенчивым с людьми, которых еще не знает, но по своей натуре он доверчив.
— Я не сомневаюсь, что мы быстро подружимся.
Несколько позже полдник снова свел всех нас вместе.
— Казимир, — обратилась г-жа Флош к мальчику, — показал бы ты господину Лаказу карьер, уверена, что ему это будет интересно, — и, приблизившись затем ко мне, добавила: — поспешите, пока не спустился аббат, иначе он захочет пойти вместе с вами.
Мы тотчас вышли в парк; мальчик, ковыляя, показывал мне дорогу.
— У тебя сейчас перерыв в занятиях? — начал я.
Он ничего не ответил. Я продолжал:
— Вы не занимаетесь после полдника?
— Нет, занимаемся, но сегодня мне нечего переписывать.
— Интересно, что же вы переписываете?
— Диссертацию.
— Ах вот как!..
Задав наугад несколько вопросов, я наконец понял, что «диссертацией» был труд аббата; он заставил мальчика, у которого был правильный почерк, переписать ее начисто и сделать еще несколько копий. Таким образом, ежедневно заполняя несколько страничек четырех толстых тетрадей в картонных переплетах, он делал четыре копии. Впрочем, Казимир уверил меня, что ему очень нравится «копировать».
— Но почему четыре раза?
— Потому что я с трудом запоминаю.
— Вы понимаете то, что вы переписываете?
— Иногда. А иногда аббат мне объясняет или говорит, что пойму, когда подрасту.
Аббат просто сделал из своего ученика секретаря-переписчика. Это так-то представлял он себе свой долг? Сердце у меня сжалось, и решил незамедлительно переговорить с ним на эту драматическую тему. Возмущенный, я машинально ускорил шаги, прежде чем заметил, что Казимир с трудом успевает за мной, весь обливаясь потом. Я пошел медленнее, подал ему руку, он взял ее и заковылял рядом со мной.
— Диссертация — это все, чем вы занимаетесь?
— Ну, нет! — тут же ответил он; однако, продолжая задавать ему вопросы, я понял, что все остальное ограничивалось очень малым; мое удивление очень задело его.
— Я много читаю, — добавил он так, как сказал бы нищий: «У меня есть еще и другая одежда!»
— А что вы любите читать?
— Про великие путешествия, — ответил он, бросив на меня взгляд, в котором настороженность уже уступала место доверию. — Вы знаете? Аббат был в Китае… — в его голосе сквозило безграничное восхищение, преклонение перед своим учителем.
Мы дошли до того места парка, которое г-жа Флош называла «карьером»; это была своего рода пещера на склоне холма, скрытая густым кустарником. Мы присели на обломок скалы, еще теплый, хотя солнце уже садилось. Парк кончился в этом месте, но ограды не было; слева от нас круто спускалась дорога с невысоким барьером, а в обе стороны от нее тянулся довольно обрывистый скат, служивший естественной границей.
— А вы, Казимир, — спросил я, — вы уже путешествовали?
Он не ответил, опустил голову… Ложбина внизу под нами заполнилась тенью, солнце коснулось края холма, скрывавшего от нас перспективу. Испещренный кроличьими норками известняковый пригорок, увенчанный рощицей каштанов и дубов, и само это несколько романтичное местечко нарушали гладкое однообразие окружающей местности.
— Смотрите-ка, кролики, — вскрикнул вдруг Казимир и немного погодя добавил, показывая пальцем на рощу: — Я был там однажды с господином аббатом.
На обратном пути мы прошли мимо пруда, затянутого тиной. Я пообещал Казимиру наладить удочку и поучить его ловить лягушек.
Этот первый мой вечер, завершившийся к девяти часам, нисколько не отличался ни от последующих, ни от тех, которые ему предшествовали, так как моим хозяевам хватило здравого смысла не особенно усердствовать из-за меня. После ужина мы перешли в гостиную, где Грасьен, пока мы были за столом, развел огонь. Большая лампа, стоявшая на углу инкрустированного стола, одновременно освещала противоположный край стола, где барон с аббатом играли в кости, и круглый столик, где дамы оживленно играли в карты.
— Господину Лаказу, привыкшему к парижским развлечениям, наши забавы покажутся, конечно, несколько скучными… — проговорила г-жа Сент-Ореоль.
Г-н Флош дремал в глубоком кресле возле камина, Казимир, поставив локти на стол и обхватив голову руками, с открытым ртом, роняя слюну, страницу за страницей глотал «Путешествие вокруг света». Из приличия и вежливости я сделал вид, что очень заинтересован игрой; играть в нее можно было как в вист — без одного, но лучше — вчетвером, поэтому г-жа Сент-Ореоль охотно согласилась на мое предложение составить им компанию. В первые дни моя игра невпопад была причиной нашего полного поражения, что приводило в восторг г-жу Флош, которая после каждой победы позволяла себе незаметно похлопать меня по руке своей худенькой рукой в митенке. В игре было все: дерзость, хитрость, изощренность. М-ль Олимпия играла очень осмотрительно, согласованно с партнером. В начале каждой партии игроки примерялись, в зависимости от игры насколько могли набивали цену, пользовались возможностью чуть поблефовать; г-жа Сент-Ореоль с блеском в глазах, раскрасневшись, с дрожащим подбородком, играла дерзко, азартно; когда у нее шла действительно хорошая игра, она ударяла меня под столом по ноге; м-ль Олимпия пыталась ей сопротивляться, но ее сбивал с толку пронзительный голос старушки, которая вместо того, чтобы объявить новое число, кричала:
— Вердюр, вы лжете!
Каждый раз в конце первой партии г-жа Флош, посмотрев на часы, как будто и впрямь уже было пора, звала:
— Казимир! Время, Казимир, тебе пора!
Мальчик словно с трудом приходил в себя от летаргического сна, вставал, протягивал вялую руку мужчинам, подставлял лоб дамам и выходил, волоча ногу.
Когда г-жа Сент-Ореоль призывала нас к реваншу, подходила к концу первая партия в кости, в этот момент г-н Флош садился иногда вместо своего родственника; ни г-н Флош, ни аббат не объявляли свою игру, с их стороны было слышно лишь, как в рожке[8] и по столу гремят игральные кости; г-н Сент-Ореоль, погрузившись в кресло, что-то говорил или напевал вполголоса и иногда неожиданно так сильно и резко совал в огонь каминные щипцы, что горящие угли разлетались далеко по полу; м-ль Олимпия бросалась к месту события и исполняла то, что г-жа Сент-Ореоль элегантно зазвала танцем искр… Чаще всего г-н Флош не мешал схватке барона с аббатом, оставаясь в кресле; с моего места я мог видеть его, но не спящим, как он утверждал, а спрятавшим от света голову; в первый вечер во вспышке пламени, неожиданно осветившей его лицо, я увидел, что он плачет.
В четверть десятого, когда безик подходил к концу, г-жа Флош гасила лампу, м-ль Вердюр зажигала свечи в двух подсвечниках и ставила их по обе стороны от играющих.
— Аббат, не задерживайте его допоздна, — хлопнув веером по плечу своего мужа, бросала г-жа Сент-Ореоль.
С первого вечера я счел корректным подчиняться сигналу дам, оставляя игроков продолжать схватку, а г-на Флоша, который поднимался в спальню последним, в его раздумьях. В прихожей каждый брал по подсвечнику, дамы, как и утром, с реверансом желали мне спокойной ночи. Я поднимался в спальню, а вскоре слышал, как поднимаются к себе мужчины. Потом все стихало. Но еще долго после этого из-под некоторых дверей просачивался свет. Однако еще и через час, если по какой-либо необходимости приходилось выйти в коридор, можно было натолкнуться на г-жу Флош или м-ль Вердюр в ночном туалете, занятых последними заботами по дому. А еще позже, когда, казалось, уже все огни потушены, в окне маленького чуланчика, который выходил на улицу, но в который нельзя было попасть из коридора, можно было увидеть, как в китайском театре теней, силуэт орудовавшей швейной иглой г-жи Сент-Ореоль.
IV
Мой второй день в Картфурше повторял почти точь-в-точь час за часом предыдущий; однако любопытство, которое в первый день я еще мог испытывать к тому, чем занимались его обитатели, резко упало. С утра моросил мелкий дождь. Прогулка не состоялась, к беседе с дамами я полностью потерял интерес и почти весь день провел за работой. Мы едва обменялись несколькими фразами с аббатом, это было после обеда, когда он пригласил меня выкурить сигарету в расположенном в нескольких шагах от гостиной застекленном сарае, который здесь несколько помпезно называли оранжереей, — туда в дождливый сезон вносили несколько скамеек и садовых стульев.
— Но, дорогой мой, — начал он, — когда я с некоторым раздражением завел речь о воспитании мальчика, — я бы очень хотел просветить Казимира, передав ему все свои скромные познания, но не без сожалений был вынужден отказаться от этого. Что бы вы сказали, если бы мне пришло в голову заставить ребенка с его хромотой плясать на канате? Я очень скоро вынужден был умерить свои требования. Он занимается со мной Авензоаром только потому, что я взялся за работу по философии Аристотеля, и вместо того, чтобы мусолить с мальчиком бог знает какие азы, я не без удовольствия вовлек его в свою работу. Так ил уж важна тема, гораздо важнее на три-четыре часа в день занять Казимира. И как бы я смог избежать чувства некоторой досады, если бы из-за него пришлось напрасно терять это время? И уверяю вас, без пользы для него… И хватит об этом, не так ли, — с этими словами он бросил погасшую сигарету, встал и направился в гостиную.
Плохая погода помешала мне пойти с Казимиром на рыбалку, мы отложили ее на завтра, но мальчик был так расстроен, что я решил найти для него какое-нибудь другое развлечение; мне попались под руку шахматы, и я обучил его игре в лису и кур, в которую он с увлечением играл до самого ужина.
Этот вечер начался так же, как и предыдущий, но я уже никого не слушал и никого не замечал: мной овладела невыразимая скука.
Тотчас после ужина поднялся такой ветер, что м-ль Вердюр дважды, прервав игру, поднималась в верхние комнаты, чтобы проверить, «не залило ли их дождем». Мы стали брать реванш без нее, но игра не клеилась. Сидя у камина в низком кресле, которое все называли «берлиной»,[9] г-н Флош, убаюканный шумом ливня, на этот раз действительно уснул; сидевший напротив него в мягком кресле барон жаловался на ревматизм и ворчал.
— Партия в жаке вас развлечет, — безуспешно предлагал аббат, но, так и несыскав противника, ушел сам и увел спать Казимира.
Когда я в этот вечер оказался в своей комнате, нестерпимая тоска овладела мной, моя скука превращалась почти в страх. Стена дождя отделяла меня от остального мира, от людских страстей, от жизни, я был посреди серого кошмара, среди странных существ, едва ли людей, с остывшей кровью, бесцветных, чьи сердца уже давно не бились. Я открыл чемодан, схватил расписание: на первый же поезд! На любой час дня или ночи… уехать! Здесь нечем дышать…
Нетерпение долго не давало мне уснуть.
Наутро, когда я проснулся, мое желание уехать было, может быть, не менее твердым, но мне уже стало казаться, что я не могу, не нарушив, приличий по отношению к моим хозяевам, уехать вот так, просто, без какого-либо повода. К тому же я неосторожно сказал, что по меньшей мере неделю пробуду в Картфурше! Ну да ладно! Скажу, что неприятные вести требуют моего скорейшего отъезда в Париж… К счастью, я оставил свой адрес, и всю мою почту должны пересылать в Картфурш; будет чудо, подумал я, если сегодня же я не получу какой-нибудь конверт, которым смогу ловко воспользоваться… И я возложил надежду на почтальона. Тот появлялся обычно чуть позже полудня, когда обед подходил к концу; мы, как всегда, не вставали из-за стола прежде, чем Дельфина принесет и передаст г-же Флош тоненькую пачку писем и печатных изданий, которые она раздаст сидящим за столом. К несчастью, в этот день аббат Санталь был приглашен на обед к настоятелю собора в Пон-л'Евеке; в одиннадцать часов он стал прощаться с г-ном Флошем и со мной, и я не сразу сообразил, что, таким образом, он уводит у меня из-под носа и лошадь, и двуколку.
Итак, за обедом я разыграл задуманную мной маленькую комедию.
— Ну вот! Как неприятно!.. — пробормотал я, распечатав один из конвертов, который протянула мне г-жа Флош, но, так как из вежливости никто не обратил внимания на мое восклицание, я, пробегая глазами безобидный листок и изображая при этом удивление и досаду, продолжал: — Как некстати!
— Какая-нибудь неприятная новость, сударь? — осмелилась наконец робко спросить г-жа Флош.
— Ничего серьезного, — отозвался я. — Но увы! Мне придется срочно вернуться в Париж, отсюда моя досада.
За столом воцарилось полное оцепенение, которое настолько превзошло мои ожидания, что я почувствовал, как краснею от смущения. После нескольких секунд тягостного молчания г-н Флош спросил чуть дрожащим голосом:
— Возможно ли это, мой молодой друг? А как же работа?! А как же наша…
Он не смог договорить. Я не нашелся, что ответить, что сказать и, признаться, сам чувствовал себя изрядно взволнованным. Мои глаза были устремлены на макушку Казимира, который, уткнувшись носом в тарелку, резал яблоко. М-ль Вердюр покраснела от негодования.
— Удерживать вас было бы нескромно, — едва слышно подала голос г-жа Флош.
— Конечно, те развлечения, которые может предложить Картфурш… — съязвила г-жа Сент-Ореоль.
— Ну что вы, сударыня, поверьте, ничто не могло бы… — попытался было возразить я, но баронесса, не дослушав меня, уже что было мочи кричала в ухо сидящему рядом мужу:
— Господин Лаказ собирается покинуть нас!
— Мило! Очень мило! Право, я тронут, — отвечал, с улыбкой глядя на меня, глухой Сент-Ореоль.
Тем временем г-жа Флош обратилась к м-ль Вердюр:
— Да, но что мы можем сделать?.. Ведь лошадь только что увезла аббата.
Тут я, несколько отступив, сказал примирительно:
— В Париже мне нужно быть завтра рано утром… В случае необходимости подойдет и ночной поезд.
— Скажите Грасьену, пусть сейчас же узнает, можно ли воспользоваться лошадью Булиньи. Пусть объяснит, что нужно отвезти человека к поезду… — и, повернувшись ко мне, спросила: — Вам подойдет семичасовой поезд?
— О! Сударыня, я очень сожалею, столько хлопот…
Обед закончился в молчании. Сразу после него папаша Флош увел меня и, как только мы оказались в коридоре, ведущем в библиотеку, заговорил:
— Но, сударь… дорогой друг… я все никак не могу поверить… вам же еще нужно ознакомиться с целым… Так ли уж необходимо?.. Как некстати! Вот досада! Я как раз ждал, когда вы закончите с первой партией материалов, чтобы дать вам другие, которые достал вчера вечером: откровенно говоря, я рассчитывал на них, чтобы заинтересовать и подольше задержать вас. Значит, все это я должен показать вам сейчас. Идемте со мной, у вас до вечера есть еще некоторое время… Я не осмеливаюсь просить вас еще раз приехать к нам…
Мне стало стыдно за свое поведение перед расстроенным стариком. Я, не отрываясь, работал целый день накануне и все это последнее утро, так что из первой партии бумаг, которые он мне передал, я уже мало что мог почерпнуть; но, когда мы поднялись в его обитель, он загадочным видом извлек из глубины ящика завернутый в ткань и перевязанный тесемкой сверток; сверху под тесемкой лежала карточка, на которой был алфавитный перечень документов и их происхождение.
— Возьмите весь пакет, — сказал он, — здесь далеко не все интересно, но вы быстрее меня разберетесь, что вам пригодится.
Пока он суетился, то открывая, то закрывая ящики, я со связкой спустился в библиотеку, развязал ее и разложил бумаги на большом столе.
Иные документы действительно имели отношение к моей работе, но таких было немного, и они не представляли большой ценности; большинство из них, что было, кстати, помечено рукой самого г-на Флоша, относилось к жизни Массийона и, стало быть, меня мало касалось.
Неужели и впрямь бедняга Флош рассчитывал удержать меня этим? Я взглянул на него: он сидел, засунув ноги в меховую грелку, и тщательно прочищал булавкой дырочки маленького приспособления для дозировки смолы сандарака. Закончив, он поднял голову, и мы встретились взглядами. Его лицо озарилось такой дружелюбной улыбкой, что я не поленился встать из-за стола, чтобы поговорить с ним, — подойдя ко входу в его каморку, опершись о косяк, я спросил его:
— Господин Флош, почему вы никогда не бываете в Париже? Вам были бы очень рады.
— В моем возрасте поездки затруднительны, да и дороги.
— А вы не очень сожалеете, что покинули город?
— Что делать! — произнес он, вскинув руки. — Я был готов к тому, что сожалеть о нем придется гораздо сильнее. Первое время уединение кажется несколько суровым, особенно для того, кто любит поговорить, потом привыкаешь.
— Стало быть, вы не по собственной воле перебрались в Картфурш?
Он высвободил ноги из грелки, поднялся и, дружески положив свою руку на мою, заговорил:
— У меня в академии было несколько коллег, которых я очень люблю, и среди них ваш учитель Альбер Деснос; я уверен, что был близок к тому, чтобы вскоре занять место среди них…
Казалось, у него было желание сказать больше, однако я не осмелился задать вопрос слишком прямо.
— Может быть г-жу Флош так привлекала сельская жизнь?
— Н-н… Нет. Между тем именно ради госпожи Флош я оказался здесь; саму же ее привело сюда одно небольшое семейное обстоятельство.
Он спустился в большую комнату и заметил пачку бумаг, которую я уже перевязал.
— А!.. Вы уже все просмотрели, — сказал он с грустью. — Вам, конечно, мало что пригодилось. Что вы хотите? Я собираю малейшие крохи; иногда я думаю, что трачу время на ерунду, но, может быть, нужны и такие люди, как я, чтобы избавить от мелкой работы тех, которые, как вы, могут добиться с ее помощью блестящих результатов. Когда я буду читать вашу диссертацию, мне будет приятно сознавать, что и мой труд был для вас немножко полезен.
Позвонили к полднику.
Как узнать, думал я, что это «небольшое семейное обстоятельство», заставившее так круто изменить жизнь этих стариков? Известно ли это аббату? Вместо того чтобы препираться с ним, я должен был приручить его. Ладно! Теперь уже поздно. И тем не менее г-н Флош достойный человек, и я сохраню о нем хорошие воспоминания…
Мы вошли в столовую.
— Казимир не осмеливается попросить вас прогуляться с ним немного по парку; я знаю, что он этого очень хочет, — сказала г-жа Флош, — но, может быть, у вас нет времени?..
Мальчик, сидевший с опущенной головой перед чашкой с молоком, оживился.
— Я как раз хотел предложить ему пройтись со мной, я завершил свою работу и до отъезда буду свободен. Кстати, и дождь кончился… — ответил я и увел ребенка в парк.
На первом повороте аллеи мальчик, обеими руками державший мою руку, прижал ее к разгоряченному лицу:
— Вы же сказали, что останетесь на неделю…
— Да, малыш! Но я не могу остаться.
— Вам здесь скучно.
— Нет! Но мне нужно ехать.
— Куда вы поедете?
— В Париж. Я вернусь.
Как только у меня вылетело это слово, он взглянул на меня с недоверием.
— Это правда? Вы обещаете?
Он спрашивал с такой надеждой, что у меня не хватило смелости отступиться от обещания:
— Хочешь, я напишу это тебе на бумажке, которую ты оставишь у себя?
— Да! Да! — обрадовался он, крепко целуя мою руку и неистово подпрыгивая.
— А сейчас, знаешь, что мы сделаем? Вместо рыбалки нарвем цветов для тети и отнесем в ее спальню большой букет, чтобы сделать ей приятный сюрприз.
Я твердо решил не уезжать из Картфурша, не побывав в комнате одной из старых дам; поскольку они без устали сновали из одного конца дома в другой, то моему бесцеремонному досмотру могли помешать; поэтому, чтобы оправдать свое посещение, я рассчитывал на ребенка; как бы неестественно ни выглядело мое вторжение, даже вместе с ним, в спальню его бабушки или тетки, букет цветов был тем предлогом, который в случае необходимости дал бы мне возможность достойно выйти из положения.
Однако нарвать цветы в Картфурше оказалось не так просто, как я думал. Грасьен столь ревностно следил за всем садом, что строго определял не только, какие цветы могли быть сорваны, но и то, как их нужно срывать. Для этого, кроме садовых ножниц или ножа, требовалось еще столько осторожности! Все это мне объяснил Казимир. Грасьен проводил нас до клумбы с прекрасными георгинами, с которой можно было бы собрать не один букет и никто бы этого не заметил.
— Над почкой, господин Казимир, сколько вам говорить! Срезайте всегда выше почки.
— В это время года это не имеет никакого значения! — воскликнул я, не сдержавшись.
Он ворчливо возразил, что «это всегда имеет значение» и что «для плохого дела не существует сезона». Поучающий брюзга всегда внушает мне ужас.
Мальчик с цветами шел впереди. В гостиной я прихватил вазу…
В комнате царило религиозное умиротворение: ставни были закрыты, около постели, расположенной в алькове, перед небольшим распятием из слоновой кости и эбенового дерева стояла скамеечка для молитвы красного дерева, обтянутая бархатом гранатового цвета, рядом с распятием, наполовину закрывая его, на розовой ленточке, укрепленной под перекладиной креста, висела тонкая ветка самшита. Время располагало к молитве, я забыл, зачем пришел, забыл о своем суетном любопытстве, что привело меня сюда; я доверил Казимиру поставить цветы на комод и больше ни на что не смотрел в этой комнате. Здесь, в этой большой постели, думал я, вдали от веяний жизни угаснет скоро добрая старая Флош… О лодки, просящие бури! Как спокоен этот порт!
Казимир тем временем пытался сладить с цветами: тяжелые георгины взяли верх, и весь букет рассыпался по полу.
— Вы не поможете мне? — попросил он наконец.
Но пока я усердствовал вместо него, он отбежал в другой угол комнаты и открыл секретер.
— Я напишу записку, в которой вы обещаете опять приехать.
— Вот, вот, — с притворным согласием ответил я. — Только поторопись. Тетя будет очень сердиться, если увидит, как ты копаешься в ее секретере.
— О! Тетя занята на кухне, и, потом, она никогда меня не ругает.
Самым старательным почерком на страничке почтовой бумаги он написал записку.
— А теперь подпишите.
Я подошел.
— Но, Казимир, тебе не нужно было ставить свою подпись, — сказал я, смеясь. Чтобы придать больше веса этому обязательству, связать словом и себя, мальчик подумал, что будет неплохо, если и он для верности поставит свое имя на листке, где было написано:
«Господин Лаказ обещает приехать в Картфурш в будущем году.
Казимир де Сент-Ореоль».
На какое-то мгновение мое замечание и смех привели его в замешательство: ведь он сделал это от всего сердца. Выходит, я не принимаю его всерьез? Он был готов расплакаться.
— Дай-ка я сяду на твое место и подпишу.
Он встал и, когда я подписал листок, запрыгал от радости и покрыл мою руку поцелуями. Я собирался уйти, но он удержал меня за рукав и склонился к секретеру.
— Я вам что-то покажу, — сказал он, нажимая на пружинку и выдвигая ящик, секрет которого знал; покопавшись в ленточках и старых квитанциях, он протянул мне миниатюру в хрупкой рамке: — Посмотрите.
Я подошел к окну.
Как называется сказка, в которой герой влюбляется в принцессу, увидев ее портрет? Должно быть, это тот самый портрет. Я не разбираюсь в живописи и мало интересуюсь этим искусством; вероятно, знаток нашел бы эту миниатюру неестественной: за приукрашенной грацией почти исчезал характер, но эта чистая грация была такой, что ее невозможно было забыть.
Повторяю, меня мало трогали достоинства или недостатки живописи: передо мной была молодая женщина, я видел лишь ее профиль с тяжелым черным завитком волос на виске, с томными, мечтательно грустными глазами, с приоткрытым, как будто на вздохе, ртом, с нежной, хрупкой, как пестик цветка, шеей; это была женщина самой трепетной, самой ангельской красоты. Любуясь ею, я потерял чувство места и времени; Казимир, который отошел, чтобы поставить цветы, вернулся ко мне и, склонившись, сказал:
— Это мама… Она красивая, правда!
Мне было неловко перед мальчиком из-за того, что я находил его мать такой красивой.
— А где она теперь, твоя мама?
— Я не знаю…
— Почему она не здесь?
— Ей здесь скучно.
— А твой папа?
Несколько смутившись, он опустил голову и, как бы стыдясь, ответил:
— Мой папа умер.
Мои вопросы были ему неприятны, но я решил продолжать.
— Мама иногда приезжает тебя навестить?
— Да, конечно! Часто! — ответил он уверенно, подняв вдруг голову. И чуть тише добавил: — Она приезжает поговорить с моей тетей.
— Но с тобой она тоже разговаривает?
— Ну, я! Я не умею с ней разговаривать… И потом, когда она приезжает, я уже сплю.
— Спишь!?
— Да, она приезжает ночью… — Поддавшись доверчивости (портрет я положил, и он держал меня за руку), он с нежностью и как бы по секрету сказал: — Прошлый раз она пришла ко мне и поцеловала, когда я лежал в постели.
— Значит, обычно она тебя не целует?
— О, нет! Целует… и часто.
— Тогда почему ты говоришь «прошлый раз»?
— Потому что она плакала.
— Она была с тетей?
— Нет. Она вошла одна, в темноте; она думала, что я сплю.
— Она тебя разбудила?
— Нет! Я не спал. Я ее ждал.
— Значит, ты знал, что она здесь?
Он молча опустил голову.
Я продолжал настаивать:
— Как ты узнал, что она здесь?
Мой вопрос остался без ответа. Я продолжал:
— А как ты мог увидеть в темноте, что она плачет?
— Я почувствовал.
— Ты не просил ее остаться?
— Нет, просил. Она наклонилась над кроватью, и я трогал ее волосы…
— И что она сказала?
— Она засмеялась и сказала, что я порчу ей прическу и что ей нужно уходить.
— Значит, она не любит тебя?
— Нет, любит; она меня очень любит! — внезапно отпрянув от меня и еще больше покраснев, закричал он с таким волнением, что мне стало стыдно.
Внизу у лестницы раздался голос г-жи Флош:
— Казимир! Казимир! Пойди скажи господину Лаказу, что пора собираться. Коляска будет подана через полчаса.
Я бросился вниз по лестнице, догнал г-жу Флош в вестибюле.
— Госпожа Флош! Мог бы кто-нибудь отправить телеграмму? Я нашел выход из положения, который позволит мне, я думаю, провести еще несколько дней вместе с вами.
— Это невероятно! Сударь… Это невероятно! — повторяла она, взяв меня за руки и не в состоянии от волнения вымолвить ничего другого, а затем, подбежав к окну Флоша, позвала: — Мой добрый друг! Мой добрый друг! (Так она его называла.) Господин Лаказ хочет остаться.
Слабый голос звучал как надтреснутый колокольчик, но все же достиг цели: я увидел, как раскрылось окно; г-н Флош на миг высунулся, а как только понял, ответил:
— Иду! Иду!
Казимир присоединился к нему; некоторое время ушло на благодарности и поздравления, которые посыпались со всех сторон, можно было подумать, что я — член семьи.
Не помню, что я сочинил, нечто невообразимое, и телеграмма ушла по вымышленному адресу.
— Боюсь, что во время обеда я была несколько настойчива, упрашивая вас остаться, — сказала г-жа Флош, — можно ли надеяться, что ваша задержка не отразится на делах в Париже?
— Надеюсь, нет, сударыня. Я попросил друга взять на себя заботу о моих делах.
Появилась г-жа Сент-Ореоль; она кружила по комнате, обмахиваясь веером, и кричала самым пронзительным образом:
— Ах, как он любезен! Тысяча благодарностей… Как он любезен!
Когда она ушла, спокойствие восстановилось.
Незадолго до ужина из Пон-л'Евека вернулся аббат; поскольку он не знал о моей попытке уехать, то и не мог удивиться тому, что я остался.
— Господин Лаказ, — обратился он ко мне довольно приветливо, — я привез из Пон-л'Евека несколько газет, сам я небольшой любитель газетных сплетен, но подумал, что вы здесь лишены новостей и это могло бы заинтересовать вас.
Он пошарил в сутане:
— Видно, Грасьен отнес их в мою комнату вместе с сумкой. Подождите минутку, я схожу за ними.
— Не беспокойтесь, господин аббат, я сам поднимусь за ними.
Я проводил его до комнаты; он предложил мне войти. Пока он чистил щеткой сутану и готовился к ужину, я обратился к нему:
— Вы знали семью Сент-Ореолей до того, как приехали в Картфурш? — спросил я его после нескольких ничего не значащих фраз.
— Нет.
— А господина Флоша?
— Мой переход от службы в приходе к преподаванию произошел внезапно. Мой настоятель был знаком с господином Флошем и порекомендовал меня на это место; нет, до того как приехать сюда, я не знал ни своего ученика, ни его родственников.
— Значит, вы не знаете, какие обстоятельства заставили господина Флоша вдруг покинуть Париж лет пятнадцать назад в момент, когда он должен был стать академиком Института Франции.
— Превратности судьбы, — пробурчал он.
— И что же? Господин и госпожа Флош способны жить за счет Сент-Ореолей!
— Да нет же, нет, — нетерпеливо ответил аббат, — наоборот, Сент-Ореоли разорены или почти разорены; Картфурш все-таки принадлежит им, а чета Флошей довольно состоятельна и живет здесь, чтобы помочь им: они покрывают расходы по содержанию дома, позволяя, таким образом, Сент-Ореолям сохранить Картфурш, который потом отойдет по наследству Казимиру; думаю, это все, на что он может надеяться…
— А невестка не имеет состояния?
— Какая невестка? Мать Казимира не невестка, она собственная дочь Сент-Ореолей.
— Но какова же тогда фамилия мальчика?
Он сделал вид, что не понял вопроса.
— Разве его зовут не Казимир де Сент-Ореоль?
— Вы так полагаете! — проговорил он с иронией. — Ну что ж! Надо думать, мадемуазель де Сент-Ореоль вышла замуж за какого-нибудь кузена с той же фамилией.
— Вполне возможно! — ответил я, начиная понимать, однако колеблясь сделать окончательный вывод. Он закончил чистить сутану и, поставив ногу на подоконник, размашисто стряхнул носовым платком пыль с ботинок.
— А вы ее знаете… мадемуазель де Сент-Ореоль?
— Я видел ее два-три раза, но ее наезды сюда мимолетны.
— Где она живет?
Он встал, бросил в угол испачканный в пыли платок и со словами «Это что, допрос?..» направился в туалет, добавив: «Сейчас позвонят к ужину, а я не готов!»
Это прозвучало предложением оставить его в покое. За плотно сжатыми губами аббата хранилось многое, но сейчас они бы не выпустили ничего.
V
Четыре дня спустя я все еще находился в Картфурше, уже не так, как на третий день, мучимый тревогой, скорее усталый. Ничего нового из того, что происходило в течение дня, или из разговоров обитателей дома почерпнуть мне не удалось. Я уже ощущал, как угасает, лишенное пищи, мое любопытство. Видно, следует отказаться от мысли открыть что-либо еще, думал я, снова настраиваясь на отъезд; все вокруг отказываются просветить меня: аббат онемел с тех пор, как понял, какой интерес я проявляю к тому, что он знает; что касается Казимира, то чем больше он проявляет ко мне доверия, тем скованнее я чувствую себя перед ним; я не осмеливаюсь задавать ему вопросы, и потом, теперь мне известно все, что он мог бы мне рассказать, — ничего сверх того, что он сказал в тот день, когда показал портрет.
Впрочем, нет, мальчик простодушно назвал мне имя своей матери. Разумеется, с моей стороны было безумием до такой степени восторгаться ласкающим взор образом, по-видимому, более, чем пятнадцатилетней давности; даже если Изабель де Сент-Ореоль во время моего пребывания в Картфурше решилась бы на одно из своих мимолетных появлений, на которые, как я теперь знал, она была способна, я, конечно же, не смог, не осмелился бы оказаться на ее пути. Но пусть будет так! Мысль о ней, вдруг завладевшая мной, отогнала скуку; последние дни летели один за другим как на крыльях, и, к моему удивлению, прошла уже неделя. О том, чтобы задержаться у Флошей, речи не заходило, да и моя работа не давала мне для этого никакого повода, но и в это последнее утро, проходя по осеннему парку, ставшему каким-то более просторным и звонким, я, сначала вполголоса, а потом громким голосом звал: Изабель!.. Это имя, которое раньше мне не нравилось, теперь казалось изящным, исполненным скрытого очарования… Изабель де Сент-Ореоль! Изабель! За каждым поворотом аллеи мне виделось ее исчезающее белое платье; каждый луч света, проникающий сквозь трепещущую листву, напоминал мне ее взгляд, ее меланхоличную улыбку, а поскольку я еще не знал любви, мне представлялось, что я люблю ее, и от счастья быть влюбленным я с наслаждением вслушивался в себя.
Как красив был парк! С каким достоинством предавался он грусти этой поры увядания! Меня пьянил запах мха и опавших листьев. Огромные побагровевшие каштаны, наполовину сбросившие листву, до земли склонили свои ветви; сквозь ливень алели кустарники; трава вокруг них казалась пронзительно зеленой; на садовой лужайке виднелись цветы безвременника; пониже, в ложбине, от них порозовела вся поляна, которая была видна из карьера, где я после дождя сидел на том самом камне, где мы с Казимиром сидели в первый день и где, быть может, некогда любила помечтать м-ль де Сент-Ореоль… Я воображал, как мы сидим рядом.
Часто меня сопровождал Казимир, но я предпочитал ходить один. Что ни день дождь заставал меня врасплох; вымокший, я возвращался и ждал, пока просохнет одежда перед очагом на кухне. Ни кухарка, ни Грасьен не любили меня, и, как я ни старался, я не смог вырвать из них и двух слов. То же самое и с Терно: ни ласки, ни лакомства не помогли мне подружиться с ним: почти весь день проводивший лежа в широком, выложенном кирпичом очаге, он рычал при моем приближении. Казимир, которого я часто заставал там сидящим на краю очага с книгой в руках или за чисткой овощей, давал в таких случаях собаке шлепка, огорчаясь тем, что она не принимает меня за друга. Я брал книгу из рук мальчика и громким голосом читал дальше; он прижимался ко мне, и я чувствовал, как он слушает всем своим телом.
В это утро ливень начался так внезапно и был настолько сильным, что я и подумать не мог вернуться в дом и укрылся в ближайшей постройке — ею оказался тот самый заброшенный летний домик, который вы могли видеть в другом конце парка у ограды; он пришел в ветхость однако его первая, довольно просторная комната сохраняла изящные лепные украшения, как подобает гостиной летнего павильона, правда, деревянные панели были тронуты червоточиной и крошились при малейшем прикосновении…
Когда я вошел, толкнув неплотно прикрытую дверь, несколько летучих мышей закружились по комнате и вылетели в окно с разбитыми стеклами. Я думал, что ливень быстро кончится, но, пока я ждал, небо окончательно помрачнело. «Да, застрял я надолго! Была половина одиннадцатого, обед подавали в двенадцать. Подожду до первого удара колокола, отсюда он наверняка слышен», — подумал я. У меня с собой было чем писать, и, поскольку я задерживался с ответом на письма, мне захотелось доказать самому себе, что занять себя в течение часа не легче, чем в течение целого дня. Но мысленно я беспрестанно возвращался к своему тревожному чувству: о, если бы я знал, что однажды она появится здесь, я бы испепелил эти стены страстными признаниями… Я весь медленно пропитывался мучительной тоской, несущей слезы. Не найдя на что сесть, я рухнул в угол комнаты и разрыдался, как потерявшийся ребенок.
По правде сказать, слово «тоска» слишком слабое, чтобы выразить то неутолимое отчаяние, которому я был подвержен; оно охватывает вас невзначай, оно непредсказуемо: еще минуту назад все улыбалось вам и вы улыбались всему, и вдруг из глубины души пробился мрачный дым, разделяющий желание и жизнь, превращающийся в мертвенно-бледную завесу, отделяющую вас от остального мира, чьи тепло, любовь, краски, гармония доходят до вас отныне в преломленном, преобразованном в абстрактное состояние виде, — вы способны замечать их, но не испытываете волнения; отчаянное усилие, направленное на преодоление этой изолирующей душу завесы, может толкнуть вас на любое преступление, на убийство или самоубийство, довести до безумия…
Так размышлял я под звуки дождя. В руке у меня был перочинный нож, который я раскрыл, чтобы заточить карандаш, но листок записной книжки оставался чистым; кончиком ножа я пытался вырезать ее имя на ближайшей от меня деревянной панели стены; я делал это без особого желания, просто знал, что в порыве чувства влюбленные обычно так делают; сопревшее дерево легко крошилось, и вместо буквы образовывалась дырка; вскоре я перестал стараться и от нечего делать, из дурацкой потребности разрушать начал кромсать ножом панель. Она была прямо под окном; обрамлявшая ее рамка отошла вверху, и она, как я заметил, нечаянно поддев ее ножом целиком вытаскивалась по боковым пазам.
Вскоре от панели ничего не осталось. Среди деревянных обломков на полу оказался конверт — покрытый пятнами, заплесневевший, он настолько по тону сливался со стеной, что сначала не привлек моего внимания: увидев его, я ничуть не удивился, я не увидел ничего необычного в том, что он оказался здесь, и настолько велика была овладевшая мной апатия, что я не сразу вскрыл его. Какой-то невзрачный, серый, измаранный конверт, мусор, да и только. Я взял его в руки, от нечего делать машинально разорвал. В нем было два листка, исписанных неровным крупным почерком, с побледневшим, местами почти исчезнувшим текстом. Как попало это письмо сюда? Я взглянул на подпись и остолбенел: внизу стояло имя Изабель!
Она до такой степени занимала мои мысли… на какое-то мгновение у меня появилась иллюзия, что письмо адресовано мне:
«Любовь моя, это мое последнее письмо… На скорую руку пишу тебе еще несколько слов, потому как знаю: сегодня вечером я больше ничего не смогу тебе сказать; рядом с тобой мои губы способны только на поцелуи. Быстро, пока я еще в состоянии говорить, слушай:
Одиннадцать — это слишком рано, лучше в полночь. Ты знаешь, что я умираю от нетерпения и что ожидание изводит меня, но для того, чтобы я бодрствовала для тебя, нужно, чтобы весь дом спал. Да, в полночь, не раньше. Приходи встретить меня ко входу в кухню (сначала вдоль огорода — там темно, а дальше будут кусты) и дожидайся меня там, а не возле ограды: я не боюсь идти одна по парку, но сумка, куда я положу немного одежды, будет очень тяжелой, и я не смогу ее долго нести.
Ты прав — будет лучше, если коляску оставить в конце улочки, где мы ее без труда найдем. Так будет надежнее еще и потому, что собаки с фермы могут залаять и перебудить всех.
Нет, друг мой, ты знаешь, у нас не было другой возможности увидеться еще раз и обсудить все это. Знаешь ты и то, что я живу здесь пленницей и мои старики запрещают мне выходить, так же как тебе — приходить к нам. Из какой же темницы бегу я!.. Да, я обязательно возьму туфли на смену, которые переодену в коляске, потому что трава внизу парка мокрая.
Как ты можешь спрашивать, решилась ли я и готова ли? Любовь моя, вот уже несколько месяцев, как я начала готовиться, и давно готова! Долгие годы живу я ожиданием этого мига! Ты спрашиваешь, не буду ли я сожалеть. Значит, ты не понял, что я возненавидела всех своих близких, всех, кто удерживает меня здесь. Неужто нежная и робкая Иза способна так говорить? Друг мой, любимый мой, что вы сделали со мной?..
Я задыхаюсь здесь; мои мысли далеко, в ином открывающемся мире… Меня мучит жажда…
Чуть было не забыла сказать тебе, что не смогла взять сапфиры, потому что тетка не оставляет больше ключи от ларца в своей спальне, а все другие, которые я перепробовала, к нему не подходят… Не ругай меня: у меня с собой мамин браслет, цепь с эмалью и два кольца — они, правда, не представляют большой ценности, поскольку она их не носит, но цепь, по-моему, очень красива. Что касается денег… я сделаю все возможное; но будет неплохо, если и ты тоже что-то найдешь.
О тебе все мои молитвы, до скорого
Твоя Иза.
22 октября — день моего рождения (мне двадцать два года) и канун моего побега».
Я с ужасом подумал о тех четырех-пяти страницах, в которые, если бы мне пришлось стряпать из этого роман, я раздул бы это письмо: размышления над прочитанным, недоумение, мучительная растерянность… По правде говоря, я, как после сильнейшего потрясения, впал в полулетаргическое состояние. Когда наконец до моего слуха сквозь невнятный шум бушующей во мне крови донесся повторившийся звон колокола к обеду, я подумал: «Это второй колокол, как же я не услышал первого?» Я посмотрел на часы: полдень! Выскочив из павильона и прижимая к сердцу пылкое письмо, я с непокрытой головой бросился под проливной дождь.
Флоши уже начали за меня беспокоиться.
— Да ведь вы промокли! Совершенно промокли, сударь! — услышал я, когда прибежал, совсем запыхавшись. Они настояли на том, чтобы не садиться за стол до тех пор, пока я не переоденусь, и, как только я спустился к обеду, меня начали с участием расспрашивать; я рассказал, что вынужден был оставаться в павильоне, напрасно ожидая, когда стихнет ливень, после чего услышал извинения за плохую погоду, за отвратительное состояние аллей, за то, что второй раз позвонили к обеду слишком рано, а первый — не так громко, как обычно… М-ль Вердюр принесла шаль, которой меня умоляли укрыться, потому что я вспотел и мог простудиться. Между тем аббат наблюдал за мной, не проронив ни слова, до гримасы сжав губы; мои нервы были настолько взвинчены, что под его испытующим взглядом я чувствовал, как краснею и смущаюсь, словно нашаливший ребенок. А надо бы, думал я, задобрить его, потому что отныне только от него можно что-либо узнать, он один способен пролить свет на эту темную историю, по следам которой меня ведет уже скорее любовь, чем любопытство.
После кофе я предложил аббату сигарету, которая послужила предлогом для разговора; чтобы не стеснять баронессу, мы вышли покурить в оранжерею.
— Мне казалось, что вы останетесь здесь не больше чем на неделю, — начал он с иронией в голосе.
— Я не учел любезность наших хозяев.
— А как документы господина Флоша?..
— Уже отработаны… Но я нашел, чем себя занять дальше.
Я ждал вопроса, но он не последовал.
— Вы должны знать всю подноготную этого имения, — продолжал я нетерпеливо.
Он широко раскрыл глаза и наморщил лоб, придав своему лицу простодушно-тупое выражение.
— Почему госпожа или мадемуазель де Сент-Ореоль, мать вашего ученика не живет здесь, с нами, чтобы заботиться о ребенке-калеке и о престарелых родителях?
Чтобы удивление его выглядело более убедительным, он бросил сигарету и вопрошающе воздел руки.
— Видимо, род занятий вынуждает ее пребывать вдали… — процедил он сквозь зубы. — Но что за коварный вопрос?
— Не желаете ли еще один, более точный: что сделал госпожа или мадемуазель де Сент-Ореоль, мать вашего подопечного, однажды ночью, 22 октября, когда за ней должен был прийти возлюбленный, чтобы похитить ее?
— Так-так! Господин романист, — произнес он, уперев руки в бока (из тщеславия, по слабости я пошел с ним перед этим на такого рода откровенность, которую должна внушать лишь глубокая симпатия, и с тех пор, как он узнал о моих намерениях, он стал подтрунивать надо мной таким образом, что мне это уже стало невыносимо), — не слишком ли вы торопитесь?.. И не могу ли я в свою очередь спросить вас, откуда вы так хорошо информированы?
— Письмо, адресованное в тот день Изабеллой де Сент-Ореоль своему возлюбленному, получил не он, а я.
Здесь уже, никуда не денешься, со мной приходилось считаться; заметив пятнышко на рукаве сутаны, аббат начал скрести его кончиком ногтя; он прошел на примирение.
— Я восхищаюсь тем, что… стоит человеку начать считать себя прирожденным писателем, как он присваивает себе все права. Другой дважды подумал бы, прежде чем прочесть письмо, которое адресовано не ему.
— Я думаю, господин аббат, что он скорее не прочел бы его вовсе.
Я пристально смотрел на него, но он продолжал скрести сутану, не поднимая глаз.
— Однако не думаю, что вам дал его почитать.
— Это письмо попало мне в руки случайно; на старом, грязном, наполовину разорванном конверте не было и следов адреса; открыв его, я увидел письмо м-ль де Сент-Ореоль, но кому оно было адресовано?.. Так помогите мне, господин аббат: кто был четырнадцать лет назад возлюбленным мадемуазель де Сент-Ореоль?
Аббат встал и мелкими шажками начал ходить взад-вперед, опустив голову и заложив руки за спину; проходя за мои стулом, он остановился, и я вдруг почувствовал, как его руки легли мне на плечи:
— Покажите мне это письмо.
— А вы никому не скажете?
Я почувствовал, как его руки дрожат от нетерпения.
— Не ставьте условий, прошу вас! Просто покажите мне это письмо.
— Позвольте я схожу за ним, — сказал я, пытаясь освободиться.
— Оно у вас здесь, в кармане.
Его взгляд был направлен именно туда, куда следовало, словно моя одежда была прозрачной. Но не будет же он меня обыскивать!..
Я был в невыгодном для обороны положении, да и попробуй защититься от такого здоровяка, явно более сильного, чем я. Но как потом заставить его говорить? Я повернул голову и почти столкнулся с его отекшим, налитым кровью лицом, с двумя вздувшимися вдруг крупными венами на лбу и отвратительными мешками под глазами. Тогда я из опасения все испортить заставил себя засмеяться:
— Черт возьми, аббат, признайтесь, что и вам знакомо любопытство!
Он отпустил меня, я тут же встал и сделал вид, что ухожу.
— Если бы не ваши разбойничьи выходки, я бы давно его показал, — сказал я и, взяв его за руку, добавил: — Но давайте подойдем поближе к гостиной, чтобы я мог позвать на помощь.
Большим усилием воли я сохранял веселый тон, но сердце у меня бешено стучало.
— Держите, — вытаскивая письмо из кармана, проговорил я, — но читайте его при мне: я хочу видеть, как аббат читает любовное послание.
Но он вновь овладел собой, и волнение выдавал только небольшой мускул, чуть подергивающийся на щеке. Он прочел, понюхал бумагу, шмыгнул носом, сурово нахмурив брови так, словно его глаза были возмущены похотью носа, и затем, сложив и вернув мне письмо, произнес несколько торжественным тоном:
— В тот день, 22 октября, от несчастного случая на охоте умер виконт Блез де Гонфревийль.
— От ваших слов меня бросает в дрожь! (Мое воображение тотчас нарисовало страшную драму.) Знайте, я нашел это письмо за деревянной панелью летнего павильона, куда он, вероятно, должен был за ним прийти.
Тогда аббат рассказал мне о том, что старший сын Гонфревийлей, владение которых граничит с имение Сент-Ореолей, был найден без признаков жизни перед оградой, через которую он, по всей видимости, собирался перелезть, когда от неловкого движения ружье выстрелило. При этом позже в стволе ружья не было обнаружено гильзы. Никто так и не смог дать этому объяснения; молодой человек вышел из дома один, никто его не видел, но на следующий день у павильона заметили собаку из Картфурша, лизавшую лужицу крови.
— Меня тогда еще не было в Картфурше, — продолжал аббат, — но, по сведениям, которые мне удалось собрать, мне кажется очевидным, что преступление совершил Грасьен, который, видимо, стал свидетелем отношений своей хозяйки с виконтом и, может быть, раскрыл план побега (план, о котором я сам не знал до того, как прочел письмо); это старый, тупой, при необходимости даже упрямый слуга, который считает, что для защиты собственности своих хозяев не должен останавливаться ни перед чем.
— Как получилось, что его не арестовали?
Никто, не был заинтересован в его наказании, и бое семьи, и Гонфревийлей, и Сент-Ореолей одинаково опасались шума вокруг этой неприятной истории, поскольку несколько месяцев спустя мадемуазель де Сент-Ореоль разрешилась несчастным ребенком. Увечье Казимира приписывают тому, что его мать принимала меры, чтобы скрыть беременность; но Бог учит нас, что часто за грехи отцов страдают дети. Пойдемте со мной к павильону — мне любопытно посмотреть место, где вы нашли письмо.
Небо прояснилось, и мы отправились к павильону.
Все было хорошо, пока мы шли к домику, аббат держал меня под руку, мы шагали в ногу и мирно беседовали. Но на обратном пути все испортилось. Разумеется, мы оба были несколько возбуждены этой странной историей, но каждый по-своему: я, обезоруженный улыбчивой готовностью, с которой в конечном счете аббат стал посвящать меня в тайны, перестал замечать его сутану, забыл о сдержанности и позволил себе говорить с ним, как с обычным мужчиной. Вот как началась, мне кажется, наша ссора.
— Кто нам расскажет, — говорил я, — что делала в эту ночь мадемуазель де Сент-Ореоль? О смерти графа она узнала, очевидно, лишь на следующий день! Ждала ли она его в парке и до каких пор? О чем она думала, тщетно ожидая его прихода?
Аббат молчал, никак не реагируя на мой психологический настрой; я же продолжал:
— Представьте себе это нежное создание, девушку с сердцем, полным любви и тоски, потерявшую голову: страстная Изабель…
— Бесстыдная Изабель, — процедил аббат вполголоса.
Я продолжал, как будто ничего не слышал, но уже приготовился к отпору на следующий выпад:
— Подумайте, сколько потребовалось надежды и отчаяния, чтобы…
— К чему задумываться обо всем этом? — прервал он меня сухо. Нам не дано знать о событиях больше того, в чем мы можем получить подтверждение.
— Но мы воспринимаем их по-разному, в зависимости от того, много или мало мы о них знаем.
— Что вы хотите этим сказать?
— Что поверхностное представление о событиях не всегда совпадает и часто даже совсем не совпадает с тем, что мы думаем о них потом, при более глубоком знакомстве, что вывод, который можно из этого извлечь, будет другим, что следует сначала все тщательно изучить, прежде чем делать заключение…
— Мой юный друг, будьте осторожны: критический ум, склонный к анализу и любопытству, — это зародыш бунтарства. Великий человек, которого вы избрали в качестве образца, мог бы вас просветить в том, что…
— Вы имеете в виду того, о ком я пишу диссертацию?..
— Экий вы задира! С таким вот настроем и…
— Ну подождите, дорогой господин аббат, хотел бы я знать, не то же ли самое любопытство заставило вас пойти со мной в такое время, копаться в щепках, не оно ли побудило вас терпеливо собирать об этой истории все, что вы мне сообщили?..
Он зашагал быстрее, говорил отрывисто и нетерпеливо бил тростью о землю.
— Не стараясь, как вы, искать объяснений для объяснений, когда я узнал о случившемся, я принял это как факт и на этом остановился. Печальные события, о которых я вам поведал, могли бы мне, если бы в этом еще была потребность, рассказать о мерзости плотского греха; они служат приговором разводу и всему, что человек изобрел, чтобы попытаться исправить последствия своих ошибок. И этого, думаю, достаточно!
— А мне как раз этого недостаточно. Сам факт мне ни о чем не говорит, если я не узнаю его причину. Знать тайную жизнь Изабель де Сент-Ореоль, определить, какими благоуханными, волнующими и туманными дорогами…
— Молодой человек, остерегитесь! Вы начинаете влюбляться в нее!..
— Я ждал, что вы это скажете! И это потому, что я не довольствуюсь видимостью, не полагаюсь ни на слова, ни на жесты… Вы уверены, что не ошибаетесь в суждении об этой женщине?
— Она — потаскуха!
Мое лицо вспыхнуло от возмущения, которое я с большим трудом сдерживал.
— Господин аббат, странно слышать из ваших уст такое. Мне кажется, что Христом учит нас скорее прощать, чем жестоко наказывать.
— От снисхождения до попустительства один шаг.
— Он не осудил бы так, как вы.
— Ну, во-первых, вы этого не знаете. И потом, тот, кто безгрешен, может позволить себе отнестись более снисходительно к грехам других, чем тот… я хочу сказать, что не нам, грешникам, дано искать более или менее обоснованное оправдание греха, нам следует просто с отвращением отвернуться от него.
— Сначала основательно принюхавшись, как вы поступили с письмом…
— Вы — наглец, — ответил он и, резко свернув с аллеи, быстро зашагал по боковой дорожке, выбрасывая, как парфянские стрелы,[10] ядовитые фразы, из которых я мог различить только отдельные слова: современное образование… сорбоннец… безбожник!..
За ужином он сидел с хмурым видом, но, встав из-за стола, подошел ко мне с улыбкой и протянул руку, которую я пожал тоже с улыбкой.
Вечер показался мне мрачнее обычного. Барон тихо посапывал у огня; г-н Флош и аббат молча переставляли свои пешки. Краем глаза я наблюдал за Казимиром, обхватившим голову руками, ронявшим слюни на книгу и смахивавшим их время от времени носовым платком. Что до меня, то партии в карты я уделял ровно столько внимания, сколько требовалось, чтобы не дать проиграть моей партнерше слишком позорно; г-жа Флош обратила внимание на то, что я томлюсь от скуки, и, забеспокоившись, изо всех сил старалась оживить партию:
— Эй, Олимпия! Ваш ход. Вы спите?
Нет, то был не сон, но смерть, мрачный холод которой уже леденил кровь обитателей дома; меня самого охватила мучительная тревога, обуял какой-то ужас. О весна! О вольный ветер, сладостные благоухания простора, здесь вам никогда не быть! — говорил я себе и думал об Изабель. Из какой могилы сумели вы высвободиться, обращался я мысленно к ней, и ради какой жизни? В воображении — здесь, рядом, в спокойном свете лампы — я видел ваши нежные пальцы, поддерживающие бледное чело, локон темных волос, ласкающий вашу руку. Как далеко устремлен ваш взор! Жалобу какой несказанной боли вашей души и тела передает ваш вздох, который они не слышат? Помимо моей воли у меня самого вырвался громкий вздох, похожий то ли на звук зевоты, то ли на рыданье, что заставило госпожу де Сент-Ореоль, бросившую свой последний козырь, воскликнуть:
— Думаю, господину Лаказу очень хочется спать!
Бедная женщина!
В эту ночь мне приснился кошмарный сон, — сон, который начался как продолжение реальности.
Вечер как будто еще не кончился, я находился в гостиной с моими хозяевами, но к ним подходили люди, число которых беспрестанно росло, хотя я не видел, чтобы это были новые лица; я узнал Казимира, сидящего за столом и раскладывающего пасьянс, над которым склонилось три или четыре человека. Говорили шепотом, я не мог расслышать ни одной фразы, однако понимал, что каждый сообщал своему соседу нечто из ряда вон выходящее, от чего тот приходил в изумление. Все внимание было направлено в одну точку, туда, где был Казимир и где я вдруг узнал (как я не разглядел ее раньше) сидевшую за столом Изабель де Сент-Ореоль. Среди людей в темном она одна была одета во все белое. Сперва она показалась мне очаровательной, похожей на изображение на медальоне, но потом меня поразили неподвижность ее лица, застывший взгляд, и я вдруг понял, о чем шептались окружающие: это была не настоящая Изабель, а похожая на нее кукла, которую посадили на место живой Изабель. Эта кукла казалась мне теперь отвратительной; мне было страшно неловко из-за ее до глупости претенциозного вида; можно было подумать, что она неподвижна, но стоило попристальней вглядеться, и становилось заметно, как она боком, медленно наклоняется, наклоняется… она бы упала, если бы не бросившаяся из другого конца гостиной м-ль Олимпия, которая, низко наклонившись, приподняла чехол кресла и завела пружину какого-то механизма, со странным скрежетом водрузившего манекен на место и придавшего его рукам гротескные движения автомата. Потом все встали, поскольку наступил комендантский час, и оставили искусственную Изабель одну; каждый уходящий приветствовал ее на турецкий манер, за исключением барона, который подошел к ней непочтительно, сорвал с нее парик и, смеясь, дважды громко чмокнул ее в темя. Как только все общество покинуло гостиную, толпясь вышло из дома и наступила темнота, я увидел, да, увидел в темноте, как кукла побледнела, вздрогнула и ожила. Она медленно встала, и это была сама м-ль де Сент-Ореоль: бесшумно скользя, она приближалась ко мне, вдруг почувствовал вокруг шеи ее теплые руки и проснулся, ощущая ее влажное дыхание и слыша ее слова:
— Для них меня нет, но для тебя я здесь.
Я не суеверен, не труслив и зажег свечу только для того, чтобы прогнать с глаз долой и из сознания этот навязчивый образ; но это было нелегко. Помимо воли я прислушивался к любому шороху. Если бы она оказалась здесь! Напрасно я пытался читать, я так и не смог сосредоточить внимание на чем-либо другом и заснул под утро с мыслью о ней.
VI
Вот так завершались взлеты моего влюбленного любопытства. Меж тем я уже не мог дальше откладывать свой отъезд, о котором вновь объявил хозяевам, и этот день был последним днем, проведенным мной в Картфурше. Этот день…
Мы обедаем. Дельфина, жена Грасьена, должна вот-вот принести почту, которую она получает от почтальона и передает нам обычно незадолго до десерта. Как я вам уже говорил, она вручает ее г-же Флош, а та раздает письма и протягивает «Журнал де Деба» г-ну Флошу, который исчезает за газетой до конца обеда. В этот раз вишневого цвета конверт, застрявший краем в обертке газеты, выпал из пачки и оказался на столе рядом с тарелкой г-жи Флош; я успел узнать крупный размашистый почерк, который накануне уже заставил сильно биться мое сердце; г-жа Флош, тоже, похоже, узнала его; поспешным движением она хочет накрыть конверт тарелкой, но тарелка ударяется о стакан с вином, стакан разбивается, и вино разливается на скатерть; поднимается большой шум, и добрая г-жа Флош пользуется всеобщим замешательством, чтобы припрятать письмо в митенку.
— Хотела задавить паука, — неловко, как оправдывающийся ребенок, говорит она. (Пауками она называла все: и пауков, и мокриц, и уховерток, выползающих иногда из корзины с фруктами.)
— Могу поспорить, что вы промахнулись, — желчным тоном говорит г-жа де Сент-Ореоль, вставая и бросая развернутую салфетку на стол. — Придите потом ко мне в гостиную, сестра. Господа меня извинят: у меня желудочные колики.
Обед завершается в молчании. Г-н Флош ничего не заметил, г-н де Сент-Ореоль ничего не понял; м-ль Вердюр и аббат сидят, уставившись в тарелки, а Казимир — если бы он не сморкался, то, я уверен, мы бы увидели его слезы…
Погода вполне теплая. Кофе подали на небольшую террасу перед входом в гостиную. Кофе пьем только мы трое: я, м-ль Вердюр и аббат; из гостиной, где закрылись две сестры, до нас доносятся громкие голоса, затем все стихает — они поднялись к себе.
Если я правильно помню, тогда-то и разразилась ссора из-за названия «бук петрушколистный»
М-ль Вердюр и аббат жили в состоянии войны. Их битвы были не особенно серьезны, аббат над ними только потешался, однако ничего так сильно не задевало м-ль Вердюр, как его насмешливый тон, лишавший ее защиты и позволяющий аббату бить точно в цель. Не проходило и дня, чтобы между ними не произошло стычки, которые аббат окрестил «Castille».[11] Он утверждал, что старой деве это необходимо для здоровья, и выводил ее из себя, как выводят погулять собаку. Возможно, он делал это без злобы, но, несомненно, с хитростью и довольно вызывающе. Это занимало их обоих и скрашивало им день.
Небольшой инцидент во время десерта лишил всех нас спокойствия. Я искал, чем отвлечься, и, пока аббат разливал кофе, нащупал в кармане пиджака ветку с листьями странного дерева, росшего у ограды около входа в парк, которую я сорвал еще утром, собираясь спросить название у м-ль Вердюр: не то чтоб мне это было очень уж интересно, просто я хотел прибегнуть к ее познаниям.
Она занималась ботаникой. Иногда она ходила собирать травы, повесив на свои крепкие плечи зеленый короб, который придавал ей причудливый вид маркитантки; со своим гербарием и «лупой на штативе» она проводила свободное от домашних дел время… Итак, м-ль Олимпия взяла в руки ветку и без колебаний заявила:
— Это — бук петрушколистный.
— Любопытное название! — осмелился я заметить. — Однако эти копьевидные листья не имеют ничего общего с листьями…
Аббат уже многозначительно улыбался:
— Так в Картфурше называют «Fagus persicifolia», — как бы невзначай промолвил он.
М-ль Вердюр подскочила:
— Вот уж не знала, что вы так сильны в ботанике.
— Нет, но я разбираюсь немного в латыни. — А затем, наклонившись ко мне: — Дамы невольно впадают в ошибку из-за каламбура. Persicus, уважаемая сударыня, persicus означает персик, а не петрушка. Fagus persicifolia, на листья которого господин Лаказ обратил внимание, так точно назвав их копьевидными, fagus persecefolia — это «бук персиколистный».
М-ль Олимпия побагровела: подчеркнутое спокойствие, с которым говорил аббат, добило ее окончательно.
— Истинная ботаника не занимается отклонениями и случаями уродства, — не удостоив взглядом аббата, нашлась она в ответ и, залпом выпив свой кофе, исчезла.
Аббат поджал губы, сложив их в куриную гузку, и издавал попукивающие звуки. Я едва сдерживал смех.
— Не слишком ли зло с вашей стороны, господи аббат?
— Да нет! Нет… Этой доброй девице не хватает упражнений, она нуждается в том, чтобы ее взбадривали. Поверьте, она очень воинственна; и, если в течение трех дней я бездействую, она сама ввязывается в драку. В Картфурше не так уж много развлечений!..
Одновременно, не сговариваясь, мы оба подумали о письме.
— Вы узнали почерк? — отважился я наконец спросить.
Он пожал плечами:
— Такие письма приходят в Картфурш, одно — чуть раньше, другое — чуть позже, дважды в год после получения арендной платы в них она сообщает г-же Флош о своем приезде.
— Она приедет?! — вскрикнул я.
— Успокойтесь! Успокойтесь, вы ее все равно не увидите.
— Почему же я не смогу ее увидеть?
— Потому что она появляется среди ночи, почти тут же исчезает, избегая посторонних взглядов, и потом… остерегайтесь Грасьена.
Он посмотрел на меня испытующе — я не шелохнулся.
— Вы не хотите принять во внимание ничего из того, что я сказал, — продолжал он с раздражением, — это видно по вашему лицу, но я вас предупредил. Что ж, поступайте как знаете! Завтра утром расскажете.
Он поднялся и покинул меня, не дав мне разобраться, пытался ли он сдержать мое любопытство или, наоборот, забавлялся тем, что подстегивал его.
До самого вечера мое сознание (я отказываюсь описывать царивший в нем беспорядок) было полностью занято ожиданием. Мог ли я любить Изабель? Конечно, нет, но, охваченный таким сильным, тронувшим мое сердце возбуждением, как мог я не ошибиться, узнав в своем любопытстве весь трепетный пыл, весь порыв, все страстное нетерпение, присущие любви. Последние слова аббата только еще больше возбудили меня; да и что мог сделать Грасьен? Я прошел бы сквозь огонь и воду!
Не было сомнений — в доме шли приготовления к чему-то необычному. В этот вечер никто не предложил партию в карты. Тут же после ужина г-жа де Сент-Ореоль пожаловалась на то, что она называла «гастеритом», и без всяких церемоний удалилась, пока м-ль Вердюр готовила ей настойку. Чуть позже г-жа Флош отправила спать Казимира, а как только мальчик ушел, обратилась ко мне:
— Мне кажется, у господина Лаказа большое желание сделать то же самое, — похоже, он падает от усталости. — Не успел я достаточно быстро отреагировать на такое приглашение, как она продолжала: — Думаю, сегодня никто из нас не станет засиживаться допоздна.
М-ль Вердюр встала, чтобы зажечь свечи; мы с аббатом последовали за ней; я увидел, как г-жа Флош наклонилась к дремавшему в кресле у огня мужу; тот тут же встал, затем под руку увлек барона, который не сопротивлялся, словно понимал, что это означает. На лестничной площадке второго этажа все со свечами в руках стали расходиться по своим комнатам.
— Спокойной ночи! Спите спокойно, — сказал мне аббат с двусмысленной улыбкой.
Я прикрыл дверь своей комнаты и стал ждать. Было еще только девять часов. Я слышал, как поднялась по лестнице г-жа Флош, затем м-ль Вердюр. Между г-жой Флош и г-жой де Сент-Ореоль, вышедшей из своей комнаты, снова вспыхнула ссора, но слишком далеко от меня, чтобы можно было разобрать слова; потом двери захлопнулись, и наступила тишина.
Я прилег на постель, чтобы обдумать все. Я размышлял над ироническим пожеланием спокойной ночи, которым аббат сопроводил свое рукопожатие; хотел бы я знать, готовится ли он ко сну или отдается во власть того самого любопытства, которое, как он мне доказывал, он не испытывает?.. Но его спальня располагалась в другом конце дома, симметрично моей, и никакого более или менее веского повода оказаться там у меня не было. Однако интересно, кто из нас двоих был бы больше сконфужен, застань мы друг друга в коридоре?.. За этими рассуждениями я не заметил, как со мной случилось нечто непонятное, абсурдное, поразительное: я заснул.
Да, видимо, не столько от перевозбуждения, сколько от изнурительного ожидания и, кроме того, от усталости из-за бессонной предыдущей ночи.
Меня разбудил треск догоревшей свечи или, может быть, смутно услышанный сквозь сон глухой звук сотрясающегося пола — никаких сомнений: кто-то прошел по коридору. Я приподнялся на постели. В этот момент свеча погасла, и я в полном замешательстве остался в темноте. У меня было только несколько спичек; я зажег одну из них, чтобы посмотреть на часы: около половины двенадцатого; я прислушался… ни звука. На ощупь подойдя к двери, я открыл ее.
Нет, мое сердце не билось учащенно, я ощутил в себе легкость и силу, настроен был спокойно и решительно, мозг работал ясно.
В другом конце коридора из большого окна лился не ровный, как в тихие ночи, а мерцающий и временами угасающий свет; моросило, луна пряталась за гонимыми ветром, плотными тучами. Я разулся и передвигался бесшумно… Мне было достаточно хорошо видно, чтобы благополучно добраться до наблюдательного пункта, который я себе облюбовал рядом с комнатой г-жи Флош, где, по всей видимости, и проходила тайная встреча; это была небольшая свободная комната, которую раньше занимал г-н Флош, теперь соседству жены он предпочитал соседство своих книг; дверь, ведущая в соседнюю комнату, тщательно закрытая на засов, несколько искривилась, и я удостоверился, что прямо под наличником есть щель, через которую все видно — для этого мне нужно было взобраться на комод, который я и пододвинул.
Через эту щель проникало немного света, который отражался от белого потолка; он позволял мне перемещаться по комнате. Я нашел свой наблюдательный пункт таким, каким оставил его днем. Я взобрался на комод, заглянул в соседнюю комнату…
Изабель де Сент-Ореоль была там.
Она была передо мной, в нескольких шагах… Она сидела на одном из тех неуклюжих низких сидений без спинки, которые называют, кажется, «пуфами», — его присутствие в этой старинной спальне несколько удивляло, и я не помню, чтобы я его здесь видел, когда приносил цветы. Г-жа Флош расположилась в большом штофном кресле; стоявшая на столике около кресла лампа мягко освещала их обеих. Изабель сидела ко мне спиной, сильно подавшись вперед, почти касаясь коленей своей старой тетки, поэтому сначала я не видел ее лица, но потом она подняла голову. Вопреки моим ожиданиям она не очень изменилась, но вместе с тем я с трудом узнавал в ней девушку, изображенную на медальоне: она была не менее красивой, конечно, но это была совсем другая красота, более земная — ангельская чистота миниатюры уступила место страстной томности и какому-то пренебрежению, наложившему свою печать на уголки губ, которые художник в свое время изобразил приоткрытыми. На ней был большой дорожный плащ, своего рода waterproof, но из обычной ткани, одна его пола была приподнята, и под ней виднелась черная юбка из блестящей тафты, на фоне которой опущенная рука со скомканным носовым платком казалась необыкновенно бледной и хрупкой. На голове — маленькая фетровая шляпка с перьями и завязками из тафты; локон очень черных волос выбивался из-под завязки и, когда она наклонялась, спадал ей на висок. Можно было подумать, что она в трауре, если бы не зеленая лента, повязанная на шее. Ни она, ни г-жа Флош не говорили ни слова, но правой рукой Изабель гладила руку г-жи Флош, подносила ее к губам и покрывала поцелуями.
Вот она встряхнула головой, отчего завитки волос взметнулись слева направо, и, словно продолжая уже начатое, произнесла:
— Все, я испробовала все, клянусь тебе…
— Не клянитесь, дитя мое, я и так вам верю, — перебила старушка, приложив ей руку ко лбу. Обе они говорили очень тихо, словно боялись быть услышанными.
Г-жа Флош выпрямилась, осторожно отстранила племянницу и, оперевшись о подлокотники кресла, встала. М-ль де Сент-Ореоль тоже встала и, в то время как тетка направилась к секретеру, откуда позавчера Казимир вытащил медальон, сделала несколько шагов в том же направлении, остановилась перед столиком, подпирающим большое зеркало, и, пока старушка копалась в ящике, она по изумрудному блеску заметила надетую на шею ленту, поспешно развязала ее и намотала на палец… Прежде чем г-жа Флош обернулась, слишком яркая лента исчезла, Изабель, скрестив перед собой опущенные руки, придала лицу задумчивое выражение, а взгляду — обреченность…
Бедная старая Флош еще держала в одной руке связку ключей, а в другой — тоненькую пачку купюр, которую она извлекла из ящика, и собиралась снова сесть в кресло, когда дверь (напротив той, за которой был я) вдруг широко распахнулась, и я чуть было не вскрикнул от изумления. Появилась баронесса, чопорная, нарумяненная, в пышном парадном наряде с декольте и гигантской метелкой из перьев марабу на голове. Она потрясала, насколько хватало сил, большим канделябром, все шесть зажженных свечей которого заливали ее мерцающим светом, роняя восковые слезы на пол. Видимо теряя остатки сил, она сначала подбежала к столику перед зеркалом, чтобы поставить канделябр, а затем в несколько небольших прыжков вернулась на прежнее место в дверном проеме и оттуда снова размеренным шагом двинулась на середину комнаты, торжественно протянув далеко перед собой унизанную огромными кольцами руку. Остановившись, она, по-прежнему скованная в движениях, всем телом повернулась в сторону дочери и пронзительным голосом, способным проникать сквозь стены, воскликнула:
— Прочь от меня, неблагодарная дочь! Ваши слезы больше не вызовут во мне жалости, а ваши мольбы навсегда потеряли дорогу к моему сердцу.
Все это было выложено громким монотонным фальцетом. Изабель бросилась к ногам матери, схватила и потянула к себе полу юбки, из-под которой показались две смешные, маленькие, из белого сатина туфельки, касаясь при этом лбом пола в том месте, где был разостлан ковер. Г-жа де Сент-Ореоль ни на миг не опустила глаз и продолжала смотреть прямо перед собой острым и холодным, как и ее голос, взглядом:
— Мало было вам принести в дом своих родителей беду, вы желаете и дальше продолжать…
В этот момент ее голос осекся, и тогда, повернувшись к г-же Флош, которая вся дрожа, забилась в свое кресло, она проговорила:
— А что до вас, сестра, если вы еще раз проявите слабость… — и снова повторив: — Если вы проявите преступную слабость и опять поддадитесь ее мольбам, хоть за поцелуй, хоть за грош, я покину вас, оставлю на божью милость свои пенаты и вы больше никогда не увидите меня. Это так же верно, как то, что я ваша старшая сестра.
Я как будто присутствовал на спектакле. Но они-то не знали, что за ними наблюдают, так для кого же эти две марионетки разыгрывали трагедию? Слова и жесты дочери казались мне столь же чрезмерно наигранными и притворными, как и у ее матери… Г-жа де Сент-Ореоль стояла лицом ко мне, и я, таким образом, видел Изабель со спины, распростертую в позе умоляющей Эсфири; вдруг я обратил внимание на ее ноги: они были обуты в темно-фиолетовые ботинки, как мне показалось и насколько это можно было определить под слоем покрывавшей их грязи; над ботинком был виден белый чулок, на котором мокрая, перепачканная оборка юбки, приподнимаясь, оставила грязный след… И вдруг — гораздо громче, чем напыщенные речи старухи, — во мне зазвучало все, что эта жалкая одежда могла рассказать о жизни, полной случайностей и невзгод. меня душили слезы, и я решил для себя, что пойду в парк за Изой, когда она выйдет из дома.
Тем временем г-жа де Сент-Ореоль сделала три шага в сторону кресла г-жи Флош:
— Дайте! Дайте мне эту пачку! Вы думаете, я не вижу под вашей перчаткой измятых денег? Вы что, считаете меня слепой или сумасшедшей? Отдайте мне эти деньги, говорю вам! — И как в мелодраме, поднеся купюры, которыми она завладела, к пламени свечи, произнесла: — Я скорее предпочла бы все сжечь, — (нужно ли говорить, что она не сделала ничего подобного), — чем дать ей хоть грош.
Она спрятала купюры в карман и снова принялась декламировать:
— Неблагодарная дочь! Бесчеловечная дочь! дорогой, которой ушли мои браслеты и ожерелья, вы сумеете отправить и мои кольца! — Сказав это, она ловким движением протянутой руки уронила два или три из них на ковер. Изабель схватила их, как голодная собака хватает кость.
— А теперь уходите: нам не о чем больше говорить, я вас знать не знаю.
Взяв на ночном столике гасильник, она поочередно накрыла им каждую свечу в канделябре и вышла.
Комната казалась теперь темной. Изабель тем временем встала, провела пальцами по вискам, откинула назад разметавшиеся волосы и привела в порядок шляпу. Резким движением поправила несколько сползший с плеч плащ и наклонилась к г-же Флош, чтобы попрощаться. Мне показалось, что бедная женщина пыталась заговорить с ней, но таким слабым голосом, что я ничего не смог разобрать. Изабель молча прижала одну из дружащих рук старушки к губам. Минуту спустя я бросился за ней по коридору.
У лестницы шум голосов остановил меня. Я узнал голос м-ль Вердюр, с которой Изабель уже разговаривала в передней, и, перегнувшись через перила, увидел их обеих. Олимпия Вердюр держала в руке маленький фонарь:
— Ты уедешь, не поцеловав его? — спросила она, и я понял, что речь шла о Казимире. — Так ты не хочешь его видеть?
— Нет, Лоли, я очень спешу. Он не должен знать, что я приезжала.
Наступило молчание, затем последовала пантомима, смысл которой я не сразу понял. Фонарь заплясал, бросая прыгающие тени. М-ль Вердюр наступала, Изабель пятилась назад, обе передвинулись таким образом на несколько шагов, а потом мне стало слышно:
— Да-да, на память от меня. Я долго хранила его. Теперь, когда я стала старой, на что он мне?
— Лоли! Лоли! Вы — лучшее, что я здесь оставляю.
М-ль Вердюр обняла ее:
— Бедняжка! Как она вымокла!
— Только плащ… это ничего. Отпусти меня, я спешу.
— Возьми хоть зонт.
— Дождь перестал.
— А фонарь?
— Зачем он мне? Коляска совсем рядом. Прощай.
— Ну же, прощай, бедное дитя! Дай тебе Бог… — остальное потерялось в рыдании.
М-ль Вердюр стояла некоторое время в ночной темноте, я ощутил поток свежего воздуха, потом услышал шум захлопнувшейся двери и засовов…
Пройти мимо м-ль Вердюр я не мог. Ключ от кухни Грасьен каждый вечер забирал с собой. Была еще дверь, через которую я легко мог выйти из дома, но для этого надо было сделать большой крюк. Изабель уже дошла бы до своей коляски. А если окликнуть ее из окна?.. Я побежал к себе. Луна снова скрылась за тучами; я немного подождал, прислушиваясь к шагам; поднялся сильный ветер, и, пока Грасьен возвращался в дом через кухню, сквозь беспокойный шепот деревьев я услышал, как удаляется коляска Изабель де Сент-Ореоль.
VII
Я загостился, и, как только вернулся в Париж, на меня навалились тысячи забот, направившие наконец ход моих мыслей в другое русло. Мое решение снова побывать в Картфурше следующим летом смягчало сожаление о том, что мне не удалось тогда пойти дальше; я уж было начал забывать о случившемся, когда в конце января получил двойное уведомление о смерти. Супруги Флош, оба, с разницей в несколько дней, испустили трепетные и нежные души. На конверте я узнал почерк м-ль Вердюр, однако свое послание с соболезнованиями и выражениями симпатии направил Казимиру. Две недели спустя пришло письмо следующего содержания:
Мой дорогой господин Жерар
(Мальчик так и не смог решиться называть меня по фамилии.
— А как Вас зовут? — спросил он меня во время одной из прогулок, как раз тогда, когда я начал обращаться к нему на «ты».
— Но ты же хорошо знаешь, Казимир, меня зовут господин Лаказ.
— Нет, не это имя, другое? — требовал он.)
Вы очень добры, что написали мне, и письмо Ваше очень хорошее, потому что в Картфурше теперь очень грустно. У моей бабушки в четверг был удар, и она не может теперь выходить из своей комнаты; тогда мама вернулась в Картфурш, а аббат уехал, потому что он стал кюре с Брейе. после этого мои дядя и тетя умерли. Сначала умер дядя, который Вас очень любил, а потом в воскресенье умерла тетя, которая болела три дня. Мамы уже не было. Я был один с Лоли и Дельфиной, женой Грасьена, которая меня очень любит; это было очень грустно, потому что тетя не хотела меня покидать. Но было нужно. А теперь я сплю около Дельфины, потому что Лоли вызвал ее брат в Орн. Грасьен тоже очень добр ко мне. Он показал мне, как сажать черенки и делать прививки, это забавно, и потом я помогаю валить деревья.
Вы знаете, Ваша записочка, где Вы написали свое обещание, нужно ее забыть, потому что здесь больше никого нет, чтобы Вас принять. Но мне грустно от того, что я не смогу Вас увидеть, потому что я Вас очень любил. Но я Вас не забываю.
Ваш маленький друг Казимир.
Смерть г-на и г-жи Флош оставила меня довольно равнодушным, но это неумелое простое письмо меня взволновало. В это время я не был свободен, но решил для себя уже в пасхальные каникулы провести рекогносцировку до Картфурша. Что из того, что там некому меня принять? Я остановлюсь в Пон-л'Евеке и найму коляску. Нужно ли добавлять, что мысль о возможной встрече с загадочной Изабель влекла меня туда не менее сильно, чем чувство жалости к ребенку. Некоторые места его письма были мне непонятны, я плохо увязывал события… Удар старухи, приезд Изабель в Картфурш, отъезд аббата, смерть стариков, во время которой их племянницы не было на месте, отъезд м-ль Вердюр… нужно ли было видеть во всем этом всего лишь случайную цепь событий или следовало искать между ними какую-то связь? Казимир не смог, а аббат не захотел просветить меня на сей счет. Пришлось ждать апреля. И уже на второй день, как я освободился, я отправился в Картфурш.
На станции Брей я заметил аббата Санталя, собирающегося сесть в мой поезд, и окликнул его.
— Вы снова в этих краях, — промолвил он.
— Я не думал, что вернусь сюда так скоро.
Он вошел в купе. Мы оказались одни.
— Да, после вашего визита здесь многое переменилось.
— Я узнал, что вы обслуживаете теперь приход в Брейе.
— Не будем сейчас об этом, — и он сделал рукой знакомый жест. — Вы получили уведомление?
— И тотчас направил свои соболезнования вашему ученику; от него-то я и узнал потом кое-какие новости, но он сообщил мне немного. Я чуть было не обратился к вам с просьбой рассказать мне некоторые подробности.
— Надо было написать.
— Я подумал, что вы вряд ли сообщили бы мне что-либо, — добавил я смеясь.
Но, видимо, не так связанный приличиями, как в те времена, когда он служил в Картфурше, аббат, казалось, был расположен к разговору.
— Ну, не несчастье ли то, что там происходит? — начал он. — И все аллеи пойдут туда же!
Сначала я ничего не мог понять, но потом вспомнил строчку из письма Казимира: «Я помогаю валить деревья…»
— Зачем они это делают? — наивно спросил я.
— Как зачем, дорогой сударь? Спросите у кредиторов. Впрочем, не в них дело, все делается за их спиной. Имение заложено и перезаложено. Мадемуазель де Сент-Ореоль берет все, что может.
— А она там?
— Как будто вы этого не знаете!
— Я просто предполагал, судя по некоторым словам…
— Именно с тех пор, как она там, все и пошло как нельзя хуже. — На некоторое время он овладел собой, но потребность высказаться на этот раз его пересилила; он больше не ждал моих вопросов, и я счал более разумным не задавать их.
— Как она узнала, что ее мать парализована? — говорил он. — Я так и не смог этого понять. Когда она узнала, что старая баронесса не может больше встать с кресла, она заявилась туда со своими вещами, и г-же Флош не хватило мужества выставить ее за дверь. Тогда-то я и уехал оттуда.
— Очень жаль, ведь вы, таким образом, оставили Казимира.
— Возможно, но я не мог оставаться рядом с этой… я забываю, что вы ее защищали!..
— Быть может, я и дальше буду это делать, господин кюре.
— Продолжайте. Да-да, мадемуазель Вердюр тоже ее защищала до тех пор, пока не увидела смерть своих хозяев.
Я восхищался тем, что аббат почти полностью освободил свою речь от того изящества, которое было ей присуще, пока он находился в Картфурше; он уже освоил манеру и язык, свойственные сельским священникам в Нормандии. Он продолжил свою мысль:
— Ей тоже показалось странным, что оба умерли одновременно.
— Разве?..
— Я ничего не говорю, — и он по старой привычке надул верхнюю губу, но тут же прибавил: — Хотя в округе говорили всякое. Никому не нравилось, что племянница стала наследницей. И Вердюр тоже предпочла уйти.
— Кто же остался с Казимиром?
— А! Вы все-таки поняли, что общество его матери не подходит ребенку. Так вот, он почти все время проводит у Шуантрейлей, ну, вы знаете, садовник с женой.
— Грасьен?
— Да, Грасьен, который воспротивился было вырубке деревьев в парке, но ничем не смог помешать. Это нищета.
— Между тем у Флошей деньги были.
— Но все было проедено в первый же день, сударь вы мой. Из трех ферм Картфурша г-жа Флош владела двумя, которые уже давно были проданы фермерам. Третья, маленькая ферма де Фон, еще принадлежит баронессе — она не сдавалась в аренду, за ее состоянием следит Грасьен, но она тоже скоро со всем остальным пойдет с молотка.
— А само имение Картфурш будет продано?
— С торгов. Но это невозможно сделать до конца лета. А пока, прошу поверить, девица пользуется этим. Кончится тем, что ей придется сдаться, но к этому времени в Картфурше останется половина деревьев…
— Кто же покупает у нее лес, если она не имеет права его продавать?
— Вы еще так молоды. Когда все идет за бесценок, покупатель найдется.
— Любой судебный исполнитель может запретить это.
— Судебный исполнитель заодно с дельцом, представляющим интересы кредитора, который там обосновался и который, — он наклонился к моему уху, — спит с ней, раз уж вы хотите все знать.
— А как книги и бумаги г-на Флоша? — спросил я, не выказывая волнения от его последней фразы.
— Мебель и библиотека будут пущены скоро в продажу, или, точнее, на них будет наложен арест. К счастью, там никто не догадывается о ценности некоторых произведений, иначе их давно бы уж и след простыл.
— Может найтись какой-нибудь пройдоха…
— Сейчас все опечатано, не беспокойтесь, печати снимут только для инвентаризации.
— Что говорит обо всем этом баронесса?
— Она ни о чем не подозревает, ей приносят еду в спальню, она даже не знает, что ее дочь находится там.
— Вы ничего не говорите о бароне.
— Он умер три недели назад, в Каене, в доме для престарелых, куда мы его недавно устроили.
Мы приехали в Пон-л'Евек. Аббата Санталя встречал священник, аббат попрощался со мной, порекомендовав мне гостиницу и человека, сдававшего напрокат коляски.
На следующий день я остановил коляску у входа в парк Картфурша; я условился с возницей, что он приедет за мной через пару часов, когда лошади передохнут на одной из ферм.
Ворота в парк были широко открыты; почва аллеи была изуродована гужевыми повозками. Я готовился к самому страшному разорению и был неожиданно обрадован при виде моего доброго знакомца — распустившегося «бука персиколистного»; мне не пришло в голову, что своей жизнью он обязан, очевидно, лишь заурядному качеству своей древесины; идя дальше, я убедился, что топор не пощадил самых прекрасных деревьев. Прежде чем углубиться в парк, мне захотелось увидеть тот павильон, где я обнаружил письмо Изабель, но вместо сломанного запора на двери висел замок (позже я узнал, что лесорубы хранили там инструменты и одежду). Я направился к дому. Прямая аллея, обсаженная низким кустарником, вела не к фасаду, а к службам, к кухне, напротив которой начиналась невысокая огородная изгородь; еще издалека я увидел Грасьена, идущего с корзиной овощей; он заметил меня, но сначала не узнал; я окликнул его, он двинулся мне навстречу и вдруг воскликнул:
— Вот как! Господин Лаказ! В это время вас уж точно не ожидали! — Он смотрел на меня, покачивая головой и не скрывая недовольства моим присутствием, но тем не менее добавил более спокойно:
— Малыш, однако, будет рад вас видеть.
Мы молча сделали несколько шагов в сторону кухни; он попросил меня подождать и вошел поставить корзину.
— Так вы приехали посмотреть, что происходит в Картфурше? — сказал он более учтиво, когда вернулся ко мне.
— Похоже, дела идут не очень-то хорошо?
Я взглянул на него: его подбородок дрожал, он ничего не отвечал, потом вдруг схватил меня за руку и увлек на лужайку перед крыльцом дома. Там распростерся труп огромного дуба, под которым, помню, я прятался от осеннего дождя; рядом валялись поленья и щепки от сучьев.
— Вы знаете, сколько стоит такое дерево? — задал он мне вопрос. — Двенадцать пистолей.[12] А знаете, сколько они заплатили?! За него, да и за все остальные… Сто су.[13]
Я не знал, что в этих краях пистолями называли экю[14] в десять франков, но момент был неподходящий для того, чтобы просить разъяснений. Грасьен говорил сдавленным голосом. Когда я обернулся к нему, он тыльной стороной руки смахнул с лица то ли слезу, то ли капли пота и, сжав кулаки, заговорил:
— У-у, бандиты! Когда я слышу, сударь, как они орудуют тесаком или топором, я схожу с ума, их удары бьют меня по голове; мне хочется звать на помощь, кричать: грабят! Хочется бить самому, убить! Позавчера я полдня провел в подвале — там не так слышно… Вначале малышу нравилось смотреть, как работают лесорубы; когда дерево было готово упасть, его звали, чтобы потянуть за веревку, но потом, когда эти злодеи приблизились к дому, мальчишка смекнул, что это не так забавно; он все говорил: нет, не это! нет, не это! «Бедный парень, — говорю я ему, — это или то, все равно это не твое». Я ему объяснил, что он не сможет жить в Картфурше, но он еще слишком мал; он не понимает, что все это уже не его. Если бы только нам оставили маленькую ферму, я бы взял его к себе, это точно; но кто знает, кто ее купит и какого негодяя возьмут на наше место!.. Знаете, сударь, я еще не так стар, но я предпочел бы умереть, чем видеть все это.
— Кто живет сейчас в доме?
— Знать этого не желаю. Малыш питается с нами на кухне, так лучше. Госпожа баронесса не покидает спальню, к счастью для нее, бедняжки… Из-за них Дельфина носит ей еду через служебную лестницу, не хочет попадаться им на глаза. У них есть кому прислуживать, но мы с этим человеком не разговариваем.
— Разве на движимость не должны скоро наложить арест?
— Тогда мы постараемся перевести госпожу баронессу на ферму, пока ферму не продадут вместе с домом.
— А маде… а ее дочь? — спросил я с запинкой, не зная как ее называть.
— Она может идти куда хочет, но не к нам. Это ведь все из-за нее!..
Его голос был исполнен такого гнева, что я понял: этот человек мог пойти на преступление, защищая честь своих хозяев.
— Она сейчас в доме?
— В это время она, должно быть, прогуливается по парку. Похоже, ей от этого ни жарко, ни холодно; она спокойно смотрит на лесорубов, бывает и заговаривает с ними без зазрения совести. Но в дождливую погоду не выходит из своей комнаты; посмотрите, вон та, угловая; она стоит там перед окном и глядит в сад. Если бы ее любовник не уехал на четверть часа в Лизье, я не ходил бы здесь, как сейчас. Да, господин Лаказ, это такая публика, что просто нет слов! Если бы наши старые господа пришли посмотреть, что тут у них делается, они бы, бедняжки, поспешили вернуться туда, где покоятся.
— А Казимир там?
— Думаю, он тоже гуляет в парке. Хотите, я его позову.
— Не надо, я сам его найду. До скорого. Я, конечно, еще увижусь с вами до отъезда — и с вами, и с Дельфиной.
Опустошение в парке казалось еще более ужасным в это время года, когда все готовилось ожить. В потеплевшем воздухе уже набухли и раскрылись почки, и каждый срубленный сук слезился соком. Я медленно шел, не столько опечаленный, сколько переполненный скорбью представившейся мне картины, может быть, несколько опьяненный мощным запахом живой природы, исходящим от умирающего дерева и оживающей земли. Меня почти не трогал контраст между этой смертью и весенним обновлением: ведь парк свободнее раскрывался свету, который одинаково заливал и золотил и смерть, и жизнь; но вместе с тем трагическая песнь топора вдали, наполняя воздух погребальной торжественностью, звучала в такт счастливому биению моего сердца, а бывшее при мне старое любовное письмо, которое я не собирался использовать, но временами прижимал к груди, жгло его. «Сегодня уже ничто не сможет помешать мне», — думал я и улыбался от ощущения того, что мои шаги ускоряются при одной мысли об Изабель; воля моя сопротивлялась, но управляла мной внутренняя сила. Я восхищался тем, как эта дикость, привнесенная хищничеством в красоту пейзажа, обостряла мое наслаждение; я восхищался тем, что нелестные отзывы аббата в столь малой степени отдалили меня от Изабель, и тем, что все, что я узнавал о ней, лишь подогревало невыразимым образом мое желание… Что еще связывало ее с этими местами, полными ужасных воспоминаний? От проданного Картфурша, я знал, ей не оставалось и не доставалось ничего. Почему она не бежала прочь? Я мечтал увезти ее сегодня же вечером в своей коляске; я пошел быстрее; я почти уже бежал, когда вдруг заметил ее вдалеке. Это была, конечно, она — в трауре, с непокрытой головой сидела она на стволе дерева, лежащего поперек аллеи. Мое сердце забилось так сильно, что я вынужден был на некоторое время остановиться; затем я медленно двинулся по направлению к ней, как бы спокойно и безучастно прогуливаясь по парку.
— Извините, сударыня… я нахожусь в Картфурше?
Рядом с ней на стволе дерева стояла небольшая корзинка для рукоделия, полная катушек, швейных принадлежностей, мотков и небольших кусочков крепа; она была занята тем, что прикладывала лоскутки к скромной фетровой шляпе, которую держала в руке; на земле валялась очевидно, только что сорванная зеленая лента.
Ее плечи покрывала совсем короткая черная драповая накидка; когда она подняла голову, я заметил незатейливую застежку у закрытого ворота. Она наверняка заметила меня издали, поскольку мой вопрос не удивил ее.
— Вы хотите купить имение? — спросила она, и от ее голоса, который я узнал, быстрее забилось мое сердце. Как прекрасен был ее открытый лоб!
— О нет, я пришел как простой посетитель. Ворота были открыты, я увидел людей. Но, может быть, это нескромно с моей стороны?
— Теперь сюда может входить кто угодно!
Она глубоко вздохнула, но вновь занялась рукоделием, словно нам не о чем было больше говорить.
Я не знал, как продолжить беседу, которая могла оказаться единственной и одновременно должна была стать решающей; проявлять напористость казалось мне пока неуместным; озабоченный мыслью о том, как бы не допустить бестактность, с умом и сердцем, полными ожиданий и вопросов, которые я еще не осмеливался задать, я стоял перед ней, концом трости вороша мелкие щепки, настолько смущенный и неловкий одновременно, что в конце концов она подняла глаза, пристально вгляделась в меня, и я подумал, что она вот-вот рассмеется; но, очевидно, потому, что тогда у меня были длинные волосы, я носил мягкую шляпу и внешне никак не походил на делового человека, она просто спросила:
— Вы художник?
— Увы! Нет, — ответил я улыбаясь, — но это ничего не значит, у меня есть вкус к поэзии. — И, не осмеливаясь еще раз взглянуть на нее, я почувствовал, как ее взгляд окутывает меня. Притворная банальность нашего разговора мне омерзительна, и я с трудом об этом рассказываю…
— Как прекрасен этот парк, — снова начал я.
Мне показалось, что она только и ждала, как бы завязать разговор, и, как и я, не знала, с чего начать, так как тут же охотно ответила, что сейчас он еще весь продрогший и не отошел от зимней спячки, что в это время года я, к сожалению, не в состоянии представить себе этот парк в его лучшую пору — осенью…
— По крайней мере каким он мог бы стать, — продолжала она, — что останется от него теперь, после ужасной работы лесорубов?..
— Нельзя ли помешать им? — воскликнул я.
— Помешать им! — повторила она иронически, приподняв плечи; мне показалось, что в доказательство своих невзгод она показывает мне свою убогую фетровую шляпу, но она просто подняла ее, чтобы надеть на голову, так, что был виден ее открытый лоб; затем она начала укладывать кусочки крепа, готовясь уйти. Я наклонился, поднял валявшуюся у ее ног зеленую ленту и протянул ей.
— К чему она мне теперь? — проговорила она, не взяв ее. — Вы видите, я в трауре.
Я тотчас заверил ее в том, что с грустью узнал о смерти г-на и г-жи Флош, а потом и барона; а поскольку она удивилась тому, что я знал ее родственников, я рассказал ей, что в октябре прошлого года прожил рядом с ними двенадцать дней.
— Тогда почему вы сделали вид, что не знаете, где находитесь? — резко спросила она.
— Я не знал, как с вами заговорить.
Затем, еще не очень раскрываясь, я стал рассказывать ей о том, какое страстное любопытство день за днем удерживало меня в Картфурше в надежде встретить ее, и о своих сожалениях (я не сказал ей о той ночи, когда так бесцеремонно выследил ее), с которыми, не увидев ее, я вернулся в Париж.
— Чем же вызвано такое сильное желание познакомиться со мной?
Она уже не делала вид, что собирается уходить. Я подтащил и положил напротив нее плотную вязанку хвороста и сел; я сидел ниже, чем она, и смотрел на нее снизу вверх; она по-детски сматывала креповые ленточки, и я не мог уловить ее взгляд. Я рассказал о миниатюре, поинтересовался, что стало с портретом, в который я был влюблен; но она об этом ничего не знала.
— Очевидно, он обнаружится, когда снимут печати… И будет пущен с молотка со всем остальным, — добавила она с сухим смешком, причинившим мне боль. — За несколько су вы сможете приобрести его, если не раздумаете.
Я стал уверять ее, что очень огорчен тем, что она не принимает всерьез чувство, давно владеющее мной и лишь выраженное столь неожиданно; однако она оставалась безучастной и, казалось, решила перестать слушать меня. Время торопило. Но ведь у меня было кое-что, способное нарушить ее молчание. Пылкое письмо дрожало в моих пальцах. Я придумал бог весть какую историю о старых связях моей семьи с семьей Гонфревийлей, надеясь как бы невзначай вызвать ее на откровенность, но в этой лживой истории я не видел ничего, кроме абсурдности, и начал просто рассказывать о загадочной случайности, с помощью которой письмо — я протянул ей его — оказалось у меня в руках.
— О! Я заклинаю вас, сударыня! Не рвите письмо! Верните его потом мне…
Она покрылась мертвенной бледностью и некоторое время держала раскрытое письмо на коленях, не читая его; затем с отсутствующим взглядом прошептала:
— Забыла взять обратно! Как я могла забыть его?
— Вы, конечно, решили, что оно дошло, что он пришел за ним…
Она по-прежнему не слушала меня. Я сделал движение, чтобы вернуть письмо, но она неправильно истолковала мой жест:
— Оставьте меня! — воскликнула она, грубо оттолкнув мою руку.
Затем встала, хотела бежать. Я опустился перед ней на колени, чем удержал ее.
— Не бойтесь меня, сударыня, вы прекрасно видите, что я не хочу причинить вам зла.
И поскольку она снова села, или, скорее, упала без сил, я стал умолять ее не сердиться на меня за то, что случай выбрал меня в ее невольные наперсники, а продолжать доверять мне, клялся не обмануть ее доверия. Ну почему бы ей не заговорить со мной как с истинным другом, так, будто я о ней ничего не знаю, а она сама мне обо всем рассказала.
Слезы, которые я проливал при этом, видимо, произвели на нее большее впечатление, чем слова.
— Увы! — продолжал я. — Я знаю, какая нелепая смерть унесла в тот вечер вашего возлюбленного… Но как вы узнали о постигшем вас несчастье? Что думали в ту ночь, когда ждали его, готовясь бежать с ним? Что сделали, не дождавшись его?
— Раз уж вы все знаете, — сказала она скорбным голосом, — вы хорошо понимаете, что после того, как я предупредила Грасьена, мне было некого больше ждать.
Моя догадка об ужасной истине была такой внезапной, что у меня, как крик, вырвались слова:
— Что? Это вы заставили его убить?
И тут, уронив на землю письмо и корзинку, из которой высыпались мелкие предметы, она уткнулась лицом в ладони и заплакала навзрыд. Я наклонился к ней и пытался взять за руку.
— Нет! Вы неблагодарны и грубы.
Мое неосторожное восклицание положило конец ее доверию — она замкнулась в себе; между тем я продолжал сидеть рядом, решительно настроенный не покидать ее до тех пор, пока она не расскажет дальше. Она наконец перестала рыдать; я понемногу убедил ее, что она уже так много сказала, что вполне можно было и не продолжать, но что чистосердечная исповедь не умалит в моих глазах ее достоинства и никакое признание не будет мне так горестно, как ее молчание. Опершись локтями о колени, закрыв лицо руками, она начала рассказ.
Ночью, накануне той, которую она назначила для побега, в любовном бессонном порыве она написала это письмо; наутро она отнесла его в павильон, сунула в то тайное место, о котором знал Блез Гонфревийль и откуда вскоре он должен был его забрать. Но по возвращении в дом, когда она оказалась у себя в комнате, которую навсегда собиралась покинуть, ее охватила невыразимая тревога, страх перед этой неизвестной свободой, которой она так алкала, страх перед любовником, которого она еще звала, страх перед самой собой и перед тем, на что боялась осмелиться. Да, решение было принято, да, приличия и стыл были забыты, но сейчас, когда больше ничто ее не удерживало, когда двери перед ней были открыты, решимость оставила ее. Сама мысль о побеге стала ненавистной, нестерпимой; она побежала к Грасьену и рассказала ему, что барон Гонфревийль собирается похитить ее у родных сегодня ночью, что вечером он будет бродить около павильона у решетки, к которой его нельзя подпускать.
Удивительно, она сама не пошла за письмом, не заменила его другим, в котором могла бы разубедить своего любовника. Но она все время уходила от ответов на вопросы, которые я ей задавал, повторяя со слезами, что она знала: я не смогу ее понять, и сама она не может объяснить, но она не в состоянии была ни оттолкнуть своего возлюбленного, ни пойти за ним, страх парализовал ее до такой степени, что было выше ее сил пойти в павильон, в это время дня ее родители не спускали с нее глаз, и поэтому она вынуждена была прибегнуть к помощи Грасьена.
— Могла ли я предположить, что он воспримет всерьез мои слова, вылетевшие у меня в порыве безумия? Я думала, что он только помешает ему… Я ужаснулась, когда час спустя услышала выстрел со стороны входа в парк, но мои мысли были далеки от ужасной догадки, которую я отказывалась принять, наоборот, как только я все сказала Грасьену и очистила сердце и совесть, я почти испытывала чувство радости… Но когда наступила ночь, когда приблизился час предполагаемого побега, я помимо воли вновь начала его ждать, вновь стала надеяться; какая-то вера — я знала, что она ложная, — примешивалась к моему отчаянию; я не могла допустить, что мимолетная трусость, внезапная слабость вмиг разрушили мою давнюю мечту, от которой я не могла очнуться; я, как во сне, спустилась в сад, остерегаясь любого шороха, любой тени; я все еще ждала… — Она снова зарыдала. — Нет, я уже не ждала, я пыталась обмануть себя, из жалости к самой себе я убедила себя, что все еще жду. С опустошенным сердцем, не пролив ни слезинки, я села на ступеньку у лужайки, больше ни о чем не думая, не зная, кто я, где я, зачем пришла. Луна, только что освещавшая лужайку, зашла; меня бросило в дрожь; мне захотелось, чтобы дрожь эта замучила меня до смерти. На следующий день я тяжело заболела, а врач, за которым позвали, сообщил о моей беременности матери.
Она помолчала.
— Теперь вы знаете то, что хотели от меня услышать. Если бы я продолжала рассказывать свою историю, то это была бы история другой женщины, в которой вы не узнали бы Изабель, изображенную на медальоне.
Я и так уже довольно плохо узнавал ту, в которую был влюблен в воображении. Да, ее рассказ перемежался отступлениями, где она жаловалась на судьбу, обвиняла этот мир, в котором поэзия и чувство всегда не правы; но мне было грустно от того, что в мелодии ее голоса я не ощущал сердечной теплоты. Ни слова раскаяния, жалость только к самой себе! Это так-то она умеет любить?..
Я начал собирать вывалившееся из корзинки рукоделие. Желание задавать ей вопросы прошло, и она сама, и ее жизнь стали вдруг для меня безразличны; я сидел перед ней, как ребенок перед игрушкой, которую сломал, чтобы узнать ее секрет, и даже ее привлекательность не находила во мне никакого отклика; не трогали меня и полные неги глаза, еще недавно приводившие меня в трепет. Мы заговорили о ее лишениях, и на мой вопрос о том, чем она собирается заняться, она ответила:
— Я буду давать уроки музыки или пения. У меня очень хорошая методика.
— Вы поете?
— Да, и играю на пианино. Когда-то я много работала. Была ученицей Тальберга… А кроме того, очень люблю поэзию.
Я не нашелся, что сказать, и она продолжала:
— О! Я уверена, вы столько знаете наизусть! Вы не почитаете мне что-нибудь?
Отвращение, омерзение от этой пошлости окончательно изгнало любовь из мой души. Я встал, чтобы откланяться.
— Как! Вы уже уходите?
— Увы! Вы и сами чувствуете, что будет лучше, если я вас покину. Представьте себе: прошлой осенью, будучи в гостях у ваших родителей, я заснул в тиши Картфурша, влюбился во сне и сейчас проснулся. Прощайте.
В конце аллеи у поворота показалась ковыляющая фигурка.
— Кажется, это Казимир, он будет рад мне.
— Он сейчас подойдет. Подождите его.
Мальчик приближался мелкими скачками с граблями на плече.
— Разрешите, я пойду ему навстречу. Быть может, он будет стесняться встретиться со мной в вашем присутствии. Извините… — И самым неловким образом ускорив прощание, я почтительно откланялся и ушел.
Я больше никогда не видел Изабель де Сент-Ореоль и не знаю о ней ничего нового. Хотя нет, следующей осенью, когда я наведался в Картфурш, Грасьен сказал мне, что накануне наложения ареста на имущество, покинутая дельцом, она сбежала с кучером.
— Видите ли, господин Лаказ, — добавил он поучительно, — она не может обойтись без мужчины, ей всегда кто-то нужен.
Среди лета была распродана библиотека Картфурша. Несмотря на мои инструкции, мне об этом не сообщили; думаю, что книготорговцу из Каена, которого пригласили вести торги, и в голову не пришло пригласить меня или какого-либо другого серьезного любителя. Позже я с возмущением узнал, что знаменитая библия была продана местному букинисту за семьдесят франков, а затем тут же перепродана за триста, кому — не знаю. Что касается рукописей XVII века, то они даже не были упомянуты и были проданы с торгов как старые бумаги.
Я намеревался присутствовать хотя бы на распродаже мебели и приобрести в память о Флошах кое-какие мелкие предметы, но, предупрежденный слишком поздно, приехал в Пон-л'Евек только во время продажи ферм и имения. Картфурш был приобретен по ничтожной цене торговцем недвижимостью Мозер-Шмидтом, который собирался превратить парк в луга, когда один американский любитель перекупил его, я не очень понимаю зачем, поскольку он больше не возвращался во Францию и оставил и парк и дом в том состоянии, в котором вы могли его видеть.
Будучи малосостоятельным в то время, я думал поприсутствовать на торгах только из любопытства, но в то утро я виделся с Казимиром, и во время аукциона меня охватила такая жалость при мысли о бедственном положении мальчика, что я вдруг решил обеспечить ему существование на ферме, которую рассчитывал занять Грасьен. А вы не знали, что я стал ее владельцем? Почти не отдавая себе отчета, я надбавил цену — это было безумием с моей стороны, но зато как я был вознагражден радостью бедного ребенка, смешанной с печалью…
На этой маленькой ферме у Грасьена я и провел с Казимиром пасхальные, а затем и летние каникулы. Старуха Сент-Ореоль была еще жива, мы постарались, насколько возможно, выделить ей лучшую комнату; она впала в детство, но все же узнала меня и припомнила мое имя.
— Как это любезно, господин Лас Каз! Как любезно с вашей стороны, — повторяла она, вновь увидев меня.
Она была уверена, что я вернулся сюда только для того, чтобы ее навестить, и была польщена.
— Они делают ремонт в доме. Будет очень красиво! — говорила она мне по секрету, как бы объясняя причину своих лишений мне или самой себе.
В день распродажи имущества ее в большом кресле вынесли сначала на крыльцо гостиной; судебный исполнитель был ей представлен как знаменитый архитектор, который специально приехал из Парижа, чтобы следить за работами (она легко верила во все, что ей льстило), потом Грасьен, Казимир и Дельфина перенесли ее в ту комнату, которую ей не суждено было покинуть и где она прожила еще года три.
В это первое лето моей деревенской жизни у себя на ферме я познакомился с семьей Б., на старшей дочери которых позже женился. Имение Р., которое после смерти родственников жены нам принадлежит, находится, как вы видели, недалеко от Картфурша; два-три раза в год я прихожу туда поболтать с Грасьеном и Казимиром, которые очень неплохо обрабатывают свои земли и регулярно платят мне скромную арендную плату. К ним-то я и ходил после того, как оставил вас.
Ночь уже давно вступила в свои права, когда Жерар закончил рассказ, И все же именно в эту ночь Жамм, перед тем как заснуть, написал свою четвертую элегию:
Когда ты попросил меня сочинить элегию об этом заброшенном имении, где сильный ветер…
Примечания
1
Боссюэ Жак Бенинь (1627–1704) — французский писатель, епископ, отстаивал идею божественного происхождения абсолютной власти монарха.
(обратно)2
Век Людовика XIV
(обратно)3
Арабское блюдо из како, муки, крахмала и сахара.
(обратно)4
Авензоар (Ибн Зохар) — арабский медик из Севильи (XII в.).
(обратно)5
Массийон Жан Батист (1663–1742) — французский проповедник, оратор-моралист, член Французской академии.
(обратно)6
Так прозвали Боссюэ. Мо — город, в котором Боссюэ был епископом с 1681 по 1704 г.
(обратно)7
Жерар ошибся: у Phoenicopterus antiquorum нос не имеет плоской формы шпателя. — Прим. авт.
(обратно)8
Рожок, в котором перемешиваются игральные кости.
(обратно)9
Разновидность кареты.
(обратно)10
Парфяне (иранское племя сер. I в. до н. э.), делая вид, что отступают, внезапно стреляли через плечо, поражая противника.
(обратно)11
Дискуссия, стычка, перебранка (исп.).
(обратно)12
Пистоль — старинная золотая монета того же достоинства, что и луидор (20 франков).
(обратно)13
Су — старинная французская монета в 5 сантимов, или 1/20 часть франка.
(обратно)14
Экю — старинная французская монета в 10 франков.
(обратно)

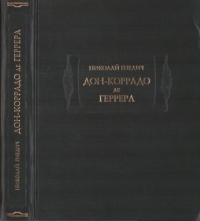
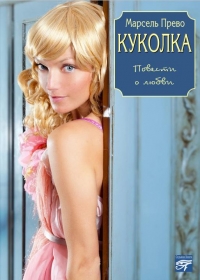
Комментарии к книге «Изабель», Андре Жид
Всего 0 комментариев