Глава 1 ПРОПОВЕДЬ О КАБАКАХ
Море было таинственного бледно-зеленого цвета и день уже клонился к вечеру, когда молодая черноволосая женщина в мягко ниспадающем платье густого, медного оттенка рассеянно проходила по бульвару Пэбблсвика, влача за собой зонтик и глядя в морскую даль. Она смотрела туда не без причин; много женщин в мировой истории смотрели на море по тем же самым причинам и побуждениям. Но паруса нигде не было.
На берегу перед бульваром толпились люди, слушавшие обычных ораторов, подвизающихся на морских курортах, – негров и социалистов, клоунов и священников. Как обычно, там стоял человек, проделывавший какие-то фокусы с бумажными коробочками, и зеваки часами глазели на него, надеясь понять, что же он делает. Рядом с ним стоял джентльмен в цилиндре с очень большой Библией и очень маленькой женой, которая молчала, пока он, потрясая кулаками, громил сублапсариев[1], чье еретическое учение столь опасно для морских курортов. Он так волновался, что нелегко было уследить за смыслом его речи, но через равные промежутки выговаривал с жалобной усмешкой «наши друзья, сублапсарии».
Потом шел некий юноша, который и сам не мог бы объяснить, о чем он говорит; но публике он нравился, ибо носил на шляпе венок из моркови. Перед ним лежало больше денег, чем перед другими ораторами. Затем тут были негры. Затем была «Защита детей» с необычайно длинной шеей, отбивавшая такт деревянным совочком. Дальше стоял разъяренный атеист с алой розеткой в петлице, указующий то и дело на человека с совочком и утверждающий, что лучшие дары природы испорчены происками инквизиции, которую представлял, по-видимому, защитник детей. Слушателей своих он тоже не щадил. «Лицемеры!» – кричал он, и они бросали ему деньги. «Дураки и трусы!» – они бросали еще. Между атеистом и защитником находился маленький старичок в красной феске, похожий на сову, помахивающий над головой зеленым зонтом. Лицо у него было коричневое и морщинистое, как грецкий орех, нос напоминал об Иудее, черная борода – о Персии. Молодая женщина никогда его не видела и поняла, что это – новый экспонат на хорошо знакомой выставке помешанных и шарлатанов. Женщина эта была из тех, в ком чувство юмора всегда спорит со склонностью к тоске и скуке; она остановилась и оперлась на перила, чтобы послушать.
Прошло целых четыре минуты, прежде чем она стала улавливать смысл его речи. Говорил он по-английски с таким сильным акцентом, что ей вначале показалось, будто он проповедует на своем родном языке. Каждый звук в его произношении становился очень странным. Особенно забавно произносил он «у», немилосердно его растягивая, скажем – «пу-у-уть» вместо «путь». Мало-помалу она привыкла и стала понимать отдельные слова, хотя далеко не сразу догадалась, о чем идет речь. По-видимому, старичок пытался доказать, что англичане получили цивилизацию от турок или от сарацинов после их победы над крестоносцами. Кроме того, он считал, что скоро придет время, когда англичане сами в это поверят; и приводил в доказательство распространение трезвости. Слушала его только молодая женщина.
– Посмотрите, – говорил он, грозя кривым темным пальцем, – посмотрите на свои кабаки! На кабаки, о которых вы пишете в книгах! Эти кабаки построили не для крепких христианских напитков. Их построили, чтобы продавать мусульманские, трезвые напитки. Это видно из названий. У них восточные названия. Например, у вас есть знаменитый кабак, у которого останавливаются все омнибусы. Вы зовете его «Слон и Замок». Это не английское название. Это азиатское название. Вы скажете, что замки есть и в Англии, и я соглашусь с вами. Есть Виндзорский замок[2]. Но где, – сердито закричал он, простирая зонтик к девушке в пылу ораторской победы, – где виндзорский слон? Я осмотрел весь Виндзорский парк. Там нет слонов.
Темноволосая девушка улыбнулась и подумала, что этот человек стоит прочих. Следуя странному обычаю, которым слушатели поощряют представителей вер на морских курортах, она бросила монетку на круглый медный поднос. Увлеченный достойным и бескорыстным пылом, старик в красной феске этого не заметил и продолжал свои туманные доказательства.
– В городе есть питейное заведение, которое вы называете «Бы-ы-ык».
– Мы обычно называем его «Бык», – сказала молодая девушка очень мелодичным голосом.
– У вас есть заведение, которое вы называете «Бы-ы-ык», – свирепо повторил старичок. – Может быть, это смешно…
– Нет, что вы!.. – нежно заверила его увлеченная слушательница.
– При чем тут бы-ы-ык? – кричал оратор. – Чем связан бы-ык с веселым пиром? Кто думает о быках в садах блаженства? Разве место быку там, где прекрасные девы пляшут и разливают сверкающий шербет? У вас самих, друзья мои, – и он радостно огляделся, словно обращаясь к многолюдной толпе, – у вас самих есть поговорка «бы-ык в посудной лавке». Ничуть не разумней, ничуть не выгодней пускать быка в лавку винную. Это ясно.
Он вонзил зонтик в песок и ударил себя пальцем по руке, словно наконец-то подошел к самой сути дела.
– Это ясно как солнце в полдень, – торжественно сказал он. – Ясно как солнце, что прежде этот кабак называли «Крылатым быком» в честь и славу древнего восточного символа[3].
Голос его взмыл, как труба, и он распростер руки, словно листья тропической пальмы.
После такого торжества он немного обмяк и тяжело оперся на зонтик.
– Вы найдете следы азиатских слов, – продолжал он, – в названиях всех ваших заведений. Более того, вы найдете их в названиях всех предметов, которые доставляют вам радость и отдохновение. Дорогие мои друзья, даже то вещество, которое придает крепость вашим напиткам, вы называете арабским словом «алкоголь». Само собой разумеется, что частица «ал» – арабского происхождения, как в словах «Альгамбра» или «алгебра». Эта частица встречается во многих словах, связанных для вас с весельем, – таких, например, как «эль», искаженное «аль», или Альберт-холл.
И он торжественно распростер руки на восток и на запад, взывая к земле и небу. Темноволосая девушка, с улыбкой глядя вдаль, похлопала ему обтянутыми серой лайкой пальцами. Но старичок в феске не устал.
– Вы возразите мне… – начал он.
– О, нет, нет! – и отрешенно, и пылко проговорила девушка. – Я не возражаю. Я совсем не возражаю!
– Вы возразите мне, – продолжал ее наставник, – что есть кабаки, которые названы в честь символа ваших суеверий. Вы поторопитесь напомнить о «Золотом Кресте», о «Королевском Кресте» и о всех тех крестах, которых так много под Лондоном. Но вы не должны забывать, – и он ткнул в воздух зонтиком, словно собирался проткнуть девушку насквозь, – вы не должны забывать, друзья мои, сколько в Лондоне полумесяцев. Вы называете полумесяцем всякую площадь, круглую с трех сторон, прямую – с четвертой. Повсюду звучит это слово, повсюду вы чтите священный символ пророка. Ваш город почти целиком состоит из полумесяцев, изредка прерываемых крестами, напоминающими о суеверии, которому вы ненадолго поддались.
Приближалось время чаепития, и толпа на берегу быстро редела. Запад сиял все ярче. Солнце опускалось в бледное море, сверкая сквозь воду, словно сквозь зеленое стекло. Прозрачность воды и небес дышала сияющей безнадежностью, ибо для девушки море было и романтичным, и трагическим. Солнце медленно гасло, и вместе с ним угасал поток изумрудов; но поток человеческой глупости был неистощим.
– Я ничуть не хочу утверждать, – говорил старик, – что в моей теории нет трудных случаев. Не все примеры так бесспорны, как те, что я сейчас привел. Скажем, совершенно очевидно, что «Голова сарацина» – искажение исторической истины, гласящей «Глава наш – сарацин». Далеко не так очевидно, что «Зеленый Чурбан» – это «Зеленый Тюрбан», хотя в моей книге я надеюсь это доказать. Скажу одно: усталого путника в пустыне скорее привлечет мягкая, красивая ткань, чем бессмысленная деревяшка. Порою очень трудно доискаться до прежних названий. У нас был знаменитый воин, Амар али Бен Боз, а вы переделали его имя в «Адмирал Бенбоу». Бывает и еще труднее. Здесь есть питейное заведение «Старый корабль»…
Взгляд девушки был прочно прикован к линии горизонта, но лицо ее изменилось и зарумянилось. Пески были почти пусты; атеист исчез, как его бог, а те, кому хотелось узнать, что делают с бумажными коробочками, ушли пить чай, этого не зная. Но девушка медлила у перил. Лицо ее ожило; тело не могло сдвинуться с места.
– Надо признать, – блеял старичок с зеленым зонтиком, – что в словах «Старый корабль» нет решительно ничего азиатского. Но это не собьет с пути искателя истины. Я спросил владельца, которого, как я записал, зовут мистер Пэмф…
Губы у девушки задрожали.
– Бедный Хэмп! – сказала она. – Я совсем забыла о нем. Наверное, он так же горюет, как и я. Надеюсь, старик не будет говорить чепухи об этом… Ах, лучше бы не об этом!
– Мистер Пэмф сказал мне, что название придумал один его дру-у-уг, ирландец, который был капитаном королевского флота, но вышел в отставку, рассердившись на дурное обращение с Ирландией. Он вышел в отставку, но сохранил суеверия ваших моряков и хотел назвать кабак в честь своего корабля. Однако су-у-удно это называлось «Соединенное королевство»…
Его ученица – не сидевшая, правда, у его ног, а нависшая над его головой – звонко крикнула, оглашая пустые пески:
– Как зовут капитана?
Старичок шарахнулся от нее, уставившись ей в лицо совиным взором. Часами он говорил, как бы обращаясь к толпе, но сильно растерялся, увидев, что у него есть слушатель. Кроме девушки и турка на всем берегу не было ни одной души, если не считать чаек. Солнце утонуло, лопнув напоследок, как лопнул бы алый апельсин, но низкие небеса были еще озарены кроваво-красным светом. Этот запоздалый свет обесцветил красную феску и зеленый зонтик; но темная фигурка на фоне моря и неба была все такой же, хотя и двигалась больше.
– Как зовут капитана? – переспросил старик. – Кажется… кажется Дэлрой. Но я хочу вам сказать, хочу объяснить, что поборник истины найдет необходимую связь. Мистер Пэмф сообщил мне, что он убирает и украшает свое заведение отчасти потому, что вышеупомянутый капитан, служивший, насколько я понял, в каком-то маленьком флоте, скоро возвращается. Заметьте, друзья мои, – сказал он чайкам, – что ум, привыкший мыслить логически, найдет смысл и здесь.
Он сказал это чайкам, потому что девушка, взглянув на него сияющими глазами, еще сильнее оперлась о перила, а потом растаяла в сумерках. Когда замолк звук ее шагов, ничто не нарушало тишины, кроме слабого, но могучего бормотанья вод, редких птичьих криков и бесконечного монолога.
– Заметьте, – продолжал старичок, так рьяно взмахнув зонтом, словно то было зеленое знамя пророка, а потом вонзая его в песок, как вонзал его буйный предок колья своего шатра, – заметьте, друзья мои, поразительную вещь! Вас удивило, вас поразило, вас озадачило, как вы бы сказали, что в словах «старый корабль» нет ничего восточного. Но я спросил, откуда возвращается капитан, и мистер Пэмф со всей серьезностью ответил мне: «Из Ту-у-урции». Из Ту-у-урции! Из ближайшей страны правоверных! Мне скажут, что это не наша страна. Но не все ли равно, откуда мы, если мы несем райскую весть? Мы несем ее под грохот копыт, нам некогда остановиться. Наша весть, наша вера, одна из всех вер на свете, пощадила, как вы бы сказали, целомудрие разума. Она не знает людей выше пророка и почитает одиночество Божье.
Он снова распростер руки, как бы обращаясь к миллионной толпе, один на темном берегу.
Глава 2 КОНЕЦ МАСЛИЧНОГО ОСТРОВА
Огромный дракон, который охватил лапами весь земной шар, меняет цвета, подобно хамелеону. У Пэбблсвика он бледно-зеленый, у Ионийских островов становится густо-синим. Один из бесчисленных островков – даже не островок, а плоская белая скала на лазурной глади – назывался Масличным, не потому, что там было много олив, но потому, что по прихоти почвы и климата две или три оливы разрослись до немыслимых размеров. Даже на самом жарком юге эти деревья редко бывают выше небольшого грушевого дерева; но три оливы, украшавшие бесплодный островок, можно было бы принять, если бы не их форма, за сосны и лиственницы севера. Кроме того, островок был связан с древней греческой легендой об Афине Палладе, покровительнице олив, ибо море кишит первыми сказками Эллады, и с мраморного уступа под оливой видна серая глыба Итаки.
На островке, под деревьями, стоял стол, заваленный бумагами и уставленный чернильницами. За столом сидели четыре человека, двое в военной форме, двое в черных фраках. Адъютанты и слуги толпились поодаль, а за ними, в море, виднелись два или три броненосца; ибо Европа обретала мир.
Только что кончилась одна из долгих, тяжких и неудачных попыток сломить силу Турции и спасти маленькие христианские народы. В конце ее было много встреч, на которых, один за другим, сдавались народы поменьше и брали власть народы побольше. Теперь осталось четыре заинтересованных стороны. Европейские государства, согласные в том, что нужен мир на турецких условиях, препоручили последние переговоры Англии и Германии, которые, несомненно, могли его обеспечить; был тут и представитель султана: был и единственный враг султана, еще не примирившийся.
Одно крохотное государство месяц за месяцем боролось в одиночестве, каждое утро удивляя мир своим упорством, а иногда и успехом. Никому не ведомый правитель, называвший себя королем Итаки[4], оглашал восточное Средиземноморье славой, достойной имени острова, которым он правил. Поэты, разумеется, вопрошали, не вернулся ли Одиссей; любящие отчизну греки, вынужденные сложить оружие, гадали о том, какое из греческих племен и какой из греческих родов прославила новая династия. Поэтому все удивлялись, услышав, что этот потомок Улисса – просто наглый ирландец, искатель приключений, по имени Патрик Дэлрой, который прежде служил в английском флоте, поссорился с начальством из-за своих фенианских взглядов[5] и вышел в отставку. С тех пор он пережил немало приключений и сменил немало форм, постоянно попадая в беду или вовлекая в нее других, и поражая при этом какой-то странной смесью почти циничной удали и самого чистого донкихотства. В своем фантастическом королевстве он, конечно, был и генералом, и адмиралом, и министром иностранных дел; но исправно следовал воле народа, когда речь шла о войне и мире, и по его велению признал себя побежденным. Помимо профессиональных талантов он славился физической силой и огромным ростом. Газеты любят теперь писать, что варварская сила мышц не играет никакой роли в военных действиях; однако такой взгляд не больше соответствует истине, чем противоположный. На Ближнем Востоке, где у всех есть какое-то оружие и на людей часто нападают, вождь, способный себя защитить, обладает немалым преимуществом, да и вообще не совсем верно, что сила ничего не значит. Это признал лорд Айвивуд, представитель Великобритании, подробно объяснивший королю Патрику безнадежное превосходство турецкой пушки над его силой, на что тот заметил, что может поднять пушку и удрать с нею. Признавал это и величайший из турецких полководцев, страшный Оман-паша, знаменитый отвагой на поле брани и жестокостью в мирное время; на лбу у него красовался шрам, нанесенный шпагой ирландца в трехчасовом поединке и принятый, надо сказать, без стыда, ибо турки умеют держаться. Не сомневался в этом и финансовый советник германского посла, ибо Патрик Дэлрой справился, какое окно ему по вкусу, и забросил его в спальню, прямо на кровать, где он позже принял врача. И все же один мускулистый ирландец на маленьком островке не может сражаться вечно с целой Европой; и он с мрачным добродушием подчинился воле своей приемной родины. Он даже не мог перестукать дипломатов (на что у него хватило бы и силы, и смелости), ибо разумной частью сознания понимал, что они, как и он, подчиняются приказу. Король Итаки, облаченный в зеленую с белым форму морского офицера (придуманную им самим), грузно и сонно сидел за маленьким столиком. У него были синие бычьи глаза, бычья шея и такие рыжие волосы, словно голову его охватило пламя. Некоторые считали, что так оно и есть.
Самой важной особой здесь был прославленный Оман-паша, немолодой человек с сильным лицом, изможденным тяготами войны. Его усы и волосы казались сожженными молнией, а не годами. На голове его красовалась красная феска, а между феской и усами был шрам, на который король Итаки не смотрел. Глаза его, как это ни странно, ничего не выражали.
Лорда Айвивуда считали красивейшим человеком Англии. На фоне синего моря он казался мраморной статуей, безупречной по форме, но являющей нам лишь белый и серый цвет. От игры света зависело, тускло-серебряными или бледно-русыми станут его волосы, а безупречная маска лица никогда не меняла ни цвета, ни выражения. Он был одним из последних ораторов в несколько старомодном стиле, хотя самого его ни в малой степени нельзя было назвать старым, и умел придать красоту всему, что скажет; но двигались только губы, лицо оставалось мертвым. И манеры у него были, как у прежних членов парламента. Например, он встал, словно римский сенатор, чтобы обратиться к трем людям на окруженной морем скале.
При этом он был самобытней сидевшего рядом человека, который все время молчал, хотя говорило его лицо. Доктор Глюк, представитель Германии, не походил на немца; в нем не было ни немецкой мечтательности, ни немецкой сонливости. Лицо его было ярким, как цветная фотография, и подвижным, как кинематограф, но ярко-красные губы ни разу не разомкнулись. Миндалевидные глаза мерцали, словно опалы; закрученные усики шевелились, словно черные змейки; но звуков он не издавал. Безмолвно положил он перед Айвивудом листок бумаги. Айвивуд надел очки и сразу постарел на десять лет.
Это была повестка дня, включающая все, что осталось решить на последней конференции. Первый пункт гласил:
«Посол Итаки просит, чтобы девушки, отправленные в гаремы после взятия Пилоса, вернулись в свои семьи. На это согласиться нельзя».
Лорд Айвивуд встал. Красота его голоса всегда поражала тех, кто слышал этот голос впервые.
– Досточтимые господа, – сказал он. – Государственный муж, чьих мнений я не разделяю, но чья историческая роль поистине неоценима, сочетал в нашем сознании мир и честь. Когда заключается мир между такими воинами, как Оман-паша и его величество король Итаки, мы вправе сказать, что мир совместим со славой. Он на секунду замолк; но тишина скалы и моря зазвенела рукоплесканиями, так произнес он эти слова.
– Я уверен, что мы объединены одной мыслью, хотя и немало спорили за эти месяцы. Да, мы объединены одной мыслью. Мир должен быть таким же бесстрашным, какой была война.
Он снова замолк. Никто не аплодировал, но он не сомневался, что в головах у слушателей гремят аплодисменты; и продолжал:
– Если мы перестали сражаться, перестанем же и спорить. Определенные уступки, если хотите – мягкость и гибкость, пристали там, где славный мир завершает славную битву. Я старый дипломат, и я посоветую вам: не создавайте новых забот, не разрывайте уз, сложившихся за это беспокойное время. Признаюсь, я достаточно старомоден, чтобы бояться вмешательства в семейную жизнь. Но я достаточно либерален, чтобы уважать древние обычаи ислама, как уважаю древние обычаи христианства. Опасно поднимать вопрос, по своей или по чужой воле покинули эти женщины родительский кров. Не могу себе представить вопроса, который был бы чреват более вредными последствиями. Я надеюсь, что выражу и ваши мысли, если скажу, что мы должны всеми силами оберегать устои семьи и брака, господствующие в Оттоманской империи[6].
Никто не шевельнулся. Один только Патрик Дэлрой схватил рукоятку шпаги и обвел всех огненным взором; потом рука его упала, и он громко рассмеялся.
Лорд Айвивуд не обратил на это никакого внимания. Он снова заглянул в листок, надев очки, которые сразу состарили его, и прочел про себя второй пункт. Вот что написал для него представитель Германии, непохожий на немца:
«И Кут, и Бернштейн настаивают на том, чтобы в каменоломнях работали китайцы. Грекам теперь доверять нельзя».
– Мы хотим, – продолжал лорд Айвивуд, – чтобы столь почтенные установления, как мусульманская семья, сохранились в неприкосновенности. Ни мы вовсе не хотим общественного застоя. Мы не считаем, что великие традиции ислама могут обеспечить сами по себе все потребности Ближнего Востока. Однако, господа, я спрошу вас со всей серьезностью: неужели мы так тщеславны, чтобы думать, что Ближнему Востоку может помочь лишь Ближний Запад? Если нужны новые идеи, если нужна новая кровь, не естественней ли обратиться к живым и плодоносным цивилизациям, в которых таится истинно восточный кладезь? Да простит мне мой друг Оман-паша, но Азия в Европе всегда была Азией воинствующей. Неужели мы не увидим здесь Азии миролюбивой? Вот почему я считаю, что в мраморных карьерах Итаки должны работать китайцы.
Патрик Дэлрой вскочил, схватившись за ветку оливы над своей головой. Чтобы успокоиться, он положил руку на стол и молча глядел на дипломатов. Его придавила тяжелая беспомощность физической силы. Он мог бросить их в море, но чего он добьется? Пришлют других дипломатов, защищающих неправду, а тот, кто защищает правду, будет ни на что не годен. В бешенстве тряс он могучее дерево, не прерывая лорда Айвивуда, который уже прочел третий пункт («Оман-паша требует уничтожения виноградников») и произносил в это время знаменитую речь, которую вы можете найти во многих хрестоматиях. Он уже зашел за середину, когда Дэлрой успокоился настолько, что стал вникать в смысл его слов.
– …неужели мы ничем не обязаны, – говорил дипломат, – тому высокому жесту, которым арабский мистик много столетий назад отвел от наших уст чашу[7]? Неужели мы ничем не обязаны воздержанию доблестного племени, отвергшего ядовитую прелесть вина? В нашу эпоху люди все глубже понимают, что разные религии таят разные сокровища; что каждая из них может поделиться тайной; что вера вере передает речь, народ народу – знание. Да простит меня Оман-паша, но я полагаю, что наши западные народы помогли исламу понять ценность мира и порядка. Не вправе ли мы сказать, что ислам одарит нас миром в тысячах домов и побудит стряхнуть наваждение, исказившее и окрасившее безумием добродетели Запада? На моей родине уже прекратились оргии, вносившие ужас в жизнь знатных семейств. Законодатели делают все больше, чтобы спасти англичан от позорных уз всеразрушающего зелья. Пророк из Мекки собирает жатву; и как нельзя более уместно предоставить его прославленному воину судьбу итакских виноградников. Этот счастливый день избавит Восток от войны. Запад – от вина. Благородный правитель, принимающий нас, чтобы протянуть нам масличную ветвь, еще более славную, чем его шпага, может испытывать чувство утраты, которое мы разделим; но я почти не сомневаюсь, что рано или поздно он сам одобрит это решение. Напомню вам, что юг знаменит не только виноградной лозою. Есть священное дерево, не запятнанное памятью зла, кровью Орфея[8]. Мы уедем отсюда, ведь все проходит в мире…
Исчезнет наш могучий флот, Огни замрут береговые, И слава наша упадет, Как пали Тир и Ниневия[*] [9],но пока сияет солнце и плодоносит земля, мужчины и женщины счастливее нас будут взирать на это место, ибо три оливы вознесли свои ветви в вечном благословении над скромным островком, подарившим миру мир.
Глюк и Оман-паша смотрели на Патрика Дэлроя. Рука его охватила дерево, могучая грудь вздымалась от натуги. Камешек, лежавший у корней оливы, сдвинулся с места и поскакал, как кузнечик. Потом изогнутые корни стали вылезать из земли, словно лапы проснувшегося дракона.
– Я протягиваю масличную ветвь, – сказал король Итаки, выворачивая дерево и осеняя всех его огромной тенью. – Она славнее моей шпаги, – с трудом прибавил он. – Да и тяжелее.
Он еще раз напряг свои силы и спихнул дерево в море. Немец, непохожий на немца, поднял руку, когда на него упала тень. Сейчас он вскочил и отшатнулся, увидев, что дикий ирландец вырывает второй ствол. Этот вылез легче. Прежде чем бросить его в воду, король постоял немного, словно жонглировал башней.
Лорд Айвивуд вел себя достойнее, но и он поднялся, негодуя. Только турецкий паша сидел неподвижно и глядел спокойно. Дэлрой вырвал третье дерево и выбросил, оставив остров голым.
– Готово! – сказал он, когда третья, последняя олива исчезла в волнах. – Теперь я уйду. Сегодня я видел то, что хуже смерти. Это называют миром.
Оман-паша встал и протянул ему руку.
– Вы правы, – сказал он по-французски, – и я надеюсь вас встретить в единственной жизни, достойной зваться благом. Куда вы едете?
– Я еду, – отрешенно произнес Дэлрой, – туда, где «Старый корабль».
– Вы хотите сказать, – спросил турок, – что снова поступаете на службу к английскому королю?
– Нет, – отвечал Дэлрой. – Я возвращаюсь в «Старый корабль», который стоит за яблонями в Пэбблсвике, где Юл течет меж деревьев. Боюсь, что мы с вами там не встретимся.
Поколебавшись миг-другой, он пожал красную руку прославленного тирана и направился к своей лодке, не взглянув на дипломатов.
Глава 3 ВЫВЕСКА «СТАРОГО КОРАБЛЯ»
Немногим из сынов человеческих довелось носить фамилию Пэмп, и немногим из Пэмпов пришла в голову безумная мысль назвать своего ребенка Хэмфри. Но именно эту нелепость совершили родители кабатчика, и близкие друзья могли называть их сына Хэмпом, а старый турок с зеленым зонтом – Пэмфом. Кабатчик выносил это стоически, ибо человек он был сдержанный.
Мистер Хэмфри Пэмп стоял у дверей кабака, отделенного от моря лишь низкорослыми, изогнутыми, просоленными яблонями. Перед кабаком была большая лужайка, сразу за ней шел крутой откос, по которому извилистая тропка резко спускалась в таинственную чащу более высоких деревьев. Мистер Пэмп стоял под самой вывеской; вывеска же стояла в траве и представляла собой высокий белый шест с квадратной белой доскою, украшенной причудливым синим кораблем, похожим на детский рисунок, к которому преданный отчизне кабатчик пририсовал красной краской непомерно большой георгиевский крест[10].
Мистер Хэмфри Пэмп, невысокий и широкоплечий, носил охотничью куртку и охотничьи гетры. Он и впрямь чистил сейчас и заряжал двустволку, изобретенную или хотя бы усовершенствованную им самим, которая казалась нелепой в сравнении с современным оружием, но стреляла прекрасно. Подобно многорукому Бриарею[11], Пэмп делал все, и все делал сам, причем создания его были чуть-чуть иными, чем у других людей. Кроме того, он был хитер, как Пан или браконьер, и знал повадки птиц и рыб, свойства листьев и ягод. Голова его была набита полуосознанными преданиями и говорил он весьма занятно, хотя и не совсем ясно, ибо не сомневался, что собеседник знает и местность, и слухи, и поверья так же хорошо, как он. Самые поразительные вещи он сообщал совершенно бесстрастно, и казалось, что лицо его выточено из дерева. Темно-каштановые бакенбарды придавали ему сходство со спортсменом прошлого века. Улыбался он криво и угрюмо, но взгляд его карих глаз был добр и мягок. Хэмфри Пэмп воплотил в себе самую суть Англии.
Обычно движения его, хотя и проворные, были спокойны; но сейчас он положил ружье на стол с некоторой поспешностью и шагнул вперед, с необычайным оживлением вытирая руки. За яблонями, на фоне моря, появилась высокая, тоненькая девушка в медном платье и большой шляпе. Лицо под шляпой было серьезным и прекрасным, хотя и довольно смуглым. Девушка пожала кабатчику руку он с величайшей учтивостью подал ей стул и назвал ее «леди Джоан».
– Я хотела посмотреть на знакомые места, – сказала она. – Когда-то, совсем молодыми, мы были здесь счастливы. Наверное, вы редко видите наших старых друзей.
– Очень редко, – ответил Пэмп, задумчиво теребя бакенбарды. – Лорд Айвивуд стал настоящим пастором с тех пор, как пошел в гору. Он закрывает пивные направо и налево. А мистера Чарлза услали в Австралию за то, что он напился и упал на похоронах. Ничего не скажешь, крепко; но у покойницы был ужасный характер.
– А не довелось ли вам слышать, – беспечно спросила Джоан Брет, – об этом ирландце, капитане Дэлрое?
– Да, больше, чем о других, – ответил кабатчик. – Он натворил немало чудес там, в Греции. Флот наш много потерял…
– Они оскорбили его родину, – сказала девушка и, покраснев, взглянула на море. – В конце концов, он вправе протестовать, если о ней плохо говорят!
– Когда узнали, что он его выкрасил… – продолжал Пэмп.
– Выкрасил? – спросила леди Джоан. – Как это?
– Он выкрасил капитана Даусона зеленой краской, – спокойно пояснил кабатчик. – Капитан Даусон сказал, что зеленое – цвет ирландских изменников[12], и Дэлрой его выкрасил. Конечно, искушение большое, я красил забор, тут стояло ведро, но на его служебных делах это отразилось очень плохо.
– Что за необычайная история! – воскликнула леди Джоан и невесело рассмеялась. – Она должна стать деревенской легендой. Я никогда еще такой не слышала. Может быть, отсюда идет название «Зеленый человек»…
– Нет, – просто сказал Пэмп. – Этот кабачок назывался так задолго до Ватерлоо. Бедный Нойл владел им, пока его не выгнали. Вы помните старого Нойла, леди Джоан? Говорят, он еще жив и пишет любовные письма королеве Виктории, только теперь не посылает.
– А что вы еще слышали о вашем друге? – спросила девушка, прилежно разглядывая горизонт.
– На прошлой неделе я получил от него письмо, – отвечал кабатчик. – Возможно, он скоро вернется. Он сражался за какой-то греческий остров, но сейчас это кончилось. Как ни странно, наш лорд представлял на переговорах Англию.
– Вы говорите об Айвивуде? – довольно холодно спросила леди Джоан. – Да, у него большое будущее.
– Я бы хотел, чтобы он нас так не мучил, – проворчал Пэмп. – Он не оставит в Англии ни одного кабака. Впрочем, все Айвивуды были не в себе. Вспомните только его дедушку.
– Невежливо просить, чтобы дама вспомнила дедушку, – сказала леди Джоан, печально улыбаясь.
– Вы знаете, что я хочу сказать, – добродушно ответил кабатчик. – Я никогда не был особенно строг, кто из нас без греха. Но я бы не хотел, чтобы с моей свиньей так поступали. Не пойму, почему человек не может взять свинью в церковь, если ему нравится. Это их семейные места, они отгорожены.
Леди Джоан снова засмеялась.
– Чего вы только не знаете, – сказала она. – Ну, мне пора, мистер Хэмп… то есть мистер Пэмп… когда-то я звала вас Хэмпом… О, Хэмп, будем ли мы счастливы снова?
– Мне кажется, – сказал он, глядя на море, – что это зависит от Провидения.
– Скажите еще раз «Провидение»! – вскричала она. – Это прекрасно, как детская книжка.
И с этими нелогичными словами она пошла по тропинке между яблонь и дальше, к курорту.
Кабак «Старый корабль» стоял неподалеку от рыбачьей деревушки Пэбблсвик, а в полумиле от него был расположен новый курорт. Темноволосая девушка упорно шла у самого берега, по бульвару, который, в безумном оптимизме, раскинулся к востоку и к западу от курорта, и, приближаясь к людной его части, все внимательнее вглядывалась в людей. Почти все были те же самые, которых она видела здесь месяц назад. Искатели истины (как сказал бы старичок в феске), собирающиеся каждый день ради тайны коробочек, еще ничего не узнали, но и не устали от своего паломничества. Яростному атеисту бросали монетки в знак признания, что удивительно, так как слушатели оставались равнодушными, а сам он говорил искренне. Человек с длинной шеей и совочком, распевающий гимны, куда-то исчез, ибо защита детей – ремесло кочевое. Юноша в морковном венке был здесь, и перед ним лежало даже больше денег, чем прежде. Но леди Джоан нигде не видела старичка в феске. Оставалось предположить, что он потерпел неудачу; и в своей печали она подумала, что он не преуспел, ибо дикие его речи держались какой-то безумной, неземной логики, на которую неспособны эти пошлые дураки. Она не признавалась себе, что турок и кабатчик интересуют ее только по одной причине.
Устало бредя вдоль берега, она увидела белокурую девушку в черном платье, с подвижным умным лицом. Лицо это покачалось ей знакомым. Призвав на помощь ту выучку, которая велит аристократам запоминать обычных людей, она припомнила, что это мисс Браунинг, которая года два назад печатала для нее на машинке, и бросилась к ней отчасти из добродушия, отчасти же для того, чтобы избавиться от тяжких мыслей. Она заговорила так дружелюбно и просто, что девушка в черном набралась смелости и сказала:
– Я давно хотела познакомить вас с моей сестрой. Она живет дома, это так старомодно, но сама гораздо умнее меня и знает очень умных людей. Сейчас она беседует с пророком луны, о нем теперь все говорят. Разрешите я вас представлю.
Леди Джоан Брет встречала на своем веку много пророков луны и других светил; но безотказная вежливость, искупающая пороки ее класса, побудила ее пойти за мисс Браунинг. С вышеупомянутой сестрой она поздоровалась, сияя учтивостью, что мы зачтем в ее пользу, ибо ей стоило большого труда вообще на нее взглянуть. Рядом, на песке, в красной феске, но в ослепительно новом костюме, сидел старичок, говоривший некогда о кабаках.
– Он читает лекции в нашем Нравственном обществе, – прошептала мисс Браунинг. – Об алкоголе. Об одном только слове «алкоголь». Потрясающе! Про Аравию и алгебру, знаете, и про то, что все с востока. Право, вам бы это понравилось.
– Мне это нравится, – сказала леди Джоан.
– Под-у-умайте о том, – говорил старичок сестре мисс Браунинг, – что имена ваших кабаков попросту бессмысленны, если мы не отыщем в них влияния ислама. В Лондоне есть заведение, одно из самых людных, самых главных, которое называется «Подкова». Друзья мои, кто вспомнит подкову? Это – лишь принадлежность существа, много более занимательного, чем она сама. Я уже доказал, что название «Бык»…
– Разрешите спросить… – внезапно перебила его леди Джоан.
– Название «Бык», – продолжал человек в феске, глухой ко всему, кроме собственных мыслей, – смешно, тогда как слова «Крылатый бык» величественны и красивы. Но даже вы, друзья мои, не сравните питейного заведения с кольцом в носу у быка. Зачем же сравнивать его с одной из принадлежностей благородного коня? Совершенно очевидно, что подкова – таинственный символ, созданный в те дни, когда английская земля была порабощена преходящим галилейским суеверием[13]. Разве та изогнутая полоска, то полукружие, что вы зовете подковой – не полумесяц? – И он распростер руки, как тогда, на пляже. – Полумесяц пророка и единого Бога!
– Разрешите спросить, – снова начала леди Джоан, – как вы объясните название «Зеленый человек»? Это кабачок вон за теми домами.
– Сейчас! Сейчас! – в диком волнении вскричал пророк луны. – Искатель истины не найдет лучшего примера. Друзья мои, разве бывают зеленые люди? Мы знаем зеленую траву, зеленые листья, зеленый сыр, зеленый ликер. Но знает ли кто-нибудь из вас, сколько бы ни было у него знакомых, зеленого человека? Совершенно очевидно, друзья мои, что старое название искажено, сокращено. Всякому ясно, что название это, вполне разумное, исторически оправданное, – «Человек в зеленом тюрбане», ибо такой тюрбан носили слуги пророка. «Тюрбан» как раз то слово, которое, за непонятностью, могли исказить и отбросить совсем.
– В этих местах рассказывают, – сказала леди Джоан, – что великий герой услышал, как оскорбляют священный цвет его священного острова, и выкрасил обидчика зеленой краской.
– Легенда! Миф! – закричал человек в феске, радостно раскинув руки. – Разве не очевидно, что этого быть не может?
– Это было, – мягко сказала девушка. – Мало радостей в жизни, но все же, иногда… О, нет, это было!
И, мило поклонившись, она снова побрела по бульвару.
Глава 4 КАБАК ОБРЕТАЕТ КРЫЛЬЯ
Мистер Хэмфри Пэмп стоял перед дверью своего кабака. Вычищенная и заряженная двустволка лежала на столе. Белая вывеска слегка колебалась над его головой от дуновения ветра. Лицо кабатчика было задумчиво и сосредоточенно, в руке он держал два письма, совершенно разных, но говорящих об одном и том же. Вот первое из них:
«Милый Хэмп!
Я так расстроена, что называю Вас по-старому. Вы понимаете, я должна ладить с родными – ведь лорд Айвивуд доводится мне чем-то вроде троюродного брата. По этой и по другим причинам моя бедная мама просто умрет, если я его обижу. Вы знаете, что у нее больное сердце; Вы знаете все, что только можно знать в нашем краю. И вот я пишу, чтобы предупредить Вас, что над Вашим милым кабачком собирается гроза. Всего месяц или два назад я видела на пляже старого оборванного шута с зеленым зонтиком, который нес необыкновенную ерунду. Недели три назад я узнала, что он читает лекции в каких-то нравственных обществах за хорошее вознаграждение. И вот, когда я в последний раз была у Айвивудов – мама требует, чтобы я у них бывала, – там оказался этот сумасшедший во фраке, среди самых важных гостей. Я хочу сказать, среди самых сильных.
Лорд Айвивуд – под его влиянием и считает его величайшим пророком в мире. А ведь лорд Айвивуд не дурак; поневоле им восхищаешься. Мне кажется, мама хочет, чтобы я не только восхищалась им. Я говорю Вам все, Хэмп, потому что, наверное, это мое последнее честное письмо. И я Вас серьезно предупреждаю, что лорд Айвивуд искренен, а это очень страшно. Он будет великим государственным деятелем, и он действительно хочет сжечь старые корабли. Если Вы увидите, что я ему помогаю, простите меня.
Того, о ком мы говорили и кого я никогда не увижу, я поручаю Вашей дружбе. Из всего, что я могу отдать, это – второе, но, я думаю, оно лучше первого. Прощайте.
Дж. Б.»
Это письмо скорее огорчило Пэмпа, чем озадачило. Другое же – скорее озадачило, чем огорчило. Было оно таким:
«Президиум Королевской комиссии по контролю над продажей крепких напитков вынужден обратить Ваше внимание на то, что Вы нарушили пункт 5-А нашего Постановления о местах публичного увеселения и тем самым подлежите взысканию согласно пункту 47-Б Постановления, дополняющего вышеупомянутое. Вам предъявляются следующие обвинения:
1) Нарушение примечания к пункту 23-Г, которое гласит, что ни одно питейное заведение, приносящее менее четырехсот (400) фунтов стерлингов годового дохода, не вправе вешать перед дверью вывески.
2) Нарушение примечания к пункту 113-Д, который гласит, что алкогольные напитки не могут продаваться без наличия свидетельства, заверенного Государственным Медицинским Советом, нигде, кроме отеля «Кларидж» и бара «Критерион», необходимость которых доказана.
Поскольку Вы не обратили внимания на наши прежние извещения, мы предупреждаем Вас данным письмом, что законные меры будут приняты незамедлительно.
С искренним уважением
Айвивуд, председатель,
Дж. Ливсон, секретарь».
Мистер Хэмфри Пэмп сел за стол и засвистел, что при его бакенбардах придало ему на минуту несомненное сходство с конюхом. Потом знания и разум вновь засветились на его лице. Добрыми карими глазами он взглянул на холодное серое море. Оно давало немного. Он мог в нем утонуть, и это было бы лучше для него, чем расстаться со «Старым кораблем». Могла утонуть и Англия; это было бы лучше для нее, чем потерять «Старый корабль». Но это несерьезно и недоступно; и Пэмп думал о том, как море искривило и яблони в его саду и его самого. Печально у моря… По берегу шел только один человек. Он приближался, становился все выше, и лишь тогда, когда он стал выше человеческого роста, Пэмп с криком вскочил. Луч утреннего солнца упал на голову путника, и волосы его запылали, словно костер.
Бывший король Итаки неторопливо приближался к «Старому кораблю». Он приплыл на берег в шлюпке броненосца, едва видного на горизонте. Одет он был по-прежнему в зеленую с серебром форму, изобретенную им самим для флота, которого и раньше почти не было, а теперь не было совсем; на боку у него висела прямая морская шпага, ибо условия капитуляции не обязывали ее отдать; а в мундире, при шпаге находился большой, довольно растерянный человек, чье несчастье состояло в том, что его сильный разум был все же слабее его тела и его страстей.
Всем своим телом он опустился на стул прежде, чем Пэмп нашел слова, чтобы выразить радость. Потом сказал:
– Есть у тебя ром?
И, словно чувствуя, что эта фраза нуждается в объяснении, прибавил:
– Наверное, я уже никогда не буду моряком. Значит, мне надо выпить рому.
Хэмфри Пэмп был талантлив в дружбе и понял старого друга. Не сказав ни слова, он пошел в кабак и вернулся, неторопливо толкая то одной, то другой ногой два легко катящихся предмета, словно играл в футбол двумя мячами. Один из этих предметов был бочонком рома, другой – большим сыром, похожим на барабан. Он умел делать много полезных вещей, в том числе – открывать бочки, не взбалтывая содержимого; и как раз искал в кармане соответствующий инструмент, когда ирландский его друг сел прямо и сказал с неожиданной трезвостью:
– Спасибо, Хэмп. Я совсем не хочу пить. Теперь я вижу, что могу выпить, и не хочу. А хочу я, – тут он ударил кулаком по столу, так что одна ножка подкосилась, – а хочу я узнать, что тут у вас делается, кроме чепухи.
– Что ты называешь чепухой? – спросил Пэмп, задумчиво перебирая письма.
– Я называю чепухой, – закричал ирландец, – когда Коран включают в Писание! Я называю чепухой, когда помешанный пастор предлагает воздвигнуть полумесяц на соборе святого Павла[14]. Я знаю, что турки наши союзники, но это бывало и раньше, а я не слышал, чтобы Пальмерстон[15] или Колин Кэмпбелл[16] разрешали такие глупости.
– Понимаешь, – сказал Пэмп, – лорд Айвивуд очень увлекся. Недавно, на цветочной выставке, он говорил, что пришло время слить христианство и ислам воедино.
– И назвать хрислам, – угрюмо сказал Дэлрой, глядя на серый и лиловый лес за кабачком, куда сбегала белая дорога. Она казалась началом приключения; а он приключения любил.
– И вообще, ты преувеличиваешь, – продолжал Пэмп, чистя ружье. – С полумесяцем было не совсем так. Мне кажется, доктор Мул предложил двойную эмблему, крест и полумесяц. И потом, он не пастор. Говорят, он атеист, или этот, агностик, как сквайр Брентон, который жевал дерево. У сильных мира сего есть свои моды, но они длятся недолго.
– На сей раз это серьезно, – сказал его друг, качая огромной рыжей головой. – Твой кабак – последний на побережье, а скоро будет последним в Англии. Помнишь «Сарацинову голову» в Пламли, на самом берегу?
– Да, да – кивнул кабатчик. – Моя тетка была там, когда он повесил свою мамашу. Но кабак очень хороший.
– Я сейчас проплывал мимо, – сказал Дэлрой. – Его больше нет.
– Неужели пожар? – спросил Пэмп, оставляя ружье.
– Нет , – отвечал Дэлрой. – Лимонад. Они забрали эту бумагу, как ее там. Я сочинил по этому случаю песню и сейчас ее спою.
И, внезапно оживившись, он заревел громовым голосом песню собственного сочинения на простой, но вдохновенный мотив:
«Голова Сарацина» отовсюду видна, [*] Но уж больше под нею не пивать нам вина: Злые старые леди навели там уют – И с тех пор в «Сарацине» только чай подают! «Голова Сарацина» – родом издалека: Из Аравии Ричард вел с победой войска, И где пир он устроил – так гласила молва – Пику в землю воткнул, а на ней – Голова.– Эй – крикнул Пэмп и снова тихо свистнул. – Сюда идет сам лорд. А тот молодой человек в очках – что-то вроде комитета.
– Пускай идут, – сказал Дэлрой и заорал еще громче:
Голова оказалась долговечней царей, И ужасные мысли скопилися в ней: О Здоровье Народа, о Полезной Еде, О питье сарацинов – апельсинной воде… «Голова Сарацина» глядит свысока, Чай здесь льется рекой, а вина ни глотка! Хоть бы кто-нибудь мне объяснил, дураку, Как такое пришло Сарацину в башку?Когда последний звук этого лирического рева прокатился сквозь яблони вниз, по белой лесной дороге, капитан Дэлрой откинулся на спинку стула и добродушно кивнул лорду Айвивуду, который стоял на лужайке величаво-холодный, как всегда, но чуточку поджав губы. Из-за его спины виднелся молодой человек в двойных очках; очевидно, то был Дж. Ливсон, секретарь. На дороге стояло еще трое, и Пэмп с удивлением подумал, что такие разные люди могут сойтись только в фарсе. Первый из них был полицейский инспектор, второй – рабочий в коричневом фартуке, похожий на плотника, третий – старик в пунцовой феске, но в безупречном костюме, который его явно стеснял. Он что-то объяснял полицейскому и плотнику, а они, по всей видимости, старались сдержать смех.
– Славная песня, милорд, – сказал Дэлрой с веселым самодовольством. – Сейчас я спою вам другую. – И он прочистил горло.
– Мистер Пэмп, – сказал лорд Аививуд красивым, звонким голосом. – Я решил явиться сюда сам, чтобы вы поняли, что мы были к вам слишком милостивы. Самая дата основания вашего кабака подводит его под закон тысяча девятьсот девятого года. Он построен, когда здешним лордом был мой прадедушка, хотя, если не ошибаюсь, назывался тогда иначе, и…
– Ах, милорд, – со вздохом перебил его Пэмп, – лучше бы мне иметь дело с вашим прадедушкой, даже если бы он женился на тысяче негритянок, чем видеть, как джентльмен из вашей семьи отнимает единственное достояние у бедного человека.
– Постановление заботится именно о бедных, – бесстрастно отвечал Айвивуд, – а результаты его пойдут на пользу всем до единого. – Обратившись к секретарю, он прибавил: – У вас второй экземпляр, – и получил в ответ сложенную вдвое бумагу.
– Здесь полностью объяснено, – продолжал он, надевая очки, которые так старили его, – что Постановление призвано защитить сбережения самых низших, неимущих классов. Читаем в параграфе третьем: «Мы настоятельно рекомендуем, чтобы алкоголь был объявлен вне закона, кроме случаев, разрешенных правительством по парламентским и другим общественным причинам, а также чтобы деморализующие вывески кабаков были строго запрещены, кроме особо оговоренных случаев. Отсутствие соблазна, по нашему убеждению, значительно улучшит финансовое положение рабочего класса». Это опровергает мнение мистера Пэмпа, полагающего, что наши необходимые реформы в какой бы то ни было мере связаны с насилием. Мистеру Пэмпу, человеку предубежденному, может показаться, что Постановление дурно отразится на его делах. Но (тут голос лорда Айвивуда взмыл вверх) что лучше покажет нам, как необходимо бороться с коварным ядом, который мы стремимся искоренить? Что лучше это докажет, если достойные люди с прекрасной репутацией, живя в таких местах, под влиянием винных паров или сентиментальной тоски о прошлом противопоставляют себя обществу и думают только о своей выгоде, смеясь над страданиями бедняков?
Капитан Дэлрой с интересом смотрел на Айвивуда ярко-синими глазами.
– Простите меня, милорд, – сказал он спокойней, чем обычно. – В вашей прекрасной речи есть один пункт, который я не совсем уяснил себе. Если я правильно понял, вывески запрещены, но там, где они есть, напитки продавать можно. Другими словами, когда англичанин найдет наконец хотя бы один кабак с вывеской, он с вашего милостивого разрешения может там выпить?
Лорд Айвивуд замечательно владел собой, что очень помогало ему в его карьере. Не отвлекаясь на споры о частностях, он просто ответил:
– Да. Вы совершенно правильно изложили факты.
– Значит, – не унимался капитан, – если я увижу кабацкую вывеску, я могу зайти, спросить кружку пива, и полиция меня не накажет?
– Если увидите, можете, – сдержанно ответил Айвивуд. – Но мы надеемся, что скоро вывесок не будет.
Капитан встал во весь свои огромный рост и, кажется, потянулся.
– Ну, Хэмп, – сказал он другу, – лучше всего, по-моему, взять все с собой.
Двумя боковыми ударами ноги он перебросил через забор бочонок рома и круг сыра, так что они быстро покатились под уклон по белой лесной дороге, в темные леса. Затем он схватил шест с вывеской и выдернул его из земли, как травинку.
Никто не успел и пошевелиться, но когда он побежал к дороге, полисмен кинулся ему навстречу. Дэлрой приложил вывеску к его лицу и груди, и он скатился в трясину. Потом, повернувшись к старичку в феске, капитан ткнул его шестом в новый белый жилет, прямо в часовую цепочку, и тот сел на землю, глядя серьезно и задумчиво.
Секретарь кинулся было прочь, но Хэмфри Пэмп с криком схватил ружье и в него прицелился, что испугало Дж. Ливсона до раздвоения души, если не тела. Через мгновенье Пэмп уже бежал вниз по дороге, за капитаном, который катил перед собой бочку и сыр.
Прежде чем полицейский выбрался из трясины, они исчезли в сумраке леса. Лорд Айвивуд, не проявивший во время этой сцены ни страха, ни нетерпения (ни, добавлю, радости), поднял руку и остановил полицейского.
– Преследуя этих скандалистов, – сказал он, – мы только выставим себя и закон в смешном виде. При современных средствах сообщения они не смогут уйти или принести вред. Гораздо важнее, господа, уничтожить их гнездо и их запасы. Согласно закону тысяча девятьсот одиннадцатого года мы имеем право конфисковать и уничтожить любую собственность в незаконно торгующем кабаке.
Много часов он стоял на лужайке, следя за тем, как разбивают бутыли и ломают бочки, и услаждаясь той фанатичной радостью, которую его странной, холодной душе не могли дать ни еда, ни вино, ни женщины.
Глава 5 УДИВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО
У лорда Айвивуда был недостаток, свойственный многим людям, узнавшим мир из книг, – он не подозревал, что не только можно, но и нужно что-то узнать иначе. Хэмфри Пэмп прекрасно понимал, что лорд Айвивуд считает его невеждой, никогда ничего не читавшим, кроме «Пиквика». Но лорд Айвивуд не понимал, что Хэмфри Пэмп, глядя на него, думает, как легко было бы ему спрятаться в лесных зарослях, ибо его серовато-русые волосы и бледное лицо в точности повторяли три основные оттенка сумрака, царящего там, где растут молодые буки. Боюсь, что в ранней молодости Пэмп баловался куропаткой или фазаном, когда лорд Айвивуд и не подозревал о своем гостеприимстве, более того – и не поверил бы, что кто-то может обмануть бдительное око его лесников. Но человеку, ставящему себя выше физического мира, не стоит судить о том, что можно сделать, что – нельзя.
Поэтому лорд Айвивуд ошибался, говоря, что беглецам не скрыться в современной Англии. Вы можете многое сделать в современной Англии, если сами заметили то, что другим известно но картинкам и по рассказам; если вы знаете, например, что придорожные живые изгороди почти всегда выше, чем кажутся, и что за ними может спрятаться человек очень большого роста; если вы знаете, что многие естественные звуки – скажем, шелест листвы и рокот моря – труднее различить, чем думают умные люди; если вы знаете, что ходить в носках легче, чем ходить обутым; если вы знаете, что злых собак гораздо меньше, чем людей, способных убить вас в поезде; если вы знаете, что в реке не утонешь, когда течение не очень быстрое и вам не хочется покончить с собой; если вы знаете, что на станциях есть пустые лишние комнаты, куда никто не заходит; если вы знаете, наконец, что крестьяне забудут того, кто с ними поговорит, но будут толковать целый день о том, кто пройдет деревню молча.
Зная все это и многое другое, Хэмфри Пэмп умело вел друга, пока они с вывеской, сыром и ромом не вышли у черного бора на белую дорогу в той местности, где никто не стал бы их искать.
Напротив них лежало поле, а справа, в тени сосен, стоял очень ветхий домик, словно осевший под своей крышей. Рыжий ирландец лукаво улыбнулся. Он воткнул шест в землю, на пороге, и постучался в дверь.
Ее неспешно открыл старик, такой древний, что черты его лица терялись в лабиринте морщин. Он мог бы вылезти из дупла, и никто бы не удивился, если бы ему пошла вторая тысяча лет.
По-видимому, он не заметил вывески, которая стояла слева от двери. Все, что было живого в его глазах, очнулось при виде высокого человека в странной форме и при шпаге.
– Простите, – – вежливо сказал капитан, – боюсь, моя формa вас удивляет. Это ливрея лорда Айвивуда. Все его слуги так одеты. Собственно, и арендаторы, быть может, – и вы… Как видите, я при шпаге. Лорд Айвивуд требует, чтобы каждый мужчина носил шпагу. «Можем ли мы утверждать, – сказал он мне вчера, когда я чистил ему брюки, – можем ли мы утверждать, что люди – братья, если отказываем им в символе мужества? Смеем ли мы говорить о свободе, если не даем гражданину того, что всегда отличало свободного от раба? Надо ли страшиться грубых злоупотреблений, которые предвещает мой достопочтенный друг, чистящий ножи? Нет, не надо, ибо этот дар свидетельствует о том, что мы глубоко верим в вашу любовь к суровым радостям мира; и тот, кто вправе разить, умеет щадить».
Произнося всю эту ерунду и пышно помавая рукою, капитан вкатил сыр и бочонок в дом изумленного крестьянина. Хэмфри Пэмп угрюмо и послушно вошел вслед зa ним, неся под мышкой ружье.
– Лорд Айвивуд, – сказал Дэлрой, ставя бочонок с ромом на сосновый стол, – хочет выпить с вами вина. Или, говоря точнее, рома. Не повторяйте, друг мой, сказок о том, что лорд Айвивуд противник крепких напитков. Мы на кухне называем его «трехбутыльный Айвивуд». Он пьет только ром. Ром или ничего. «Вино может предать вас, – сказал он на днях (я запомнил эти слова, особенно удачные даже для его милости, и перестал чистить лестницу, на верху которой он стоял, дабы записать их), – вино может предать вас, виски – уподобить зверю, но нигде на священных страницах не найдем мы осуждения сладчайшему напитку, который так дорог морякам. Ни пророк, ни священник не нарушил молчания, и в Библии нигде не сказано о роме». Потом он объяснил мне, – продолжал Дэлрой, указывая знаком, чтобы Пэмп откупорил бочку, – что ром не принесет вреда молодым, неопытным людям, если они заедают его сыром, особенно же – тем сыром, который я принес с собой. Забыл, как он называется.
– Чеддар, – мрачно сказал Пэмп.
– Но заметьте! – продолжал капитан, приходя в бешенство и грозя старику огромным пальцем. – Заметьте, сыр надо есть без хлеба. Страшные беды, нанесенные сыром в этом графстве некогда счастливым очагам, проистекают из неосторожного, безумного обычая есть хлеб. От меня, друг мой, вы хлеба не получите. Лорд Айвивуд приказал изъять упоминание об этом вредном продукте из молитвы Господней[17]. Выпьем.
Он уже налил рому в два толстых стакана и разбитую чашку, которые по его знаку вынул старик, и теперь торжественно выпил за его здоровье.
– Большое спасибо, сэр, – сказал старик, впервые пустив в дело свой надтреснутый голос. Потом выпил; и старое его лицо просияло, как старый фонарь, в котором зажгли свечку.
– А! – сказал он. – У меня сын моряк.
– Желаю ему счастливого плаванья, – сказал капитан. – Сейчас я спою вам песню о самом первом моряке, который (как тонко заметил лорд Айвивуд) жил в те времена, когда не было рома.
Он сел на деревянный стул и заорал, стуча по столу деревянной чашкой:
У Ноя было много кур, и страусов, и скота, Яичница в большой бадье заваривалась густа. И суп он ел – слоновый суп, и рыбу ел – кита, Но был в ковчеге погребок, не кладовой чета, И садясь за стол со своей женой, старый Ной повторял одно: «Пускай где угодно течет вода, не попала бы только в вино». Низринулись хляби с небесных круч, завесив небосвод, Они смывали звезды прочь, как пену мыльных вод, Все семь небес свергались, рыча, заливая геенне рот, А Ной говорил, прищурив глаз: «Как будто дождь идет. Водой затоплен Маттерхорн[18], ушел на самое дно, Но пускай где угодно течет вода, не попала бы только в вино». Только Ной грешил, грешили и мы, все пили и там, и тут. И грозный трезвенник пришел, карая грешный люд. Вина не достать ни там, где едят, ни там, где песни поют, Испытанье водою судил земле вторично Божий суд. Епископ воду льет в стакан, безбожник с ним заодно, Но пускай где угодно течет вода, не попала бы только в вино[*].– Любимая песня лорда Айвивуда, – сказал Дэлрой и выпил. – Теперь вы спойте нам.
К удивлению обоих любителей юмора старик действительно запел скрипучим голосом:
Король наш в Лондоне живет, Он мясо ест и пиво пьет, И Бонапарта разобьет Поутру, на Рождество. Наш старый лорд поехал в порт И взял с собой…Должно быть, быстроте повествования пойдет на пользу то, что любимую песню старика, насчитывавшую сорок куплетов, прервало странное происшествие. Дверь отворилась, и несмелый человек в плисовых штанах, постояв минутку молча, сказал без предисловий и объяснений:
– Четыре пива.
– Простите? – переспросил учтивый капитан.
– Четыре пива, – с достоинством повторил пришедший. Тут взор его упал на Хэмфри, и он нашел в своем словаре еще несколько слов:
– Здравствуйте, мистер Пэмп. Не знал, что «Старый корабль» переехал.
Пэмп, слегка улыбнувшись, показал на старика.
– Теперь им владеет мистер Марн, мистер Гоул, – сказал он, соблюдая строгие правила деревенского этикета. – Но у него есть только ром.
– Не беда, – сказал немногословный мистер Гоул и положил несколько монет перед удивленным Марном. Когда он выпил и, вытерев рот рукой, собрался было уйти, дверь снова отворилась, впустив ясный солнечный свет и человека в красном шарфе.
– Здравствуйте, мистер Марн. Здравствуйте, мистер Пэмп. Здравствуйте, мистер Гоул, – сказал человек в шарфе.
– Здравствуйте, мистер Кут, – поочередно ответили все трое.
– Хотите рому? – приветливо спросил Хэмфри Пэмп. – У мистера Марна сейчас ничего другого нет.
Мистер Кут тоже выпил рому и тоже положил денег перед несколько отрешенным, но почтенным крестьянином. Мистер Кут объяснил, что времена пошли дурные, но если видишь вывеску, все в порядке, так сказал даже юрист в Грэнтон Эббот. Потом появился, всем на радость, шумный и простоватый лудильщик, который щедро угостил присутствующих и сообщил, что за дверью стоят его осел и тележка. Начался длинный, увлекательный и не совсем понятный разговор о тележке и осле, в котором были высказаны самые разные взгляды на их достоинства; и Дэлрой постепенно понял, что лудильщик хочет продать их.
Внезапно ему пришла мысль, очень подходящая к романтической безвыходности его нелепого состояния, и он выбежал за дверь посмотреть на осла и тележку. Через минуту он вернулся, спросил у лудильщика цену и тут же предложил другую, о которой тот и не мечтал. Однако это сочли безумием, приличествующим джентльмену. Лудильщик выпил еще, чтобы закрепить сделку, после чего, извинившись, Дэлрой закрыл бочонок, взял сыр и пошел укладывать их в тележку. Сверкающую горку серебра и меди он оставил под серебряной бородой старого Марна.
Тем, кто знает тонкую, часто бессловесную дружественность английских бедняков, не стоит говорить, что все вышли на порог и смотрели, как он грузит в повозку вещи и как запрягает осла, – все, кроме хозяина, который сидел за столом, словно зачарованный видом денег. Пока они стояли, они увидели на белой жаркой дороге, на склоне холма, человека, который не обрадовал их даже в виде черной точки. Это был мистер Булроз, управляющий имениями лорда Айвивуда.
Мистер Булроз, коротенький и квадратный, с большой кубической головой, тяжелым лягушачьим лицом и подозрительным взглядом, носил цилиндр и грубый, деловой костюм. Приятным он не был. Управляющий большим имением редко бывает приятен. Лорд бывает; даже у Айвивуда было ледяное великодушие, побуждавшее многих искать беседы с ним самим. Но мистер Булроз отличался низостью. Всякий деятельный тиран должен быть низким.
Он не знал, почему так много народу у покосившегося домика, но сразу понял, что тут что-то неладно. Домик он хотел отобрать давно и, конечно, отнюдь не собирался за него платить. Он надеялся, что старик умрет, но мог в любую минуту выгнать его, ибо тот навряд ли уплатил бы арендную плату. Она была невысока, но огромна для человека, который ничего не может ни заработать, ни занять. Вот к чему приводит на деле наша рыцарская, аристократическая система землевладения.
– Прощайте, друзья, – говорил гигант в причудливой военной форме. – Все дороги ведут в ром, как сказал лорд Айвивуд на Церковном конгрессе, и я, надеюсь, скоро вернусь, чтобы открыть здесь первоклассный отель. Проспекты вы получите незамедлительно.
Одутловатое лягушачье лицо мистера Булроза от удивления стало еще безобразней, глаза уподобились глазам улитки. Наглое упоминание о лорде Айвивуде вызвало бы гневный окрик, если бы его не затмило невообразимое известие об отеле. Оно тоже вызвало бы вспышку, если бы все на свете не затмил вид прочной деревянной вывески, торчащей перед жалким домиком Марна.
– Теперь он у меня в руках, – пробормотал мистер Булроз. – Заплатить он не может, и я его выгоню.
Он быстро пошел к дверям как раз в ту минуту, когда Дэлрой приблизился к голове осла, чтобы вести его под уздцы.
– Ну, милейший, – заорал Булроз, входя в комнату, – на сей раз ты попался! Лорд Айвивуд и так слишком долго тебя терпит, но теперь конец. После такой наглости, да еще при том как относится к этому его милость… Нет уж, хватит. – Он замолчал на мгновение и ухмыльнулся. – Плати все до фартинга или убирайся. Сколько можно с таким возиться?
Старик невольно пододвинул к нему кучку денег. Мистер Булроз упал на стул прямо в цилиндре и стал неистово их пересчитывать. Он пересчитал их раз; он пересчитал их два; он пересчитал их три раза. Потом уставился на них еще удивленней, чем хозяин.
– Где ты взял эти деньги? – спросил он сердитым басом. – Ты украл их?
– Не так я проворен, чтобы красть, – насмешливо ответил старик.
Булроз взглянул сначала на него, потом на деньги; и вспомнил, что Айвивуд холодный, но справедливый судья.
– Ну, все равно! – закричал он в ярости. – У нас достаточно причин, чтобы тебя выселить. Ты понимаешь, что нарушил закон, поставив эту вывеску, а?
Арендатор молчал.
– А? – повторил управляющий.
– Э, – отвечал арендатор.
– Есть там вывеска или нет? – орал Булроз, стуча кулаком по столу.
Арендатор долго смотрел на него с терпением и достоинством, потом сказал:
– Может есть, а может – нету.
– Я тебе покажу «может»! – закричал Булроз, вскакивая со стула, от чего цилиндр покосился. – Что вы все, ослепли спьяну? Я видел вывеску собственными глазами. Идем, и скажи, если смеешь, что ее нет!
– Э… – в сомнении сказал мистер Мари. Он заковылял за управляющим, который с деловитым бешенством распахнул дверь и выскочил на порог. Там он стоял долго; и молчал. В глубинах окаменевшей глины, наполнявшей его здравую голову, зашевелились два старых врага – сказка, где можно поверить во что угодно, и современный скепсис, не дозволяющий верить ничему, даже собственным глазам. Ни вывески, ни следа вывески нигде не было.
На морщинистом лице старого Марна слабо забрезжил смех, не просыпавшийся со средних веков.
Глава 6 ДЫРА В НЕБЕСАХ
Нежный рубиновый отблеск, один из редчайших, но и тончайших эффектов заката, согрел небеса, землю и море, словно весь мир омыли вином, и окрасил багрянцем большую рыжую голову Патрика Дэлроя, стоявшего вместе с друзьями в зарослях папоротника. Один из его друзей проверял короткое ружье, похожее на двуствольный карабин, другой жевал чертополох.
Сам Дэлрой не делал ничего и, засунув руки в карманы, оглядывал горизонт. За его спиной холмы, долины, леса купались в розовом свете; но свет этот становился пурпурным и даже грозно-лиловым над фиолетовой полоской моря. На море капитан и смотрел.
Внезапно он очнулся и протер глаза, во всяком случае – почесал рыжую бровь.
– Да мы возвращаемся в Пэбблсвик! – сказал он. – Вот эта чертова часовенка на берегу.
– Конечно, – отвечал его друг и проводник. – Мы проделали заячью хитрость, вернулись на свои следы. Девять раз из десяти это лучше всего. Пастор Уайтледи делал это, когда его ловили за кражу собак. Я шел его путем; полезно следовать хорошим примерам. В Лондоне тебе скажут, что Дик Терпин уехал в Йорк. А я знаю, что это не так. Мой дедушка часто встречал его внуков, одного даже бросил на Рождество в реку, и к догадался, как все было. Умный человек помчится по Северной дороге, крича направо и налево: «В Йорк! В Йорк!», и если действовать умеючи, он может через полчаса разгуливать с трубочкой по Стрэнду[19]. Бонапарт говорит: «Иди туда, где тебя не ждут». Вероятно, как воин он был прав. Но тот, кто удирает от полиции, должен делать не так. Я бы сказал ему: «Иди туда, где тебя ждут», – и он обнаружил бы, что его собратья, в числе прочего, не умеют правильно ждать.
– Как знакомы мне эти места… – печально сказал капитан. – Так знакомы, так хорошо знакомы, что лучше бы я их не видел. Знаешь ли ты, – спросил он, показывая Пэмпу на песчаную яму, белевшую в зарослях вереска неподалеку от них, – знаешь, чем прославлено в истории это место?
– Знаю, – ответил Пэмп. – Тут мамаша Груч застрелила методиста.
– Ты ошибаешься, – сказал капитан. – Такое событие недостойно воспоминаний и жалости. Нет, это место прославлено тем, что одна легкомысленная девушка потеряла здесь ленту от черной косы и кто-то помог ей найти эту ленту.
– А сам он легкомысленный? – спросил Пэмп, невесело улыбаясь.
– Нет, – ответил Дэлрой, глядя на море. – Мысли его нелегки.
Потом, снова встряхнувшись, он показал куда-то в глубь пустоши.
– А знаешь ли ты, – спросил он, – поразительную повесть о старой стене за тем холмом?
– Нет, – отвечал Пэмп. – Разве что ты говоришь о Цирке Мертвеца. Но это было так давно.
– Я говорю не о Цирке Мертвеца, – сказал капитан. – Прекрасная повесть этой стены заключается в том, что на нее упала тень, и тень эта была вожделеннее, чем самое тело всех живых существ. Именно это, – крикнул он, почти яростно обретая прежнюю удаль, – именно это, Хэмп, а не обычный, будничный случай – мертвец пошел в цирк, – с которым ты посмел это сравнить, собирается восславить лорд Айвивуд, украсив стену статуями, которые турки украли с могилы Сократа, включая колонну из чистого золота в четыреста футов с конной, точнее – ослиной статуей обездоленного ирландца.
Он закинул длинную ногу за спину ослика, словно позируя для статуи, потом снова встал прямо и снова посмотрел на пурпурную кромку моря.
– Знаешь, Хэмп, – сказал он, – нынешние люди ничего не смыслят в жизни. Они ждут от природы того, чего она не обещала, а потом разрушают то, что она дала. В безбожных часовнях Айвивуда они толкуют о совершенном мире, о высшем доверии, о вселенской радости и об единстве душ. Однако на вид они не веселее прочих, а главное – поговорив так, они разбивают тысячи добрых шуток, добрых рассказов, добрых песен и добрых дружб, закрывая «Старый корабль». – Он взглянул на шест, лежащий среди вереска, словно хотел убедиться, что его не украли. – Мне кажется, – продолжал он, – они требуют слишком много, а получают слишком мало. Я не знаю, хочет ли Бог, чтобы человек обрел на земле полное, высшее счастье. Но Бог несомненно хочет, чтобы человек повеселился; и я от этого не откажусь. Если я не утешу сердце, я его потешу. Циники, которые считают себя очень умными, говорят: «Будь хорошим, и ты будешь счастлив, но весел ты не будешь». Они и тут ошибаются. Истина – иная. Видит Бог, я не считаю себя хорошим, но даже мерзавец иногда встает против мира, как святой. Мне кажется, я боролся с миром, et militavi non sine[*] [20]– как там по-латыни «поразвлечься»? Нельзя сказать, что я умиротворен и счастлив, особенно сейчас, на этой пустоши. Я никогда не был счастлив, Хэмп, но веселым я бывал.
Снова воцарилась вечерняя тишина, только ослик хрустел чертополохом. Пэмп не откликнулся, и Дэлрой продолжал свою притчу.
– Мне кажется, теперь все время играют на наших чувствах, как это самое место играет на моих. А, черт их побери, остаток жизни можно потратить на многое другое! Не люблю, когда возятся с чувствами, только душу разбередят. В нынешнем моем состоянии я предпочитаю дела. Именно это, Хэмп, – тут голос его стал громче, как всегда, когда его внезапно охватывало чисто животное возбуждение, – именно это я выразил в «Песне против песен»[21], которую сейчас спою.
– Я не стал бы здесь петь, – сказал Хэмфри Пэмп, поднимая ружье и суя его под мышку. – На открытых местах ты кажешься слишком большим, и голос твой слишком громок. Я поведу тебя к Дыре в небесах, о которой ты так много говорил, и спрячу, как прятал от учителя. Никак не вспомню его фамилию. Он еще мог напиться только греческим вином в усадьбе Уимполов.
– Хэмп! – закричал капитан. – Я отрекаюсь от трона Итаки. Ты куда мудрее Одиссея. Сердце мое разрывали тысячи соблазнов, от самоубийства до похищения, когда я видел яму среди вереска, где мы устраивали пикники. А теперь я даже забыл, что мы называли ее Дырой в небесах. Господи, какие прекрасные слова, и то, и другое!
– Я думал, ты запомнишь их, капитан, – сказал кабатчик, – хотя бы из-за шутки младшего Мэтьюза.
– Во время одной рукопашной в Албании, – печально сказал Дэлрой, проводя рукой по лбу, – я забыл, должно быть, его шутку.
– Она была не очень удачна, – просто сказал Пэмп. – Вот его тетушка, та шутила! Однако она зашла чересчур далеко со старым Гэджоном.
С этими словами он прыгнул куда-то, словно его поглотила земля. Одна из истин, скрытых небом от лорда Айвивуда и открытых Хэмпу, гласила, что яма зачастую не видна вблизи, но видна издали. С той стороны, откуда они подошли, земля обрывалась сразу; вереск и чертополох прикрывали укромную выемку, и Пэмп исчез, словно фея.
– Так, – сказал он из-под земли, точнее, из-под растительной крыши. – Когда ты прыгнешь сюда, ты все припомнишь. Самое место спеть твою песню, капитан. Слава тебе Господи, я не забыл, как ты пел тут ирландскую песню, ты еще сочинил ее в школе! Ревел, как волы Васанские[22], про то, что дама украла сердце, а твоя матушка и учитель ничего не слышали, потому что песок заглушает звуки. Это очень полезно знать. Жаль, что юных дворян этому не учат. А теперь спой мне песню против чувств, или как там она зовется.
Дэлрой оглядывал пристанище былых пикников, такое чужое и такое знакомое. Казалось, он уже не помнил о песне и только осматривался в полузабытом доме детства. Из песчаника, под папоротником, сочился родничок, и он вспомнил, что они кипятили тут воду в котелке. Вспомнил он и споры о том, кто этот котелок опрокинул, и невыносимые муки, которыми он потом терзался в отчаянии первой любви. Когда деятельный Пэмп вылез сквозь колючую крышу, чтобы забрать их странные пожитки, Патрик вспомнил, как одна девица занозила здесь палец, и сердце его остановилось от боли и дивной музыки. Когда Пэмп вернулся, скатив ногой бочонок и сыр по песчаному краю ямы, он вспомнил с какой-то гневной радостью, что скатывался в яму сам, и это было хорошо. Тогда, прежде, ему казалось, что он катится с Маттерхорна. Теперь он заметил, что склон не так уж высок – ниже, чем двухэтажные домики у моря; и понял, что вырос, вырос телом, а душой – навряд ли.
– Дыра в небесах! – сказал он. – Какое чудесное название! Каким прекрасным поэтом я был в те дни! Дыра в небесах… Только куда она ведет, в рай или на землю?
В последних, низких лучах заката тень ослика, которого Пэмп привязал на новой полянке, покрыла еле освещенный солнцем песок. Дэлрой взглянул на эту длинную, смешную тень и рассмеялся тем резким смехом, каким он смеялся, когда закрылись двери гаремов. Обычно он был словоохотлив, но этого смеха не объяснял.
Хэмфри Пэмп снова прыгнул в песчаное гнездо и принялся открывать бочонок ему одному известным способом, говоря при этом:
– Завтра мы чего-нибудь достанем, а на сегодня у нас сыр и ром, да и вода тут есть. Ну, капитан, спой мне песню против песен.
Патрик Дэлрой выпил рому из лекарственной скляночки, которую загадочный Пэмп извлек из жилетного кармана. Лицо его зарумянилось, лоб стал алым, как волосы. Петь ему явно не хотелось.
– Не понимаю, почему это я должен петь, – сказал он. – Почему, черт побери, ты сам не споешь? А ведь правда, – заорал он, преувеличивая свою удаль, хотя и впрямь опьянел от рома, которого не пробовал несколько лет, – а ведь правда, ты же сочинял песню! Юность возвращается ко мне в этой благословенной, проклятой яме, и я вспоминаю, что ты никак не мог ее кончить. Помнишь ли ты, Хэмфри Пэмп, тот вечер, когда я спел тебе семнадцать песен собственного сочинения?
– Конечно, помню, – сдержанно отвечал англичанин.
– А помнишь ли ты, – торжественно продолжал пылкий ирландец, – чем я угрожал тебе, если ты не споешь?..
– Что ты споешь сам, – закончил непробиваемый Пэмп. – Да, помню.
И спокойно извлек из кармана (похожего, как ни прискорбно, на карман браконьера) старый, аккуратно сложенный листок бумаги.
– Я написал ее, когда ты попросил, – просто сказал он, – а петь не пробовал. Но сейчас спою, если ты споешь сперва песню против пения.
– Ладно! – закричал возбужденный капитан. – Чтобы услышать твою песню, могу и спеть. Вот тебе «Песня против песен», Хэмп.
И снова его рев огласил вечернюю тишину.
Печальная Песнь Мелисанды [*] [23] на диво скучна и тосклива, «Лесной приют Марианны»[24] веселым не назовешь; И песенка Ворона Невермор[25] звучит не слишком игриво, А в песнях Бодлера[26] – много всего, но радости в них ни на грош. Так кто же нам сложит песню? Кто сложит песню такую, Чтобы петь поутру, на скаку, на ветру, Чтоб годилась и в пир, и в поход? А вы мне поставьте кварту вина – Спою вам песню лихую О жаркой войне, о жгучем вине, Да так, что мертвец подпоет! Сердитая песнь Фраголетты – пышна, и душна, и слащава, Разбитые арфы Тары[27] нестройно взывают во тьму; Веселый Парень из Шропшира[28] – по-моему, просто отрава, А то, что поют футуристы, не выговорить никому. Так кто же нам сложит песню, Разгульным душам на радость? Чтоб знали юнцы, как певали отцы, Обхаживая матерей? А вздохи и трели о Светлой Мечте – Такая ужасная гадость, Что хочется уши зажать и бежать Хоть к дьяволу – лишь бы скорей!– Выпей еще рому, – ласково сказал ирландский офицер, – и спой наконец свою песню.
С серьезностью, неотделимой от глубокой преданности ритуалу, свойственной сельским жителям, Пэмп развернул свою бумажку. На ней было запечатлено единственное недоброе чувство, достаточно сильное, чтобы выжать песню из нескончаемой английской терпимости. Заглавие он прочитал внятно и медленно:
«Песня против бакалейщиков, сочиненная Хэмфри Пэмпом, единственным владельцем „Старого корабля“ в Пэбблсвике. Годится для голоса любого человека и любого скота. Знаменита, как тот дом, где останавливались в разное время королева Шарлотта[29] и Джонатан Уайльд[30], а шимпанзе приняли за Бонапарта. Песня эта – против бакалейщиков»:
Бог бакалейщика создал, [*] Мерзавца и проныру, Чтоб знал народ пути в обход К ближайшему трактиру, Где улыбается балык И веселится пиво, На что Господь, большой шутник, С небес глядит счастливо. А бакалейщик зол, как черт, Он мать зовет «мамашей», И жучит мать, и мучит мать, И кормит постной кашей, И, потирая ручки, ждет, Что на такой диете Исход летальный перебьет Любое долголетье. Его опора и семья – Юнцы на побегушках, И трижды в год он выдает Получку им в полушках. Кассиршу цепью приковав К собачьей будке кассы, Он научает рявкать «гав» За тухлый ломтик мяса. Трактирщик – вот пример дельца: Он горд своей настойкой И рад распить бутыль винца С приятелем за стойкой. А бакалейщик – образец, Обратный всем транжирам: Хоть будет бит – не угостит Ни выпивкой, ни сыром. Он, подметая свой лоток, Мешает пыль в товары, Продав как сахарный песок Пески самой Сахары. Он травит наш честной народ Тухлятиной вонючей, И люди мрут, а этот плут Им саван ткет паучий. Он рад бы вина все скупить И все спиртное в мире Не для того, чтоб их распить С компанией в трактире, А для того, чтобы себя Почувствовав в ударе, Затеять связь, уединясь С графиней в будуаре. Лукавый – вот его кумир С кумирней из фанеры. А покосившийся трактир – Опора твердой веры. Пускай песками всех Сахар Сотрется бакалея, А вместе с ней и дьявол-змей Исчезнет, околея.Капитан Дэлрой сильно опьянел от морского зелья, и восхищение его было не только шумным, но и бурным. Он вскочил и поднял склянку.
– Ты будешь поэтом-лауреатом[31], Хэмп! – вскричал он. – Ты прав, ты прав! Больше терпеть нельзя.
Он бешено побежал по песчаному склону и указал шестом в сторону темнеющего берега, где стояло одинокое низкое здание, крытое рифленым железом.
– Вот твой храм! – крикнул он. – Давай подожжем его.
До курорта было довольно далеко, сумерки и глыбы земли скрывали его от взора, которому открывались только низкое здание на берегу и три недостроенных кирпичных виллы.
Дэлрой глядел на эти дома с немалой и явной злобой.
– Посмотри! – сказал он. – Истинный Вавилон.
И, потрясая вывеской, как знаменем, пошел туда, изрыгая проклятия.
– Через сорок дней, – кричал он, – падет Пэбблсвик! Псы будут лизать кровь[32] Дж. Ливсона, секретаря, а единороги…
– Стой, Пат! – кричал Хэмфри. – Ты слишком много выпил.
– Львы будут выть на холмах[33]! – голосил капитан.
– Не львы, а ослы, – сказал Пэмп. – Что ж, пускай и другой осел идет.
Он отвязал ослика, навьючил и повел по дороге.
Глава 7 ОБЩЕСТВО ПРОСТЫХ ДУШ
На закате, когда небо стало и мягче, и мрачнее, а свинцовое море окрасил лиловый траур, столь подходящий для трагедии, леди Джоан Брет снова печально брела по берегу. Недавно шел дождь, сезон почти кончился, на берегу почти никого не было, но она привыкла беспокойно бродить, ибо прогулки эти, наверное, утишали неосознанный голод ее сложной души. Несмотря на тоску ее телесные чувства были всегда настороже, и она ощущала запах моря даже тогда, когда оно едва виднелось на горизонте. И теперь, сквозь шепот ветра и волн, она ощутила за собой шуршание женской юбки. Она поняла, что дама эта обычно движется медленно и важно, а сейчас спешит.
Леди Джоан обернулась, чтобы взглянуть, кто же ее догоняет, слегка подняла брови и протянула руку. Одиночество ее нарушила леди Энид Уимпол, кузина лорда Айвивуда, высокая, гибкая дама, уравновесившая свое природное изящество безрадостным и причудливым нарядом. Волосы у нее были почти бесцветные, но пышные; в красивом и строгом лице можно было усмотреть не только пренебрежительную усталость, но и тонкость, и скромность, и даже трогательность, однако бледно-голубые глаза, немного навыкате, сверкали тем холодным оживлением, которое отличает взор женщин, задающих вопросы на публичных собраниях.
Джоан Брет, как сама она писала, приходилась родственницей Айвивудам, но леди Энид была двоюродной сестрой лорда, близкой, как родная сестра. Она обитала вместе с ним, она вела дом, ибо мать его достигла неправдоподобного возраста и жила лишь потому, что общество привыкло видеть в свете это бессловесное создание. Лорд Айвивуд был не из тех, кто требует хлопот от старой дамы, выполняющей свой светский долг. Не требовала их и леди Энид, чье лицо носило отпечаток того же нечеловеческого, отрешенного здравомыслия, что и лицо ее кузена.
– Я так рада, что тебя поймала! – сказала она. – Леди Айвивуд просто мечтает, чтобы ты у нас погостила, пока Филип здесь. Он всегда восхищался твоим сонетом о Кипре и хочет поговорить об отношениях с Турцией. Конечно, он страшно занят, но я увижу его сегодня после заседания.
– Все видят его только до или после заседания, – с улыбкой сказала леди Джоан.
– Ты простая душа? – самым обычным тоном спросила леди Энид.
– Простая? – переспросила Джоан, хмуря темные брови. – Господи, конечно нет! Что ты такое говоришь?
– Они собираются сегодня в Малом Всемирном зале, и Филип у них председателем, – объяснила леди Энид. – Он очень жалеет, что ему придется уехать в парламент, но вместо него останется Ливсон. Будет выступать Мисисра Аммон.
– Миссис?.. – переспросила Джоан. – Прости, я не расслышала.
– Ты вечно шутишь, – невесело, но любезно сказала леди Энид. – О нем все говорят, и ты это прекрасно знаешь. Без него не было бы Простых душ.
– Ах, вон что!.. – сказала Джоан Брет. Потом помолчала и добавила: – А кто такие эти души? Хотела бы я на них посмотреть…
И повернула печальное лицо к печальному, лиловому морю.
– Как? – спросила Энид Уимпол. – Ты никогда их не встречала?
– Нет, – сказала Джоан, глядя на темный горизонт. – За всю мою жизнь я знала только одну простую душу.
– Ты непременно должна пойти к ним! – вскричала леди Энид в сверкающе-холодном восторге. – Идем сейчас же! Филип скажет дивную речь, а Мисисра Аммон всегда поразителен.
Не понимая толком, куда и зачем она идет, Джоан послушно побрела в низкое, крытое железом здание, откуда гулко раздавался знакомый ей голос. Когда она вошла, лорд Айвивуд стоял; на нем был безукоризненный фрак, но сзади, на спинке стула, висело легкое пальто. А рядом, не в таком изящном, но очень нарядном костюме, сидел старичок, которого она слышала на берегу.
Больше на трибуне никого не было; но под нею, к своему удивлению, Джоан увидела мисс Браунинг все в том же черном платье. Она прилежно стенографировала речь лорда Айвивуда. Еще удивительнее было то, что неподалеку сидела миссис Макинтош и стенографировала эту же самую речь.
– Вот Мисисра Аммон, – серьезно прошептала леди Энид, указывая тонким пальчиком на маленького старичка, сидевшего рядом с председателем.
– А где его зонтик? – спросила Джоан. – Без зонтика он никуда не годится.
– …мы видим наконец, – говорил лорд Айвивуд, – что невозможное стало возможным. Восток и Запад едины. Восток уже не Восток, и Запад – не Запад; перешеек прорван; Атлантический и Тихий океан слились воедино. Несомненно, никто не способствовал этому больше, чем блистательный и могучий мыслитель, которого вы будете слушать; и я глубоко сожалею, что более практические, но никак не более важные дела мешают мне насладиться его красноречием. Мистер Ливсон любезно согласился занять мое место; и я могу лишь выразить глубокое сочувствие целям и идеалам, о которых вы сегодня услышите. Я издавна все больше убеждался в том, что под личиной некоторой суровости, которую мусульмане носили много столетий, как носили когда-то иудеи, ислам по сути своей прогрессивней всех религий; и через век-другой может оказаться, что мир, науку и социальные реформы поддерживает именно он. Неслучайно символ его – полумесяц, способный увеличиваться. В то время как другие религии избрали себе эмблемой вещи более или менее неизменные, для этой великой веры,исполненной надежды, само несовершенство – предмет гордости. И люди бесстрашно пойдут по новым, дивным путям за изогнутою полосою, вечно обещающей полную луну.
Лорд Айвивуд очень спешил; но когда грянули аплодисменты, он опустился в кресло. Он всегда так делал. Когда тебе аплодируют, надо сидеть спокойно и скромно. Однако едва затих последний хлопок, он легко вскочил на ноги, перекинув через руку легкое пальто, попрощался с лектором, поклонился аудитории и быстро выскользнул из залы. Мистер Ливсон, смуглый молодой человек в постоянно спадающих двойных очках, довольно робко вышел вперед, занял председательское место и кратко представил известного турецкого мистика, Мисисру Аммона, часто называемого Пророком Луны.
Леди Джоан заметила, что в хорошем обществе пророк стал говорить лучше, хотя, произнося «у», все так же блеял, а замечания его отличались таким же диким простодушием, как проповедь об английских кабаках. По-видимому, темой его была высшая полигамия; но начал он с защиты мусульманской цивилизации, опровергая обвинения в том, что она ничего не дает обычной жизни.
– Именно ту-у-ут, – говорил он, – да, именно ту-у-ут наши обычаи много лу-у-учше ваших. Мои предки изобрели саблю и ятаган, потому что кривое оружие режет лучше прямого. Ваши предки бились прямыми мечами из романтических убеждений, что надо быть, как вы выражаетесь, прямым. Приведу вам пример попроще, из собственной жизни. Когда я впервые имел честь пойти к лорду Айвивуду, я не знал ваших церемоний, и в отеле «Кларидж», где остановился мой хозяин, меня поджидала небольшая, совсем небольшая тру-у-удность. На пороге стоял швейцар. Я присел и стал разуваться. Он спросил меня, что я делаю. И я сказал: «Дру-уг мой, я снимаю обувь».
Леди Джоан Брет тихо фыркнула, но лектор этого не заметил и продолжал с прекрасной простотой:
– Я сказал ему, что у меня на родине, выражая почтение к месту, снимают не шляпу, а башмаки. Из-за того, что я так и сделал, он решил, что Аллах поразил меня безумием. Не правда ли, смешно?
– Очень, – прошептала в платок леди Джоан, трясясь от смеха. По серьезным лицам двух-трех душ поумнее скользнула улыбка; но остальные души, совсем простые и беспомощные, с обвислыми волосами и в тускло-зеленых платьях, похожих на портьеры, сохраняли обычную сухость.
– Я объяснил ему, я долго объяснял ему, я со всем старанием объяснял, что гораздо правильней, удобней, полезней снимать башмаки, а не шляпу. «Подумайте, – сказал я, – подумайте, как много вреда приносит башмак, как мало – шляпа. Вы жалуетесь, если гость ннаследит в гостиной. Но причинит ли гостиной вред грязная шляпа? Многие мужья бьют жену башмаком. Но кто бьет жену головным убором?»
Сияя серьезностью, он оглядел слушателей, и леди Джоан онемела от сочувствия, как прежде онемела от смеха. Всем, что было здравого в ее слишком сложной душе, она ощущала истинную убежденность.
– Человек у порога не внял мне, – пылко продолжал Мисисра Аммон. – Он сказал, что, если я буду стоять с башмаками в руках, соберутся люди. Не понимаю, почему в вашей стране вы высылаете вперед отроков. Они и впрямь шумели.
Джоан Брет внезапно встала, обуреваемая интересом к душам, сидевшим за нею. Она поняла, что, если ещераз посмотрит на серьезное лицо с еврейским носом и персидской бородой, она опозорит себя или, что ничуть не лучше, при всех обидит лектора (леди Джоан принадлежала к числу милосердных аристократов). Ей казалось, что вид всех душ вместе ее успокоит. Он успокоил ее; и так сильно, что покой можно было принять за тоску. Леди Джоан опустилась на стул и овладела собой.
– Почему, – вопрошал восточный философ, – рассказываю я вам такую простую, будничную историю? Небольшая ошибка никому не повредила. В конце концов явился лорд Айвивуд. Он не пытался изложить истину слуге мистера Клариджа, хотя слуга этот стоял на пороге. Он приказал слуге поднять мой башмак, упавший на тротуар, пока я объяснял безвредность шляпы. Итак, для меня все обошлось благополучно. Так почему же я рассказывал вам об этом происшествии?
Он распростер руки, словно открыл восточный веер. Потом так внезапно хлопнул в ладоши, что Джоан подскочила и оглянулась, не входят ли пятьсот негров, несущих драгоценности. Однако то был ораторский прием.
– Потому-у-у, друзья мои, – продолжал он, и акцент его стал сильнее, – что это лучший пример того, как нелепы и неверны ваши мнения о наших бытовых обычаях, особенно же – об отношении к женщинам. Я взываю к любой даме, к любой европейской даме. Неужели башмак опасней шляпы? Башмак прыгает, башмак скачет, он бегает, он все ломает, он пачкает ковер садовой землей. А шляпа висит на вешалке. Посмотрите, как она висит, как она спокойна и добра! Почему же ей не быть спокойной и на голове?
Леди Джоан похлопала вместе с другими; и ободренный мудрец продолжал:
– Неужели вы не поверите, мои прекрасные слушательницы, что великая религия поймет вас во многом, как поняла, когда речь идет о башмаках? В чем обвиняют многоженство наши враги? В том, что оно выражает презрение к женщине. Но как это может быть, друзья мои, если женщин в мусульманском семействе гораздо больше, чем мужчин? Если в вашем парламенте на сто англичан один представитель Уэллса, вы же не скажете, что он – глава, угнетатель и султан. Если в вашем суде одиннадцать больших, толстых дам и один тщедушный мужчина, вы не скажете, что это нечестно по отношению к женщинам-присяжным. Почему же вас пугает великий эксперимент, который сам лорд Айвиву-у-уд…
Темные глаза леди Джоан глядели на морщинистое, терпеливое лицо лектора; но слов она больше не слышала. Она побледнела, насколько это позволял испанский цвет ее лица, ибо необычные чувства охватили ее душу. Но она не шевельнулась.
Дверь была открыта настежь, и в зал иногда врывались случайные звуки. По набережной, должно быть, шли два человека; один из них пел. Рабочие часто поют, возвращаясь с работы, а голос, хотя и громкий, звучал так далеко, что Джоан не слышала слов. Но она их знала. Она видела круглые, неуверенные буквы. Да, слова она знала; знала и голос.
Ношу я сердце как цветок таинственный в петлице, [*] Что в замке Патриков расцвел, в их родовой теплице; Он, словно яркий орденок, к моей груди приколот, Ему с рожденья не страшны ни засуха, ни холод; Но мигом сердца лепестки от страсти облетели У леди ветреной в руках, в канун Страстной недели.Внезапно, с острой болью вспомнила она вереск и глубокую песчаную яму, слепящую на солнце. Ни слов, ни имени; только эту яму.
У ливерпульца, у того ушло сердечко в пятки [*] Он, аки в ад, на зовы труб плетется без оглядки; Там трубы курят так, что он с куренья занеможет, Там пляшут так маховики, как он сплясать не может. А лепестки у моего мгновенно облетели У леди ветреной в руках, в канун Страстной недели. У тех, что в Белфасте живут, сердца судачить прытки, Они орало возомнят орудием для пытки, И все орут, что их луга казнили торквемады[34], Но мы ведь жжем лишь сорняки, нам ихних ведьм не надо. А лепестки у моего мгновенно облетели У леди ветреной в руках, в канун Страстной недели.Голос внезапно умолк; но последние строчки были настолько разборчивей, что певец, несомненно, подошел значительно ближе и не уходил.
Лишь после этого, как сквозь облако, леди Джоан услышала, что неукротимый мудрец заканчивает свою лекцию:
– …и если вы не препятствуете солнцу снова и снова восходить на Востоке, вы не будете возражать против великого эксперимента, снова и снова приходящего к вам. Высшее многоженство возвращается с Востока, словно солнце, и только в полуденной славе солнце стоит высоко.
Она едва заметила, что мистер Ливсон, молодой человек в двойных очках, поблагодарил лектора и предложил душам задавать вопросы. Они стали отнекиваться, выражая свою простоту и в неловкости, и в светской сдержанности, пока наконец вопрос не прозвучал. И Джоан поняла не сразу, что он не совсем обычен.
Глава 8 VOX POPULI – VOX DEI [*] [35]
– Я уверен, – сказал мистер Ливсон, секретарь, с несколько принужденной улыбкой, – что теперь, когда мы выслушали прекрасную, эпохальную речь, кто-нибудь задаст вопросы, а позже, как я надеюсь, мы откроем диспут.
Он пристально посмотрел на джентльмена, устало сидевшего в четвертом ряду, и сказал:
– Мистер Хинч?
Мистер Хинч покачал головой, пылко, хотя и с робостью, выражая удивление, и сказал:
– Я не могу! Право, я не могу!
– Мы будем очень рады, – сказал мистер Ливсон, – если вопрос задаст кто-нибудь из дам.
Наступило молчание. Все почему-то решили, что вопрос задаст большая, толстая дама (как сказал бы лектор), сидевшая с краю, во втором ряду. Но ждали они зря; к всеобщему разочарованию она застыла, как восковая фигура.
– Может быть, есть еще вопросы? – сказал мистер Ливсон, словно они уже были. Кажется, в голосе его звучало облегчение.
И тут в конце зала, посередине, что-то зашумело. Послышался ясный шепот:
– Валяй, Джордж! Ну, что ж ты, Джордж! Есть вопросы? А то как же!
Мистер Ливсон взглянул на говоривших с живостью, если не с испугом. Он только сейчас заметил, что несколько простых людей в грязной, грубой одежде вошли в открытую дверь. Это были не крестьяне, а полукрестьяне, то есть – рабочие, которые всегда бродят вокруг больших курортов. Ни один из них не мог бы зваться «мистером».
Мистер Ливсон понял положение и принял его. Он всегда подражал лорду Айвивуду и делал то, что сделал бы тот, но с робостью, отнюдь не свойственной его патрону. Одни и те же сословные чувства вынуждали его и стыдиться низкого общества, и стыдиться своего стыда. Один и тот же дух времени вынуждал его гнушаться лохмотьями и это скрывать.
– Мы будем очень рады, – нервно произнес он, – если кто-нибудь из наших новых друзей присоединится к диспуту. Конечно, мы все демократы, – прибавил он, глядя на дам и мрачно улыбаясь. – Мы верим в глас народа и тому подобное. Если наш друг в конце зала задаст свой вопрос кратко, мы не станем настаивать на том, чтобы его внесли в протокол.
Новые друзья снова принялись хрипло подбадривать Джорджа, не зря носившего имя Змиеборца[36], и он стал пробираться вперед. Сесть он не пожелал и реплики свои подавал из середины центрального прохода.
– Я хочу спросить хозяина… – начал он.
– Если вопрос касается повестки дня, – прервал его мистер Ливсон, не упустив той возможности помешать спору, ради которой и существует председатель, – обращайтесь ко мне. Если вопрос касается лекции, обращайтесь к оратору.
– Хорошо, спрошу оратора, – сказал покладистый Джордж. – Что это у вас, снаружи есть, а внутри ничего нету? (Глухой одобрительный ропот в конце зала.)
Мистер Ливсон растерялся и почуял недоброе. Но пыл Пророка Луны ждал любого случая, и смел его колебания.
– В этом су-у-уть нашей вести! – закричал он и распростер руки, дабы обнять весь мир. – Внешнее соответствует внутреннему. Именно поэтому, друзья мои, считают, что у нас нет символов. Да, мы не жалуем их, ибо хотим символа полного. Мой новый друг обойдет все мечети, восклицая: «Где статуя Аллаха?!»[37] Но может ли мой новый друг создать его истинное изображение?
Мисисра Аммон опустился в кресло, очень довольный своим ответом; но мы не станем утверждать, что новый его друг был доволен. Этот искатель истины вытер рот рукавом и начал снова:
– Вы не обижайтесь, сэр. Только по закону, если она стоит перед домом, все в порядке, да? Думал, приличное место, а это черт знает что… (хриплый смех в конце зала).
– Не извиняйтесь, мой друг, – пылко закричал мудрец. – Я вижу, вы не совсем знакомы с таким изложением мысли. Для нас закон – все! Закон – это Аллах[38]. Вну-у-утреннее единение…
– Вот я и говорю, что по закону, – настаивал Джордж, и всякий раз, когда он говорил «закон», привычные жертвы закона радостно его поддерживали. – Я сам шума не люблю. Никогда не любил. Я закон почитаю, да. (Радостный ропот.) По закону, если у вас тут вывеска, вы должны нас обслужить.
– Я не совсем понимаю! – вскричал пылкий турок. – Что я должен сделать?
– Обслужить нас! – заорал хор в конце зала. Теперь там было гораздо больше народу.
– Обслужить! – возопил Мисисра, вскакивая, словно его подкинула пружина. – Пророк сошел с небес, чтобы служить вам! Тысячу лет добро и доблесть служат вам! Из всех вер на свете мы – вера служения. Наш высший пророк – лишь служитель Бога, как и я, как и вы! Даже знак наш – луна, ибо она служит земле и не тщится стать Солнцем!
– Я уверен, – воскликнул мистер Ливсон, тактично улыбаясь, – что лектор с достаточной полнотой ответилна все вопросы. Многих дам, прибывших издалека, ждут автомобили, и, я полагаю, повестка дня…
Изысканные дамы схватили свои накидки, являя гамму чувств от удивления до ужаса. Одна леди Джоан медлила, дрожа от непонятного волнения. Бессловесный дотоле Хинч проскользнул к председателю и прошептал:
– Уведите дам. Не знаю, что будет, но что-то недоброе.
– Ну, – повторил терпеливый Джордж. – Если все по закону, что ж вы тянете?
– Леди и джентльмены, – произнес мистер Ливсон как можно приятнее. – Мы провели прекраснейший вечер…
– Еще чего! – крикнул новый, сердитый голос из угла. – Давай, гони!
– Да, вот и я скажу, – поддержал законопослушный Джордж, – давайте-ка!
– Что вам давать? – крикнул почти обезумевший Ливсон. – Чего вы хотите?
Законопослушный Джордж обернулся к тому, кто кричал из угла, и спросил:
– Чего ты хочешь, Джим?
– Виски, – отвечал тот.
Леди Энид Уимпол, задержавшаяся позже всех дам из верности Джоан, схватила ее за обе руки и громко зашептала:
– Идем, дорогая! Они бранятся дурными словами.
На мокрой кайме пляжа прилив медленно смывал следы двух колес и четырех копыт, и потому человек, Хэмфри Пэмп, шел рядом с тележкой по щиколотку в воде.
– Надеюсь, ты уже протрезвел, – довольно серьезно сказал он своему высокому спутнику, который брел и тяжело, и смиренно, причем его прямая шпага качалась у него на боку. – По чести, очень глупо ставить вывеску перед этим залом. Я редко говорю с тобой так, капитан, но навряд ли кто другой вызволил бы тебя из беды. Зачем же ты пугал бедных дам? Ты слышал, как они кричали, когда мы уходили оттуда?
– Я слышал задолго до того гораздо худшее, – ответил высокий человек, не поднимая головы. – Одна из них смеялась… Господи, неужели ты думаешь, что я не расслышал ее смеха?
Они помолчали.
– Я не хотел тебя обидеть, – сказал Хэмфри Пэмп с той несокрушимой добротой, которая была в нем особенно английской и может еще спасти Англию, – но это правда, я и сам не знал, как нам выкарабкаться. Понимаешь, ты храбрее меня, и мне пришлось бояться за нас обоих. Я бы и сейчас боялся, если бы не помнил дороги к туннелю.
– К чему? – спросил капитан, впервые поднимая рыжую голову.
– Ах, да ты и сам помнишь заброшенный туннель старого Айвивуда! – беззаботно сказал Пэмп. – Все мы искали его в детстве. А я его нашел.
– Пожалей изгнанника, – смиренно сказал Дэлрой. – Не знаю, что больнее – то, о чем помнишь, или то, о чем забываешь.
Пэмп немного помолчал, потом сказал серьезней, чем обычно:
– В Лондоне считают, что нужно ставить памятники и писать эпитафии тем, кто что-нибудь выдумал и сделал. Но если знаешь свой край на сорок миль вокруг, знаешь и то, сколько народу, и совсем неглупого, выдумали что-нибудь, а сделать не смогли. В Хилл-ин-Хагби жил доктор Бун. Он боролся против прививок оспы, которые делал доктор Коллисон. Его лечение спасло шестьдесят больных, а доктор Коллисон прикончил девяносто двух здоровых. Но доктору Буну пришлось скрыть свое изобретение, потому что у женщин, которых он лечил, вырастали усы. Был здесь и настоятель, старый Артур. Он изобрел воздушные шары задолго до всех прочих. Но тогда к этому относились с подозрением – вспоминали охоту на ведьм, как ни отговаривали их священники, – и его заставили написать, что он украл идею. Само собой понятно, не так уже хочется писать, что идея тебе явилась, когда ты пускал мыльные пузыри с деревенским дурачком, а ничего другого он сказать не мог, он был человек честный. Здесь жил Джек Арлингэм, он изобрел водолазный колокол – но это ты и сам помнишь. Так вот, с тем, кто выдумал этот туннель, с одним из безумных Айвивудов, было то же самое. На лондонских площадях, капитан, много памятников тем, кто строил железные дороги. В Вестминстерском аббатстве много имен тех, кто изобретал пароход. Бедный старый лорд изобрел и то, и другое – и его признали безумным. Он думал, что поезд может, попав в море, превратиться в судно и плыть; и вроде бы все сходилось. Но дети так стыдились его, что даже запретили упоминать. Я думаю, никто не знает, где этот туннель, кроме нас с Бэнчи Робинсоном. Минуты через две ты будешь там. Они набросали у входа камней, а вход заглушили деревьями; но я провел через туннель лошадь, чтобы спасти ее от полковника Чэпстоу, и наверное проведу осла. Честно говоря, только там я почувствую себя в безопасности после всего, что мы натворили. Нет лучшего места в мире, чтобы притаиться и начать все заново. Вот и оно. Тебе кажется, что эту скалу не обойти, но ты ошибаешься. Ты ее уже обошел.
Дэлрой с удивлением обнаружил, что он, и впрямь обойдя скалу, идет по темной дыре, а вдалеке слабо мерцает какая-то зелень. Услышав за спиной шаги и цокот копыт, он обернулся, но ничего не увидел, словно в погребе; и снова повернулся к смутному зеленому пятну. Чем дальше он шел, тем больше оно становилось и тем ярче, словно крупный изумруд, пока наконец он не увидел маленькую лужайку, окруженную тощими, но такими густыми деревьями, что было ясно: ее хотели скрыть и забыть. Свет, сочащийся сквозь них, был столь слаб и трепетен, что никто не мог бы сказать, солнце встает или луна.
– Я знаю, что вода тут есть, – сказал Пэмп. – Они не могли с ней справиться, когда шли работы, и старый Айвивуд ударил водомером инженера-гидравлика. Здесь лес, море близко, и еду мы найдем, если кончится сыр, а ослы едят все. Кстати, – прибавил он в смущении, – ты меня прости, капитан, но надо бы приберечь этот ром для особых случаев. Это лучший ром в Англии, а может – последний, если эта чепуха продлится. Спасибо, что он здесь, и мы можем выпить, когда захотим. Бочонок еще почти полон.
Дэлрой пожал ему руку и серьезно сказал:
– Ты прав, Хэмп. Ром этот нужен человечеству. Мы будем пить его только после великих побед. Сейчас я выпью в знак победы над Ливсоном и его железной скинией.
Он осушил стакан и сел на бочонок, чтобы победить искушение. Его синие бычьи глаза все пристальней вглядывались в зеленый сумрак; и он заговорил нескоро.
Наконец он сказал:
– Кажется, Хэмп, ты упомянул о каком-то друге, по имени Робинсон, который тоже тут бывал.
– Да, он знал дорогу, – сказал Пэмп, выводя ослика на лучшую часть лужайки.
– А он сюда не придет? – спросил капитан.
– Навряд ли, – отвечал Пэмп, – разве что в тюрьме зазеваются. – И он вкатил сыр под своды туннеля. Дэлрой все сидел на бочонке, подперев рукой тяжелый подбородок и глядя в таинственную чащу.
– Ты о чем-то думаешь, капитан, – сказал Хэмфри.
– Самые глубокие мысли – общие места, – сказал Дэлрой. – Вот почему я верю в демократию, не то что ты, хладнокровный английский тори. А самое общее место, гласит: суета сует и всяческая суета. Это не пессимизм, а как раз наоборот. Человек так слаб, что поневоле подумаешь – он должен быть Богом. Я размышляю об этом туннеле. Бедный старый безумец ходил по этой траве и ждал, пока его построят, и душа его пылала надеждой. Он видел, как меняется мир и по морям снуют его судна. А сейчас, – голос Дэлроя сорвался, – сейчас здесь очень тихо, и хорошо пастись ослику.
– Да, – сказал Пэмп, зная, что капитан думает об ином. И Дэлрой задумчиво продолжал:
– Я думаю и о другом, известном Айвивуде, которого тоже посещает видение. Оно величаво; в конце концов, он – умник, но храбрый человек. Он хочет построить туннель между Востоком и Западом и называет это ориентализацией Англии, а я назову разрушением христианского мира. И мне интересно, достаточно ли сильны ясный ум и смелая воля безумца, чтобы прорыть этот туннель, или у вас в Англии еще хватит жизни, чтобы он тоже зарос английским лесом и был размыт английским морем.
Снова наступила тишина, и снова ее нарушал только хруст колючек. Как заметил Дэлрой, тут было тихо.
Но не было тихо в Пэбблсвике, когда прочитали протокол, и все, кто видел вывеску, схватились с теми, кто ее не видел; а наутро дети и ученые, собиравшие ракушки, нашли среди прочего куски секретарского фрака и обломки рифленого железа.
Глава 9 БИБЛЕЙСКАЯ КРИТИКА[39] И МИСТЕР ГИББС
Пэбблсвик чрезвычайно гордился тем, что у него была собственная вечерняя газета, называемая «Пэбблсвикский мир». Величайшей гордостью ее издателя было то, что он опубликовал известие об исчезновении кабацкой вывески почти одновременно с самим исчезновением. Тех, кто рекламировал это сообщение, неплохо спасали от побоев и спереди, и сзади огромные щиты с надписью:
ПРИЗРАЧНЫЙ КАБАК
современная сказка
специальный выпуск
А газета твердо и довольно верно передала то, что случилось или привиделось изумленному Джорджу и его друзьям:
«Джордж Берн, плотник из нашего города, и Сэмюел Грайпс, ломовой извозчик, находящийся на службе у пивоваров Джей и Габбинс, вместе с другими хорошо известными здешними жителями проходили мимо недавно построенного здания, обычно называемого Малым Всемирным залом. Увидев у дверей одну из старых кабацких вывесок, столь редких в последнее время, они резонно вывели отсюда, что здесь имеют право торговать горячительными напитками, которое утеряли многие заведения округи. Однако те, кто сидел внутри, ни о чем подобном не слышали; и когда новоприбывшие (после прискорбных сцен, никому не стоивших жизни) снова вышли на берег, они увидели, что вывеска уничтожена или украдена. Все были совершенно трезвы и не имели возможности избавиться от этого состояния. Тайну расследуют».
Этот сравнительно реалистический отчет, местный и непосредственный, был в немалой мере обязан случайной честности издателя. Вообще вечерние газеты честнее утренних, потому что сотрудникам мало платят, работы у них много, а у более осторожных людей нет времени их редактировать. Когда на следующий день вышли утренние газеты, рассказ об исчезнувшей вывеске заметно преобразился. В ежедневной газете, которая была весомей и влиятельней прочих в этой части света, спорное происшествие доверили человеку, известному под странным для нежурналистского уха именем Гиббс Какбытонибыло. Прозвище это он получил из-за необычайной осторожности, вынуждавшей его вставлять множество словечек и оговорок вроде «но», «однако» или «хотя». Чем больше ему платили (издатели ценят такой стиль) и чем меньше становилось у него друзей (ибо даже самым добрым людям как-то неприятен успех, в котором нет манящего сияния славы), тем больше ценил он свои дипломатические способности, считая, что скажет именно то, что нужно. Однако и его наказала судьба: в конце концов он стал таким дипломатичным, что понять нельзя было ничего. Люди, знавшие его, охотно верили, что он скажет то, что нужно; то, что уместно; то, что спасет положение, – но никак не могли выяснить, что же он сказал. В начале он как нельзя лучше использовал один из гнуснейших приемов нынешней газетной речи – опускал все важное и существенное, словно оно подождет, и писал о самом неважном. Так, он говорил: «Что бы мы ни думали об опытах над детьми из бедных семейств, все мы согласны, что поручать их можно только хорошим врачам». В следующей, худшей фазе он стал вообще выбрасывать все мало-мальски связанное с темой и говорить о другом, повинуясь осторожным путям своих ассоциаций. Поздняя манера, как мы сказали бы о художнике, выглядела так: «Что бы мы ни думали об опытах над детьми из бедных семейств, всякий прогрессивный человек согласится с тем, что влияние Ватикана падает». Прозвище свое он получил в честь абзаца, который, по слухам, написал, когда американского президента ранил пулей, какой-то сумасшедший из Нью Орлеана: «Президент хорошо провел ночь, и состояние его улучшилось. Как бы то ни было, покушавшийся на убийство – не из немцев». Читатели смотрели на эти строки до тех пор, пока им не хотелось самим сойти с ума и в кого-нибудь выстрелить.
Гиббс Какбытонибыло был тощий, высокий человек с прямыми светлыми волосами, с виду – мягкий и смирный, а на самом деле надменный. В Кембридже он дружил с Ливсоном, и оба они гордились умеренностью своих политических взглядов. Но если тот, кто только что твердил о законе, надвинет вам шляпу на глаза и вам придется бежать, оставив в его руках фалды, а следом будут лететь неровные куски рифленого железа, вы обнаружите в своей душе не только умеренность. Гиббс уже написал передовую о пэбблсвикском происшествии, передававшую правду настолько, насколько он мог ее передать. Побуждения его были, как всегда, сложны. Он знал, что миллионер, владевший газетой, балуется спиритизмом и ему может понравиться сверхъестественная история. Он знал, что по меньшей мере два лавочника, удостоверивших инцидент, принадлежат к его партии. Он знал, что надо осторожно задеть лорда Айвивуда, ибо тот принадлежит к другой партии; что же могло быть лучше, чем поддержать хотя бы на время историю, пришедшую извне, а не выдуманную в редакции? Руководствуясь этими соображениями, Гиббс написал сравнительно связную статью, когда к нему ворвался Ливсон в лопнувшем воротничке и разбитых очках. Частный, долгий разговор несколько изменил план статьи. Конечно, заново Гиббс писать не стал – в отличие от Бога, он был не из тех, кто творит все новое. Он просто изрезал и исчиркал написанное, соорудив тем самым удивительнейшее из своих творений, которое по ею пору высоко ценят изысканные люди, собирающие образцы дурной словесности.
Начиналась статья с довольно знакомой формулы: «Каких бы взглядов, прогрессивных или консервативных, ни придерживались мы на проблему нравственности или безнравственности кабацкой вывески, все мы согласны, что инцидент, разыгравшийся в Пэбблсвике, был весьма прискорбен для многих, хотя и не для всех участников». После этих слов такт превращался в бессмыслицу. То была дивная статья. Читатель мог узнать из нее, что думает мистер Гиббс обо всем на свете, кроме предмета обсуждения. Первая часть следующей фразы ясно сообщала, что он (если бы ему удалось побывать там) никогда не принял бы деятельного участия ни в Варфоломеевской ночи[40], ни в Сентябрьских убийствах[41]. Вторая часть с не меньшей ясностью оповещала, что, поскольку события эти уже произошли и предотвратить их нет ни малейшей возможности, автор испытывает дружеские чувства к французской нации. Такие чувства, естественно, лучше и выразить по-французски, для чего пригодилось слово «Entante»[*], которому лакеи так успешно учат туристов. Первая половина следующей фразы указывала на то, что мистер Гиббс читал Мильтона, во всяком случае – строки о сынах Велиара[42]; вторая – на то, что он не разбирается в винах, особенно в хороших. Следующая фраза начиналась с упадка Римской империи, кончалась д-ром Клиффордом[43]. Потом шла неубедительная защита евгеники[44] и пылкие выпады против воинской повинности, почему-то с ней несовместимой. На этом статья кончалась; а называлась она «Беспорядки в Пэбблсвике».
Но мы понапрасну обидим мистера Гиббса, если скроем, что на его бессвязное творение откликнулось немало народу. Быть может, людей, пишущих в газету, не так уж много; но, в отличие от судей, финансистов, членов парламента или ученых, они представляют все местности, классы, возрасты, секты и стадии безумия. Небезынтересно порыться в старых кипах бумаги и почитать письма, последовавшие за упомянутой статьей.
Милая старая дама из глухой провинции предполагала, что во время собрания в Пэбблсвике потерпел крушение корабль. «Мистер Ливсон мог его не заметить и принять в сумерках за вывеску, тем более если он близорук. Мое зрение тоже портится, но я усердно читаю вашу газету». Если бы дипломатичность оставила в душе Гиббса хотя бы один живой кусочек, он рассмеялся бы, или расплакался, или напился, или ушел в монастырь. Но он измерил письмо карандашом и решил, что оно как раз уместится в колонку.
Другое письмо было от теоретика самого худшего сорта. Теоретик, создающий по каждому случаю новые теории, сравнительно безопасен. Но тот, кто начинает с ложной гипотезы и потом подгоняет под нее все, – истинная чума для человеческого разума. Письмо начиналось решительно, как выстрел: «Вопрос прекрасно освещен в Книге Исход, IV, 3 [45]. Прилагаю несколько брошюр, в которых я это доказал и на которые не посмел ответить никто из так называемых епископов и священников Свободной Церкви. Связь между шестом и змеей ясно указана Писанием, но неизвестна почему-то блудницам от религии. Моисей свидетельствует о том, что жезл (иначе – шест) превратился в змею. Все мы знаем, что человек в сильном опьянении часто видит змей; и потому эти несчастные люди могли видеть шест». Письмо занимало девять мелко исписанных страниц, и на сей раз мы поймем мистера Гиббса, который счел его длинноватым.
Писал и ученый, предположивший, что инцидент связан с акустикой зала. Лично он никогда не доверял рифленому железу. (Редактор выбрал наименее вразумительные места и отправил в типографию.)
Писал и шутник, считавший, что здесь ничего удивительного нет. Он сам нередко видел вывеску, входя в кабак, и не видел ее, выходя. Это письмо (единственное, где были хотя бы следы словесности) мистер Гиббс сурово выбросил в корзину.
Затем шло послание образованного человека, осведомлявшегося, читал ли кто-нибудь рассказ Уэллса об искривлении пространства[46]. По-видимому, ему казалось, что этого не читал никто, кроме него и, быть может, Уэллса. Рассказ говорит нам, что ноги наши иногда находятся в одном месте, взор – в другом. Автор письма высоко оценивал эту гипотезу, но Гиббс оценил ее низко.
Писал, конечно, и человек, считавший все заговором иностранцев. Поскольку обрушивался он на грубость итальянских мороженщиков, письму не хватило основательности.
Наконец, в дело вмешались люди, которые надеются решить то, чего не понимают, что-нибудь запретив. Мы все их знаем. Если парикмахер перережет горло клиенту, потому что невеста танцевала с другим или пошла на ослиные гонки, многие восстанут против замешанных в дело институций. Надо было, скажут они, запретить парикмахеров, или бритье, или девиц, или танцы, или ослов. Но я боюсь, что ослов не запретят никогда.
В дискуссии их участвовало немало. Некоторыевыступили против демократии, ибо Джордж – плотник; некоторые – против иммиграции, ибо Мисисра – турок; некоторые считали, что женщин нельзя пускать на лекции; некоторые требовали запретить развлечения; некоторые прямо нападали на празднества. Пытались запретить и берег, и море. Каждый полагал, что, если убрать твердой рукой камни, или водоросли, или кабинки, или плохую погоду, ничего бы не случилось. Слабое место у них было одно: они толком не знали, что же случилось. Простить их можно. Этого не знал никто, и не знает по сей день, иначе нам не пришлось бы писать нашу повесть. Цель у нас одна – поведать миру чистую, скучную истину.
Осторожная хитрость, единственное явное свойство мистера Гиббса, одержала победу, ибо все еженедельные газеты следовали ему – умнее ли, глупее, но следовали. Все понимали, что найдется какое-то несложное, скептическое объяснение, и инцидент можно будет забыть.
Проблему вывески и нравственной (или безнравственной) часовни, крытой рифленым железом, обсуждали во всех серьезных, особенно – религиозных еженедельниках, хотя низкая церковь уделяла больше внимания вывеске, высокая – часовне. Все соглашались в том, что сочетание их странно, скорее всего – немыслимо. Верили в него одни лишь спириты, но объясне ниям их не хватало той ощутимой весомости, которая удовлетворила бы Джорджа.
Лишь через некоторое время философские круги завершили спор. Сделал это профессор Уидж в своей прославленной «Истории толкования т.н. чудесного улова», которая произвела столь сильное воздействие на умы, когда отрывки из нее появились в ученом журнале. Всякий помнит основную мысль профессора Уиджа, требующего, чтобы библейская критика применила к чудесам на Тивериадском озере тот же метод, который доктор Бэнк применил к чуду в Кане Галилейской[47]. «Такие авторитеты, как Пинк и Тошер, – говорит профессор, – убедительно доказали, что т. н. превращение воды в вино совершенно несовместимо с психологией распорядителя пира, вообще – с иудейско-арамейским мышлением тех времен, не говоря уже о том, что оно ни в малой мере не вяжется с образом данного учителя этики. Доктор Хашер считает весь эпизод позднейшей интерполяцией, тогда как другие авторитеты – такие, как Миннс – предполагают, что в воду подлили безалкогольный напиток. Совершенно ясно, что, применив этот принцип к т. н. чудесному улову[48], мы должны предположить вместе с Джилпом, что в озеро были выпущены искусственные рыбы (см. преп. И. Уайз, «Христианское вегетарианство как мировая религия»), или, вместе с доктором Хашером, назвать эпизод интерполяцией.
Самые смелые специалисты, в том числе – профессор Поук, считают, что сцену эту следует сопоставить с фразой «Я сделаю вас ловцами человеков». Фраза несомненно иносказательна, ибо даже в явных интерполяциях нет указаний на то, чтобы в сетях апостолов оказывались люди.
Быть может, несколько дерзко, даже грубо прибавлять что-либо к суждению таких авторитетов, но я боюсь, что сама ученость почтенного профессора (чью девяносто седьмую годовщину с такой пышностью отпраздновали недавно в Чикаго) скрывает от него, как именно происходят подобные ошибки. Попрошу разрешения поведать о недавнем происшествии, известном мне (не из личного опыта, конечно, но из внимательного исследования сообщений) и представляющем забавный пример того, как искаженный текст порождает легенду.
Случилось это в Пэбблсвике, на юге Англии. Местность долго терзали религиозные распри. Великий исповедник веры, Мисисра Аммон, читал там лекции многочисленным слушателям. Лекции его нередко прерывали представители различных сект и атеистических организаций. Нетрудно предположить, что в такой атмосфере кто-то вспомнил о знамении Ионы-пророка[49].
Ученый, подобный доктору Поуку, с трудом поверит в тот очевидный факт, что темные и простые жители этой местности спутали «знамение» со «знаменем», которое и принялись искать. В их взбудораженном воображении пророк Иона связан с кораблем; тем самым они искали знамя с изображением корабля и пали жертвой массовой галлюцинации. Инцидент этот как нельзя лучше подтверждает предположение Хашера».
Лорд Айвивуд похвалил в печати профессора Уиджа за то, что тот избавляет страну от бремени суеверий. И все же первый толчок, пробудивший умы, дал бедный мистер Гиббс.
Глава 10 ПОВАДКИ КВУДЛА
По бесчисленным садам, террасам, беседкам и конюшням Айвивуда бродил пес, которого звали Квудл. Лорд Айвивуд не называл его Квудлом. Лорд Айвивуд не мог бы выговорить такого имени. Лорд Айвивуд не интересовался собаками. Конечно, он интересовался защитой собак, а еще больше интересовался собственным достоинством. Он никогда бы не допустил, чтобы в его доме дурно обращались с собакой, более того – с крысой, более того – с человеком. Но с Квудлом не обращались дурно, с ним просто не общались, и Квудлу это не нравилось, ибо собаки ценят дружбу больше, чем доброту.
Наверное, лорд Айвивуд продал бы его; но посоветовался с экспертами (он всегда советовался с ними, когда чего-нибудь не понимал, а иногда – и когда понимал) и пришел к выводу, что с точки зрения науки пес этот ценности не представляет, так как не отличается чистотой породы. Квудл был бультерьером, но бульдожье начало взяло в нем верх, что понизило его стоимость и усилило хватку. Кроме того Айвивуд смутно понял, что Квудл мог бы стать сторожевой собакой, если бы не имел склонности преследовать дичь, как пойнтер, а уж совсем постыдна его способность находить добычу в воде. Однако, по всей вероятности, лорд Айвивуд что-то спутал, ибо думал во время беседы о Черном камне[50], которому поклоняются в Мекке, или о чем-нибудь подобном. Жертва столь странного сочетания достоинств лежала тем временем на солнышке, не являя ни одной из упомянутых черт, кроме незаурядного уродства.
Но леди Джоан Брет любила собак. Вся суть ее и немалая часть беды сводилась к тому, что естественное осталось в ней живым под слоем искусственного. Она ощущала издалека запах боярышника или моря, как чует собака запах обеда. Подобно многим аристократам, она могла принести цинизм к пригородам преисподней; она была такой же неверующей, как лорд Айвивуд, если не больше. При желании она умела выказать холодность и надменность, а великий светский дар усталости был у нее развит сильнее, чем у него. Но несмотря на всю сложность и гордость она отличалась от своего родственника, ибо ее простые чувства были живы, у него – мертвы. Для нее солнечный восход был еще восходом солнца, а не лампой, которую включил вышколенный лакей. Для нее весна была временем года, а не частью светского сезона. Для нее петухи и куры были естественным придатком дома, а не птицами индийского происхождения (как доказал ей по энциклопедии лорд Айвивуд), ввезенными в Европу Александром Македонским. И собака была для нее собакой, а не одним из высших животных или одним из низших животных, или существом, наделенным священной тайной жизни, которому, однако, можно надеть намордник, более того – над которым можно проводить опыты. Она знала, что о собаке заботятся, как заботился о своих псах Абдул Хамид[51], чью жизнь описывал лорд Айвивуд для серии «Прогрессивные правители». Квудл не вызывал в ней умиления, она не стремилась его приручить. Но, проходя мимо, она погладила его против шерсти и назвала каким-то прозвищем, которое немедленно забыла.
Слуга, приводивший в порядок газон, поднял голову – он никогда не видел, чтобы Квудл так себя вел. Пес вскочил, встряхнулся и побежал перед дамой, ведя ее к железной лестнице, по которой она еще не поднималась. Наверное, именно тогда она обратила на него внимание, и он позабавил ее, как позабавил поначалу торжественный турецкий пророк. Замысловатый гибрид сохранил бульдожьи ноги, и ей показалось, что сзади он похож на чванливого майора, направляющегося в клуб.
Поднявшись за собакой по железной лестнице, она попала в анфиладу длинных комнат. Она знала, что крыло дома заброшено и даже заперто, так как напоминает Айвивудам о безумном предке, чей образ не способствует политической карьере. Сейчас ей показалось, что комнаты обновляют. В одной из них стояло ведро с известкой, в другой была стремянка, в третьей – карниз, в четвертой – гардины. Они одиноко висели в обшитой панелями зале, но поражали пышностью; по оранжево-золотому полю извивались пунцовые линии, наводившие на мысли о змеях, хотя у них не было ни глаз, ни рта.
В следующей комнате этой бесконечной анфилады на голом полу стояла оттоманка, зеленая с серебром.Леди Джоан села на нее от усталости и из озорства, ибо ей припомнился рассказ, который она считала одним из самых смешных в мире: некая дама, лишь отчасти посвященная в тайны теософии, сиживала на такой тахте и лишь потом узнала, что это – махатма, распростертый в молитвенном экстазе. Она не надеялась, что сядет на махатму, но самая мысль рассмешила ее, очень уж глупо выглядел бы тогда лорд Айвивуд. Нравится он ей или нет, она не знала, но знала твердо, что было бы приятно поставить его в дурацкое положение. Как только она опустилась на оттоманку, пес, семенивший за нею, уселся на ее подол.
Через минуту-другую она встала (встал и пес) и пошла дальше по длинной анфиладе комнат, в которых люди, подобные Филипу Айвивуду, забывают, что они – только люди. Чем дальше она шла, тем наряднее все становилось; очевидно, крыло это начали украшать с другого конца. Теперь она видела, что анфиладу завершают комнаты, похожие на дно калейдоскопа, или на гнездо жар-птицы, или на застывший фейерверк. Из этого горнила красок к ней шел Айвивуд, черный фрак и бледное лицо особенно четко выделялись на таком фоне. Губы его шевелились, он говорил сам с собой, как многие ораторы. Ее он, кажется, не видел. Она же едва сдержала полуосознанный, бессмысленный крик: «Он слепой!»
В следующий миг он приветствовал ее с учтивым удивлением и светской простотой, приличествующей случаю; и Джоан поняла, почему он показался ей менее зрячим и более бледным, чем обычно. Он нес на пальце, как предки его носили соколов на руке, очень яркую птичку, живостью своей подчеркивавшую его отрешенную неподвижность. Джоан подумала, что не видывала существа с такой прелестной и гордой головкой. Дерзкий взгляд и задорный хохолок словно вызывали на бой пятьдесят петухов. И Джоан не удивилась, что рядом с этим созданием сероватые волосы Филипа и холодное его лицо напоминали о трупе.
– Вы ни за что не угадаете, кто это, – сказал Айвивуд самым сердечным из доступных ему тонов. – Вы слышали о нем сотни раз, но не знали, каков он. Это бюль-бюль.
– Да что вы! – воскликнула Джоан. – Мне всегда казалось, что бюль-бюль вроде соловья.
– Вон что… – сказал Айвивуд. – Но это настоящий бюль-бюль, восточный, Rusnonotus Haemorrhus, a вы имели в виду Dahlias’а Golzii.
– Наверное, – отвечала Джоан, едва заметно улыбнувшись. – Прямо наваждение… Все думала и думала про Далиаса Голсуорси[52]. – Строгость его лица пристыдила ее, и она сказала, погладив птичку пальцем: – Какая славная!
Четвероногому по имени Квудл это не понравилось. Как большинство собак, Квудл любил, чтобы люди молчали, и милостиво терпел их разговор друг с другом. Но мимолетное внимание к существу, ничуть не похожему на бультерьера, оскорбило его лучшие, рыцарские чувства. Он глухо зарычал. Живое сердце подсказало Джоан нагнуться и погладить его. Чтобы отвлечь внимание от Rusnonotus’а, она принялась восхищаться последней комнатой анфилады (они дошли до конца), выложенной цветными и белыми плитками в восточном вкусе. Дальше, чуть выше, располагалась круглая комнатка внутри башенки, из которой были видны окрестности. Джоан, знавшая дом с детства, сразу увидела, что это – новшество. Слева, в углу последней комнаты, зияла черная дыра, напоминавшая ей о чем-то позабытом.
– Я помню, – сказала она, отвосхищавшись, – что отсюда вела лестница в огород или к старой часовне.
Айвивуд серьезно кивнул.
– Да, – отвечал он. – Лестница эта вела к развалинам старинной часовни. Дело в том, что она вела в места, о которых я не хотел бы вспоминать. Скандал с туннелем вызвал в графстве дурные пересуды. Наверное, ваша матушка вам рассказывала. Хотя там только кусок сада и полоса земли, до моря, я приказал огородить это место, и оно заросло. Анфиладу я кончаю здесь по другой причине. Идите посмотрите.
Он повел ее в башенку, и Джоан, жаждавшая прекрасного, замерла от восторга. Пять легких азиатских окон глядели на бронзу, медь и пурпур осенних парков, на павлиньи перья моря. Она не видела ни дома, ни человека, и ей казалось, что это – не издавна знакомый берег, а новый, невиданный пейзаж.
– Вы пишете сонеты? – спросил Айвивуд с непривычным для него интересом. – Что приходит вам на память, когда вы смотрите в эти окна?
– Я знаю, о чем вы говорите, – сказала Джоан, помолчав. – «Прекрасны грозные моря…»
– Да, – сказал он. – Именно это я чувствовал. «… в краю волшебном фей!»[53]
Они помолчали снова, а пес обнюхал круглую башенку.
– Вот чего я хочу, – сказал Айвивуд тихо и взволнованно. – Здесь край дома, край света. Не ощущаете ли вы, что это – самая суть восточного искусства? Такие цвета – как облака на рассвете, как острова блаженных. Знаете, – и он еще понизил голос, – тут я затерян и одинок, словно восточный путник, которого ищут люди. Когда я вижу, как лимонная эмаль переходит в белую, я чувствую, что я – за тысячи миль от этих мест.
– Вы правы, – сказала Джоан, с удивлением глядя на него. – И я это почувствовала.
– Это искусство, – продолжал он, как во сне, – на крыльях зари уносит нас в открытое море. Говорят, в нем нет живых существ, но мы читаем его знаки, словно иероглифы восхода и заката, украшающие край Господних одежд.
– Я никогда не слышала, чтобы вы так говорили, – сказала дама и снова погладила ярко-лиловые крылышки восточной птицы.
Этого Квудл не вынес. Ему не нравились ни башенка, ни восточное искусство; но, увидев, что Джоан гладит соперника, он побежал в большие комнаты, заметил дыру, которую скоро должны были заделать плитками, выскочил на старую темную лестницу и поскакал по ступенькам.
Лорд Айвивуд учтиво пересадил птичку на палец леди Джоан, подошел к открытому окну и посмотрел вниз.
– Взгляните, – сказал он. – Не выражает ли все это то, что чувствуем мы оба? Не сказочный ли это дом, повисший на краю света?
И он показал на карниз, где висела пустая клетка, красиво сплетенная из меди и другого оранжевого металла.
– Это лучше всего! – воскликнула леди Джоан. – Как будто ты в «Тысяче и одной ночи». Тут башня огромных джиннов, высокая, до луны, и заколдованный принц в золотой клетке, которая висит на звезде.
Что-то произошло в ее туманном, но чутком подсознании, словно вдруг похолодало или оборвалась далекая музыка.
– А где собака? – спросила она.
Айвивуд обратил к ней тусклые серые глаза.
– Разве здесь была собака? – спросил он.
– Да, – сказала леди Джоан Брет и отдала ему птичку, которую он осторожно посадил в клетку.
* * *
Пес, о котором она спросила, сбежал вниз по винтовой лестнице и увидел дневной свет в незнакомой части сада, где он не бывал никогда и никто давно не бывал. Все здесь заросло, а единственный след человека – руины готической часовни – оплели паучьи сети и облепили грибы. Многие из этих грибов лишь прибавляли бесцветности бурыми и тускло-бронзовыми тонами, но некоторые, особенно со стороны моря, были оранжевыми и пурпурными, как комнаты лорда Айвивуда. Человек, наделенный воображением, разглядел бы аллегорию в том, что искалеченные архангелы и святые кормят таких наглых и нестойких паразитов, как эти грибы, окрашенные кровью и золотом. Но Квудл не питал склонности к аллегориям; он просто бежал трусцой в самую глубь серо-зеленых английских джунглей и ворчал, продираясь сквозь чертополох, как житель большого города, проталкивающийся сквозь толпу, но неуклонно шел вперед, вынюхивая землю, словно что-то его привлекало. Он и впрямь унюхал то, что привлекает собак гораздо больше, чем собаки. Преодолев последний ряд лилового чертополоха, он вышел на полукруглую лужайку, на которой росли несколько тощих деревьев, а в глубине, как задник на сцене, темнела кирпичная арка, обрамлявшая вход в туннель. Туннель этот был огорожен неровными, пестрыми досками и походил на домик из пантомимы. Перед ним стоял коренастый оборванный человек в охотничьей куртке; он держал потемневшую сковородку над маленьким пламенем, от которого пахло ромом. На сковородке и на бочонке, служившем столом, лежали серые, бурые и ярко-оранжевые грибы, украшавшие еще недавно ангелов и драконов старой часовни.
– Эй, приятель, – сказал человек в куртке, спокойно глядя на сковородку. – Пришел к нам в гости? Ну, садись. – Он быстро взглянул на собаку и вернулся к сковородке. – Если бы хвост у тебя был на два дюйма короче, ты бы стоил сотню фунтов. Ты завтракал?
Пес подбежал к нему и жадно обнюхал его потрепанные кожаные гетры. Не отрывая от стряпни ни рук, ни взгляда, человек сумел почесать коленом то самое место у пса под челюстью, где проходит некий нерв, воздействие на который (как показали ученые) подобно действию хорошей сигары. В этот самый миг из туннеля раздался великаний, даже людоедский голос:
– С кем ты разговариваешь?
Кривое оконце в картонном домике настежь распахнулось, и оттуда вылезла огромная голова с ярко-рыжими волосами, стоящими почти вертикально, и синими глазами навыкате.
– Хэмп! – закричал людоед. – Ты не внемлешь моим советам. За эту неделю я спел тебе четырнадцать с половиной песен, а ты воруешь собак. Боюсь, ты идешь по стопам этого пастора, как его…
– Нет, – спокойно сказал человек со сковородкой. – Мы вернулись на свои следы, как пастор Уайтледи, но он был слишком глуп, чтобы красть собак. Он был молод и получил религиозное воспитание. Что до меня, я слишком хорошо знаю собак, чтобы красть их.
– Как же ты добыл такую собаку? – спросил рыжий великан.
– Я разрешил ей меня украсть, – сказал его друг, двигая сковородкой. И впрямь, собака сидела у его ног так надменно, словно сторожила эти места за большие деньги с тех времен, когда тут не было туннеля.
Глава 11 ВЕГЕТАРИАНСТВО В ГОСТИНОЙ
Общество, собравшееся слушать Пророка Луны, было на этот раз гораздо более избранным, чем у сравнительно простоватых Простых душ. Однако мисс Браунинг и миссис Макинтош присутствовали как секретарши, и лорд Айвивуд задал им немало работы. Был здесь и мистер Ливсон, ибо принципал верил в его организаторские способности; был и мистер Гиббс, ибо мистер Ливсон верил в его социальные суждения, когда умудрялся их понять. Темноволосый Ливсон нервничал, белобрысый Гиббс тоже нервничал. Остальные принадлежали к кругу самого лорда или к кругу крупных дельцов, смешавшихся со знатью и здесь, и по всей Европе. Лорд Айвивуд приветствовал почти сердечно известного иностранного дипломата, который был не кем иным, как молчаливым немцем, сидевшим рядом с ним на Масличном острове. На сей раз доктор Глюк облачился не в черный костюм, а в парадную форму, при шпаге, с прусскими, австрийскими или турецкими орденами, поскольку от Айвивуда должен был ехать ко двору. Но полумесяц его красных губ, спирали черных усов и бессмысленный взгляд миндалевидных глаз изменялись не больше, чем восковое лицо в витрине парикмахерской.
Пророк тоже оделся красивее. Когда он проповедовал на песках, одежда его, кроме фески, подошла бы пристойному, но неудачливому клерку. Теперь, среди аристократов, это не годилось. Теперь он должен был стать пышным восточным цветком. И он облачился в широкие белые одежды, расшитые там и сям огненным узором, а голову обернул бледным золотисто-зеленым тюрбаном. Ему приличествовало выглядеть так, словно он пролетел над Европой на ковре-самолете или только что свалился на землю из лунного рая.
Дамы Айвивудова круга были примерно такими же, как прежде. Серьезное и робкое лицо леди Энид оттенял поразительный наряд, похожий на пышное шествие или, точнее, на похоронную процессию, запечатленную Обри Бердслеем. Леди Джоан все так же напоминала прекрасную испанку, тоскующую по своему воздушному замку. Толстую, решительную даму, которая отказалась задать вопрос на предыдущей лекции Мисисры, – известную защитницу женщин, леди Крэмп – по-прежнему переполняли замыслы против Мужчины, и она, лишившись дара речи, достигла вершин надменной учтивости, предлагая собравшимся лишь грозное молчание и злобные взгляды. Старая леди Айвивуд, окутанная прекрасными кружевами и удивляющая прекрасными манерами, являла лик смерти, что бывает нередко у тех, чьим детям ведом только ум. У нее был тот самый вид заброшенной матери, который гораздо трогательней, чем вид заброшенного ребенка.
– Чем вы порадуете нас сегодня? – спросила пророка леди Энид.
– Я буду говорить о свинье, – весомо ответил Мисисра.
Поистине простота его была достойна уважения, ибо он никогда не замечал, как удивительны и произвольны тексты или символы, на которых он строит свои дикие теории. Леди Энид не дрогнула, глядя на него с той вдумчивой кротостью, которую обретала, беседуя с великими людьми.
– Это очень важная тема, – продолжал пророк, двигая руками так, словно он обнимал премированную свинью. – В ней заключено множество других тем. Я не могу понять, почему христиане смеются и дивятся, когда мы считаем свинью нечистым животным. Вы сами считаете ее нечистой, ибо ругаете человека свиньей, хотя есть животные и погнуснее, скажем – аллигатор…
– Вы правы, – сказала леди Энид. – Как удивительно!..
– Если кто-то вас рассердил, – продолжал ободренный старец, – если вы сердитесь на… как же это?.. на горничную, вы не назовете ее кобылицей. Не назовете и верблюдом.
– Не назову, – серьезно сказала леди Энид.
– У вас говорят: «Моя горничная – свинья», – победоносно продолжал турок. – И эту гнусную тварь, это чудище, чье самое имя повергает в трепет ваших врагов, вы едите, вы вбираете в себя, вы с ним сливаетесь.
Леди Энид несколько удивилась такому описанию своей жизни, а леди Джоан намекнула Айвивуду, что лектора лучше перевести в его законную сферу. И хозяин повел гостей в соседний зал, где стояли ряды стульев и что-то вроде кафедры, а вдоль стен тянулись столы, уставленные яствами. Те, кому знаком полуискренний энтузиазм этого круга, не удивятся, что один из столов был вегетарианский, даже восточный, словно поджидавший в пустыне довольно привередливого индийского отшельника, а остальные ломились от паштетов, омаров и шампанского. Даже мистер Гиббс, который скорее пошел бы в бордель, чем в пивную, не нашел ничего дурного в этом шампанском.
Целью лекции, тем более – целью сборища была не только гнусная свинья. Лорд Айвивуд хотел устроить диспут об еде на Западе и на Востоке. В белом горниле его ума непрестанно рождались мысли, преображавшиеся в желания; и он считал весьма удобным, чтобы Мисисра начал спор рассказом о запрете на свинину и другие виды мясной пищи. Сам он собирался спор продолжить.
Пророк сразу взмыл высоко. Он сообщил собравшимся, что они, англичане, всегда гнушались свиньею, как сокровенным образом мерзости и зла. В доказательство он привел пример: свинью нередко рисуют, закрыв глаза. Леди Джоан улыбнулась и все же подумала (как думала нередко о многих модных предметах), безумнее ли это, чем разные вещи, о которых толкуют ученые, например – следы первобытного похищения женщин, обнаруженные в тайниках сердца у нынешних людей.
Затем он углубился в дебри филологии, сопоставляя слово «ветчина» со страшными грехами, описанными в первых главах Библии; а Джоан снова подумала, глупее ли это, чем многое, что она слышала о первобытном человеке от тех, кто его в глаза не видел.
Он предположил, что ирландцы пасли свиней, потому что были низшей кастой, томившейся в рабстве у гнушавшихся свиньей саксов; а Джоан подумала, что это так же глупо, как давние речи милого старого священника, после которых один ее знакомый ирландец сыграл мятежную песню и разбил рояль.
Джоан Брет много думала последние дни. Виною тому был отчасти разговор в башенке, явивший ей неведомые доселе чувства лорда Айвивуда, отчасти – весть о здоровье матери, не слишком тревожная, но все же напомнившая ей, что она одинока в этом мире. Прежде рассуждения Мисисры забавляли ее. Сегодня ей захотелось понять, как может человек быть таким убежденным, говорить так связно и постоянно ошибаться. Она внимательно слушала, глядя на свои руки, лежавшие у нее на коленях, и, кажется, что-то поняла.
Лектор искренне хотел показать, что и в истории Англии, и в литературе свинья связана со злом. Он знал об английской истории и литературе больше, чем она сама; гораздо больше, чем окружавшие ее аристократы. Но она заметила, что он знает только факты и не знает таившейся за ними истины. Он не знал духа времени. Леди Джоан поймала себя на том, что считает его ошибки, как пункты обвинительного акта.
Мисисра Аммон знал, а теперь почти никто не знает, что один старинный поэт назвал Ричарда III вепрем[54], а другой – кабаном. Но он не знал старых нравов и геральдики. Он не знал (а Джоан догадалась сразу, хотя в жизни об этом не думала), что для рыцарей храбрый зверь, которого трудно убить, был благородным. Благородным был кабан; так называли отважных. Мисисра же пытался доказать, что побежденного Ричарда просто обозвали свиньей.
Мисисра Аммон знал, а почти никто не знал, что никогда не было лорда Бэкона; Бэкон был лордом Вэруламским или лордом Сент-Олбенским. Зато он не знал, а Джоан знала (хотя никогда о том не думала), что титул в конце концов – условность, почти шутка, тогда как фамилия очень важна. Жил человек по фамилии Бэкон, каких бы титулов он ни добился. Мисисра же всерьез полагал, что этого человека прозвали постыдным словом, означающим ветчину.
Мисисра Аммон знал, а никто не знал, что у Шелли был друг Свини, однажды его предавший; и серьезно думал, что именно за это он получил такое прозвище. Знал он и другое: еще одного поэта сравнивали со Свини потому, что он обидел Шелли. Зато он не знал то, что знала Джоан, – повадки таких людей, как Шелли и его друзья.
Закончил он непроницаемо-туманным рассуждением о свинце, которое Джоан и не пыталась понять. «Если он имеет в виду, – подумала она, – что скоро мы будем есть свинец, я просто не знаю, чего он хочет. Неужели Филип Айвивуд верит во все это?» – и не успела она так подумать, Филип Айвивуд встал.
Подобно Питту[55] и Гладстону[56], он умел говорить экспромтом. Слова его становились на место, как солдаты обученной армии. Довольно скоро Джоан поняла, что дикий и туманный конец лекции дал ему нужное начало. Ей было трудно поверить, что это не подстроено.
– Я помню, – говорил Айвивуд, – а вы, должно быть, не помните, что некогда, представляя вам замечательного лектора, который дал мне сейчас почетную возможность следовать ему, я обронил простое предположение, показавшееся парадоксом. Я сказал, что мусульманство, в определенном смысле, – религия прогресса. Это настолько противоречит и научной традиции, и общепринятому мнению, что я не удивлюсь и не вознегодую, если англичане согласятся с этим нескоро. Однако, леди и джентльмены, время это сократилось благодаря прекрасной лекции, которую мы прослушали. Отношение ислама к пище столь же удачно иллюстрирует идею последовательности, как и отношение ислама к вину. Оно подтверждает принцип, который я назвал принципом полумесяца – постепенное стремление к бесконечному совершенству.
Великая вера Магомета не запрещает есть мясо. Но, в согласии с упомянутым принципом, составляющим самую ее суть, она указует путь к совершенству, еще не достижимому. Она избрала простой и сильный образчик опасностей мясоедения и явила нам гнусную тушу, как символ и угрозу. Она наложила символический запрет на животное из животных. Истинно мистический инстинкт подсказал ей, какое именно существо надо изъять из наших каннибальских пиршеств, ибо оно трогает обе струны высокой вегетарианской этики. Беспомощность свиньи будит в нас жалость, уродство – отвращает нас.
Было бы глупо утверждать, что трудностей нет; они есть, ибо разные народы находятся на разных ступенях нравственной эволюции. Обычно говорят, ссылаясь на документы и факты, что последователи Магомета особенно преуспели в искусстве войны и не всегда ладят с индусами, преуспевшими в искусстве мира. Точно так же, надо признаться, индусы превзошли мусульман в вегетарианстве настолько же, насколько мусульмане превзошли христиан. Конечно, не будем забывать, леди и джентльмены, что любые сведения о распрях между индусами и мусульманами мы получаем от христиан, то есть – в искажении. Но даже и так, неужели мы не заметим столь знаменательного предупреждения, как запрет на свинину? Мы чуть не потеряли Индию, ибо руки наши обагрены кровью коровы.
Если мы предложим постепенно приближаться к тому отречению от мяса, которого полностью достигли индусы, частично – ислам, противники прогресса спросят нас: «Где вы проводите черту? Могу я есть устриц? Могу я есть яйца? Могу я пить молоко?» Можете. Вы можете есть и пить все, что соответствует вашей стадии развития, лишь бы вы стремились вперед, к чистоте. Разрешу себе пошутить: сегодня вы съели шесть дюжин устриц, съешьте же завтра четыре. Только так и движется прогресс в общественной и частной жизни. Разве не удивился бы людоед, что мы различаем животное и человека? Все историки высоко ценят гугенотов и великого короля-гугенота Генриха IV[57]. Никто не отрицает, что для его времени очень прогрессивно стремиться к тому, чтобы у каждого крестьянина в супе была курица. Но мы не оскорбим его, если поднимемся выше. Неуклонная поступь открытий сметает тех, кто больше наваррца. Я, как и мусульмане, высоко ценю мифический или реальный образ основателя христианства и не сомневаюсь, что несообразная и неприятная притча о свиньях[58], прыгнувших в море, – лишь аллегория, означающая, что основатель этот понял простую истину: злой дух обитает в животных, искушающих нас пожрать их. Не сомневаюсь я и в том, что блудный сын, живущий во грехе среди свиней[59], иллюстрирует великую мысль Пророка Луны; однако и здесь мы ушли дальше древних, и многие из нас искренне сокрушаются, что радость возвращения омрачили жалобные крики тельца. Те, кто спросят, куда мы идем, не понимают прогресса. Если мы будем питаться светом, как по легенде питается хамелеон; если вселенское волшебство, неведомое нам теперь, научит нас обращать в пищу металлы, не трогая кровавого обиталища жизни, мы узнаем об этом в свое время. Сейчас довольно и того, что мы достигли такого состояния духа, когда убитое животное не глядит на нас с сокрушающим душу упреком, а травы, которые мы собираем, не кричат, как кричал по преданию корень мандрагоры[60].
Лорд Айвивуд снова сел. Его бесцветные губы шевелились. Вероятно, по намеченному плану на кафедру взошел мистер Ливсон, чтобы сообщить свои мнения о вегетарианстве. Он полагал, что запрет на свинину – начало славного пути, и показал, как далеко может зайти прогресс. Кроме того, он полагал, что слухи о вражде мусульман к индусам сильно преувеличены; мы же, англичане, плохо поняли во время индусского восстания чувства, которые индус испытывает к корове. Он считал, что вегетарианство прогрессивнее христианства. Он думал, наконец, что мы пойдем дальше; и сел. Поскольку он повторил по пунктам то, что сказал лорд Айвивуд, незачем и сообщать, что высокородный патрон похвалил его смелую и оригинальную речь.
По такому же знаку, как Ливсон, поднялся и Гиббс, чтобы продолжить прения. Он гордился тем, что немногословен. Только с пером в руке, в редакции, ощущал он ту смутную ответственность, которую так любил. Но сейчас он оказался блистательней, чем обычно, потому что ему нравилось в таком аристократическом доме; потому что он до сих пор не пробовал шампанского и ощутил к нему склонность; потому, наконец, что, говоря о прогрессе, можно тянуть мочалу, сколько хочешь.
– Что бы мы ни думали, – откашлявшись, сказал он, – о привычных толках, ставящих ислам намного ниже буддизма, нет сомнения, что вся ответственность лежит на христианских церквах. Если бы свободные церкви пошли навстречу предложениям Опалштейнов, мы бы давно забыли о разнице между религиями.
Почему-то это напомнило ему о Наполеоне. Он высказал свое мнение о нем и не побоялся сказать, даже в этой аудитории, что съезд методистов[61] уделил слишком мало внимания вопросу об азиатской флоре. Конечно, кто-кто, а он никого не обвинял. Все, несомненно, знали заслуги доктора Куна. Все знали, как трудится на ниве прогресса Чарльз Чэддер. Но многие могли счесть закономерностью что-либо иное. Никто не протестует против споров о кофе, однако надо помнить (не в обиду будь сказано канадцам, которым мы многим обязаны), что все это происходило до 1891 года. Никто не питает такого уважения к нашим друзьям-ритуалистам[62], как мистер Гиббс, но он прямо скажет, что вопрос этот необходимо было задать. И хотя, несомненно, с одной точки зрения, козлы…
Леди Джоан заерзала на стуле, словно ее пронзила острая боль. Она и впрямь ощутила привычную боль своей жизни. Как большинство женщин, даже светских, она была терпелива к физической боли; но муке, вечно возвращавшейся к ней, философы придумали много названий, лучшее из которых – скука.
Она почувствовала, что не может ни минуты больше выдержать мистера Гиббса. Она почувствовала, что умрет, если услышит про козлов с какой бы то ни было точки зрения. Понезаметней поднявшись, она выскользнула в дверь, словно искала еще один стол с закусками, и очутилась в восточной комнате, но есть не стала, хотя столы были и тут. Бросившись на оттоманку, она посмотрела на волшебную башню, где Айвивуд показал ей, что тоже жаждет красоты. Да, он поэт, и поэт странный, отрешенный, похожий скорее на Шелли, чем на Шекспира. Он прав, башня волшебная, она похожа на край света. Она как будто учит тебя, что в конце концов ты найдешь хоть какой-то спокойный предел.
Вдруг она засмеялась и приподнялась на локте. Нелепая, знакомая собака бежала к ней, сопя, и Джоан привстала ей навстречу. Она подняла голову и увидела то, что, в самом христианском смысле слова, походило на конец света.
Глава 12 ВЕГЕТАРИАНСТВО В ЛЕСУ
Хэмфри Пэмп нашел на берегу старую сковородку и жарил на ней грибы. Это было очень характерно для него. Не претендуя на книжную образованность, он принадлежал к тому типу ученых, которых не замечает злосчастная наука. Он был старым английским натуралистом, вроде Гилберта Уайта[63] или даже Исаака Уолтона[64], то есть – изучал природу не отвлеченно, как американский профессор, а конкретно, как американский индеец. Всякая истина, в которую верит ученый, хотя бы немного отличается от истины, в которую верит он же как человек, ибо на человека успеют повлиять родные, друзья, обычай, круг прежде, чем он предастся какой-нибудь теории. Знаменитый ботаник скажет вам на банкете в Королевском обществе, что среди грибов съедобны не только трюфели и шампиньоны. Но задолго до того, как он стал ботаником, тем более – знаменитым, он привык есть одни шампиньоны и трюфели. Он ощущает, пусть смутно, что шампиньон – лакомство людей небогатых, а трюфель – лакомство, которое доступно лишь избранному кругу. Но старые английские натуралисты, первым из которых был Исаак Уолтон, а последним, наверное, – Хэмфри Пэмп, начинали с другого конца. Они проверяли на собственном опыте (что небезопасно), какие грибы можно есть, какие нельзя, и устанавливали, что многие есть можно. Пэмп не больше боялся гриба как такового, чем зверя как такового. Он не предполагал с самого начала, что бурый или алый бугор на камне ядовит, как не предполагал, что посетившая его собака – бешеная. Почти все грибы он знал; к тем, какие не знал, относился с разумной осторожностью; но в общем одноногий лесной народец казался ему добродушным и дружелюбным.
– Понимаешь, – сказал он другу своему, капитану, – питаться растениями не так уж плохо, если ты в них разбираешься и ешь, какие можешь. Но знатные люди совершают две ошибки. Во-первых, они никогда не ели морковку или картошку потому, что в доме больше ничего нет, и не знают, что такое хотеть морковки, как хочет этот ослик. Им ведомы только те растения, которые подают к жаркому. Они ели утку с горошком; став вегетарианцами, они едят горошек без утки. Они ели краба в салате; теперь едят салат без краба. Другая ошибка хуже. Здесь много, а на севере еще больше людей, которые очень редко едят мясо. Зато, когда могут, они ему радуются вовсю. Со знатными не так. Им противно не только мясо, им вообще неприятно есть. Вегетарианец, идущий к Айвивуду, – вроде коровы, которая хочет съедать по травинке в день. Мы с тобой, капитан, поневоле вегетарианцы, мы ведь не трогаем сыра, но это ничего, потому что мы много едим.
– Труднее быть трезвенником, – ответил Дэлрой, – и не трогать рома. Не буду врать, без выпивки мне лучше, но только потому, что я могу и выпить. А знаешь что? – завопил он, ибо к нему, как нередко бывало, вернулась его бычья мощь. – Если я вегетарианец, почему бы мне не пить? Напитки – не мясные. Почему бы мне не питаться растениями в их высшей форме? Скромный вегетарианец должен предаться вину и пиву, а не набивать брюхо слоновьим мясом, как простые мясоеды. Что такое?
– Ничего, – сказал Пэмп. – Я смотрю, не идет ли наш обычный гость.
– Итак, – продолжал капитан, – крепкие напитки – вершина вегетарианства. Какая плодотворная мысль! Можно сочинить песню. Например, вот эту:
Буду, буду пить я ром Утром, вечером и днем, Пиво дуть, как истинный германец, Джин хлебать – бутыль в руке – В каждом грязном кабаке, Потому что я вегетарьянец.Что за простор для литературы и духовного развития! Сколько тут разных граней! Каким же будет второй куплет? Вот таким:
Я до чертиков напьюсь И на вывеску взберусь, Постового задразню, как оборванец. И меня он заберет, И в участок отведет, Потому что я вегетарьянец. [*]Отсюда можно почерпнуть много поучительного… Эй, куда ты смотришь?
Квудл вышел из лесу на минуту позже, чем обычно, и уселся у ног Хэмфри с озабоченным видом.
– Здравствуй, старина, – сказал капитан. – Кажется, мы тебе понравились. Не думаю, Хэмп, чтобы с ним дружили в этом доме. Мне очень не хочется осуждать Айвивуда, Хэмп. Я не хочу, чтобы его душа всю вечность обвиняла мою душу в низкой предвзятости. Я стараюсь судить о нем справедливо, потому что ненавижу его. Он отнял у меня все, ради чего я жил. Но я не думаю, что мои слова покажутся ему обидными. Он знает, что это правда, ведь ум его ясен. Так вот, он не способен понять животное и потому неспособен понять животных свойств человека. Он до сих пор не знает, Хэмп, что ты слышишь и видишь в шестьдесят раз лучше него. Он не знает, что у меня быстрее обращается кровь. Потому он и подбирает себе таких странных сподвижников; он не смотрит на них так, как я смотрю на собаку. На турецкой конференции, я думаю – его стараниями, был некий Глюк. Дорогой мой Хэмп, такой джентльмен, как Айвивуд, не должен подходить к нему и на милю. Грубый, пошлый шпион и подлец… но не выходи из себя, Хэмп! Очень тебя прошу, не выходи из себя, когда говоришь о подобных людях. Утешь себя поэзией. Спою-ка я стишок о том, что я вегетарьянец.
– Если ты вегетарьянец, – сказал Хэмп, – иди поешь грибов. Вот эти, беленькие, можно есть холодными и даже сырыми. Но эти, красные, непременно нужно жарить.
– Ты прав, Хэмп, – сказал Дэлрой, присаживаясь у огня и алчно глядя на еду. – Я буду молчать. Как сказал поэт:
Я молчу, забравшись в клуб, В кабаке молчу, как труп, На балу меня не тянет в танец. Так я сыт! Уж в мой живот Ни крупинки не войдет, Потому что я вегетарьянец.Он быстро и жадно съел свою порцию, с мрачным вожделением взглянул на бочонок и снова вскочил. Схватив шест, лежавший у домика из пантомимы, он вонзил его в землю, словно пику, и опять запел, еще громче:
Пусть взнесется Айвивуд, Пусть его венки увьют, Пусть весь мир он в свой положит ранец, Но…– Знаешь, – сказал Хэмп, тоже кончивший есть, – мне что-то надоела эта мелодия.
– Надоела? – сердито спросил ирландец. – Тогда я спою тебе другую песню, про других вегетарьянцев, и еще станцую! Я буду плясать, пока ты не заплачешь и не предложишь мне полцарства, но я потребую голову Ливсона на блюде[65], нет – на сковородке. Ибо песня моя – восточная, очень древняя, и петь ее надо во дворце из слоновой кости, под аккомпанемент соловьев и пальмовых опахал.
И он запел другую песню про вегетарианство.
Навуходоносор, древний иудей, [*] Пострадал за пару свеженьких идей: Он ползал на карачках и подражал скоту С короной на макушке и с клевером во рту. Тирьям-пам, дидл, дидл… и т. д. «Вот вам Божья кара!» – толковал народ; Своего пророка век не признает, И первооткрыватель одинок среди людей, Как Навуходоносор, древний иудей.При этом он и впрямь кружился, как балерина, огромный и смешной в ярком солнечном свете. Над головой он вертел шест с вывеской. Квудл открыл глаза, прижал уши и с интересом воззрился на него. Потом его поднял один из тех толчков, которые побуждают вскочить самую тихую собаку, – он решил, что это игра. Взвизгнув, он стал скакать вокруг Дэлроя, взлетая иногда так высоко, словно хотел схватить его за горло; но хотя капитан знал о псах меньше, чем сельский житель, он знал о них (как и о многих других вещах) достаточно, чтобы не испугаться, и голос его заглушил бы лай целой своры.
Смелый реформатор господин Фулон[66] Предложил французам новый рацион: Сказал он: «Жуйте травку, кто воздухом не сыт!» И был он головы лишен и травкою набит. Тирьям-пам, дидл, дидл… и т. д. «Вот она, гордыня!» – рассуждал народ. Но не зря бедняга шел на эшафот: Он в будущем провидел торжество своих идей, Как Навуходоносор, древний иудей. Янки Саймон Скаддер где-то в штате Мэн Изучал, как видно, тот же феномен: Он травкой вместо хлеба ирландцев угощал, Чтоб веселей работалось им на укладке шпал. Тирьям-пам, дидл, дидл… и т. д. Мученик прогресса был на высоте: В дегте он и в перьях ехал на шесте… Эх, где уж современникам понять таких людей, Как Навуходоносор, древний иудей!В самозабвении, необычном даже для него, он миновал заросли чертополоха и очутился в густой траве, окружавшей часовню. Собака, убежденная теперь, что это не только игра, но и поход, может быть – охота, с громким лаем бежала впереди по тропкам, проделанным раньше ее же когтями. Не понимая толком, где он, и не помня, что в руке у него смешная вывеска, Патрик Дэлрой очутился перед узкой высокой башней, в углу какого-то здания, которое он никогда не видел. Квудл немедленно вбежал в открытую дверь и, остановившись на четвертой или пятой ступеньке темной лестницы, оглянулся, насторожив уши.
От человека нельзя требовать слишком много. Во всяком случае, нельзя требовать от Патрика Дэлроя, чтобы он отверг такое приглашение. Быстро воткнув в землю свое знамя среди трав и колючек, он нагнулся, вошел в дверь и стал подниматься по лестнице. Только на втором повороте каменной спирали он различил свет; то была дыра в стене, похожая на вход в пещеру. Протиснуться в нее было трудно, но собака прыгнула туда, словно это ей привычно, и опять оглянулась.
Если бы он очутился в обыкновенном доме, он бы тут же раскаялся и ушел. Но он очутился в комнатах, каких никогда не видел и даже себе не представлял.
Сперва ему показалось, что он попал в потаенные глубины сказочного дворца. Комнаты как бы входили одна в другую, являя самый дух «Тысячи и одной ночи». Являл его и орнамент, пламенный и пышный, но не похожий ни на какие предметы. Пурпурная фигура была вписана в зеленую, золотая – в пурпурную. Странный вырез дверей и форма карнизов напоминали о морских волнах, и почему-то (быть может, по ассоциации с морской болезнью) он чувствовал, что красота здесь пропитана злом, словно анфилада эта создана для змия.
Было у него и другое чувство, которое он никак не мог понять, – он ощущал себя мухой, ползущей по стене. Что это, мысль о висячих садах Вавилона или о замке, который восточней солнца и западней луны? И тут он вспомнил: в детстве, чем-то болея, он смотрел на обои с восточным рисунком, похожим на яркие, пустые, бесконечные коридоры. По одной из параллельных линий ползла муха, и ему казалось тогда, что перед ней коридор мертвый, а за нею – живой.
– Черт возьми! – воскликнул он. – Может, это и есть правда о Востоке и Западе? Пышный восток дает для приключения все, кроме человека, который мог бы им насладиться. Прекрасное объяснение крестовых походов! Должно быть, именно так замыслил Бог Европу и Азию. Мы представляем действующих лиц, они – декорацию. Ну что ж, в бесконечном азиатском дворце оказались три самые неазиатские вещи – добрый пес, прямая шпага и рыжий ирландец.
Однако, продвигаясь по подзорной трубе, сверкающей тропическими красками, он ощутил ту невеселую свободу, которую знали покорные судьбе герои (или негодяи?) из «Тысячи и одной ночи». Он был готов к чему угодно. Он не удивился бы, если бы из-под крышки фарфорового кувшина появился синий или желтый дымок, словно внутри кипело ведовское зелье. Он не удивился бы, если бы из-под гардины или из-под двери вытекла, подобно змее, струйка крови, или навстречу вышел немой негр в белых одеждах, только что убивший кого-нибудь. Он не удивился бы, если бы забрел в тихую спальню султана, разбудить которого значило умереть в муках. И все же он удивился тому, что увидел; и убедился, что спит, ибо именно этим кончались его сны.
То, что он увидел, прекрасно подходило к восточной комнате. На кроваво-красных и золотистых подушках лежала прекраснейшая женщина, чья кожа была смугла, как у женщин Аравии. Именно такой могла быть царевна из восточной сказки. Но сердце его замерло не потому, что она подходила к комнате, а потому, что она к ней не подходила. Ноги его остановились потому, что он слишком хорошо ее знал.
Собака подбежала к софе, и царевна ей обрадовалась, приподняв ее за передние лапы. Потом подняла взор; и окаменела.
– Бисмилла, – приветливо сказал восточный путник. – Да не станет твоя тень короче… или длиннее, не помню. Повелитель правоверных шлет к тебе своего ничтожнейшего раба, чтобы отдать собаку. Пятнадцать крупнейших алмазов собрать не успели, и у собаки нет ошейника. Всех виновных засекут драконьими хвостами…
Прекрасная дама так испуганно смотрела на него, что он заговорил по-человечески.
– В общем, – сказал он, – вот собака. Я хотел бы, Джоан, чтобы это не было сном.
– Это не сон, – сказала дама, обретая дар речи, – и я не знаю, к худу ли или к добру.
– Так кто же вы, – спросил сновидец, – если не сон и не видение? Что это за комнаты, если не сон и не кошмар?
– Это новое крыло Айвивудова дома, – сказала леди Джоан с немалым трудом. – Он выбрал восточный стиль. Сейчас он вон там, рядом. У них диспут о восточном вегетарианстве. Я вышла, в зале очень душно.
– О вегетарианстве! – вскричал Дэлрой с неуместным удивлением. – Этот стол не такой уж вегетарианский. – И он показал на один из длинных, узких столов, уставленных изысканными закусками и дорогими винами.
– Ему приходится быть терпимым! – воскликнула Джоан, едва сдерживая что-то, возможно – нетерпение. – Он не требует, чтобы все сразу стали вегетарианцами.
– Они и не стали, – спокойно сказал Дэлрой, подходя к столу. – Я вижу, ваши аскеты выпили немало шампанского. Вы не поверите, Джоан, но я целый месяц не трогал того, что у вас зовут алкоголем.
С этими словами он налил шампанского в большой бокал и залпом его выпил.
Леди Джоан Брет встала, вся дрожа.
– Это нехорошо, Пат! – вскричала она. – Ах, не притворяйтесь, вы понимаете, что я не против питья! Но вы в чужом доме, незваный, хозяин не знает ничего… Это непохоже на вас!
– Не знает, так узнает, – спокойно сказал великан. – Я помню точно, сколько стоит полбутылки этого вина.
Он что-то написал карандашом на обороте меню и аккуратно положил сверху три шилинга.
– А это ужасней всего! – крикнула Джоан, побледнев. – Вы знаете не хуже, чем я, что Филип не возьмет ваших денег.
Патрик Дэлрой посмотрел на нее, и она не поняла, что же выражает его открытое лицо.
– Как ни странно, – сказал он, ничуть не смущаясь, – это вы обижаете Филипа Айвивуда. Он способен погубить Англию и даже весь мир, но он не нарушит слова. Более того: чем удивительней и суровей было это слово, тем меньше оснований считать, что он его нарушит. Вы не поймете таких людей, если не поймете их страсти к букве. Он может любить поправку к парламентскому акту, как вы любите Англию или свою мать.
– О, не философствуйте! – воскликнула Джоан. – Неужели вы не видите, что это неприлично?
– Я просто хочу объяснить вам, – ответил он. – Лорд Айвивуд ясно мне сказал, что я могу выпить и заплатить в любом месте, перед которым стоит кабацкая вывеска. Он не откажется от этих слов, он вообще от слов не откажется. Если он застанет меня здесь, он может посадить меня в тюрьму как вора или бродягу. Но плату он примет. Я уважаю в нем эту последовательность.
– Ничего не понимаю, – сказала Джоан. – О чем вы говорите? Как вы сюда попали? Как я вас выведу отсюда? Кажется, вам до сих пор неясно, что вы у Айвивуда в доме.
– Он переменил название, – сообщил Патрик и повел даму к тому месту, где он вошел.
Следуя его указаниям леди Джоан высунулась из окна, украшенного снаружи сверкающей золотой клеткой сверкающей пурпурной птицы. Внизу, почти под самым окном, у входа на лестницу, стояла деревянная вывеска так прочто и невозмутимо, слово ее водрузили несколько веков назад.
– Снова мы на «Старом корабле», – сказал капитан. – Можно вам предложить чего-нибудь легонького?
Гостеприимное движение его руки было уж очень наглым, и лицо леди Джоан выразило не то, что она хотела.
– Ура! – в восторге закричал Патрик. – Вы снова улыбнулись, дорогая!
Словно в вихре, он прижал ее к себе и исчез из сказочной башни, а она осталась стоять, подняв руку к растрепавшимся темным волосам.
Глава 13 БИТВА У ТУННЕЛЯ
Трудно сказать, что чувствовала леди Джоан Брет после второго свидания в башне, но женский инстинкт побуждал ее к действию. Ясно понимала она одно: Дэлрой оставил Айвивуду записку. Бог его знает, что он мог написать; а ей не хотелось, чтобы это знал только Бог. Шелестя юбкой, она быстро пошла к столу, на котором записка лежала. Но юбка ее шелестела все тише, и ноги ступали все медленнее, ибо у стола стоял Айвивуд и читал, спокойно опустив веки, что подчеркивало благородство его черт. Дочитав до конца, он положил меню как ни в чем не бывало и, увидев Джоан, приветливо улыбнулся.
– Значит, вы тоже удрали, – сказал он. – И я не выдержал, слишком жарко. Доктор Глюк хорошо говорит, но нет, не могу. Как вам кажется, здесь ведь очень красиво? Я бы назвал это вегетарианским орнаментом.
Он повел ее по коридорам, показывая ей лимонные полумесяцы и багряные гранаты так отрешенно, что они два раза прошли мимо открытых дверей зала, и Джоан ясно услышала голос Глюка, говоривший:
– Собственно, отвращением к свинине мы обязаны в первую очередь не исламу, а иудаизму. Я не разделяю предубеждения против евреев, существующего в моей семье и в других знатных прусских семьях. Я полагаю, что мы, прусские аристократы, многим обязаны евреям. Евреи придали суровым тевтонским добродетелям именно ту изысканность, ту интеллектуальную тонкость, которая…
Голос замер, ибо лорд Айвивуд многоречиво (и очень хорошо) рассказывал о мотиве павлиньего пера в восточном орнаменте. Когда они прошли мимо двери в третий раз, слышались аплодисменты. Диспут кончился; и гости хлынули к столам.
Лорд Айвивуд спокойно и быстро нашел нужных людей. Он изловил Ливсона и попросил его сделать то, что им обоим делать не хотелось.
– Если вы настаиваете, – услышала Джоан, – я, конечно, пойду. Но здесь очень много дел. Быть может, найдется кто-нибудь другой…
Филип, лорд Айвивуд, в жизни своей не взглянул на человеческое лицо. Иначе он бы увидел, что Ливсон страдает очень старой болезнью, вполне простительной, особенно если вам надвинули цилиндр на глаза и вынудили вас обратиться в бегство. Но он не увидел ничего и просто сказал: «Что ж, поищем другого. Как насчет вашего друга Гиббса?»
Ливсон побежал к Гиббсу, который пил второй бокал шампанского у одного из бесчисленных столов.
– Гиббс, – нервно сказал Ливсон. – Не услужите ли вы лорду Айвивуду? Он говорит, у вас столько такта. Очень может быть, что внизу, под башней, находится один человек. Лорд Айвивуд просто обязан отдать его в руки полиции. Но возможно, что он не там; возможно, он прислал записку каким-нибудь другим способом. Естественно, лорд Айвивуд не хочет тревожить гостей и выставлять себя в смешном виде, вызывая зря полицейских. Ему нужно, чтобы умный, тактичный друг пошел вниз, в запущенную часть сада, и сообщил, есть ли там кто-нибудь. Я бы пошел сам, но я нужен здесь.
Гиббс кивнул и налил себе еще один бокал.
– Все это не так просто, – продолжал Ливсон. – Негодяй хитер. Лорд Айвивуд сказал: «Весьма замечательный и опасный человек». По-видимому, он прячется в очень удачном месте – в старом туннеле, который идет к морю, за садом и часовней. Это умно. Если на него пойти с берега, он убежит в заросли, если пойти из сада, он убежит на берег. Полиция доберется сюда нескоро, а еще в десять раз дольше будет она добираться до берега, тем более что между этим домом и Пэбблсвиком вода дважды подходит к самым скалам. Поэтому спугнуть его нельзя, он убежит. Если вы кого-нибудь встретите, поговорите с ним как можно естественней и возвращайтесь. Пока вы не вернетесь, мы не вызовем полицию. Говорите так, словно вы вышли прогуляться. Лорд Айвивуд хочет, чтобы ваше пребывание в саду казалось совершенно случайным.
– Хочет, чтобы казалось случайным, – серьезно повторил Гиббс.
Когда Ливсон исчез, вполне довольный, Гиббс выпил еще бокал-другой, чувствуя, что на него возложено важное поручение. Потом он вышел сквозь дыру, спустился по лестнице и кое-как выбрался в заросший сад.
Уже стемнело, взошла луна, освещая часовню, обросшую драконьей чешуей грибов. С моря дул свежий ветер, который понравился мистеру Гиббсу. Бессмысленная радость охватила его; особенно хорош был светлый гриб в коричневых точечках. Он засмеялся. Потом старательно проговорил: «Лорд Айвивуд хочет, чтобы мое пребывание в саду казалось совершенно случайным», и попытался вспомнить, что же еще сказал ему Ливсон.
Он стал пробираться к часовне сквозь травы и колючки, но земля оказалась гораздо менее устойчивой, чем он полагал. Он поскользнулся и не упал лишь потому, что обнял сломанного ангела, стоявшего у кучи обломков. Ангел пошатнулся.
Недолгое время казалось, что мистер Гиббс весьма игриво вальсирует с ангелом в лунном свете. Потом статуя покатилась в одну сторону, а он – в другую, где и лег лицом вниз, что-то бормоча. Он бы долго лежал так, если бы не случай. Пес Квудл, со свойственной ему деловитостью, сбежал по лестнице вслед за ним и, увидев его в такой позе, залаял, словно оповещая о пожаре.
На его лай из зарослей вышел огромный рыжий человек и несколько долгих мгновений смотрел на мистера Гиббса, явственно удивляясь. Из-под прижатого к траве лица послышались глухие звуки:
– …хочет, чтоб прбывание с-саду ка-за-лось слу-чай-ным…
– Оно и кажется, – сказал капитан. – Чем могу служить? Вы не ушиблись?
Он ласково поднял несчастного на ноги и с искренним состраданием посмотрел на него. Падение несколько отрезвило Айвивудова посланца; на щеке его алела царапина, которая казалась настоящей раной.
– Какая жалость, – сердечно сказал Патрик Дэлрой. – Идемте к нам, отдохните. Сейчас вернется мой друг Пэмп, он прекрасный лекарь.
Возможно, Пэмп и был им, но Патрик не был. Он так плохо ставил диагноз, что, усадив Гиббса на упавшее дерево у входа в туннель, гостеприимно поднес ему рюмочку рома.
Мистер Гиббс выпил, глаза его ожили, и он увидел новый мир.
– К-ковы бы ни были част-ные мне-ни-я,– сказал он и хитро посмотрел вдаль.
Потом он сунул руку в карман, словно хотел достать письмо, но нашел только старую записную книжку, которую носил с собой на случай интервью. Прикосновение к ней изменило ход его мыслей. Он вынул ее и сказал:
– Что вы думаете о вгтьянстве, пол-ков-ник Пэмп?
– Ничего хорошего, – удивленно отвечал тот, кого наградили таким странным званием.
– Запишем так, – радостно сказал Гиббс, листая книжку. – Запишем: «Долго был убежденным ве-ге-та-ри-ан-цем».
– Нет, не был, – сказал Дэлрой. – И не буду.
– Не бу-дет… – проговорил Гиббс, бодро водя по бумаге неочиненным концом карандаша. – А какую растительную пищу вы по-ре-ко-мен-ду-ете для убежденного вегетарианца?
– Чертополох, – сказал капитан. – Право, я не очень в этом разбираюсь.
– Лорд Айв-вуд убеж-ден-ный ве-ге-та-ри-а-нец,– сообщил Гиббс, покачивая головой.-Лорд Айвивуд сказал, что я тактичный. «Поговорите, как ни в чем не бывало». Так я и делаю. Говорю.
Из рощицы вышел Хэмфри Пэмп, ведя под уздцы осла, только что наевшегося рекомендованной пищи. Собака вскочила и побежала к ним. Пэмп, самый учтивый человек на свете, ничего не сказал, но с одного взгляда понял то, что в определенной мере связано с вегетарианством; то, чего не понял Дэлрой, предложивший несчастному выпить.
– Лорд Айв-вуд сказал, – невнятно продолжал посланец, – «Как будто вы гуляете…» Так и есть. Гуляю. Вот он, такт. До другого конца далеко, море и скалы. Вряд ли они умеют плавать. – Он снова схватил книжку и без особого успеха посмотрел на карандаш. – Прек-расная те-ма! «Умеют полицейские плавать?» Заголовок.
– Полицейские? – в полной тишине повторил Дэл-рой. Собака подняла взор; кабатчик не поднял.
– Одно дело Айв-вуд, – рассуждал посланец. – Другое дело – полиция. Или одно, или другое, или другое, или одно. Казалось совершенно случайным. Да.
– Я запрягу осла, – сказал Пэмп.
– Пройдет он в дверь? – спросил Дэлрой, показывая на сооруженный им домик. – А то я это сломаю.
– Прекрасно пройдет, – отвечал Пэмп. – Я думал об этом, когда строил. Знаешь, лучше я сперва его выведу, а потом нагружу тележку. А ты вырви дерево и перегороди вход. Это их задержит на несколько минут, хотя предупредили нас вовремя.
Он запряг осла и заботливо отвел его к морю. Как все, кто умен в старом, добром смысле, он знал, что срочное дело надо делать не спеша, иначе выйдет плохо. Потом он понес в туннель вещи, а любопытный Квудл побежал за ним.
– Простите, я возьму дерево, – вежливо сказал Дэлрой, словно попросил спичку; вырвал его из земли, как вырвал некогда оливы, и положил на плечо, как палицу Геракла.
* * *
Наверху, в Айвивудовом доме, лорд Айвивуд уже дважды звонил в Пэбблсвик. Его редко что-нибудь задерживало; и, не выражая нетерпения в лишних словах, он все же непрестанно ходил по комнате. Он не вызывал бы полицию до возвращения посланца, однако считал уместным посоветоваться с властями. Увидев в углу праздного Ливсона, он резко свернул к нему и резко сказал:
– Идите посмотрите, что с Гиббсом. Если у вас здесь дела, я разрешаю их бросить. Иначе…
Тут зазвонил телефон, и взволнованный аристократ побежал на звонок с несвойственной ему скоростью. Ливсону осталось идти в сад или прощаться со службой. Он быстро направился к лестнице, но остановился у стола, где останавливался Гиббс, и выпил два бокала шампанского. Не думайте, что он пил, как Гиббс, стремясь к удовольствию и неге. Он пил не для радости; собственно говоря, он едва заметил, что пьет. Его побуждения были и проще, и чище. Обычно их называют необоримым страхом.
Он еще боялся, но уже немного смирился, когда осторожно долез донизу и выглянул в сад, пытаясь разглядеть в зарослях своего тактичного друга. Однако он не увидел и не услышал ничего, кроме отдаленного пения, которое явно приближалось. Первые понятные слова были такими:
Молоко – одна тоска, Нам не надо молока, Молоко, как пресно ты для пьяниц! Молока мы здесь не пьем, Пью я шерри, пью я ром, Потому что я вегетарьянец.Ливсону был незнаком жуткий и зычный голос, пропевший этот куплет. Но ему стало не по себе от мысли о том, что он знает неуверенный и несколько изысканный голос, который присоединился к первому и спел:
Пью я рерри, пью я шом, Потому что я ветегерьянец! [*]Ужас просветил его ум; он понял, что случилось. Однако ему стало легче – он мог теперь вернуться, чтобы предупредить хозяина. Как заяц, взбежал он по лестнице, еще слыша за собой львиный рык.
Лорд Айвивуд совещался с доктором Глюком, а также с мистером Булрозом, управляющим, чьи лягушачьи глаза выражали удивление, застывшее в них, когда перелетная вывеска исчезла с английского луга. Но отдадим ему должное; он был самым практичным из советников лорда Айвивуда.
– Боюсь, мистер Гиббс не совсем осторожно… – забормотал Ливсон. – Боюсь, что он… Словом, милорд, негодяй вот-вот уйдет. Лучше пошлите за полицией.
Айвивуд обернулся к управляющему.
– Пойдите посмотрите, что там такое, – просто сказал он. – Я позвоню и приду. Созовите слуг, дайте им палки. К счастью, дамы легли спать. Алло. Это полиция?
Булроз спустился в заросли и, по разным причинам, прошел сквозь них быстрее, чем радостный Гиббс. Луна сверкала так, что место действия словно бы заливал яркий серебристый свет. В этом ясном свете стоял пламенноволосый исполин с круглым сыром под мышкой. Он беседовал с собакой, водя у нее перед носом указательным пальцем правой руки.
Управляющий должен был и хотел задержать разговором этого человека, в котором он признал героя чуда о вывеске. Но некоторые люди просто не могут быть вежливыми, даже когда им это на руку. Мистер Булроз принадлежал к их числу.
– Лорд Айвивуд, – сердито сказал он, – хочет знать, что вам здесь нужно.
– Не впадай в обычное заблуждение, Квудл, – говорил Дэлрой псу, который неотрывно глядел ему в лицо. – Не думай, что слова «хорошая собака» употребляются в прямом смысле. Собака хороша или плоха сообразно ограниченным потребностям нашей цивилизации…
– Что вы здесь делаете? – спросил мистер Булроз.
– Собака, любезнейший Квудл, – продолжал капитан, – не может быть такой хорошей и такой плохой, как человек. Скажу больше. Она не может лишиться собачьих свойств, но человек лишается человеческих.
– Отвечай, скотина! – взревел управляющий.
– Это тем более прискорбно, – сообщил капитан внимательному Квудлу, – это тем более прискорбно, что слабость ума поражает порой хороших людей. Однако она не реже поражает людей плохих. Человек, стоящий неподалеку, и глуп, и зол. Но помни, Квудл, что мы отвергаем его по нравственным, а не по умственным причинам. Если я скажу: «Куси, Квудл!» или «Держи, Квудл!», знай, прошу тебя, что я наказываю его не за глупость, а за подлость. Будь он только глуп, я не имел бы права сказать «Возьми, Квудл!» с такой естественной интонацией…
– Не пускайте его! Остановите его! – закричал, пятясь, мистер Булроз, ибо Квудл пошел на него с бульдожьей решительностью.
– Если мистер Булроз решит взобраться на шест или на дерево,-продолжал Дэлрой (так как управляющий вцепился в вывеску, которая была крепче тонких деревьев), – не спускай с него глаз, Квудл, и непрестанно напоминай, что подлость, а не глупость, как он может подумать, способствовала столь странному возвышению.
– Вы еще за это поплатитесь! – сказал управляющий, взбираясь на вывеску, как мартышка, под неустанным и любопытным взглядом Квудла. – Вы у меня попляшете! Вот сам лорд и полиция.
– С добрым утром, милорд, – сказал Дэлрой, когда Айвивуд, смертельно бледный в лунном свете, прошел к нему сквозь заросли. Наверное, ему было суждено, чтобы его безупречные, бесцветные черты оттеняло что-нибудь яркое. Сейчас их оттеняла пышная форма д-ра Глюка, следовавшего за ним.
– Рад вас видеть, милорд, – учтиво продолжал капитан. – Трудно иметь дело с управляющим. Особенно с этим.
– Капитан Дэлрой, – серьезно и спокойно сказал Айвивуд. – Я сожалею, что мы встречаемся так. Не этого я хотел. Но я обязан сообщить вам, что полиция сейчас прибудет.
– Самое время! – сказал Дэлрой, кивая. – В жизни не видел такого позора. Конечно, мне жаль, что это ваш приятель. Надеюсь, газеты пощадят дом Айвивуда. Но я не считаю, что для бедных один закон, для богатых – другой. Стыдно, если дело замнут потому, что он – у вас в гостях.
– Не понимаю, – сказал Айвивуд. – О чем вы говорите?
– О нем, конечно, – ответил капитан, радушно указывая на ствол, перегородивший вход в туннель. – Об этом несчастном, за которым придет полиция.
Лорд Айвивуд взглянул на ствол, и в его бесцветных глазах впервые засветилось удивление.
Над стволом торчали два одинаковых предмета. Присмотревшись к ним, Айвивуд опознал подошвы, как бы взывавшие к нему с мольбой. Только они и были видны, ибо мистер Гиббс упал с лесного седалища и остался этим доволен.
Лорд Айвивуд надел пенсне, состарившее его на десять лет, и резко, сухо сказал:
– Что это значит?
Услышав его голос, верный Гиббс помахал ногами, приветствуя феодального сеньора. Несомненно, он и не надеялся встать. Дэлрой подошел к нему, поднял за ворот и предъявил собравшимся.
– Здесь не понадобится много полицейских, – сказал он. – Простите, милорд, я за него не отвечаю, – он покачал головой. – У нас с мистером Пэмпом приличное заведение. «Старый корабль» знают повсюду. Жители самых странных мест обретали в нем мирный кров. И если вы думаете, что можно посылать всяких пьяниц…
– Капитан Дэлрой, – сказал Айвивуд, – вы в заблуждении, и честь велит мне его рассеять. Что бы ни означали столь странные события, чего бы ни заслужил этот джентльмен, речь не о нем. Полиция придет за вами и вашим сообщником.
– За мной! – вскричал капитан, сильно удивляясь. – Я в жизни не делал ничего дурного.
– Вы нарушили пункт пятый Постановления о продаже спиртных…
– Да у меня же вывеска! – воскликнул Дэлрой. – Вы сами сказали, что с вывеской торговать можно. Посмотрите на нее! Называется теперь: «Проворный управляющий».
Мистер Булроз молчал, ощущая, что положение его недостойно, и надеясь, что хозяин уйдет. Но лорд Айвивуд взглянул на него; и подумал, что попал на планету, населенную чудищами.
Когда он пришел в себя, Патрик Дэлрой сказал ему:
– Видите, у нас все правильно и прилично. Вывеска есть, даже слишком живописная. Мы не воры и не бродяги. Вот наши средства существования. – Он похлопал по сыру большой рукой, и тот отозвался, как барабан. – Видны невооруженным глазом, – и он поднес сыр к носу Айвивуда, – сквозь ваши очки.
Он быстро повернулся, распахнул бутафорскую дверь, и сыр, глухо гремя, покатился по туннелю. С другого конца донесся голос Хэмфри Пэмпа. Все вещи были там; и Дэлрой снова обернулся к лорду, совершенно преображенный.
– А теперь, Айвивуд, – сказал он, – я хочу сделать вам предложение. Я не буду противиться полиции, если вы окажете мне одну услугу. Разрешите самому выбрать свою вину.
– Я не понимаю вас, – холодно ответил лорд. – Какую вину? Какую услугу?
Капитан Дэлрой вынул из ножен шпагу. Гибкое лезвие сверкнуло в лунном свете, когда он указал им на доктора Глюка.
– Возьмите шпагу этого ростовщика, – сказал он. – Она такой же длины, как моя. Если хотите, можем поменяться. Дайте мне десять минут на этом кусочке земли. Тогда, быть может, я уйду с вашей дороги способом, более достойным врагов, которые были друзьями. Любой из ваших предков постыдился бы помощи полицейских. Если же… все может быть… тогда я и впрямь совершу преступление.
Наступила тишина. Эльф безрассудства снова посетил на миг Патрика Дэлроя.
– Мистер Булроз будет вашим секундантом, у него такой удобный трон, – сказал ирландец. – Мою честь я вручил мистеру Гиббсу.
– Я принужден отклонить вызов капитана Дэлроя, – странным голосом сказал Айвивуд. – Не столько потому…
Он не докончил фразы, ибо Ливсон вбежал на лужайку, громко крича:
– Полиция прибыла!
Дэлрой, который любил откладывать все до последней минуты, вырвал из земли шест, стряхнул Булроза, как спелый плод, и нырнул в туннель. Квудл бежал за ним. Даже Айвивуд – самый быстрый из всех – не успел добежать до двери, как он закрыл ее и загородил наискось стволом, не вложив в ножны шпаги.
– Ломайте дверь, – спокойно сказал Айвивуд. – Они еще не уложили все в тележку.
Булроз и Ливсон неохотно подняли ствол, на котором некогда сидел Гиббс, и, раскачав его, как таран, ударили по двери. Лорд Айвивуд немедленно прыгнул в дыру туннеля.
С другого конца до него донесся голос. Было что-то и щемящее, и жуткое в том, что такой человеческий голос звучал из нечеловеческой тьмы. Если бы Филип Айвивуд был поэтом, а не эстетом (они противоположны друг другу), он бы знал, что прошлое Англии и ее народ говорят с ним из мрака. Но он слышал лишь преступника, убегающего от полиции. Тем не менее он замер, словно околдованный.
– Милорд, я прошу слова, – сказал Хэмфри Пэмп. – Я знаю катехизис; я никогда не бунтовал. Подумайте, что вы со мной сделали. Вы отобрали дом, где я был у себя, как вы вот здесь. Вы обратили меня в бродягу, а прежде меня уважали и в церкви, и на ярмарке. Теперь вы посылаете меня в тюрьму и на каторгу. Как по-вашему, что я думаю о вас? Да, вы ездите в Лондон и заседаете с лордами, и привозите кучу бумаг, исписанных длинными словами, но какая мне разница? Вы – плохой, жестокий хозяин; прежде их наказывал Бог, как сквайра Варни, которого загрызли куницы. Священник разрешает стрелять в воров. И я хочу сказать вам, милорд, – учтиво добавил он, – что у меня есть ружье.
Айвивуд шагнул во тьму и заговорил. В голосе его звенело чувство, которое никто так и не сумел определить.
– Полиция прибыла, – сказал он, – но я арестую вас сам.
Выстрел тысячью эхо загремел в туннеле. Ноги Айвивуда подкосились, и он опустился на землю. Пуля ранила его выше колена.
Почти в тот же миг громкий лай оповестил, что тележка тронулась в путь с полной поклажей. Более того: как только она тронулась, Квудл вскочил наверх и уселся прямо, с важностью глядя по сторонам.
Глава 14 СУЩЕСТВО, О КОТОРОМ ВСЕ ЗАБЫВАЮТ
Хотя рана Айвивуда вызвала переполох, а полиция с трудом выбралась на берег, беглецов почти наверняка поймали бы, если бы не странный случай, тоже связанный с великим спором о вегетарианстве.
Лорд Айвивуд довольно поздно сделал свое открытие отчасти потому, что сразу после доктора Глюка была еще одна, очень длинная речь, которой Джоан не слышала. Конечно, произнес ее человек странный. Почти все гости и все ораторы были здесь странными в том или ином смысле, но этот был к тому же богат, знатен, заседал в парламенте, приходился родственником леди Энид, пользовался известностью в мире искусства – словом, мог себе позволить что угодно, от мятежа до нудности.
Дориан Уимпол стал известен миру вне своего круга под необычным прозвищем Птичьего Поэта. Первый томик его стихов составляли причудливые монологи певчих птиц, не лишенные красоты и искренности. К несчастью, он был из тех, кто принимает свои причуды всерьез; из тех, в чьих законных чувствах слишком мало веселья. Так, он объяснял веру в ангелов тем, что птицы были некогда много разумней людей. Когда он внес поправку в Айвивудов проект образцового селенья, называвшегося Миролюбец, предложив, чтобы дома висели на деревьях, как гнезда, многие с сожалением признали, что он утратил легкость. Когда же он перешел от птиц к прочим обитателям зоологического сада, стихи его стали туманными, и сама леди Сьюзен назвала неудачным этот период. Читать их было особенно трудно, ибо он не давал к своим гимнам и любовным песням предварительного объяснения. Если в лирической безделушке «Любовь в пустыне» вы натыкались на строки:
Ее глава уходит в звезды, А горб ее упруг и тверд,вы могли удивиться такому описанию дамы, пока не соображали, что речь идет о прекрасной верблюдице. Если «Поступь народа» начиналась призывом
За мной, товарищи, вперед! Вонзите зубы в пол и в двери, [*]вы могли усомниться в таком совете, пока не узнавали, что автор говорит от лица красноречивой и вдохновенной мыши. Лорд Айвивуд едва не поссорился с родственником из-за «Песни о выпивке», но тот объяснил ему, что пили воду, а общество состояло из бизонов. Образ идеального мужа, сложившийся в сознании юной моржихи, очень удался ему; но лица, испытавшие сходные чувства, могли бы кое-что прибавить. Младенец-скорпион в сонете «Материнство» получился милым, но все же не совсем убедительным. Однако, скажем ему в оправдание, он нарочно выбирал самых странных тварей, считая, что поэт не должен забывать ни об одном существе.
Он был светлым блондином, как его родственник, но с усами и длинными волосами. Ярко-голубые глаза глядели вдаль. Одевался он с тщательной небрежностью, носил коричневую бархатную куртку и кольцо с изображением одного из существ, которым поклонялись в Египте.
Речь его была изящна и невообразимо длинна. Говорил он об устрице. Он пылко нападал на мнимых гуманистов, считавших, что такой простой организм можно есть. Человек, говорил он, всегда сбрасывает со счета кого-нибудь из обитателей Вселенной, забывает одно существо. По-видимому, теперь забыли устрицу. Он подробно описал ее страдания, поведав при этом о причудливых рыбах, коралловых скалах, странных бородатых чудищах и зеленом сумраке морских глубин.
– Устрица – изгнанница мира! – восклицал он. – Что может быть печальней ее беспомощности? Что страшнее ее слез? Сама природа запечатлела их навеки. Существо, о котором все забывают, хранит неопровержимое свидетельство против нас. Слезы вдов и пленников высыхают, как слезы детей. Они исчезают, как роса или дождевая капля. Но слеза устрицы – жемчужина.
Птичий Поэт был так возбужден своей собственной речью, что вышел к автомобилю, дико глядя вдаль. Шофер с облегчением вздохнул.
– Пока что домой, – сказал поэт и поднял к луне вдохновенное лицо.
Он любил ездить в автомобиле, это помогало ему писать стихи. В тот день он встал рано и ездил с утра. До того как он обратился к изысканным гостям лорда Айвивуда, он ни с кем не говорил и хотел бы долго не говорить ни с кем теперь. Мысли его стремительно мчались. Он небрежно набросил на куртку меховое пальто, не замечая холода в очаровании ночи. Ощущал он лишь бег автомобиля и бег своих мыслей. Всеведение посетило его; он летел с каждой птицей над лесом, прыгал с каждой белкой, тянулся к небу с каждым деревом.
Однако вскоре он нагнулся вперед и постучал в стекло; шофер, ссутулив спину, остановил автомобиль. У края дороги, в лунном свете, Дориан Уимпол увидел то, что взывало к обеим сторонам его природы – и к Дориану, и к Уимполу.
Два оборванца, один в гетрах, другой в лохмотьях маскарадного костюма и в рыжем парике, стояли у изгороди, то ли разгружая, то ли нагружая тележку, запряженную ослом. Во всяком случае, рядом лежали два цилиндрических предмета и деревянный столб. На самом деле человек в гетрах только что накормил и напоил осла и поправлял сбрую, чтобы ему было удобней. Но Дориан Уимпол не ждал таких деяний от такого человека. Он ощутил, что его могущество больше, чем могущество поэта; что он джентльмен, что он член парламента, что он мировой судья, наконец, и пока он наделен властью, не потерпит жестокости к животным, особенно после закона, изданного Айвивудом. Птичий Поэт приблизился к тележке и сказал:
– Вы перегружаете животное. Это запрещено. Пойдемте со мной в полицию.
Хэмфри Пэмп, всегда учтивый с животными и по возможности учтивый с джентльменами, хотя одному из них он прострелил ногу, слишком удивился и огорчился, чтобы ответить. Он отступил шага на два и посмотрел карими глазами на поэта, на осла, на бочонок, на сыр и на вывеску.
Но капитан Дэлрой, истинный ирландец, отвесил судье и поэту дворцовый поклон и спросил с приятной легкостью:
– Интересуетесь ослами?
– Я интересуюсь всеми, о ком человек забывает, – не без гордости отвечал поэт.
По этим фразам Пэмп понял, что два чудаковатых дворянина достойны друг друга. Они еще этого не поняли, но он тем более был им не нужен. Потоптавшись в озаренной луной дорожной пыли, он направился к автомобилю и заговорил с шофером:
– Далеко отсюда до полиции?
Шофер ответил одним слогом, который лучше всего передаст сочетание «Нзна». Можно написать и по-другому, но главное – выразить неведение.
Однако была тут и злоба, которая побудила умного, а потому сердечного Пэмпа посмотреть шоферу в лицо. И он увидел, что оно бледно не только от лунного света.
С безмолвной деликатностью, присущей настоящим англичанам, Пэмп снова посмотрел на шофера и увидел, что он тяжело опирается о дверцу и рука его дрожит. Кабатчик достаточно знал своих земляков, чтобы заговорить как ни в чем не бывало.
– Наверное, вам уже недалеко, – заметил он. – Вы что-то устали.
– А, черт! – сказал шофер и сплюнул на дорогу.
Пэмп сочувственно молчал; и шофер Уимпола заговорил несколько бессвязно:
– К чертовой матери! С утра не жрал! Он там лопал у Айвивуда, а я сиди! Он там ел-ел, а ты тут торчи! Еще осел ему понадобился!
– Неужели вы хотите сказать, – серьезно спросил Пэмп, – что целый день ничего не ели?
– Не ел, представьте себе! – отвечал шофер с иронией умирающего. – Так вот и не ел.
Пэмп вернулся к тележке, взял сыр обеими руками и поставил его на сиденье, рядом с шофером. Потом сунул руку в один из необъятных карманов, и лезвие большого перочинного ножа сверкнуло в лунном свете.
Шофер несколько мгновений смотрел на сыр; нож дрожал в его руке. Потом он принялся резать, и счастливое лицо, залитое белым светом, казалось почти страшным.
Пэмп хорошо разбирался в таких вещах. Он знал, чо капелька еды предотвратит опьянение, а капелька спиртного – несварение желудка. Удержать шофера было невозможно. Оставалось дать ему немного рома, тем более что такого хорошего напитка он не нашел бы ни в одном из еще разрешенных заведений. Пэмп снова пошел к тележке, взял бочонок, поставил его рядом с сыром и налил рому в скляночку, которую носил в кармане.
При виде этого глаза шофера засветились вожделением и ужасом.
– Нельзя, – хрипло прошептал он. – Полиция заберет. Нужно рецепт, или вывеску, или что там у них.
Хэмфри Пэмп снова пошел к тележке. Дойдя до нее, он впервые заколебался; но беседа двух дворян ясно показывала, что они не заметят ничего, кроме себя. Тогда он взял шест, принес к машине и, улыбаясь, поставил между бочонком и сыром.
Склянка с ромом дрожала в руке шофера, как недавно дрожал сыр. Но когда он поднял голову и увидел вывеску, он не то чтобы ободрился, а как бы зачерпнул немного смелости из бездонного моря. То была забытая смелость простых людей.
Он посмотрел на черные сосны и отхлебнул золотистой жидкости, словно это волшебный напиток фей. Потом посидел и помолчал; потом, не сразу, глаза его засветились каким-то твердым светом. Карие, зоркие глаза Хэмфри Пэмпа изучали его внимательно и не без страха. Казалось, что он заворожен или обратился в камень. Однако он вдруг заговорил.
– Гад! – сказал он. – Я ему покажу! Он у меня попляшет! Он у меня увидит!
– Что он увидит? – спросил кабатчик.
– Осла, – коротко отвечал шофер.
Мистер Пэмп забеспокоился.
– Вы думаете, – сказал он, – ему можно доверить осла?
– Еще бы! – сказал шофер. – Он очень любит ослов. А мы ослы, что его терпим.
Пэмп все еще с недоверием смотрел на него, не совсем понимая или притворяясь. Потом с не меньшей тревогой взглянул на двух других; они еще говорили. Какими бы разными они ни были, они принадлежали к тем, кто забывает сословие, ссору, время, место и факты в пылу блестящих доказательств и неопровержимых доводов.
Так, когда капитан осторожно заметил, что осел все-таки принадлежит ему, поскольку он купил его у лудильщика за сходную цену, Уимпол забыл и о полиции, и, боюсь, об осле. Он хотел одного: доказать, что частной собственности не существует.
– У меня ничего нет, – говорил он, раскрывая объятия. – У меня ничего нет, и у меня есть все. Мы обладаем чем-нибудь лишь в том случае, если можем употребить это во благо мирозданию.
– Простите, – спросил Дэлрой, – чем помогает мирозданию ваш автомобиль?
– Когда я в нем езжу, мне легче писать стихи, – с благородной простотой отвечал Уимпол.
– А если нашлась бы высшая цель? – уточнил его собеседник. – Навряд ли это возможно, и все же, если бы мироздание захотело чего-нибудь другого, вы бы его отдали?
– Конечно, – отвечал упорный Дориан. – И не пожалел бы. Поэтому и вы не вправе сетовать, если у вас забирают осла, ибо вы его мучаете.
– Почему вы думаете, – спросил Дэлрой, – что я его мучаю?
– Я видел, – серьезно ответил Дориан, – что вы садились на него верхом (и впрямь, капитан, как некогда прежде, закинул в шутку ногу за спину осла). Разве это не так?
– Не так, – невинно отвечал капитан. – Я не езжу на ослах. Я боюсь.
– Боитесь осла! – недоверчиво воскликнул Уимпол.
– Боюсь исторических аналогий[67], – сказал Дэлрой.
Они помолчали; потом Уимпол довольно холодно произнес:
– О, мы их давно изжили!
– Удивительно, – сказал капитан, – как легко мы изживаем чужое распятие.
– Что ж, – возразил поэт, – а вы распинаете осла.
– Как, это вы нарисовали распятого осла? – удивился Патрик Дэлрой. – Вы прекрасно сохранились! Совсем не старый… Хорошо; если осел распят, его надо снять с креста. Уверены ли вы в том, что умеете снимать ослов с креста? Это редчайшее искусство. Нужна практика. Доктора, например, плохо лечат редкие болезни. Если я, с точки зрения Вселенной, не умею обращаться с ослом, я все же отвечаю за него. Поймете ли вы его душу? Он очень тонок. Он сложен. Могу ли я положиться на то, что вы разберетесь в его вкусах? Мы так недавно знакомы.
Квудл, сидевший, словно сфинкс, под сенью сосен, выбежал на дорогу и вернулся. Выбежал он потому, что услышал звук; а вернулся потому, что звук замер. Но Дориан Уимпол был слишком поглощен своим философским открытием и не заметил ни звука, ни собаки.
– Во всяком случае, – гордо сказал он, – я не буду на нем ездить. Но этого мало. Вы оставляете его единственному человеку, который обрыскал небо и море в поисках тех, о ком все забывают.
– Этот осел очень занятен, – озабоченно сообщил капитан. – У него странные антипатии. Например, он терпеть не может, чтобы автомобиль грохотал, стоя на месте. Меховое пальто он вынесет. Но если внизу бархатная куртка, он может укусить. Кроме того, держите его подальше от определенных людей. Должно быть, вы их не встречали; по их мнению, те, у кого меньше двух тысяч дохода в год, пьяны и злы, а те, у кого больше – призваны судить мир. Если вы не пустите нашего дорогого осла в такое общество… Эй! Эй! Эй!
Он обернулся в искреннем страхе и побежал за Квудлом, который в свою очередь бежал за автомобилем. Вскочил он после пса, и только тут обнаружил, что едет очень быстро. Он взглянул вверх и увидел вывеску, осенявшую их, словно знамя. Пэмп чинно сидел рядом с шофером; там же лежали бочонок и сыр.
Капитан удивился гораздо больше других, но с трудом привстал и крикнул Уимполу:
– Он в хороших руках. Я не мучаю автомобилей.
Дориан и осел смотрели друг на друга в зачарованном сосновом лесу.
Для мистика, если у него есть ум (что не всегда бывает), нет лучших символов, чем поэт и осел. Осел был настоящим ослом. Поэт был настоящим поэтом, хотя иногда его принимали за осла. Мы никогда не узнаем, полюбил ли осел поэта; поэт осла полюбил, и любовь эта выдержала томительно долгое свидание в зачарованной чаще.
Но даже поэт, думаю я, понял бы что-нибудь, если бы видел белое, злое лицо своего шофера. Если бы он увидел его, он вспомнил бы, как называется, и даже подумал бы, как живет существо, которое не принадлежит ни к ослам, ни к устрицам; существо, о котором человек легко забывает с тех пор, как забыл о Боге в саду[68].
Глава 15 ПЕСНИ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛУБА
Пока автомобиль летел сквозь сказочные царства серебряных хвойных лесов, Дэлрой несколько раз пытался заговорить с шофером, но не преуспел, и ему пришлось просто спросить, куда тот едет.
– Домой, – отвечал шофер непонятным тоном. – Домой, к мамаше.
– Где она живет? – спросил Дэлрой с несвойственной ему недоверчивостью.
– В Уэллсе, – сказал шофер. – Я ее давненько не видел. Ничего, сгодится.
– Поймите, – с трудом сказал ирландец, – вас могут арестовать. Это чужой автомобиль. А владелец остался один, голодный и холодный.
– Пускай ест осла, – пробурчал шофер. – Осла с колючками. Поголодал бы с мое, так съел бы.
Хэмфри Пэмп отодвинул стекло, чтобы удобней было беседовать, и обернулся к другу.
– Боюсь, – сказал кабатчик, – он никогда не остановится. Как у нас говорят, сбесился, словно заяц.
– Неужели у вас так говорят? – с интересом спросил капитан. – А на Итаке так не говорили.
– Лучше оставь его в покое, – посоветовал Пэмп.– Еще врежется в поезд, как Дэнни Меттон, когда ему сказали, что он неосторожно правит. После мы как-нибудь отошлем автомобиль Айвивуду. А тому джентльмену совсем не вредно провести ночь с ослом. Осел его многому научит, помяни мое слово.
– Конечно, он и сам отрицал частную собственность, – задумчиво сказал Дэлрой. – Но, видимо, он думал о прочном, стоячем доме. Такой перелетный домик иметь можно… Никак не пойму, – и он снова отер лоб усталой ладонью, – замечал ты, Хэмп, что странно в таких людях?
Автомобиль летел вперед. Пэмп уютно молчал, и капитан продолжил:
– Этот поэт в кошачьей шубке не такой уж плохой. Лорд Айвивуд не жесток, но бесчеловечен. А этот не бесчеловечен, он – невежествен, как многие культурные люди. В них странно то, что они стремятся к простоте и не откажутся ни от одной сложной вещи. Если им придется выбирать между мясом и пикулями, они пожертвуют мясом. Если им придется выбирать между лугом и автомобилем, они запретят луга. Знаешь, в чем их тайна? Они отвергают только то, что связывает их с людьми. Пообедай с воздержанным миллионером, и ты увидишь, что он ни в малой мере не отверг закусок, или пяти блюд, или даже кофе. Он отказался от пива и шерри, потому что бедные любят их не меньше богатых. Пойдем дальше. Он не откажется от серебряных ложек, но откажется от мяса, потому что бедные любят мясо, когда могут его купить. Пойдем еще дальше. Он не мыслит жизни без сада или зала, которых у бедных нет. Но он гордится тем, что рано встает, потому что сон – радость бедных, едва ли не последняя. Никто не слышал, чтобы филантроп обходился без бензина, или без пишущей машинки, или без множества слуг. Куда там! Он обойдется без чего-нибудь простого и доступного – без пива, без мяса, без сна, – ибо они напоминают ему, что он только человек.
Хэмфри Пэмп кивнул, но промолчал, и голос Дэлроя взмыл вверх в пылу вдохновения, что обычно кончалось песней.
– Именно так, – сказал он, – обстояли дела с покойным мистером Макдраконом, популярным в английском свете, как простой демократ с Запада, но погибшим от руки невоздержанных людей, чьих жен застрелили его наемные сыщики.
Простою жизнью жил либерал, миллионер Макдракон, Вина не пил, людей презирал и не любил жен. Завтрак, что требовал он в мегафон, был неизменно прост; И был он внимателен к своим избирателям, покуда метил на пост. В спартанской спальне с давних пор Держал он простенький прибор: Нажмешь на кнопку-взревет мотор, Вращая колес хитроумный набор, И без канители владельца с постели поднимут сто рычажков, И будет умыт он, почищен, побрит он и к жизни скромной готов. Миллионер Макдракон, либерал, изящно и просто одет; Что он приличия соблюдал, можно узнать из газет: На месте шляпа и башмаки, отлично сидит сюртук, Вполне удобно каждой ноге в своей половине брюк. А мог ведь облачиться он И в древнегреческий хитон, И в горностаевый капюшон, И в алый бархат, как фанфарон, Любитель вина и распутных жен,– Но Макдракон, большой либерал, поборник жизни простой, Как всем известно, пренебрегал роскошью и суетой. Миллионер Макдракон, сражен во всей простоте своей, Скончался и скромненько был сожжен, без всяких пышных затей. Его серый, сухой, элегантный прах в земле никогда не сгниет, Травой и цветами не прорастет, как древний Адамов род. А мог бы стать сосной на горе, Или исчезнуть в волчьем нутре, Иль, как язычник, на заре Пылать на высоком, почетном костре… А мог разделить бы с нами ром и сыр на белом холсте, – Но эта роскошь – не для тех, кто помешан на простоте! [*]Пэмп несколько раз пытался остановить песню, но это было так же трудно, как остановить автомобиль. Однако сердитого шофера ободрили дикие звуки, и Пэмп счел своевременным начать поучительную беседу.
– Знаешь, капитан, – добродушно сказал он, – я с тобой не совсем согласен. Конечно, иностранец может и надуть, как было с бедным Томсоном, но нельзя подозревать всех до единого. Тетушка Сара потеряла на этом тысячу фунтов. Я говорил ей, что он не из негров, а она не верила. Да и этот твой немец мог обидеться. Мне все кажется, капитан, что ты не совсем справедлив к ним. Возьмем тех же американцев. Сам понимаешь, много их побывало в Пэбблсвике. И ни одного плохого ни подлого, ни глупого… словом, ни одного, который бы мне не понравился.
– Ясно, – сказал Дэлрой. – Ни одного, которому бы не понравился «Старый корабль».
– Может, и так, – отвечал кабатчик. – Видишь, даже американец ценит мое заведение.
– Странные вы люди, англичане, – сказал ирландец с внезапной и невеселой задумчивостью. – Иногда мне кажется, что вы все-таки выкрутитесь.
Он помолчал и прибавил:
– Ты всегда прав, Хэмп. Нельзя ругать янки. Богатые – мерзкий сброд в любой стране. А большинство американцев – самые вежливые, умные, достойные люди на свете. Некоторые объясняют это тем, что большинство американцев – ирландцы.
Пэмп молчал; и капитан закончил так:
– А все-таки человеку из маленькой страны трудно понять американца, особенно – когда он патриот. Не хотел бы я написать американский гимн, но вряд ли мне закажут. Постыдная тайна, мешающая мне создать патриотическую песнь для большого народа, умрет со мной.
– А мог бы ты написать английскую? – спокойно спросил Хэмп.
– О, кровожадные тираны! – вознегодовал Патрик. – Мне так же трудно представить английскую песню, как тебе собачью.
Хэмфри Пэмп серьезно вынул из кармана листок, на котором он запечатлел грехи и невзгоды бакалейщика, и полез в другой карман за карандашом.
– Эге! – сказал Дэлрой. – Вижу, ты собираешься писать за Квудла.
Услышав свое имя, Квудл поднял уши. Пэмп улыбнулся немного смущенной улыбкой. Ему втайне польстила благосклонность друга к его предыдущей песне; кроме того, он считал стихи игрой, а игры любил; наконец, читал он без всякого порядка, но выбирал книги хорошие.
– Напишу, – сказал он, – если ты напишешь песню за англичанина.
– Хорошо, – согласился Патрик, тяжело вздохнув, что ни в малой мере не свидетельствовало о недовольстве. – Надо же что-то делать, пока он не остановится, а это – безвредная салонная игра. «Песни автомобильного клуба». Очень изысканно.
И он стал писать на чистом листе маленькой книжки, которую носил с собой,-«Noctes Ambrosianae»[*] [69] Уилсона. Время от времени он смотрел на Пэмпа и Квудла, чье поведение очень его занимало. Владелец «Старого корабля» сосал карандаш и пристально смотрел на пса. Иногда он почесывал карандашом свои каштановые волосы и записывал слово. А Квудл, наделенный собачьим пониманием, сидел прямо, склонив голову, словно позировал художнику.
Случилось так, что песня Пэмпа, гораздо более длинная (что характерно для неопытных поэтов), была готова раньше, чем песня Дэлроя, хотя он и спешил ее кончить.
Первым предстали перед миром стихи, известные под названием «Безносье», но в действительности именующиеся Песней Квудла. Приводим лишь часть:
О люди-человеки, [*] Несчастный, жалкий род, У вас носы – калеки, Они глухи навеки, Вам даже вонь аптеки Носов не прошибет. Вас выперли из рая, И, видно, потому Вам не понять, гуляя, Как пахнет ночь сырая, Когда из-за сарая Ты внюхаешься в тьму. Прохладный запах влаги, Грозы летучий знак, Следы чужой дворняги И косточки, в овраге Зарытой, – вам, бедняги, Не различить никак. Дыханье зимней чащи, Любви неслышный вздох, И запах зла грозящий, И утра дух пьянящий – Все это, к славе вящей, Лишь нам дарует Бог. На том кончает Квудл Перечисленье благ. О люди, вам не худо ль? На что вам ваша удаль – На что вам ваша удаль Безносых бедолаг?Стихи эти тоже носили отпечаток торопливости, и нынешний издатель (чья цель – одна лишь истина) вынужден сообщить, что некоторые строки были впоследствии выброшены по совету капитана, а некоторые – отредактированы самим Птичьим Поэтом. В описываемое время самым живым в них был припев: «Гав-гав-гав!», который исполнял Патрик Дэлрой и подхватывал с немалым успехом пес Квудл. Все это мешало капитану закончить и прочитать более короткое творение, в котором он обещал выразить чувства англичанина. Когда же он стал читать, голос его был неуверенным и хриплым, словно он еще толком не кончил. Издатель (чья цель – истина) не станет скрывать, что стихи были такими:
Когда святой Георгий Дракона повстречал. В английском добром кабаке Он пива заказал. Он знал и пост, и бдения, И власяницу знал, Но только после пива Драконов убивал. Когда святой Георгий Принцессу увидал, Он в добром старом кабаке Овсянку заказал. Он знал законы Англии, Ее порядки знал И только после завтрака Принцесс освобождал. Когда святой Георгий Нашу Англию спасет И в битву за свободу нас, Отважных, поведет, Он прежде пообедает, И выпьет он вина, Ему досталась мудрая И добрая страна. [*]– Весьма философская песня, – сказал капитан, важно качая головой. – Глубокомысленная. Я и впрямь считаю, что в этом вся ваша суть. Враги говорят, что вы глупы. Сами вы гордитесь неразумием, и гордость эта – единственная ваша глупость. Разве сколотишь империю, утверждая, что дважды два – пять? Разве станешь сильнее оттого, что не понимаешь химии или простой считалки? Но это правда, Хэмп. Вы – поэтические души, вас ведут ассоциации. Англичанин не примет деревни без сквайра и пастора, колледжа без портвейна и старого дуба. Поэтому вас и считают консерваторами; но дело не в том. Дело в тонкости чувств. Вы не хотите разделять привычную пару не потому, что вы глупы, Хэмп, а потому, что вы чувствительны. Вам льстят и лгут, приписывая любовь к компромиссу. Всякая революция, Хэмп, – это компромисс. Неужели ты думаешь, что Вулф Тоун[70] или Чарлз Стюарт Парнелл[71] никогда не шли на компромисс? Нет, вы боитесь компромисса, и потому не восстанете. Когда бы вы захотели преобразовать кабак или Оксфорд, вам пришлось бы решать, что оставить, чем пожертвовать. А это разбило бы вам сердце, Хэмфри Пэмп.
Лицо его стало задумчивым и багровым, он долго смотрел вперед, потом мрачно сказал:
– В таком поэтическом подходе, Хэмп, только два недостатка. Первый – тот, по чьей вине мы попали в эту переделку. Когда вашим милым, прекрасным, пленительным творением завладевает человек другого типа, другого духа, лучше бы вам было жить под гнетом точных французских законов. Когда английской олигархией правит англичанин, лишенный английских свойств, тогда получается весь этот кошмар, конец которого ведом только Богу.
– А другой недостаток, – еще мрачнее продолжал он, – другой недостаток, мой учтивый поэт, таков. Если, странствуя по Земле, вы найдете остров (скажем, Атлантиду), который не примет всех ваших красот, вы не дадите ничего, и скажете в сердце своем: «Пускай гибнут», и станете жесточайшими из земных владык.
Уже светало, и Пэмп, узнавший местность чутьем, понял, что окраина городка – иная, западная. Быть может, шофер сострил насчет Уэллса, но ехал он в том направлении.
Белое утро заливало молоком серый камень. Несколько встающих рано рабочих казались более усталыми, чем другие люди к вечеру. Усталыми казались и домики, они едва стояли и вдохновляли капитана на задумчивую, но пылкую речь.
– Всякий знает, а не знает – так думает, что идеалисты бывают двух родов. Одни идеализируют реальное, другие – их намного меньше – воплощают идеальное. Такие поэтические натуры, как вы, обычно идеализируете реальное. Это я выразил в песне, которую…
– Не надо! – взмолился кабатчик. – Попозже, капитан.
– …сейчас спою, – закончил непоколебимый Дэлрой.
И замолчал, ибо летящий мир остановился. Замерли изгороди, твердо встали леса, домики предместья внезапно ободрились. Подобный выстрелу звук остановил автомобиль, как остановил бы его настоящий выстрел.
Шофер медленно вылез и несколько раз, в глубокой грусти, обошел свою колесницу. Он открыл неожиданное множество дверок и что-то трогал, что-то крутил, что-то ощупывал.
– Надо мне в этот гараж, сэр, – сказал он озабоченным, хриплым голосом, которого они еще не слышали.
Потом он оглядел лес и домики и прикусил губу, словно генерал, допустивший крупную ошибку. Он был по-прежнему мрачен, но голос его заметно приблизился к своему будничному звучанию.
– Да, влопался я, – сказал он. – Влетит мне, когда я приеду.
– Приедете? – повторил Дэлрой, широко открывая большие синие глаза. – Куда вы приедете, собственно?
– Ну, сэр, – рассудительно сказал шофер. – Хотел я ему показать, что я вожу, а не он. И вот, мотор повредил. Как говорится, незадача…
Капитан Патрик Дэлрой выскочил на дорогу так быстро, что автомобиль покачнулся. Собака, неистово лая, выскочила за ним.
– Хэмп, – негромко сказал Патрик, – я все про вас понял. Теперь я знаю, что меня злит в англичанах. Он помолчал немного.
– Прав был тот француз, которой сказал, что вы идете на площадь, чтобы убить время, а не тирана. Наш друг был готов взбунтоваться, – и что же? Читаешь ты «Панч»? Конечно, читаешь. Только Пэмп и «Панч» и остались от века Виктории. Помнишь прекрасную карикатуру? Два оборванных ирландца с ружьями поджидают за камнем помещика. Один говорит, что помещик запаздывает. Другой отвечает: «Надеюсь, с ним ничего не случилось». Что ж, это правда, но я открою тебе секрет. Он не ирландец, он англичанин.
Шофер дотащил бездыханный автомобиль до гаража, который отделяла от молочной узкая, как щель, улочка. Однако она была не так узка, ибо Патрик Дэлрой исчез в ней.
Очевидно, он выманил шофера, поскольку тот или кто-то ему подобный ушел за ним и вышел снова с виноватой торопливостью, поднося руку к кепке и засовывая что-то в карман. Потом он исчез в гараже и появился опять; в руках у него были какие-то странные предметы.
Хэмфри Пэмп наблюдал все это с немалым интересом. По-видимому, здесь собирались шоферы – иначе трудно объяснить, почему очень высокий шофер в темных очках и кожаной куртке подошел к кабатчику и вручил ему такие же очки и куртку. Особенно же странно, что шофер этот сказал:
– Надень это, Хэмп, и пойдем в молочную. Я жду, пока подадут автомобиль. Какой автомобиль, мой искатель истины? Тот, который я купил, а ты поведешь.
Совестливый шофер после многих приключений добрался до леса, где оставил осла и хозяина. Но и осел, и хозяин исчезли.
Глава 16 СЕМЬ СОСТОЯНИЙ ДОРИАНОВА ДУХА
Не ведающие времени часы безумцев, сверкавшие так ярко в ту ночь, быть может, и впрямь приносили счастье, как серебряная монета. Они не только посвятили мистера Гиббса в таинства Диониса и научили мистера Булроза повадкам далеких предков, но и произвели немалую перемену в душе Птичьего Поэта. Он был не хуже и не глупее Шелли; просто он жил в лживом и сложном мирке, где ценятся слова, а не предметы. Ни в малой мере не хотел он уморить своего шофера; просто он не знал, что забыть человека хуже, чем убить. Долго пробыл он наедине с ослом и луной, и много раз изменилось то, что его ученые друзья назвали бы состоянием духа.
Первое состояние, как это ни грустно, было черной злобой. Он и не думал, что шофер голоден; он полагал, что его подкупили, а может-запугали демонические ослоубийцы. В эти минуты мистер Уимпол был готов терзать своего шофера гораздо страшнее, чем терзал осла мистер Пэмп, ибо здравомыслящий человек не способен ненавидеть животное. Поэт расшвыривал ногами камешки – они летели в чащу – и страстно желал, чтобы каждый из них был шофером. Он вырывал с корнем травы, представляя, что это – волосы врага, ничуть на них не похожие. Он колотил кулаками по тем деревьям, которые, как я полагаю, особенно напоминали предателя, но оставил это, заметив, что дерево крепче его. Весь мир и весь лес стал вездесущим шофером, и он по возможности старался ему повредить.
Вдумчивый читатель поймет, что мистер Уимпол поднялся значительно выше по лестнице духовного совершенства. Если не любишь ближнего, сумей его ненавидеть, особенно когда он бедней тебя и отделен стеной социальной гордыни. Заря народолюбия забрезжила для многих, кому захотелось поколотить дворецкого. Такой безупречный историк, как Хэмфри Пэмп, сообщает нам, что сквайр Мэрримен гнался через три деревни за своим библиотекарем и с той поры стал радикалом.
Кроме того, гнев облегчил душу поэта и он перешел ко второму состоянию – раздумью.
– Грязные обезьяны, – пробормотал он. – А еще называют осла низшим животным. Ездить на осле, нет, вы подумайте! Поездил бы осел на нем! Хороший ослик, хороший-Терпеливый осел обратил к нему кроткий взор в ответ на ласку, и Дориан с удивлением понял, что действительно любит его. В неисповедимой глубине души он ощущал, что никогда не любил ни одно животное. Его стихи о самых причудливых созданиях были вполне искренни и вполне холодны. Когда он писал, что любит акулу, он не лгал. Нет оснований ее ненавидеть, если ее избегаешь. Спрут безопасен и в аквариуме, и в сонете.
Понял он и другое; его любовь к животным как бы перевернулась. Осел был товарищем, а не чудовищем. Он был мил потому, что он рядом, а не потому, что он невесть где. Устрица привлекала поэта тем, что удивительно непохожа на нас, если не счесть мужской причудой ее бороду (образ этот ничуть не более дик, чем сравнение жемчужины с женской слезой). Но в невыносимом и вынужденном бдении среди таинственных сосен осел все больше привлекал Дориана тем, что похож на человека; тем, что у него есть очи, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, даже слишком большие.
– Имеющий уши да слышит, – сказал Дориан, ласково почесывая лопухи, покрытые серой шерсткой. – Разве не ты вздымал их к небу? Разве не ты услышишь первым трубы последнего суда?
Осел потерся об него носом с почти человеческой нежностью, и Дориан подумал, может ли выразить нежность беззащитная устрица. Все было прекрасным вокруг, но не человечным. Лишь в помрачении гнева увидел он в сосне черты человека, водившего некогда такси по Лондону. Деревья и папоротники не могли помахать ушами и обратить к тебе кроткий взор. Он снова погладил осла.
Осел примирил его с пейзажем, и в третьем состоянии духа он понял, как здесь красиво. Собственно говоря, красота эта была не такой уж бесчеловечной. Сияние луны, опускавшейся за деревья, казалось прекрасным именно потому, что напоминало ореол девственниц на старой миниатюре, а тонкие стволы обретали особое благородство, ибо держали крону с той строгостью, с какой девственница держит голову. В сознание его незаметно проникали мысли, доселе неведомые, и он вспоминал старинные слова: «образ Божий». Ему представлялось, что все, от осла до папоротника, облагорожено и освящено своим сходством с чем-то, но несовершенно, как детский рисунок, робкий и грубый набросок в каменном альбоме природы.
Он опустился на кучу сосновых игл, радуясь тому, как темнеет лес, когда луну скрывают деревья. Нет ничего прекрасней соснового бора, где серебро ближних сосен мерцает на фоне сосен серых, а дальше темнеет тьма.
Именно тогда, в радости и праздности, он взял сосновую иголку и принялся рассуждать.
– Я и впрямь сижу на иголках! – сказал он. – Должно быть, ими шила Ева. Какое верное предание! Разве посидишь на иголках в Лондоне? Разве посидишь на иголках в Шеффилде? Нет, на иголках можно сидеть только в раю. Да, старая легенда права. Иголки Божьи мягче людских ковров.
Ему нравилось, что мелкие лесные созданья выползают из-под зеленых лесных завес. Он вспомнил, что в той легенде они смирны, как осел, и, наверное, так же смешны. Подумав о том, что Адам давал им имена[72], он сказал жуку: «Я бы назвал тебя шуршалкой».
Очень позабавили его улитки; позабавили и черви. Он ощутил к ним новый, конкретный интерес, какой ощущает узник к мышам, – интерес человека, привязанного за ногу и принужденного отыскивать прелесть мелочей. Черви и гусеницы ползли медленно, но он терпеливо ждал, зачарованный знакомством с ними. Один червяк особенно привлек его, ибо оказался длинней других и повернул голову к ослиной ноге. Как видно, голова у него была, хотя у червей их не бывает.
Дориан Уимпол мало знал об естественной истории кроме того, что вычитал из справочника. Поскольку сведения эти касались причин смеха у гиены, здесь они помочь не могли. Однако что-то он все-таки знал. Он знал, что у червя не должно быть головы, особенно – плоской и квадратной, как лопата или долото. Он знал, что создание с такой головой встречается в Англии, хотя и нечасто. Словом, он знал достаточно, чтобы выскочить на дорогу и дважды придавить змею каблуком, так что она превратилась в три обрывка, которые еще подергались прежде, чем замереть.
Потом он глубоко вздохнул. Осел, чья лапа была в такой опасности, смотрел на убитую гадюку нежным, светящимся взором. И Дориан смотрел на нее с чувствами, которых не мог ни подавить, ни понять, пока не припомнил, что недавно сравнил этот лес с Эдемом.
– Но даже и в раю… – проговорил он, и слова Фицджеральда[73] замерли на его устах.
Пока он был занят такими речами и мыслями, с ним и вокруг него что-то случилось. Он писал об этом сотни раз, читал тысячи, но никогда этого не видел. Сквозь гущу ветвей сочился слабый жемчужный свет, намного более таинственный, чем свет луны. Он входил во все двери и окна леса, смиренно и тихо, как человек, пришедший на свидание. Вскоре его белые одежды сменились золотыми и алыми; и звался он рассветом.
Птицы пели над головой своего певца, но старания их пропали втуне. Когда певец увидел наяву, как ясный дневной свет рождается над лесом и дорогой, с ним произошло нечто удивительное. Он стоял и смотрел, несказанно дивясь, пока свет не достиг всей своей сияющей силы, и сосны, папоротники, живой осел, мертвая змея не стали четкими, как в полдень или на картине прерафаэлита. Четвертое состояние духа упало на него с небес. Он схватил осла под уздцы и повел его по дороге.
– К черту! – крикнул он весело, как петух, запевший в соседней деревне. – Не всякий убьет змею. – И он прибавил задумчиво: – Доктор Глюк ни за что бы не убил. Идем, ослик! Нам не хватает приключений.
Всякая радость, даже грубый смех, начинается с того, что мы найдем и сразим что-нибудь явственно дурное. Теперь, когда он убил змею, дикий лесной край стал веселым. Одним из недостатков его литературного круга было то, что естественные чувства носили в нем книжные имена; но он и впрямь перешел из состояния Метерлинка к состоянию Уитмена, из состояния Уитмена – к состоянию Стивенсона. Он не притворялся, когда мечтал о златоперых птицах Азии и пурпурных полипах Тихого океана; не притворялся и сейчас, когда искал смешных приключений на обычной английской дороге. Не по ошибке, а по несчастью первое его приключение стало и последним и оказалось слишком смешным, чтобы посмеяться.
Светлое утреннее небо было уже голубым и покрылось мягкими розовыми облачками, породившими поверье, что свиньи иногда летают. Насекомые так резво болтали в траве, словно травинки стали зелеными языками. Предметы, скрывавшие горизонт, прекрасно подходили к разудалой комедии. По одну сторону стояла мельница, в которой мог бы жить мельник Чосера[74], с которой мог бы сражаться Дон Кихот. По другую сторону торчал шпиль церквушки, на которую мог бы взбираться Роберт Клайв[75]. Впереди, у Пэбблсвика, торчали два столба; Хэмфри Пэмп утверждал, что прежде там были детские качели, туристы же полагали, что это старинные виселицы. Среди таких веселых вещей Дориан, как и подобает, бодро шел по дороге. Осел напомнил ему о Санчо Пансе.
Белая дорога и бодрый ветер радовали его, пока не загудел, а потом – не завыл автомобильный клаксон, земля не содрогнулась и чья-то рука не легла на его плечо. Подняв взор, он увидел полицейского в форме инспектора. Лица он не заметил. На него сошло пятое состояние духа, именуемое удивлением.
В отчаянии взглянул он на автомобиль, затормозивший у изгороди. Человек за рулем сидел так прямо и неколебимо, что Дориан угадал полицейского и в нем; человек же, лежавший на заднем сиденье, кого-то ему напомнил. Он был долговяз и узкоплеч, а весьма измятый костюм говорил о том, что некогда он знал аккуратность. Клок соломенных волос стоял прямо над лбом, словно рог одного из животных, упоминаемых в книге, о которой поэт недавно думал. Другой клок падал на левый глаз, приводя на ум притчу о бревне. Глаза – с соломинками или без них – глядели растерянно. Незнакомец нервно поправлял сбившийся галстук, ибо звали его Гиббсом и он еще не оправился от неведомых прежде ощущений.
– Что вам угодно? – спросил полисмена Уимпол. Невинный, удивленный взор, а может, и что иное в его внешности, несколько поколебали инспектора.
– Мы насчет осла, сэр – сказал он.
– Думаете, я его украл? – вскричал разгневанный вельможа. – Ну, знаете! Воры угнали мой лимузин, я спас ослу жизнь, чуть не умер, и меня еще обвиняют!
Вероятно, одежда аристократа говорила громче, чем его язык. Инспектор опустил руку, посмотрел в какую-то бумажку и пошел совещаться с обитателем заднего сиденья.
Мистер Гиббс весьма туманно помнил тех, кого встретил в саду. Он даже не знал, что было наяву, а что ему приснилось. Говоря откровенно, он должен был описать какой-то лесной кошмар, где он попал в лапы людоеда футов двенадцати ростом, с ярким пламенем на голове и в одежде Робина Гуда. Но он не мог этого сделать, как не мог открыть никому (даже себе) своих истинных мнений, или плюнуть, или запеть. Сейчас у него было три желания, три решения: 1) не признаваться, что он напился; 2) не упустить тех, кто нужен Айвивуду, и 3) не утратить репутации тактичного, проницательного человека.
– Этот джентльмен в бархатной куртке и меховом пальто, – продолжал полицейский. – А я записал с ваших слов, что вор был в форме.
– Когда мы говорим «форма», – сказал Гиббс, вдумчиво хмурясь, – мы должны точно знать, что имеем в виду. Многие из наших друзей, – и он снисходительно улыбнулся, – не назвали бы его одежду формой в буквальном смысле слова. К примеру, она ничуть не походила на вашу форму, ха-ха!
– Надеюсь, – коротко сказал полицейский.
– Как бы то ни было, – промолвил Гиббс, вновь обретая свой талисман, – в темноте я мог не разглядеть, что это коричневый бархат.
Инспектор удивился его словам.
– Светила луна, – возразил он. – Как прожектор.
– Вот именно! – вскричал Гиббс и торопливо, и протяжно. – Луна обесцвечивает все. Цветы и те…
– Послушайте, – сказал инспектор, – вы говорили, что он рыжий.
– Блондин, блондин! – сообщил Гиббс, небрежно помахивая рукой. – Такие, знаете ли, золотистые, рыжеватые, светлые волосы. – Он покачал головой и произнес с максимальной торжественностью, которую вынесет эта фраза: – Тевтонский тип. Чистый тевтонский тип.
Инспектор подивился, что даже в суматохе, вызванной ранением лорда Айвивуда, ему дали такого проводника. На самом деле Ливсон, снова скрывший страх под личиной деловитости, нашел у стола встрепанного и заспанного Гиббса, который собирался принять испытанное снадобье. Секретарь считал, что, и едва очнувшись от опьянения, можно узнать такого человека, как капитан.
Хотя бесчинства тактичного журналиста почти кончились, трусость его и хитрость были начеку. Он чувствовал, что человек в меховом пальто как-то связан с тайной, ибо люди в меховых пальто не гуляют с ослами. Он боялся оскорбить Айвивуда и боялся выдать себя инспектору.
– Здесь нужна большая осторожность, – серьезно сказал он. – Ее требуют общественные интересы. Полагаю, вы вправе в данное время предупредить побег.
– А где другой? – озабоченно спросил инспектор. – Может, убежал?
– Другой… – повторил Гиббс, глядя на мельницу из-под век, словно в тонкой проблеме возникла новая сложность.
– Черт возьми, – сказал инспектор, – должны же вы знать, сколько их там было.
Объятый ужасом Гиббс постепенно понял, что именно этого он не знает. Он вечно слышал и читал в юмористических журналах, что у пьяных двоится в глазах, и они, скажем, видят два фонаря, один из которых, как выразился бы философ, совершенно субъективен. Вполне могло случиться, что в его подобном сну приключении ему примерещились два человека, тогда как был там один.
– Ax, два ли, один ли! – небрежно бросил он. – Мы еще успеем их сосчитать, навряд ли их много. – Тут он покачал головой. – Как говорил покойный лорд Гошен[76], «вы ничего не докажете статистикой».
Его прервал человек, стоявший на дороге.
– Сколько мне слушать эту чушь? – нетерпеливо пропел Птичий Поэт. – Не хочу и не буду! Пойдем, ослик, попросим у неба лучших приключений. Очень уж глупые образцы твоей породы.
И, схватив осла под уздцы, он побежал чуть ли не галопом.
К несчастью, гордая жажда свободы произвела на колеблющегося инспектора невыгодное впечатление. Если бы Уимпол постоял еще минуту-другую, неглупый полисмен убедился бы в невменяемости Гиббса. Теперь же он поймал беглеца, немного пострадав при этом, и высокородного Дориана вместе с ослом препроводили в деревню. Там был участок, а в участке была камера, где он испытал шестое состояние духа.
Однако жалобы его были так шумны и убедительны, а пальто так элегантно, что после недолгих расспросов его решили доставить к Айвивуду, который еще не мог двигаться после операции.
Лорд Айвивуд лежал на лиловой тахте в самой сердцевине головоломных восточных комнат. Когда они вошли, он глядел вдаль, ожидая с римским бесстрастием побежденного врага. Но леди Энид, ухаживавшая за ним, громко вскрикнула, трое близких родственников воззрились друг на друга. О том, что они в родстве, можно было догадаться, ибо все трое, как сказал бы Гиббс, принадлежали к тевтонскому типу. Но у двоих взгляд выражал удивление, у одного – ярость.
– Мне очень жаль, Дориан, – сказал Айвивуд, выслушав кузена. – Боюсь, эти одержимые способны на все. Ты вправе сердиться, что они украли у тебя автомобиль…
– Ты ошибаешься, Филип, – пылко возразил поэт. – Я ничуть на них не сержусь. Я сержусь на то, что Божья земля терпит этого идиота (он указал на инспектора), и этого идиота, (она указал на Гиббса), и, черт меня подери, этого (и он указал на самого лорда). Скажу тебе прямо: если два человека действительно нарушают твои законы и портят тебе жизнь, я очень рад предоставить им свой автомобиль. До свиданья.
– Ты не останешься обедать? – с холодным безгне-вием спросил Айвивуд.
– Нет, спасибо, – сказал бард, исчезая. – Я еду в город.
Седьмое состояние духа овладело им в кафе «Рояль» и определялось устрицами.
Глава 17 ПОЭТ В ПАРЛАМЕНТЕ
Когда Дориан Уимпол, член парламента, столь странно появился и исчез, леди Джоан, смотрела из волшебного окна башни, которою теперь в прямом, а не в переносном смысле кончался Айвивудов дом. Старую дыру на черную лестницу, любезную Квудлу, уже заделали, а стену оклеили изысканными восточными обоями. Лорд Айвивуд зорко следил, чтобы в узорах не было живых существ; но, подобно всем умным догматикам, умело использовал все, что разрешала догма. Дальнюю часть дома украшали светила, солнца и звезды, Млечный Путь и кометы для развлечения. Все это выполнили прекрасно (иначе не бывало, если заказывал Филип Айвивуд), и когда сине-зеленые шторы были задвинуты, поэтическая душа, оценившая, словно Гиббс, шампанское из здешних погребов, могла подумать, что стоит у моря в звездную ночь. Даже Мисисра, со всей своей дотошностью, не мог бы назвать животным луну, не впадая в идолопоклонство.
Но Джоан, стоя у окна, видела настоящее небо и настоящее море и думала об астрономических обоях не больше, чем о каких-либо других. В тысячный раз, печально и взволнованно, она задавала себе вопрос, который не могла решить. Ей нужно было сделать выбор между честолюбием и воспоминанием; выбору сильно мешало то, что честолюбие могло обрести плоть, а воспоминание – навряд ли. Это случается часто с тех пор, как сатана стал князем мира сего. Над берегом моря сверкали крупные звезды, весомые, словно алмазы.
Как прежде, на берегу, мрачные раздумья прервал шелест юбок. Леди Энид так спешила только в серьезных случаях.
– Джоан! – взывала она. – Иди сюда! Ты одна можешь с ним справиться.
Немного побледнев, Джоан взглянула на нее и увидела, что она вот-вот заплачет.
– Филип хочет ехать в Лондон, с такой ногой, – воскликнула Энид, – и ничего не слушает!
– Что там у них случилось? – спросила Джоан. Этого леди Энид Уимпол объяснить не могла, и потому объяснит автор. Случилось то, что Айвивуд, просматривая газеты, наткнулся на заметку из центральных графств.
– Турецкие новости, – нервно сказал Ливсон, – на другой стороне листа.
Но лорд Айвивуд смотрел на ту сторону, где этих новостей не было, так же достойно и спокойно опустив веки, как тогда, когда он читал записку от капитана.
Среди местных происшествий красовался заголовок:
«Отзвук пэбблсвикской тайны. Наш репортер о новом появлении перелетного кабака». Дальше шел обычный шрифт.
«Согласно странным сообщениям из Уиддингтона, таинственная вывеска „Старого корабля“ снова появилась в графстве, хотя ученые давно доказали, что она существует лишь в призрачном краю сельских суеверий. По словам местных жителей, м-р Симмонс, владелец молочной лавки, находился в своем заведении, когда туда вошли два шофера, один из которых спросил молока. Лица их были не видны из-под темных очков и поднятых воротников, и мы можем сказать только, что один очень высок. Через несколько минут высокий шофер вышел на улицу и вернулся с неприглядным субъектом из тех, кто оскверняет улицы наших городов и даже просит милостыню в нарушение закона. Субъект был так грязен и слаб, что м-р Симмонс отказался продать ему молока, которого спросил для него высокий шофер. Однако впоследствии он согласился и немедленно вслед за этим произошел инцидент, справедливо возмутивший его.
Высокий шофер сказал оборванцу: «Да ты совсем посинел», и сделал знак шоферу пониже, у которого висел на груди какой-то цилиндрический предмет, откуда они и подлили в молоко желтоватой жидкости, в дальнейшем оказавшейся ромом. Можно себе представить негодова-нние м-ра Симмонса. Однако высокий шофер горячо защищал свои действия, считая их, по-видимому, добрым делом. «Он едва держался, – сказал шофер, – он такой голодный и холодный, словно потерпел крушение. А если бы он потерпел крушение, даже пират дал бы ему рому, клянусь святым Патриком». Мистер Симмонс ответил с достоинством, что ничего не знает о пиратах, но в своей лавке таких выражений не потерпит. Кроме того, он сообщил, что полиция явится к нему, если он разрешит распивать спиртные напитки, поскольку у него нет вывески. К его удивлению, шофер ответил: «Есть, старикашечка, есть. Кто-кто, а я повсюду узнаю наш „Корабль“. Убежденный в том, что посетители пьяны, м-р Симмонс отверг нагло поднесенный ему стакан рому и вышел из лавки, чтобы кликнуть полицейского. Как это ни поразительно, полицейский разгонял немалую толпу, взиравшую на какой-то предмет. Оглянувшись, почтенный лавочник, по собственным его словам, увидел вывеску одного из гнусных кабаков, еще недавно кишевших в Англии. Появления вывески он объяснить не мог. Поскольку она придавала законность действиям шофера, полиция вмешиваться не стала.
Позже. По-видимому, шоферы покинули город в маленьком подержанном автомобиле. Путь их неизвестен, хотя некоторый ключ к разгадке дает следующий ин-ццидент. Когда они ожидали второго стакана, один из них заметил жестянку с горным молоком, которое так усердно рекомендуют светила нашей медицины. Высокий шофер (до странности невежественный во всем, что касается современной науки и современной жизни) спросил у своего спутника, что это такое, а тот справедливо ответил, что указанный продукт изготовляется в образцовой деревне Миролюбец под личным руководством д-ра Мидоуса. Тогда высокий шофер, по-видимому, крайне безответственный, купил всю жестянку, заявив, что на ней записан нужный ему адрес.
Последнее сообщение. Читатели будут рады узнать, что легенда о вывеске снова не устояла перед здравым скепсисом науки. Наш корреспондент прибыл в Уиддингтон после того, как оттуда уехали незадачливые шутники; и, оглядев фасад лавки, не нашел ни следа мифической вывески, в чем мы и заверяем читателей».
Лорд Айвивуд положил газету и посмотрел на пышный замысловатый узор обоев, словно генерал, догадавшийся, как разгромить врага, изменив план кампании. Классический профиль был неподвижнее камня, но всякий, кто знал Айвивуда, понял бы, что мысли его несутся быстрее, чем автомобиль, давно превысивший скорость.
Наконец он обернулся и сказал:
– Пожалуйста, велите Хиксу подать синий лимузин через полчаса. Кушетка туда войдет. Садовнику прикажите сделать палку четыре фута девять дюймов длиной и прибить к ней перекладину. Это будет костыль. Я еду в Лондон.
Нижняя челюсть мистера Ливсона отвисла от удивления.
– Доктор сказал, три недели, – проговорил он. – Разрешите спросить, куда вы едете?
– В парламент, – отвечал Айвивуд.
– Я мог бы передать письмо, – сказал Ливсон.
– Могли бы, – согласился Айвивуд. – Но вряд ли вам разрешат сказать речь.
Через минуту-другую вошла леди Энид Уимпол и тщетно пыталась его отговорить, и отправилась за подругой. Джоан увидела, что Филип уже стоит, опираясь на костыль, и восхитилась им, как никогда не восхищалась Пока его вели вниз и помещали в автомобиль, она ощущала, что он достоин своего рода, этого моря и этих холмов. Божий ветер, называемый волей – единственное наше оправдание на земле, – коснулся ее лица. В звуках клаксона ей слышались сотни труб, созывавших ее и его предков в третий крестовый поход.
Воинские почести мерещились ей не зря. Лорд Айвивуд и впрямь увидел как стратег всю ситуацию и создал план, достойный Наполеона. Факты лежали перед ним; и он с привычной ясностью распределял их, словно расписывал по пунктам.
Во-первых, он знал, что Дэлрой поедет в образцовую деревню, ибо не может упустить такого места. Он знал, что Дэлрой просто неспособен оставить подобное селенье без скандала.
Во-вторых, он знал, что, упустив там Дэлроя, он вообще его упустит, ибо враги достаточно умны, чтобы не оставлять следов.
В-третьих, по размышлении, он решил, что они доберутся туда в дешевом автомобиле не раньше, чем через два дня, а то и через три. Таким образом, время у него было.
В-четвертых, он понял, что в тот далекий день Дэлрой обернул против него его же собственный закон. Издавая этот закон, лорд Айвивуд резонно полагал, что кабаки исчезнут. Он делал именно то, что и полагается в таких случаях, – вывеска становилась привилегией, знаком касты. Если джентльмен хотел предаться богемной свободе, ему ничто не мешало. Если обычный человек хотел достойно выпить, путь был закрыт. Постепенно питейные заведения должны были стать диковинкой, как старый токай или вересковый мед. План был достоин государственного мужа. Но, подобно многим таким планам, он не учитывал того, что мертвое дерево может двигаться. Пока его перелетные враги втыкали вывеску где угодно, народ мог и радоваться, и негодовать, но главное – он волновался. Только одно было хуже, чем появление кабака, – его исчезновение.
Айвивуд понимал, что его же закон помогает им ускользать, ибо местные власти не решаются поднять руку на столь редкий, а потому столь весомый символ. Значит, закон надо изменить. Изменить сразу; изменить, если можно, прежде, чем беглецы покинут Миролюбец.
Еще он понимал, что сейчас четверг. По четвергам каждый член парламента может внести законопроект и провести его без диспута, если никто не возразит. Он понимал, что возражать не будут, поскольку Айвивуд внесет дополнение в свой собственный закон. Он понимал, наконец, что дополнения достаточно маленького. К закону (который он знал наизусть) нужно прибавить слова: «…если полиция не извещена за три дня». Парламент не станет отвергать и даже обсуждать такую мелочь. И мятеж «Старого корабля» будет подавлен, бывший король Итаки – побежден.
Как мы уже говорили, в лорде Айвивуде было что-то наполеоновское, ибо все это он придумал прежде, чем увидел большие сверкающие часы на башне и понял, что чуть не опоздал.
К несчастью, в это же самое время или чуть позже джентльмен того же ранга и того же рода вышел из кафе на Риджент-стрит, неспешно направился по Пикадилли к Уайтхоллу[77] и увидел тот же золотой, колдовской глаз на высокой башне.
Птичий Поэт, как многие эстеты, знал город не лучше, чем деревню, но он помнил, где можно поесть. Проходя мимо холодных каменных клубов, похожих на ассирийские усыпальницы, он припомнил, что состоит почти во всех. Завидев вдалеке высокое здание, которое ошибочно зовут лучшим клубом Лондона, он вспомнил, что состоит в нем. Он забыл, какой округ Южной Англии дал ему это право, но он мог войти туда, если захочет. Должно быть, он нашел бы иные слова, но он знал, что в странах, где царит олигархия, важны лица, а не законы, визитные карточки, а не избирательные бюллетени. Он давно не был здесь, поссорившись когда-то с прославленным патриотом, попавшим впоследствии в сумасшедший дом. Даже в самую глупую свою пору он не почитал политики и бестрепетно забывал о существах, принадлежащих к его партии или к партии его противников. Лишь однажды он произнес речь о гориллах и обнаружил, что выступил против своих. Мало кого тянет в парламент. Сам Айвивуд ходил туда лишь по крайней необходимости, как в этот день.
Лорд Айвивуд отказался от места в палате лордов, чтобы его избрали в палату общин, и принадлежал он к оппозиции. Как мы сказали, в парламенте он бывал редко, однако знал его хорошо и не направился в зал. Он проковылял в курительную (хотя не курил), спросил ненужную сигару и нужный листок бумаги и написал короткую, продуманную записку одному из членов кабинета, который, несомненно, был здесь. Отослав ее, он стал ждать.
Дориан Уимпол тоже ждал, облокотившись о парапет Вестминстерского моста и глядя на реку. Он сливался с устрицами в новом, более реальном смысле и жадно пил крепкий вегетарианский напиток, носящий высокое, звездное имя вечера. Душа его пребывала в мире со всем, даже с политикой. Наступил тот волшебный час, когда золотые и алые огни огоньками гномов загораются над рекою, но холодный, бледно-зеленый свет еще не исчез. Река вызывала в нем светлую печаль, которую два его соотечественника, Тернер[78] – в живописи, Генри Ньюболт[79] – в стихах, уподобили белому кораблю, обращающемуся в призрак. Он вернулся на землю, словно упал с луны, и оказался не только поэтом, но и патриотом; а патриот всегда немного печален. Однако к печали его примешивалась та стойкая, хотя и бессмысленная вера, которую даже в наши дни испытывает почти каждый англичанин, увидевший Вестминстер или собор святого Павла.
Пока священная река Течет, священная гора Стоит… –пробормотал он, словно припомнив, как заучивал в школе балладу[80],
Пока священная река Течет, священная гора Стоит, тупые гордецы, Велеречивые глупцы, Дивясь тому, как ловко лгут, Нередко собирают тут Свой шутовской синедрион И в душной комнате кричат, Где меньше окон, чем в аду. Дана им эта честь…Облегчив душу этим переложением Маколея, которое его ученые друзья назвали бы вольным, он направился к двери, через которую входят члены парламента, и вошел.
Не обладая опытом Айвивуда, он проник в зал и сел на зеленую скамью, предполагая, что заседания нет. Однако вскоре он различил человек семь-восемь и расслышал старческий голос с эссекским акцентом, говоривший на одной ноте, что мешает нам расставить знаки препинания:
– … не хотел бы чтобы это предложение неправильно поняли и потому постарался изложить ясно и не думаю что мой уважаемый противник укрепит свою репутацию если истолкует его неправильно и вправе сказать что если бы в столь важных вопросах он меньше спешил и не выдвигал таких смелых идей по поводу графитных карандашей сторонникам крайностей было бы труднее применить их к свинцовым карандашам хотя я ни в коей мере не хочу разжигать страстей и затрагивать личности я вынужден сказать что мой уважаемый противник делал именно это о чем несомненно сожалеет и я не хотел бы оскорблять кого-нибудь и уважаемый мистер спикер не допустит оскорблений но я вынужден прямо сказать моему уважаемому противнику что вопрос о колясках которым он меня попрекает тогда как я меньше чем кто бы то ни было…
Дориан Уимпол тихо поднялся, как вдруг увидел, что кто-то скользнул в зал и передал записку молодому человеку с тяжелыми веками, правившему в тот момент Англией. Человек этот встал и вышел. Дориана охватил, как написал бы он в юности, сладостный трепет надежды. Ему показалось, что в конце концов произойдет что-нибудь понятное; и он тоже вышел.
Одинокий и сонный правитель империи спустился в нижний этаж храма свободы и вошел в комнату, где, к своему удивлению, Уимпол увидел у маленького столика лорда Айвивуда с костылем, спокойного, как Джон Сильвер[81]. Человек с тяжелыми веками сел напротив него, и они поговорили, но Уимпол ничего не расслышал. Он прошел в соседнюю комнату, где заказал кофе и ликер, такой хороший, что он выпил несколько рюмок.
Сел он так, чтобы Айвивуд не мог незаметно пройти мимо, и терпеливо ждал, что будет. Странным ему казалось одно: время от времени все помещение оглашал звонок. Когда он звонил, лорд Айвивуд кивал, словно был к нему подключен. Когда же он кивал, молодой человек взбегал наверх, как горец, но скоро возвращался. На третий раз поэт подметил, что убегают и другие, из других комнат, и возвращаются помедленней, с сознанием хорошо выполненного долга. Однако он не знал, что долг этот зовется представительным правлением и что именно так крик Кэмберленда или Корнуолла доходит до слуха короля.
Вдруг сонный человек вскочил без звонка и снова убежал. Поэт поневоле услышал, что, записывая слова Айвивуда, он повторил: «Спиртные напитки нельзя продавать, если полиция не извещена за три дня». Проведем, конечно. Приходите через полчаса».
Сказавши так, он взбежал по лестнице. Когда Дориан увидел, как Айвивуд идет, опираясь на грубый костыль, он испытал те же чувства, что и Джоан. Вскочив из-за столика, он тронул его за локоть и произнес:
– Прости меня, Филип, я был с тобой груб. Право, мне очень жаль. Сосновый лес и камера не способствуют спокойствию, но ты в них не виноват. Не знал, что ты сегодня выйдешь, все ж нога… Побереги себя, Филип. Присядь на минутку.
Ему показалось, что холодное лицо Филипа стало мягче; так ли это, поймут лишь тогда, когда вообще поймут подобных людей. Как бы то ни было, он осторожно отцепил костыль и сел напротив кузена, а тот стукнул по столу, зазвеневшему, словно гонг, и кликнул лакея, как будто сидел в людном ресторане. Потом, прежде чем Айвивуд что-нибудь скажет, он заговорил:
– Я ужасно рад, что мы встретились. Наверное, ты произнесешь речь. Я очень хочу ее послушать. Мы не всегда соглашались, но теперь просто нечего читать, кроме твоих речей. Как это у тебя? «Смерть и железный звон дверей поражения». После Страффорда так никто не говорил. Разреши мне послушать. Кстати, я ведь тоже член парламента.
– Слушай, если хочешь, – поспешно ответил Айвивуд, – но речь будет короткой. – И он посмотрел на стену над головой Уимпола, сильно хмурясь. Ему было нужно, чтобы никто не выступил после его поправки.
Подошел слуга, которого очень удивили костыль и больной вид лорда Айвивуда. Тот наотрез отказался что-либо выпить, но кузен его спросил ликеру и снова заговорил:
– Наверное, это о кабаках. Я бы очень хотел послушать. Может быть, я и сам выступлю. Почти весь день и почти всю ночь я думал о них. Вот что я сказал бы на твоем месте: «Начнем с того, можете ли вы уничтожить кабак? Достаточно ли вы сильны? Худо ли это, хорошо ли, но почему вы запрещаете крестьянину пить пиво, если я пью шартрез?»
При слове «шартрез» слуга подбежал снова, но ничего не услышал или, точнее, услышал то, что его не касалось.
– «Вспомните того священника, – продолжал Дориан, рассеянно кивая, чтобы отпустить слугу. – Вспомните того священника, которого попросили сказать проповедь о трезвенности, и он начал словами: „Да не покроют нас воды потопа“. Не вам вызывать потоп. Вы запретите пиво! Вы отнимете у Кента хмель, у Девоншира – сидр! Судьба кабака решится в этой комнате! Берегитесь, как бы ваша судьба не решилась в кабаке. Берегитесь, не то англичане сядут судить вас, как судили многих. Берегитесь, не то единственным кабаком, от которого бегут, как от чумного, станет тот, где я сейчас пью, ибо хуже его нет и на большой дороге. Берегитесь, не то это место сравняется с тем, где матросы бьют девок». Вот что я сказал бы. – И он весело встал. – Вот что я скажу. Не вывеску «Старого кабака» сметут с земли, – пылко закричал он, по-видимому, лакею, – не вывеску, а вашу булаву!
Лорд Айвивуд с мертвенным спокойствием смотрел на него; новая мысль озарила его плодоносный ум. Он знал, что поэт возбужден, но не пьян, и может сказать речь, даже очень хорошую. Он знал, что любая речь, хорошая или плохая, разрушит его планы и даст кабаку возможность летать, где он хочет. Но он помнил, что бдение в лесу и старый ликер могут вызвать не опьянение, а нечто более естественное.
Дориан снова сел и провел рукой по лбу.
– Наверное, ты скоро будешь говорить, – сказал он, глядя на стол. – Пошли за мной. Я забыл, как тут что делается, и очень устал. Ты пошлешь?
– Да, – ответил лорд Айвивуд.
Молчание царило вокруг, пока он не прибавил:
– Дебаты очень важны, но в некоторых случаях они скорее мешают, чем помогают.
Ответа не было. Дориан все еще глядел на стол, но веки его опустились. Почти в тот же миг сонливый член кабинета появился в дверях и вяло махнул рукой.
Филип Айвивуд приладил костыль и посмотрел на Дориана. Потом он проковылял по комнате, оставив в ней спящего. Впрочем, оставил он не только спящего, но и незажженную сигару, и свою честь, и Англию своих предков – словом, все, что отличало дом над рекой от грязного кабака. Он поднялся наверх и ушел через двадцать минут. То была его единственная речь без тени красноречия. И с этого часа он стал фанатиком, чья пища – одно лишь будущее.
Глава 18 РЕСПУБЛИКА МИРОЛЮБИЯ
В деревушке, возле Уиндермира, а может – там, где жил Вордсворт[82], вы найдете домик, и в нем старичка. Пока что все естественно; вы познакомитесь с благодушным, даже шумным человеком преклонных лет, чье лицо похоже на яблоко, а борода подобна снегу. Он покажет вам своего отца, с бородой подлиннее, но тоже вполне бодрого. А потом они вместе покажут неофиту дивного дедушку, который прожил больше ста лет и очень этим гордится.
По-видимому, такими чудесами он обязан молоку. Старший из трех старичков охотно и подробно расскажет вам о молочном питании. Остальные его радости сводятся к арифметике. Некоторые считают свои годы с ужасом; он считает их с юношеским восторгом. Некоторые собирают монеты или марки; он собирает дни. Репортеры расспрашивали его о временах, которые он прожил, но ничего не почерпнули, кроме того, что он перешел на молоко примерно в том возрасте, когда все мы приобщаемся к другой пище. На вопрос, помнит ли он 1815 год, он отвечал, что именно тогда обнаружил целебные свойства особого молока, впоследствии названного горным. Его арифметическая вера не помогла бы ему понять вас, если бы вы сказали ему, что за морем, на большом лугу, недалеко от Брюсселя, его школьные товарищи обрели в том году любовь богов, умерев молодыми[83].
Конечно, этот бессмертный род обнаружил сам доктор Мидоус, и построил на нем свою философию питания, не говоря о домиках и молочных фермах Миролюбца. Философия эта привлекала многих из богатого, избранного круга – молодых людей, готовящихся к старости, старцев в зародыше. Мы преувеличим, если скажем, что они ждали первой седины, как ждал усов несравненный Фледжби[84]; но мы вправе сказать вам, что они презрели красоту женщин, дружеские пиры и славную смерть на поле брани ради призрачных радостей второго детства.
Миролюбец был, как теперь говорится, городом-садом. В кольцо молочных ферм и каких-то мастерских вписывалось кольцо хорошеньких домиков, и все это располагалось на лоне природы. Без сомнения, такая жизнь полезней, чем фабрики и дома наших городов, и отчасти поэтому, главным же образом – из-за горного молока, д-р Мидоус и его питомцы выглядели неплохо. Деревня лежала в стороне от больших дорог, ничто не мешало обитателям наслаждаться тишиной небес, прохладой лесов и методами д-ра Мидоуса, пока в самую середину Миролюбца не въехал однажды маленький грязный автомобиль. Остановился он у треугольного островка травы, и два человека в больших очках, один – высокий, другой – низенький, встали на этот островок, как клоуны на арену; что недалеко от истины.
Прежде чем въехать в деревню, люди эти остановились у ручейка, водопадом спадавшего в речку. Там они сняли куртки, поели хлеба, купленного в Уиддингтоне, и запили его водой из реки, которая текла к Миролюбцу.
– Я что-то пристрастился к воде, – сказал высокий рыцарь. – Раньше я ее боялся. В теории ее нужно давать только тем, кто упал в обморок. Она полезней им, чем бренди, да и стоит ли тратить бренди на людей, упавших в обморок? Теперь я не так строг. Я не думаю больше, что воду надо отпускать по рецепту. Юность сурова, невинность нетерпима. Я полагал, что, поддавшись искушению, стану запойным пьяницей. Но теперь я вижу, чем хороша вода. Как приятно ее пить, когда мучает жажда! Как весело она журчит и сверкает! Да она совсем живая. Собственно говоря, после вина это лучший напиток.
Хмель хорош для перепоя,[*] А водица – для поста; Божий дар нам – эти двое: Он – могуч, она – чиста. Всякий вид питья иного, Пусть хоть с неба послан он, Не сказав худого слова, Дружно выплесните вон! Чай, к примеру, – гость восточный, Желтолицый мандарин; Он, надменный и порочный, Наших женщин властелин: Семенят они оравой За его косицей вслед, И, как весь Восток лукавый, Если крепок – он во вред. Чай, хотя и чужестранец, Как-никак аристократ; Что касается Какао – Тот наглее во сто крат: И слащав он, и вульгарен, Проходимец он и плут, – Пусть же будет благодарен, Что его еще и пьют! А поток шипучей, жгучей, Минеральной чепухи Пал на нас, как гром из тучи, Как возмездье за грехи: Опозорили пьянчуги Имя доброе Вина – И за то теперь на муки Газировка нам дана.Честное слово, вкусная вода. Какого же она урожая? – Он задумчиво почмокал. – По всей вероятности, тысяча восемьсот восемьдесят первый год.
– Вообразить можно что угодно, – сказал рыцарь пониже. – Мистер Джек, он любил шутить, подавал иногда воду в ликерных рюмках. Все хвалили, кроме старого адмирала Гаффина, который заметил, что ликер отдает маслинами. Но для нашей игры вода подходит лучше всего.
Патрик кивнул; потом сказал:
– Не знаю, смог ли бы я ее пить, если бы не утешался, глядя на это. – И он стукнул по бочонку. – Когда-нибудь мы еще попируем. Похоже на сказку, словно я таскаю сокровище или сосуд с расплавленным золотом. И потом, мы можем развлекать людей… Какую же это шутку я придумал утром? А, вспомнил! Где эта жестянка с молоком?
Следующие двадцать минут он усердно возился с жестянкой и бочонком, а Пэмп смотрел на него не без тревоги. Потом капитан поднял голову, сдвинул рыжие брови и спросил:
– Что это?
– О чем ты говоришь? – не понял его спутник.
– Об этом, – отвечал Дэлрой, указывая на человека, идущего по дороге, вдоль реки.
У человека была довольно длинная борода, очень длинные волосы, ниже плеч, и серьезный, упорный взор. Одежду его неопытный Пэмп принял за ночную рубашку, но позже узнал, что это – туника из козьей шерсти, в которой нет ни волоска столь пагубной овечьей. Быстро ступая босыми ногами, он дошел до излучины, резко повернулся, словно сделал дело, и направился вновь к образцовой деревне Миролюбец.
– Наверное, он из этой молочной обители, – незлобиво сказал Хэмфри Пэмп. – Они, я слышал, не в себе.
– Это бы ничего, – сказал Дэлрой. – Я и сам иногда схожу с ума. У сумасшедших есть хорошее свойство, последняя их связь с Богом: они логичны. Что же общего между молоком и длинными волосами? Почти все мы питаемся одним молоком, когда у нас нет волос. Прикинем так: «Молоко – вода – бритье – волосы».
Или так: «Молоко – добродетель – злодейство – узник – волосы»… А чем связаны излишек волос и недостаток обуви? Подумаем. Может быть: «Волосы – борода – устрица – пляж – босые ноги»? Человеку свойственно ошибаться, особенно когда любую ошибку называют теорией, но почему все эти кретины живут вместе?
– Так уж всегда бывает, – сказал Хэмфри. – Ты бы посмотрел, что творилось в Крэмптоне, на этих образцовых фермах. Я все пойму, капитан, но зачем топить гостей в навозе? – Он виновато кашлянул. – Это нехорошо.
Продолжить ему не удалось, ибо он видел, что друг его складывает на сиденье жестянку и бочонок, а потом садится сам.
– Вези меня! – сказал Дэлрой. – Вези меня туда, к ним. Сам понимаешь.
Прежде чем доехать до центра деревни, они остановились еще раз. Следуя за волосатым человеком в козьей тунике, они увидели, что он вошел в домик на окраине и, к их великой радости, немедленно вышел, сделав свое дело с невиданной быстротой. Однако, присмотревшись, они установили, что это другой человек, в точности похожий на первого. Пронаблюдав несколько минут, они поняли, что домик непрестанно посещают члены молочно-козьей секты в своих незапятнанных одеждах.
– Наверное, это их храм, – предложил Патрик. – Тут они приносят в жертву стакан молока. В общем, я знаю, что мне делать. Только подождем, пока они успокоятся, очень уж мелькают.
Когда последний из волосатых исчез на дороге, Патрик выскочил из автомобиля, яростно вонзил в землю шест и тихо постучался в двери.
Двое длинноволосых, босых идеалистов поспешно попрощались с хозяином, на удивление плохо подходившим к отведенной ему роли.
Оба, и Пэмп, и Дэлрой, никогда не видели такого угрюмого человека. Багрянец его лица говорил не о веселье, а о несварении мозга. Темные усы уныло повисли, темные брови хмурились. Патрик подумал, что такие лица бывают у обездоленных пленников, но никак не вяжутся с учеными совершенствами Миролюбца. Все это было тем удивительнее, что он явно процветал. И хорошо скроенный пиджак, и просторная комната о том свидетельствовали.
Но удивительнее всего было, что он не проявлял удивления, приличествующего джентльмену, в чей дом заходят чужие. Скорее можно сказать, что он чего-то ждал. Пока Дэлрой просил прощения и вежливо справлялся о расположении деревни, глаза хозяина, напоминавшие вареный крыжовник, глядели на гостей, на шкаф и на окно. Наконец он встал и посмотрел на дорогу.
– Да, сэр, очень здоровое место, – сказал он, глядя сквозь решетку. – Очень здоровое… черт, что им нужно?.. В высшей степени. Конечно, есть свои странности…
– Пьют одно молоко? – спросил Дэлрой.
Хозяин неприветливо посмотрел на него, проворчал:
– Так они говорят…
И снова обернулся к окну.
– Я его купил, – сказал Патрик, поглаживая любимую жестянку, которую он держал под мышкой, словно не в силах расстаться с изобретением Мидоуса. – Хотите стаканчик?
Вареные глаза увеличились от злобы или от другого чувства.
– Что вам нужно? – зарычал хозяин. – Вы кто, сыщики?
– Мы распространяем горное молоко, – отвечал капитан с невинной гордостью. – Не желаете?
Растерянный хозяин взял стаканчик безупречной жидкости и отпил. Лицо его преобразилось.
– А, черт меня побери! – сказал он, широко улыбаясь. – Вот так штука. Забавник вы, я погляжу. – Он снова беспокойно огляделся.
– Что-то я не совсем понимаю, – сказал Патрик. – Мне казалось, по нынешнему закону с вывеской пить можно, а без вывески нельзя.
– По закону! – с неописуемым презрением сказал хозяин. – Эти несчастные скоты не боятся закона, они боятся доктора.
– Боятся доктора? – простодушно переспросил Дэлрой. – А я слышал, что Миролюбец – самоуправляющаяся республика.
– Какая там к черту республика! – отвечал хозяин. – Ему принадлежат эти дома, он может всех выгнать на мороз. И налог платит он. Они без него перемрут через месяц. Закон, еще чего! – И он фыркнул.
Потом, поставив локти на стол, объяснил подробнее:
– Я пивовар, у меня была большая пивоварня. Во всей округе только два кабака были не мои, но у них отобрали разрешение. Десять лет назад вы могли увидеть по всему графству мои вывески, «Пиво Хэгби». Потом пришли эти чертовы радикалы, и лорд Айвивуд им поддался, и разрешил доктору скупить землю, и запретил все кабаки. Пиво продавать нельзя, чтобы он продавал молоко. Спасибо хоть я торгую понемножку. Конечно, доходы не те, очень боятся доктора. Он, гадюка, все вынюхает!
И хорошо одетый хозяин сплюнул на ковер.
– Я сам радикал, – довольно сухо сказал ирландец. – Насчет консерваторов обращайтесь к моему другу Пэмпу, он посвящен в их глубочайшие тайны. Но что радикального в том, чтобы есть и пить по указке сумасшедшего только потому, что он миллионер? Ах, свобода, свобода! Какие сложные и даже низкие вещи творятся во имя твое! Лучше бы дали пинка старому кретину! Ботинок нет? Вот почему им не дают обуться! Тогда скатите его вниз по лестнице, он будет только рад.
– Как тебе сказать… – задумчиво проговорил Пэмп. – Тетушка мастера Кристиана так и сделала, но женщина – это женщина, сам понимаешь.
– Вот что! – вскричал возбужденный Дэлрой. – Созовете вы их, если я воткну вывеску? Поможете мне? Закона мы не нарушим и драки не будет. Поставьте вывеску и торгуйте. Войдете в историю как освободитель.
Бывший владелец пивоварни угрюмо смотрел на стол. Он был не из тех пьяниц и не из тех кабатчиков, в ком легко пробудить мятежные чувства.
– Ну, – сказал капитан, – пойдете вы со мной? Будете говорить: «Слушайте, слушайте!», «Сущая правда!», «Какое красноречие!»? Едемте, в автомобиле место найдется.
– Хорошо, я пойду, – мрачно отвечал Хэгби. – Раз у вас есть разрешение, можем опять торговать, – и, надев цилиндр, пошел к автомобилю вслед за капитаном и кабатчиком. Образцовая деревня была неудачным фоном для цилиндра. Более того, именно цилиндр выявил особенно четко всю ее странность.
Стояло прекрасное утро. С рассвета прошло несколько часов, но край небес, касавшийся леса и холмов, еще украшали призрачные облачка, розовые, зеленые и желтые. Однако над ними небо становилось бирюзовым, а выше – сверкало синевою, в которой сталкивались огромные кучевые облака, словно ангелы кидались подушками. Домики были белыми, и потому казалось (употребим еще один образ), что именно они сгрудились теперь в небе. Правда, на домиках там и сям виднелся яркий мазок, как бы нанесенный кистью великаньего дитяти, где оранжевый, где лимонный. Крыты они были не соломой, а сине-зеленой черепицей, купленной за сходную цену на выставке прерафаэлитов, и, несколько реже, еще более изысканной терракотовой плиткой. Домики не были ни английскими, ни уютными, ни уместными, ибо их создали не свободные люди, строящие для себя, а причуды спятившего лорда. Но если рассматривать их как селение эльфов, они могли считаться хорошей декорацией для действий, достойных пантомимы.
Боюсь, что действия капитана были ее достойны. Начнем с того, что вывеску, ром и сыр он оставил в автомобиле, но скинул куртку и стоял на островке травы в косматой, как трава, форме. Еще косматей были его волосы, которые мы не можем сравнить и с алыми восточными джунглями. Почти важно вынул он большую жестянку, с благоговением опустил на островок и встал рядом с нею, серьезный, даже строгий, словно Наполеон рядом с пушкой. Потом он вынул шпагу и заколотил по металлу сверкающим лезвием, отчего оглушенный мистер Хэгби выскочил из автомобиля и отбежал, заткнув уши. Пэмп остался за рулем, хорошо понимая, что уезжать придется быстро.
– Собирайся, собирайся, собирайся, Миролюбец! – орал Патрик, с трудом приспосабливая «Зов Макгрегора» к своему инструменту. – Ты беден, беден, беден, Миролюбец!
Два или три козла узнали мистера Хэгби, виновато потупились и осторожно подошли поближе; а капитан заорал, словно перед ним была армия:
– Друзья и сограждане! Отведайте настоящего, неподдельного горного молока, за которым Магомет пошел к горе! Прямо из страны, где реки текут молоком и медом, что было бы довольно противно, если бы не его качества! Отведайте нашего молока! Все другие – подделка! Кто проживет без молока? Даже кит не проживет. Если у кого-нибудь есть ручной кит, пришел его час! Только взгляните! Вы скажете, что на него не взглянешь, ибо оно в банке, – так смотрите на банку! Это ваш долг! Когда долг шепчет: «Сделай!», – взревел он, – сердце отвечает: «Сейчас». А где долг, там и банки, банки, банннки! – И он ударил по банке с такой силой, что вся округа зазвенела.
Речь эта доступна критике, если вы сочтете ее предназначенной для изучения, а не для сцены. Летописец (чья цель – истина) вынужден сообщить, что успеха она достигла, поскольку граждан Миролюбца привлек голос человека, орущего, как целое племя. Есть толпы, которые не хотят восстать, но нет толпы, которая бы не хотела, чтобы кто-нибудь восстал вместо нее; это необходимо помнить самым благополучным олигархам.
Но успех достиг апогея, как ни прискорбно, когда Дэлрой угостил добровольцев своим несравненным напитком. Одни окаменели. Другие согнулись от хохота. Кто-то чмокал. Кто-то кричал. И все глядели сияющим взором на удивительного проповедника.
Однако сияние угасло по той причине, что к ним присоединился старичок, маленький старичок в белом полотняном костюме, с белой бородкой и белым, как одуванчик, пухом на голове. Каждый из собравшихся мог бы убить его левой рукой.
Глава 19 ГОСТЕПРИИМНЫЙ КАПИТАН
Доктор Мидоус (мы не знаем, точно ли так он звался у себя на родине) увидел свет в немецком городке, и две его первые книги были написаны по-немецки. Они же остались лучшими; ибо он питал тогда искреннюю любовь к естественным наукам, и ее портила лишь ненависть к тому, что он звал суеверием, а многие из нас считают душой человеческих сообществ. Первый пыл особенно сильно проявился в первой книге, где усатость некоторых женщин сопоставлялась с их высоким умственным развитием. Во второй книге он ближе подошел к суевериям и доказал всем, кто ему поверил, что прогресс движется все быстрее, а миф о Христе объясняется алкогольным слабоумием. Потом, к несчастью, он заметил установление, именуемое смертью, и вступил с ним в спор. Не находя разумного объяснения столь нелепому обычаю, он пришел к выводу, что виной тому традиция (слово это означало для него «предрассудок»), и думал лишь об одном – как ее обойти. Это сузило его кругозор; он утратил большую часть горького пыла, смягчавшего атеизм его молодости, когда он был готов покончить с собой, лишь бы оскорбить Бога, которого нет. Идеализм его становился все более материальным. Он непрестанно менял гипотезы и теории, отыскивая самую здоровую пищу. Не буду утомлять читателя рассказом о масляном периоде; период морской травы всесторонне освещен в ценной работе профессора Нима; на перипетиях же поры, посвященной клею, останавливаться жестоко. Приехав в Англию, он нашел долговечных млекопийцев и основал на них теорию, поначалу – искреннюю. К несчастью, она оказалась и выгодной. Горное молоко, открытое им, приносило большие доходы, и доктора охватил еще один пыл, который нередко приходит к старости и сильно сужает кругозор.
Естественно удивившись действиям Патрика Дэлроя, он не утратил достоинства, хотя и вознегодовал, ибо не привык, чтобы в этом краю обходились без него. Сперва он сурово предположил, что капитан украл жестянку на ферме, и послал работников все пересчитать; но Дэлрой его быстро успокоил.
– Я купил ее в Уиддингтоне, – сказал он, – и с тех пор не пью ничего другого. Вы не поверите, – прибавил он (и был прав), – но я вошел в лавку совсем хилым, выпил горного молока, и вот, пожалуйста.
– Вы не имеете права торговать моим молоком, – сказал доктор Мидоус с едва заметным акцентом. – Вы у меня не служите. Я за вас не отвечаю. Я вас не посылал.
– Я – ваша реклама, – сказал капитан. – Мы рекламируем вас по всей Англии. Посмотрите на этого тощего, слабого субъекта. – Он указал на сердитого Пэмпа. – Таков человек до употребления горного молока. А я – после, – с удовлетворением закончил он.
– Вы посмеетесь в суде, – сказал доктор; акцент его усилился.
– С удовольствием, – согласился Патрик. – Нахохочусь вволю. Видите ли, это не ваше молоко. У него совсем другой вкус. Достопочтенные джентльмены подтвердят, что я не лгу.
Подавленные смешки разъярили гордого собственника.
– Если вы украли мою жестянку, вы вор, – сказал он. – Если вы что-то добавили, вы подделыцик, то есть…
– Попробуйте «подделыватель», – сказал добродушный Дэлрой. – Принц Альберт всегда говорил: «Изготовитель подделок». Старый добрый Альберт! Прямо как вчера… Однако уже настал сегодняшний день, и мы ясно видим, что молоко мое отличается от вашего. Я не могу описать вам его вкус (подавленные смешки). Это нечто среднее между вкусом вашего первого леденца и вкусом отцовского окурка. Мое молоко невинно, как небо, и горячо, как преисподняя. Оно парадоксально. Оно отдает доисторической непоследовательностью – надеюсь, все меня поняли? Те, кто пьет его особенно часто, проще всех на свете, и оно напоминает им о соли, поскольку сделано из сахара. Выпейте!
Щедрым жестом гостеприимного хозяина он протянул доктору стаканчик. Властное любопытство пересилило в душе немецкого врача даже его властную гордыню. Он отпил; и глаза его полезли на лоб.
– Вы что-то подмешали к молоку, – наконец проговорил он.
– Да, – отвечал Дэлрой, – и вы тоже, иначе бы вы были мошенником. Почему ваше молоко отличается от всякого другого? Почему стакан стоит три пенса, а не пенни? Значит, вы подмешали чего-то на два пенса. Вот что, доктор. Химик, которому я поручу анализ, человек честный. Я знаю двадцать пять с половиной честных химиков. Давайте поладим на том, что он проверит ваше молоко для меня, а мое – для вас. Что-нибудь вы прибавляете, иначе зачем вам все эти колеса и насосы? Скажите мне, прошу вас, почему ваше молоко такое горное!
Они долго молчали, толпа подавляла смех. Вдруг филантроп разъярился и, тряся кулаками (ни один из этих англичан не видел такого жеста), закричал:
– А, я понял, что вы подмешали! Это алкоголь! Вывески у вас нет, так что посмеетесь в суде!
Дэлрой поклонился и пошел к автомобилю, где развернул и вынул волшебный шест с вывеской, на которой были нарисованы синий парусник и алый Георгиевский крест. Воткнув ее в островок травы, он спокойно огляделся.
– Вот мой кабак, – сказал он. – Я готов смеяться в любом суде. Кабак просторен и чист. Потолок высок, окна повсюду, кроме низа. Поскольку я слышал, что пить без еды вредно, у меня, дорогой доктор, есть и сыр. Попробуйте, вы станете другим человеком! Во всяком случае, мы на это надеемся.
Доктор Мидоус страдал теперь не только от гнева. Вывеска сильно смутила его. Как многие скептики, даже искренние, он почитал закон. Он очень боялся (и не просто боялся, было тут что-то лучшее), что его признают виновным в суде или в полиции. Кроме того, его терзало то, что всегда терзает таких людей в Англии: он не был вполне уверен, что законно, а что нет. Помнил он только, что лорд Айвивуд, вводя и отстаивая свой акт, особенно подчеркивал силу вывески. Быть может, если с ней не считаться, наживешь неприятности или попадешь в тюрьму при всех своих деловых успехах. Конечно, он понимал, что нетрудно ответить на эту чушь; что лоскуток травы при дороге – не кабак; что вывески не было, когда капитан стал разливать ром. Но понимал он и другое: в несчастном английском законе все это не важно. Он слышал не раз, как такие же очевидные истины тщетно сообщали судье. Он знал в глубине души, что Айвивуд его создал, но не знал, на чьей стороне этот могучий лорд.
– Капитан, – сказал Хэмфри Пэмп, впервые вставивший слово, – пора нам уезжать, я что-то чую.
– Негостеприимный кабатчик! – гневно вскричал капитан. – А я для тебя старался! Пойми, заря мира восходит над Миролюбцем. Я надеюсь, доктор Мидоус выпьет еще стаканчик. Угощает брат Хэгби.
Говоря так, он щедро разливал ром, а доктор все еще слишком боялся наших юридических хитросплетений, чтобы вмешаться. Но когда мистер Хэгби, пивовар, услышал свое имя, он подскочил, отчего цилиндр его съехал набок, потом встал тихо, потом принял стакан молока из рук капитана, и лицо его заговорило прежде него.
– Сюда едет автомобиль, – тихо сказал Хэмфри. – Он будет у мостика через десять минут и въедет вот оттуда.
– По-моему, – нетерпеливо сказал капитан, – ты и раньше видел автомобили.
– Здесь их не было все утро, – отвечал Пэмп.
– Уважаемый председатель, – сказал Хэгби, вспомнив былые банкеты, – я уверен, что все мы соблюдаем закон и ценим дружбу, особенно с нашим дорогим доктором. Но поскольку наш друг с вывеской в своем праве, пришло время, я бы так выразился, взглянуть на все шире. Действительно, грязные кабаки приносят большой вред, темные люди пьют там по-свински, и дорогой наш доктор прав, что очистил от них эти места. Но хорошо поставленное дело с большим капиталом – совсем другая штука. Все вы знаете, чем я занимался, хотя теперь, конечно, это бросил. – Козлы виновато посмотрели на свои копыта. – Но кое-что я подкопил и охотно внесу свой вклад в «Старый корабль», если наш друг позволит повести торговлю, как я это понимаю. Особенно если он немного расширит помещение. Ха-ха! Наш дорогой доктор…
– Мерзавец! – взревел Мидоус. – Я тебе не дорогой! Ты у меня попляшешь в суде!
– Это не деловой разговор, – рассудительно отвечал пивовар. – Вам убытка не будет. У меня один потребитель, у вас другой. Поговорим как делец с дельцом.
– Я не делец! – гневно вскричал ученый. – Я слуга человечества!
– Почему же, – спросил Дэлрой, – вы не слушаетесь вашего хозяина?
– Автомобиль переехал реку, – сказал Хэмфри Пэмп.
– Вы губите мои труды! – с искренней страстью воскликнул доктор. – Я построил эту деревню, я слежу за ее здоровьем, я встаю раньше всех, пекусь о людях, а вы все губите, чтобы продавать ваше гнусное пиво! И еще зовете меня дорогим! Я вам не друг!
– Дело ваше, – проворчал Хэгби. – Но если зашел разговор, вы же сами продаете…
Рядом остановился автомобиль, вздымая облако белой пыли, и шестеро запыленных мужчин вышли из него. Очки и куртки не скрыли от Пэмпа особую повадку полицейских. Единственным исключением был длинный, тощий человек, который, сняв шлем, оказался Дж. Ливсоном. Он подошел к невысокому старому миллионеру; тот сразу узнал его и пожал ему руку, и они посовещались, глядя в какие-то бумаги. Потом доктор Мидоус откашлялся и сказал толпе:
– Я рад сообщить, что эти нелепые планы запоздали. Лорд Айвивуд, со свойственной ему быстротой действий, передает во все важные места, в том числе – в это, необычайно справедливую поправку, которая как раз подходит к случаю.
– Мы будем ночевать в тюрьме, – сказал Хэмфри Пэмп. – Я это чуял.
– Достаточно того, – продолжал миллионер, – что теперь подлежит тюремному заключению всякий, кто продает спиртные напитки, не известив полицию за три дня. Вывеска ему не поможет.
– Я знал, что этим кончится, – пробормотал Пэмп. – Сдаемся, капитан, или попробуем убежать?
Даже наглость Дэлроя на мгновение утихла. Он растерянно смотрел в бездну неба, словно, подобно Шелли, ожидал вдохновения от чистых облаков и совершенных красок.
Наконец он мягко и задумчиво произнес одно слово:
– Продает!..
Пэмп зорко взглянул на него, и мрачное лицо его преобразилось. Но доктор был слишком упоен победой и ничего не понял.
– Да, именно продает, – повторил он, размахивая синим, длинным листком парламентского акта. – Точные слова.
– В данном случае они не точны, – вежливо и равнодушно сказал капитан Дэлрой. – Я ничего не продавал, я раздавал. Платил мне кто-нибудь? Видел кто-нибудь, чтобы другие платили? Я – филантроп, как доктор Мидоус. Я его образ и подобие.
Мистер Ливсон и доктор Мидоус посмотрели друг на друга. Первый был растерян, ко второму вернулись прежние страхи.
– Я останусь здесь на несколько недель, – продолжал капитан, изящно облокотившись о жестянку, – и буду раздавать даром мой дивный напиток всем желающим. Насколько я понял, таких напитков здесь нет. Я уверен, что никто не воспротивится столь законным и высоконравственным действиям.
Тут он ошибся, ибо кое-кто воспротивился. То был не одержимый филантроп, и даже не темноволосый секретарь, выражавший протест молчаливо. Новый вид благотворительности особенно рассердил бывшего пивовара. Крыжовенные глаза чуть не вылезли из орбит, и слова сорвались с уст раньше, чем он подумал, стоит ли их произносить:
– Клоун проклятый! Так я и дам загубить мое дело…
Старый Мидоус обернулся к нему проворно, как змея.
– Какое же у вас дело, мистер Хэгби? – спросил он.
Пивовар задохнулся и чуть не лопнул от злости. Козлы смотрели в землю, как и подобает, по мнению римского поэта, низшим животным. Человек, то есть Патрик Дэлрой, если вольно продолжить цитату, смотрел в родные небеса.
– Я одно скажу, – прорычал Хэгби. – Раз уж полиция не может забрать двух грязных оборванцев, значит – конец. Какого черта я плачу налог…
– Да, – сказал Дэлрой, и голос его опустился, как топор. – Теперь вам конец, слава Богу. Это из-за таких, как вы, от кабаков разило отравой, и даже порядочные люди перестали туда ходить. Вы хуже трезвенника, ибо вы искалечили то, чего он не знает. Что же до вас, великий ученый и филантроп, идеалист и гонитель кабаков, разрешите сообщить вам один научный факт. Вас не уважают. Вас боятся. С чего бы мне и им уважать вас? Да, вы построили это селенье и встаете рано. Стоит ли уважать вас за разборчивость в пище и за то, что ваш бедный старый желудок долговечней, чем сердца хороших людей? Вам ли быть божеством этой долины, если бог ваш – чрево, и вы даже не любите, а боитесь его? Идите, помолитесь ибо все мы умрем. Почитайте Писание, как читали в своем немецком доме, когда и вы искали там истины, а не ошибок. Боюсь, сам я нечасто его читаю, но кое-что помню в добром старом переводе Маллигена и этими словами напутствую вас. «Если Господь не созиждет дома, – и он так широко и так естественно взмахнул рукой, что деревья стали на мгновение пестрой картонной игрушкой у ног великана, – если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж»[85]. Попробуйте понять, что это значит, забыв об ученых спорах. А нам с тобою, Хэмп, пора ехать. Я устал от зеленой черепицы. Эй, лейте полней! – И он швырнул бочонок на сиденье. – Эй, лейте полней, наливайте полней! – И он швырнул жестянку.
Сзывайте людей и седлайте коней! [*] А парнокопытных да сгложет тоска Без горного, без моего молока!Песня эта замерла вдали вместе с Дэлроем и мотором. Путники были вне преследования, когда решили отдохнуть. Здесь еще текла прекрасная река; и Патрик попросил остановиться у пышного папоротника, нарядных берез и сверкающей воды.
– Я одного не понял, – сказал Хэмфри Пэмп. – Почему он так испугался химика? Какой яд он подмешивает?
– H2О, – ответил капитан. – Я больше люблю его без молока.
И он наклонился к реке, как наклонялся на рассвете.
Глава 20 ТУРОК И ФУТУРИСТЫ
Мистер Адриан Крук был преуспевающим аптекарем, и аптека его находилась в фешенебельном квартале, но лицо выражало больше того, чего ожидают от преуспевающего аптекаря. Лицо было странное, не по возрасту древнее, похожее на пергамент, и при всем этом умное, тонкое, решительное. Умной была и речь, когда он нарушал молчание, ибо он много повидал и много мог порассказать о странных и даже страшных секретах своего ремесла, так что собеседник видел, как курятся восточные зелья, и узнавал состав ядов, которые приготовляли аптекари Возрождения. Нечего и говорить, что сам он пользовался прекрасной репутацией, иначе к его услугам не прибегали бы такие почтенные и знатные семьи; но ему нравилось погружаться мыслью в те дни и страны, где фармакопея граничит с магией, если не с преступлением. Поэтому случалось, что люди, убежденные в его невинности и пользе, уходили от него в туман и тьму, наслушавшись рассказов о гашише и отравленных розах, и никак не могли побороть ощущения, что алые и желтые шары, мерцающие в окнах аптеки, наполнены кровью и серой, а в ней самой пахнет колдовством.
Без сомнения, ради таких бесед и зашел к нему мистер Гиббс, если не считать скляночки подкрепляющего снадобья. Ливсон увидел друга в окно, а тот немало удивился, даже растерялся, когда темноволосый секретарь вошел и тоже спросил скляночку, хотя он и впрямь глядел устало и нуждался в подкреплении.
– Вас не было в городе? – спросил Ливсон. – Да, нам не везет. Опять то же самое, ушли. Полиция не решилась схватить их. Даже старик Мидоус испугался, что это незаконно. Надоело, честное слово! Куда вы идете?
– Собираюсь зайти на выставку постфутуристов, – сказал Гиббс. – Там должен быть лорд Айвивуд, он показывает картины пророку. Я не считаю себя знатоком, но слышал, что они удачны.
Оба помолчали, потом Ливсон сказал:
– Новое всегда ругают.
Они помолчали еще, и высказался Гиббс:
– В конце концов, ругали даже Уистлера[86].
Ободренный ритуалом, Ливсон вспомнил про аптекаря и резво спросил:
– Наверное, и у вас то же самое? Ваших великих коллег не понимали в свое время?
– Возьмите хотя бы Борджиа[87], – сказал Крук. – Их терпеть не могли.
– Вы все шутите, – обиделся Ливсон. – Что ж, до свиданья. Идете, Гиббс?
И оба, в цилиндрах и во фраках, направились дальше по улице. Сияло солнце, как сияло оно вчера над белой обителью миролюбия, и было приятно идти вдоль красивых домов и мимо тонких деревьев, глядящихся в реку. Картины нашли пристанище в маленькой, но знаменитой галерее, а галерея располагалась в довольно причудливом здании, откуда спускались ступени к самой Темзе. По сторонам пестрели клумбы, а наверху, перед византийским входом, стоял небезызвестный Мисисра в пышных одеждах и широко улыбался. Но даже этот восточный цветок не ободрил печального Ливсона.
– Вы пришли посмотреть декорации? – спросил сияющий пророк. – Они хороши. Я их одобрил.
– Мы пришли посмотреть картины постфутуристов, – начал Гиббс; но Ливсон молчал.
– Здесь нет картин, – просто сказал турок. – Я бы их не одобрил. Картина – идол, друзья мои. Смотрите. – И он, обернувшись, торжественно указал куда-то вглубь. – Смотрите, там нет картин. Я все разглядел и все принял. Ни одного человека. Ни одного зверя. Никакого вреда; декорации красивы, как лучшие ковры. Лорд Айвивуд очень рад, ибо я сказал ему, что ислам про-грес-сирует. Раньше у нас разрешали изображать растения. Я их искал. Здесь их нет.
Гиббс, тактичный по профессии, счел неудобным, чтобы прославленный Мисисра вещал с высоких ступеней улице и реке, и вежливо предложил пройти в залы. Пророк и секретарь последовали за ним и попали в первый зал, где находился Айвивуд. Он был единственной статуей, которой разрешали поклоняться новые мусульмане.
На софе, подобной пурпурному острову, сидела леди Энид и оживленно беседовала с Дорианом, стараясь предотвратить семейную ссору, неизбежную после случая в парламенте. По следующей зале бродила леди Джоан Брет. Мы не вправе сказать, что она смиренно или пытливо вглядывалась в картины, но, дабы не обижать всуе постфутуристов, сообщим, что ее точно так же утомлял пол, по которому она ступала, и зонтик, который она держала в руке. И сзади, и спереди, и сбоку медленно плыли люди ее круга. Это очень маленький круг, но он достаточно велик и достаточно мал, чтобы править страной, утратившей веру. Он суетен, как толпа, и замкнут, как тайное общество.
Ливсон немедленно подошел к лорду Айвивуду, вынул бумаги из кармана и рассказал, как преступники покинули Миролюбец. Лицо Айвивуда почти не изменилось: он был выше некоторых вещей (или считал, что выше) и мог бранить слугу только при слугах. Оно по-прежнему напоминало мрамор.
– Я постарался узнать, куда они поехали, – сказал секретарь. – Как это ни прискорбно, они направились в Лондон.
– Очень хорошо, – ответила статуя. – Здесь их легче поймать.
Приведя множество доводов (к сожалению, ложных), леди Энид предотвратила скандал. Но она плохо знала мужчин, если думала, что поэт не испытывает глубокой ярости. С тех пор как мистер Гиббс велел арестовать его, целых четыре дня чувства и мысли Дориана Уимпола развивались в направлении, противоположном идеалам тактичного журналиста, чье неожиданное появление сильно ускорило процесс. С Гиббсом поэт знаком не был и оскорбить его не мог; не мог оскорбить и кузена, с которым только что помирился, но кого-то оскорбить был непременно должен. Почитатели нового искусства будут огорчены, узнав, что гнев его обрушился на новую школу живописи. Тщетно повторял Ливсон: «Новое всегда ругают». Тщетно повторял Гиббс: «Ругали даже Уистлера». Избитые фразы не могли утишить бурю Дорианова гнева.
– Этот турок умнее тебя, – говорил он Айвивуду. – Он считает, что это хорошие обои. Я бы сказал, плохие обои, от них сильно мутит. Но это не картины. С таким же успехом можешь назвать их креслами партера. Партер – не партер, если нет сцены. Сидеть можно и дома, даже удобнее. И ходить дома удобнее, чем здесь. Выставка – это выставка, если там что-то выставлено. Ну, покажи мне что-нибудь.
– Пожалуйста, – благодушно согласился лорд Айвивуд, подводя его к стене. – Вот «Портрет старухи».
– Который? – спросил упорный Дориан.
Гиббс поспешил помочь, но, к несчастью, показал на «Дождь в Аппенинах», что усилило гнев поэта. Возможно (как Гиббс потом объяснял), что Дориан толкнул его локтем. Во всяком случае, журналист, потрясенный своей ошибкой, удалился в буфет, где съел три пирожка с омаром, а также выпил того самого шампанского, которое некогда принесло ему столь тяжкий вред. Однако на сей раз он ограничился одним бокалом и вернулся с достоинством.
Вернувшись, он обнаружил, что Дориан Уимпол, забыв о месте, времени и гордости, спорит с лордом Айвивудом, как спорил с Патриком в лунном лесу. Айвивуд тоже разволновался, его холодные глаза сверкали, ибо он знал лишь радости ума, но не умел кривить душой.
– Я испытываю неиспытанное, – говорил он, красиво повышая и понижая голос, – пробую неиспробованное. Ты говоришь, они изменили самую сущность искусства. Этого я и хочу. Все на свете живет лишь тем, что превращается во что-то другое. Без искажения нет роста.
– Что же они исказили? – спросил Дориан. – Я ничего такого не нашел. Нельзя исказить перья у коровы или лапы у кита. Разве что шутки ради, но вряд ли ты посмеешься. Как ты не видишь? Даже тогда, дорогой мой Филип, шутка в том, что корова – это корова, а не птица. И сочетать, и искать можно до известных границ, дальше будет уже другая вещь, и все. Кентавр – и человек, и лошадь, а не бессмысленное чудище.
– Я понимаю, что ты имеешь в виду, – сказал лорд Айвивуд, – но не согласен. Я бы хотел, чтобы кентавр не был ни человеком, ни лошадью.
– Зачем же он тогда? – спросил поэт. – Если что-то изменилось полностью, оно не изменилось. Где перелом? Где память о перемене? Если завтра ты проснешься в образе миссис Доп, которая сдает комнаты на Бродси-эйрс, чем же ты изменишься? Я не сомневаюсь, что миссис Доп нормальней и счастливей тебя. Но чем же ты стал лучше? Как же ты не видишь, что каждый предмет отграничен от другого тождеством с самим собой?
– Нет! – воскликнул Филип, подавляя гнев. – Я с этим не согласен.
– Тогда я понимаю, – сказал Дориан, – почему ты, такой хороший оратор, не пишешь стихов.
Леди Джоан, со скукой глядевшая на фиолетово-зеленое полотно, которое показывал ей Мисисра, заклиная не обращать внимания на идолопоклоннические слова «Первое причастие в снегах», резко обернулась к Дориану. Немногие мужчины оставались равнодушными к ее лицу, особенно если оно являлось им внезапно.
– Не пишет стихов? – переспросила она. – Вы считаете, что Филипу мешают рамки ритма и рифмы?
Поэт немного подумал и отвечал:
– Да, из-за этого тоже. Однако я имел в виду другое. Мы – свои люди, и я скажу прямо. Все считают, что у Филипа нет юмора. Но я скорблю не о том. Я скорблю, что у него нет чувств. Он не ощущает границ. Так стихов не напишешь.
Лорд Айвивуд холодно разглядывал черно-желтую картину под названием «Порыв», но Джоан Брет живо склонилась к нему и воскликнула:
– Дориан говорит, что у вас нет чувств. Есть ли у вас чувства? Ощущаете ли вы границы?
Не отрывая взгляда от картины, Айвивуд ответил:
– Нет, не ощущаю.
Потом он надел старящее его пенсне; потом снял и обернулся к Джоан. Лицо его было очень бледно.
– Джоан, – сказал он. – Я пройду там, где не был никто. Я проложу дорогу, как римляне. Мне не нужны приключения среди изгородей и канав. Мои приключения – у пределов разума. Я буду думать о том, о чем никто не думал, любить то, чего никто не любил. Я буду одинок, как первый человек.
– Говорят, – сказала она, – что первый человек пал.
– Кто говорит, священники? – спросил он. – Да; но и они признают, что он познал добро и зло. Так и эти художники ищут во мраке то, что еще неведомо нам.
Джоан взглянула на него с искренним и необычным интересом.
– О!.. – сказала она. – Значит, и вы ничего не понимаете?
– Я вижу, что они ломают барьеры, – ответил он, – а больше ничего не вижу.
Она смотрела в пол, рисуя узоры зонтиком, словно должна была это обдумать. Потом сказала:
– Быть может, разрушая барьеры, они разрушают все?
Ясные бесцветные глаза твердо встретили ее взгляд.
– Вполне может быть, – сказал лорд Айвивуд.
Дориан внезапно отошел от картины и воскликнул:
– Эй, что такое?
Мистер Гиббс изумленно глядел на дверь. В византийской арке стоял высокий худой мужчина в поношенном, но аккуратном костюме. Темная борода придавала что-то пуританское его сухощавому умному лицу. Все его особенности объяснились, когда он заговорил с северным акцентом:
– Сколько здесь картин, ребятки! Но я бы хотел кружечку, да.
Ливсон и Гиббс переглянулись, и секретарь выбежал из залы. Лорд Айвивуд не шевельнулся; но Уимпол, любопытный, как все поэты, подошел к незнакомцу и вгляделся в него.
– Какой ужас! – проговорила леди Энид. – Он пьян.
– Нет, красотка, – галантно возразил незнакомец. – Давно я не пил. Я человек приличный, рабочий. Кружечка мне не повредит.
– Вы уверены, – со странной учтивостью осведомился Дориан, – вы уверены , что не выпили?
– Не выпил, – добродушно сказал незнакомец.
– Даже если бы здесь была вывеска… – дипломатично начал поэт.
– Вывеска есть, – отвечал незнакомец. Печальное, растерянное лицо Джоан Брет мгновенно преобразилось. Она сделала четыре шага, вернулась и села на софу. Но Дориан, по всей видимости, был в восторге.
– Даже если вывеска есть, – сказал он, – выпивку не отпускают пьяным. Могли бы вы отличить дождь от хорошей погоды?
– Мог бы, – убежденно ответил незнакомец.
– Что ты делаешь? – испуганно прошептала Энид.
– Я хочу, – ответил поэт, – чтобы приличный человек не разнес в щепы непотребную лавочку. Простите, сэр. Итак, вы бы узнали дождь на картине? Вы слышали, что такое пейзаж, а что такое портрет? Простите меня, служба!..
– Мы не такие дураки, сэр, – отвечал гордый северянин. – У нас галерея не хуже вашей. В картинах я разбираюсь.
– Благодарю вас, – сказал Уимпол. – Не могли бы вы посмотреть на эти две картины? На одной изображена старуха, на другой – дождь в горах. Это чистая формальность. Вам отпустят выпивку, если вы угадаете, где что.
Северянин склонился к картинам и терпеливо на них посмотрел. Тишина оказала странное влияние на Джоан; она поднялась, поглядела в окно и вышла.
Наконец ценитель искусства поднял озадаченное, но вдумчивое лицо.
– Это пьяный рисовал, – промолвил он.
– Вы выдержали испытание! – взволнованно вскричал Дориан. – Вы спасли цивилизацию! Честное слово, выпивка вам будет.
Он принес большой бокал любимого Гиббсом шампанского, денег не взял и выбежал из галереи.
Джоан стояла в первом зале. Из бокового окна она увидела немыслимые вещи, которые хотела увидеть. Она увидела ало-синий флаг, стоящий в клумбе спокойно, словно тропический цветок. Но пока она шла от окна к двери, он исчез, напоминая ей, что это – всего лишь сон. Два человека сидели в автомобиле, и он уже двигался. Они были в больших очках, но она их узнала. Вся мудрость ее, весь скепсис, весь стоицизм, все благородство удержали ее на месте, и она застыла, как изваяние. Собака по имени Квудл прыгнула на сиденье, обернулась и залаяла от радости. И, хотя леди Джоан вынесла все остальное, тут она заплакала.
Но и сквозь слезы видела она странные события. Дориан Уимпол, одетый и модно, и небрежно, как и подобает на выставке, ни в малой мере не походил на изваяние. Сбежав по ступенькам, он погнался за автомобилем и вскочил в него так ловко, что далее изящный цилиндр не сдвинулся с места.
– Здравствуйте, – любезно сказал он Дэлрою. – Я прокатил вас, теперь прокатите меня.
Глава 21 ДОРОГА В КРУГВЕРТОН
Патрик Дэлрой посмотрел на неожиданного гостя сурово, но весело, и сказал только одно:
– Я не крал у вас автомобиля, поверьте, не крал.
– Конечно! – отвечал Дориан. – Я все потом узнал. Поскольку вы, как говорится, гонимый, нечестно скрывать от вас, что я не разделяю взглядов Айвивуда. Я несогласен с ним, или, точнее, он со мной несогласен с тех пор, как я проснулся, наевшись устриц, в палате общин и услышал, что полисмен выкликает: «Кто идет домой?»
– Неужели, – удивился Дэлрой, хмуря рыжие брови, – там задают такой вопрос?
– Да, – равнодушно ответил Уимпол. – Это осталось с той давней поры, когда членов парламента били на улицах.
– Почему же их сейчас не бьют? – рассудительно спросил Патрик.
Они помолчали.
– Это великая тайна, – сказал капитан. – «Кто идет домой?» Поистине прекрасно!
Капитан принял поэта гостеприимно и благожелательно; однако поэт, хорошо понимавший таких людей, заметил, что он немного рассеян. Пока автомобиль летел, громыхая, сквозь дебри южного Лондона (Пэмп миновал Вестминстерский мост и направлялся к холмам графства Суррей), большие синие глаза рыжего гиганта зорко оглядывали улицы. После долгого молчания он выразил свою мысль:
– Вас не удивляет, что теперь развелось столько аптекарей?
– Правда? – легкомысленно спросил Уимпол. – Да, вон две аптеки почти рядом…
– И владелец один и тот же, – сказал Дэлрой. – Некий Крук. Я видел за углом еще одно заведение. Какое-то вездесущее божество!
– Должно быть, большое предприятие, – заметил Уимпол.
– Я бы сказал, слишком большое, – отвечал Дэлрой. – Зачем нужны две аптеки рядом? Неужели покупатель идет одной ногой в одну, другой – в другую? А может, в одной он покупает кислоты, в другой щелочи? Слишком сложно. Какая-то двойная жизнь.
– Наверное, – сказал Дориан, – у мистера Крука большой спрос. Он продает какое-нибудь ценное лекарство.
– Мне кажется, – сказал капитан, – что спрос на лекарство ограничен. Если кто-нибудь продает хороший табак, люди могут курить больше и больше. Но я никогда не слышал, чтобы упивались рыбьим жиром. Даже касторка вызывает скорее почтение, чем любовь.
Помолчав немного, он прибавил:
– Знаешь, Пэмп, надо бы тут остановиться на минуточку.
– Хорошо, – сказал Хэмфри. – Только ничего не устраивай.
Автомобиль остановился перед четвертым владением Крука, и Дэлрой вошел и вышел прежде, чем Пэмп и Уимпол успели обменяться словом. Лицо его, особенно рот, выражало что-то неясное.
– Мистер Уимпол, – сказал капитан, – не окажете ли вы нам честь, не пообедаете ли с нами? Обедать мы будем под изгородью или на дереве. Вы понимающий человек, а за ром и за сыр мистера Пэмпа прощения не просят. Мы поедим и выпьем вволю. Это будет пир. Я не совсем точно понимаю, друзья мы или враги, но сегодня у нас перемирие.
– Надеюсь, мы друзья, – сказал поэт и улыбнулся. – Но почему же перемирие именно сегодня?
– Потому что завтра будет бой, – отвечал Патрик. – Я не знаю, на чьей вы стороне, но только что сделал важное открытие.
И он замолчал и молчал, пока они выезжали из Лондона в леса и холмы, окаймляющие Крайдон. Он думал. Дориана коснулось легкое крыло того нестойкого сна, который прилетит к вам, если вы смените душные залы на свежий ветер. Даже Квудл заснул, свернувшись клубком. Что же до Пэмпа, он обычно молчал, когда был занят делом. Поэтому и случилось так, что много ландшафтов пронеслось мимо и много времени прошло, прежде чем снова началась беседа. Небо сменило бледное золото и бледную зелень на жаркую синеву звездной ночи. Лес, длинным дротиком летящий по сторонам, был огорожен и походил на парк – прямоугольники темного бора в длинных серых коробках. Потом коробки исчезли, сосны унеслись назад, дорога стала двоиться и даже ветвиться. Через полчаса Дэлрой заметил в пейзаже что-то знакомое; а Хэмфри Пэмп давно знал, что едет по родному краю.
Собственно говоря, разница была не в том, что дорога шла в гору, а в том, что она непрестанно петляла. Она походила на тропку и казалась почти живой, когда была всего круче и непонятней. Они поднимались на большой холм, состоящий из маленьких круглых холмов, как монастырь – из обителей, и дорога непрестанно окружала то один из них, то другой. Трудно было поверить, что она рано или поздно не завяжется узлом.
– У автомобиля закружится голова, – нарушил молчание Патрик.
– Вполне возможно, – улыбнулся Уимпол. – Вы, наверное, заметили, что мой автомобиль гораздо устойчивей.
Патрик засмеялся не без смущения.
– Надеюсь, он вернулся к вам в сохранности, – сказал он. – Этот не может ехать быстро, но он прекрасно карабкается. А сейчас это нужно.
– Да, – сказал Дориан, – дорога неровная.
– Вот что! – вскричал Патрик. – Вы англичанин, я – нет. Вы должны знать, почему она так петляет. Прости нас, Господи, но мы, ирландцы, не понимаем Англии. Да она и сама себя не понимает. Она не ответит, почему дорога вьется, и вы не ответите.
– Не скажите, – со спокойной иронией возразил Дориан, и Патрик с неспокойной иронией возопил:
– Прекрасно! Новые песни автомобильного клуба! Кажется, мы все здесь поэты. Пусть каждый напишет, почему дорога петляет. Скажем, вот так, – прибавил он, ибо автомобиль чуть не свалился в болото.
И впрямь Пэмп одолевал крутизну, которая скорее подходила бы горной козе, чем автомобилю. Быть может, ощущение это усиливалось, ибо спутники его, каждый по-своему, привыкли к более ровной земле. Им казалось, что они петляют по лабиринту улочек и одновременно взбираются на башню в Брюгге[88].
– Это дорога в Кругвертон, – весело сказал Патрик. – Очень красиво. Полезно для здоровья. Непременно посетите. Налево, направо, прямо, за угол и назад. Для моих стихов подходит. Что ж вы, лентяи, не пишете?
– Если хотите, я попробую, – сказал Дориан, еще не утративший самолюбия. – Но уже стемнело, и темнеет все больше.
И впрямь между ними и небом нависла тьма, подобная полям великаньей шляпы; лишь в просветы ее глядели крупные звезды. Внизу большой холм был почти голым, повыше на нем росли деревья, словно птицы, стерегущие гнездо. Лес казался больше и реже, чем тот, который венчает холм Ченктонбери, но не уступал ему в поэтичности. Автомобиль едва петлял меж деревьев по ленте тропы. Изумрудное мерцание и серые корни буков напоминали о морском дне и морских чудищах, тем более что на земле рдели пурпуром и медью грибы, словно обломки заката, упавшие в море, или особенно яркие медузы и актинии. Однако путникам казалось и другое-что они высоко вверху, чуть ли не в небе. Яркие летние звезды, сверкавшие сквозь крышу листьев, могли оказаться небесными цветами.
Хотя путники въехали в лес, словно вошли в дом, они все так же кружились, как будто дом этот – карусель или вращающийся замок из старой пантомимы. Звезды тоже кружились над головой, и Дориан был почти уверен, что уже в третий раз видит один и тот же бук.
Наконец они достигли места, где холм вздымался к небу лесистым конусом, вздымая вместе с собою деревья. Здесь Пэмп остановился и взобрался по склону к корням огромного, но низкого бука, чьи сучья распростерлись на четыре стороны света, словно гигантские щупальца. Наверху, между ними, было дупло, подобное чаше, и Хэмфри Пэмп Пэбблсвикский внезапно исчез в нем.
Появившись снова, он учтиво спустил веревочную лестницу, чтобы спутники его могли взобраться, но капитан схватился за большой сук и полез наверх не хуже шимпанзе. Когда все уселись в дупле удобно, как в кресле, Хэмфри Пэмп спустился сам за нехитрыми припасами. Пес по-прежнему спал в автомобиле.
– Наверно, твой старый приют, – сказал капитан. – Ты здесь совсем как дома.
– А я и дома, – отвечал Пэмп. – Мой дом там, где вывеска. – И он воткнул алую с синим вывеску среди грибов, словно приглашая прохожего взобраться на дерево за ромом.
Дерево росло на самой вершине, и отсюда была видна вся окрестность, по которой вилась серебристая речка дороги. Путников охватило такое возбуждение, что им казалось, будто звезды обожгут их.
– Дорога эта, – сказал Дэлрой, – напоминает мне о песнях, которые вы обещали написать. Закусим, Хэмп, и за работу.
Хэмфри повесил на ветку автомобильный фонарь и при свете его разлил ром и раздал сыр.
– Как хорошо! – воскликнул Дориан Уимпол. – Да мне совсем удобно! В жизни такого не бывало! А у сыра просто ангельский вкус.
– Это сыр-пилигрим, – отвечал Дэлрой, – или сыр-крестоносец. Это отважный, боевой сыр, сыр всех сыров, высший сыр мироздания, как выразился мой земляк Йейтс[89] о чем-то совсем другом. Просто быть не может, чтобы его сделали из молока такой трусливой твари, как корова. Наверное, – раздумчиво прибавил он, – наверное, не подойдет гипотеза, что для него доили быка. Ученые сочтут это кельтской легендой, со всей ее сумрачной прелестью… Нет, мы обязаны им той корове из Денсмора, чьи рога подобны слоновьим бивням. Эта корова так свирепа, что один из храбрейших рыцарей сразился с ней. Неплох и ром. Я заслужил его, заслужил смирением. Почти целый месяц я уподоблялся зверям полевым и ходил на четвереньках, как трезвенник. Хэмп, пусти по кругу бутылку, то есть бочонок, и мы почитаем стихи, которые ты так любишь. Все они называются одинаково и очень красиво: «Изыскание о геологических, исторических, агрономических, психологических, физических, нравственных, духовных и богословских причинах, вызвавших к жизни двойные, тройные, четверные и прочие петли английских дорог, проведенное в дупле дерева специальной тайной комиссией, состоящей из неподкупных экспертов, которым поручено сделать обстоятельный доклад псу Квудлу. Боже храни короля». – Проговорив все это с поразительной быстротой, он прибавил: – Я задаю вам нужную ноту. Лирический тон.
Несмотря на свою диковатую веселость Дэлрой по-прежнему казался поэту рассеянным, словно он думал о чем-то другом, гораздо более важном. Он был в творческом трансе; и Хэмфри Пэмп, знавший его, как себя, понимал, что занят он не стихами. Многие нынешние моралисты назвали бы такое творчество разрушительным. На свою беду, капитан Дэлрой был человеком действия, в чем убедился капитан Даусон, когда внезапно стал ярко-зеленым. Он очень любил сочинять стихи, но ни поэма, ни песня не давали ему такой радости, как безрассудный поступок.
Поэтому и случилось, что его стихи о дорогах носили следы торопливой небрежности, тогда как Дориан, человек иного склада, впитывающий, а не извергающий впечатления, утолил в этом гнезде свою любовь к прекрасному и был намного серьезней и проще, чем до сей поры. Вот стихи Патрика:
Я слышал, Гай из Уорика, [*] Тот, что смирил Быка И Вепря дикого свалил Ударом кулака, – Однажды Змея в тыщу миль Прикончил на досуге: И корчился сраженный Гад – Туда-сюда, вперед-назад – С тех пор и вьются, говорят, Дороги все в округе… Я б мог побиться об заклад, Что дело здесь не в том, А перекручены пути, Чтоб нас с тобой, как ни крути, В чудесный город привести – В веселый Кругвертон! Я слышал, Робин-Весельчак, Резвящийся в лесах (Хозяин фразы-Вальтер Скотт, Но он на небесах), – Так вот, лукавый дух ночной Подстраивает шутки: Влюбленных водит под луной Дорогой путаной, кружной… Но нет, не властны надо мной Такие предрассудки! А в Кругвертоне – рай земной, Порядок и закон; И вьются, кружатся пути, Мечтая (Теннисон, прости!) Всех праведников привести В счастливый Кругвертон! Я слышал, Мерлин-чародей Пустил дороги вкось, Чтоб славным рыцарям Грааль Найти не удалось: Чтоб вечно путь их вел назад, К родному Камелоту… Но в «Дейли Мейл» вам объяснят, Что это ненаучный взгляд, И скажет всякий демократ: В нем смысла-ни на йоту. А в Кругвертоне – мир да лад. И нет сомненья в том, Что тысячи кривых дорог, Спеша на запад и восток, Заветный ищут уголок – Тот самый Кругвертон!Патрик Дэлрой облегчил душу, взревев напоследок, выпил стакан моряцкого вина, беспокойно заерзал на локте и поглядел вверх пейзажа, туда, где лежал Лондон.
Дориан Уимпол пил золотой ром, и звездный свет, и запах лесов. Хотя стихи у него тоже были веселые, он прочитал их серьезнее, чем думал:
Когда еще латинский меч наш край не покорил, [*] Дорогу первую в стране пьянчуга проторил: Вовсю кружил он и петлял, разгорячен пирушкой, А вслед помещик поспешал и пастор с верным служкой… Таким блажным, кружным путем и мы, не помню с кем, Вдоль побережья наобум шагали в Бирмингем. Мне Бонапарт не делал зла; помещик – тот был зол! И все-таки с французом сражаться я пошел, Чтоб не посмел никто спрямить – на севере ль, на юге – Дорогу нашу, славный путь английского пьянчуги. Тот вольный путь, окольный путь, которым – вот так вид! – Мы шли под мухой в Ливерпуль по мосту через Твид. Да, пьянство – грех, но был прощен тот первый сумасброд, Недаром по его следам боярышник цветет. Он песни дикие орал, он ночь проспал в кювете, Но роза дикая над ним склонилась на рассвете… Да будет Бог и к нам не строг, хоть шаг наш был нетверд, Когда из Дувра через Гулль брели мы в Девонпорт. Прогулки эти нам, друзья, уж больше не к лицу: Негоже старцу повторять, что с рук сошло юнцу. Но ясен взгляд, и на закат еще ведет дорога, В тот кабачок, где тетка Смерть кивает нам с порога; И есть о чем потолковать, и есть на что взглянуть – Покуда приведет нас в рай окольный этот путь.– А ты уже кончил, Хэмп? – спросил Дэлрой кабатчика, который старательно писал при свете фонаря.
– Да, – отвечал тот. – Но мне хуже, чем вам. Понимаешь, я знаю, почему дорога вьется. – И он стал читать на одной ноте:
Сперва налево гнется путь, Каменоломню обогнуть, Потом бежит дугой, дугой Направо от собаки злой, Потом налево-просто так, Чтоб в мокрый не попасть овраг, И вновь направо, потому Что обогнуть пришлось ему И обойти издалека Поместье одного князька, От смерти коего идет Уже семьсот десятый год. И снова влево – от могил, Где дух священника бродил, Пока не встретили его Мертвецки пьяным в Калао. И вновь направо поворот, Чтоб нам не миновать ворот «Короны и ведра» – кабак Сей несомненно знает всяк. Опять налево-справа жил Сэр Грегори, и разрешил, Рассудку не желая внять, Цыганам табор основать. Они бедны, но не честны, И обойти мы их должны. И вновь направо – от болот, Где ведьмы позапрошлый год, На полисмена налетев, Избили, догола раздев, О бедный, бедный полисмен! И влево, мимо Тоби-лен, И вправо, мимо той сосны, Откуда столб и лес видны, А в том лесу, в тени ветвей, Дорога лучше и прямей. Как доктор Лав мне рассказал (Он вашу тетушку знавал, Дражайший Уимпол. Много книг На наш он перевел язык, И сам ученый град Оксфорд Его твореньями был горд), Как доктор Лав мне говорил, Сквозь лес дорогу проложил Строитель-римлянин – и вот Она прямее здесь идет. Но кончен лес, и снова путь Спешит налево завернуть От рощи, где в глухую ночь Помещичью однажды дочь Чуть не повесили. Она Лишь тем осталась спасена, Что жаль веревки стало им, Ночным разбойникам лихим. И вновь направо вьется путь, Чтоб рощу вязов обогнуть, И вновь налево… [*]– Нет! Нет! Нет! Хэмп! Хэмп! Хэмп! – в ужасе заорал Дэлрой. – Остановись! Не будь ученым, Хэмп, оставь место сказке. Сколько там еще, много?
– Да, – сурово отвечал Пэмп. – Немало.
– И все правда? – с интересом спросил Дориан Уимпол.
– Да, – улыбнулся Пэмп, – все правда.
– Как жаль, – сказал капитан. – Нам нужны легенды. Нам нужна ложь, особенно в этот час, когда мы пьем такой ром на нашем первом и последнем пиру. Вы любите ром? -спросил он Дориана.
– Этот ром, на этом дереве, в этот час, – отвечал Уимпол, – просто нектар, который пьют вечно юные боги. А вообще… вообще не очень люблю.
– Наверное, он для вас сладок, – печально сказал Дэлрой. – Сибарит! Кстати, -прибавил он, – какое глупое слово «сладострастие»! Распутные люди любят острое, а не сладкое, икру, соуса и прочее. Сладкое любят святые. Во всяком случае, я знаю пять совершенно святых женщин, и они пьют сладкое шампанское. Хотите, Уимпол, я расскажу вам легенду о происхождении рома? Запомните ее и расскажите детям, потому что мои родители, как на беду, забыли рассказать ее мне. После слов: «у крестьянина было три сына» предание, собственно, кончается. Когда эти сыновья прощались на рыночной площади, они сосали леденцы. Один остался у отца, дожидаясь наследства. Другой отправился в Лондон за счастьем, как ездят за счастьем и теперь в этот Богом забытый город. Третий уплыл в море. Двое первых стыдились леденцов и больше их не сосали. Первый пил все худшее пиво, он жалел денег. Второй пил все лучшие вина, чтобы похвастаться богатством. Но тот, кто уплыл в море, не выплюнул леденца. И апостол Петр или апостол Андрей[90], или кто там покровитель моряков, коснулся леденца и превратил его в напиток, ободряющий человека на корабле. Так считают матросы. Если вы обратитесь к капитану, грузящему корабль, он это подтвердит.
– Ваш ром, – благодушно сказал Дориан, – может родить сказку. Но здесь – как в сказке и без него.
Патрик встал с древесного трона и прислонился к ветви. Глядел он так, словно ему бросили вызов.
– Ваши стихи хорошие, – с показной небрежностью сказал он, – а мои плохие. Они плохие, потому что я не поэт, но еще и потому, что я сочинял тогда другие стихи, другим размером.
Он оглядел кудрявый путь и прочитал как бы для себя:
В городе, огороженном непроходимой тьмой, Спрашивают в парламенте, кто собрался домой. Никто не отвечает, дом не по пути, Да все перемерли, и домой некому идти. Но люди еще проснутся, они искупят вину, Ибо жалеет наш Господь свою больную страну. Умерший и воскресший, хочешь домой? Душу свою вознесший, хочешь домой? Ноги изранишь, силы истратишь, сердце разобьешь И тело твое будет в крови, когда до дома дойдешь. Но голос зовет сквозь годы: «Кто еще хочет свободы? Кто еще хочет победы? Идите домой!» [*]Как ни мягко и ни лениво он говорил, поза его и движения удивили бы того, кто его мало знал.
– Разрешите спросить, – сказал, смеясь, Дориан, – почему вы сейчас вынули из ножен шпагу?
– Потому что мы долго кружили, – отвечал Патрик, – а теперь пришло время сделать крутой поворот.
Он указал шпагой на Лондон, и серый отблеск рассвета сверкнул на узком лезвии.
Глава 22 СНАДОБЬЯ МИСТЕРА КРУКА
Когда небезызвестный Гиббс посетил в следующий раз мистера Крука, столь сведущего в мистике и криминологии, он увидел, что аптека его удивительно разрослась и расцветилась восточным орнаментом. Мы не преувеличим, если скажем, что она занимала теперь все дома по одной стороне фешенебельной улицы в Вест-Энде; на другой стороне стояли глухие общественные здания. По-видимому, мистер Крук был единственным торговцем довольно большого квартала. Однако он сам обслуживал клиентов и проворно отпустил журналисту его любимое снадобье. К несчастью, в этой аптеке история повторилась. После туманного, хотя и облегчающего душу разговора о купоросе и его воздействии на человеческое благоденствие, Гиббс с неудовольствием заметил, что в двери входит его ближайший друг, Джозеф Ливсон. Неудовольствие самого Ливсона помешало ему это заметить.
– Да, – сказал он, останавливаясь посреди аптеки. – Хорошенькие дела!
Одна из бед дипломата в том, что он не может выказать ни знания, ни неведения. Гиббс сделал мудрое и мрачное лицо, поджал губы и сказал:
– Вы имеете в виду общее положение?
– Я имею в виду эту чертову вывеску, – сердито сказал Ливсон. – Лорд Айвивуд поехал с больной ногой в парламент и провел поправку. Спиртные напитки нельзя продавать, если они с ведома полиции не пробыли в помещении трое суток.
Гиббс торжественно и мягко понизил голос, словно посвященный, и промолвил:
– Такой закон, знаете ли, провести нетрудно.
– Конечно, – все еще с раздражением сказал Ливсон. – Его и провели. Но ни вам, ни Айвивуду не приходит в голову, что, если закон незаметен, его и не заметят. Если он прошел так тихо, что на него не возражали, ему не будут и подчиняться. Если его скрыли от политиков, он скрыт и от полиции.
– Этого просто не может быть, – сообщил Гиббс, – по природе вещей.
– Господи, еще как может! – вскричал Ливсон, обращаясь, по-видимому, к более конкретному властелину Вселенной.
Он вынул из кармана разные газеты, в основном – местные.
– Вот, послушайте!-сказал он. – «В деревне Полтни, Серрей, случилось вчера интересное происшествие. Толпа праздношатающихся бездельников осадила булочную мистера Уайтмена, требуя не хлеба, а пива и ссылаясь на некий пестрый предмет, стоявший перед дверью. По их утверждению, то была вывеска, дающая право торговать спиртными напитками». Видите, они и не слышали о поправке! А вот что пишет «Клитон конеер-вэйтор»: «Презрение социалистов к закону наглядно выразилось вчера, когда толпа, собравшаяся вокруг какой-то деревянной эмблемы, встала перед магазином тканей, принадлежащим мистеру Дэгделу, и не желала разойтись, хотя ей указали, что действия ее противозаконны». А что вы на это скажете? «Новости. К аптекарю в Пимлико явилась толпа, требуя пива и утверждая, что это входит в его обязанности. Аптекарь прекрасно знал, что торговать пивом не должен, тем более после новой поправки; но вывеска по-прежнему действует на полицейских и даже парализует их». Что скажете? Ясно как день, что этот кабак летел прямо перед нами. Наступило дипломатическое молчание.
– Ну, – спросил сердитый Ливсон уклончивого Гиббса, – что вы об этом думаете?
Тот, кому неведома относительность, царящая в нынешних умах, может предположить, что мистер Гиббс не думал об этом ничего. Как бы то ни было, его мысли незамедлительно подверглись проверке; ибо в аптеку вошел сам лорд Айвивуд.
– Добрый день, джентльмены, – сказал он, глядя на них с выражением, которое им не понравилось. – Добрый день, мистер Крук. Я привел к вам прославленного гостя. – И он представил сияющего Мисисру. Пророк вернулся к сравнительно скромным одеждам и был в чем-то пурпурном и оранжевом, но старое лицо сверкало и светилось.
– Наше дело идет вперед, – сказал он.
– Вы слышали прекрасную речь лорда Айвивуда?
– Я слышал много таких речей, – сказал учтивый Гиббс.
– Пророк имеет в виду мой акт об избирательных бюллетенях, – небрежно пояснил Айвивуд.
– Мне кажется, самые основы правления велят нам признать, что восточная Британская империя соединилась с западной. Посмотрите на университеты, где учится столько мусульман; скоро их будет больше, чем англичан. Должны ли мы, – еще мягче сказал он, – оставить этой стране представительное правление? Вы знаете, что я не верю в демократию, но, на мой взгляд, весьма неразумно и опрометчиво это правление отменять. В таком случае, не будем повторять ошибку, которую мы допустили с индусами, за что и поплатились мятежом. Мы не должны требовать, чтобы мусульмане ставили на бюллетене крестик; мелочь, казалось бы, но может их оскорбить. И вот я провел билль, предоставляющий право ставить вместо крестика линию, которая похожа на полумесяц. Это и легче, на мой взгляд.
– Да! – воскликнул сияющий старый турок. – Легкий, маленький знак заменит эту трудную, колючую фигуру. Он гигиеничней. Вы знаете, а наш почтенный хозяин уж непременно знает, что сарацинские, арабские и турецкие лекари были первыми в мире и учили своему искусству франкских варваров. Многие нынешние лекарства, самые модные, тоже с Востока.
– Это верно, – как всегда загадочно и угрюмо сказал Крук. – Порошок аренин, который ввел мистер Боз, нынешний лорд Гельвеллин, не что иное, как чистый песок пустыни. А то, что зовется в рецептах Cannabis Indiensis, называлось у других восточных соседей выразительным словом бханг.
– Так вот, – опять заговорил Мисисра, поводя руками, словно гипнотизер, – так вот, полумесяц ги-гие-ни-чен… а крест – очень вреден. Полумесяц – это волна, это листок, это перо. – И он в неподдельном восторге изобразил все это в воздухе, повторяя извилистые линии орнамента, который с легкой руки лорда Айвивуда украсил многие магазины. – Когда вы рисуете крест, вы делаете та-а-ак. – Он провел в воздухе горизонтальную линию. – И та-а-ак. – Он провел вертикальную с таким трудом, словно поднимал дерево. – Потом вам становится очень плохо.
– Кстати, мистер Крук, – вежливо сказал Айвивуд, – я пригласил сюда пророка, чтобы он посоветовался с вами, как со специалистом, о том самом снадобье, которое вы назвали, – о гашише. Мне пора решить, должны ли эти восточные стимуляторы подходить под запрет, который мы наложили на грубые опьяняющие напитки. Конечно, все мы слышали об ужасных и сладострастных видениях и о безумии, овладевавшем так называемыми гашишинами или ассасинами[91]. Но мы не должны забывать о том, что в нашей стране Восток известен по клеветническим сообщениям христиан. Считаете ли вы, – и он обернулся к пророку, – что гашиш действует так дурно?
– Вы увидите мечети, – простодушно сказал пророк, – много мечетей – очень много – все выше и выше, до самой луны – и услышите грозный голос, кричащий, как муэдзин, – и подумаете, что это Аллах. Потом вы увидите жен – очень, очень много – больше, чем можно иметь одному человеку, – и попадете в розовое и пурпурное море – и это все будут жены. Потом вы заснете. Я пробовал его только один раз.
– А что вы думаете о гашише, мистер Крук? – медленно спросил Айвивуд.
– Я думаю, – отвечал аптекарь, – что он с конопли начинается и коноплей кончается.
– Боюсь, – сказал Айвивуд, – что я вас не совсем понял.
– Гашиш, убийство и веревка, – сказал Крук. – Я это все видел в Индии.
– И впрямь, – еще медленней сказал Айвивуд, – это не мусульманское снадобье. Именно потому так подозрительны ассасины. Кроме того, – прибавил он с простотой, в которой было какое-то благородство, – их изобличает связь с Людовиком Святым.
Он помолчал и спросил, глядя на Крука:
– Значит, вы торгуете не гашишем?
– Нет, милорд, не гашишем, – отвечал аптекарь. Он тоже глядел пристально, и морщины его непонятного лица казались иероглифами.
– Дело идет вперед! – возопил Мисисра, снимая тем самым напряжение, которого не заметил. – Ги-ги-ени-ческий значок сменит ваш колючий плюс. Вы уже употребляете его, чтобы отмечать безударные слоги в стихах, которые, надо вам сказать, тоже восточного происхождения. Знаете новую игру?
Он задал вопрос так резко, что все обернулись и увидели, что он вынимает из пурпурных одежд яркий гладкий лист, купленный в игрушечной лавке.
По рассмотрении он оказался голубым в желтую и красную клеточку, а к нему прилагалось семнадцать карандашей и множество инструкций, сообщающих, что игра недавно ввезена с Востока и называется «Нолики и полумесяцы».
Как ни странно, лорда Айвивуда, при всем его энтузиазме, скорее рассердило это азиатское новшество, особенно потому, что он пытался смотреть на мистера Крука так же пытливо, как тот смотрел на него.
Гиббс рассудительно кашлянул и сказал:
– Конечно, все пришло с Востока. – Он помолчал, не в силах припомнить ничего, кроме своего любимого соуса, но вспомнил и христианство и привел оба примера. – Все, что с Востока, прекрасно, – многозначительно добавил он.
Те, кто в другие времена, при других модах не могли понять, как сумел Мисисра овладеть разумом лорда Айвивуда и ему подобных, упустили две немаловажные вещи. Во-первых, турок мог мгновенно создать теорию о чем угодно. Во-вторых, теории эти были последовательны. Он никогда не принял бы нелогичного комплимента.
– Вы неправы, – важно сказал он Гиббсу, – не все, что с Востока, прекрасно. Восточный ветер не прекрасен. Я не люблю его. Я думаю, что силу и красоту, поэзию и веру Востока испортил для вас, англичан, восточный ветер. Когда вы видите зеленое знамя, вы думаете не о зеленых лугах, а о восточном ветре. Если вы читаете о луноподобных гуриях, вы представляете себе не наши апельсиновые луны, а вашу луну, похожую на снежок…
Тут в беседу вступил новый голос. Хотя его не очень хорошо поняли, сказал он примерно следующее:
– Чего ж я буду ждать этого еврея в халате? Он пьет свое, а я свое. Пива, мисс.
Говоривший – то был высокий штукатур – оглядел аптеку, пытаясь отыскать незамужнюю особу, к которой так учтиво обратился, и, не найдя ее, выразил удивление.
Айвивуд посмотрел на него и окаменел, что было особенно заметно при его внешности. Но Дж. Ливсон каменеть не мог. Он вспомнил тот злосчастный вечер, когда столкнулся со «Старым кораблем» и открыл, что бедные – тоже люди, а потому переходят от вежливости к свирепости в необычайно короткий срок. За спиной штукатура он разглядел еще двоих, причем один увещевал другого, что всегда не к добру. Потом секретарь поднял взор и увидел самое страшное.
Стекло витрины заполнили всплошную человеческие лица. Он не мог их рассмотреть, уже темнело, а отсветы рубиновых и аметистовых шаров скорее мешали, чем помогали видеть. Но самые ближние прижали к стеклу носы, а дальних было больше, чем хотел бы Ливсон. Увидел он и шест у дверей, и квадратную доску. Что изображено на доске, он не видел, но в том и не нуждался.
Те, кто встречался с лордом Айвивудом в такие минуты, поняли бы, почему он занял столь высокое место в истории своего времени несмотря на ледяное лицо и дикие догмы. В нем были все благородные черты, обусловленные отсутствием, а не присутствием какого-то свойства. Нельсон ведал страх, он – не ведал. Поэтому его нельзя было удивить и он оставался собранным и холодным там, где другие теряли голову.
– Не скрою от вас, джентльмены, – сказал он, – что я этого ждал. Не скрою и того, что именно поэтому я отнимал время у мистера Крука. Толпу отгонять не надо. Лучше всего, если мистер Крук разместит ее в своей аптеке. Я хочу сообщить как можно скорее как можно большей толпе, что закон изменен и перелетному кабаку пришел конец. Входите! Входите и слушайте!
– Благодарим, – сказал человек, как-то связанный с автобусами и стоящий за штукатуром.
– Благодарствуйте, сэр, – сказал веселый и невысокий часовщик из Крайдона.
– Благодарю вас, – сказал растерянный клерк из Камберуэлла.
– Мерси, – сказал Дориан Уимпол, который нес большой сыр.
– Спасибо, – сказал капитан Дэлрой, который нес бочонок.
– Спасибо вам большое, – сказал Хэмфри Пэмп, который нес вывеску.
Боюсь, я не сумею передать, как выразила благодарность толпа. Но хотя в лавку вошло столько народу, что в ней не осталось места, Ливсон снова поднял мрачный взор и увидел мрачное зрелище. Внутри было много народу, но в окно глядело не меньше.
– Друзья мои, – сказал Айвивуд, – все шутки кончаются. Эта шутка так затянулась, что стала серьезной; и мы не могли бы сообщить честным гражданам о том, каков сейчас закон, если бы мне не довелось встретиться со столь представительным собранием. Не хотелось бы говорить, что я думаю о шутке, которую капитан Дэлрой и его друзья сыграли с вами. Но капитан Дэлрой согласится, что я не шучу.
– От всего сердца, – сказал Дэлрой серьезно и даже грустно. И прибавил, вздохнув: – Как вы справедливо заметили, шутки мои кончились.
– Эту вывеску, – сказал Айвивуд, указывая на синий корабль, – можно пустить на дрова. Она больше не будет сбивать с толку приличных людей. Поймите это раз и навсегда, прежде, чем вам объяснят в полиции или в тюрьме. Новый закон вступил в действие. Эта вывеска ничего не значит. Она позволяет торговать спиртным не больше, чем фонарный столб.
– Как же это, хозяин? – сказал штукатур, что-то сообразивший. – Значит, я не могу выпить пива?
– Выпейте рому, – сказал Патрик.
– Капитан Дэлрой, – сказал лорд Айвивуд, – если вы дадите ему хоть каплю рому, вы нарушите закон и попадете в тюрьму.
– Вы уверены? – озабоченно спросил Дэлрой. – Я могу вывернуться.
– Уверен, – сказал Айвивуд. – Я дал полиции полномочия. Это дело кончится здесь, сейчас.
– Если они не дадут мне выпить, – сказал штукатур, – я им шлемы проломлю, да. Почему мы не знаем ни про какие законы?
– Нельзя менять закон тайно, – сказал часовщик. – К черту новый закон!
– А какой он? – спросил клерк. Лорд Айвивуд ответил ему с холодной учтивостью победителя:
– В поправке говорится, что спиртные напитки нельзя продавать даже с вывеской, если их не держали в помещении с ведома полиции хотя бы трое суток. Насколько я понимаю, капитан Дэлрой, ваш бочонок здесь трое суток не лежал. Приказываю вам закрыть его и убрать отсюда.
– Да, – невинно отвечал Патрик, – надо бы его подержать трое суток. Мы бы получше узнали друг друга. – И он благожелательно оглядел растущую толпу.
– Вы ничего подобного не сделаете, – с внезапной яростью сказал Айвивуд.
– И впрямь, – устало отвечал Патрик, – не сделаю. Выпью и пойду домой, как приличный человек.
– Полицейские арестуют вас! – вскричал Айвивуд.
– Никак вам не угодишь! – удивился Дэлрой. – Спасибо хоть за то, что вы так ясно объяснили закон. «Если их не держали в помещении с ведома полиции трое суток»… Теперь я запомню. Вы очень хорошо объясняете. Только одно вы упустили, меня не арестуют.
– Почему? – спросил аристократ, белый от гнева.
– Потому, – воскликнул Патрик Дэлрой, и голос его взмыл вверх, словно звук трубы, – потому что я не нарушу закона. Потому что спиртные напитки были здесь трое суток, да что там, три месяца! Потому, Филип Айвивуд, что это обычный кабак. Потому что человек за стойкой продает спиртное всем трусам и лицемерам, у которых достаточно денег, чтобы подкупить нечестного медика.
И он показал на склянки перед Гиббсом и Ливсоном.
– Что они пьют? – спросил он. Гиббс поспешил было убрать склянку, но негодующий часовщик схватил ее первым и выпил.
– Виски, – сказал он и разбил склянку об пол.
– И верно! – взревел штукатур, хватая по бутыли каждой рукою. – Ну, повеселимся! Что там в красном шаре? Надо думать, портвейн. Тащи его, Билл!
Айвивуд обернулся к Круку и проговорил, едва шевеля губами:
– Это ложь.
– Это правда, – отвечал Крук, твердо глядя на него. – Не вы создали мир, не вам его переделать.
– Мир создан плохо, – сказал Айвивуд, и голос его был страшен. – Я переделаю его.
Он еще не кончил фразы, когда витрина разлетелась, разлетелись и цветные шары, словно небесные сферы треснули от кощунства. Сквозь разбитое окно ворвался рев, который страшнее, чем рев бури; крик, который слышали даже глухие короли; грозный голос человечества. По всей фешенебельной улице, усыпанной стеклом, кричала и ревела толпа. Реки золотых и пурпурных вин текли на мостовую.
– Идемте! – воскликнул Дэлрой, выбегая из аптеки с вывеской в руке. Квудл, громко лая, бежал за ним, а Хэмфри с бочонком и Дориан с сыром поспевали, как могли. – До свиданья, милорд, до встречи в вашем замке. Идемте, друзья. Не тратьте время, портя чужое добро. Нам пора идти.
– Куда? – спросил штукатур.
– В парламент, – отвечал капитан, возглавивший толпу.
Толпа обогнула два-три угла, и из глубины длинной улицы Дориан Уимпол, замыкавший шествие, увидел золотой циклопий глаз на башне святого Стефана – тот глаз, который он видел на фоне тихих предвечерних небес, когда и сон, и друг предали его. Далеко впереди, во главе процессии, виднелся шест с крестом и кораблем, и зычный голос пел:
Умерший и воскресший, хочешь домой? Душу свою вознесший, хочешь домой?Глава 23 ПОХОД НА АЙВИВУД
Порыв бури или орел свободы, внезапно вдохновляющий толпу, спустился на Лондон, несколько веков проведя за границей, где нередко витал над столицами. Почти невозможно установить тот миг, когда терпение становится невыносимей опасности. У истинных мятежей обычно бывают чисто символические, если не смешные причины. Кто-то выстрелит из пистолета или появится в нелюбимой форме, или вызовет криком непорядки, о которых не напишут в газетах, кто-то снимет шляпу или не снимет – и к ночи весь город охвачен восстанием. Когда мятежники разнесли вдребезги несколько аптек мистера Крука, а потом пошли в парламент, в Тауэр[92] и к морю, социологи, сидя в погребах, где взор особенно ясен, могли придумать немало материальных и духовных объяснений бури; но ни одно из них нельзя назвать исчерпывающим. Конечно, когда чаши Эскулапа оказались чашами Вакха[93], многие напились; но напивались и прежде, не помышляя о бунте. Гораздо сильнее возбудила народ мысль о том, что могучие покровители Крука оставили открытой для себя дверь, закрытую для менее удачливых сограждан. Но и это не все; никто не знает полного объяснения.
Дориан Уимпол шел в хвосте процессии, увеличивавшейся с каждым мигом. Однажды он отстал, ибо круглый сыр, как живой, вырвался у него из рук и покатился к реке. В эти дни он научился радоваться простым происшествиям, словно к нему вернулась юность. Поймав сыр, он поймал и такси и погнался за мятежниками. Расспросив у палаты общин полисмена с подбитым глазом, он узнал, что именно делали они, и вскоре присоединился снова к легиону, который нельзя было спутать с другой толпою, потому что впереди шел рыжий гигант с каким-то куском деревянного дома, а еще и потому, что английские толпы давно ни за кем не ходили. Кроме того, с начала шествия она изменилась, как бы вырастила рога и когти, – многие несли какое-то странное, старинное оружие. Что еще удивительней, у многих были ружья, и шли эти люди в сплоченном порядке; многие, наконец, схватили из дому топоры, молотки и даже ножи. Все эти домашние орудия очень опасны. Прежде чем выйти на улицу, они совершили тысячи частных убийств.
Дориану повезло. Он добрался до рыжего гиганта и пошел с ним в ногу во главе шествия. Хэмфри Пэмп шагал с другой стороны: прославленный бочонок висел у него на груди, как барабан. Поэт закинул сыр за спину, завернув его в плащ, и два прекрасно сложенных человека казались теперь калеками, что весьма развлекало веселого капитана. Дориана развлекали и другие вещи.
– Что с вами стало, пока меня не было? – со смехом спросил он. – Почему многие из вас разрядились, как на маскарад? Где вы были?
– Мы ходили по магазинам, – не без гордости отвечал Патрик Дэлрой. – Как и подобает родственникам из провинции. Я покупать умею. Как это говорится? Превосходные ружья, и совсем за бесценок! Мы обошли оружейные мастерские и заплатили очень мало. Собственно, мы не заплатили ничего. Это ведь и называется «за бесценок»? Потом мы пошли на толкучку. Во всяком случае, пока мы там были, то была толкучка. Мы купили кусок ткани и обмотали им вывеску. Прекрасный шелк, в дамском вкусе.
Дориан поднял взор и увидел красную тряпку, должно быть – из мусорного ящика, которая стала на сей раз знаменем мятежа.
– Неужели не в дамском вкусе? – озабоченно спросил Дэлрой. – Ничего, скоро я зайду к даме и мы ее спросим.
– Вы уже все купили? – осведомился Уимпол.
– Почти все, – отвечал Патрик. – Где тут музыкальный магазин? Ну, такой, где продают рояли.
– Позвольте, – сказал Дориан. – Этот сыр не очень легок. Неужели мне придется тащить рояль?
– Вы не поняли меня, – спокойно сказал капитан и (поскольку мысль о музыкальном магазине пришла ему в голову, когда он такой магазин увидел) кинулся в дверь. Вскоре он вышел с каким-то узлом под мышкой и возобновил беседу.
– Куда вы еще ходили? – спросил Дориан.
– Мы были повсюду! – сердито воскликнул Патрик. – Разве у вас нет родственников из провинции? Мы были там, где надо. Мы были в парламенте. Они сегодня не заседают, и делать там нечего. Мы были в Тауэре – провинциальный родственник неутомим! Мы взяли на память кое-какие безделушки, в том числе алебарды. Честно говоря, гвардейцы были рады с ними расстаться.
– Разрешите осведомиться, – сказал поэт, – куда вы теперь идете?
– Мы посетим еще один памятник! – закричал Дэлрой. – Я покажу моим друзьям лучшую усадьбу в Англии. Мы направляемся в Айвивуд, неподалеку от курорта Пэбблсвик.
– Так, – сказал Дориан и впервые задумчиво и тревожно посмотрел на лица людей, идущих за ними.
– Капитан Дэлрой, – сказал он, и голос его несколько изменился, – я одного не понимаю. Айвивуд говорил, что нас арестует полиция. Это большая толпа, и я не понимаю, почему полицейские нас не трогают. Да и где они? Вы прошли полгорода, и у вас, простите, страшное оружие. Лорд Айвивуд пугал нас полицией. Почему же она бездействует?
– Тема эта, – весело отвечал Патрик, – должна быть разбита на три пункта.
– Неужели? – спросил Дориан.
– Да, – ответил Дэлрой. – Полиция не трогает нас по трем причинам. Надеюсь, и худший ее враг не скажет, что она нас трогает.
И он очень серьезно стал загибать огромные пальцы.
– Во-первых, – сказал он, – вы давно не были в городе. Когда вы увидите полисмена, вы его не узнаете. Они не носят больше шлемов, они носят фески, ибо берут теперь пример не с пруссаков, а с турок. Вскоре, несомненно, они заплетут косички, подражая китайцам. Это очень важный раздел этики. Он зовется «Действенностью».
– Во-вторых, – продолжал капитан, – вы не заметили, должно быть, что сзади с нами идет немало полицейских в фесках. Да, да. Разве вы не помните, что французская революция началась, в сущности, тогда, когда солдаты отказались стрелять в своих жен и отцов и даже выказали желание стрелять в их противников? Полицейские идут сзади. Вы узнаете их по ремням и хорошему шагу. Но не смотрите на них, они смущаются.
– А третья причина? – спросил Дориан.
– Вот она, – отвечал Патрик. – Я не веду безнадежной борьбы. Те, кто бился в бою, редко ее ведут. Вы спрашиваете, где полиция? Где солдаты? Я скажу вам. В Англии очень мало полицейских и солдат.
– На это редко жалуются, – сказал Уимпол.
– Однако, – серьезно сказал капитан, – это ясно всякому, кто видел солдат или моряков. Я открою вам правду. Наши правители ставят на трусость англичан, как ставит овчарка на трусость овец. Умный пастух держит мало овчарок. В конце концов, одна овчарка может стеречь миллион овец – пока они овцы. Представьте себе, что они обратятся в волков. Тогда они собак разорвут.
– Неужели вы считаете, – спросил Дориан, – что у нас фактически нет армии?
– Есть гвардейцы у Уайтхолла, – тихо ответил Патрик. – Но вопрос ваш ставит меня в тупик. Нет, армия есть. Вот английской армии… Вы не слышали, Уимпол, о великой судьбе империи?
– Кажется, что-то слышал, – сказал Дориан.
– Она делится на четыре акта, – сказал Дэлрой. – Победа над варварами. Эксплуатация варваров. Союз с варварами. Победа варваров. Такова судьба империи.
– Начинаю понимать, – сказал Дориан Уимпол. – Конечно, Айвивуд и власти склонны опираться на сипаев[94].
– И на других, – сказал Патрик. – Вы удивитесь, когда их увидите.
Он помолчал, потом резко спросил, хотя и не менял темы:
– Вы знаете, кто живет теперь рядом с Айвивудом?
– Нет, – отвечал Дориан. – Говорят, это человек замкнутый.
– И поместье у него замкнутое, – мрачно сказал Патрик. – Если бы вы, Уимпол, влезли на забор, вы бы нашли ответ на многое. О, да, наши власти очень пекутся о порядке!
Он угрюмо замолчал, и они миновали несколько деревень прежде, чем он заговорил снова.
Они шли сквозь тьму, и заря застала их в диких, лесных краях, где дороги поднимались вверх и сильно петляли. Дэлрой вскрикнул от радости и показал Дориану что-то вдали. На серебристом фоне рассвета виднелся пурпурный купол, увенчанный зелеными листьями, сердце Кругвертона.
Дэлрой ожил, увидев его. Дорога шла вверх; по сторонам, словно бодрствующие совы, торжественно стояли леса. Знамена зари уже охватили полнеба, ветер гремел трубою, но темная чаща скрывала свои тайны, как темный погреб, и утренний свет едва мерцал сквозь нее, словно осколки изумрудов.
Царило молчание, дорога была все круче, и высокие деревья, серые щиты великанов, все строже хранили какую-то тайну.
– Ты помнишь эту дорогу, Хэмп? – спросил Патрик.
– Да, – отвечал кабатчик и замолчал, но редко слышали вы такое полное согласие в этом коротком слове.
Часа через два, около одиннадцати, Дэлрой предложил остановиться и посоветовал немного поспать. Непроницаемая тишина чащи и мягкая трава под ногами склоняли ко сну, хотя время было и необычное. А если вы думаете, что люди с улицы не могут повиноваться случайному вождю и спать по его велению, в любое время, вы не знаете истории.
– Боюсь, – сказал Дэлрой, – завтрак будет вместо ужина. Я знаю прекрасное место, но спать там опасно, а поспать нам надо; так что не раскладывайте припасы. Мы ляжем здесь, как сиротки в лесу, и трудолюбивая птичка может покрыть нас лиственным одеялом. Нам предстоят подвиги, перед которыми нужно выспаться.
Они снова тронулись в путь намного позже полудня и так называемый завтрак съели в тот таинственный час, когда дамы умрут, если не выпьют чаю. Дорога поднималась все круче, и наконец Дэлрой сказал Дориану:
– Не уроните опять сыра, вы его не найдете. Он укатится в чащу. Подсчетов не нужно, я точно знаю. Я за ним бегал.
Уимпол заметил, что они взобрались на какой-то хребет, а несколько погодя понял, почему деревья такие странные и что они скрывают.
Шествие вышло на лесную дорогу, тянувшуюся вдоль моря. На высокой поляне стояли изогнутые яблони, чьих горьких, соленых плодов не пробовал никто. Больше здесь ничего не росло, но Дэлрой оглядел каждый вершок, словно то был его дом.
– Вот здесь мы позавтракаем, – сказал он. – Это лучший кабак Англии.
Кто-то засмеялся, но все смолкли, когда Дэлрой воткнул шест «Старого корабля» в голую землю.
– Теперь, – сказал он, – устроим пикник. Почти стемнело, когда толпа, сильно выросшая в землях Айвивуда, достигла ворот усадьбы. Со стратегической точки зрения это было похвально; однако сам капитан несколько испортил дело. Построив свою армию и приказав ей стоять как можно тише, он обернулся к Пэмпу и сказал:
– А я немного пошумлю.
И вынул из оберток какой-то инструмент.
– Хотите вызвать их на переговоры? – спросил Дориан. – Или созвать сбор?
– Нет, – отвечал Патрик, – я спою серенаду.
Глава 24 ЗАГАДКИ ЛЕДИ ДЖОАН
Однажды под вечер, когда небеса были светлыми и только края их тронул пурпурный узор заката, Джоан Брет гуляла по лужайке на одном из верхних уступов Айвивудова сада, где гуляли и павлины. Она была так же красива, как павлин, и, может быть, так же бесполезна; она гордо держала голову, за ней волочился шлейф, но в эти дни ей очень хотелось плакать. Жизнь сомкнулась вокруг нее и стала непонятно тихой, а это больше терзает терпение, чем невнятный шум. Когда она смотрела на высокую изгородь сада, ей казалось, что изгородь стала выше, словно живая стена росла, чтобы держать ее в плену. Когда она глядела из башни на море, ей казалось, что оно дальше. Астрономические обои хорошо воплощали ее смутное чувство. Когда-то здесь были нежилые комнаты, из которых шел ход на черную лестницу, и к зарослям, и к туннелю. Она не бывала там; но знала, что все это есть. Сейчас ту часть усадьбы продали соседу, о котором никто ничего не знал. Все смыкалось, и ощущение это усиливали сотни мелочей. Она сумела выспросить о соседе лишь то, что он стар и очень замкнут. Мисс Браунинг, секретарша лорда Айвивуда, сообщила ей, что он со Средиземноморья, и слова эти, по всей вероятности, кто-то вложил в ее уста. Собственно говоря, сосед мог оказаться кем угодно, от американца, живущего в Венеции, до негра из Атласа, так что Джоан не узнала ничего. Иногда она видела его слуг в ливрее, и ливрея эта не была английской. Раздражало ее и то, что под турецким влиянием изменились полицейские. Теперь они носили фески, несомненно – более удобные, чем тяжелый шлем. Казалось бы, мелочь; но она раздражала леди Джоан, которая, как большинство умных женщин, была тонка и не любила перемен. Ей представлялось, что весь мир изменился, а от нее скрывают, как именно.
Были у нее и более глубокие горести, когда, снизойдя к трогательным просьбам леди Айвивуд и своей матери, она гостила здесь неделю за неделей. Если говорить цинично (на что она была вполне способна), обе они хотели, как это часто бывает, чтобы ей понравился один мужчина. Но цинизм этот был бы ложью, как бывает почти всегда, ибо мужчина ей нравился.
Он нравился ей, когда его принесли с пулей Пэмпа в ноге, и он был самым сильным и спокойным в комнате. Он нравился ей, когда он спокойно переносил боль. Он нравился ей, когда не рассердился на Дориана; и очень нравился, когда, опираясь на костыль, уехал в Лондон. Однако несмотря на тяжкое ощущение, о котором мы говорили, больше всего он нравился ей в тот вечер, когда, еще с трудом поднявшись к ней по уступам, он стоял среди павлинов. Он даже попытался рассеянно погладить павлина, как собаку, и рассказал ей, что эти прекрасные птицы привезены с Востока, точнее – из полувосточной земли Македонии. Тем не менее ей казалось, что раньше он павлинов не замечал. Самым большим его недостатком было то, что он гордился безупречностью ума и духа; и не знал, что особенно нравится этой женщине, когда немного смешон.
– Их считали птицами Юноны[95], – говорил он, – но я не сомневаюсь, что Юнона, как и большинство античных божеств, происходит из Азии.
– Мне всегда казалось, – заметила Джоан, – что Юнона слишком величава для сераля.
– Вы должны знать, – сказал Айвивуд, учтиво поклонившись, – что я никогда не видел женщины, столь похожей на Юнону, как вы. Однако у нас очень плохо понимают восточный взгляд на женщин. Он слишком весом и прост для причудливого христианства. Даже в вульгарной шутке о том, что турки любят толстых женщин, есть отзвук истины. Они думают не о личности, а о женственности, о мощи природы.
– Мне иногда кажется, – сказала Джоан, – что эти прельстительные теории немного натянуты. Ваш друг Мисисра сказал мне как-то, что в Турции женщины очень свободны, потому что носят штаны.
Айвивуд сухо, неумело улыбнулся.
– Пророк наделен простотой, свойственной гениям, – сказал он. – Не буду спорить, некоторые его доводы грубы и даже фантастичны. Но он прав в самом главном. Есть свобода в том, чтобы не идти наперекор природе, и на Востоке это знают лучше, чем на Западе. Понимаете, Джоан, все эти толки о любви в нашем узком, романтическом смысле, очень хороши, но есть любовь, которая выше влюбленности.
– Что же это? – спросила Джоан, глядя на траву.
– Любовь к судьбе, – сказал лорд Айвивуд, и в глазах его сверкнула какая-то холодная страсть. – Разве Ницще не учит нас, что услаждение судьбой – знак героя[96]? Мы ошибемся, если сочтем, что герои и святые ислама говорили «кисмет»[97], в скорби склонив голову. Они говорят «кисмет» в радости. Это слово значит для них «то, что нам подобает». В арабских сказках совершеннейший царевич женится на совершеннейшей царевне, ибо они подходят друг другу. В себялюбивых и чувствительных романах прекрасная принцесса может убежать с пошлым учителем рисования. Это – не судьба. Турок завоевывает царства, чтобы добиться руки лучшей из цариц, и не стыдится своей славы.
Лиловые облака по краю серебряного неба все больше напоминали Джоан лиловый орнамент серебряных занавесей в анфиладе Айвивудова дома. Павлины стали прекрасней, чем прежде; но она ощутила впервые, что они – с Востока.
– Джоан, – сказал Филип Айвивуд, и голос его мягко прозвучал в светлых сумерках, – я не стыжусь своей славы. Я не вижу смысла в том, что христиане зовут смирением. Если я смогу, я стану величайшим человеком мира; и думаю, что смогу. То, что выше любви – сама судьба, – велит мне жениться на самой прекрасной в мире женщине. Она стоит среди павлинов, но она красивее и величавее их.
Смятенный ее взор глядел на лиловый горизонт, дрогнувшие губы могли проговорить лишь: «Не надо…»
– Джоан, – продолжал Филип, – я сказал вам, что о такой, как вы, мечтали великие герои. Разрешите же теперь сказать и то, чего я не сказал бы никому, не говоря тем самым о любви и обручении. Когда мне было двадцать лет, я учился в немецком городе и, как выражаются здесь, на Западе, влюбился. Она была рыбачкой, ибо город лежал у моря. Там могла кончиться моя судьба. С такой женой я не стал бы дипломатом, но тогда это не было мне важно. Несколько позже, странствуя по Фландрии, я попал туда, где Рейн особенно широк, и подумал, что по сей день страдал бы, ловя рыбу. Я подумал, сколько дивных извивов оставила река позади. Быть может, юность ее прошла в горах Швейцарии или в поросших цветами низинах Германии. Но она стремилась к совершенству моря, в котором свершается судьба реки.
Джоан снова не смогла ответить, и Филип продолжал:
– И еще об одном нельзя сказать, если принц не предлагает руку принцессе. Быть может, на Востоке зашли слишком далеко, обручая маленьких детей. Но оглядитесь, и вы увидите, сколько бездумных юношеских браков приносит людям беду. Спросите себя, не лучше ли детские браки. В газетах пишут о бессердечии браков династических; но мы с вами газетам не верим. Мы знаем, что в Англии нет короля с тех пор, как голова его упала перед Уайтхоллом[98]. Страной правим мы и такие, как мы, и браки наши – династические. Пускай мещане зовут их бессердечными; для них нужно мужество, знак аристократа. Джон, – очень мягко сказал он, – быть может, и вы побывали в Швейцарских горах или на поросшей цветами низине. Быть может, и вы знали… рыбачку. Но существует то, что и проще, и больше этого; то, о чем мы читали в великих сказаниях Востока, – прекрасная женщина, герой и судьба.
– Милорд, – сказала Джоан, инстинктивно употребляя ритуальную фразу, – разрешите ли вы мне подумать? И не обидитесь ли, если решение мое будет не таким, как вы хотите?
– Ну, конечно, – сказал Айвивуд, и учтиво поклонился, и с трудом пошел прочь, пугая павлинов.
Несколько дней подряд Джоан пыталась заложить фундамент своей земной судьбы. Она была еще молода; но ей казалось, что она прожила тысячи лет, думая об этом. Снова и снова она говорила себе, что лучшие женщины, чем она, принимали с горя и менее завидную участь. Но в самой атмосфере было что-то странное. Она любила слушать Айвивуда, как любят слушать скрипача; но в том и беда, что порою не знаешь, человек тебе нужен или его скрипка.
Кроме того, в доме вели себя странно, осооенно потому, что Айвивуд еще не оправился; и это ее раздражало. В этом было величие, была и скука. Как многим умным дамам высшего света, Джоан захотелось посоветоваться с разумной, не светской женщиной; и она бросилась за утешением к разумной секретарше.
Но рыженькая мисс Браунинг с бледным, серьезным лицом взяла ту же ноту. Лорд Айвивуд был каким-то божеством, перводвигателем, властелином. Она называла его: «он». Когда она сказала «он» в пятый раз, Джоан почему-то ощутила запах оранжереи.
– Понимаете, – сказала мисс Браунинг, – мы не должны мешать его славе, вот что главное. Чем послушней мы будем, тем лучше. Я уверена, что он лелеет великие замыслы. Слышали вы, что пророк говорил на днях?
– Мне он сказал, – отвечала темноволосая дама, – что мы сами говорим о неприятном долге: «Это мой крест», а не «это мой полумесяц».
Умная секретарша, конечно, улыбнулась, но темы своей не оставила.
– Пророк говорит, – сказала она, – что истинна лишь любовь к судьбе. Я уверена, что он с этим согласен. Люди кружат вокруг героя, как планеты вокруг звезды, ибо звезда их притягивает. Когда судьба коснется вас, вы не ошибетесь. У нас на многое смотрят неправильно. Например, часто ругают детские браки в Индии…
– Мисс Браунинг, – сказала Джоан, – неужели вас интересуют эти браки?
– Понимаете… – начала мисс Браунинг.
– Интересуют они вашу сестру? – вскричала Джоан. – Пойду спрошу ее! – И она побежала туда, где трудилась миссис Макинтош.
– Видите ли, – сказала миссис Макинтош, поднимая пышноволосую, гордую головку, которая была красивее, чем головка ее сестры, – я верю, что индусы избрали лучший путь. Когда людей предоставляют в юности собственной воле, они могут избрать любого. Они могут избрать негра или рыбачку, или… скажем, преступника.
– Миссис Макинтош, – сердито сказала Джоан, – вы прекрасно знаете, что не женились бы на рыбачке. Где Энид? – внезапно закончила она.
– Леди Энид, – сказала миссис Макинтош, – разбирает ноты в музыкальной зале.
Джоан пробежала несколько гостиных и нашла за роялем свою бледную белокурую родственницу.
– Энид! – вскричала Джоан. – Ты знаешь, что я всегда тебя любила. Ради всего святого, скажи мне, что творится с этим домом! Я восхищаюсь Филипом, как все. Но что такое с домом? Почему эти комнаты и сады словно держат меня взаперти? Почему все похожи? Почему все повторяют одни и те же слова? Господи, я редко философствую, но тут что-то есть! Тут есть какая-то цель, да, именно цель. И я ее не вижу.
Леди Энид сыграла вступление. Потом сказала:
– И я не вижу, Джоан, поверь мне. Я знаю, о чем ты говоришь. Но я верю ему и доверяюсь именно потому, что у него есть цель. – Она начала наигрывать немецкую балладу. – Представь себе, что ты глядишь на широкий Рейн там, где он впадает…
– Энид! – воскликнула Джоан. – Если ты скажешь: «в Северное море», я закричу. Я перекричу всех павлинов!
– Но позволь, – удивленно взглянула на нее леди Энид, – Рейн и впрямь впадает в Северное море.
– Хорошо, пусть, – дерзко сказала Джоан. – Но он впадет в пруд прежде, чем ты поймешь… прежде, чем…
– Да? – спросила Энид, и музыка прекратилась.
– Прежде, чем случится что-то… – отвечала Джоан, уходя.
– Что с тобой? – сказала Энид Уимпол. – Если это тебя раздражает, сыграю что-нибудь другое. – И она полистала ноты.
Джоан ушла туда, где сидели секретарши, и беспокойно уселась сама.
– Ну, как, – спросила рыжая и незлобивая миссис Макинтош, не поднимая глаз от работы, – узнали вы что-нибудь?
Джоан мрачно задумалась; потом сказала просто и мягко, что не вязалось с ее нахмуренным лбом:
– Нет… Вернее, узнала, но только про самое себя. Я открыла, что люблю героев, но не люблю, когда им поклоняются.
– Одно вытекает из другого, – назидательно сказала мисс Браунинг.
– Надеюсь, что нет, – сказала Джоан.
– Что еще можно сделать с героем, – спросила миссис Макинтош, – как не поклониться ему?
– Его можно распять, – сказала Джоан, к которой внезапно вернулось дерзкое беспокойство, и встала с кресла.
– Может быть, вы устали? – спросила девица с умным лицом.
– Да, – сказала Джоан. – И что особенно тяжко, даже не знаю, от чего. Честно говоря, я устала от этого дома.
– Конечно, дом этот очень стар, а местами пока что мрачен, – сказала мисс Браунинг, – но он изумительно его преображает. Звезды и луна в том крыле поистине…
Из дальней комнаты снова донеслись звуки рояля. Услышав их, Джоан Брет вскочила, как тигрица.
– Спасибо, – сказала она с угрожающей кротостью. – Вот оно! Вот кто мы такие! Она нашла нужную мелодию.
– Какую же? – удивилась секретарша.
– Так будут играть арфы, кимвалы, десятиструнная псалтирь, – яростно и тихо сказала Джоан, – когда мы поклонимся золотому идолу, поставленному Навуходоносором[99]. Девушки! Женщины! Вы знаете, где мы? Вы знаете, почему здесь двери за дверьми и решетки за решетками, и столько занавесей, и подушек, и цветы пахнут сильнее, чем цветы наших холмов?
Из дальней, темнеющей залы донесся высокий чистый голос Энид Уимпол:
Мы пыль под твоей колесницей, Мы ржавчина шпаги твоей. [*]– Вы знаете, кто мы? – спросила Джоан Брет. – Мы – гарем.
– Что вы! – в большом волнении вскричала младшая из сестер. – Лорд Айвивуд никогда…
– Конечно, – сказала Джоан. – До сих пор. В будущем я не так уверена. Я никак его не пойму, и никто не поймет его, но, поверьте, здесь такой дух. Комната дышит многоженством, как запахом этих лилий.
– Джоан! – вскричала леди Энид, входя взволнованно и тихо, как воспитанный призрак. – Ты совсем бледная.
Джоан не ответила ей и упорно продолжала:
– Мы знаем о нем одно, – он верит в постепенные изменения. Он называет это эволюцией, относительностью, развитием идеи. Откуда вам известно, что он не движется к гарему, приучая нас жить вот так, чтобы мы меньше удивились, когда, – она вздрогнула, – дойдет до дела? Чем это страшнее других его дел, этих сипаев и Мисисры в Вестминстерском аббатстве, и уничтожения кабаков? Я не хочу ждать и меняться. Я не хочу развиваться. Я не хочу превращаться во что-то другое, не в себя. Я уйду отсюда, а если меня не пустят, я закричу, как кричала бы в притоне.
Она побежала в башню, стремясь к одиночеству. Когда она пробегала мимо астрономических обоев, Энид увидела, что она бьет по ним кулаком.
В башне с ней случились странные вещи. Ей надо было подумать, как ответить Филипу, когда он вернется из Лондона. Рассказывать это леди Айвивуд было бы так же немилосердно и бесполезно, как описывать ребенку китайские пытки. Вечер был спокойный, бледно-серый, и с этой стороны Айвивудова дома царила тишина; но леди Джоан с удивлением услышала, что раздумья ее прерывает какой-то шелест, шум, шорох в серо-лиловых зарослях. Потом опять стало тихо; потом тишину сломили зычный голос в темной дали и нежные звуки лютни или виолы:
Леди, луч предпоследний сгорает дотла; [*] Леди, лучше исчезнуть, коль честь умерла; Вы роняли перчатку, как вызов, – о рыцарский пыл! — Когда молод я был; И не считался за уют покой заглохнувших запруд В твоих угодьях, Айвивуд, когда я молод был. Леди, падают звезды, как прочно ни виснь; Леди, лучше – не жить, если главное – жизнь; Эти мелкие звезды собою венчали эфир, Когда молод был мир; Пусть для небес звезда мала, любовь не маленькой была В твоих просторах, Айвивуд, когда был молод мир.Голос умолк, и шорох в зарослях стал тихим, как шепот. Но с другой стороны раздавались звуки погромче; ночь кишела людьми.
Она услышала крик за спиной. Леди Энид вбежала в комнату, белая, как лилия.
– Что там творится? – восклицала она. – Во дворе орут какие-то люди, и всюду факелы, и…
Джоан слышала топот шагов и другую песню, потверже, что-то вроде:
Умерший и воскресший, хочешь домой?– Должно быть, – задумчиво сказала она, – это конец света.
– Где же полиция? – взывала Энид. – Их нигде нет с тех пор, как они надели эти фески. Нас убьют или…
Три громовых, размеренных удара пошатнули стену в конце крыла, словно в нее ударила палица исполина. Энид вспомнила, как испугало ее, когда по стене била Джоан, и содрогнулась. Дамы увидели, как падают со стены звезды, луна и солнце.
Когда солнце, а с ним – луна и звезды, лежали на персидском ковре, в дырку на краю света вошел Патрик Дэлрой с мандолиной в руках.
Глава 25 СВЕРХЧЕЛОВЕК НАЙДЕН
– Я привел вам собаку, – сказал мистер Дэлрой, поднимая Квудла на задние лапы. – Его несли в ящике с надписью «Взрывчатое». Прекрасное название.
Он поклонился леди Энид и взял руку Джоан. Но говорил он о собаках.
– Те, кто возвращает собак, – сказал он, – всегда подозрительны. Нередко предполагают, что тот, кто привел собаку, прежде ее увел. В данном случае, конечно, об этом и речи быть не может. Но возвратители собак, эти пронырливые люди, заподозрены в ином. – Он прямо взглянул на Джоан синими глазами. – Некоторые полагают, что им нужна награда. В этом обвинении правды больше.
Голос его внезапно изменился, и перемена эта была удивительнее революции, даже той, что бушевала внизу. Он поцеловал Джоан руку и серьезно сказал:
– Я знаю хотя бы, что вы будете молиться о моей душе.
– Лучше вы молитесь о моей, если она у меня есть, – сказала Джоан. – Но почему именно теперь?
– Вот почему, – сказал Патрик. – Вы услышите, а может, и увидите из башни то, чего не было в Англии с тех пор, как пал бедный Монмаут[100]. Этого не было с тех пор, как пали Саладин и Ричард Львиное Сердце. Прибавлю лишь одно, и вы это знаете. Я жил, любя вас, и умру, любя вас. Я объехал много стран и только в вашем сердце заблудился, сбился с пути. Собаку я оставлю, чтобы она вас стерегла. – И он исчез на старой сломанной лестнице.
Леди Энид была очень удивлена, что разбойники не ворвались по этой лестнице в дом. Но леди Джоан не удивлялась. Она поднялась на башню и посмотрела сверху на заброшенный туннель, который был теперь огорожен стеною, ибо принадлежал соседу-помещику. За этой стеной, собственно говоря, было трудно разглядеть и туннель, и даже деревья, скрывавшие его. Но Джоан поняла сразу, что Дэлрой хочет напасть не на Ай-вивуд, а на соседнее поместье.
Потом она увидела нечто гнусное. Она никогда не могла описать это позже, как не мог и никто, попавший в неудержимый и многозначимый вихрь. Откуда-то – должно быть, с берега – поднялась волна; и она удивилась, что такой огромный молот состоит из воды. И тут она поняла, что он состоит из людей.
Стена, скрывшая вход в туннель, казалась ей прочной и будничной, как стены гостиной. Но сейчас она раскололась на тысячи кусков под тяжестью охваченных яростью тел. Когда же стена сломалась, Джоан увидела за нею то, что лишило ее разумения, словно она оказалась сразу во всех веках и во всех странах. Она никогда не могла описать это зрелище, но всегда отрицала, что оно привиделось ей. Оно было хуже сна, реальней реальности. Внизу стояли строем солдаты, что само по себе красиво. Но они могли быть войском Ганнибала или Аттилы, остатками Тира или Вавилона. На английском лугу, среди боярышника, на фоне трех больших буков, стояли те, кто не дошел до Парижа, когда Карл, прозванный Молотом, отогнал их от Тура[101].
Над ними развевалось зеленое знамя той великой религии, той могучей цивилизации, которая часто подходила к столицам Запада, осаждала Вену, едва не дошла до Парижа, но никогда не вступала на английскую землю. Перед знаменем стоял Филип Айвивуд в странной форме, придуманной им самим и сочетавшей черты сипайской и турецкой форм. Сочетание это совсем сбило Джоан с толку, и ей показалось, что Турция завоевала Англию, как Англия – Индию. Потом она увидела, что не Айвивуд командует этим войском. На лугу, перед неподвижным строем, встретились один на один, как в древнем эпосе, Патрик и старый человек со шрамом, не похожий на европейца. Человек этот ранил в лоб капитана, отомстив за свой шрам, и нанес ему много ран, но в конце концов упал. Упал он ничком; и Дэлрой смотрел на него не только с жалостью. Кровь текла по руке и по лицу ирландца, но он салютовал шпагой. Тогда человек, казалось бы – мертвый, с трудом поднял голову. Установив чутьем страны света, Оман-паша повернулся налево и умер лицом к Мекке.
Потом стены башни закружились вокруг Джоан, и она не знала уже, что видит – прошлое или будущее. Самая мысль о том, что на них натравили коричневых и желтолицых людей, придала англичанам неслыханную силу. Боярышник был изрублен, как в той битве, когда Альфред Великий впервые встретился с данами[102]. Буки были забрызганы до половины языческой и христианской кровью. Джоан видела лишь это, пока колонна мятежников под началом Хэмфри Кабатчика не проникла сквозь туннель и не напала на турок сзади. То был конец.
Страшное зрелище и страшные звуки измучили ее, и она не видела толком даже последних блестящих попыток армии ислама. Не слышала она и слов Айвивуда, обращенных к соседу-помещику или к турецкому офицеру, или к самому себе. Говорил он так:
– Я был там, куда не ступил Бог. Я выше глупого сверхчеловека, как он выше людей. Где я прошел в небесах, не прошел никто, и я один. Кто-то бродит неподалеку, срывает цветы. А я сорву…
Фраза оборвалась так резко, что офицер посмотрел на него. Но он ничего не сказал.
* * *
Когда Патрик и Джоан бродили по миру, который снова стал и теплым, и прохладным, каким бывает для немногих там, где отвагу зовут безумием, а любовь – предрассудком; когда Патрик и Джоан бродили, и каждое дерево было им другом, открывающим объятия мужчине, а каждый склон – шлейфом, покорно влекущимся за женщиной, они взобрались однажды к белому домику, где жил теперь сверхчеловек.
Бледный и спокойный, он играл на деревянном столе щепочками и травинками. Он не заметил их, как не замечал никого, даже Энид Уимпол, которая за ним ухаживала.
– Он совершенно счастлив, – тихо сказала она. Смуглое лицо леди Джоан просияло, и она не удержалась от слов:
– И мы так счастливы!
– Да, – сказала Энид, – но его счастье не кончится. – И заплакала.
– Я понимаю, – сказала Джоан и поцеловала ее, и тоже заплакала. Но плакала она от жалости; а тот, кто умеет жалеть, ничего не боится.
*
Перевод Н. Чуковского.
(обратно)*
Перевод: Бородицкая М. Я., 1990 г.
(обратно)*
Перевод М. Лозинского.
(обратно)*
И сражался не без… (лат.).
(обратно)*
Перевод: Кутик И. М., 1990 г.
(обратно)*
Глас народа – глас Божий (лат.).
(обратно)*
Согласие (фр.).
(обратно)*
Перевод: Шрейдер Ю. А., 1990 г.
(обратно)*
«Амброзийные ночи» (лат.).
(обратно)*
Перевод: Кружков Г. М., 1990 г.
(обратно)*
Перевод А Якобсона.
(обратно)1
…сублапсарии. – Кальвинистская секта сублапсариев (инфралапсариев) считает, что господний план спасения возник до грехопадения Адама и Евы.
(обратно)2
Виндзорский замок – летняя резиденция английских королей неподалеку от Лондона.
(обратно)3
…называли «Крылатым быком» в честь древнего восточного символа. – Крылатый бык – божество древнеиранской и древнеиндийской мифологии, популярное в искусстве английского декаданса. Горельеф с каменной фигурой крылатого быка установлен на могиле О. Уайльда.
(обратно)4
Итака – остров у берегов Греции в Ионическом море, родина Улисса (Одиссея). Современные ученые сомневаются в том, что нынешний остров Итака и есть Итака из «Одиссеи». Существует гипотеза, что древней Итаке соответствует нынешний остров Левкада.
(обратно)5
Фенианские взгляды – мировоззрение ирландских революционеров-республиканцев второй половины XIX – начала XX в., объединенных в «Ирландском революционном братстве».
(обратно)6
Оттоманская империя – название султанской Турции; образовалась на рубеже XV и XVII вв., распалась после поражения в первой мировой войне (тем самым, когда был написан роман, еще существовала).
(обратно)7
Арабский мистик… отвел от наших уст чашу. – Возможно, речь идет об Ибн аль-Араби (1165—1240), арабском философе и поэте-мистике. Более вероятно, что Честертон имеет в виду пророка Мухаммеда (Магомета, 570—632 гг).
(обратно)8
…не запятнанное… кровью Орфея. – По античному мифу, певца Орфея растерзали менады, спутницы бога вина Диониса.
(обратно)9
«Исчезнет наш могучий флот»… – Стихотворение Р. Киплинга (1865—1936) «Последнее песнопение» (1897), посвященное 60-летию царствования королевы Виктории.
(обратно)10
…квадратной белой доскою… георгиевский крест. – Имеется в виду т.н. крест Св. Георгия, изображенный на его щите.
(обратно)11
Бриарей – в древнегреческой мифологии чудовище с пятьюдесятью головами и сотней рук.
(обратно)12
…зеленое – цвет ирландских изменников. – Ирландию называют «Зеленым островом»; зеленое – ее национальный цвет.
(обратно)13
…порабощена… галилейским суеверием. – Иисус Христос провел детство и проповедовал в Галилее, северной части Палестины.
(обратно)14
Собор св. Павла – главный собор англиканской церкви; построен архитектором Кристофером Реном (1632—1723) в 1675—1710 гг.
(обратно)15
Пальмерстон Генри Тампл (1784—1865) – английский политический деятель, член палаты лордов. Министр внутренних и иностранных дел, премьер-министр с 1855 по 1865 гг.
(обратно)16
Кэмпбелл Колин (1792—1863) – британский воин; прошел путь до бригадного генерала, командовал армией в войне с сикхами (1849—1855) и колониальными войсками в Индии (1858).
(обратно)17
…изъять… из молитвы Господней. – Речь идет о словах «хлеб наш насущный даждь нам днесь» (Мтф., 6, 11).
(обратно)18
Маттерхорн – горный пик в Швейцарских Альпах.
(обратно)19
Стрэнд – одна из главных улиц лондонского центра; соединяет Сити и Вест-Энд. Здесь расположены театры, фешенебельные магазины и гостиницы.
(обратно)20
…И сражался не без… – Имеется в виду строка из «Опытов» (1580) Монтеня (1533—1592): «И сражался не без славы». Кн. III, гл. 13.
(обратно)21
«Песня против песен». – Название пародирует библейскую «Песнь Песней» Соломона.
(обратно)22
Волы Васанские – точнее, «тельцы тучные Васанские». – Пс., 21, 13. Васан – северная часть восточной Палестины, славившаяся своими пастбищами.
(обратно)23
Песнь Мелисанды. – Речь идет о пьесе М. Метерлинка «Пелеас и Мелисанда» (1892); «печальную песнь» героини этой пьесы высмеивал и друг Честертона Макс Бирбом.
(обратно)24
«Лесной приют Марианны» – стихотворение А. Теннисона (1832).
(обратно)25
Песенка Ворона Невермор. – Речь идет о рефрене из стихотворения Э. По «Ворон» (1845).
(обратно)26
…в песнях Бодлера. – Имеется в виду сборник французского поэта Ш. Бодлера (1821—1867) «Цветы зла» (1857).
(обратно)27
…арфы Тары. – Имеется в иду первая строка знаменитых «Ирландских мелодий» (1807) Томаса Мура (1779—1852) «Арфа, что некогда в залах Тары…». Тара – холм в Ирландии, где, согласно преданию, собиралось законодательное собрание.
(обратно)28
Парень из Шропшира – стихотворный цикл (1896) английского поэта А. Э. Хаусмана (1859—1936).
(обратно)29
Королева Шарлотта (1744—1818) – жена короля Георга III (1738—1820), который правил Великобританией с 1760 по 1820 г.
(обратно)30
Джонатан Уайльд – знаменитый разбойник, повешенный в 1725 г. Герой романа Г. Филдинга (1707—1754) «История жизни покойного Джонатана Уайльда Великого» (1743).
(обратно)31
…будешь поэтом-лауреатом. – Поэт-лауреат – пожизненное почетное звание; присваивается выдающимся поэтам Великобритании.
(обратно)32
Псы будут лизать кровь. – Из пророчества Ахаву, царю Израильскому. 2-я Кн. Царств., 21, 19.
(обратно)33
Львы будут выть на холмах. – Контаминация несколких библейских цитат.
(обратно)34
…казнили торквемады. – Речь идет о Томасе де Торкемада (1420—1498, традиц. – Торквемада), испанском великом инквизиторе. Честертон намекает на то, что ирландцев, верных католичеству, обвиняют в фанатизме и жестокости.
(обратно)35
Глас народа – глас Божий. – Изречение восходит к дидиактической поэме Гесиода «Труды и дни» (конец VII – начало VI в. до н.э.). Латинский перевод впервые у Сенеки-старшего (57 г. до н.э. – 39 г. н.э.), «Риторика», I, 1.
(обратно)36
…имя Змиеборца. – Речь идет о святом Георгии, святом патроне Англии, по преданию – убившем дракона (змия). В местах, описанных в романе, сохранился кабак XVI в. с геральдическим знаком св. Георгия.
(обратно)37
«Где статуя Аллаха?» – В исламской традиции возбраняется изображать Аллаха; нарушение запрета карается смертью.
(обратно)38
Закон – это Аллах. – Коран, основной закон мусульман, считается прямой речью Аллаха, обращенной к Мухаммеду.
(обратно)39
Библейская критика – здесь: распространенная (особенно в протестантской теологии) традиция научного разбора текстов Писания, стремящаяся выявить (и устранить) расходящиеся друг с другом трактовки важнейших событий священной истории.
(обратно)40
Варфоломеевская ночь – массовая резня гугенотов католиками в ночь на 24 августа 1572 г. в париже; организована Катериной Медичи и герцогами де Гиз.
(обратно)41
Сентябрьские убийства – эпизод истории французской революции (1792). После восстания 10 августа производились массовые аресты «подозрительных». Когда тюрьмы переполнились, в места заключения стали впускать наемных убийц, устроивших кровавую расправу над безоружными людьми.
(обратно)42
Строки о сынах Велиара. – Велиаром (Велиалом) называют в Библии зло, безбожие, тем самым – Сатану. О сыне Велиара говорится в 1-й Кн. Царств., 25, 17; о детях Велиара – Суд.,19, 22. «Снуют // Гурьбою Велиаровы сыны // Хмельные, наглые; таких видал Содом…» – строки из Мильтона («Потерянный рай», Кн. 1-я. Перев. Арк. Штейнберга).
(обратно)43
…Клиффорд Уильям Кингдом (1845—1879) – английский писатель и философ; отстаивал концепцию «племенной личности», из которой выводил мораль тоталитарного толка: всякая личность должна развиваться к вящей пользе племени.
(обратно)44
Евгеника – учение о наследственности, связующее генетику, медицину и психологию; ставит совершенствование человека в зависимость от его биологических структур. Критике этого учения Честертон посвятил книгу «Евгеника и прочее зло».
(обратно)45
Вопрос… освещен в Книге Исход. – Имеются в виду следующие строки: «Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него». (Исх., 4, 3.).
(обратно)46
…рассказ Уэллса об искривлении пространства. – Речь идет о рассказе «Замечательный случай с глазами Дэвидсона» (1895).
(обратно)47
Чудо в Кане Галилейской – превращение воды в вино (Ин., 2, 1—11).
(обратно)48
…чудесный улов. – Евангельская притча: Симон Петр, Иаков и Иоанн «трудились всю ночь» на озере Геннисаретском, «но ничего не поймали». Тогда Иисус сказал Симону: «Отплыви на глубину, и закиньте сети свои для лова». И было столько рыбы в сетях, что лодки начали тонуть. Лк., 5, 6—10.
(обратно)49
…о знамении Ионы-пророка – т.е. о знамении ветхозаветному пророку Ионе в городе Ниневии (см. Книгу Ионы, а в Новом Завете – Ин., 3, 4; Лк., 11, 29—30).
(обратно)50
Черный камень. – Имеется в виду метеоритное тело Кааба в Мекке, вмонтированное в каменное сооружение кубической формы; символ могущества Аллаха. Считается главным святилищем ислама.
(обратно)51
Абдул Хамид II (1842—1918) – турецкий султан, прозванный «кровавым» за армянскую резню 1894 г. Правил с 1876 по 1909 г.
(обратно)52
Голсуорси Джон (1867—1933) – английский писатель.
(обратно)53
«Прекрасны грозные моря в краю волшебном фей». – Строки из «Оды соловью» (1819) Джона Китса (1795—1881).
(обратно)54
…один старинный поэт назвал Ричарда III вепрем. – Шекспир В. Ричард III, акт I, сц. 3; акт III, сц. 2. На гербе Ричарда III был изображен дикий кабан (вепрь).
(обратно)55
Питт Младший Уильям (1759—1806) – английский политический деятель.
(обратно)56
Гладстон Уильям Юарт (1809—1898) – английский политический деятель, премьер-министр Великобритании с 1868 по 1874 г.
(обратно)57
…великого короля-гугенота Генриха IV. – Генрих IV – король Франции (1553—1610), первый из династии Бурбонов. Подписал в 1598 г. Нантский эдикт, гарантировавший религиозную неприкосновенность французским протестантам (гугенотам).
(обратно)58
…неприятная притча о свиньях. – Мтф., 8, 28—32, Мк., 5, 1—2, Лк., 8, 32—33.
(обратно)59
…блудный сын… живущий во грехе среди свиней. – Лк., 15, 15—16.
(обратно)60
…как кричал… корень мандрагоры. – Согласно поверьям, стон «человекоподобного» корня мандрагоры предвещает смерть тому, кто его услышит.
(обратно)61
Съезд методистов. – Методисты – протестантская секта; основана английским проповедником Джоном Уэсли (1703—1791). В 1907 г. на съезде методистов три крупнейших секты слились в Объединенную методистскую церковь.
(обратно)62
Ритуалисты – представители т.н. оксфордского движения, стремившегося вернуть Англию в лоно католической церкви (вторая половина XIX в.). Лидер движения Э. Пьюзи (1800—1882) ратовал за возвращение от идей Реформации к средневековой теологии.
(обратно)63
Гилберт Уайт (1720—1793) – английский писатель, священник, автор трудов по естественной истории.
(обратно)64
Уолтон Исаак (1593—1683) – английский писатель, автор книги «Искусный рыболов» (1653).
(обратно)65
…потребую голову Ливсона на блюде. – Ср.: «Дай мне на блюде голову Иоанна». Мтф., 14, 18.
(обратно)66
Фулон (1717—1789 – французский финансист и администратор времен французской революции. Ему принадлежат слова: «Что ж, если у этой швали нет хлеба, пусть жуют сено». 22 июля 1789 г. был схвачен и повешен толпой; рот ему набили сеном.
(обратно)67
…не езжу на ослах… Боюсь исторических аналогий. – Верхом на осле в Иерусалим въезжал Иисус Христос. Мтф., 21, 7; Мк., 11, 7; Лк., 19, 33—35; Ин., 12, 14.
(обратно)68
…забыл о Боге в саду. – Речь идет о грехопадении Адама и Евы. (Быт., 3.)
(обратно)69
«Амброзийные ночи» – Публиковавшиеся в «Блеквуд мэгезин» литературно-философские диалоги шотландского писателя Джона Уилсона (1785—1854; наст. имя – Кристофер Норт).
(обратно)70
Вулф Тоун Тибалд (1763—1798) – ирландский революционер, один из основателей общества «Объединенные ирландцы» (1791). После ирландского восстания 1798 г. приговорен к повешению. Покончил с собой накануне казни.
(обратно)71
Парнелл Чарлз Стюарт (1846—1891) – политический деятель Ирландии, лидер освободительного движения.
(обратно)72
Адам давал им имена. – Быт., 2, 19—20.
(обратно)73
Фицджеральд Эдвард (1809—1883) – английский поэт, знаменитый своим переводом «Рубайят» О. Хайяма.
(обратно)74
…мельник Чосера – персонаж «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера (ок. 1340—1400), «бабник и балагур, вояка, отчаянный лгун и вор».
(обратно)75
Клайв Роберт (1725—1774) – командующий английскими колониальными войсками в Азии, губернатор Бенгалии.
(обратно)76
Гошен Джордж Джоакин (точнее – Георг Иоахим, 1831—1907) – британский государственный деятель, крупный финансист.
(обратно)77
Уайтхолл – лондонская улица в районе Вестминстера; связывает Трафальгарскую площадь с площадью Парламента.
(обратно)78
Тернер Джозеф Мэллорд Уильям (1775—1851) – английский живописец, член Академии художеств. Речь идет о картине Тернера «Корабль-призрак» (1840).
(обратно)79
Ньюболт Генри Джон (1862—1938) – английский поэт, издатель и критик; президент Королевского общества литературы. Упомянутые мотивы характерны для его «морских» поэтических циклов.
(обратно)80
…как заучивал в школе балладу. – Честертон имеет в виду «Балладу о Регильском озере» Томаса Бабингтона Маколея (1800—1859). Здесь из баллады взяты первые две строки и последняя; недостает одной строки, третьей, которую Уимпол и заменяет своей импровизацией.
(обратно)81
Джон Сильвер – знаменитый пират, персонаж романа Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ» (1883).
(обратно)82
…там, где жил Вордсворт. – Речь идет об Озерном крае, где жил английский поэт Уильям Вордсворт (1770—1850), поэт-лауреат с 1843 г.
(обратно)83
…недалеко от Брюсселя… умерев молодыми. – Имеется в виду месиечко Ватерлоо, где объединенные армии под командованием герцога Веллингтона разбили Наполеона Бонапарта в 1815 г.
(обратно)84
…как ждал усов несравненный Фледжби. – Фледжби – персонаж романа Ч. Диккенса «Наш общий друг» (1865).
(обратно)85
Если Господь не созиждет дома. – Пс., 126, 1.
(обратно)86
Уистлер Мак Нейл (1834—1903) – англо-американский живописец и график.
(обратно)87
Борджиа – прославленное итальянское семейство, ставшее символом роскоши и разврата (XVI в.).
(обратно)88
Башня в Брюгге – рыночная башня высотой в 107 м. Построена в XIII в.
(обратно)89
…как выразился мой земляк Йейтс. – Йейтс Уильям Батлер (1865—1939) – ирландский поэт.
(обратно)90
…апостол Петр или апостол Андрей. – Андрей, брат Петра, один из двенадцати апостолов, рыбачивший на море Галилейском, считается покровителем моряков.
(обратно)91
Ассасины – секта исмаилитов; египетские султаны часто использовали их в качестве наемных убийц.
(обратно)92
Тауэр – замок на берегу Темзы, построенный в конце XI в. Вильгельмом Завоевателем, чтобы устрашить жителей Лондиниума (Лондона). В прошлом – тюрьма, ныне – музей британской короны.
(обратно)93
…чаши Эскулапа оказались чашами Вакха. – Т.е. медицинские сосуды стали вместилищем для спиртного (Эскулап – бог врачевания; Вакх – бог виноградарства и земледелия).
(обратно)94
…склонны опираться на сипаев. – Сипаи – английские войска в Индии.
(обратно)95
…считали птицами Юноны. – В античной мифологии павлин считается птицей богини Геры (Юноны у древних римлян); «глазки», усеивающие павлиний хвост, – очами Аргуса. После того как Гермес убил Аргуса, Гера перенесла их на оперение павлина.
(обратно)96
Любовь к судьбе… Разве Ницще не учит нас… – О «святой любви» к собственной жизни и судьбе, противостоящей всяческой слабости, Ницше пишет в книге «Так говорил Заратустра» (1883—1884).
(обратно)97
Кисмет – фатум, судьба, рок (тюрк.)
(обратно)98
…с тех пор, как голова его упала перед Уайтхоллом. – Речь идет о казни короля Карла I Стюарта (1600—1649).
(обратно)99
…мы поклонимся золотому идолу, поставленному Навуходоносором. – Библия, Книга Пророка Даниила, 3, 21—2: «Навуходоносор сделал золотой истукан… поставил его в области Вавилонской… и послал сатрапов на торжественное открытие истукана».
(обратно)100
…с тех пор, как пал бедный Монмаут. – Монмаут Джеймс Скотт (1649—1685) – незаконный сын Карла II, претендовавший на английский престол при Якове II, в 1685 г. был казнен.
(обратно)101
…Карл, прозванный Молотом, отогнал их от Тура. – Предводитель франков Карл Мартелл (688—741) разбил в 732 г. под городом Туром войско мусульман.
(обратно)102
…Альфред Великий впервые встретился с данами. – Речь идет о короле саксов Альфреде (848—900 г.); в битве при Эшдауне (Уэссекс) разбил войско данов (датчан) и вскоре занял престол. Честертон неоднократно писал о нем (эссе «Альфред Великий», поэма «Баллада о белом коне» и др.).
(обратно)

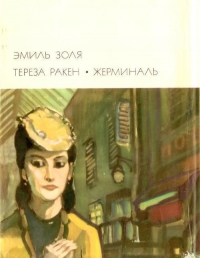
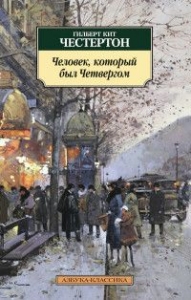

Комментарии к книге «Перелетный кабак», Гилберт Кийт Честертон
Всего 0 комментариев