Эдмон Гонкур Братья Земгано
Госпоже Доде [1]
ПРЕДИСЛОВИЕ
Можно издавать «Западни» и «Жермини Ласертё»[2], можно волновать, возбуждать и увлекать некоторую часть публики. Да! – Но, по-моему, успехи этих книг – лишь блестящие схватки авангарда, великое же сражение, которое предопределит торжество реализма, натурализма, «этюда с натуры» в литературе, развернется не на той почве, какую избрали авторы этих двух романов. Когда жестокий анализ, внесенный моим другом г. Золя и, быть может, мною самим в описание низов общества, будет подхвачен талантливым писателем и применен к изображению светских мужчин и женщин в образованной и благовоспитанной среде, – тогда только классицизм и его охвостье будут биты.
Написать такой роман – роман реалистический и изящный – было нашей – моего брата и моей – честолюбивой мечтой. Реализм, – уж если пользоваться этим глупым словом, словом-знаменем, – не имеет, в самом деле, единственным своим назначением описывать тo, что низменно, что отвратительно, что смердит; он явился в мир также и для того, чтобы художественным письмом запечатлеть возвышенное, красивое, благоухающее и чтобы дать облики и профили утонченных существ и прекрасных вещей, – но все это лишь после прилежного, точного, не условного и не мнимого изучения красоты, после изучения, подобного тому, какому за последние годы новая школа подвергла уродливое.
Но почему, скажут мне, не написали вы сами такой роман? Не сделали хотя бы попытки к этому? – А вот почему. Мы начали с черни, потому что женщина и мужчина из народа, более близкие к природе и дикости, суть существа простые, не сложные, тогда как парижанин или парижанка из общества, эти крайне цивилизованные люди, резко обозначенная оригинальность которых вся состоит из оттенков, полутонов, из неуловимых мелочей, подобных кокетливым и незаметным пустячкам, из которых создается особенность изысканного женского туалета, – требуют многих лет изучения, прежде чем удастся разгадать, узнать, уловить их, – и даже самый гениальный романист, поверьте мне, никогда не поймет этих салонных людей по одним россказням приятелей, идущих в свет на разведки вместо него самого,
Кроме того, вокруг парижанина, вокруг парижанки все запутано, сложно, требует для проникновения чисто дипломатического труда. Обстановку, в которой живет рабочий или работница, наблюдатель схватывает в одно посещение; а прежде чем уловить душу парижской гостиной, нужно протереть шелк ее кресел и основательно поисповедывать ее палисандровое или позолоченное дерево.
Поэтому изобразить этих мужчин, этих женщин и даже среду, в которой они живут, можно только при помощи громадного скопления наблюдений, бесчисленных заметок, схваченных на лету, целых коллекций «человеческих документов», подобных тем грудам карманных альбомов, в которых после смерти художника находят все сделанные им за всю жизнь зарисовки. Ибо, – скажем это во всеуслышание, – одни только человеческие документы создают хорошие книги: книги, где подлинное человечество твердо стоит на обеих ногах.
Замысел романа, действие которого должно было происходить в большом свете, в свете самом утонченном, – отдельные хрупкие и мимолетные элементы этого романа мы медленно и кропотливо собирали, – я бросил после смерти брата, так как был убежден, что невозможно успеть в этом в одиночку… потом я вновь принялся за него… и он будет первым романом, который я намереваюсь издать в будущем[3]. Но напишу ли я его теперь, в моем возрасте? Это мало вероятно… и настоящее предисловие имеет целью сказать молодым, что в этом теперь успех реализма, только в этом, а не в литературе о подонках, уже исчерпанной в наши дни.
Что касается «Братьев Земгано» – романа, который я издаю сейчас, – то это опыт в области поэтического реализма.[4] Читатели жалуются на жестокие переживания, которым подвергают их современные писатели своим грубым реализмом; они не подозревают, что создающие этот реализм сами страдают от него гораздо сильнее и что они иногда по нескольку недель болеют нервным расстройством после мучительно и трудно рожденной книги. Так вот, в этом году я, – стареющий, недомогающий, бессильный перед захватывающим и тревожным трудом моих прежних книг, – переживал именно такие часы, то душевное состояние, когда слишком правдивая правда была неприятна и мне самому! – И на этот раз я создал фантазию, грезу, к которой примешалось несколько воспоминаний. [5]
Эдмон де-Гонкур
23 марта 1879 г.
I
В открытом поле, у подножья верстового столба, врытого на перекрестке, сходились четыре дороги. Первая из них пролегала мимо замка в стиле Людовика XIII, где только что раздался первый зовущий к обеду удар колокола, и поднималась затем длинными извилинами на вершину крутой горы. Вторая, обрамленная кустами орешника и переходившая невдалеке в плохой проселок, – терялась между холмами, склоны которых были усеяны виноградниками, а вершины лежали под паром. Четвертая тянулась вдоль песчаных карьеров, загроможденных решетами для просеивания песка и двуколками с поломанными колесами. Эта дорога, с которой сливались три другие, вела через мост, гудевший под колесами телег, к городку, расположенному амфитеатром на скалах и опоясанному большой рекой, один из изгибов которой, пересекая пашни, омывал край начинавшегося за перекрестком луга.
Птицы стремительно летали в небе, еще залитом солнцем, и испускали резкие отрывистые крики – краткие вечерние приветствия. Прохлада спускалась в тени деревьев, лиловый сумрак разливался по колеям дорог. Лишь изредка доносилось жалобное поскрипывание уставшей телеги. Глубокая тишина поднималась с пустых полей, покинутых человеческое жизнью до следующего дня. Даже река, покрытая рябью лишь вокруг купавшихся в ней веток, казалось, утратила стремительность и текла, как бы отдыхая.
В это время на извилистой дороге, сбегавшей с горы, показалась странная фура, запряженная запаленною белою лошадью и гремевшая железом, как расхлябанная машина.
То была огромная повозка с почерневшим и проржавевшим цинковым верхом с намалеванной на нем широкой оранжевой полосой. В передней части повозки были устроены своего рода сени, где несколько стеблей плюща, растущего в старой заплатанной кастрюле, поднимались кверху в виде фронтона из зелени; плющ, кочующий с повозкой, сотрясался при каждом толчке. За повозкой следовала причудливая зеленая крытая двуколка, кузов которой расширялся кверху и выпячивался по бокам над двумя большими колесами, образуя подобие утолщенных боков парохода, вмещающих койки пассажиров.
На перекрестке с передней повозки соскочил маленький длинноволосый седой старичок с дрожащими руками, а пока он распрягал лошадь, – в арке, обрамленной плющом, показалась молодая женщина. На плечах у нее была накинута длинная клетчатая шаль, прикрывавшая ее торс, в то время как бедра ее и ноги были лишь обтянуты трико и казались обнаженными. Ее руки, скрещенные на груди, зябкими движениями поднимались по плечам, стягивая вокруг шеи шерстяную шаль, в то время как левая нога отбивала такт привычного марша. Так она стояла некоторое время, повернув голову красивым движением голубки; профиль ее стерся в тени, а на ресницах играл свет, и она обращалась к кому-то внутрь повозки с ласковыми и нежными словами.
Старик, распрягши лошадь и сняв оглобли, заботливо подставил к повозке скамеечку, и женщина спустилась, взяв на руки прелестного ребенка в короткой рубашонке, более крупного и крепкого, чем обычно бывают грудные дети. Она откинула шаль и, дав грудь сыну, продолжала медленно ступать розовыми ногами; она направлялась к реке в сопровождении другой женщины, которая время от времени целовала голое тельце младенца и иногда наклонялась к земле, чтобы сорвать листок «зуб-травы», из которой выходит такой вкусный салат.
Из второй повозки вылезли люди и животные. Во-первых, облезлый пудель со слезящимися глазами, который от радости, что сошел на землю, пустился в погоню за собственным хвостом. Затем разные пернатые, радостно махая крыльями, разместились на крыше повозки, как на насесте. Потом выскочил подросток в матросской куртке, надетой прямо на голое тело, и помчался по полям на разведки. Вслед за ним вышел великан, шея которого была одинаковой толщины с головой, а лоб представлял собою целые заросли шерсти. Затем еще бедняга, одетый в самый жалкий сюртучишко, какой только носило когда-либо человеческое существо; он втягивал понюшку табаку из бумажного фунтика. Наконец, когда, казалось, зеленая тележка уж окончательно разгрузилась, показался еще один чудной субъект, у которого рот доходил до ушей благодаря следам плохо стертого грима. Зевая, он стал потягиваться, потом, увидав реку, исчез в глубине повозки и показался снова с сачками для ловли раков.
То катясь колесом, то пускаясь галопом, эта странная личность, одетая в лохмотья цвета гусиного помета с черными разводами и вырезанными по краям зубцами, достигла воды. Тут росла, склонившись к реке, старая, наполовину сгнившая ива; ее расщепленный ствол был набит черноземом и мхом, а верхушка, еще живая, давала слабые побеги, увитые густой повиликой. Под ивой, на смятой траве, ногами рыболовов были вытоптаны ступеньки, образующие подобие лесенки. Паяц скользнул туда на животе и свесился над прозрачной водой, где прибрежный ил и рыжие корни ивы растворялись в синеве глубокой реки и где его причудливое отражение спугнуло целую стаю рыб, рассеявшихся подобно темным стрелам на сверкающих плавниках.
Женщина с ребенком у груди смотрела на удлиняющиеся на реке тени и на заходящее солнце, образовавшее в одном месте течения вертящуюся огненную полосу; она смотрела на плескавшуюся воду, отражавшую одновременно и синеву неба, и багрянец заката; смотрела остановившимся и глубоким взглядом на бесконечную беготню длинноногих водяных пауков по искрящейся поверхности реки и изредка вдыхала раздувающимися по-звериному ноздрями запах мяты, который тянул по берегу поднявшийся ветерок.
– Эй, Затрещина, к плите! – закричал басом Геркулес; он сидел на ящике посреди лужайки в геройских башмаках с меховой оторочкой и чистил с бесконечной нежностью картошку ласковыми движениями рук.
Затрещина вернулась к повозкам, а следом за ней подошла женщина с ребенком и приняла участие в приготовлении ужина, молча, ни к чему не притрагиваясь и отдавая распоряжения так, будто играла пантомиму.
В это время седой старик, привязав обеих лошадей к столбу, надел пунцовую гусарскую куртку с серебряными нашивками и позументом и, подхватив лейку, направился к городу.
Синева неба стала совсем бледной, почти бесцветной, лишь с легким желтым оттенком на востоке и красноватым на западе; несколько продолговатых темно-коричневых облачков тянулось на зените, напоминая бронзовые клинки. С умирающего неба незаметно спускалась в еще не угасший дневной свет та сероватая дымка, что сообщает неясность контурам предметов, делает их смутными и расплывчатыми, стирает формы и очертания природы, засыпающей в этом сумеречном забытье, – начиналась грустная, нежная и неуловимая агония света. Только в городке с поблекшими домиками фонарь у моста еще мерцал отблеском дневного света, отражавшимся в его стекле, а церковная колокольня с узкими овальными окнами уже вырисовывалась лиловым силуэтом на тусклом серебре заката. Вся местность стала казаться лишь смутным и бесформенным пространством. И река, принимавшая то густо-зеленые оттенки, то цвет грифельной доски, превратилась теперь в бесцветный журчащий поток, куда черные тени деревьев бросали расплывавшиеся пятна туши.
Тем временем усиленно готовился ужин. На лужайку, к реке, была вынесена плита, где кроме картошки, очищенной Геркулесом, варилась еще какая-то еда. Паяц опустил в котел нескольких раков, которые, падая, скрипели клешнями о медное дно. Старик в гусарской куртке вернулся с лейкой, полной вина. Затрещина расставила зазубренные тарелки на ковер, служивший обычно для акробатических упражнений, а вокруг ковра в ленивых позах расположились члены труппы и вытащили из карманов ножи.
Ночь овладела умирающим днем. В домике на конце главной улицы города блестел одинокий огонек.
Вдруг из поросли выскочил голый до пояса юноша; в свернутой фуфайке он нес отбивающегося зверька. При виде зверька на лице женщины в трико засветилась почти жестокая радость, и, казалось, на мгновенье ей припомнилось что-то из прошлого, к которому она мысленно обратилась.
– Дайте глины! – воскликнула она низким грудным голосом, в котором звучали странные и волнующие нотки, и захлопала в ладоши.
С кошачьей ловкостью, ни разу не уколовшись, она быстро обложила живого ежа глиной, превратив его в шар, – в то время как старик разжег из сухих веток громадный пылающий костер.
Труппа приступила к ужину. Мужчины пили вкруговую из лейки. Затрещина ела стоя, поглядывая на плиту и подчас запуская руку в кушанья, которые передавала к столу. Женщина в трико положила ребенка около себя на край ковра и не столько ела, сколько любовалась дорогим существом.
Ужинали молча, как уставшие и проголодавшиеся люди, поглощенные к тому же зрелищем летней ночи на берегу реки, перелетами ночных птиц, всплесками рыб, мерцанием звезд.
– Эй, с моего места! – буркнул паяц, грубо оттолкнув человека в жалком сюртучке – тромбониста труппы. И паяц стал жадно есть, а тем временем в померкшем небе послышался далекий звон, казавшийся звоном хрустального колокола, – медленные удары, небесные звуки, полные нездешней грусти, настолько сливавшиеся с вечерним воздухом, что, когда они прекратились, казалось, будто ухо их все еще слышит.
Глина, в которой пекся еж, обратилась в кирпич; Геркулес разбил его ударом топора, и зверек, с которого сходила кожа вместе с колючками, был поделен между присутствующими.
Женщина в трико взяла себе маленький кусок и, смакуя, стала его медленно посасывать.
Ребенок, лежавший около матери, ножками и ручками понемногу растолкал вокруг себя тарелки и, став полноправным и единственным хозяином ковра, заснул животиком кверху.
Все наслаждались прекрасным вечером, наполненным стрекотанием кузнечиков и шелестом листвы в вершинах высоких тополей. Среди дремотной задумчивости ночи дуновенья теплого ветерка пробегали по лицам, как ласковые и щекочущие прикосновенья. Иногда из-за ручья, поросшего кустами гигантской крапивы, листья которой в этот час казались вырезанными из черной бумаги, вылетала птица; она пугала боязливых женщин, и в этой пугливости была своя доля прелести.
Вдруг луна, выступив из-за деревьев, осветила спящего ребенка, котооый лениво задвигал изящным тельцем, словно лунный свет щекотал его своими белыми лучами. Он улыбался каким-то невидимым предметам и мило ловил что-то пальчиками в пустоте. А когда он проснулся и стал двигаться быстрее, – его тело обнаружило такую гибкость и эластичность, что можно было подумать, что у него гнущиеся кости. Он брал ручонкой ножку и тянул ее ко рту, как бы намереваясь пососать.
Его прелестная головка с тонкими белокурыми завитками, ясные глаза в глубоких и нежных орбитах, вздернутый носик, точно помятый грудью кормилицы, надувшиеся губки, оттопыренные щечки, нежный выпуклый животик, мягкие ляжки, покрытые пушком ножки, пухлые ступни и славные ручонки, – все упитанное его тельце со складками на затылке, вокруг рук и ног, с ямочками на локтях и щеках, – тельце, вскормленное молоком, озаренное опаловым светом луны, придававшим ему прозрачную бледность, – все это создавало очаровательную картину, достойную вдохновения поэта.
Пока мать любовалась младшим сыном, юноша в матросской куртке, стоя коленом на земле, пытался поймать на палочку шар и удержать его в равновесии, затем, улыбнувшись своему маленькому брату, начинал фокус сначала.
В ночной тиши, на лоне природы все инстинктивно возвращались к своим дневным занятиям, к своему ремеслу, которое завтра должно дать хлеб всей труппе.
Старик в гусарской куртке сидел в повозке и перебирал старые бумаги при свете сальной свечи.
В стороне, на лужайке, еще освещенной луной, Затрещина репетировала сцену пощечин с тромбонистом, который должен был выступить на следующий день в комической интермедии; женщина учила простачка, как хлопать в ладоши, делая вид, что получаешь пощечину.
А паяц снова вернулся к сачкам. И, сидя под ивой, тонкая серая листва которой образовала над его головой веер, казавшийся огромной запыленной паутиной, – он дремал над зеленоватой глубью, свесив ноги в воду, где у самого дна спало отражение звезды.
II
Директор труппы, старик в гусарской куртке, синьор Томазо Бескапе, был когда-то рыжим, а теперь уже почти совсем седым итальянцем, с подвижными и постоянно дергающимися, словно от тика, чертами лица, с острым взглядом, рыхлым носом, язвительным ртом, бритым подбородком, – с лицом мима, обрамленным длинными волосами цвета пронизанной солнцем пыли.
У себя на родине Томазо Бескапе был поочередно то поваром, то певцом, то оценщиком кораллов и лаписа-лазури, то счетоводом у торговки четками на via Condоlti,[6] то чичероне, то чиновником посольства, – но однажды этот беспокойный искатель приключений попал на Восток, где, благодаря знанию всех языков и всех диалектов, стал драгоманом палестинских туристов; потом, испробовав еще бесконечное число никому неведомых и необыкновенных профессий, – он сделался бродягой-лупёром [7] в Малой Азии.
Странной натурой был этот итальянец, неистощимый в выдумках и уловках, способный ко всем ремеслам, умевший обращаться со всякими людьми, со всевозможными вещами, любивший превращения, которые несла ему изменчивая жизнь, похожая на перемены декораций в театре. Нищету, в которую он впадал в антрактах этого жизненного спектакля, он переносил с насмешливой веселостью, свойственной писателям XVI века, и даже в самых отчаянных бедствиях сохранял чисто американскую уверенность в завтрашнем дне. Сверх того, он был большим любителем природы и тех бесплатных зрелищ, которыми она дарит людей скитающихся пешком по белу свету.
Пробродив несколько лет в окрестностях древней Трои в ленивых поисках особых наростов на местном орешнике, идущих на выделку фанеры для мебели и высоко ценимых в Англии, – Бескапе оказался в один прекрасный день билетером цирка «Олимпико» в Пере,[8] где, в случае надобности, совмещал должность конторщика с обязанностями наездника. Здесь, получая довольно скудное жалованье, он задумал предприятие, которое в то время было новинкой. Он стал ходить по кофейням, где турки, сидя на ковриках, покуривают трубки, и стал вытаскивать прямо из-под них эти коврики, давая владельцам взамен меджидие, [9] а несколько дней спустя перепродавал коврики туристам. Торговля пошла удачно, он приобрел самоуверенность и стал покупать на базарах уже целые кипы ковров, причем ему было достаточно только взглянуть на изнанку ковра, – так хорошо он стал разбираться в этом деле и так уверен был в лености турецких купцов. Вскоре, не довольствуясь маленьким домашним складом, он вошел в сношения с агентами в Париже и Лондоне, где в то время художники начали покупать эти несравненные изделия восточных колористов. В коврах этих, среди феерических оттенков шерсти, часто попадаются на известных промежутках небольшие пряди волос, которыми отмечается дневной урок женщин, ткущих ковры любовно, не торопясь в своих залитых солнцем домах. Благодаря этой торговле Бескапе стал почти богачом, и тут-то, вместе с солидностью, явилось у него желание самому стать где-нибудь хозяином. Как раз в это время Лестропад, директор цирка «Олимпико», предложил ему сопровождать его труппу на Дальний Восток, где он мечтал нажить большое состояние. Тогда Бескапе стал вести переговоры с товарищами, выведывать, кого не привлекает это путешествие, и красноречивой болтовней стал убеждать их перейти под его начало и отправиться с ним в Крым, где, по имеющимся у него точным сведениям, цирк будет встречен весьма благосклонно.
Лестропад, от которого откололось человек десять артистов, не отказался от своего рискованного замысла. В один прекрасный день он уехал с еще довольно многочисленной труппой в Москву, оттуда – в Вятку, пересек Сибирь; в пустыне Гоби путешественники вступили в перестрелку с монголами, во время которой большая часть труппы погибла, погибли и все лошади, и только чудом удалось Лестропаду добраться до Тянь-Цзиня[10] вместе с дочерью, зятем и еще одним клоуном. Неутомимый антрепренер приехал в Тянь-Цзинь как раз во время убийства консула и сестер Красного креста, но, не устрашившись и не падая духом, снова пустился в путь и достиг, наконец, Шанхая, откуда, пополнив труппу матросами и китайскими пони, направился в Японию.
Тем временем Томазо Бескапе, закупив необходимый инвентарь, отбыл в Симферополь, где цирк его имел огромный успех. Хитрый дипломат, каким в душе был этот итальянец, догадался по приезде в Симферополь завязать знакомства с местными офицерами и поставить свое дело, так сказать, под их покровительство. Офицеры, очарованные его любезностью, живостью ума и добродушием, стали восхвалять цирк и создали ему популярность. Итальянец стал участником их кутежей, и часто ночью вся компания отправлялась будить цыганский табор, где директор цирка и офицеры просиживали до зари, глядя на пляску цыганок, среди разливанного моря донского шампанского, под лязг жестяных, расписанных аляповатыми цветами подносов, на которых разносилось печенье.
Во время этих ночных посещений Томазо Бескапе, всю жизнь отличавшийся влюбчивостью, несмотря на свои пятьдесят лет, воспылал к одной юной цыганке той страстью, какую способны возжечь проклятые чары этих плясуний. Танцовщица чувствовала к директору одновременно и отвращение молоденькой девушки к старику, и племенную неприязнь цыганки к чужаку. Авдотья Рудак, мать танцовщицы, хотя и была сводней, все же сохранила по отношению к своему чаду некоторые предрассудки и соглашалась продать старику дочь не иначе, как в законный брак, несмотря на предложенную им громадную сумму, всецело поглощавшую барыши от торговли коврами и доход первого года его деятельности в Симферополе. Старый муж был точно околдован и боготворил молодую женщину, которая вышла за него с нескрываемым отвращением и холодность которой длилась все время их брака. Мучимый ревностью, он через полгода после свадьбы покинул Крым, а когда сделался отцом, – проявил полное безразличие к детям, словно весь пыл и вся нежность ею сердца безраздельно и полностью принадлежали его очаровательной жене.
Он привез свою труппу в Италию, потом почти тотчас же переправился во Францию и в течение десяти лет давал представления, постепенно, с годами, сокращая количество лошадей и наездников и сводя труппу к более скромным размерам, в соответствии с уменьшением доходов и усилением конкуренции. Во Франции он давал представления приблизительно в течение девяти месяцев в год, а на зиму возвращался на родину и работал это худшее время года в Ломбардии и Тоскане.
Томазо Бескапе был больше чем простой скоморох. Он обладал разносторонними познаниями, взятыми неизвестно откуда, случайным образованием, почерпнутым не из книг, а из рассказов людей всевозможных национальностей, которых он расспрашивал, всячески вызывая на разговор, по дорогам и в других местах; он видел на своем веку бесконечное множество самых разнообразных людей. Помимо того, он обладал еще одной способностью – даром юмора, шутливым воображением. Он сочинял комические сценки, выходившие необычайно забавными. И, копаясь в часы досуга в своей коллекции старых итальянских пантомим, он иногда находил им действительно изящное и остроумное применение.
* * *
Степанида, или по-французски Этьенетта, которую звали русским уменьшительным именем – Стеша, казалась еще совсем юной женщиной, хоть и была уже матерью двоих детей. Она была красива дикой красотой, полной надменной заносчивости в осанке и походке. Ее пышные, буйные волосы извивались крупными непокорными прядями над утонченным и пленительным овалом лица, овалом индийской миниатюры. В ее глазах играл темный электрический блеск; смуглый цвет лица этого мечтательного создания был слегка отмечен на щеках естественным румянцем, похожим на слабый след стертого грима, и неизъяснимо-странная улыбка временами появлялась на ее строгих губах. Своеобразие этой красоты прекрасно сочеталось с блестками, мишурой, сусальным золотом, блеском ожерелий фальшивого жемчуга, грубыми стекляшками балаганных диадем, золотыми и серебряными зигзагами на ярких лохмотьях.
Цыганка, выданная замуж за giorgio, за чужака, – что случается очень редко, – подобно своей расе, воздерживающейся в течение веков от ассимиляции с европейской семьей, осталась дочерью первобытных кочующих народов Гималаев, народов, живущих от начала мира под открытым небом и занимающихся покражами и ручным ремеслом. Прекратив всякие сношения со своими, вступив в плотский союз с христианином, ежедневно общаясь с уроженцами Франции и Италии, она держалась в стороне от мыслей, стремлений, умственных навыков, от сокровенного духа и внутренней жизни своих сожителей, мечтательно углубилась в самоё себя, упорно погружалась в прошлое, благоговейно поддерживая в себе наклонности, вкусы, верования своих таинственных предков. Она жила в странном и непонятном общении с таинственным повелителем ее племени, с неопределенным и далеким жрецом-царем, отношения которого с подданными осуществлялись, казалось, при посредничестве голосов природы; она поклонялась ему в тайном и суеверном культе, беспорядочно примешивая сюда обряды всех религий, и посылала своего сынишку к церковным причетникам за святой водой, которою кропила лошадей и внутренность странствующей повозки.
Степанида одним только телом, так сказать, жила среди западных, европейских уроженцев труппы, мысль же ее всегда отсутствовала и была далеко, а большие гордо блуждающие глаза, в конце концов, всегда обращались, подобно некоторым цветам, на Восток. И Степанида была связана с новым, навязанным ей отечеством, со случайными знакомствами одними только узами – неистовым, почти животным, материнским чувством к своему младшему сыну, своему маленькому красавчику Лионелло, имя которого, сократившись, превратилось в ее устах в Нелло.
Впрочем, вне материнства эта странная самка, со своей беспечностью и безразличием к благам жизни, с врожденным непониманием добра и зла, с несовершенной памятью о событиях и с притуплённой способностью восприятия окружающих предметов, свойственной некоторым восточным народам, – казалась женщиной, не очнувшейся от сна и словно не вполне уверенной в своем существовании в действительно реальном мире.
* * *
Старший сын директора труппы, Джованни, – Джанни, как его звали, – обладал телосложением юноши, сквозь молодость которого начинало обозначаться выражение силы, а нарождающиеся выпуклости мускулов уже становились заметными при усилиях и движениях. На руках у него перекатывались округлости атлетических бицепсов; грудные мускулы выделялись плоскими выступами античных барельефов, и при каждом движении торса по его бедрам пробегала под кожей лепка глубоко заложенных широких мускульных связок. Он был высок, у него были красивые длинные ноги, составляющие красоту мужского телосложения и придающие стройным и в то же время плотным формам изящную и подвижную отточенность; упругие поверхности его ног, на икрах подобные бронзовым пластинкам поножей, нежно сужались к подколенкам и лодыжкам. Наконец, у юноши замечалась удлиненность сухожилий: признак слабости у всех, признак мощи у гимнастов, – удлиненность, которая при сокращении мускула превращается во внушительную толщу.
В то время как большинство мужчин и женщин идут в этот мирок и привязываются к нему лишь по врожденной склонности к бродячей, скитальческой жизни, – Джанни чувствовал настоящую любовь, подлинную страсть к своему ремеслу и не променял бы его ни на какое другое. Он был акробатом по призванию. Он не знавал усталости и охотно по первому же требованию публики вновь повторял упражнения, причем его вертящееся под шум аплодисментов тело, казалось, вовсе и не собирается остановиться. Он испытывал бесконечную радость от удачного завершения трюка, от изящества и четкости его исполнения. Он снова и снова, ради собственного удовольствия, работал над этим трюком, стараясь улучшить, усовершенствовать его, придать ему изящество, живость, волшебство, с помощью которых ловкость и проворство торжествуют над мнимыми невозможностями физического мира. Он со смешным отчаянием и огорчением искал разрешения новых, еще незнакомых ему трюков, слух о которых доходил до отцовского балагана, и упрямо добивался намеченной цели, пока не достигал ее. И первым его вопросом к актерам повстречавшейся на дороге труппы бывал всегда:
«Ну, как, – есть в Париже какой-нибудь новый трюк?»
Он проводил беспокойные, каторжные ночи, когда в кошмарах, вызванных усталостью, вновь повторяется дневная работа, – ночи битв с матрацем, в течение которых тело Джанни продолжало делать во сне неистовые гимнастические упражнения.
* * *
Второй сын был пока еще только грудным младенцем, которого мать, в своем узком и замкнутом материнстве, упрямилась кормить почти до трехлетнего возраста, так что можно было наблюдать, как мальчуган покидает детей, с которыми играл, чтобы пойти пососать грудь, а потом вновь бегом возвращается к своим маленьким товарищам.
* * *
Сила в кротости и безобидности – таков был Геркулес труппы, чрезвычайно ленивый и скупой на движения, когда не работал. Его постоянно видели в распластанных позах, он давил осевшим тяжелым туловищем стулья и лавки, трещавшие под ним; в лице его была доля свирепой животности фавнов Прюдона, а во рту, обычно полуоткрытом, виднелись волчьи зубы. Он обладал необыкновенным аппетитом, который ничто не могло удовлетворить, и утверждал, что в течение всей своей жизни ни разу не наелся досыта и был оттого всегда грустен наподобие желудка, который вечно чувствует в себе пустоту.
* * *
У паяца, с бритым, как у шелудивого, черепом, была одна из тех средневековых голов, несколько моделей которых художнику Лейсу[11] еще удалось найти для своих полотен в старинном австрийском Брабанте. Можно было бы сказать, что это черты жалкого первобытного человечества, находящиеся в стадии формирования: глаза казались влитыми в веки как попало, нос состоял из приплюснутого куска мяса, рот казался отверстием бесформенной глиняной посудины, лицо напоминало недоноска и было грязного, темного цвета. И уродец этот был исподтишка злым, сварливым, придирчивым, крал еду, оставленную на завтра, и все, что валялось без присмотра. Его уже раз двадцать выгнали бы из труппы, если бы не покровительство Степаниды, чувствовавшей тайную и странную симпатию к человеку, в котором она находила наклонности к злобной хитрости и воровству, свойственные ее племени. Агапиту Кошгрю нравилось мучить животных, своими прикосновениями во время парадов [12] он старался причинить им боль, и даже его балаганная ирония, казалось, хранила злобный отзвук всех полученных им безобидных пинков в зад. Несчастным избранником паяца был в особенности Алкид, [13] которого он изводил, мучил, приводил в отчаяние всевозможными дьявольскими выдумками, он уязвлял самые чувствительные места глупого силача, а тот не решался отомстить за себя из боязни одним ударом убить мучителя. И слабый безжалостно злоупотреблял своим преимуществом над огромным страстотерпцем. Однако иногда случалось, что Рабастенс, выйдя из терпения, смахивал паяца легоньким шлепком полумертвой руки. Тогда Агапит Кошгрю принимался жалобно плакать крокодиловыми слезами, становился отвратительно гротескным, благодаря детским ужимкам огорченного лица и уморительным дурацким движениям, к которым в течение всей жизни ремесло приучало его тело. Но вскоре он усаживался возле своего недруга, прижимался к нему с таким расчетом, чтобы воспрепятствовать второму шлепку, и, защитившись таким образом, беспрепятственно долбил его в бок маленькими злобными ударами локтя, называл его большим трусом и долго сидел, прижавшись к нему, заплаканный и сопливый.
* * *
Тромбонист был бедным малым, живущим в такой глубокой нищете (обычной для низших профессий искусства), что самые сумасбродные его желания не шли дальше того, как бы при получке жалованья добыть себе полчашки кофея с рюмочкой водки. Это было пределом его стремлений. И вот этот артист, так мало получавший, не имевший даже рубашки, артист, особа которого состояла из одежды, где было больше сала, чем шерсти, к тому же свалявшейся, и из башмаков с отставшими подметками и торчащими из них гвоздями, благодаря чему казалось, что он ходит на полуразинутой челюсти акулы. – этот человек, столь убогий, был счастлив! Он был в дружеских отношениях с любимым существом, которое платило ему тем же и заставляло его забывать все, вплоть до злобных выходок паяца. Он жил в дружбе с цирковым пуделем, который вследствие болезни, сильно напоминавшей заболевание человеческого мозга, страдал припадками внезапной потери памяти – потери столь полной, что пришлось отказаться от его хитроумных фокусов, которые он исполнял, пока был здоров; а тромбонист, к тому же мало избалованный любовью себе подобных, – как мужчин, так и женщин, – настолько привязался к бедной суке, теперь почти всегда недомогающей, что, когда замечал особенно резкую красноту ее глаз, лишал себя благословенной чашки кофея, на которую копил несколько дней по су, и покупал собаке слабительного. За это – не за слабительное, которое Ларифлетта не любила, а за все заботы, сопровождавшие очищение ее желудка, – собака-инвалид в минуты облегчения благодарила своего благодетеля взглядом, выражавшим всю нежность, какую только способны передать глаза животного, благодарила его даже признательной улыбкой, обнажавшей все ее зубы, – да, улыбкой, так как сука эта умела улыбаться. И вся труппа, бывшая свидетельницей нижеследующего случая, могла бы подтвердить это. Однажды утром на поставленной на землю печке тромбонист разогревал что-то в кастрюльке, хорошо знакомой Ларифлетте; пудель стоял тут же, поблизости с опущенным хвостом и с надутым, но покорным видом; он видел, как сняли с огня дымящуюся жидкость, как перелили ее в миску, потом сильно размешали деревянной ложкой, а потом, к его великому удивлению, жидкость мимо его носа поднялась кверху, достигла рта тромбониста и исчезла в нем. В тот миг, когда Ларифлетта вполне уверилась в том, что вещь, вызывавшая у нее колики, поглощена ее старым другом, а не ею, – на ее собачьем лице появилась самая радостная и насмешливая улыбка, какая только могла бы появиться на лице человека.
* * *
Затрещина была обязана своим прозвищем детству и юности, представлявшим непрерывную череду грубостей и побоев. Когда ее в семилетнем возрасте подобрали, как бродяжку, на улицах Парижа и привели для опроса в суд, она отвечала председателю: «Сударь, мои папа и мама умерли от холеры… дедушка отдал меня в приют… он умер через неделю после папы и мамы… тогда я вернулась в Париж, и я заблудилась в нем, потому что он такой большой»
Теперь это была двадцативосьмилетняя женщина с загорелым лицом, с загорелыми, как и лицо, руками, черными до локтей, с широким белым оспенным рубцом у плеча. Она всегда бывала одета в розовое тарлатановое платье, усеянное искусственными гирляндами и перехваченное поясом, который расширялся на животе в ромб, с напечатанными красной краской всевозможными кабалистическими знаками. Под объемистой грудью у нее была необыкновенно тонкая талия, вся трепещущая беспокойной жизнью. Глаза ее были окружены страшными черными кругами, которые вместе со смуглостью кожи придавали что-то жуткое сверкающим белкам. Ее волосы, со вколотыми в них двумя серебряными ромашками, были подобраны на китайский лад, а сзади спускались на спину подобно жесткому султану каски. Двигательные мускулы шеи, благодаря худобе ее плеч, резко выступали толстыми сплетениями у надключичных впадин, – ибо Затрещина была очень худа при сильно развитых грудях и бедрах. У нее был большой рот с прекрасными белыми зубами, нос одновременно и вздернутый и тонкий, а под скулами образовались впадины, благодаря которым при известном освещении ясно обозначался костяной остов черепа, как бы проступавший наружу сквозь кожу. Лихорадочность горящих глаз, нездоровый цвет лица, худоба лица и шеи, наконец, потрепанность и изможденность всего ее изнуренного существа – свидетельствовали о нищете, о страданиях, о голоде, о простудах и солнечных ударах, об усталости этой женщины с прошлым девки, которой водка часто заменяла недостающий хлеб.
На подмостках во время парада Затрещина появлялась с цветком в зубах и, положив руки на бедра ладонями наружу, беспрестанно сердито теребила талию, точно пробовала, не удастся ли ей подтянуть и вытащить ее из туловища, после этого комедиантка откидывалась назад, сложив напряженные и вытянутые вперед руки с растопыренными пальцами и вывернутыми локтями, застывала в неподвижности, запрокинув голову с полуоткрытым громадным ртом и зияющими отверстиями ноздрей – и остановившимся взором смотрела вверх.
III
На ярмарочном выгоне города или местечка, где господин Городской голова разрешил директору Томазо Бескапе дать представление, – члены труппы живо удаляли траву с большого круга, по краям которого комки снятой земли превращались в насыпь из увядшего дерна, а колья, переплетенные конскими поводьями, составляли барьер арены.
Посреди взрытой и слегка утрамбованной земли водружался большой шест, с которого спускались в качестве крыши балагана зеленые полотняные треугольники, стянутые и связанные веревками; простой упаковочный брезент, привешенный к легкому потолку и спадающий до земли, образовывал круглые стены зала. К шесту, уходившему основанием в кучу желтого песку, необходимого при борьбе, была приделана целая система блоков, на которых поднималась и опускалась подвешенная на веревках рама. Эта рама была усажена большими гвоздями, захватывающими по вечерам своими железными зубьями пять-шесть керосиновых ламп, к которым ловкий итальянец весьма искусно пристроил рефлекторы из старых коробок из-под сардин. С одной стороны шеста на значительной высоте была укреплена длинная проволока, идущая к одному из высоких столбов барьера; по другую сторону шеста и почти вплотную к нему поднималась маленькая шаткая трапеция, поперечная перекладина которой находилась футах в восьми над землей.
Беззубая шарманка, являвшаяся внутренним оркестром предприятия, – шарманка, у которой был отбит кусок стекла вместе с клочком приклеенной картинки, – ставилась против входной двери в ожидании мальчишки, который обыкновенно подбирался у входа и во время представления одной рукой вертел ручку шарманки, а другою ел недозрелое яблоко, которым обычно возмещались труды оркестра.
Лавки из некрашеных досок, наскоро сколоченные местным плотником, уступами поднимались вверх. Первые места отличались от вторых полоской бумажной материи, – той самой, что идет на платки для инвалидов; полоска стелилась на узкие доски, но покрывала их не вполне; кроме того, эти места были опоясаны барьером, облепленным золотой бумагой, в овалах, которой были изображены турецкие пейзажи, отпечатанные в один тон – сизый по лазоревому полю. Наконец, папаша Томазо вешал кусок старинного ситца, найденный неизвестно где ииспещренный сверху донизу павлиньими хвостами в натуральную величину, – громадный занавес, отделявший зрелище от находящихся под открытым небом кулис, которые дирекция в свою очередь старалась защитить от любопытства даровых зрителей путем соединения двух повозок и целой баррикадой ширм.
Тогда паяц прибивал по обе стороны от входа обманную афишу, которую сочинял директор сразу на весь сезон; по ее ученому и добродушному стилю можно было судить о его умении составить рекламу, о его литературных способностях и даже о его глубоком знании латыни.
АМФИТЕАТР БЕСКАПЕ
Палатка, стоившая больших издержек и непромокаемая, обеспечивает столь же надежное укрытие, как любое каменное сооружение.
Амфитеатр освещается вечером целой системой керосиновых ламп, в которых сам собою вырабатывается светильный газ.
Американский патент Холлидея!
Артисты труппы, все заслуженные и выдающиеся, ангажированы (не взирая на расходы) в лучших предприятиях Европы.
ЗДЕСЬ НАХОДЯТСЯ:
Г-жа СТЕПАНИДА БЕСКАПЕ
Curnculi regina[14]
ДЕВИЦА ОРТАНС ПАТАКЛЕН
Сильфида проволоки и жемчужина амфитеатра; лицо и манеры ее не поддаются описанию.
Г-н ЛУИ РАБАСТЕНС
Единственный в своем роде и несравненный атлет. Одарен геркулесовой силой и кидает вызов всему миру. Он никогда, с самых юных лет, не знал, что значит быть положенным на лопатки.
Г-н ДЖАННИ БЕСКАПЕ
Бесстрашный и не знающий соперников трапецист.
Показывает в своих упражнениях идеал мужской красоты.
Г-н АГАПИТ КОШГРЮ,
соединяющий гибкость спинного хребта с веселым умом.
Его остроумные словечки, отпечатанные в особой книжке, будут бесплатно раздаваться зрителям первых мест.
Г-н ТОМАЗО БЕСКАПЕ
Мимист обоих полушарий!
Известен своими пантомимами, именуемыми «Вырванный зуб», «Борода Гарготена», «Заколдованный мешок» и т. п., которые он имел честь представлять перед его высочеством турецким султаном и г. президентом республики Соединенных Штатов. Кроме того, в труппе находится —
ЛАРИФЛЕТТА,
молодой пудель, правнук знаменитой собаки Мунито. Его фокусы свидетельствуют об уме, превосходящем все, что только можно себе представить. В завершение всего Ларифлетта укажет самого влюбленного человека среди всего собравшегося общества.
Комики забавны, задорны, хорошего тона, вызывают смех, не прибегая к пошлостям и ко всему тому, что не могла бы слышать молоденькая девушка. Представление закончится прелестной пантомимой:
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ МЕШОК»
с участием всей труппы!!!
Но вот уже пристроены лесенки, ведущие на наружные подмостки. Стеша уже уселась у входа за столик сденежным ящиком, и под грохот турецкого барабана, под звуки тромбона паяц, подзадориваемый пинками директора, уже начал отпускать вереницы нелепостей, а Затрещина принялась зазывать обалдевшую от оглушительного шума толпу неистовыми телодвижениями, хлопаньем в ладоши и пронзительными выкриками:
– Пожалуйте, пожалуйте, почтеннейшая публика, представление начинается!
* * *
Снаружи сияло солнце, а под палаткой был мягкий сумрак, нежно обесцвечивающий лица и предметы, прохладная полутень, среди которой то там, то сям луч, пробившийся через плохо затянутую щель, приводил в пляску золотые атомы пыли. Развязавшиеся веревки хлопали о потолок и производили звук, обычный на парусных судах. По серому холсту, пронизанному разлитым вокруг палатки светом, пробегали профили прохожих в виде силуэтов китайских теней. Из занавеса с павлиньими хвостами высовывалась голова Стеши, а грудь и живот ее выступали в окутывающей ее материи, так что она казалась словно облеченной глазками оперения; она смотрела на бледные лица сидящих в зале, злобно опуская длинные ресницы.
Представление должно сейчас начаться, и Алкид, на страшный затылок которого падает из входной двери яркий свет, со страдальческим видом вытаскивает гири из-под лавки, на которой сидел.
IV
Охая, брюзжа, ворча и ежеминутно прерывая упражнения вздохами, глубокомысленным почесыванием головы, умильным любованьем собственными руками, на которых он беспрестанно подтягивал кожаные нарукавники, Геркулес вяло подбрасывал в воздух стофунтовые гири. Хотя все, что он исполнял, казалось, не требовало от него никакого усилия, не вызывало в его теле ни малейшей усталости, – он имел, несмотря на гору играющих мускулов, жалкий вид случайного Алкида, изнемогающего от труда и выпрашивающего у всего окружающего поощрения и поддержки. Если шарманка замолкала, – его вытянутая рука опускалась вместе с гирей и вновь поднималась, лишь когда шарманка начинала сызнова. Перед каждым упражнением раздавался его по-детски жалобный стон: «Ну-ка, господа, несколько хлопков!»
Если случалось, что кто-нибудь из зрителей бросал ему вызов и что вслед за этим следовала борьба, – редкий случай, ибо мускулатура грозного атлета смущала людей! – Геркулес подходил к противнику с неописуемо скучающим видом и словно готов был сам заплатить, только бы тот согласился не беспокоить его зря. Затем он торопился поскорее заставить противника изобразить из себя лягушку; он бывал опечален, огорчен, безутешен, если возникший спор принуждал его уложить противника вторично, положить его на обе лопатки достаточно наглядно для всех. Избавившись от человека, распластанного на земле и которого он даже не удостаивал взглядом, – он уходил, распустив поясницу и болтая руками, к своему месту на скамье, и, взявшись руками за голову и уставив локти в колени, до конца представления мечтал с полузакрытыми глазами о яствах Гаргантюа.[15]
Геркулеса сменял Джанни, который выходил в классическом костюме провинциального акробата: ярко-розовая фуфайка, медный обруч на голове, черный бархатный нагрудник с ужасным анютиным глазком, вышитым мелкими стежками, зеленое трико, прикрытое камзолом, спускающимся до поясницы, украшенным золотым позументом и расшитым, как и нагрудник, белые башмаки с серебряной бахромой. Одним прыжком достигал он трапеции и начинал раскачиваться в воздухе, внезапно во время полета выпускал из рук перекладину и снова схватывал ее с другой стороны.
Он кружился вокруг деревяшки с головокружительной быстротой, постепенно умерявшейся и замиравшей в плавной истоме вертящегося тела, которое на мгновение застывало в пространстве в горизонтальном положении и колебалось, словно поддерживаемое водой.
Во всех этих упражнениях, основанных на силе рук, чувствовался мерный ритм работы мускулов, мягкость усилий, плавность в развертывании движений и в подтягиваниях, подобная неуловимому продвижению в деревьях животного, именуемого ленивцем, и напоминающая медленный-медленный подъем на запястьях рук неподражаемого Джемса Эллиса.
Опершись бедрами на перекладину, гимнаст начинал незаметно скользить назад и, – вызвав мгновенный ужас в зале, – падал, удерживаясь – совершенно непредвиденное обстоятельство! – на подколенках согнутых ног, затем, покачавшись некоторое время головою вниз, делал сальто-мортале и появлялся внизу, стоя на ногах.
На трапеции, этом трамплине для рук, развивающем сверхчеловеческую эластичность мускулов и жил, Джанни исполнял тысячу упражнений, во время которых тело его приобретало какую-то порхающую воздушность.
Он повисал на одной руке, и тело его поднималось и опускалось боковым движением, напоминающим позы обезьяны на оригинальных японских бронзовых фигурках.
Трапеция повергала юношу в своего рода телесное опьянение; ему все казалось, что он мало поработал, и он не прекращал упражнений до тех пор, пока в толпе, которой становилось немного страшно от возрастающей смелости акробата, не раздавались повторные крики: «Довольно, довольно!»
– Милостивые государи, сейчас будет продолжаться… продолжение! – глубокомысленно возвещал паяц.
Джанни сменялся Затрещиной. Мигом взобравшись на вершину высокого столба, утыканного редкими поперечинами в виде лестницы, – сильфида в топорщащейся юбочке появлялась на проволоке, раскачивая над головой колеблющуюся арку сплетенных рук. Она продвигалась вперед скользящими шагами, поочередно выдвигая то ту, то другую ногу, казавшуюся выдолбленной снизу, и нащупывала ею пустоту словно изогнутым концом весла. Она шла по гнущемуся и вновь распрямляющемуся стержню, то приседая, то поднимаясь, точно с каждым шагом спускалась или всходила на ступеньку лестницы.
Проворные розовые блики скользили по округлостям ее ног, забираясь до лодыжек сквозь белый переплет туфельных шнурков, в то время как маленькие подвижные тени задерживались на мгновенье в углублениях ее подколенок. Вскоре она стремительным движением возвращалась на середину проволоки, держа ноги одну позади другой и продолжая сгибаться, склоняться, приседать на подобранных под себя ногах. Наконец, запрокинувшись назад, она ложилась во всю длину на невидимую проволоку и лежала неподвижно, с распущенными волосами, как спящая, причем голова ее прижималась к плечу, а ноги лежали одна на другой в трепетном покое двух птичек. укрывшихся под одним крылом. Некоторое время в воздухе, среди распущенных и развевающихся тканей, продолжалось томное покачивание женского тела, которое, казалось, не поддерживалось ничем. Затрещина привставала два-три раза, вновь ложилась и наконец порывистым движением бедер выпрямлялась и становилась на ноги, шелестя блестками юбки, – почти красивая в этом оживлении и проворном изяществе и радостная от раздававшихся аплодисментов.
– Господа, последняя упражнение, – провозглашал паяц.
Тогда снова появлялась Затрещина, неся для следующего номера столик с тарелками, бутылками, ножами, золотыми шарами. И тотчас же над головой фокусника начинали летать эти вещи, следуя одна за другой, чередуясь, перекрещиваясь, но не сталкиваясь, появляясь у него из-под ног, из-за спины и неизменно попадая в его ловкие руки, чтобы вновь улететь. Предметы то взлетали до потолка, поднимаясь медленно и на большом расстоянии друг от друга, то снова и снова мелькали в тесном и низком кругу, не превышавшем головы эквилибриста; благодаря непрерывности и быстроте вращения они казались цепью, звенья которой спаяны невидимым образом. Джанни бегал по цирку, жонглируя тремя бутылками, и, не прерывая упражнения, взлетал на стол, становился на колени и, прежде чем подбросить бутылки, ударял стеклом по дереву, выбивая таким образом забавную застольную песнь. Движением одного только мускула он укладывал, поднимал, подбрасывал в воздух последнюю оставшуюся бутылку, и она попадала горлышком прямо на кончик его пальца.
У него была очаровательная, свойственная ему одному, манера перебрасывать в горизонтальном направлении из одной вытянутой руки в другую медные шары, которые казались золотым клубком, разматывающимся на его груди.
Джанни был первоклассным жонглером: его руки способны были на нежнейшие прикосновения, на обхваты, в которых словно принимала участие гладкая поверхность кожи; казалось, что концы его пальцев вооружены маленькими присосками. Чудесное и забавное получалось зрелище, когда юноша, взяв тарелку и слегка склоняясь над нею всем телом, пускал ее по рукам, улыбаясь при этом таинственной улыбкой, как маг улыбается своему волшебству. Тарелка скользила в пространстве, ежесекундно готова была упасть, но не падала, а в конце концов отделившись на мгновенье от руки подобно крышке коробки и держась лишь на кончиках его пальцев, – она снова падала на ладонь, словно притянутая пружинкой.
Наконец, Джанни торжествовал над всеми трудностями жонглирования с тремя предметами различного веса: ядром, бутылкой и яйцом; это упражнение заканчивалось поимкой яйца на донышко бутылки.
В конце, в самом конце, когда руки его подбрасывали зажженные факелы, а блюда и шары вертелись на острие палочек, стоящих у него на подбородке и груди, среди смоляных искр и блеска фарфора, Джанни являлся центром и осью круговращательного вихря всех этих machini-sto-urneboulantes[16],no старинному и яркому выражению Рене Франсе, проповедника короля.
V
Представление завершалось дивертисментом с участием двух или трех персонажей, в котором играли то Затрещина, то паяц, иногда Алкид, и в сочинительство и постановку которого директор, исполнявший главную роль, вносил фантазию, какую редко встретишь в балагане. Это были шутовские выдумки, канва без начала и конца, забавные неразберихи, пересыпанные звучными пощечинами и пинками в зад, имеющими привилегию смешить мир с тех самых пор, как он существует, разными разностями, которые передавались весьма саркастическими гримасами, феноменальными превращениями, головокружительным беснованием, юмором уморительных шествий, во время которых старое тело директора еще выказывало немало ловкости и проворства.
Томазо Бескапе был в молодости выдающимся гимнастом. Он рассказывал, что в одной пантомиме собственного изготовления, удирая с мельницы, где его накрыл муж мельничихи, он шагал прямо по остриям палок, которые держали в воздухе подосланные мужем люди, чтобы отлупить любовника жены. Но с годами итальянец вынужден был обратиться к пантомимам с более скромной гимнастикой и довольствовался несколькими прыжками, выкидывая то там, то сям, по ходу интриги, то прыжок труса, то прыжок пьянчужки.
Среди прыгательных пантомим его сочинения особенной его любовью стала пользоваться одна маленькая интермедия, приспособленная к его теперешним возможностям и имевшая к тому же большой успех как у городского, так и у сельского населения. Эта пантомима называлась:
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ МЕШОК»
1. В окрестностях Константинополя, изображенного ширмой с вырезанными наверху очертаниями минаретов, – прогулка старого Бескапе, переодетого в англичанку, в неизбежных синих очках, под вуалью цвета опавших листьев, в нелепом британском костюме.
2. Встреча англичанки с двумя черными евнухами.
3. Соблазнительная и безнравственная пантомима евнухов, перечисляющих англичанке все выгоды и утехи, которые ожидают ее в серале султана.
4. Добродетельная и негодующая пантомима англичанки, заявляющей, что она порядочная мисс и готова скорее погибнуть, чем лишиться невинности.
5. Попытка захватить англичанку в плен. Героическое сопротивление молодой особы, кончающееся тем, что один из евнухов вытаскивает мешок и при помощи товарища всовывает туда англичанку, а затем завязывает узлом веревку, продернутую в край мешка.
6. Водружение черными евнухами себе на плечи мешка, в котором несчастная жертва дрыгает ногами и отбивается, как бес.
Тут наступал самый эффектный момент. В то время как евнухи готовы были скрыться с добычей, внезапно дно мешка разверзалось и англичанка появлялась… в одной рубашке и улепетывала со всех ног в уморительном ужасе и с самыми смешными стыдливыми жестами. Черные евнухи неслись в погоню, а преследуемая жертва спотыкалась и кувыркалась при всеобщем хохоте, потом снова принималась бежать, еще более ошалев и обезумев от страха, с еще более смешной стыдливостью в куцом белом ночном туалете и это продолжалось до тех пор, пока она не исчезала, прыгнув в горизонтальном направлении в форточку, проделанную в ширмах.
VI
Еще совсем малышом, с трех– или четырехлетнего возраста, Нелло, с любопытством заглядывался на упражнения труппы, широко раскрыв глаза и радостно юля всем телом.
Во время парада он сначала появлялся, наполовину спрятавшись за юбкой Затрещины, за которую держался обеими ручонками, лишь на мгновенье высовывал свою головку в младенческом белом чепчике, из-под которого выбивались белокурые завитки; потом, испугавшись кишения толпы, прятал голову в усеянную блестками кисею, затем снова высовывал уже больший кусочек своей маленькой особы, на более длительное время и с меньшей опаской. Вскоре в прелестном порыве застенчивой смелости, в порыве решимости, с очаровательными колебаньями, запустив палец в рот, Нелло отваживался пересечь подмостки шагом, одновременно идущим и вперед, и вспять, беспрестанно ища позади себя путь отступления, убежища. Наконец, резким и внезапным скачком он повисал на перилах балкона, съеживался и прижимался к перекладине; оттуда, спрятав лицо за перила и держась за них руками, он украдкой поглядывал вниз, на ярмарочное поле. Но вскоре победные звуки барабана, раздававшиеся за его спиной, вливали в его застенчивую и пугливую неподвижность вместе с волнением также и некоторую уверенность; его приплясывающие ножки подергивались, вздувшиеся губки начинали подпевать, и теперь головка его, отважно свесившись через перила, уже неустрашимо склонялась навстречу множеству лиц, обращенных в его сторону. Вдруг, среди неистовства музыки, среди финального исступления, среди завываний рупора, среди диких криков и воя, малыш, взбудораженный этим беснованием и грохотом, подхватывал валяющуюся старую шляпу, старую оброненную шаль. Затем, одевшись этим обрывком маскарадной личины, словно он являлся участником труппы, словно на его обязанности уже лежало забавлять публику, – карапуз ввязывался в потешное шествие паяца с одного конца подмостков на другой, ступал по его следам, изо всех сил отбивал такт неустойчивыми ножками, подражал шутовским жестам, исчезая под огромной шляпой и являя взорам клочок рубашки, торчащей из-под пестрой шали в прорехе его штанишек.
VII
Как только кончалось последнее представление, как только снят и разобран был остов балагана, а полотнища, канаты и аксессуары наскоро уложены в огромный брезент, – тотчас же Маренготта[17], влекомая рысцою старой белой кобылы, удалялась от городских стен.
Дом, с утра до ночи везущий своих обитателей по дорогам и проселкам; дом, пристающий часам к одиннадцати на отдых на берегу ручья, – с всклокоченной соломой в раскрытых корзинах, стоящих на крыше, и с носками, развешанными для просушки на колесах; дом с отпрягаемой на ночь лошадью, бросающий из окошечка слабый свет в черный сумрак необитаемой местности, – такова Маренготта, обиталище на колесах, в котором рождается, живет и умирает скоморох и куда последовательно входят повивальная бабка и могильщик; подвижное сколоченное из досок жилище, к которому обитатели его чувствуют ту же любовь, что моряк к своему кораблю.
И люди из Маренготты ни за что не хотели бы жить в другом месте, – так хорошо понимали они, что только здесь дано им обрести мягкую тряску во время полуденных дремотных мечтаний, соблазн и возможность взобраться на холмы, влекущие вас в известный час, и удивленное пробуждение утром в местности, впервые смутно увиденной в сумерках накануне. И правда: если блестит солнце – разве мало повозки да простора пастбищ и опушки лесов? А если идет дождь – разве нет под навесом, по ту сторону тормоза, маленькой кухонной плиты и разве комната Затрещины не может преобразиться в столовую для всех? Ибо повозка, – размеров и высоты с большую морскую каюту, – состояла из двух и даже трех комнат. Во-первых за маленькими внешними сенями шла комната, посреди которой к полу был прибит большой стол; на нем вечером расстилался матрац, служивший постелью канатной плясунье. В глубине была дверь, ведущая во вторую комнату – помещение директора, где спала вся семья, за исключением Джанни, который жил вместе с остальными мужчинами труппы в зеленой повозке. Из своей комнаты муж сделал две, – привязав ширмы, которые полуоткрывались днем, а ночью изображали закрытый альков вокруг супружеской кровати из красного дерева с тремя матрацами.
Комната перекрашивалась ежегодно; на окошечках висели белые занавески; на ширмы были наклеены лубочные картинки, с наивной дикостью рисунка, повествующие старинные легенды; в углу стояла плетеная кроватка Нелло, и вся эта тесная и низкая семейная каморка улыбалась, как чистенькая шкатулка, и полна была сладким запахом матрацев, которые Стеша набивала цветущим тмином.
Над благообразной кроватью красного дерева висели на гвозде яркие лохмотья – девичья юбка цыганки, сохранившаяся от тех времен, когда она плясала в Крыму, юбка, на которой нашиты были кусочки красного сукна, вырезанные в виде кровавых сердец.
VIII
Хотя Степанида Рудак и была матерью своему старшему сыну, но матерью не нежной, без внутренней теплоты и не испытывающей счастья и умиления от его близости, – она была матерью, заботы которой скорее походили на выполнение долга, – и только. Джанни расплачивался за то, что был зачат в первые месяцы брака, когда мысли молодой женщины всецело принадлежали одному юноше, ее соплеменнику, и когда на уста супруги старого Томазо Бескапе навертывалась песнь родной страны:
Старый муж, грозный муж, Режь меня, жги меня! ……………………… Ненавижу тебя, Презираю тебя; Я другого люблю, Умираю – любя.[18]Поэтому все бурные, дикие материнские чувства, жившие в сердце цыганки и не нашедшие себе исхода, обратились на Нелло, появившегося на свет двенадцать лет спустя после брата, – на младшего сына, которого она не целовала, не ласкала, но прижимала к груди в неистовых объятиях, способных его задушить. Джанни, таивший любящую душу под холодной внешностью, страдал от этого неравного распределения любви, но предпочтение, которым пользовался Нелло, никогда не вызывало в нем чувства зависти к младшему брату. Джанни находил это предпочтение вполне естественным. Он сознавал, что сам он некрасив и часто бывает хмур. Он говорил мало. В нем не было ничего, что могло бы польстить гордости матери; от его молодости не веяло весельем. Самые проявления его сыновней любви были неловки. Наоборот, красота и миловидность, прелесть и ласковость делали из его маленького братца восхитительное существо, на которое матери смотрели завистливыми глазами, которое прохожие на дорогах просили позволения поцеловать. Личико Нелло было словно утренний свет. И постоянно шутки, проказы, забавные словечки, смешные вопросы, очаровательные выдумки, прелестные ребяческие пустячки, и шум, и беготня, и изрядный гам. Он был, словом, одним из тех обольстительных детей, которые являются радостью, дарованной людям, и часто улыбка его розовых губ и черных глаз заставляла труппу забывать о неудачных сборах, о тощих ужинах.
Ребенку же, которого все баловали, было хорошо лишь с тем, кто изредка побранивал его; и как ни был он говорлив и неугомонен, его можно было видеть подолгу сидящим возле молчаливого Джанни, – точно ему нравилось его молчание.
IX
Акробатическое воспитание Нелло началось с пяти, с четырех с половиной лет. Сначала это были лишь гимнастические упражнения, вытягивание рук, сгибание ног, развитие мускулов и мышц его детского тела – пробный и осторожный пуск в ход силенок малыша. Но почти одновременно, до окончательной спайки костяка, до того, как кости потеряют гибкость младенческого возраста, – Нелло стали заставлять раздвигать ноги с каждым днем все больше и больше, и через несколько месяцев ребенок научился ставить их совсем горизонтально. Маленького акробата приучали также брать рукою ногу и поднимать ее до уровня головы, а немного позже – садиться и вставать в таком положении, на одной ноге. Наконец, Джанни, ласково положив ему руку на живот и стоя против него, тихо-тихо помогал ему запрокидывать туловище и голову и готов был подхватить его руками, как только тот станет падать. А когда бедра Нелло приобрели достаточную гибкость в опрокидывании назад, – его стали ставить в двух футах от стенки, и он должен был каждое утро, опрокинувшись и опираясь о стенку обеими руками, опускаться с каждым днем все ниже и ниже до тех пор, пока совершенно изогнувшись вдвое, не стал доставать руками пяток. Так понемногу и последовательно, не торопясь и не спеша, поощряя его конфетами и похвалой, и словами, лестными для тщеславия маленького гимнаста, только что бросившего соску, разламывали его детское тельце. Его заставляли также – все еще около стены, которая была для начинающего поддержкой, как протянутые руки при первых шагах, – ходить на руках, чтобы укрепить запястья и приучить спинной хребет отыскивать и держать равновесие.
Годам к семи Нелло был очень силен в рыбьем прыжке – прыжке, во время которого мальчуган, лежа на спине, без помощи рук встает на ноги одним лишь движением бедер.
Затем следовали упражнения в прыжках, при которых тело опирается о землю руками: прыжок вперед, когда ребенок, положив руки перед собою на землю, перекувыркивается всем телом и медленно встает на ноги, оказавшиеся рядом с руками; обезьяний прыжок, когда ребенок положив руки позади себя, снова встает на ноги тем же движением в обратном направлении; прыжок араба, то есть прыжок в сторону, похожий на колесо.
Во время всех этих упражнений Нелло чувствовал вокруг себя кольцо покровительственных рук брата; эти руки беспрестанно скользили вокруг его тела, обхватывали его ладонями, помогая ему, поддерживая, придавая его телу при нерешительности и колебании необходимый для трюка размах. Позже, когда Нелло стал более уверенным в своих дерзаниях, Джанни стал привязывать к его поясу канат, который отпускал по мере того, как работа маленького брата приближалась к удачному завершению.
Наконец, Нелло приступил к сальто-мортале, которое он начал исполнять, бросаясь с небольшого возвышения, постепенно уменьшаемого до тех пор, пока этот прыжок не стал удаваться ему на гладкой поверхности.
Вообще сын цыганки не был тугим малым; у него была общая с отцом и братом исключительная способность как к обыкновенным прыжкам, так и к прыжкам с разбега или с сомкнутыми ногами, и с семи– или восьмилетнего возраста он прыгал на такую высоту, которой другие мальчики, даже старше его годами, не могли достигнуть. И старик Бескапе, смотря однажды, как прыгает Нелло, сказал Степаниде с высоты своих случайных энциклопедических познаний:
– Жена, посмотри, – и он указал ей на пятки ребенка и на длину erocaicaneum[19], – при таком сложении малыш станет со временем прыгать, как обезьяна!
Х
Однажды утром, проснувшись, Нелло заметил разложенные на стуле вещи, вещи желанные, нечаянные, которые уже несколько месяцев обманщица-ночь показывала ему в снах. Несколько секунд он протирал глаза, не веря, что проснулся, потом сразу, кинувшись с постели вниз, принялся убеждаться дрожащими от счастья руками в реальности этих ярких предметов, смеющиеся блестки которых шевелились от его взволнованных прикосновений. Тут было трико, сделанное по мерке его маленького роста, небесно-голубые панталончики с буффами, усеянные серебряными звездами, пара крошечных башмачков с меховой опушкой. Ребенок ощупывал, переворачивал трико, панталоны, башмаки и поочередно целовал их. Потом схватил свое милое облачение и с радостным криком принялся будить мать, чтобы она надела на него эти чудные вещи. Степанида, лежа в кровати и почти свесившись с нее, начала его одевать медленно, с паузами, остановками, с удовлетворением, любуясь им как мать, примеривающая на своем любимце новое платье и обретающая под новым нарядом новое дитя, которое можно любить еще чуточку больше. Когда он был наряжен, получился прелестнейший миниатюрный ярмарочный Алкид. Затрещина, забавляясь, завила раскаленными щипцами рожки из его белокурых, уже слегка темнеющих, волос, и это придало шалуну некоторое подобие чертенка. Разделанный таким образом комедиантик стоял неподвижно в чуть-чуть широковатом трико, образующем под коленками две складки, – стоял, опустив глаза, восхищенный своей маленькой особой, счастливый и точно готовый расплакаться от страха попортить лишним движением свеженький костюм.
XI
Занятное зрелище получалось, когда маленький комедиант впервые стал принимать участие в выступлениях труппы, когда он надевал трико, панталоны, башмачки и стремительными мальчишескими прыжками бросался на арену, потом внезапно останавливался, охваченный приливом застенчивости, немного смешным детским страхом, овладевавшим дебютантом при виде смотрящей на него публики. Он начинал тогда незаметное отступление в сторону Джанни, укрывался возле него в полнейшем замешательстве и для бодрости почесывал себе затылок, в то время как плечи его слегка вздрагивали. Потом кудрявый и хрупкий ребенок непринужденно скрещивал руки, выставлял вперед одну ногу, опираясь на большой палец и приподняв пятку, и в этой неподвижности похож был на выставленную в музее статуэтку Отдыха, – словно позы античных статуй родились из гимнастики.
Но это спокойствие, это затишье длилось у Нелло лишь мгновенье. Вскоре он присоединялся к трюкам взрослых и беспрестанно подходил к барьеру, чтобы утереться повешенным там платком, – словно работал взаправду; он пытался, ухватившись за столбик трапеции, удержаться в горизонтальном положении, но почти тотчас же скатывался на песчаную гору у основания шеста и наполовину исчезал в ней; он пускался в прогулки на руках, начинал серию традиционных и уже привычных ему прыжков, кувырканий, после которых тело медленно и тяжело распрямляется на словно разбитых ребрах. Сверхпрограммные номера – маленькие трюки, частенько не удававшиеся, – Нелло проделывал по нескольку раз с резвостью, задором, воодушевлением, в которых сквозило довольство играющего ребенка и светился смех возбужденных влажных глаз; он уморительно раскланивался на аплодисменты, изящно округляя ручки; а по окончании всего этого в его милом личике появлялось решительное, смелое и почти героическое выражение. Но как только его роль кончалась, он бежал со всех ног к Джанни в надежде, что брат в награду ласково погладит его по голове; а иногда в этих случаях Джанни поднимал его на ладони, головою вниз и держал в таком положении маленькое раскачивающееся тельце, причем еще гибкий позвоночник Нелло сохранял равновесие; длившееся мгновенье.
XII
Года шли, а люди эти все разъезжали по Франции, заглядывая в населенные места, лишь чтобы дать там представление и затем поскорее снова расположиться лагерем под открытым небом, вокруг своих повозок.
То они во Фландрии, у подножья черных холмов, образовавшихся из шлака и каменноугольного пепла, у сонной реки, среди плоского пейзажа, со всех сторон ограниченного дымящимися высокими кирпичными трубами. То они в Эльзасе, среди развалин старого замка, вновь отвоеванного и захваченного природой, со стенами, покрытыми плющом, диким левкоем и теми цветами, что цветут лишь на руинах. То они в Нормандии, в большом яблоневом саду, невдалеке от фермы со мшистой крышей, на берегу ручья, журчащего в высокой траве пастбищ. То они в Бретани, на каменистом морском берегу, среди серых скал, перед расстилающейся черной безбрежностью океана. То они в Лотарингии, на опушке леса, у заброшенной угольной ямы, вокруг которой раздается далекое постукивание топоров, вблизи ложбинки, из которой выходит в рождественскую ночь кортеж охотников, руководимый ловчим в огненном камзоле. То они в Турени, на плотине Луары, на откосе, где громоздятся веселые домики среди виноградников и шпалерных садов, в которых зреют прекраснейшие в мире плоды. То они в Дофинэ, в густом ельнике, близ лесопилки, исчезающей в пене водопада, у прозрачных порогов, населенных форелями. То они в Оверни, над безднами и пропастями, под обезглавленными ветром деревьями, среди завываний аквилона и ястребиных криков. То они в Провансе, у стены, разрушенной мощным ростом огромного олеандрового дерева и испещренной спасающимися ящерицами; над ними – пестрая тень большого виноградника, а на горизонте – рыжеватая гора с мраморной виллой на вершине.
Можно было встретить труппу то расположившейся на выбитой дороге Берри, то остановившейся у подножья придорожного креста в Анжу, то собирающей каштаны в каштановой роще Лимузена, то подпирающей повозки на крутой дороге во Франш-Конте, то шествующей вдоль горного потока в Пиренеях, то идущей во время виноградного сбора в Лангедоке, среди белых волов, увенчанных виноградными лозами.
И в этой вечно бродячей жизни, среди разъездов по самым разнообразным местностям и во все времена года, дано было этим людям всегда видеть перед собой простор, всегда находиться под чистым светом небес, всегда вдыхать свежий воздух, воздух, только что промчавшийся над сеном и вереском, – и опьянять и утром и вечером свои взоры вечно новым зрелищем зорь и закатов; и услаждать свой слух невнятным шумом земли, гармоничными вздохами лесных сводов, свистящими переливами ветерка в колеблемых тростниках; и погружаться с терпкой радостью в волненье, в ураганы, в бури, в неистовства и битвы стихий; и есть под изгородью; и пить из свежих источников; и отдыхать в высокой траве под пенье птиц над головой; и зарываться лицом в цветы и благовонные запахи диких растений, разгоряченных полуденной порою; и забавляться кратким пленением лесного или полевого зверька, зажатого в руке; и зазеваться, как говорил Шатобриан, на голубеющие дали; и позабавиться солнечным бликом, играющим на зайце в то время, когда он станет на задние лапки в полевой борозде; и беседовать с грустью осеннего леса, ступая на опавшие листья; и погружаться в нежное оцепенение мечтательного одиночества, в смутное и длительное опьянение первобытного человека, находящегося в непрерывном любовном общении с природой; словом, всеми органами восприятия, всеми, так сказать, порами вскармливать то, что Лист зовет цыганским мироощущением.
XIII
Иногда Степанида, словно дикий зверь, уносящий свое уже подросшее дитя, внезапно подхватывала с земли сынишку, прижимала его к груди и убегала с ним в уединенный уголок, зарывалась в лесную чащу и там, видя себя окруженной стеною веток, лиственной оградой, еле переводя дух, опускала его на траву. Тогда вдали от всех, в этом природном тайнике она опускалась на колени перед лежащим Нелло и, опершись руками о землю, изогнув тело, как самка над детенышем, все еще тяжело дыша, смотрела на него странным взглядом, смущавшим ребенка, который, как ни старался, не мог ничего понять. Потом с губ матери, склоненных надо лбом младшего сына, медленно, как журчащее причитание, слетали слова:
«Бедная любимая крошка!»
«Бедная ненаглядная крошка!»
«Бедное крохотное сердечко!»
…………………………………
…………………………………
И долго звучали в шелестящей тишине и безмолвии эти ласковые восклицания, превращаясь в своеобразный грустный напев, в котором словно изливалось разбитое сердце. И беспрестанно возвращалось слово бедный, слово, которое матери и возлюбленные несчастного цыганского племени, вечно опасающиеся за будущее своих любимцев, неизменно присоединяют к ласковым уменьшительным именам.
XIV
Давно, уже очень давно молодая мать Нелло стала чахнуть. Что у нее был за недуг? Этого никто не знал. Возможно, это была болезнь растений, пересаженных в чужую землю, под небо, где им не суждено дожить до старости. Впрочем, молодая цыганка ни на что, кроме холода, не жаловалась; холод пронизывал ее до мозга костей, и она не могла его ничем разогнать; даже летом и несмотря на все окутывавшие ее шали по ней пробегала быстрая и нервная дрожь. Тщетно готовила ей Затрещина навары из трав, собранных по дорогам, уверяя, что от них ей станет теплей; тщетно пытался муж водить ее к лекарям городков, где труппа давала представления, – она от всего отказывалась с глухим ворчливым раздражением и продолжала участвовать в общих трудах, а сама все бледнела, и глаза ее делались еще больше.
Между тем у нее однажды не хватило сил высидеть до конца за маленьким столиком – кассой балагана. В другой раз она не встала утром, обещая встать завтра. Но она не встала ни завтра, ни в следующие дни. Муж хотел остановиться на постоялом дворе, чтобы полечить ее, но жена воспротивилась этому, сказав «нет» властным движением головы, – в то время как ноготь ее большого пальца чертил на стене повозки – там, где приходилась лежащая на подушке голова, – большой квадрат: очертание окошка.
С этого времени взор больной, лежавшей и путешествовавшей в постели, любовался зрелищем пейзажей, среди которых проезжала повозка.
Тихая, безмолвная, – она ни слова не говорила своему бедному старому мужу, который проводил дни возле ее кровати, на старинном сундуке римского прелата, где хранились его итальянские пантомимы, и был печален печалью, в которой было нечто придурковатое. Не больше разговаривала она и с остальными; им удавалось лишь на мгновенье отвлечь ее взор от окошка. Одно только присутствие младшего сына в те краткие минуты, когда удавалось заставить подвижного и эгоистического ребенка спокойно посидеть на табуретке, могло отвлечь ее от обычной созерцательности. Все время, пока ребенок сидел тут, – мать, не прикасаясь к нему и не целуя его, покоила на нем взор, полный поглощающего огня.
Окружающие старались делать все, что только могло понравиться больной. Почти каждые два-три дня стирались оконные занавески, чтобы они были у нее чистенькие; для нее собирали в лесах и лугах полевые цветы, которые она любила держать в графине у своего изголовья; труппа сложилась, чтобы подарить ей красивое пуховое одеяло из красного шелка, дающее нежную теплоту: единственная вещь, за которую она поблагодарила с выражением дикого счастья, слабо озарившего ее мраморное лицо. Повозка все разъезжала по стране, везя слабеющую женщину; голова цыганки скатывалась с подушки и ее приходилось перекладывать ближе к оконцу.
Однажды в полдень ей стало так плохо, что старик Бескапе велел распрячь лошадей, и труппа уж начала располагаться в поле, но путница, почувствовав, что движение остановилось, произнесла на своем родном языке, на языке romany[20] односложное «вперед!», свистящее, как звук бича. И она беспрестанно повторяла это слово, пока снова не заложили лошадей.
В продолжение некоторого времени, еще нескольких дней, неподвижный и в то же время расплывчатый взгляд цыганки, упрямо отвернувшейся к стенке, был прикован к окну, к убегающим за повозкой видам, теряющимся вдали, туманящимся, исчезающим и колеблющимся от качки плохих дорог.
Глаза умирающей, уже помутившиеся, не могли расстаться с бесконечными равнинами, с глубокими лесами, с холмами, залитыми солнцем, с зеленью деревьев и подвижной синевой рек; ее глаза не могли оторваться от чистых сияний, струящихся с небес на землю, от света, сияющего за стенами жилищ… ибо она была той самой женщиной, • которая однажды на суде отвернулась от распятия и, подойдя к раскрытому окну, сказала: «Клянусь светом, сияющим меж небом и землей, что открою свое сердце и скажу всю правду». И, умирая, она желала, чтобы до самого конца ее кочевого существования над ней сиял этот свет, разлитый меж небом и землей.
Однажды утром Маренготта остановилась в Бри, возле перестраиваемой церковки. Перед повозкой блестели в лучах восходящего солнца, как декоративная ниша, уцелевшие старинные хоры, оклеенные золотой бумагой. Под рыжеватыми и испачканными известкой головами каменщиков, над остатками старинных гробниц по лесам расхаживал, подпрыгивая в лучах утренней зари, долговязый кюре в круглой шляпе, обвитой крепом, и в бесконечной черной сутане, побелевшей возле карманов, с лицом, не бритым целую неделю и казавшимся грязным, с острым носом и ясными, зоркими глазами.
Когда повозка снова пустилась в путь, взор Степаниды внезапно отвернулся от оконца и с выражением строгого умиления надолго остановился на ее младшем сыне. Потом без единого слова, без ласки, без поцелуя она взяла маленькую ручку Нелло, вложила ее в руку брата и похолодевшими пальцами сжала руки двух братьев пожатием, которого не расторгла сама смерть.
XV
Доверие, вера, твердая вера, встречающаяся иногда у детей по отношению к старшим сестрам и братьям, полное отдание сердца чувству наивного восхищения перед существом одной с ними крови, существом, ставшим в их глазах тем совершенным и идеальным созданием, образу которого они любовно и тайно стараются вторить, стремясь сделаться его копией в миниатюре, – таковы были чувства Нелло к Джанни. Но в них было что-то еще более страстное, более восторженное, более фанатичное, чем у всех существующих на земле младших братьев. Хорошо было только то, что делал старший брат. Истинно и непреложно было только то, что он говорил; и когда старший говорил, маленький внимательно слушал, и над бровями его обозначались выпуклости, свойственные внимательным и вдумчивым детским головкам. «Джанни так сказал» – было его припевом, и, заявив об этом, он считал, что слова брата должны быть святы, как слова евангелия, не только для него, но решительно для всех. Ибо что касается самого Нелло, то его вера в Джанни была беспредельна. Когда его однажды побил маленький комедиантик из соперничавшего с ними балагана, бывший сильнее его и постарше годами, Джанни сказал брату: «Завтра ты возьмешь в руку эту свинцовую пулю, пойдешь прямо на него и ударишь его вот так, прямо по лицу, и он свалится»; на следующий день Нелло зажал в руке пулю, ударил ею своего преследователя и свалил его наземь. Он мог бы так же, как злого мальчишку, ударить и Рабастенса, если бы на Алкида указал ему брат. И так было во всем. Другой раз Джанни, будучи в шутливом настроении, что вообще случалось редко, стал для смеху обвинять Нелло в том, что тот расковал Ларифлетту; вопреки своей почти полной уверенности в том, что собак не подковывают, мальчик, сбитый с толку серьезным тоном брата, после долгих оправданий принялся отыскивать на лапах пуделя следы от гвоздей, а так как над его легковерностью начали подтрунивать, он стал упрямо твердить, не прекращая своих исследований: «Джанни так сказал».
Беда, если кто осмелится обидеть его Джанни. Однажды Нелло пришел домой в слезах и на вопросы брата о причине его горя, рыдая, ответил, что слышал, как о Джанни говорили разные нехорошие вещи, а когда по настоянию Джанни ему пришлось повторить слышанные оскорбления, – все тело его судорожно передернулось от злобного негодования.
Когда Нелло возвращался домой, его первым словом бывало: «Джанни здесь?» Казалось, что маленький брат может жить лишь около старшего. На арене он постоянно вертелся в ногах Джанни, желая хоть чуточку участвовать во всем, что исполняет брат, и Джанни приходилось то и дело отстранять, слегка отталкивать его рукой. Пока он находился около брата, – его глаза были постоянно уставлены на него, он смотрел на него долгим и как бы остановившимся взглядом, которым выражается у детей восторженная симпатия, и застывал в этом любовании, поглощавшем на мгновение шумливость младенческого возраста. Когда Нелло был чем-нибудь поражен или обрадован, а Джанни в это время не было поблизости, – ребенок, жаждущий всем поделиться с братом, не мог удержаться, чтобы не сказать окружающим: «Надо будет рассказать об этом Джанни!»
Старший брат занимал такое большое место в мыслях младшего, что даже в снах своих ребенок никогда не делал ничего один: брат всегда сопутствовал ему и неизменно принимал участие во всем, что он делал.
Смерть Степаниды еще теснее связала нераздельную и днем, и ночью жизнь братьев, и новой большой радостью для Нелло было то, что теперь Джанни спал в Маренготте, что утром можно было прийти к нему в постель и, как подрастающий мальчуган возле матери, полежать около него в минуты радостного и полного неги пробуждения.
В полдень и вечером, во время стоянок труппы, Джанни учил Нелло читать по отцовским тетрадям с пантомимами, а иногда давал ему в руки свою скрипку, на которой ребенок с текущей в его жилах цыганской кровью начинал играть, как маленький виртуоз степей и лесных полянок.
XVI
Томазо Бескапе, погрузившийся в странное оцепенение после смерти Степаниды, теперь вечно сидел на сундуке с пантомимами около кровати, где прежде лежала его жена; в одно же прекрасное утро он упрямо отказался встать и с тех пор проводил жизнь в супружеской постели, словно ему приятно было находиться среди того неуловимого, что осталось в одеялах от любимого тела и что как бы вновь возрождалось от влажной теплоты посторонней жизни; у бедняги не было иного развлечения, как смотреть, растянувшись в постели, на свой фантастический гусарский костюм, на котором он ежедневно просил обновить серебряный позумент.
XVII
Болезнь отца заставила Джанни взять управление труппой в свои руки. Но директор был очень юн, и ему недоставало авторитета у людей, которые продолжали считать его ребенком. Когда жива была мать и отец владел своим рассудком, – чете удавалось кое-как управлять этим несговорчивым людом, примирять с грехом пополам зависть, недружелюбие, ненависть этих враждующих существ. Жена со своей странностью, неразговорчивостью, спокойной властностью низкого голоса и глубоких глаз пользовалась таинственной властью, и когда она отдавала распоряжение, никто не решался ослушаться. А в тех случаях, когда Степанида молчала, – муж прибегал к своей итальянской дипломатии. Благодаря совершенному знанию сотоварищей, благодаря искусству, с каким он умел польстить и умаслить затаенную враждебность собеседника, то и дело пересыпая фразы словами mio caro[21] примешивая к ним неопределенные обещания, рисуя обворожительные горизонты, казавшиеся в его устах совсем близкими, и даже уснащая все это несколькими шутовскими выходками, заимствованными из собственного репертуара, папаша Бескапе добивался всего, чего хотел, и заставлял бесконечно долго и терпеливо ждать удовлетворения всевозможных требований.
Джанни совсем не был похож на отца. Он не умел обещать, а когда желания его встречали сопротивление, – сердился, посылал человека ко всем чертям и отказывался от того, чего только что требовал. У него не хватало также терпения устраивать примирения и сближения; он не давал себе труда мирить паяца с Алкидом, предоставляя дремлющей в их сердцах обиде обостряться и переходить в открытую распрю. Многие мелочи ремесла претили ему, и он не принимал участия, как отец, в зазывании публики, ибо не обладал, в отличие от старого Бескапе, чудесным даром многоязычья, тем даром, который позволял старику в глухой провинции, где им приходилось бывать, зазывать публику на местном говоре, что являлось источником обильных выручек и бесило его французских собратьев, по природе мало способных к языкам.
У Джанни не было также ни малейшей способности к роли администратора, а у Затрещины, на которую он положился в отношении руководства материальными делами труппы, не было ни привычки к порядку, ни умственных способностей его матери.
Наконец, несмотря на то, что Джанни был хорошим товарищем и всегда готов был угодить всем и каждому, – люди, с которыми он жил, не были к нему привязаны; в глубине их душ жило смутное чувство обиды, так как они предполагали, что у него в мыслях таится что-то, чего он не высказывает; они предчувствовали, что молодой директор недолго будет ими управлять, и смутно догадывались сего намерении с ними расстаться.
XVIII
Руки Джанни, даже когда он отдыхал, были беспрестанно заняты и вечно нащупывали что-то вокруг; они как бы невольно и почти бессознательно схватывали попадавшиеся предметы, ставили их на горлышко, на угол, словом так, что очевидно было, что они не удержатся. И Джанни тщетно старался заставить их простоять в таком положении хотя бы одно мгновенье; руки его вечно бессознательно трудились над преодолением законов тяготения, над нарушением условий равновесия, над извращением извечной привычки вещей стоять на донышке или «а ногах.
Часто случалось также, что он проводил бесконечное количество времени, вертя и переворачивая во все стороны какой-нибудь предмет обстановки, – стол, стул, – и все это делалось им с таким вопрошающим, полным любопытства и упрямства видом, что младший брат говорил ему наконец:
– Послушай, Джанни, чего ты добиваешься?
– Ищу.
– Что ты ищешь?
– Ага, вот! – И Джанни добавлял: – Нет, черт возьми, – никак не дается!
– Да что такое? Скажи, скажи мне, что такое, ну скажи же, что такое? – повторял Нелло, жалобно вытягивая слова, как обычно делают дети, когда хотят что-нибудь узнать.
– Когда будешь постарше… а сейчас не поймешь. Я, поди, и для тебя ищу, братишка!
В один прекрасный день, произнеся эти слова, Джанни вскочил на маленький квадратный столик, который он только что поставил на ножки, и бросил брату:
– Внимание, братишка! Видишь там в углу топорик? Возьми его… Так… хорошо… Ну, теперь колоти им изо всей мочи по этой ножке, по правой. – Ножка сломалась, но Джанни на хромоногом столике стоял по-прежнему. – Теперь другую, слева. – Когда вторая ножка была срублена, Джанни продолжал держаться чудом равновесия на столике, у которого не хватало обеих передних ножек. – А, а, а, а! – восклицал Джанни на балаганный лад, – вот где собака… Братишка, теперь нужно сбить долой третью ножку!
– Третью ножку? – несколько нерешительно проговорил Нелло.
– Да, третью, но эту – совсем легонькими ударами и одним последним сильным, чтобы разом послать ее подальше.
Пока Джанни говорил это, третья ножка уже готова была оторваться, а сам он пробирался на угол стола, к единственной крепкой ножке.
Третья деревяшка свалилась, и Нелло увидел, что столик, в края которого впились большие пальцы ног Джанни, продолжает стоять на месте, а тело брата, раскачивающееся над столом и выступающее за его поверхность, вырисовывается в пространстве, как изогнутая ручка вазы.
– Живей, прыгай мне на… – крикнул Джанни. Но стол вместе с эквилибристом уже покатился наземь.
Иногда старший брат застывал перед каким-нибудь предметом, скорчившись и съежившись, стоя на одном колене и опираясь обеими руками на другое; неподвижность его в эти мгновенья была так велика, что маленький брат, охваченный чувством уважения к этой глубокомысленной созерцательности, подходил к нему, не осмеливаясь заговорить, и заявлял о своем присутствии лишь легким прикосновением, похожим на ласку животного. Джанни, не оборачиваясь, нежно клал ему руку на голову и, мягко нажимая, сажал его возле себя, продолжая смотреть все на тот же предмет и запустив руку в волосы ребенка, пока, наконец, не опрокидывался назад, схватив братишку в объятия и восклицая: «Нет, невыполнимо!»
Тогда, катаясь с ним в траве, – как стала бы играть большая собака с шавкой, – Джанни в невольном порыве откровенности громко говорил, обращаясь к ребенку, но в то же время не желая быть понятным:
– Ах, братишка… трюк… изобретенный самими трюк… собственный трюк, понимаешь ли ты? – Трюк, который будет носить на афишах в Париже имя двух братьев…
И он внезапно обрывал речь и, словно стараясь заставить Нелло забыть все, что тот слышал, – схватывал его и крутил, заставляя выделывать целую вереницу неистовых кувырканий; и во время этого нескончаемого кружения ребенок чувствовал на своем теле прикосновения рук, которые были одновременно руками и братскими, и отеческими.
XIX
И вечно возобновлявшееся странствие Маренготты по Франции продолжалось под руководством сына, но без успехов и прибылей, бывших при управлении старого итальянца. Представления, которые свелись к гирям Геркулеса, пляске на проволоке Затрещины, трапециям и эквилибристическим трюкам Джанни, прыжкам маленького Нелло, – лишились привлекательности потешных пантомим, заканчивавших представления и забавлявших публику местностей, где не было театра, как бы кусочком настоящего спектакля. Вдобавок, персонал труппы, старея, терял воодушевление, – этот священный огонь ремесла. Паяц экономил свои шутки. Геркулес, при менее обильной трапезе, проявлял еще больше лени к движениям. Тромбонист, которого душила астма, дул в свой инструмент лишь из любви к господу богу. И парад зачах, турецкий барабан дремал, медные части балагана стали хрипло поскрипывать. Одна только Затрещина изо всех сил с сердитой самоотверженностью и своего рода остервенением боролась с неудачами братьев.
Шли годы, старик Бескапе медленно умирал, а дела становились более чем посредственны и управлять людьми со дня на день делалось все труднее. Сиприен Мюге, тромбонист-астматик, стал отпетым пьяницей с тех пор, как умерла Ларифлетта. Паяц, с каждым днем все более задиравший товарищей, причинял Джанни тысячи неприятностей: он разорял ивовые кустарники, ломал ветки груш и терновника вдоль дорог, по которым колесил караван; ибо паяц заполнял досуг плетением корзинок и вырезыванием тросточек и трубок. Эти художественные изделия, в которых заметны были следы искусства, изученного на каторге, Агапит продавал в свою пользу в антрактах между номерами. Совсем недавно Джанни имел крайне неприятное объяснение с владельцем березовой рощи, дворянином, любителем гимнастических трюков, приютившим комедиантов на три дня в своем замке. Ведь после их отъезда он обнаружил, что с его лучших берез паяцем ободрана кора для выделки табакерок! Во время нравственной борьбы между природной порядочностью юного директора и неохотой отказать старому товарищу, возле которого протекло его детство, и среди всевозможных огорчений, каждодневно причиняемых Джанни скоморошеством, – случилось событие, весьма неблагоприятное как для славы цирка Бескапе, так и для выручки кассы. Самым верным доходом, особенно в последнее время, труппа обязана была Геркулесу. Когда цирковой борец приезжал в городок, в село, очень часто местного силача подмывало помериться силой с атлетом. В таких случаях между цирком и силачом, который почти всегда оказывался мельником, затевались пари о том, кто кого уложит, пари на сто, двести, даже триста франков, которые со стороны противника Геркулеса вносились когда единолично самим противником, а когда вскладчину его земляками, местное тщеславие которых было заинтересовано в его победе. И неизменно выигрывал Геркулес, – не потому, что он был сильнее всех, с кем боролся, а благодаря привычке к борьбе и знанию всех приемов и всех секретов этого дела. И вот в один прекрасный день несокрушимый Рабастенс был положен на обе лопатки бресским мельником, человеком, по всеобщему мнению, менее стойким, чем Алкид. Среди изумления труппы, ее дрожащей приниженности, ее смятения раздался подло-насмешливый голос паяца, бросившего при всем народе подымавшемуся ошеломленному Геркулесу упрек, «что слишком уж он любит одну потаскуху, что в ночь перед борьбой»… Сильнейшая пощечина не дала договорить паяцу: он покатился наземь.
Паяц говорил правду. Действительно, Геркулес, до тех пор влюбленный лишь в еду, неожиданно воспылал нежностью к одной Деянире[22], которую таскал за собою и которой отдавал значительную долю своих сил. Самым печальным для Геркулеса и всей труппы в этом происшествии было то, что поражение это совершенно убило в нем сознание собственного превосходства, что он выходил еще два-три раза на борьбу и бывал бит и что с тех пор, отчаявшись и погрузившись в грустную уверенность, что дурной глаз разрушил силу его мускулов, он уже не поддавался ни на какие уговоры и не соглашался выйти даже против какой-нибудь тщедушной пехтуры.
XX
Когда Нелло был еще совсем маленьким, Джанни привлек его к участию в некоторых своих трюках, чтобы потешить ребенка, поощрить его и развить в нем вкус к ремеслу и к соревнованию. Позже он почувствовал в своей маленьком братишке такое жгучее желание получить некоторую долю в том, что он сам исполнял, что постепенно ввел его почти во все свои упражнения, и случилось так, что в последнее время, когда Нелло стал уже юношей, старший брат совершенно отвык работать в одиночку и почувствовал бы себя выбитым из колеи, если бы с его работой не была связана работа брата. Теперь Джанни, жонглируя, брал Нелло на плечи, и это соединение двух жонглеров, слившихся воедино, превращало полеты шаров в причудливую и неожиданную игру, игру двойственную, игру чередующуюся, игру противоречивую. На трапеции Нелло, вращаясь в орбите Джанни, вторил всему, что делал старший брат, и то исчезал в круговороте его движений, то медленно следовал за его замиравшим кружением. В новых упражнениях, разученных старшим с целью сформировать и выпустить на подмостки маленького гимнаста, – Джанни, лежа на спине, заставлял Нелло кружиться вихрем, во время которого подхватывал, бросал и вновь схватывал его ногами, – ногами, которые в эти мгновения словно приобретали цепкость рук. Были у них также общие, совместные трюки, где сочетались их силы, их гибкость, их проворство и где хотя бы мгновенное отсутствие согласованности в их телах, расхождение в соприкосновениях могло бы повлечь за собою для одного из них, а иногда и для обоих, самое тяжкое увечье. Но так совершенно было физическое взаимопонимание между братьями, так точна была согласованность их воли с любым мускулом, приводящим тело в движение, что воля эта казалась одной и единой для обоих тел.
Из этих скрытых, сокровенных взаимоотношений между частями их тел во время исполнения трюка; из этих ласковых отеческих и сыновних прикосновений, из этих обращений мускула к мускулу, из этих ответов нерва, говорящего другому нерву: «гоп!», из этой постоянной настороженности и тревоги двух чутких организаций, из этого ежесекундного отдания друг другу своей жизни, из этого постоянного полного слияния двух тел перед лицом единой опасности – рождалось то нравственное доверие, которое еще теснее связывало кровные узы между Нелло и Джанни и еще сильнее развивало их врожденную склонность ко взаимной любви.
XXI
Цирк Бескапе давал несколько довольно неудачных представлений в Шалоне на Марне, когда однажды вечером, заканчивая одно из упражнений, Джанни услышал, что кто-то из зрителей окликнул его по имени.
Он узнал собрата, с которым ему в течение многих лет доводилось встречаться в разные времена года в разъездах по Франции. Это был коротенький человечек, коренастый, узловатый, по прозвищу Перешитый, начавший с того, что без балагана, без музыки, прямо на площади стал сажать дюжину людей в тележку и поднимал их затем на собственной спине. Ввиду успеха тележка вскоре была заменена подержанной коляской, обтянутой старой выцветшей кожаной обивкой, добытой в чанах дубильщиков. Наконец, коляска заменилась позолоченной античной колесницей, в которой Перешитый и продолжал поднимать публику. И про удачливого человека, женившегося тем временем на фокуснице, стали поговаривать, что он хорошо зарабатывает своей колесницей и карточными фокусами жены; он кутил в харчевнях, ел дичь и пил запечатанные вина.
Перешитый поведал Джанни, что приехал слишком поздно, чтобы разложить балаган, и принялся сочувствовать ему, что так мало зрителей присутствует на представлении, горевал о мерзкой погоде, стоявшей все лето, плакался, что ремесло их теперь в таком упадке; иеремиаду свою он сразу оборвал, сказав: «А ведь говорят, малыш, что ты хочешь отделаться от своей колымаги?» А так как Джанни не отвечал ни да, ни нет, он молвил: «Ну, так заходи за мной завтра в Красную Шапку, – мы, может быть, что-нибудь обделаем».
XXII
Джанни застал Перешитого еще сидящим за столиком в харчевне Красная Шапка. По обеим сторонам Перешитого стояло по две пустых бутылки, и он только что принялся за пятую. На его широком лице, с пунцовыми пятнами возле ушей, с бровями, похожими на клочки белой кроличьей шерсти, и рябом, как Голландия[23], играла в лучах солнца веселость низкопробного забавника, смешанная с мелочной хитростью, светящейся в ясном взоре нормандского крестьянина.
– А, наконец-то! Бери стул и стакан и садись… Итак, папаша Бескапе приказал долго жить!… Я любил его, старую обезьяну… с удовольствием бы проследовал за его прахом… А! И бедовый же был малый! А как, сукин сын, умел проводить простачков! Слушай, молодчик, что я, Перешитый, скажу тебе: славный у тебя был папаша!… Такого уж нового не сыщешь, таких уж земля больше не родит. Пей, поросенок… И сколько же ты хочешь за свою колымагу?
– Хочу за нее, Перешитый, три тысячи франков.
– Три тысячи настоящих франков! Шутишь, малыш! Ты, верно, думаешь, что у меня и сотни, и тысячи, раз завместотележки у меня теперь коляска с позолотой… Но ведь ты не хуже меня знаешь: теперь дела идут не так, как во времена, когда они шли… Словом, надо быть разумным… и примириться с обстоятельствами и брать деньги, какие ни на есть… Кроме того, видишь ли, малыш: что у меня есть, или, вернее, чего у меня нет, – того с меня и хватит… тем я и довольствуюсь, короче говоря… А я-то думал управиться с тысячью двумястами франков… Да еще, право же, думал, ты у меня лапку поцелуешь… Пей, поросенок!
– Нет, Перешитый. Три тысячи. Хотите – берите, хотите – нет!
– Ах ты, карапузик. Да взаправду ли ты говоришь?
– Послушайте, Перешитый, вы отлично знаете: две лошади, две повозки, балаган и все прочее.
– Ну, поговорим о лошадях: одна уж вся облезла, у другой хвост отваливается. Что же до Маренготты, она дребезжит, как связка железных обручей, а ты разве не знаешь, что теперь один завод изготовляет такие же новенькие, с голыми бабами, нарисованными первейшими парижскими живописцами, – за полторы тысячи франков? А другой твой дурацкий ларчик, думаешь, много стоит? Что же до твоей палатки, непромокаемой твоей палатки, – я ее вчера хорошенько рассмотрел, и что ж, – по-христиански скажу, право, не уверен я, осталось ли там хоть малость холста вокруг дыр… Пей, поросенок!
– Послушайте, Перешитый, если вы не хотите дело сделать, уж наверно, Бикбуа захочет.
– Бикбуа! – та, что поженилась с кривоногим, по прозвищу Поверни-Налево, чертова мошенница, которая показывала долгое время женщину со свиной головой… то есть медведицу, которой по утрам сбривали со всего тела шерсть? Бикбуа тебе предложила сделку?… Остерегайся, малыш, она вся в исполнительных листах, – да, доверчивая ты душа, вся она опутана векселями и судебными исполнителями… Пей, поросенок.
– Уверены ли вы в этом, Перешитый? В таком случае я обращусь к папаше Пизару.
И Джанни встал.
– Папаша Пизар? Как можно связываться с таким безнравственным человеком? Ладно! Ты скажешь, я врежу своим товарищам… так ведь Перешитого, как всем известно, нельзя ни единым волосом на голове попрекнуть… да тебе, знаешь ли, самому все известно. Ты как граница возле Турне,[24] через которую не пройдет ни одна мышь без того, чтобы не узнали, сколько на ней шерстинок… А послушай-ка, в самом деле, я видел, как работает карапузик… здорово идет, лягушонок… прямо, как ивовая лоза… и в ногах у него словно вечный трепет… уж конечно, он на своих двух руках выйдет на широкую дорогу. Пей же, поросенок.
– Спасибо, пить не хочется… Так окончательно, вы не берете штуковину за три тысячи франков?
– Погоди, – уж ты и для видимости уважить меня не хочешь… а раз уж насчет чувств прохаживаться нечего… и чтоб с этим покончить… даю тебе две тысячи франков!
– Нет, Перешитый, вы не хуже меня знаете, что то, что я вам продаю, стоит больше трех тысяч… так и быть… отдам все за две тысячи пятьсот, но с условием, что вы уплатите наличными и заберете к себе весь мой народ.
– Забрать весь твой народ… да это то же самое, что предложить мне почесаться задницей о розовый куст!… Что мне, по-твоему, делать со всем этим сбродом?… У тромбониста твоего дух захватывает… твой Алкид годен разве что покупки по городу разносить… твоего торговца ужимками, острослова Кошгрю я не взял бы и собаку свою смешить, канатная твоя плясунья развинчена, как старые щипцы, и такая дохлятина, что про нее можно сказать: ленива она в могилу ложиться…
– Полноте, Перешитый, вы ведь пытались ее у меня переманить, – я же знаю!
– Ах ты, чертов сын… с виду-то простофиля… а у самого хитрости больше, чем у отца было… и к тому же на слова не разоряется… Решительно, малыш, ты сильнее меня… Ну, вытащим же карманную посудину…
И Перешитый извлек обвязанный вокруг бедер пояс, какие носят прасолы.
– Держи, вот тебе две тысячи двести!
– Я сказал две тысячи пятьсот, Перешитый, и сверх того наем всей моей труппы.
– Ладно, придется пойти на все, чего хочет этот злополучный Бескапе!
– Вы расплатитесь, Перешитый, когда примете имущество… и приходите за ним поскорее, а то я уезжаю.
– Так вот сию минуту? Брось дурить! Не новую ли труппу ты станешь набирать?
– Нет, – с этой жизнью… покончено.
– Меняешь ремесло? Едешь искать счастья?
– Об этом вы узнаете в свое время.
– Так решено, не правда ли? В таком случае – валяй вперед… я тебя нагоню, мне надо еще шестую раздавить… А то я еще не наполнился…
XXIII
Возвращаясь домой, Джанни повстречал у входа в балаган поджидавшую его Затрещину. Он уже заметил, что с некоторого времени она несколько раз собиралась заговорить с ним, но каждый раз готовые вылететь слова застревали у нее в горле:
– Вот и вы, наконец, господин Джанни, надолго вы. уходили сегодня утром… а я хотела, – и она остановилась, потом продолжала в смущении: – Короче говоря, вот в чем дело… говорят, что теперь любят диких женщин… что это дает барыши… Поэтому я разузнала, как это обставляется… не велика ведь хитрость есть сырых кур… а я не гордая… и для вас я охотно стала бы их есть… а также и сигары.
Джанни посмотрел на нее. Затрещина покраснела, и сквозь смуглость ее загорелой кожи проступила тайна скрытой в глубине ее существа нежности к юному директору. Бедная девушка, движимая чувством преданности, в поисках средства, способного поправить дела братьев Бескапе, заглушила в себе гордость примадонны-канатоходчицы и, в порыве величественного самоотречения, соглашалась снизойти до низшей и унизительной разновидности их ремесла: до пожирательницы сырых кур.
– Бедная Затрещина, благодарю тебя, – сказал Джанни, смотря на нее влажным взором, – ты-то действительно любишь нас обоих… но в настоящую минуту скарб продан, и вот смотри: Перешитый идет, чтобы вступить во владение… Ты знаешь, что меняется ведь только директор… но если когда-либо тебе понадобится десятифранковая монета и если у Бескапе найдется рыжик, – помни: существует почта. Ну, давай без нежностей… Уложи мои и братнины пожитки в деревянный сундучок, – да поскорее, потому что мы уезжаем сегодня, тотчас же… а я пойду сдам Перешитому ключи от лавочки.
Джанни вернулся через час, взвалил себе на плечи сундук и сказал удивленному Нелло:
– Ну, братишка, возьми скрипку и живо на железную дорогу – в Париж.
Обменявшись рукопожатиями со старыми товарищами, они стали удаляться, оба шагах в двадцати одновременно обернулись в сторону Маренготты, как люди, только что продавшие отчий дом и, прежде чем покинуть его навсегда, прощающиеся долгим взглядом со стенами, где они родились и где умерли их родители.
XXIV
В вагоне старший брат говорил младшему:
– Не правда ли, братишка, тебе не казалось таким уж занятным вечно разъезжать по провинции, вечно выбиваться из сил на ярмарках?
– Я, – просто сказал младший, – я так: ты бы остался – и я остался бы, ты уезжаешь – я за тобою, ты поехал бы в Индию – я бы поехал в Индию, и, право, даже если бы я думал, что ты немного свихнулся, – я все равно поступил бы так же.
– Да, я это знаю, – сказал старший, – поэтому-то объяснения и были излишни… но все-таки вот каковы они… наши дела… они были не блестящи… но не это понудило меня продать… в голове у меня имеются виды относительно нас обоих.
И Джанни, с минуту рассеянно побарабанив пальцами по деревянной лавочке третьеклассного вагона, проговорил:
– Итак, вечером мы будем в Париже… завтра я постараюсь наняться в цирк… а там увидим!
Тут Джанни погрузился в облако дыма, исходившее от его трубки, и ехал так вплоть до самого Парижа, в то время как Нелло, по-детски забавлявшийся переменой и гордый предвкушаемым дебютом в цирке, в тормошливом, безудержном, болтливом сознании счастья тревожил дремоту жирных и апоплексических соседей-блузников, так как без умолку болтал и выходил на каждой станции.
XXV
С железной дороги братья велели везти себя в маленькую гостиницу на улицу Двух Экю, где, как помнил Джанни, он еще совсем маленьким прожил несколько дней с отцом. Их повели по лестнице с деревянными перилами на пятый этаж, в комнатку с таким низким и неровным потолком, что когда Джанни захотел переменить сорочку, ему пришлось искать по комнате местечко, где он мог бы стать с поднятыми кверху руками.
Они тотчас же вышли, пообедали в первом попавшемся погребке и пошли на улицу Монтескье, где каждый из них купил себе пальто и брюки. Они приобрели также штиблеты на винтах и фуражки.
Затем они сели на извозчика и приказали везти себя в цирк; они взяли первые места и, руководимые инстинктом балаганных завсегдатаев, поместились слева, близ входа. Они пришли, когда газ был еще приспущен и широкая желтая песчаная розетка вырисовывалась на черной арене, еще не тронутой ногой берейтора с шамбарьером;[25] любопытное зрелище представляли для них все мелкие приготовления к представлению с лошадьми и трюками, поставленному на столь широкую ногу.
Публика прибывала, зал понемногу наполнялся.
Вскоре один из шталмейстеров, – узнав товарищей по ремеслу по тем мелочам, которые выдают гимнастов под штатским платьем: по размеренной уравновешенности движений, по плавному раскачиванию туловища в сюртуке без жилетки, по скрещенным рукам и по локтям, обхваченным ладонями, – разговорился с братьями, стал давать им разъяснения, сообщил, в какие часы можно застать в цирке директора.
И спектакль начался.
Джанни внимательно смотрел, не говоря ни слова. У Нелло же при каждом упражнении вырывались восклицания вроде следующих:
«Это мы делаем! Это ты мог бы сделать! Это нам далось бы после небольшой тренировки».
Они вернулись домой, не без некоторого труда разыскав свою гостиницу, а когда разделись, Джанни, не слушая брата, продолжавшего болтать в постели, сказал, что очень устал, и уткнулся головою в стенку.
XXVI
На другое утро Нелло, проснувшись, застал брата курящим трубку у раскрытого окна. Джанни сидел, опершись на подоконник, и так был погружен в свои мысли, что не обернулся на шум, поднятый Нелло.
Несколько озадаченный, Нелло стал посматривать через плечо брата, стараясь увидеть, что могло так заинтересовать Джанни на противоположной стене. Стена отстояла от их окна футов на пятнадцать и была отделена небольшим двориком; внизу она была цвета навоза, а выше становилась черной, как сажа; по всей ее поверхности – высотою в пять этажей – торчало множество крюков и всевозможных предметов, висевших в поисках дневного света в этой сумрачной дыре. Начиналось это с маленькой прогнившей деревянной галерейки над складом еврейской лавчонки, запертым громадными железными засовами. На галерейке среди зияющих ночных горшков виднелся букет в жестянке из-под молока. На зеленоватой мшистой крыше галереи была сооружена из дранки и старых трельяжей громадная, занимавшая всю ширину дворика, клетка для кроликов, которые растерянно носились по ней, мелькая белыми пятнами на рыжем фоне. Выше – у окон всевозможных очертаний и возрастов, пробитых словно наугад, канатные сетки поддерживали крошечные садики с желтыми цветочками в дощатых ящиках. Еще выше к стене была прикреплена большая ивовая корзина, в каких обычно греют для бани белье; владелец превратил ее в клетку и в ней порхала сорока. Наконец, на самом верху, возле слухового окна, рядом с помойным ведром сушилось на веревке муслиновое платье с розовыми горошинами.
Рассмотрев все это, удивленный взор Нелло обратился к глазам брата, который, как он заметил, смотрел, ничего не видя.
– О чем это ты думаешь, Джанни?
– О том, что надо нам с тобой ехать в Лондон!
– А цирк?
– Терпение, дитя… до цирка мы доберемся… когда-нибудь… – продолжал Джанни, шагая взад и вперед по комнатке. – Тебе ничего не подсказало то, что ты видел в цирке? Нет, тебе, видно, это не подсказало того, что подсказало мне… так вот: трюки, которые мы делаем, англичане делают иначе… и лучше. Ах, эти англичане… хорошую работу можно изучить у них там на месте!… У них проворство в силе… У нас, вероятно, слишком много развинченности, мы слишком расходуемся на усвоение гибкости… и в этой игре мы, быть может, теряем в скорости сокращения мускулов? Потом… – не смешно ли это? – вчера мне словно вдруг указали, что именно нам с тобой надо исполнять, что нам с тобой больше всего подходит… Словом, глупыш, – те, вчерашние-то – ведь это разом и то, что отец исполнял, и то, что исполняем мы, ну да, – штуки, где гимнаст является своего рода актером, а когда ты, братишка, прибавишь к ним свои милые проделки… словом, – не вечно же нам заниматься кувырканием?…
Заметив на лице брата печальную гримасу, Джанни добавил:
– Ну, а ты что скажешь на это?
– Что ты всегда прав, мой старший! – ответил, вздыхая, Нелло.
Джанни посмотрел на брата с немой нежностью, выразившейся лишь в едва заметном трепете его пальцев, набивавших новую трубку.
XXVII
Англия – первая в Европе страна, вздумавшая одухотворить грубое содержание трюка. Там гимнастика превратилась в пантомиму; там бессмысленный показ мускулов и мышц стал чем-то забавным, грустным, иногда трагичным; там гибкость, проворство, ловкость тела впервые задались целью вызвать смех, страх, мечты – так, как это делает театр. И именно в Великобритании неведомыми творцами, от которых едва сохранилось несколько имен XVIII века, разбросанных по платежным ведомостям цирка Астлея,[26] была изобретена совершенно новая сатирическая комедия. Это было как бы обновление итальянского фарса, где клоун, этот деревенский простачок, этот гимнаст-актер, возрождал сразу и Пьерро, и Арлекина, бросая в публику иронию этих двух типов, гримасу обсыпанного мукою лица, гримасу, словно растянутую и разлитую по всей мускулатуре его насмешливого тела.
И – любопытная вещь – в стране Гамлета случилось так, что на это чисто английское создание национальный дух наложил свой отпечаток равнодушия и мрачной скуки и создал веселость его, если можно так выразиться, из своего рода тоскливого комизма.
XXVIII
В год приезда братьев в Лондон, на Викториа-стрит было место, называвшееся Развалинами. Это был огромный участок, на котором по распоряжению Комиссии благоустройства столицы было разрушено три-четыре сотни Домов, – пустырь, усеянный обломками, где еще возвышались к небу старые стены рядом с кладкой новых домов, постройка которых задержалась, – участок, заваленный нечистотами и щебнем, заброшенный уголок столицы, где жалкая трава начинала пробиваться из почвы, покрытой известью, устричными раковинами, бутылочными осколками, – словом, пустырь Сен-Лазар. Развалины уже несколько лет служили местом свиданий и манежем под открытым небом для всех неангажированных акробатов, гимнастов, трапецистовнеподвижной трапеции и трапеции свободной, клоунов, жонглеров, канатоходцев, эквилибристов, для всех рожденных в древесных опилках[27] или жаждущих в них жить: словом, той школой, из которой вышли впоследствии Франк Берингтон, Костелло, Джемми, Лее, Биль Джордже, Джоэ Уэль, Аламбра Джоэ. Особенно по вечерам Развалины представляли любопытное зрелище. В темноте, царившей на этом поле руин, среди остатков черных стен немного жутких очертаний, сквозь круговорот обрывков гнилых обоев, сорванных ветром, среди бегства стад ошалевших крыс, на всем протяжении сумрачного и туманного пространства свет четырех сальных огарков, воткнутых в землю там и сям, смутно освещал, поверх колеблемых бледных отсветов, тени прогуливавшихся или летавших в ночном небе тел.
Сначала Джанни и Нелло наблюдали, как работают другие, потом, неделю спустя, и они принесли сюда свои снаряды и свечи; и, привязав маленькую трапецию к косякам большой двери дома, от которого остался один лишь фасад, они принялись работать среди восхищенных англичан.
Соседом французов по упражнениям был худой и длинноногий человек чахоточного вида, упражнявшийся в пролезании меж перекладинами стула. Этот развинченный ирландец, по прозвищу Земляной червь, загибал назад ноги, обхватывал ими, точно галстуком, шею, и, превратившись таким образом в шар, катился и раздавливал задом персиковую косточку. Вскоре они узнали от него, что в Лондоне сами директоры не нанимают артистов, что монополия найма для всего Соединенного королевства находится в руках двух лиц: г-на Мейнарда, живущего на Йоркрод-Ламбет, и г-на Робертса, проживающего на Комптон-стрит. Земляной червь предупредил при этом братьев, что эти господа имеют обыкновение удерживать при ангажементах пятнадцать процентов комиссионных с суммы контракта.
Однажды утром Джанни и Нелло явились к г. Робертсу; они поднялись к нему по лестнице, на ступенях которой растрепанные кормилицы с обнаженными грудями кормили младенцев, прислонившись головой к стене и покуривая длинные изогнутые трубки.
Братьям пришлось ждать очереди в своеобразной передней, стены которой были сверху донизу украшены развешанными вплотную друг к другу деревянными некрашеными рамочками с фотографиями знаменитостей всех европейских цирков, манежей и кафе-шантанов.
От фотографий взоры братьев переходили на людей, выходящих из конторы по найму; сидевшие в ожидании подле братьев называли этих людей по именам. Тут был Гассан-Араб; тут был папаша Замзу в широкополой фетровой шляпе и в пальто цвета коринки, – излюбленного цвета старых актеров; тут был Санди, в карманах которого еще лежали остатки золотых самородков, брошенных ему в Сан-Франциско и Мельбурне, Санди в куртке на тюленьем меху и в ярко-красном жилете; тут был изящный Берингтон, одетый в черный бархатный сюртук с золотой цепочкой, идущей от петлицы к боковому карману, и в сдвинутой на ухо тирольской шляпе с павлиньим пером; затем много неизвестных, нижняя часть лица которых скрывалась в засаленном шерстяном кашне, и женщин, закутанных в кашемировые платки вроде тех, какими разносчики овощей накрывают свои тележки.
Наконец братья проникли в кабинет Робертса, маленького человечка со смуглой и заскорузлой, как у носорога, кожей и с золотыми колечками в ушах.
Он прервал Джанни, заговорившего на скверном английском языке, после первых же двух-трех слов:
– Великолепно, мне как раз требуется пара хороших гимнастов для Спрингторпа в Гулле… Но я вас не знаю… где вы работали прежде?
Этого вопроса больше всего опасались братья, и Джанни на мгновенье смешался, как вдруг из темного угла кабинета раздался голос, по которому братья узнали Земляного червя:
– Я их знаю… Они только что из Цирка императрицы.[28]
– О, в таком случае вы подходите… Ангажемент будет на шесть ночей, начиная с будущей субботы… вы получите пять фунтов.
XXIX
После шести ночей в Гулле, проведенных с полным успехом, братья отправились звездитьдвенадцать ночей в Гриноке, в Шотландии, затем были ангажированы, все в качестве звезд, – по английскому выражению, – в кафе-шантан в Плимут. А когда ангажемент в Плимуте окончился, они в течение полутора лет беспрерывно разъезжали по железным дорогам и на пароходах, давая представления почти во всех больших городах Соединенного королевства. Настал, однако, день, когда их популярность, как акробатов на трапеции, позволила им отказываться от приглашений, связанных со слишком значительными путевыми расходами. Джанни хотел, чтобы они жили только на свой заработок, и берег деньги, вырученные от продажи Маренготты; он старался сохранить их на непредвиденный случай, на случай одного из тех несчастий, которые так часты в их профессии.
Эта тяжелая жизнь, сопровождавшаяся усталостью от постоянных, беспрерывных переездов, преследовала одну цель: она позволяла братьям, благодаря кратковременным, летучим гастролям, благодаря пребыванию в разных труппах, – изучить работу почти всех комических гимнастов Англии. Работа в качестве трапецистов давала братьям возможность усвоить особенности, своеобразие, гимнастическое крючкотворство каждого клоуна, возле которого им приходилось жить неделю или две, – словом, проникнуть в интимный и сокровенный дух искусства во всех его проявлениях у различных людей. И оба они, – втайне упражняясь, изобретая и разучивая маленькие смехотворные сценки, – стали теперь законченными клоунами, клоунами, имеющими уже в сундучках припасенные костюмы, клоунами, вполне готовыми к выступлению на ринг, как только представится к этому подходящий случай.
XXX
Случай не заставил себя ждать. Однажды в Карлейле Ньюсом директор труппы, в состав которой временно входили братья, поссорился с Френксом, знаменитым паяцем Френксом, который и покинул цирк вместе со своим партнером в самый разгар представления. Ньюсом оказался в весьма затруднительном положении, и Джанни предложил ему. испробовать их с братом. Вскоре они появились на арене во главе клоунской ватаги, одетые в своеобразные, кокетливые костюмы, и Нелло бросал в публику – право же, на весьма чистом английском наречии, – традиционную фразу клоунов:
– Here we are again – ail of a lump! How are you?[29]
Тотчас же начался целый ряд прелестных шутовских сцен, пересыпанных трюками и сопровождаемых странной музыкой, – ряд пластических построений, сливавших воедино и тела, и скрипки двух братьев. И изысканное своеобразие их юмора, изящество и грация силы, очарование юношеского телосложения Нелло, – и сама ребячливая и улыбчивая радость, с какой он дебютировал, – все это вызвало в зале взрывы неистовых аплодисментов.
XXXI
Зловещей стала английская клоунада в последнее время, и порой от нее пробегают по спине мурашки, которые в минувшем веке называли малой смертью. Она совсем утратила черты саркастической иронии Пьерро с набеленным лицом, прищуренным глазом и усмешкой в уголке губ; она отбросила даже гофмановскую фантастику и мещанскую сверхъестественность, в которые одно время были облечены ее выдумки и создания. Она сделалась устрашающей. Все мучительные тревоги и смятения, порожденные современной жизнью, скрытая под внешней серостью и бесцветностью трагичность, драматизм, хватающая за душу угрюмость – все это английская клоунада сделала своим достоянием, чтобы преподнести затем публике в акробатических трюках. В ней есть нечто пугающее зрителя, нечто пугающее, сплетенное из мелких жестоких наблюдений, из безжалостного подражания немощи и уродству жизни, усиленному, преувеличенному юмором жутких карикатуристов; все это в замысле спектакля выливается в фантастический кошмар и возбуждает в вас томительно-тревожное впечатление, подобное тому, какое выносишь от чтения Сердца-разоблачителя[30]американца По. Кажется, будто это показ дьявольской действительности, освещенной своенравным и злым лучом лунного света. И с некоторого времени на великобританских цирковых аренах и на сценах кафе-шантанов показываются лишь интермедии, в которых кувырканья и прыжки не стараются позабавить глаз, а стремятся лишь странными и болезненными движениями тела и мышц зародить и тревожное изумление, и волнение страха, и почти мучительное удивление; там к саркастическим кулачным боям, к отвратительным сценам, к мрачным забавам примешиваются видения Бедлама, Ньюкастля, анатомического театра, каторги, морга. А какова обычная обстановка для этой гимнастики? – Стена, стена скудно освещенного предместья, стена, на которой видны еще плохо смытые следы преступления, стена, на гребне которой появляются современные ночные призраки в черных фраках; они спускаются вниз, сильно вытягивая ноги, и ноги становятся длинными-длинными… как те, что представляются во сне восточным потребителям опиума. Их чудные и развинченные тени отражаются на белизне стены, похожей на саван, преображенный в полотно для волшебного фонаря, и вот начинаются маниакальные трюки, идиотская жестикуляция, тревожная мимика сумасшедших домов.
И в это леденящее шутовство, как и во все прочие сценки, потертый черный фрак – эта новейшая ливрея английского клоуна – привносит нечто погребально-причудливое, напоминающее мрачное зубоскальство проворных факельщиков.
XXXII
Акробатическая пантомима братьев нисколько не походила на пантомиму английских клоунов последнего времени. В пантомиме братьев звучал отголосок смеха итальянской комедии, к которому примешивалась доля мечтательности, звучавшей в их скрипках. В их номерах было нечто наивное и умилительное; нечто утонченно-смешное, вызывавшее улыбку, и нечто немного странное, погружавшее в мечту; на все это мальчишеская грация Нелло навевала особое, невыразимое очарование. Кроме того, они ввели в свои упражнения своеобразную фантастику, в которой не было ничего кладбищенского, печального, мрачного, – фантастику красивую, кокетливую, остроумную, как страшный рассказ, в котором то там, то сям проскальзывает насмешка над вымыслом, над причудами, и в стройном теле Нелло мало-помалу словно пробуждалась фантастическая жизнь.
Наконец, неизвестно как и почему – пластическое представление братьев вызывало в уме зрителя мысль и воспоминание о насмешливом создании, окруженном светотенью, о своеобразной шекспировской грезе, о своего рода Сне в летнюю ночь[31], поэзию которого они претворяли в своей акробатике.
XXXIII
Ньюсом пригласил их на жалованье в десять фунтов стерлингов в неделю. Братья вступили в состав труппы и жили в братских отношениях со всеми артистами и артистками. Мужчины были хорошими товарищами, с легким налетом британской спеси. Женщины – все женщины порядочные, – все – матери семейств, – были кротки, как овечки; только изредка, под влиянием джина или северо-западного ветра, соперницы затевали кулачный бой. И это не было дракой французских женщин, где больше брани и разодранных чепцов, чем побоев, – это были настоящие боксерские схватки, после которых побитой приходилось иногда недели две пролежать в постели.
Разъезжая вдоль и поперек Соединенного королевства, братья в сущности почти вернулись к кочевой жизни, которую вели во Франции, но в лучших условиях и в стране, гораздо живее интересующейся физическими упражнениями. В Англии, где прибытие цирка превращается в маленьких городках в целое событие и где уличное шествие комедиантов, лошадей, диковинок, клеток с хищными зверями влечет за собою закрытие лавочек, как праздничный день, – милая клоунада Джанни и Нелло прекрасно принималась и начинала влиять на сборы. Чтобы привлечь к себе братьев, Ньюсом время от времени давал в их пользу одно из тех представлений, билеты на которые бенефицианты распространяют сами, ходя из дома в дом; это давало им фунтов пять-шесть доходу. И имя двух клоунов, боевое имя, которое они приняли там, стало модным и сияло на афишах, отпечатанное самой яркой пурпурной краской, какая только имелась в британском королевстве.
XXXIV
Несмотря на лестный прием, оказываемый их упражнениям, и на легкую молву, поднявшуюся вокруг их имени, юному французу, сидевшему в Нелло, Англия стала надоедать. Его латинский темперамент, привыкший к солнечным странам, начинал тяготиться туманами Великобритании, ее серым небом, ее закопченными домами, атмосферой каменного угля, пронизывающего все особой грязью, по которой можно с первого взгляда отличить серебристую монету, пролежавшую некоторое время, хотя бы и в коллекции нумизмата, в этой печальной и мрачной стране угля. Он устал от всего английского: от отопления, от кухни, от напитков, от воскресных дней, от мужчин и женщин. Вдобавок Нелло, хоть и не чувствовал себя больным, все же стал покашливать, и этот легкий кашель, не вызывавший, впрочем, никаких опасений, пробуждал в памяти Джанни тревожное воспоминание, – воспоминание о том, что их мать умерла от чахотки.
У Нелло не было бросающего с первого взгляда сходства с матерью, и тем не менее он был вылитым ее портретом. В телосложении младшего сына было много общего с нею, и в его мужественности было что-то, напоминавшее женственность его матери. Что же касается его лица, то – странная вещь – оно было не совсем то же, и все-таки Нелло со своей белой кожей, умными черными глазами, цветущим маленьким ртом, белокурыми, как пенька, усами, нежной, улыбающейся и слегка насмешливой внешностью напоминал лицо матери то утонченностью какой-нибудь черты, то изгибом контура, то какой-то особенностью во взгляде, в улыбке, в презрительной гримасе, – тысячью пустяков, в которых иногда, при некоторых поворотах головы, при известном освещении, – Степанида возрождалась полнее, чем если бы ее ребенок был точным с нее слепком. И теперь, в долгие часы, проводимые братьями на железных дорогах, среди товарищей, говорящих на другом языке, под влиянием мечтаний, сопровождающих томительность бесконечного пути, Джанни порою всматривался в Нелло, чтобы на несколько мгновений вызвать иллюзию, что он вновь обретает, вновь видит свою мать.
Однажды, когда вся труппа Ньюсома ехала из Дорчестера в Ньюкастль, Джанни сидел в вагоне против Нелло, который спал с полуоткрытым ртом, запрокинув голову, носом кверху, и время от времени покашливал во сне. Настал вечер, и в спускавшихся сумерках глазные впадины Нелло наполнялись тенями, и в исхудавшее лицо его, в ноздри, в отверстие рта вливалась ночь. Джанни, устремившему взор на брата, показалось, что он видит перед собой, как мгновенное видение, голову матери, лежащую на подушке в Маренготте.
Джанни порывисто разбудил Нелло:
– Ты болен?
– Да нет, – молвил Нелло, зябко пожимаясь. – Да нет же!
– Право же, ты болен! Послушай, братец. Ах, мне действительно не везет! У меня ушло зря почти два года на подтягивание на одних кистях рук. Бради, учителю гимнастики в Нью-Йорке, никогда не удавалось сделать больше семи подъемов, – я же, ты знаешь, делаю их девять, – но я не представляю себе, какова была бы твоя роль в этом номере… и опять-таки то же самое в трюке с висением в воздухе с распростертыми руками, который удается только кубинцам. И вот в последнее время мне казалось, что я изобрел штуку, настоящую штуку… но в последнюю минуту, – вот поди ж ты, – мне уже стало казаться невозможным, невыполнимым… то, чего мне хотелось, братец… Ты сейчас поймешь… Следовало в упражнения, которые мы делаем теперь, ввести трюк… на этот раз настоящий, из ряда вон выходящий трюк… Хорошо бы – правда? – появиться с таким номером в парижском цирке?
– А почему бы не подождать?
– Почему?… Потому что ты скучаешь, потому что ты кашляешь… а я не желаю, чтобы ты кашлял! Да, мы скоро удерем. Наш дебют там, – ничего не поделаешь, – будет не столь лестным… но в один прекрасный день – и, черт возьми, настанет же когда-нибудь этот день! – мы нагоним. Дай мне еще месяц, полтора месяца сроку – вот все, что я у тебя прошу.
XXXV
Приглашение Ньюсомом французского фокусника внесло некоторое, разнообразие в скуку, которую испытывал Нелло в английской обстановке. Это был юноша с отменно-изысканными манерами; о нем ходили странные слухи: говорили, что он не сможет уже никогда больше вернуться во Францию, что, происходя из знатной семьи, он пустился в шулерство, чтобы добыть средства для безумно любимой женщины. Между этими двумя изгнанниками из Франции завязалась дружба, дружба грустная, но нежная, которую разделяла теперешняя подруга опозоренного аристократа – бедная голубка, роль которой состояла в том, что фокусник ежедневно запрятывал ее в рукава и карманы: от этого занятия и от жизни в потемках карманов она утратила свое кокетливое и суетливое изящество и, вечно неподвижная, не воркующая и не шелестящая крыльями, казалась грустной деревянной птицей.
Но когда, с наступлением лета, здоровье Нелло как будто окончательно поправилось и когда он уже почти совсем примирился с жизнью в Англии, директор-распорядитель Двух цирков в Париже, совершавший ежегодную поездку по Англии с целью завербовать новые, незнакомые еще Франции таланты, увидел в Манчестере работу братьев и пригласил их к открытию сезона Зимнего цирка, назначенному на конец октября.
XXXVI
Братья стояли в кабинете директора Двух цирков, на улице Крюссоль, в большой низкой комнате, с необъятным столом, накрытым зеленой скатертью, и обставленной старомодными креслами красного дерева времен Первой империи, – в комнате, оклеенной унылыми обоями, к которым вперемежку были пришпилены булавками старые афиши о первых представлениях трюков, ставших впоследствии знаменитыми, и несколько нарядных и ярких хромолитографий Шере.[32]
Директор читал братьям договор, который им предстояло подписать:
«Мы, нижеподписавшиеся… заключаем настоящий контракт в следующем:
1. Гг. Джанни и Нелло заявляют о своем вступлении в труппу общества Двух цирков в качестве клоунов, где они будут использованы в соответствии со способностями, которые признает за ними директор-распорядитель, и так, как он найдет нужным, не только в спектаклях Двух цирков в Париже, но и в представлениях, которые могут быть организованы как во Франции, так и за границей, во всех залах, садах, общественных и частных помещениях и т. д., которые будут им предоставлены для этой цели, и каковы бы эти помещения ни были, также невзирая на количество представлений, которое будет дано за день.
2. Исходя из этого, гг. Джанни и Нелло обязуются следовать с труппой в целом или с частью ее, куда бы и по какому бы маршруту директор-распорядитель ни отправил ее в пределах Франции или за границей, а также если директор-распорядитель того потребует, разъезжать вдвоем по его указанию, не требуя за то ни повышения жалованья, ни возмещения каких-либо убытков, кроме расходов на проезд, каковой должен совершаться по маршруту и помощью тех средств передвижения, какие будут указаны директором-распорядителем.
3. Гг. Джанни и Нелло обязуются с полным вниманием относиться ко всем мелочам обслуживания цирка и, согласно установившемуся в конных труппах обычаю, убирать манеж и приготовлять к представлению дорожку, а также надевать ливрейные униформы,[33] которые будут им выданы для участия в обслуживании манежа во время представления.
4. Гг. Джанни и Нелло обязуются, кроме перечисленного выше, ежедневно давать один номер.[34]
5. Гг. Джанни и Нелло обязаны являться на репетиции в установленное место и время всякий раз, когда им об этом будет сообщено, будь то устно или посредством расписания, устанавливающего программу и порядок ежедневных упражнений. Они обязуются также являться в манеж, по крайней мере, за полчаса до начала каждого представления, не исключая и тех случаев, когда они не будут включены в программу, и, наконец, работать в качестве заменяющих или сверх программы всякий раз, когда это от них потребуется.
6. Директор-распорядитель оставляет за собой право единолично руководить работой гг. Джанни и Нелло и вносить в нее все изменения, добавления и изъятия, какие сочтет уместными.
7. Гг. Джанни и Нелло не имеют права выступать нигде, – ни в общественных местах, ни частным образом, – кроме того помещения, где будет давать представление труппа Двух цирков, – под страхом уплаты штрафа в размере месячного жалованья за каждое нарушение этого пункта.
8. Гг. Джанни и Нелло подтверждают, что им известны все распорядки Двух цирков, и обязуются подчиняться всем установленным правилам и считать законными взыскания, которые могут быть на них наложены на основании означенных правил.
9. В случае закрытия цирка или временного прекращения спектаклей вследствие не зависящих от дирекции обстоятельств: пожара, общественного бедствия, беспорядков, распоряжения властей и по всякой другой какой бы то ни было причине, как предвиденной, так и непредвиденной, и независимо от страны, где будет находиться в то время труппа или часть ее, даже если спектакли будут прекращены хотя бы на один день, – начисление жалованья гг. Джанни и Нелло приостанавливается со дня прекращения спектаклей. Однако, если прекращение представлений продлится долее одного месяца, гг. Джанни и Нелло имеют право отказаться от настоящего контракта и расторгнуть его, уведомив о том директора-распорядителя.
10. Все костюмы, необходимые для появления на арене, будут выдаваться дирекцией Двух цирков. Какие бы то ни были изменения в костюмах не допускаются.
11. Настоящий контракт заключен сроком на один год, но за директором-распорядителем сохраняется право расторгнуть его по истечении шести месяцев.
12. Директор-распорядитель обязуется уплачивать гг. Джанни и Нелло две тысячи четыреста франков в год.
Выплата жалованья будет производиться два раза в месяц.
Директор-распорядитель ни в коем случае не несет ответственности за несчастные случаи, которые могут иметь место во время упражнений гг. Джанни и Нелло».
В то время как братья собирались поставить свои подписи под учинено в двух экземплярах, директор обратился к Джанни:
– И вы по-прежнему настаиваете на том, чтобы зваться на афишах клоунами Джанни и Нелло?
– Да, мсье, – решительно ответил Джанни.
– Но ведь это – позвольте мне высказаться – нелепо… в то время как те, кто в действительности вовсе не братья, считают выгодным убедить публику в том, что они родственники, – вы, настоящие братья…
– Когда-нибудь… мы также объявим в афишах о нашем родстве… но этот-день еще не настал… я.::
– Как вы говорите? – Но так как Джанни молчал, директор проговорил: – В конце концов, – как хотите,, но, повторяю, вы не правы, совсем не правы… это не в ваших интересах…
И директор, взяв на себя обязанность проводника, повел братьев через двор, соединяющий контору на улице Крюссоль с Зимним цирком: это артистический вход. Они заходили в склады, заваленные грудами гигантской бутафории с болтающимися на потолке неимоверной высоты невероятными вещами – вроде матушек Жигоней[35] в розовых шелковых юбках, под которыми могло бы укрыться десятка два ребятишек. Через полуоткрытую дверь они увидели двух мальчиков и девочку, одетых в пальто поверх рабочих трико и держащихся в равновесии на шарах, в то время как почти вплотную к ним царственный тигр, могучий и злой тигр, раздражаемый соседством их свежих тел и беспрестанным перекатыванием шаров, вздымался время от времени во весь рост, опирался на перекладины клетки и испускал вздох, похожий на свистящую струю пара. Они прошли через конюшни, мимо спавших в темноте и переступавших с ноги на ногу лошадей и вошли в цирк, погруженный среди – бела дня в мутный сумрак, свойственный всем помещениям, рассчитанным лишь на ночное, освещение. На пустой арене пять-шесть мужчин в фуражках и вязаных фуфайках, освещенные светом, сочетавшим в себе и тусклость солнечного луча под водой, и холодную синеву ледниковой расселины, репетировали пантомиму – пантомиму, принимавшую странный оттенок от пошлой реалистичности актеров, от их веселости, не встречающей отзвука среди призрачного полумрака большого пустынного зала.
XXXVII
Дебют братьев, не сопровождавшийся ни анонсами, ни рекламой, ни обычной или сверхобычной шумихой прессы, ничем, Что подстегивает интерес Парижа к рождающемуся таланту, – прошел незамеченным. Сначала их даже не отличали от остальных клоунов цирка. Однако с течением времени ловкость, которую они проявляли в своих упражнениях, изящество, изысканность и очарование малейших трюков, исполняемых Нелло, тонкость и неожиданность его комизма, наконец, привнесенная братьями в этот жанр оригинальность, в которой, однако, публика пока еще лишь смутно давала себе отчет, – привлекли к ним внимание, но все же им еще не удалось добиться того, чтобы парижане запомнили их имена. О Джанни и Нелло говорили: «Знаете, те двое… у которых итальянские имена». Они пользовались некоей анонимной известностью, – вот и все. А между тем они являлись и авторами, и исполнителями маленьких гимнастических поэм, задуманных совершенно по-новому. Вот либретто одной из таких фантазий, о которых Цирк еще хранит воспоминание.
XXXVIII
В темноте, получающейся в цирке от приспущенного газа, Джанни спал, лежа на земле, в то время как из синеватой дымки выступал Нелло, изображавший в этой поэтической интермедии одного из тех злых духов, одного из тех коварных кобольдов, что живут в гористых и озерных странах. Он был одет в дымчатые и сумрачные тона, переливавшие темным блеском металлов, схороненных в земных недрах, блеском черного перламутра, спящего в глубинах океана, блеском, колеблющимся под темным небом на крыльях ночной бабочки.
Кобольд быстрой и легкой поступью бесшумно подходил к спящему и принимался, так сказать, порхать вокруг него, над ним, слегка раскачиваясь и касаясь и окутывая его своим темным витающим силуэтом, напоминающим кружение дурного сна, вышедшего из Черных врат и реющего над спящим. Джанни волновался, метался, ворочался под этим наваждением, а дух продолжал его мучить, касался дыханием его шеи, щекотал ему лицо траурным крепом крылышек, растущих у него на ногах и локтях, и, становясь на руки в самой причудливой позе, давил его легкой тяжестью своего тела: это было как бы вещественное воплощение Кошмара.
Джанни просыпался, обращал к кулисам ищущий взор, но кобольд уже успевал спрятаться за пнем, к которому прислонялась голова спящего.
Джанни засыпал снова, и тотчас же вновь показывался кривляющийся дух, одним прыжком взобравшийся на пень; он отвязывал смычок и скрипку, висевшие на его платье, и время от времени извлекал несколько нестройных звуков, свесившись над лицом спящего и наблюдая за его судорогами с несказанным удовольствием и злым потусторонним смешком. Потом внезапно это превращалось в кошачий концерт, в шабаш вроде тех, что устраивает зимой в морозную лунную ночь дюжина котов, мяукающих и дерущихся из-за самки по краям бочки с вышибленным дном.
Но вот Джанни уже пустился за скрипачом, и на арене развертывается чудесная погоня, во время которой увертливый и хитрый дух дразнит Джанни, рука которого готова его схватить; дух то прыгает назад через его голову, то скользит между его ногами, прибегает ко всем уловкам и хитростям бегства. Когда начинало казаться, что вот-вот Джанни его, наконец, поймает, – кобольд исчезал, катясь колесом, и видно было лишь мелькание его белых подметок. А когда Джанни и публика пытались отыскать его, – он оказывался уже под самым куполом, куда забрался, прошмыгнув с невероятной быстротой мимо зрителей, и где восседал в насмешливой неподвижности.
Джанни снова пускался вдогонку за духом. Тогда в воздухе возобновлялась погоня, только что происходившая на земле. Приводилась в движение целая система трапеций, идущая от края до края цирка и соединенная на поворотах слабо натянутыми висячими канатами. Кобольд, выпустив из рук первую трапецию, бросался в пустоту, медленно, лениво и блаженно раскидываясь в ней своим сумрачным телом. Ночной свет люстр, под которыми он пролетал, зажигал на мгновенье на его теле пурпурные и желтоватые оттенки, а он, закончив воздушные построения, достигал второй трапеции, вскинув оба руки изящным движением вверх. Джанни гнался за ним, а кобольд, не раз обежав вокруг всего цирка, останавливался на секунду, когда имел некоторый запас пространства, и, примостившись на одной из трапеций, извлекал из своей скрипки насмешливое поскрипывание. Наконец, Джанни его настигал, и оба они, выпустив трапецию, бросались, обнявшись, вниз, в глубинный прыжок – прыжок, на который до них еще никто не решался.
На песке арены между Джанни и кобольдом завязывалась рукопашная схватка, но показные усилия, прилагаемые ими, чтобы ускользнуть от взаимных обхватов и повалить друг друга, были в действительности лишь извивами изящно сплетенных тел; в этой борьбе кобольд с необыкновенной грацией выставлял напоказ волнообразную игру мышц, ту самую, что художники стараются передать в своих картинах, когда изображают физическую борьбу сверхъестественных существ с людьми.
Кобольд был окончательно повержен и лежал в недоумении, в том состоянии униженности, которое делает побежденного – рабом победителя. Тогда Джанни в свою очередь доставал скрипку и извлекал из нее чарующие, нежные и сладкие звуки, в которых струилась доброта, царящая в человеческой душе в часы милосердия и всепрощения. И по мере того, как он играл, кобольд постепенно приподнимался и тянулся к скрипке в восторге, явно разливавшемся по всему его существу.
Вдруг кобольд вставал на ноги, и тело его, словно под действием заклинания, с неистовой силой изгоняющего адского духа из одержимого, начинало извиваться, изгибаться, искажаться, но в то же время в этом не было ничего уродливого и отталкивающего. Оно вздувалось, оседало до страшных, недоступных человеческой анатомии пределов. На неподвижном теле проваливались ребра, странно выступали лопатки; спинной хребет, словно переместившийся со спины на грудь, выпячивался, как у цапли с неведомой планеты, и по всему телу кобольда пробегали как бы внезапные переливы мускульной игры, которыми полнится временами дряблая оболочка змей. Все видели лишь бескрылый полет, пресмыкание проклятых легендарных тварей; гад выходил вон и удалялся, изгнанный из нутра кобольда, изящное тело которого, освобожденное и вызволенное, показывало в стремительной смене пластических положений гармонию и торжество прекрасных движений и прекрасных человеческих жестов мира античных статуй.
И в то время как вновь вспыхнувший газ возвещал публике о том, что ночным видениям и мятежным снам настал конец и что вернулся день, – кобольд брал свою скрипку, с которой сошло злое наваждение, и начинал играть вместе с Джанни мелодию, казавшуюся шелестящей симфонией свежего летнего утра, походившую на тихую болтовню цветов среди певучих ключей, пробивающихся сквозь старые корневища деревьев, на болтовню цветов с солнечным лучом, пьющим росу с их влажных уст.
XXXIX
Сыновья Томазо Бескапе и Степаниды Рудак были французами, совсем французами. У них был французский темперамент, склад ума и даже патриотизм. От иностранного происхождения, от цыганских предков в них сохранилась только одна особенность, которую любопытно отметить. У цивилизованных народов поэтическое воображение – этот дар и способность к нежной мечтательности, эта основа, на которой зиждется литература, – существует лишь в верхах общества и, за редким исключением, является уделом и особой привилегией высших, образованных классов. Братья же, как ни были они необразованны, унаследовали нечто от мечтательной, созерцательной и, я сказал бы, литературной природы низших слоев народностей, пребывающих еще в диком и некультурном состоянии в той самой Европе, которая теперь так богата школьными учителями; и часто у этих двух простолюдинов вырывались те лирические душевные излияния, из которых самый жалкий и невежественный цыган умеет создавать вариации, которые его скрипка поет вершинам деревьев, звездам, серебряному утру, золотому полдню.
Оба одинаково чуткие к магическому языку природы, днем и ночью беззвучно беседующему с утонченными существами, с избранными умами, они, все же, были совершенно разные.
Старший брат был склонен к рефлексии и мечтательности, и напряженная деятельность его ума была всецело направлена – в соответствии с его профессией, заключавшейся в физической ловкости и силе, – на отвлеченные построения гимнастических фигур, почти всегда невыполнимые, на сочинительство клоунад-фантазий, не поддающихся воплощению на создание своего рода чудес, совершение которых возлагалось на мускулы и нервы. Даже в повседневную технику того, что он исполнял, Джанни привносил значительную долю рефлексии и мозговой работы; и его излюбленная аксиома гласила, что для шлифовки трюка требуется некоторое раздумье.
Младший, оставшийся счастливым невеждой, все первоначальное образование которого ограничилось болтливыми и беспорядочными беседами отца во время медленных подъемов на косогоры, – более ленивый умом, чем Джанни, и еще больше витавший мыслями в облаках, – словом, еще более цыган и, следовательно, еще более поэт, – жил в своего рода мечтательности – счастливой, улыбающейся, так сказать, чувственной, из которой внезапно взвивались насмешливые выдумки, взрывы нежной веселости, безрассудные выходки. И благодаря этим качествам Нелло становился устроителем, изобретателем изящных деталей, которыми он украшал, расцвечивал все выдумки брата, если только они вообще были выполнимы.
XL
Между двумя братьями и гимнастами, наездниками цирка быстро завязались дружеские, теплые, вполне товарищеские отношения. Смертельная опасность, сопряженная с этой профессией, заглушает зависть, обычную среди персонала других театров, особенно театров оперных; эта возникающая каждый вечер опасность разбиться насмерть объединяет всех подверженных ей артистов своего рода воинским братством, как солдат, идущих локоть к локтю в поход. Надо сказать также, что то, что могло остаться у некоторых из них от зависти и злобных инстинктов бродячей жизни, от прошлой нищеты, смягчилось среди довольства, уважения, маленькой славы их теперешнего существования.
К тому же братья имели все данные, чтобы нравиться персоналу цирка. У старшего были положительные качества чистосердечного и преданного товарища; к тому же серьезное и несколько грустное лицо его часто освещалось доброй и ласковой улыбкой. А младший – тот сразу покорил всех своей общительностью, задором, своей мальчишеской игривостью, даже долей задирчивости, которой он умел придать оттенок ласки, подвижностью, оживлением, шумом, которые он вносил в иные скучные и томительные дни, неуловимым очарованием красивого, забавного и резвого существа, живущего среди озабоченных людей, и той заставляющей улыбаться прелестью, которою от него веяло с самого детства.
XLI
Братья так страстно любили свое ремесло, что с удовольствием проводили вечера в цирке, особенно в Летнем. Обоим им хорошо было в обширной конюшне с дубовой обшивкой, с ажурными железными деталями, со стойлами, украшенными большими медными еловыми шишками; им нравилось легкое металлическое строение конюшни, залитое газовым светом золоченых люстр, отражавшееся в двух высоких стенных зеркалах и словно-уходившее в бесконечность; им хорошо было в конюшне, полной позвякиваний уздечек шестидесяти лошадей, которые, стоя под клетчатыми, коричневыми и желтыми попонами, нервно перебирали ногами и метали глазами надменные молнии. Само нагромождение по углам привычных и милых предметов: больших, выкрашенных в белое лестниц, снарядов в виде буквы X для хождения по канату, знамен, вымпелов, украшенных плоеной бумагой, обручей, красной тележки, служащей четвероногим для прогулки на двух ногах, саней в виде кузнечика, всех бесконечных, разнообразных аксессуаров, виднеющихся за полупритворенными дверьми кладовых и то скрытых во мраке, то блистающих, как в калейдоскопе, – все забавляло их взоры; им приятно было каждый вечер снова видеть эти вещи, а также и большую каменную колоду, куда мерно стекала по каплям вода, и подвешенные над дверьми часы, в деревянном футляре которых мирно дремали стрелки.
К тому же здесь, среди конского топота и ржания, братья находили воодушевление, жизнь, развлечения театральных кулис. Здесь, возле черной рамочки без стекла, содержащей листок почтовой бумаги с программой представления, gentleman rider[36], со стеком за спиной, облокотясь на перила конюшни и свесившись, разговаривал по-английски с группой женщин, кутающих плечи и шеи в голубые шелковые шали. Там играли две резвые девочки с распущенными волосами, перехваченными на макушке вишневыми ленточками; надетые на них пальто фасона еврейских платьев, распахиваясь, обнаруживали кусочки трико. Рядом мужчина в красном жилете подмалевывал копыта лошади. В глубине четыре-пять собравшихся в круг клоунов, важных, как покойники, забавлялись тем, что, раскланиваясь, перебрасывали сухим и четким движением шеи друг дружке на голову черную шляпу, которая, таким образом, побывав на каждой голове по секунде, обходила весь круг травяных париков. Поодаль старушка, современница Франкони-отца, [37] нанося свой ежедневный визит лошадям, разговаривала с ними и гладила их пергаментной рукой, в то время как рядом с нею крошечный пятилетний гимнаст ел брошенный ему кем-то апельсин. В нише внутреннего коридора наездница, только что кончившая работу, куталась в шотландское манто и всовывала свои белые атласные башмачки в турецкие туфли, а в другой нише наездник-комик в рыжем парике, с раскрашенным носом, стоял среди молодых жокеев в отложных воротничках с завитыми и расчесанными на пробор волосами, и болтал по-немецки с худощавыми конюхами, лица которых казались вырезанными из самшита, а глаза бесцветными, как вода. Наконец, около главного выхода, по сю сторону занавеса, сквозь который время от времени доносился шум аплодисментов, на оседланных собак усаживали обезьянок в привязанных к ушам жандармских треуголках.
И на этих быстро сменявшихся картинах, на этом беспрестанном движении залитых газом людей, в этом царстве пестрой и золотой мишуры и размалеванных лиц, развертывалась очаровательная и причудливая игра света. Вдруг на сборчатой куртке эквилибриста заструится поток блесток и превратит ее в волшебную ткань. То чья-то нога, обтянутая шелковым трико, предстанет пред вами со своими впадинами и выступами в странных белых и лиловато-розовых переливах, играющих на розе, пронизанной солнцем. Залитое светом лицо клоуна благодаря муке приобретает четкость, правильность и чеканность каменного изваяния.
И поминутно, – разбивая группы, прерывая диалоги, подготовку к трюкам, разговор о любви или лошадях, – стремительно выходят или возвращаются лошади с развевающимися гривами. И безостановочно, беспрерывно, по коридору, где толпится персонал цирка, по этому жерлу, выбрасывающему и разливающему по арене все содержимое кладовых и складов клоунского и конного цирка, проносятся взад и вперед аксессуары и огромные свертки, изображающие скованную льдом поверхность озера, обстановка для пантомим, телеги, коляски, клетки с хищными зверями, бегут клоуны, скачут под гром рукоплесканий наездницы, проходят, раскачиваясь, неуклюжие медведи, пробегают испуганные олени, страшные ослы, семейство виляющих хвостами пуделей, парочки молодых игривых слонят, подпрыгивающие кенгуру, ватаги четвероруких кривляк, – все звериное царство, привлеченное к участию в игре человеческой ловкости.
XLII
Здесь, в конюшне цирка, за кулисами, Нелло испытывал странное ощущение.
Когда он, бывало, набелит себе лицо мукою и превратит его в лицо статуи, на котором живыми остались лишь глаза, окруженные словно морозом подрумяненными веками; когда наденет на голову конусообразный парик, а на плечи – им самим придуманный костюм, на мягкий шелк которого по его указанию нашиты мрачные силуэты огромного паука, золотоглазой совы, целой стаи лысых ночных мышей и прочих зверей из царства мрака и снов, приобретающих на шелку обманчивую рельефность; когда большое зеркало конюшни покажет юноше его вечернего двойника, – тогда новая жизнь, жизнь, отличная от дневной, жизнь причудливая начинала течь в его жилах. О, не то, чтоб клоун ощущал некую метаморфозу, некое перевоплощение в человека-статую подлунного царства, в одежды которого он облекся, – нет! – но все же в душе Нелло происходили не совсем обычные явления. Так, обсыпанный мукою и одетый видениями, клоун тотчас же становился серьезным, и серьезность эта даже в его комические выходки привносила оттенок мечтательности, словно веселость его была внезапно прервана, приостановлена чем-то неведомым. Голос его становился несколько иным, чем в обыденной жизни: он чуточку окрашивался тем суровым оттенком, что звучит в голосе взволнованного и медленно говорящего человека. Наконец, жесты Нелло, помимо его воли, приобретали нечто странное, и даже когда он находился не на арене, а делал что-нибудь самое обыкновенное, он чувствовал, что тело его изгибается в эксцентрические арабески. Больше того: когда он оставался наедине с самим собою, его тянуло на жесты лунатика или галлюцината, на жесты, которые физиологи называют символическими движениями и в которых он не был вполне волен. Он ловил себя на том, что подолгу забавлялся пляской крючковатых китайских теней, отбрасываемых его согнутыми пальцами на стену пустынного коридора, освещенного одиноким газовым рожком. И все это им делалось без определенной цели, ради собственного удовольствия и так, будто тело его повинуется странным магнетическим токам и причудливым силам природы.
Понемногу его охватывало смутное восторженное состояние, реальность окружающего слегка стиралась, засыпали дневные думы, голова делалась пустой, словно из нее вычерпали ковшом одну за другой все мысли, и клоун превращался в одно лишь белое отражение в зеркалах; глаза его смотрели на чудовищ, облепивших его костюм, а в ушах еще звучал шелест лукавой скрипки.
И в этом необъяснимом состоянии, полном мимолетных и разнородных ощущений, Нелло находил много прелести; рядом с братом, по обыкновению опустившим голову и беспрестанно ковыряющим землю концом палки, он, Нелло, стоял неподвижно, скрестив руки и прислонив голову к стене; его черты расплывались в экстазе, бледная улыбка Пьерро застывала на белом лице, и он словно просил не нарушать сладостный, веселый и странный обман его циркового бытия.
XLIII
– Нет, так не годится… погоди… вот… когда ты станешь здесь, я тебя подброшу пинком в зад… представляешь себе, какой получится эффект? Выйдет чудесно!
Так клоун глубокомысленно искал оригинальную развязку нового номера, который он собирался разыграть со своим партнером.
Сказав это, клоун впал в глубокое молчание. И сам он, и его товарищ сидели молча, захваченные, погруженные в свои мысли, которые они поочередно стряхивали неистовым почесыванием головы, склоненной над опорожненной кружкой пива.
Они сидели в маленьком кафе, где собирались артисты по выходе из цирка: в кафе без определенного лица, с белыми стенами, со скудной позолотой, с узкими зеркалами, типичными для кафе бульвара Тампль. В оконной нише красовались горчичницы, банки с сардинами, горшочек с мясным паштетом, сливочный сыр, сыр грюйер, сыр рокфор, а над всем этим, на полочке, вазы для пунша и груда лимонов. А в глубине расхаживал взад и вперед маленький юный метр-д'отель в гранатовой бархатной куртке, в большом синем фартуке, с салфеткой, засунутой за фартук и спадающей на спину белой пеленой.
Вскоре, распахнув двери, стали один за другим входить клоуны в штатских платьях; они шли медленным скользящим шагом, выбрасывая вперед вместе с ногой половину туловища и размахивая растопыренными руками. Нелло замыкал шествие; он поднимал ноги до уровня глаз, а затем прихлопывал их вниз повелительным движением вытянутой руки и был легок, воздушен, весел.
Два английских клоуна поднялись по лесенке в биллиардную; двое других, к которым подсели Нелло и Джанни, потребовали себе домино.
Старый клоун без определенной национальности, высокий, сухой, костлявый, собрал со столов все газеты и уселся в глубине, вдали от остальных.
Англичане начали партию в домино, во время которой раздавалось лишь назойливое постукивание костяшек о мрамор, но не слышалось ни единого слова, ни единой шутки, ни единого смешка, ничего, что внесло бы в игру оживление игры: казалось, что партию разыгрывают бесстрастные мимисты.
Джанни следил за кольцами дыма, которые, ширясь, поднимались от его трубки к потолку, а Нелло стал, потешаясь, давать своему соседу советы с целью подвести его под проигрыш, но был отстранен от игры дружескими тумаками и принялся курить, просматривая Иллюстрацию.
Между соседними столиками, где сидел все знакомый между собою люд, – клоуны, наездники, воздушные и партерные акробаты – не завязывалось разговоров, даже по углам не видно было разговаривающих с глазу на глаз.
Все эти люди, гимнасты и в особенности клоуны, потешающие публику забавными выходками, склонны к грусти, свойственной комическим актерам. И французы ли они, англичане ли, – они даже молчаливее актеров. Усталость ли от упражнений, повседневная ли смертельная опасность, под угрозой которой они живут, делает их такими педальными и молчаливыми? Нет, тут причина иная. Когда они выходят из лихорадочного состояния, свойственного их работе, когда они отдыхают, когда думают, – им поминутно приходит мысль, возникает опасение, что сила и ловкость, которыми они живут, могут оказаться внезапно подорванными болезнью, каким-нибудь ревматизмом, каким-нибудь пустяшным изъяном в механизме тела. Кроме того, они часто думают, – это их idee fixe[38], – что молодости их мускулов и связок настанет конец и что еще задолго до смерти состарившееся тело откажется работать в этой профессии. Наконец, в их среде имеется немало надломленных, – совершивших за время своей деятельности два-три падения, а иное из этих падений, быть может, приковало их к постели на целый год; эти, несмотря на внешнее полное выздоровление, остаются, по их же собственному выражению, надломленными, и теперь для выполнения трюков им приходится делать усилия, которые губят их и делают их такими грустными.
В это время в кафе вошел клоун, приглашенный в один из бульварных театров на роль обезьяны в феерической пьесе; он стал вынимать из карманов розовые фунтики и раздавать их товарищам, объявив при этом со счастливым и немного гордым видом, что утром присутствовал на крестинах в качестве крестного отца. Потом он подсел к Джанни и спросил:
– Ну, как успехи?
– Как успехи? Да все так же, – отвечал Джанни, – горизонтальное подвешивание грудью вперед все в том же положении. Делать это упражнение в обратном направлении – сущий пустяк? для поддержки рук в этом положении образуется валик из этих вот двух мускулов, в то время как, если проделать это лицом вперед, нет ничего, дорогой мой, решительно ничего, кроме пустоты, что могло бы поддержать руку. Вот уже несколько месяцев, как я бьюсь над этим… и пугаюсь того количества времени, которое еще потребуется для достижения успеха… Сколько в нашем ремесле таких вещей, от которых в известный момент приходится отказаться, когда видишь, сколько времени они еще потребуют и как мал будет их эффект для публики. Ах, придется приняться за что-нибудь другое!
И Джанни умолк среди всеобщего молчания.
Партия домино близилась к концу, а высокий костлявый клоун, читатель всех газет, склонил на расстеленные страницы голову в одной из тех мечтательных и сосредоточенных поз, за которые товарищи прозвали его Мыслителем.
Вдруг, приподнявшись немного, как бы под наплывом внезапного вдохновения, к которому остальные клоуны не давали ни малейшего повода, Мыслитель медленно проговорил:
– О, жалки, очень жалки, невыразимо жалки, господа, наши европейские цирки! Поговорим о цирках Америки… о Пловучем цирке, учрежденном на реке, Миссисипи, с амфитеатром, вмещающим десять тысяч зрителей, с конюшней на 100 лошадей, с дортуарами для артистов, для прислуги, для экипажа; впереди него всегда несется Райская птица – маленький пароходик, везущий передового, то есть агента, которому поручается закупить фураж для лошадей, подготовить пристани, эстакады, триумфальные арки, расклеить афиши за две недели вперед… А что скажете вы о Странствующем цирке большой странствующей ярмарки – об этом цирке с двенадцатью золочеными колесницами, с храмами, посвященными музам, Юноне, Геркулесу, с тремя оркестрами с паровым органом… да, господа, с паровым органом! и, наконец, с парадом, растягивающимся в городах на целых три километра, в то время как механические и живые гимнасты исполняют на колесницах труднейшие номера?… О, жалки, очень жалки, невыразимо жалки наши европейские цирки! – восклицал Мыслитель, открывая дверь и кончая свою тираду уже на улице.
XLIV
Трюк, который Джанни искал с самой ранней юности и который должен был занести имена двух братьев в новейшую летопись олимпийских цирков наряду с именами Леотара,[39]короля трапеции, и Леруа, человека с шаром, – трюк этот пока что не давался ему, и Джанни искал его с тем умственным напряжением, с каким математик ищет решение задачи, химик – формулу красящего вещества, музыкант – мелодию, механик – железную, деревянную или каменную конструкцию. Как и эти одержимые одною идеей люди, – он был рассеян, задумчив, жил вне реальности, а во время прогулок по улицам у него вырывались бессознательные рассуждения вслух, заставлявшие прохожих оборачиваться и глядеть вслед удаляющемуся человеку, сгорбившемуся, заложившему руки за спину и низко опустившему голову.
Из его всецело умственной жизни исчезло понятие о времени, исчезли ощущения холода, жары, все мелкие и поверхностные впечатления, вызываемые в бодрствующем теле внешними предметами и окружающей средой. Животная жизнь с ее функциями, проявлениями протекала у него как бы под действием заведенного на определенное время механизма и помимо какого-либо участия его личности. Слова, с которыми к нему обращались, доходили до него медленно, точно их произносили шепотом и издалека, или, вернее, словно он покидал свое тело и, прежде чем ответить, должен был вернуться в него. И он проводил целые дни среди окружающих, даже среди товарищей, рассеянный, поглощенный, окутанный туманом, с полузакрытыми мигающими глазами, а в ушах его иногда стоял тот едва уловимый гул моря, что вечно таится в глубине разложенных где-нибудь на комоде больших океанских раковин.
Мозг Джанни, непрерывно работавший, искал среди явлений, признанных невозможными, какую-нибудь маленькую штучку, которую он сделал бы выполнимой, маленькое нарушение законов природы, которого он, скромный клоун, добился бы первым, вызвав всеобщее недоверие и изумление. И он требовал от невозможного, на которое честолюбиво собирался посягнуть, чтобы оно было грандиозным, почти сверхчеловеческим, и презирал невыполнимое обычное, заурядное, низменное, пренебрегал такими упражнениями, в которых предел ловкости и равновесия казался ему, первоклассному эквилибристу и гимнасту, уже заранее завоеванным; и, предаваясь своим фантазиям, он с надменной резкостью отворачивался от стульев, шаров, трапеций.
Не раз честолюбивому изобретателю казалось, что близка цель, не раз ему мерещилось воплощение внезапно зародившейся мысли, не раз его охватывала краткая радость открытия и сопутствующее ей счастливое возбуждение, но как только он вскакивал с постели, как только делал первую попытку осуществить задуманное, – приходилось отступать перед каким-нибудь непредвиденным препятствием, перед какой-нибудь трудностью, ускользнувшей в минуту пылкого, поспешного, обманчивого зарождения идеи, перед трудностью, которая сразу отбрасывала эту идею в область нереального, в братскую могилу стольких прекрасных замыслов, – едва успевших родиться и тотчас же умерших.
А еще чаше, быть может, случалось, что после тайных опытов, после ряда переделок, посла нескольких усовершенствований, которые подводили замысел вплотную к удачному разрешению, и в то время как Джанни, до того хранивший из особого кокетства свою мысль втайне, уже предвкушал радостную минуту, когда сможет, наконец, рассказать о своем изобретении, развить свою мысль перед Нелло, в то время как, работая над последними деталями, – как автор, заканчивающий пьесу, уже видит публику премьеры, – Джанни уже представлял себе переполненный цирк, аплодирующий грандиозности его трюка… какая-нибудь мелочь, какой-нибудь ничтожный пустяк, неведомая песчинка, препятствующая пуску в ход только что оборудованного завода, – заставляла его отказаться от осуществления мечты, которую он лелеял в течение нескольких недель и которая вновь превращалась в обман и сновидение, навеянные лживой ночью.
Тогда Джанни впадал на несколько дней в глубокую, смертельную грусть, как изобретатель, только что схоронивший идею, над созданием которой он провел года, – и не требовалось никаких разъяснений Джанни, чтобы Нелло понял причину этой грусти.
XLV
Братья поселились на улице Акаций, в Тернах – этой бедной парижской окраине, сливающейся с пригородными полями и теряющейся в них. Они сняли в аренду домик у одного столяра, бывшего на пороге разорения. Столяр занимал маленькое строение, в нижнем этаже которого помещалась кухня и кладовая, а наверху – три комнатки; в его же пользовании находился дощатый сарай, служивший столяру мастерской, и преображенный клоунами в гимнастический зал. Двор, отделенный от улицы высоким решетчатым забором, соединял оба строения и был общим у братьев и трельяжиста, работавшего большею частью на дворе, в то время как его койка и склад изделий помещались на чердаке сарая. Этот старичок с печальными зеленоватыми глазами меланхолической жабы, состоявший, так сказать, из одного туловища без ног, был в своей области художником, отыскивавшим и воспроизводившим воздушные постройки восемнадцатого века. Посреди двора этот старый кривой ремесленник выставил на показ прохожим в виде образчика прелестный зеленый храмик с ажурными карнизами, пилястрами, капителями, – чудо резьбы; на фронтоне которого была надпись:
ЛАМУР, ТРЕЛЬЯЖИСТ В СТАРИННОМ ВКУСЕ
Музыкальный павильон, исполненный по знаменитейшим образцам, а именно по образцу «Зала прохлады» Малого Трианона.[40]Превосходная работа, могущая украсить любой современный парк, уступается по своей цене!
По уголкам неровного, изрытого двора ютились диковинные домишки; а в самой глубине, за изгородью, почти совсем ощипанной стаями гусей, виднелся скотный двор, где над коровником, на окне с белыми занавесками была приклеена записка:
СДАЕТСЯ КОМНАТА ДЛЯ БОЛЬНОГО
Трельяжист, довольный тем, что новые жильцы не возбуждают спора из-за павильона, занимающего почти весь общий дворик, жил в добрых отношениях с клоунами, а когда настало лето, позволил им устроить в павильоне своего рода лиственный занавес, чтобы играть там на скрипке, укрывшись от взоров прохожих. Он сам сходил к соседнему садоводу и набрал среди отбросов прелестную коллекцию многолетних растений с веселыми крупными цветами, бедных шток-роз, пренебрегаемых в наши дни, но часто встречающихся на гуашах минувшего века, где они обвивают садовые трельяжи.
Здесь-то летом, осенью, в ясные голубые дни, в павильоне, сквозь крышу и стены которого вместе с солнечными лучами врывались порхающие воробьи, за колоннадой, увитой лиловыми, желтыми, розовыми цветами, играли братья на скрипке. Но, право, они скорее беседовали, чем играли; между ними словно происходил разговор, в котором изливались друг другу две души. Все мимолетные, многообразные и сложные впечатления текущего дня и часа, отражающиеся в глубинах человеческого существа чередованием света и теней, – вроде того, что образуется в волнах от игры блистающих солнечных лучей и бегущих по небу облаков, – все эти впечатления братья передавали друг другу в звуках. В этой непоследовательной беседе, среди которой замолкала то та, то другая скрипка, в мягко замиравших ритмах звучала задумчивость старшего, а ирония младшего – в ритмах насмешливых и игривых. И чередовались вырывавшиеся то у одного, то у другого смутная горечь, выражавшаяся игрой жалобных замедлений, смех, звеневший во взрывах пронзительных нот, нетерпение, прорывавшееся сердитым треском, нежность, подобная журчанию воды во мхах, и болтовня, выделывающая бесконечные фиоритуры. После такого музыкального диалога сыновья Степаниды, внезапно охваченные цыганской виртуозностью, принимались играть оба зараз с таким воодушевлением, с таким задором, с таким brio[41], что весь двор наполнялся звучной и нервной музыкой, под звуки которой смолкал молоток трельяжиста, и из окна над коровником выглядывало осунувшееся лицо чахоточной со слезами радости на глазах.
XLVI
Джанни, любивший копаться в ларьках букинистов на набережной и часто приходивший в цирк, к удивлению товарищей, с книгой под мышкой, – приносил иногда в музыкальный павильон старинный том, толстый in quarto[42], переплетенный в пергамент, с загнутыми уголками, со стертым во время революции гербом, со страницами, на которых ребенок нашего времени карандашом подрисовал трубки ко ртам персонажей шестнадцатого века. Из этой книги, носившей на корешке заглавие: Три диалога об искусстве прыгать и вольтижировать, сочинение Арканджело Туккаро, [43] 1590 года, и повествующей о том, как король Карл IX пристрастился ко всякого рода прыжкам и сколь ловким и храбрым он в оных себя выказал, – Джанни читал брату несколько испещренных старинными литерами страниц: страницы о прыгунах-петавристах, получивших свое греческое прозвище от полупрыжка-полувзлета, совершаемого курами вечером при посадке на насест, о прыгунье Эмпузе, [44] которая благодаря своему волшебному проворству способна принимать всевозможные виды и облики, о молодецкой отваге, которой требует прыгательное искусство от своих приверженцев, а также страницы о прыжках эферистических, оркестических, кубистических, из которых последние долгое время считались следствием сделки с дьяволом.
Затем оба принимались изучать геометрические фигуры и линии летящих в воздухе тел, и Джанни заставлял брата выделывать в строжайшем соответствии с указаниями и концентрическими кругами книги скольжение вполоборота, скольжение лежа и бездну других архаических трюков: братьям нравилось углубляться в прошлое их ремесла, поработать часок так, как работали более двухсот лет тому назад их предшественники.
XLVII
Братья не только любили друг друга, – они были связаны таинственными узами, физической привязанностью, цепкими атомами близнецов, – несмотря на то, что сильно разнились годами и что характеры их были диаметрально, противоположны. Их непосредственные, инстинктивные движения были совершенно одинаковы. Они одновременно чувствовали внезапную симпатию или антипатию, а когда бывали где-нибудь, то выносили о людях, которых им довелось видеть, совершенно тождественное впечатление. Не только люди, но и вещи, неизвестно почему пленяющие или возмущающие нас, действовали на обоих одинаково. Наконец, даже идеи, эти создания мозга, рождающиеся столь своевольно и часто удивляющие нас непонятностью своего происхождения, идеи, обычно так редко совпадающие по времени и содержанию даже при сердечном союзе мужчины с женщиной, рождались у двух братьев одинаковыми, и часто, помолчав, братья обращались друг к другу, чтобы сказать одно и то же, и не находили никакого объяснения странной случайности, приведшей им на язык две фразы, составляющие в сущности одну. Братья, связанные этими духовными узами, чувствовали потребность быть вместе и днем, и ночью; им трудно бывало расстаться, и когда один из них отсутствовал, другой испытывал странное чувство, – как бы это сказать? – чувство некоей разрозненности, словно внезапно переходил в какую-то неполную жизнь. Когда один уходил ненадолго, казалось, что ушедший унес с собою все способности оставшегося дома, который уже до самого возвращения брата не мог заняться ничем, кроме курения. Если же ушедший не возвращался к назначенному часу, мозг ожидавшего начинали осаждать мысли о происшествиях, катастрофах, о несчастных случаях с извозчиками, о раздавленных пешеходах – нелепо мрачная тревога, заставлявшая его беспрерывно ходить взад и вперед от комнаты до крыльца. Поэтому расставались они только в силу необходимости, и ни один из них никогда не позволял себе удовольствия, которое не разделил бы другой; и за всю свою совместную жизнь они не могли насчитать хотя бы одни сутки, проведенные врозь.
Но, надо сказать, кроме братских отношений, их связывало еще и нечто более могущественное. Их робота так полно и совершенно сливалась, их упражнения были так переплетены, и исполняемое ими так мало принадлежало каждому из них в отдельности, что аплодисменты всегда относились к ним, как к нераздельной паре, и что при похвале или осуждении никогда не отделяли их друг от друга. Так эти два человека дошли до того, что – это, пожалуй, единственный случай в истории людской дружбы – у них образовалось одно единое самолюбие, одно единое тщеславие, единая гордость, которым можно было польстить и которые можно было уязвить лишь у обоих вараз.
Обитатели улицы Акаций ежедневно с порогов своих домов видели уходящих или возвращающихся братьев, шагающих один возле другого, причем младший чуточку отставал по утрам, а к вечеру, в час обеда, чуточку забегал вперед.
XLVIII
Братья, одевавшиеся всегда одинаково, носили очень маленькие, тщательнейшим образом вычищенные шапочки, длинные галстуки, концы которых были схвачены золотыми булавками в виде подковы, короткие куртки фасона больших жилетов, какие носят конюхи, панталоны орехового цвета, в складках которых вырисовывались коленные чашечки, кожаные штиблеты на двойных подошвах. Их внешность напоминала внешность берейторов из шикарных конюшен какого-нибудь Ротшильда с печатью корректности, энглизированности, серьезности, невозмутимой важности в манерах и чего-то особенного, что присуще клоунам, одетым в штатское платье.
XLIX
Однако бывали дни, когда мальчишеская природа прорывалась сквозь деланную серьезность Нелло, и корректный джентльмен выкидывал какую-нибудь шалость, которую, впрочем, совершал со всей серьезностью английского мистификатора. Так, однажды братьям случайно довелось возвращаться из цирка домой на омнибусе. Вам известен этот одиннадцатичасовой омнибус, да еще идущий в пригород: славный и простодушный люд, уставший и дремлющий в сумерках, ежеминутно прорезаемых молниями огоньков, люди с оцепеневшей и притуплённой чувствительностью с тугим пищеварением, которых каждое сотрясение, производимое слезающим пассажиром, заставляет подскакивать в дремоте, так как они и не спят по-настоящему и не бодрствуют. Итак, эти честные люди в продолжение всего пути смутно сознавали, что возле них едут два хорошо одетых господина, которые держатся превосходно, которые уплатили положенные шесть су с величайшей изысканностью, как вдруг, на углу улицы Акаций, пассажиры, полупроснувшись от резкой остановки омнибуса, увидели… и при виде этого все двенадцать носов оставшихся путников, внезапно освещенные фантастическим светом двух фонарей, потянулись общим движением, как один, в сторону улицы Акаций, во тьму которой погружалась чья-то невозмутимая спина.
Нелло, став на подножку омнибуса, сделал сальто-мортале и, выйдя таким необычным образом, стал удаляться, как следует, на ногах и весьма чинно, предоставив своим спутникам удивленным и тревожным взглядом вопрошать друг друга, – не сделались ли они все двенадцать жертвою галлюцинации?
L
– Послушай-ка, старшой, подбодрись немножко! – говорил однажды брату с ласковой иронией Нелло. – Да, да, знаю: вот еще одно твое детище, над которым можно пропеть De profundis.[45]
– Так ты догадался, что у меня была новая идея?
– Еще бы! – ведь ты, дорогой мой, виден насквозь, как стакан воды! Ты, значит, и не подозреваешь, как это у тебя происходит? Так вот послушай… Сначала проходит два-три дня, иногда пять-шесть, когда ты отвечаешь мне да, в то время как следовало бы ответить нет, – и наоборот… Ладно, думаю, это у него опять приступ изобретательства! Наконец, в один прекрасный день, за утренним завтраком глаза твои становятся нежными и как бы благодарят еду за то, что она такая вкусная… и некоторое время ничто не кажется тебе слишком дорогим, ты находишь всех женщин красивыми, а погоду прекрасной, даже если идет дождь… а твои да и нет все еще не попадают в точку… Это состояние длится в общем от двух до трех недель… В конце концов, лицо у тебя вдруг принимает выражение вроде сегодняшнего… изображает солнечное затмение. И когда я вижу тебя таким, – я, не говоря тебе ни слова, думаю про себя: трюк братца приказал долго жить!
– Ах ты, скверный насмешник! Но почему бы и тебе не помочь мне малость в этом? Что, если бы и ты приложил свои усилия, а?
– Ну, насчет этого – нет! Все, что хочешь, я сделаю, – вплоть до риска свернуть себе шею… Но изобретать – это твое дело… я полагаюсь на тебя. Я вовсе не считаю, что рожден в свет, чтобы утруждать себя… если не считать те глупости, которыми я начиняю наши клоунады. Я всем вполне доволен и счастлив своей жизнью, какова она есть. И что касается меня, – я не жажду бессмертия!
– В сущности, ты прав. Я – эгоист. Но что ж поделаешь, человек не волен в себе! Есть во мне такой пунктик, болезнь такая – потребность изобрести что-нибудь, что бы сделало нас знаменитостями… людьми, о которых все говорят, понимаешь?
– Да будет так! Но признаюсь тебе, Джанни, что если бы я еще молился, то и утром, и вечером просил бы, чтобы это случилось как можно позже.
– Но ведь ты сам гордился бы этим не меньше моего!
– Да, конечно, я гордился бы… но возможно, что впоследствии все это показалось бы очень глупым… и приобретенным слишком дорогой ценой!
LI
Братья вели жизнь спокойную, степенную, однообразную, умеренную, почти целомудренную. У них не была любовниц, пили же они едва подкрашенную вином воду. Главное их "развлечение заключалось в ежедневной вечерней прогулке по бульвару, где они обходили все столбы с афишами, читая свои имена, – после чего ложились спать. Усталость от службы в цирке, от упражнений, которыми они ежедневно подолгу занимались у себя дома, чтобы беспрестанно поддерживать тело в бодром, напряженном состоянии и чтобы работа их не стала тугой, – а эта забота постоянно сопутствует ремеслу и карьере гимнастов, – вечное мозговое напряжение в погоне за каким-нибудь открытием – все это подавляло в юношах плотские вожделения и отгоняло искушения разгульной жизни, манящие к себе тех, кто ведет полупраздную жизнь, не занятую всецело телесной усталостью и умственным напряжением. Кроме того, в них поддерживалась чисто итальянская традиция, о которой лет двадцать тому назад говорили последние оставшиеся в живых римские атлеты, а именно, что мужчины в их положении должны принуждать себя к монашескому образу жизни и что силу можно сохранить во всем ее объеме и полноте лишь ценою полного отказа от возлияний Вакху и Венере; традиция эта восходит по прямой линии к борцам в атлетам античного мира.
И если теории и наставления оказывали лишь слабое влияние на юного Нелло, более пылкого и более склонного к удовольствиям, чем его старший брат, – то в уме младшего хранилось детское воспоминание, запечатлившееся глубоко, как все, что врезается в память в младенческие годы, – воспоминание о том, как страшного и непобедимого Рабастенса положил на обе лопатки бресский мельник; эта картина, возникавшая в памяти Нелло с поразительной четкостью, а также воспоминание о последовавшем за этим поражением физическом и нравственном разрушении злосчастного Алкида, – два-три раза спасли Нелло от увлечений в ту самую минуту, когда он уже готов был им поддаться.
LII
При всей своей миловидности Нелло все же находил в дружбе брата крепкую защиту от соблазнов, ожидающих в среде женщин полусвета всех мужчин, которым по профессии приходится выставлять напоказ красивое тело в одном трико. Женщины, каковы бы они ни были, недолюбливают, когда мужчины дружат между собою; в таких случаях они становятся недоверчивыми и опасаются, как бы дружба не урезала чувства привязанности, всей полноты которой они ожидают для себя; словом, их любовь – и не без основания – опасается крепкой мужской дружбы. Кроме того, Нелло, к счастью, обладал способностью смущать женщин, когда находился в их обществе, приводить их в замешательство веселой иронией, игравшей на его лице, улыбкой, которая помимо его воли, от природы была насмешлива, улыбкой, по. выражению одной женщины, издевавшейся над всем светом. Наконец, – это очень трудно выразить и покажется мало вероятным, – некоторые подруги его приятелей немного завидовали особенности его красоты, как бы заимствующей, крадущей нечто у красоты женской. Однажды вечером один наездник, вольтижировщик высшей школы, обладавший прекрасными ляжками, обтянутыми лосинами, и любимый в те дни одной знаменитой содержанкой, пригласил Нелло поужинать к своей любовнице. Когда Нелло ушел, наездник искренно привязанный к Нелло и заметивший во время ужина холодок хозяйки, принялся расхваливать своего друга, на что его возлюбленная отвечала молчанием, как женщина, не желающая высказаться, теребила попадающиеся под руку вещи и искала глазами несуществующие предметы. Он продолжал свое, хотя ему и не удавалось заставить ее заговорить.
– Не правда ли, он прямо-таки очарователен? – сказал он, подчеркивая вопрос. Женщина все молчала, а по лицу ее пробегали нелепые мысли, которые она не решалась высказать, глаза смотрели все так же растерянно, а ножка глупо раскачивалась из стороны в сторону.
– Чем же, наконец, он тебе не нравится? – сказал выведенный из терпения друг Нелло.
– У него женский рот, – проронила любовница наездника.
Между тем среди женщин цирка была наездница, которая, казалось, смотрела на Нелло влюбленными глазами.
Это была американка и первая женщина, решившаяся на сальто-мортале на спине лошади, – склонное к сенсациям создание, известность которого в Новом Свете привела ее к браку с gold digger[46], нашедшим исторический самородок, – слиток золота толщиною в древесный ствол. Она чувствовала себя несчастной в своем вынужденном досуге, среди почтенности, среди cant [47] богатой супружеской жизни, – а когда два года спустя муж ее умер, она принялась разъезжать по циркам Лондона, Парижа, Вены, Берлина, Санкт-Петербурга, которые покидала, как только они начинали ей надоедать, ничуть не заботясь о неустойках.
Эта странная и энергичная женщина, владетельница нескольких миллионов, была обуреваема фантазиями вроде той грешницы, которая возгорелась внезапным желанием покататься на санях летом и с этой целью приказала посыпать сахарным песком аллеи своего парка; в фантазиях этих, в их властном самодурстве, была доля безрассудства, безумия, бессмыслия, в них сказывалось притязанье совершить нечто невозможное, сверхчеловеческое, запрещенное и богом, и природой, – и все это выливалось в грубые проявления воли, свойственные американцам, добравшимся до денег. Так, когда она приехала в Европу, в купленный ею в Вене особняк, ей захотелось иметь у себя в спальне машину для устройства бури; механизм этой домашней бури состоял из колеса, которое зачерпывало лопастями воду и производило шум урагана и циклона, причем к механизму было присоединено электрическое освещение, и таким образом, все это вместе взятое, воспроизводило гул прибоя, раскаты грома, неистовство ветра, свист бушующего ливня, огненные зигзаги молний. И аппарат этот обошелся ей в триста тысяч франков!
Но Томпкинс скоро надоели заботы по содержанию дома на широкую ногу, надоело одиночество, окружавшее ее в огромных покоях, и теперь, приехав в Париж и сдав машину-бурю в склад на хранение, – она жила в одной комнате в Гранд-Отеле, но оплачивала комнаты под собой и над собою, чтобы иметь возможность прикрепить к потолку трапецию, на которой горничная часто заставала ее по утрам голой и раскачивающейся с папироской в зубах.
Если не считать разорительных фантазий, о которых никто не знал, жизнь Томпкинс казалась самой заурядной и простой. Она обедала за табль-д'отом гостиницы или в каком-нибудь второразрядном ресторане поблизости от цирка. Она носила всегда одну и ту же шляпу, шляпу а 1а Рубенс[48], одевалась обычно в шерстяные платья, скроенные в виде амазонок, не имела – в отличие от парижанок – ни малейшей склонности к нарядам, не носила ни сшитых известными портными платьев, ни кружев, ни драгоценностей. Однако у нее имелись бриллианты: единственная пара серег, но серег величиною с графинные пробки, а когда немногие, не считавшие эти камни фальшивыми, говорили ей, что за них, вероятно, заплачено страшно дорого, она отвечала небрежно:
– Oh, yes[49], – я ношу в свои уши сто одиннадцать франк ежедневный доход.
Она жила, ни с кем не видаясь, не посещала соотечественников, не разговаривала даже со своими сослуживцами, никогда не показывалась на актерских балах, не участвовала ни в одном ужине в Кафе-Англе; она была вечно одна, и рука мужчины никогда не поддерживала ее. Лишь по утрам, очень рано, когда она выезжала верхом в Булонский лес, ее сопровождал герцог Олаус. Этот высокий красивый мужчина, известный всему Парижу, отпрыск одного из знатнейших северных родов, насчитывавший в числе своих близких родственников одну царствующую королеву и одну императрицу, был чудаком, большим барином, влюбленным в лошадей; одно время он содержал цирк в собственном дворце и упорно заставлял заниматься вольтижировкой жену, дочерей и прислугу; в числе не особенно отдаленных предков герцога была наездница. Герцог питал к Томпкинс нежное и сложное чувство, в котором смешивались и взаимно разжигали друг друга и поклонение женщине, и страсть к лошадям. Но ему приходилось довольствоваться ролью кавалера и агента для случайных поручений, так как Томпкинс объявила ему, что терпит его только, пока он верхом на лошади, что иначе он кажется ей неменими что она любит быть всегда одна, «наедине со своими голубыми чертями».
Этой утренней прогулкой, действительно, и ограничивалась вся близость между герцогом и странной наездницей. И газетные биографы и репортеры, пытавшиеся покопаться в ее прошлом в Европе и Америке, не могли открыть ни единого следа скандала, связи, любви, даже флирта.
Про эту женщину можно было бы сказать, что она – олицетворение безудержной мускульной деятельности. По утрам, – а Томпкинс вставала очень рано, – она упражнялась на трапеции в ожидании часа, когда швейцар откроет двери гостиницы, потом час или два каталась верхом, оттуда ехала на репетицию, так как репетиции по вольтижировке происходили до полудня. Позавтракав и вернувшись в гостиницу, она курила папироски, то и дело цепляясь за поперечину трапеции, которой не давала ни минуты покоя. Затем она снова садилась на лошадь и рыскала по парижским окраинам, перепрыгивая через все попадавшиеся по пути препятствия. А по вечерам занятно было видеть это тело, столько поработавшее за весь день, все таким же полным силы, гибкости, возбуждения, пыла, охваченным своего рода глухим неистовством и неустрашимой горячностью, с какими эта неутомимая женщина бросалась навстречу опасности труднейших упражнений, во время которых она издавала короткие горловые звуки, хрипотой своей напоминавшие восклицания гуронов.
В ее контракте с цирком имелся особый пункт, согласно которому она должна была выступать лишь через день и непременно последним номером первого отделения, с тем расчетом, заявила она, чтобы в половине, одиннадцатого она уже могла быть в постели.
Когда у нее не бывало ангажемента, и в дни, свободные от выступлений, по окончании обеда ее ждала у Гранд-Отелянаемная карета.
Карета везла ее на одну из улиц Елисейских Полей, к большому зданию со стеклянной крышей, на фронтоне которого виднелась полусмытая дождями надпись: Манеж Ошкорн. Когда с перекрестка доносился звук подъезжающего экипажа, – в обветшавшем здании отворялась маленькая дверь, и человек впускал женщину, как только она выходила из экипажа. Томпкинс входила в темный, пустынный, безмолвный манеж, в котором виднелось только два-три человеческих силуэта с приглушенными фонарями в руках и склонившихся над большими вазами из красной глины. Посреди манежа был расстелен восточный ковер, кусок настоящего короткошерстного бархата, на котором виднелись, словно отблески инея, персидские письмена и цветы работы XVI века, вытканные в трех нежных и светлых тонах – серебром, зеленоватым золотом и лазурью. Рядом с ковром возвышалась стопка вышитых подушек. Американка ложилась на ковер, разрушала нагромождение подушек, подкладывала их под себя, укладывая поудобнее спину и руки, и медленно, почти сладострастно отыскивала наиболее приятное положение растянувшемуся телу; затем закуривала папироску.
Вместе с огоньком, зардевшимся во тьме у рта женщины, словно по сигналу, изо всех глиняных ваз вздымались бенгальские огни и освещали барьер, обтянутый великолепным индийским кашемиром; невидимые благоухающие фонтаны взметали в воздух водяную пыль, переливавшую светом голубых и красноватых огней, а два конюха выводили на арену – один черную лошадь, в сбруе, усеянной маленькими рубинами, другой – белую лошадь в сбруе, украшенной мелкими изумрудинами.
У черной лошади, называвшейся Эребом была черная и гладкая, как надгробный мрамор, шерсть и огнедышащие ноздри; белая, по имени Снежок, казалась развевающимся шелком, из которого выглядывали влажные глаза. Конюхи водили лошадей за узду, вновь и вновь проходя перед женщиной, которую лошади почти задевали копытами.
Неподвижно лежа и рассеянно вдыхая клубы табачного дыма, среди манежа, который считался общественным, а в действительности принадлежал ей одной, любуясь лошадьми, на которых она никогда не ездила при публике и которых выводили, когда весь Париж спал, – среди этого празднества, которое она устраивала для себя одной, – Томпкинс наслаждалась высшим эгоистическим удовольствием, одинаковой радостью тайного обладания прекрасными, единственными в своем роде и никому не ведомыми вещами.
Лошади переходили от шага к рыси, от рыси к галопу, конюхи заставляли их гарцевать, и блеск конских тел атласистость их крупов, рубины и изумруды сбруй играли среди арабесок кашемира, отблесков фейерверков и радужности неуловимого разноцветного дождя. Женщина время от времени подзывала к себе Эреба или Снежка и, не трогаясь с места, а лишь приподняв голову, протягивала лошади кусок сахара, который та брала у нее изо рта, – и затем целовала лошадь в ноздри. И, покуривая, она снова любовалась горячностью и пылом этих двух неукротимых животных, освещенных фантастическим светом.
Наконец, она вставала, бросая окурок последней папиросы.
Тотчас же бенгальские огни гасли, фонтаны замирали, индийские шали вновь погружались во тьму, и весь зал снова превращался в жалкий Манеж Ошкорн.
Через четверть часа женщина, носящая восьмисоттысячные серьги, владелица Эреба и Снежка, брала у швейцара гостиницы ключ от своей комнаты и ложилась спать, не прибегая к помощи горничной.
На следующий день Томпкинс снова вступала в скромную жизнь; лишь когда в газетах поднимался шум вокруг какой-нибудь невероятно дорогой картины или антикварной мебели, – будь она хороша или плоха, великолепна или посредственна, – Томпкинс.приезжала на извозчике, вынимала из бумажника требуемую сумму и увозила картину или мебель, не назвав своего имени. И в ее комнате, лишенной обстановки, – если не считать кровати, ночного столика и трапеции, – громоздились по стенам наглухо заколоченные и взваленные друг на дружку дощатые ящики, где лежали в упакованном виде все приобретения наездницы, на которые она так и не взглянула.
У Томпкинс был еще один своеобразный вид расходов. Если в каком-либо уголке Европы разражалось стихийное бедствие или назревала какая-нибудь человеческая трагедия, – она бросалась на железную дорогу и проезжала сотни километров, покидала Париж, чтобы взглянуть на извержение Этны, а живя в Петербурге, несколько раз пересекала Европу лишь для того, чтобы в течение часа или нескольких минут испытать жестокое впечатление от лондонского кулачного боя или посмотреть на смертную казнь на площади Рокет.[50]
Но если она не жалела никаких средств, – как бы велики они ни были, – на удовлетворение своей прихоти, она еще меньше считалась с ними, когда ей нужно было устранить какую-нибудь, хотя бы мельчайшую помеху, малейшую неприятность, какой-нибудь лепесток розы, легший наперекор ее желаниям, ее прихотям, ее вкусам. При первой же вспышке досады против человека или предмета, раздражавшего, мешавшего, не нравившегося или противоречившего ей, – и безразлично, человек ли то был или вещь, – у нее вырывалась надменная фраза, очень характерная для ее родины и обнажающая всю наглость денег: «Я его покуплю», – говорила она, как негр коверкая французский язык, так как изучением его она пренебрегала. В этого рода тратах, – в случаях, когда богатые люди обычно очень осмотрительны, – Томпкинс действительно проявляла невероятную эксцентричность; она выказывала щедрость и размах при покупках, которые вообще вряд ли понятны. Томпкинс, не будучи музыкантшей, очень дорого заплатила за рояль, объявление о котором ежедневно появлялось в Антракте[51]и действовало ей на нервы; она купила также по баснословной цене развалины беседки, производившие впечатление disgracious [52] в садике при банях, куда она имела обыкновение, ходить; она только что ценою тысячефранковой ассигнации добилась от хозяина ресторана, находившегося рядом с цирком, увольнения одного официанта, которого она упрекала – так и осталось неизвестным отчего и почему, – в том, что у него вид продавца барометров.
Но анекдотическая сцена, разыгравшаяся как-то между нею и директором цирка, дает еще лучшее понятие о громадных суммах, которые она готова была уплатить, лишь бы избавиться от малейшего стеснения своих привычек. Один из цирковых служащих, почувствовав в коридоре табачный дым, открыл дверь в уборную Томпкинс и, увидев, что наездница курит, растянувшись на полу, сказал ей довольно грубо, что курить запрещено и что ей надлежит немедленно потушить папиросу.
– А-о-о! – сделала Томпкинс и продолжала курить, не отвечая.
Сказали об этом случившемуся здесь директору-распорядителю; он поднялся в ее уборную и со всей вежливостью, какую заслуживала артистка great attraction[53], делавшая к тому же хорошие сборы, стал ласково объяснять ей, что в здании много деревянных частей, много легковоспламеняющихся материалов и что поэтому папироска может навлечь неисчислимые убытки.
– А сколько денег, когда все пропадет? – сказала, прерывая его, наездница.
– Да вот, сударыня, на случай пожара цирк застрахован в несколько тысяч франков.
– Very well, very well![54] – есть, не правда ли, в Париже банк… для хранение и…
– Вы хотите, сударыня, сказать: депозитная касса? – Oh yes, вот, вот… и деньги за весь убыток… завтра будет в касс… как вы говорили… Вы – спокойна… я – продолжай курить… До свиданья, мсьё.
У Томпкинс – великолепное тело! Высокий рост, изящные формы – удлиненные и полные, плотная и упругая кожа, очень высокая маленькая и крепкая, как у девочки, грудь, округлые руки, при движении которых у лопаток, на плечах образуются смеющиеся ямки, ноги и руки несколько крупные, но оканчивающиеся красивыми пальцами, как сучья Дафны,[55] превратившейся в лавр. В этом теле бурно играла кровь, клокотала горячая жизнь и как бы ликующее здоровье обновленного человечества – здоровье, распространявшее вокруг Томпкинс, когда она в поту спрыгивала с лошади, здоровый запах пшеницы и теплого хлеба.
Ее туловище венчалось головой, посаженной на гордой шее, головой с правильными чертами лица, с прямым и коротким носиком, с верхней губой, совсем подходящей к носу при улыбке; но ярко-золотистые волосы, серые глаза со стальными отблесками, прозрачность лица, по которому пробегали жестокие отблески, – огоньки, подобные тем, какие пробегают в глазах разъяренных львиц, – все это придавало ее голове нечто хищное, животное.
Во взглядах, которые Томпкинс бросала на клоуна, не было ни кокетства, ни нежности; они останавливались на нем почти сурово; они изучали его телосложение немного по-купечески, словно чернокожий евнух, покупающий на базаре рабов. Тем не менее, пока Нелло находился в цирке, взгляд Томпкинс был неизменно прикован к нему, а юноша, сам не зная почему, чувствовал инстинктивную неприязнь к американке, и, ходя на руках, уклонялся от ее взглядов и показывал ей болтающимися над головой ногами акробатический нос.
LIV
Однажды утром, окончив завтрак под трельяжем музыкального павильона, Джанни сказал Нелло, набивая с блаженной медлительностью трубку:
– Теперь, братишка, найдено… и на этот раз подцеплено не на шутку!
– Что это?
– Ну, – сам знаешь… наш трюк!
– А, черт возьми… вот будет невеселая история!… Тем более, что, судя по твоим замашкам, ты, вероятно, изобрел не очень-то удобную штучку? да?
– Брось, не корчи строптивого! Знаешь, в самом деле, я снимаю у трельяжиста чердак.
Трельяжист, только что получивший в наследство домик и клочок земли в провинции, уехал недели три-четыре тому назад, поручив Джанни продать павильон, если найдется покупатель.
– А к чему нам чердак?
– Сейчас скажу… Для моей затеи столярная мастерская слишком низка… мы велим разобрать потолок, и в нашем распоряжении будет все здание до самой крыши.
– Но… уж не пришло ли тебе в голову заставить меня прыгнуть с места на колокольню св. Якова?
– Нет, но прыгать придется… и приблизительно футов на четырнадцать.
– Бьюсь об заклад – в высоту и перпендикулярно? Но с тех пор, как свет стоит, на четырнадцать футов никто не прыгал!
– Возможно… но в этом-то все и дело… к тому же будет трамплин.
– Ну, вот ты какой! Не дашь нам хоть немного пожить спокойно!
– Послушай, Нелло… это дело не спешное, – не к завтрему. Стоит только захотеть… Помнишь, как отец говорил, что со временем ты будешь прыгать…
– Но после этого-то хоть будет ли конец? Угомонимся ли мы на этом всерьез? Перестанет ли твоя башка выдумывать каждый день новые мучения?
– Как ты думаешь, братишка, сейчас мы на сколько можем прыгнуть?
– Футов на девять-десять, – да и то вопрос.
– Да, придется еще четыре фута подбавить!
– Не скажешь ли хоть, – что именно собираешься ты выкинуть?
– Я тебе скажу… когда ты перейдешь за тринадцать футов, так как, если ты этого не достигнешь, то мой трюк будет невыполним, и тогда… К тому же, если я тебе сейчас все расскажу, – оно покажется тебе слишком трудным, – а я тебя знаю: ты станешь сомневаться в успехе.
– Благодарю покорно! Одного прыжка с тебя мало, к нему еще будет подливка, – бьюсь об заклад, – эквилибристика и какая-нибудь головокружительная игра на скрипке… и прочая чертовщина, – а может быть, и нечто головоломное!
Но внезапно, – заметив, что лицо Джанни от его слов омрачается, – Нелло оборвал свою тираду, сказав:
– Глупыш, – я сделаю все, что ты захочешь, тебе ведь это известно, не правда ли? Но дай мне, по крайней мере, немного похныкать… это меня подбадривает.
LV
Неделю спустя потолок сарая был разобран. Трамплин в два метра двадцать сантиметров был установлен. Против него, к нему почти вплотную, в утрамбованную землю было вбито два пятнадцатифутовых столба, а на столбах лежала подвижная доска, напоминающая садовые полки для цветов; благодаря зубцам доску можно было спускать и поднимать на любую высоту. А чтобы ослабить силу падения, под доскою было разложено несколько охапок сена в виде подстилки.
Рано утром Джанни будил Нелло, и они отправлялись вместе упражняться в прыжках на доску, которая первое время ежедневно поднималась на несколько дюймов выше.
По вечерам они чувствовали себя разбитыми от усталости, ощущали болезненные точки в животе, в желудке, в спине, и цирковой врач объяснил Нелло, что это вызвано переутомлением грудо-лобковых и спинно-акромиальных мускулов. А Нелло, весь день называвший Джанни невозможным братом и дразнивший его, полушутя, полужалобно, грудо-лобковыми спинно-акромиальным, – все же изо всех сил старался добиться прыжка, необходимого для исполнения трюка.
LVI
Прыжок, этот мгновенный взлет плотного мускулистого сугубо-материального тела не имеющего в себе ничего, что могло бы поддержать его в пустоте, – ни облегчающего его вес газа, ни летательного аппарата летающих существ, – прыжок, достигающий необыкновенной высоты, заключает в себе нечто чудесное. Ибо для того, чтобы человек мог так прыгнуть, нужно, упершись ногами в землю, согнуть их в наклонном положении в коленях и ляжках и пригнуть к ляжкам туловище. Затем это собранное тело с перенесенным вниз центром тяжести, это полукружие согнутых и сближенных ног, напоминающих оконечности лука с натянутой тетивой, – должно получить внезапный толчок растягивающих мышц, подобный разрядке стальной пружины; этот толчок должен разом преодолеть прикованность ног к земле, выпрямить и придать упругость ногам, бедрам, позвоночнику и подбросить вверх всю массу тела, в то время как руки со сжатыми кулаками, вытянутые и развернутые до предела, должны выполнять, по выражению доктора Бартеза,[56] роль крыльев.
Джанни всячески старался помочь Нелло в той страшной разрядке мышц, которая должна была подбросить стотридцатифунтовое тело на высоту почти пятнадцати футов, и притом в перпендикулярном направлении. Он подолгу заставлял Нелло отыскивать при пробеге по трамплину то положение ног, которое выжало бы из доски максимум ее упругости. Он понуждал брата изучать относительную силу каждой ноги с тем, чтобы при прыжке опереться на наиболее сильную. Он приучал его также прыгать, держа в руках маленькие гири, с целью вызвать еще большее напряжение тела.
LVII
В трюке, который собирались исполнить братья, Джанни следовало подняться на высоту всего лишь девяти футов. Он добился этого почти тотчас же и теперь уже упражнялся в прыжках не на доску, а на брус, стараясь сохранить на нем равновесие.
А Нелло, у которого от трехмесячной работы полопались все маленькие вены на ногах, стал достигать тринадцати футов, но недостающих фута и нескольких дюймов никак не мог преодолеть, – сколько воли, усилий, упорства ни прилагал, чтобы угодить Джанни.
Тогда, в припадке сердитого детского отчаянья, он заявил брату, что тот спятил, окончательно спятил и только забавляется, заставляя его добиваться заведомо невозможного.
Старший же, хорошо зная характер брата, его подвижную впечатлительную натуру, его способность легко падать духом и вновь ободряться, – не входил с ним в рассуждения, а делал вид, что соглашается, и давал ему возможность поверить на некоторое время, что окончательно отказался от своей затеи.
LVIII
Выражение гневной досады, появлявшееся на лице Томпкинс, когда Нелло акробатически показывал ей нос, забавляло юного клоуна; а так как в нем жила еще капля ребячливости и детской склонности подразнить, – то он стал каждый вечер, во время небольшой паузы, предоставляемой наезднице и лошади для передышки, с влюбленным видом любоваться американкой и делал из этого длинную и почти что жестокую интермедию. Его восхищение Томпкинс выражалось уморительными вывертами шеи, коленопреклоненными экстазами, полными гротескной придурковатости, влюбленным вожделеньем, проявлявшимся в невероятном дрожании ног и прижимании к сердцу рук, скрюченных самым диковинным образом, выражалось мольбой и обожанием, придававшим нечто нелепое всему его телу, из каждого мускула которого била ключом едкая пластическая буффонада. На задранной кверху ноге, словно на гитаре, он мимически разыгрывал, обращаясь к наезднице, очаровательнейший любовный романс. Он каждый день видоизменял программу, постепенно удлиняя ее, а иногда, чтобы побольше позлить американку, цеплялся за хвост лошади в тот момент, когда наездница начинала очередной номер, – и все это делал с ужимками, похожими на lazzi[57] и полными непередаваемой иронии. Это была словно пантомима, разыгрываемая каким-нибудь молодым, красивым, изысканным, фантастическим Дебюро, [58] пантомима, в которой не было ничего не только низменного, но даже сколько-нибудь грубоватого, где все было стремительно, тонко набросано и начерчено в воздухе насмешливым силуэтом тела; все это по достоинству оценивалось публикой первых рядов балкона, которая стала приходить в цирк с единственной целью посмотреть на этот гимнастический эскиз. Действительно, казалось, что видишь немую сцену из веселой комедии, в которой юный клоун игрой ног, рук, спины и, так сказать, самим остроумием физической ловкости, смеясь, противопоставляет любовному пламени женщины, – а некоторым завсегдатаям эта женщина была знакома, – насмешливое безразличие, издевающееся презрение, уморительное пренебрежение.
Нелло не ограничился этим. Несколько опьяненный успехом своей маленькой жестокости, несколько подзадоренный поддакиванием товарищей, которых оскорбляла надменность наездницы, – он стал задевать самые чувствительные струны женского самолюбия своей поклонницы, гордившейся привлекательностью своего тела. Тело Томпкинс, несмотря на податливость и эластичность, все же не обладало той мягкой гибкостью, какая присуща парижанке. У нее был английский, несколько скованный позвоночник, который, несмотря на то, что был развит и натаскан ежедневными упражнениями, все же не поддавался грациозным изгибам. Один скульптор, подолгу живший в Англии и Америке, говорил, что среди изящных и стройных женских торсов ему в этих странах никогда не встречалось модели, которая могла бы передать изгиб тела Гебы, подающей кубок Юпитеру, или изобразить Киприду, держащую в вытянутых руках вожжи от своей запряженной голубями колесницы. Нелло при всеобщем хохоте подражал этой несколько жесткой грации, изображал наездницу в шаржированном, карикатурном виде, преувеличивал чопорные и несколько деревянные поклоны и реверансы прекрасного и юного тела американки, выходящей раскланиваться на аплодисменты.
И чем больше сердилась наездница, – тем больше удовольствия доставляло клоуну-задире мучить ее. Теперь он уже не довольствовался одними представлениями, – он преследовал ее назойливым, упорным зубоскальством на репетициях и вообще всюду, не давал ей ни минуты покоя. Готовилась ли американка к своему конному номеру, прыгая и выделывая разные антраша у выхода в правом коридоре, – она тотчас же замечала у входа в левый коридор появившегося Нелло; взгромоздясь на одну из тех красных с белым табуреток, что служит для прыжков через обручи, он уморительно передразнивал ее, окруженный смеющимися капельдинершами.
Раза два-три, когда Нелло во время своих выходок близко подходил к наезднице, – он замечал, что ее рука, крепко сжимающая хлыст с набалдашником из горного хрусталя, готова ударить его, и ждал удара, как мальчишка, подзадоренный угрозой, но тотчас другая рука наездницы бралась за середину хлыста и, скользя, сгибала его над головой, как ветку; и произнеся маленькое «а-о!», женщина снова принимала невозмутимый вид, а взгляд ее снова становился неподвижным.
Ибо Томпкинс по-прежнему не сводила с Нелло глаз все время, пока они находились вместе на арене; но теперь во взгляде ее появилось нечто почти угрожающее.
– Да оставь ты ее в покое, – говорил как-то вечером клоун Тиффани Нелло. – Я, знаешь ли, на твоем месте испугался бы взгляда этой женщины.
LIX
При первых попытках исполнить свой новый трюк братья пользовались деревянным некрашеным трамплином, изготовленным где-то по соседству, – самым обыкновенным гимнастическим трамплином. Джанни, ничего не сказав Нелло, заказал мастеру-специалисту трамплин, в котором велел заманить ель тропическим ясенем – деревом, которое американцы метко называют lance wood, – и сам наблюдал за его изготовлением. Это был слегка видоизмененный трамплин, несколько похожий на английский батуд;[59] в длину он имел три метра, а высота его в том месте, откуда должен прыгать гимнаст, равнялась сорока сантиметрам. Чтобы придать ему большую эластичность, Джанни велел утончить конец доски до того предела, при котором она может гнуться, не ломаясь. Наконец, когда трамплин был уже совсем готов, он заменил в нем последний деревянный столбик стальным прутом, обернутым куском ковра; прут этот под давлением ног гимнаста должен был придать необыкновенную силу прыжку.
Когда новый трамплин был принесен к ним на дом, старший брат попросил младшего испробовать его. Нелло при первом же прыжке, еще не совсем уверенном, сразу прибавил полфута. После этого Нелло сделал еще пять-шесть прыжков подряд и, все еще не зная, что именно затеял брат, закричал ему в самый разгар прыжка, что теперь вполне уверен в себе и с помощью этого трамплина исполнит то, что от него потребуется. Несколько дней спустя Нелло достиг высоты в четырнадцать футов; оставалось преодолеть еще несколько дюймов. Трюк вошел в число вещей выполнимых – и выполнимых в самом недалеком будущем!
Тогда Джанни отправился к директору, объявил ему, что он на пороге удачного завершения совершенно необыкновенного и вполне нового трюка, и попросил у него разрешения на месячный отпуск для окончательного усовершенствования.
Джанни слыл изобретателем. Давно уже цирк с любопытством ожидал чего-то – и даже чего-то очень сильного – от постоянных изысканий клоуна, и сам директор разделял это доверие товарищей к Джанни. Поэтому он весьма любезно согласился на просьбу Джанни и сказал при этом, что охотно предоставит им столько времени, сколько понадобится.
LX
Полное и совершенное овладение трюком потребовало больше времени, чем первоначально предполагал Джанни. Полтора месяца занимались братья, запершись в своем маленьком манеже; падая от усталости, они ложились на разостланное на полу сено, чтобы поспать часок, и затем начинали сызнова.
Из первого успеха, явившегося счастливой случайностью, им надлежало сделать, путем усилий и ежедневных упражнений, ставших как бы привычкой, – успех верный, обеспеченный, постоянный, исключающий возможность провала; а эта неизменность, это постоянство удачи, совершенно необходимое для того, чтобы трюк удался на публике, зачастую губит его. Когда Нелло завоевал намеченную высоту, – он стал совершать прыжки не в свободном и открытом пространстве: Джанни заключил прыжок в узкий круг двух веревочных обручей, изображающих низ и верх бочонка; новая задача! Наконец Нелло стал прыгать на плечи брата, ноги которого стояли на тонком полукруглом железном пруте; итак, один из них должен был устоять при толчке от прыжка, другому же надлежало найти устойчивость, вскочив на мускулы, на подвижное тело брата, – и невероятная трудность удержаться в таком положении требовала от них обоих многих попыток, опытов и возобновлений всего сначала. А когда Нелло стал думать, что теперь уже все сделано, оказалось, что Джанни хочет еще увенчать трюк чудом эквилибристики: целой серией сальто-мортале, которые оба они должны выделывать одновременно, один под другим; для этого им надлежало, пользуясь немыслимыми точками опоры, соединить невероятную согласованность и соответствие движений с безошибочной ловкостью старика Ориоля,[60] которому удается, перекувырнувшись, снова попасть ногами в туфли.
Надо было еще сочинить сценическую арабеску, которою они по старой привычке хотели украсить трюк. И Нелло, обычный поэт их упражнений, придумал забавную фантазию, веселое сказочное обрамление и музыку, в которой слышались и эхо урагана, и вздохи природы. Но в последнюю минуту братья заметили, что смелость их трюка потускнеет от этих прикрас. И они порешили, что на этот раз будут гимнастами, исключительно гимнастами, а со временем всегда смогут обновить стареющий трюк, оживив его небольшой поэтической фабулой.
LXI
Однажды летним вечером братья выбежали из своего маленького манежа с несказанно радостными лицами и безумными жестами. Они внезапно остановились посреди двора и, став лицом друг к другу, одновременно воскликнули: «Есть!» Затем бросились к себе в комнаты и стали переодеваться, подталкиваемые необъяснимой, неотложной потребностью выйти на улицу, двигаться, ходить, вырывали при этом пуговицы у рубашек, обрывали шнурки башмаков с той неловкостью, какую сильные переживания придают рукам, пальцам, нетерпеливо совершающим туалет. И одеваясь, то один, то другой из них говорил брату, хлопая смеющимися глазами и слегка подпевая: «Есть!»
По пути им попался извозчик, и они бросились в пролетку; но он ехал недостаточно быстро, – и им не по себе было в экипаже, где приходилось сидеть неподвижно. Минут через десять они расплатились с извозчиком и опять пошли пешком.
Они шли большими шагами, посреди шоссе, чтобы иметь пред собою свободное пространство, и удивились, когда случайно заметили, что каждый из них несет свою шляпу в руке.
Они пообедали в первом попавшемся трактире, ели, не обращая внимания на то, что едят, и на вопросы официанта отвечали:
– Дайте мне того, что кушает сосед.
В этот вечер Нелло говорил не больше брата.
После обеда они зашли в несколько кафе, но им решительно не сиделось на месте.
Они стремились туда, где публика беспрестанно ходит взад и вперед, где тело все время находится в движении, где им удобно будет дать волю своему лихорадочному состоянию. Они заходили на балы, в шантаны, где под ослепительным светом, среди толпы, подхваченные движением других, они без устали кружились в механической и вечно возобновлявшейся прогулке вокруг оглушительного оркестра, – ничего не видя, ничего не слыша, с потухшими сигарами в зубах, далекие от этого места, от мира, от всех вещей, среди которых проводили вечер, – и только изредка оборачивались друг к другу, говоря без слов, – одним лишь радостным выражением лиц: – Есть!
LXII
На другой день братья возобновили работу в цирке; внутреннее удовлетворение делало Нелло, как никогда более, задорным и злым по отношению к Томпкинс; а Джанни отвел директора в сторону и пригласил его придти посмотреть изобретенный ими новый трюк. Директор, ожидавший с некоторым нетерпением вести об их успехе, ответил Джанни, что завтра в десять часов утра приедет к ним в Терны.
На другой день, в назначенное время, директор стоял, засунув руки в карманы брюк, перед трамплином в маленьком манеже. И черты лица его, по мере того как развертывалась работа братьев, постепенно заволакивались, стараясь скрыть восхищение, – как это бывает с притворно бесстрастными лицами любителей, когда они разглядывают редкую и интересную безделушку и боятся, что за нее запросят очень дорого.
Братья закончили упражнение, и Джанни, несколько сбитый с толку молчанием зрителя, спросил его:
– Так как же?
– Здорово… действительно здорово. Я предпочел бы для этого зимний сезон… но мы еще успеем до каникул, до начала охоты… Да, я думаю, это будет иметь успех… но нужно это немного подогреть; необычность вашего трюка недостаточно наглядна для толпы, – он производит меньше впечатления, чем то, что проделывается под куполом, не вызывает мурашек, – тут директор сделал движение локтями, прижав их к груди. – Нужно, чтобы пресса растолковала, разжевала публике риск, смертельную опасность, заключающуюся в вашем трюке. Нам нужно, – запомните это, – как можно больше рекламы… у вас ее было маловато при первом дебюте… Приходите ко мне послезавтра, чтобы заказать необходимые аксессуары и организовать рекламу, которой я займусь с сегодняшнего же вечера. А теперь – отдыхайте… вы освобождаетесь от всякой работы… Знаете, – если трюк удастся. я готов внести некоторые изменения в ваш контракт. Но совершенно необходимо, поймите это, – выступить как можно скорее.
И несмотря на всю сдержанность, которую он хотел придать своим похвалам, директор не мог удержаться, чтобы не сказать братьям с порога:
– Необыкновенно здорово!
LXIII
Последующие дни – до дня представления – братья прожили в том сладостном и смутном умственном возбуждении, в какое непредвиденные удары счастья, осуществление нечаянного, неожиданности судьбы повергают бедные человеческие существа. Они чувствовали, что головы их полны жара, пылающего в блаженной пустоте. Беспокойная внутренняя радость лишала их аппетита, точно горе. Когда они шагали по улицам, им казалось, будто они ступают по ковру. И каждое утро, просыпаясь, они среди бела дня с минуту вопрошали очевидную реальность своего счастья, и, томимые первым сомнением пробужденья, спрашивали у счастья:
– Не сон ли ты?
LXIV
Слесарь и плотник, выслушав указания Джанни насчет изготовления снаряда, необходимого для исполнения нового трюка в цирке, только что ушли, предварительно на пороге еще раз заверив, что все будет готово через пять дней.
– Ну, что, читали вы театральные газеты? – спрашивал директор, обращаясь к братьям и придвигая разбросанные по письменному столу листы, на которых отдельные места были обведены красным карандашом. Вокруг вашего трюка начинается ажитация, как говорят аукционисты. Послушайте-ка… вот что тут говорится: «Поговаривают о новом, совершенно необычайном трюке…» «Идет слух о трюке, который профессионалы считают невыполнимым, но который будто бы будет исполнен в ближайшее время в Летнем цирке…» «Если верить слухам, циркулирующим в мире гимнастов, Париж в скором времени сделается свидетелем трюка, который достоин стать на одну доску с упражнениями Леотара…» «Прыжок столь смелый и столь сложный, на какой не решался и античный мир…»
– Ваше выступление рекламируется недурно, не правда ли? Теперь любопытство подзадорено, и надо выйти из этой туманности… Настало время бросить в публику клочки вашей биографии – правдивой или правдоподобной… Дайте мне кое-какие сведения. Видите ли, – за пикантностью неизвестности должна последовать определенность. Нужно, чтобы Париж познакомился с вашим прошлым, вашими привычками, вашей внешностью, с исторической справкой о созданном вами трюке, чтобы вы предстали перед публикой как люди, уже известные ей по фотографиям, как вполне определенные личности, на которые могут излиться ее симпатии и которыми она уже заранее увлечена. Теперь-то уж непременно нужно выдавать себя за братьев и всячески это подчеркивать… Итак, окончательно условлено, не правда ли, что на афишах мы поместим «братья Бескапе»?
– Нет! – возразил Джанни.
– Как так – нет?
– Нет! – повторил Джанни. – Бескапе – это имя странствующих паяцев… теперь мы меняем его на другое… которое придумали сами.
– А каково это новое имя?
– Братья Земгано.
– Земгано… А оно действительно оригинально, ваше новое имя!… Оно начинается с дьявольского З, которое звучит как фанфара, – словно одна из наших увертюр, знаете, в которой звенят колокольчики среди барабанного боя!
– Да, это имя мы носили там…
– А ведь правда! – я и забыл об этом!
– Это имя пользовалось успехом в Англии, – продолжал Джанни, – и я отложил его про запас до того дня, когда мы, наконец… да и люблю я это имя, сам не знаю, почему, или, – вернее сказать, – знаю, почему! – И Джанни закончил, точно говорил с самим собою: – Мы из цыган… и я не вполне уверен, что сам выдумал это имя… мне кажется, что оно живет в моей памяти, как звучный шепот, пробегавший по губам нашей матери… когда я был совсем маленьким.
– Пусть будет Земгано, – молвил директор. – А сколько времени потребуется вам для репетиций в цирке?
– Три-четыре дня – самое большее. Только бы испробовать новый трамплин.
– Прекрасно. Если прибавить к этому пять дней на работу плотника и слесаря… мы сможем выступить через десять дней… Итак, где вы родились и где…?
LXV
В день представления братья пообедали в три часа и пришли в цирк в то время, когда съезжалась публика.
– Джанни, помнишь подъезд Зимнего цирка? – неожиданно сказал Нелло брату в конце их долгого безмолвного пути.
– Ну, и что же?
– Помнишь его в день нашего дебюта? Вокруг цирка было темно и пустынно, у касс – ни души, а возле подъезда стояла старая, расхлябанная пролетка с кучером, заснувшим на козлах. Помнишь, не правда ли? – как, прежде чем войти, мы остановились, посмотрели на все это с грустью и подумали: не везет нам в жизни… Помнишь конные статуи у подъезда, покрытые снегом крупы лошадей и выступающее из мглы темное здание, в громадных окнах которого виднелся красный фон стен, выделяющиеся неподвижные шляпы контролеров и каска полицейского, прислонившегося к барьеру, – единственных людей, находившихся в пустынном вестибюле?
– И что ж из этого?
– Ну что, если сегодня, в Летнем цирке, нас ждет нечто подобное?
Джанни обратил удивленный взор на младшего брата, точно поражен был, что у того, обычно столь бодрого, зародилось сомнение в их сегодняшнем успехе: он ускорил шаг и, только когда они уже совсем подошли к цирку, ответил:
– Вот, – посмотри.
LXVI
В тот вечер, – дивный вечер, – когда братья должны были исполнить задуманный Джанни трюк, вокруг Летнего цирка царило оживление, своего рода уличная лихорадка, сопутствующая театральным зрелищам, где ставится на карту блестящая будущность или жизнь таланта; парижанин спешит сюда в легкомысленной надежде увидеть, как будут есть человечье мясо на столичных подмостках. Собственные экипажи, под которыми взвизгивал мокрый асфальт, ежеминутно высаживали на тротуар изящных женщин. Продавцы программ, подогретые вином, возвещали о спектакле ревущими голосами, а около касс, осаждаемых бесконечными хвостами, толклись толпы прытких мальчишек – будущих гимнастов, тайком упражняющихся в каменоломнях парижских окрестностей и явившихся сюда за последними новостями.
Спокойный газовый свет освещал красивые желтые свежеотпечатанные афиши, на которых громадными буквами значилось:
ДЕБЮТ БРАТЬЕВ ЗЕМГАНО!
Внутри цирк был опоясан широким»этрусским фризом, изображающим античные гимнастические упражнения; первый плафон был украшен трофеями в виде щитов, пронзенных копьями и увенчанных шлемами, а на втором плафоне, в медальонах полуоткрытых портьер, были изображены кавалькады нагих амазонок на строптивых конях. Все люстры, подвешенные к тонким железным аркам, сияли огнями и, спускаясь в зал точно в огромную воронку, освещали на фоне красных бархатных скамеек и их белых спинок толпу мужчин, в которой тонули светлые наряды женщин, – черную толпу с грязновато-розовыми пятнами вместо лиц, толпу более темную, чем во всяком другом театре. И эта толпа казалась еще более тусклой и мрачной благодаря контрасту с выделявшимся на ее черном фоне эквилибристом в серебряном костюме, работавшим на вершине сорокафутовой лестницы, с девочкой-акробаткой в легкой юбочке, кружившейся вокруг трапеции, с наездницей, стоявшей на спине Геркулеса, который в свою очередь стоял на двух лошадях; наездница откидывалась назад красивым движением сильфиды и колыхала при этом оборки белой юбочки над бесцветным трико, благодаря которому тело ее принимало розоватые оттенки старинных саксонских статуэток.
Цирковая публика, ее беспорядочная масса, давка, копошащееся скопление людей и свет, расплавляющий лица, поглощающий, стирающий ткани одежд, – не напоминает ли все это восхитительные литографии Гойи. трибуны вокруг боя быков, бесформенные толпы, – и расплывчатые, и напряженные?
Здесь и ожидание не то, что в других театрах. Оно серьезно и вдумчиво; здесь каждый замыкается в себя больше, чем в иных местах. Над опасными упражнениями Силы и Ловкости, доведенными до неоспоримого величия, витает отголосок волнения, обуревавшего некогда души римлян во время игр в старом цирке; и заранее как-то сжимается сердце, и к затылку поднимается особый холодок от смелости, от безрассудства, от смертельной опасности, грозящей телам под куполом, от торжественного гоп, приглашающего к встрече в пустом пространстве, от ответного есть, быть может, означающего смерть.
Цирк был переполнен. В первом ряду балкона, по обе стороны от входа, теснились высокие сухощавые старики с седыми усами и бородками, с короткими волосами, зачесанными за большие хрящеватые уши, – с виду отставные кавалерийские офицеры, ныне содержатели учебных манежей. На той же скамье наметанный глаз узнавал преподавателей гимнастики и артистов; сюда же сел и молодой иностранец в каракулевой шапочке, тяжело опиравшийся на трость; перед ним в продолжение всего представления рассыпались в любезностях цирковые служащие. Что касается прохода, ведущего к конюшням, то, несмотря на надпись, приглашающую занимать места в зале, он был настолько запружен, что это даже препятствовало выезду лошадей и наездников; здесь известные спортсмены и клубные знаменитости оспаривали друг у дружки места на двух скамеечках, где можно было примоститься стоя и где в этот день стояла Томпкинс, не занятая в представлении и, казалось, с любопытством ожидавшая выступления братьев.
Представление началось при общем равнодушии публики, и не было отмечено ничем замечательным; лишь время от времени смешное кувыркание клоунов вызывало милый, ясный детский смех, сопровождавшийся прерывистыми восклицаниями, похожими на веселенькую икоту.
Предпоследний номер заканчивался среди всеобщего невнимания, усталости, скуки, ерзанья ног, не стоявших на месте, развертыванья уже прочитанных газет и жидких аплодисментов, отпускаемых нехотя, как выпрошенная милостыня.
Наконец, когда с арены ушла последняя лошадь и откланялась наездница, в зале среди мужчин, то там, то сям встававших и переходивших с места на место, и в толпе по обеим сторонам от входа завязались оживленные и громкие разговоры, отдельные обрывки которых возвышались над общим гулом и достигали ушей зрителей.
– Четырнадцать футов – ну, говорю же я вам – прыжок на четырнадцать футов! Считайте: во-первых, расстояние от батуда до бочки – шесть футов, затем бочка – три фута, старший брат – пять футов, а то и больше. Итого, младший должен прыгнуть на четырнадцать футов, не так ли?
– Да это совершенно невозможно! Человек может прыгнуть самое большее на высоту в два своих роста, да и то тут нужен трамплин, изготовленный гениальным мастером.
– Но бывали же необыкновенные прыжки в ширину! Например, тот англичанин, что перепрыгнул в старом Тиволи ров в тридцать футов… Полковник Аморос…
– Ведь прыгали же атлеты в древности на сорок семь футов!
– Да полноте… разве что с шестом!
– Господа, что вы мне толкуете о прыжках в ширину!… Ведь речь идет о прыжке в высоту, не правда ли?
– Простите, я читал в одной книге, что клоун Дьюхерст, – знаете, современник Гримальди, – прыгал вверх на двенадцать футов и проскакивал при этом сквозь солдатский барабан.
– Совершенно верно, но это прыжок параболический, и такие прыжки мы видим каждый день… их же прыжок совершенно вертикален, он поднимается как бы в печной трубе.
– Как можешь ты, наконец, не верить, раз они совершали уже этот прыжок, раз они совершат его сейчас… Это утверждает и Антракт.
– Такие вещи удаются однажды, в силу счастливой случайности, и больше не повторяются.
– Я, сударь, – могу вас заверить, – слышал лично от самого директора, что свой трюк они исполняли уже несколько раз как у себя дома, так и здесь… и никогда не было срывов!
………………………………………………………………………………
– А откуда они взялись?
– Ну вот! разве ты их не узнал?… Они здесь уже несколько лет… только, по заведенному обычаю, они для нового номера переменили имя…
– Четырнадцать футов в высоту и притом вертикально, – я все-таки не верю! Тем более, что бочонок, как слышно, – узкий, и когда на нем стоит старший брат, младшему приходится изрядно ловчиться, чтобы проскочить. А малейшее соприкосновение…
– Ах, разве вы не знаете… здесь деревянная бочка на самом деле всегда холщовая, и жесткий у ней только передок, то есть та часть, где стоит старший.
– Право, странные вы все… Ведь каждый день делается что-нибудь такое, что до сих пор казалось невозможным… Если бы перед дебютом Леотара…
– Я с тобой вполне согласен, но все же для этого малыша… да еще, говорят, их трюк сопровождается несколькими сальто-мортале, которые они делают наверху, оба сразу…
– А знаете, друзья мои, о чем я думаю? Не хотел бы я быть сейчас на их месте! А, вот и они!
И это а, вот и они! разлилось до самых краев цирка, как глухой и могучий голос, в котором слился шепот множества губ, приоткрывшихся в блаженном удивлении.
Появился Джанни, сопровождаемый братом, а служители, тем временем, начали устанавливать под гул зала конструкцию, кончавшуюся трамплином, один конец которого уходил в проход, а другой выступал на арену шагов на двадцать. Джанни, заложив руки за спину, с серьезным и заботливым видом наблюдал за установкой и пригонкой деревянных частей, ударял ногою по доскам, чтобы проверить их прочность, и в то же время обращался иногда к брату с несколькими краткими словами, в которых чувствовались слова ободрения, и бросал время от времени на блестящее собрание уверенный и доверчивый взгляд. Младший брат следовал за ним по пятам в видимом волнении, которое выражалось в замешательстве, в словно зябких движениях, вызываемых физическим или душевным недомоганием.
Впрочем, Нелло был очарователен. В этот вечер он был одет в трико, словно покрытое рыбьей чешуей и отражавшее малейшее движение мускулов игрою струящихся, как ртуть, перламутровых переливов. И, направив бинокли на это переливающееся и сверкающее тело, публика любовалась его стройным, слегка женственным сложением, скрывающим под округлостью рук незаметные мускулы и внутреннюю, не проявляющуюся наружу силу.
Трамплин был установлен. Любопытство зала было возбуждено, восстанавливалась тишина. Теперь водружали четыре подпорки, возвышавшиеся на шесть футов над трамплином – четыре железных стержня в форме буквы S, расходившиеся в разные стороны книзу и сближавшиеся наверху, где их объединял гладкий обруч с небольшим отворотом. Джанни, становившийся все серьезнее и сосредоточеннее по мере приближения решающей минуты, продолжал наблюдать за приготовлениями, положив гибкую руку на плечо Нелло, – когда кто-то вызвал его в проход. И почти тотчас же Нелло, стоявший в бездействии посреди цирка, смутился от направленного на него всеобщего внимания, – как смущался, бывало, когда ребенком стал впервые появляться в Амфитеатре Бескапе, – и ушел с арены на поиски брата.
Тогда среди охватившей всех безмолвной неподвижности, на обруч, венчавший четыре подпорки, был установлен белый бочонок, и внезапно раздался взрыв шумной и резкой музыки, которою оркестры подобных заведений подхлестывают энергию мускулов, воодушевляют героические головоломные трюки.
Джанни, направлявшийся к трамплину, чтобы окинуть последним взором конструкцию и проверить правильность установки бочонка, – при звуках увертюры быстро вернулся в проход. Музыка внезапно оборвалась, и среди полнейшей тишины, – казалось, зрители перестали даже дышать, – послышались мощные шаги гимнаста по пружинящим доскам, и почти в тот же миг он появился на ободке обруча, стоя там в совершеннейшем равновесии.
Но в то время, как, приветствуя успех гимнаста, вновь грянула музыка и раздался гром аплодисментов, выпадающий лишь на долю трюков, – публика заметила, ничего не понимая, что Джанни нагнулся, удивленно смотрит на бочонок и откинутой назад рукой словно хочет остановить разбег брата, уже мелькнувшего в предшествующей взлету позе – с поднятыми руками, со спадающими вниз кистями, напоминающими биение крыльев. Но уже музыка опять резко оборвалась, вызвав этой внезапностью стеснение в сердцах, а Нелло уже дал брату последний сигнал с трамплина, и Джанни, выпрямившись, через плечо бросил брату нерешительное, тревожное, отчаянное гоп, которое прозвучало как бог милостив!, восклицаемое в те крайние минуты, когда нужно немедленно принять какое-либо решение и уже нет времени рассмотреть, измерить грозящую опасность.
Нелло, как молния, пронесся по трамплину, бесшумно касаясь гулкого настила, а на груди у него мелькало что-то блестящее, похожее на амулет и, по-видимому, выбившееся из-под трико. Он сухо ударил обеими ногами о край упругих досок и взвился, – можно сказать, подброшенный и поддерживаемый в воздухе напряженностью всех лиц, обращенных наверх, к бочонку.
Но что случилось в это жгучее мгновенье, когда толпа искала глазами, уже почти видела юного гимнаста на плечах брата? – Джанни, потеряв равновесие, летел вниз, в то время как Нелло, упав с бочки и сильно ударившись о края трапеции, покатился на пол, привстал – и снова упал.
Подавленный вопль пронесся по залу, в то время как Джанни, по-отечески взяв брата на руки, уносил его с арены. А глаза Нелло выражали ту страшную тревогу, что бывает у только что вынесенных из боя раненых, когда они взглядом вопрошают все окружающее, – каково их ранение, во что оно выльется?
LXVII
За громким подавленным криком, за трепетным смятением сердец, вызванным падением молодого гимнаста, последовало зловещее оцепенение, а вместе с оцепенением в переполненном зрительном зале наступила тишина, та, по выражению одного простолюдина, жуткая тишина, что следует в больших скоплениях народа за непредвиденной катастрофой; и сквозь эту тишину то там, то сям издалека раздавался плач девочек, которых матери, по-видимому, прижимали к себе, душили в своих объятиях.
Все – и мужчины, и женщины – неподвижно сидели по местам, словно роковой случай не положил конца представлению; все ощущали жгучую потребность еще раз увидеть упавшего гимнаста, увидеть хотя бы на минуту, что он стоит, поддерживаемый под руки, на собственных ногах и своим присутствием свидетельствует, что разбился не насмерть.
Униформисты стояли у входа, облокотясь руками на барьер и опустив головы, так что на лицах их ничего нельзя было прочесть. Они стояли сплошной толпой, неподвижно, как солдаты, которым приказано не сходить с места, и преграждали проход на арену, где возвышались покинутые и неубранные конструкция и аксессуары последнего номера. Музыканты, затаив дыхание, еще держали в руках инструменты; и внезапное прекращение оживленной и шумной жизни спектакля, зрелища смелой игры Силы, придавало всем этим застывшим людям нечто трагически странное.
Время шло, а об юноше все не было никаких вестей.
Наконец, из группы выделился один униформист, и у всех вырвался маленький вздох облегчения. Он выступил на арену шагов на десять и, трижды поклонившись с серьезным видом, проговорил:
– Дирекция спрашивает, – нет ли среди публики врача?
Соседи обменивались вопрошающими взглядами, поджимали губы и безнадежно качали головой, а тем временем сквозь публику, между скамейками, пробивал себе дорогу на арену молодой еще человек, – черноволосый, с задумчивыми черными глазами, и взоры всех провожали его с жестоким любопытством.
Публика продолжала сидеть на местах, не решаясь уйти, ждала и как будто собиралась ждать еще неопределенно долгое время.
Служащие начали разбирать трамплин, взволнованно жестикулируя и перешептываясь; другие стали гасить газ, а так как мрак, спускавшийся в полутемный зал, не разгонял публику, – билетерши принялись вытаскивать из-под ног зрительниц скамеечки, стали слегка подталкивать толпу к дверям, а толпа медлила и головы оборачивались назад, к тому месту, откуда унесли Нелло. И над выходящей безмолвной толпой поднимался неясный шепот, расплывчатый гул, смутный рокот, который в тесных местах, в узких коридорах выливался в слова:
– У младшего сломаны обе ноги.
LXVIII
Доктор, стоя на колене, склонился над Нелло, лежавшим на предохранительном матраце, на который прыгает вся труппа во время вольтижа, обычно завершающего представления.
Вокруг разбившегося толпились артисты и служащие цирка; взглянув на его бледное лицо, они исчезали и заговаривали между собою шепотом по углам о не желающей расходиться публике, о заболевшем некстати цирковом враче, а также о замене холщового бочонка, предназначавшегося для трюка братьев, – деревянным, который взялся неизвестно откуда; и все это прерывалось восклицаниями:
– Странно! Непонятно! Непостижимо!
По прошествии довольно долгого времени доктор, прощупав повреждения, выпустил из рук одну из ног Нелло, конечность которой, в разорванном трико, была перекошена и безжизненно болталась, и подняв голову, обращаясь к стоявшему тут же директору:
– Да, сломаны обе ноги… И в правой ноге, кроме перелома малой берцовой кости, имеется еще и перелом у ступни. Я сейчас дам записку в лечебницу. Я сам вправлю кости… ведь ноги этого юноши – это его хлеб.
– Сударь, – сказал Джанни, стоявший на коленях по другую сторону матраца, – это мой… настоящий брат, и я так люблю его, что заплачу вам… как богач… со временем.
Доктор поглядел на Джанни большими ласковыми и грустными глазами, как бы медленно проникающими в глубь вещей и живых существ; и перед лицом сдержанной муки и глубокого отчаяния одетого в блестки и мишуру человека, на которого тяжело было смотреть, он проговорил:
– Где вы живете?
– О, очень далеко, мсьё!
– Но где, я вас спрашиваю? – почти грубо повторил доктор. – Хорошо, – продолжал он, когда Джанни дал ему адрес, – сегодня вечером я еще должен навестить больного в конце предместья Сент-Оноре. Я буду у вас около полуночи. Запаситесь лубками, гипсом, бинтами. Любой аптекарь скажет вам, что именно требуется… Тут где-нибудь должны быть носилки… это ведь входит в число здешних аксессуаров, – тогда больной будет меньше страдать при переноске.
Доктор помог водрузить молодого клоуна на носилки, поддерживал со всевозможными предосторожностями, пока его поднимали, переломанную в двух местах ногу и сам уложил ее поудобнее, сказав Нелло:
– Дитя, потерпите еще часа два, и я к вашим услугам.
Обрадованный Джанни в порыве признательности наклонился к руке доктора, чтобы поцеловать ее.
LXIX
Ночью во время долгого пути от цирка в Терны, среди прохожих, провожавших их взглядами, Джанни шел около брата с тем безжизненным, окаменелым видом, какой можно наблюдать на улицах Парижа у тех, кто сопровождает в больницу носилки с больным.
Нелло внесли в его комнатку, и доктор пришел как раз в то время, когда Джанни с помощью двух цирковых служителей только что уложил брата в постель.
Вправка была страшно мучительной. Пришлось вытягивать ногу, так как в месте перелома кости слегка зашли одна за другую. Джанни пришлось разбудить соседа, и они принялись тянуть ногу вдвоем.
Нелло выражал свои страдания только судорожным подергиванием лица, и во время самых неимоверных мучений его ласково подбадривающий взгляд как бы говорил брату – очень бледному, – чтобы тот не боялся причинить ему боль.
Когда, наконец, обломки берцовой кости были вправлены, лубки наложены и началось бинтование, суровый и мало чувствительный Джанни, державший себя до того времени в руках, вдруг упал без чувств, подобно военным, видевшим не одно поле сражения и все же падающим в обморок при виде крови, потерянной женою во время родов.
LXX
Когда перевязка была окончена и доктор ушел, когда над кроватью было подвешено ведро, из которого по каплям спадала на ноги Нелло холодная вода, когда его страдания немного улеглись, – первым его словом было:
– Скажи, Джанни, сколько времени это продлится?
– Да он не сказал… не знаю… Постой… мне кажется, что когда в Мильдсборо – помнишь? – большой Адаме сломал себе ногу… он провозился с нею месяца полтора…
– Целых полтора месяца!
– Но ведь не собираешься же ты тотчас же…
– Пить хочется… дай мне попить…
У Нелло поднялся жар, обжигавший все тело, и за острой болью от переломов последовали другие боли, подчас столь же невыносимые: судороги, вздрагивания, производившие впечатление повторных переломов сломанных ног; неподвижное положение ступни, лежавшей на подушке, вызывало, в конце концов, впечатление сверлящего жестокого тела, вонзающегося в нервы; мучителен был даже холод в ногах, невыносимый холод от беспрерывно капающей воды. И жар этот, и эти страдания, особенно усиливавшиеся по вечерам, в течение целой недели лишали Нелло сна.
LXXI
Эти беспокойные ночи сменялись такой усталостью, что Нелло иногда засыпал на несколько часов днем.
Джанни охранял сон брата, но вскоре от грустной неподвижности ног, не участвующих в беспокойных движениях всего тела, у спящего Нелло вырывались невольные жалобы, которых не слышно было, пока он не спал; лицо его начинало подергиваться, и Джанни казалось, что с кровати, от этого скорбного покоя поднимаются немые упреки, и вскоре он вставал со стула, тихонько брал шляпу и выходил на цыпочках, попросив скотницу из соседнего коровника посидеть с братом в его отсутствие. Джанни шел куда глаза глядят и в конце концов неизменно оказывался в Булонском лесу, расположенном вблизи их дома, – в лесу, с главных аллей которого его гнало веселое гулянье сегодняшних счастливцев, – и углублялся в одну из уединенных аллеек.
Здесь, возбужденный ходьбою, он вслух высказывал свои скорбные мысли; они выливались в своего рода прерывистые восклицания, в которых стремится излиться из сердца великая и глубокая скорбь одиноких.
– Не глупо ли это! Плохо ли нам жилось до того… зачем было желать иного?… Какая надобность, скажите на милость, была в том, чтобы говорили, что мы совершили прыжок, который не могли совершить другие? О, горе!… И что это ему принесло? Все я… ведь у него не было проклятого тщеславия – нет, нет! И когда мальчуган упирался – именно я говорил ему: прыгай! И он прыгал, невзирая ни на что… он прыгал потому, что бросился бы и в реку, если бы я велел ему… Ах, если бы можно было вернуться к временам Маренготты… о, как бы я сказал ему: давай проживем всю нашу собачью жизнь балаганными комедиантами, так и протянем до конца… Это я… да, один я… виною несчастью.
И, долго думая о цветущей юности брата, о его беспечности и лени, о склонности к безмятежной жизни – легкой и не смущаемой тщеславием, – он припоминал, насколько его собственный пример, его жажда известности, его упрямое нежелание жениться противоречили, стесняли, противодействовали жизни брата, всецело принесенной в жертву его жизни, – и его мысли, наконец, прерывались срывавшимися горькими, полными раскаяния, словами:
– Вдобавок, не ясно ли как день… вся тяжесть трюка ложилась на него… Чем я-то рисковал? А он?… на пять футов выше… пять футов в высоту… и как не пришло в эту несчастную голову мысли, что он может разбиться насмерть… Да, хорошо, нечего сказать… Я являлся в этом деле барином, заложившим ручки в карманы. Какое преступление!… Всему виною я!
И, расхаживая быстрыми шагами, он в немой злобе стегал тростью высокую траву, растущую по краям аллеи, и вид склонявшихся сломанных стеблей бедных растений приносил некоторое облегчение его страданиям.
LXXII
Доктор, почувствовавший к братьям симпатию и тронутый их братскими отношениями, в течение первой недели являлся ежедневно, чтобы сделать перевязку, тут отпустить бинты, там – подтянуть их. В последний свой визит он сказал Джанни:
– В положении костей нет никаких ненормальностей… опухоль прошла… срастание идет своим порядком. А ночи, вы говорите, он проводит по-прежнему беспокойно? Между тем жару нет… ну, раз вы желаете, я все же пропишу ему успокоительное – для сна.
И он написал рецепт.
– Ваш брат, видимо, тяготится неподвижностью, перерывом в обычных занятиях… это грызет беднягу. Но общее состояние, – будьте в том уверены, – не вызывает никаких опасений, и через несколько дней нервное состояние, возбуждение и бессонница пройдут, а вот что касается ног – дело будет затяжное!
– Сколько же, по вашему мнению, ему придется пролежать в таком положении?
– Мне думается, что он сможет встать на костыли не ранее двух месяцев, – ну – семи недель. Впрочем, закажите костыли теперь же, – когда он их увидит, это даст ему надежду, что он скоро сможет ходить.
– А когда, доктор…
– A! Вы, конечно, хотите спросить меня, мой бедный друг, когда он сможет взяться за работу?… Если бы дело ограничивалось одним переломом левой ноги, а ведь у него еще два перелома в правой – и переломы серьезные, затрагивающие суставы. Впрочем, конечно, – добавил он, видя, как опечалилось лицо Джанни, – он сможет ходить без костылей, но что касается… В конце концов, природа иногда творит чудеса! Ну-с, хотите еще что-нибудь спросить?
– Нет, – промолвил Джанни.
LXXIII
Опиум, содержавшийся в успокоительной микстуре, которую давали Нелло на ночь, наполнял его лихорадочный и тревожный сон смутными видениями.
Ему снилось однажды, что он находится в цирке. Это был цирк, и это не был цирк, как случается во сне, где – странная вещь – мы узнаем себя в местах, не сохранивших ничего своего, изменившихся до основания. Словом, на этот раз цирк разросся до огромных размеров, и зрители, сидевшие по ту сторону арены, представлялись Нелло расплывчатыми и безликими, словно сидели за четверть мили от него. А люстры, казалось, размножались ежесекундно и не поддавались счету, а свет их был странен и походил слегка на отражение пламени свечей в зеркалах… Оркестр был большой, как в театре. Музыканты лезли из кожи вон, но не извлекали ни единого звука из немых скрипок и беззвучной меди духовых. А в бесконечном пространстве виднелся лишь вихрь маленьких детских тел, вертящихся над ногами невидимых мужчин, лишь стремительный бег лошадей со всадниками, сидящими на развевающихся хвостах, лишь параболы тел акробатов, не падающих и реющих подобно невесомым телам. А вдаль уходили целые анфилады трапеций, на которых развертывалось бесконечное сальто-мортале; открывались аллеи несчетных бумажных обручей, сквозь которые беспрерывно шли женщины в газовых платьицах, в то время как с высот, равных башням собора Парижской Богоматери, спускались, подпрыгивая, бесстрастные канатные плясуньи.
Все это смешивалось, стиралось в тускневшем свете газа, а тем временем в цирк врывалась тысяча клоунов в облегающих черных платьях с вышитыми белым шелком скелетами; во рту у них лежали клочки черной бумаги, благодаря которым рты казались беззубыми черными впадинами. Все они, уцепившись друг за дружку, шли вокруг арены, раскачиваясь единым равномерным движением и извиваясь, как длинная змея. Маленькие столбики тысячами вырастали из земли, и на каждом из них неожиданно появлялось по клоуну; клоуны сидели торчком на вершине, ноги их были подняты к голове и обхвачены руками, а между ног высовывались головы, смотревшие на публику с неподвижностью набеленных сфинксов.
Снова возгорался газ, и вместе со светом на лица зрителей, только что казавшиеся призраками, вновь возвращалась человечья жизнь, а черные клоуны исчезали.
Тогда начинались прыжки, вольтижировка, скачки усыпанных блестками тел, бороздивших небо, как проблески падающих звезд, и все приходило в движение; тела казались бескостными, невиданными дотоле; из резиновых рук и ног, словно из лент, сплетались розетки; великанши укладывались в крошечные ящички; разыгрывался кошмар; составленный из всего невозможного, невыполнимого, что совершает человеческое тело. И в нелепостях сновидений смешивались, сливались воедино и то, что Нелло как будто видел где-то, и то, о чем читал ему брат. Он видел индийского жонглера, держащегося в необъяснимом равновесии в одной из двух чашечек гигантского легкого канделябра; современный Геркулес поднимал, взявшись зубами за подножку, полный пассажирами омнибус; античный акробат, ковыляя, прыгал на вздутый и просаленный бурдюк; танцующий слон выделывал воздушные пируэты на протянутой проволоке.
Опять тускнел свет газа, и черные клоуны на мгновенье вновь появлялись на столбиках.
И представление начиналось сначала. Теперь уже при освещении, лишающем предметы красок и полном кристаллических льдистых блесток, что сверкают в венецианских зеркалах от вырезанных на них фигур и узоров, – являлось как бы искусственное белое солнце, образовавшееся из женских ног, из мужских рук, из детских тел, из лошадиных крупов и слоновых хоботов. – круговорот человеческих и звериных обрубков, мускулов, жил, и быстрота этого движения, постепенно все возрастая, разливала по телу спящую усталость и боль.
LXXIV
– Болит? Тебе опять было плохо ночью? – спросил Джанни, входя к брату.
– Нет, – молвил, просыпаясь, Нелло, – нет… но у меня был, кажется, чертовский жар… и глупейшие сны снились.
И Нелло рассказал только что виденный сон.
– Да, – продолжал он, – представь себе… я видел себя как раз на том месте, где сидел, помнишь, в вечер нашего приезда в Париж, – внизу, слева, у самого входа… странно, не правда ли? Но самое любопытное не это, а то, что, когда народ стал входить в цирк, все эти расплывчатые лица смотрели на меня с тем серьезным выражением, с каким, знаешь, снятся люди, желающие причинить тебе во сне зло… погоди… и все эти чудные человечки, равняясь со мной, исподтишка показывали мне – на какую-нибудь секунду – особую вывесочку; я наклонялся, чтобы увидеть, что там написано, и с трудом различал (а теперь вижу вполне отчетливо) – дощечку, где был изображен я сам в клоунском костюме и… на костылях, которые ты мне вчера заказал!
И Нелло круто оборвал рассказ, а брат его долго стоял опечаленный, не находя слов для ответа.
LXXV
– Но скажите: пытались ли вы объяснить себе замену холщового бочонка – деревянным, которого вообще не имелось в цирке и который очутился здесь каким-то чудом?
Так говорил директор цирка, пришедший навестить Нелло и беседовавший с Джанни на пороге их дома.
– Ах, да, – деревянный бочонок, – молвил Джанни, как бы роясь в воспоминаниях, – правда! А ведь этот несчастный бочонок совсем вылетел у меня из головы, с тех пор как я… очень несчастен, мсьё. Но подождите… почему, в самом деле, она, никогда не присутствовавшая на представлениях, если сама не выступала, – в этот день была в цирке и стояла на лавочке в проходе? Я как сейчас вижу ее в тот момент, когда выносил брата… она словно ждала… И притом этот неизвестный, который в последнюю минуту хотел передать мне письмо и которого я не мог нигде найти.
– Вы тоже подозреваете Томпкинс, как Тиффани, как все, как я сам? А что думает ваш брат?
– Ох, мой брат! Все это случилось так быстро, что он помнит только свое падение на арену… Он не знает, – ударился ли о деревянный бочонок или обо что другое. Мальчуган думает, что у него просто не удался трюк, как это случается, – вот и все… и вы понимаете, что не мне…
– Да, это очень возможно, – продолжал директор, развивая свою мысль и не слушая Джанни, – очень возможно… Тем более, что негодяя, который устанавливал бочонок и о котором нельзя с уверенностью сказать, был ли он действительно пьяницей или только прикидывался им, – приняли на конюшни по рекомендации Томпкинс. Я хотел развязать ему язык, – не было никакой возможности. Он не возразил ни слова, когда его рассчитали, но его скотская морда выражала столько подлости. Ах, американка способна отпустить крупную сумму для подобной мерзкой выходки… Словом, дорогой мой, я сделал все, что мог… я затеял следствие… Знаете ли вы, что она на другой день уехала из Парижа?
– Оставьте эту злобную гадину! Если несчастье и случилось из-за нее… все, что бы вы ни предприняли, не вернет ног брату, – сказал Джанни, махнув рукой с отчаянием, безнадежность которого уже не оставляла места для злобы.
LXXVI
Острая боль в сломанных ногах Нелло стала переходить в смутное недомогание, в котором как бы чувствовалась раздражающая, щекочущая работа окончательной спайки костей. У младшего брата снова появился аппетит, он стал долго спать по ночам, и вместе со здоровьем в его тело возвращалась веселость, веселость сосредоточенная и вся проникнутая радостью выздоровления. Доктор снял лубки, наложил на правую ногу крахмальную повязку и назначил день, когда больной сможет встать и попробовать ходить на костылях по комнате.
LXXVII
Настал долгожданный день, когда Нелло должен был, наконец, выйти из неподвижного, лежачего положения, в котором находился почти два месяца. Джанни заметил, что комнатка их очень уж мала, а на дворе сияет солнце, и предложил брату сделать первую пробу в ходьбе – в музыкальном павильоне. Джанни сам вымел его, очистил от травы, камней, гравия, на которых мог бы поскользнуться брат. Только после этого перенес он Нелло в павильон, где они прошлым летом давали друг другу такие прелестные концерты. И младший брат начал ходить, а старший шел около него, следуя за ним шаг за шагом, готовясь подхватить его на руки, как только ноги Нелло станут слабеть или подкашиваться.
– Вот странно, – восклицал Нелло, держась на костылях, – мне кажется, что я совсем маленький… что я только что начинаю ходить, в самый первый раз… Но, право, очень трудно ходить, Джанни. Как глупо, – ведь это кажется таким естественным, пока не сломаешь ног! Ты, может быть, думаешь, что очень удобно орудовать этими штуками, – да нет, это не так-то просто! Когда я впервые, не умея, стал на ходули, дело шло куда легче. Вот бы я стеснялся, если бы кто-нибудь смотрел на меня со стороны! У меня вид, должно быть, очень… того… Ой, ой! Черт возьми, земля словно непрочно стоит; погоди, сейчас опять наладится, это ничего. Мои бедные ноги – как тряпки!
И действительно, тяжело было видеть, с каким трудом и усилием это юное тело старается удержаться на неуклюжих ногах, какая застенчивость, робость и страх охватывают его во время тяжелой работы по перестановке шатких ног, как он старается сделать шаг, как всегда выдвигает первою наиболее пострадавшую ногу.
Но Нелло упрямился ходить, невзирая ни на что, и его ноги, несмотря на неустойчивость, понемногу вновь усваивали старую привычку быть ногами, и эта маленькая победа зажигалась радостью в глазах искалеченного, вызывала улыбку на его лице.
– Джанни, ко мне! Падаю! – вдруг закричал он шутя, а когда испуганный старший брат обхватил его руками, приблизившись щекой к его рту, – он поцеловал эту щеку и стал покусывать ее, как щенок.
Они провели радостный вечер; Нелло весело болтал и говорил, что не пройдет и двух недель, как он бросит свои костыли в Сену с моста Нейи.[61]
LXXVIII
Прошло шесть-семь таких сеансов ходьбы в музыкальном павильоне, полных радости о настоящем и надежды на будущее. Но по прошествии недели Нелло заметил, что он ходит не лучше, чем в первый день. Прошло полмесяца, а у него псе не было сознания, что он приобрел хотя бы малость устойчивости и уверенности. Временами ему хотелось попробовать обойтись без костылей, но его тотчас же охватывал ужас, смутный и немного растерянный ужас, который можно видеть на личиках детей, когда они шагают к протянутым рукам и вдруг не решаются идти дальше и готовы расплакаться: ужас, который, как только Нелло бросал костыли, заставлял его снова хвататься за них, как хватается утопающий за багор.
По мере того как истекал месяц с тех пор, как Нелло стал ходить, его ежедневные упражнения в ходьбе становились все мрачнее, все молчаливее, все грустнее.
LXXIX
Братья кончали обедать, когда младший сказал старшему:
– Джанни, мне бы хотелось побывать в цирке, пока еще не кончился сезон в Елисейских Полях.
Джанни, подумав о горечи, которую должен вынести из этого посещения Нелло, ответил:
– Ну что ж, когда захочешь… только немного погодя.
– Нет, сегодня, именно сегодня мне хочется поехать, – возразил Нелло тем не терпящим возражений тоном, к какому он прибегал, когда брат колебался исполнить его желание.
– Ну, поедем, – покорно сказал Джанни, – я пойду в коровник, скажу, чтобы позвали извозчика,
И он помог брату одеться, но, подавая костыли, не мог удержаться, чтобы не сказать:
– Ты и так порядочно утомился сегодня, лучше бы отложить это на другой раз.
Губы Нелло сложились в полусмеющуюся, полуласковую гримаску, как у ребенка, который просит не бранить его за каприз.
В коляске он был радостен, говорлив и прерывал иногда свою веселую болтовню ласковым и насмешливым вопросом:
– Скажи по правде, тебе тяжело видеть меня таким?
Подъехали к цирку. Джанни взял брата на руки, вынес его, а когда Нелло стал на костыли, они направились ко входу.
– Погоди немного, – сказал Нелло, сделавшийся вдруг серьезным при виде здания с ярко горящими фонарями, из которого вырывались обрывки шумной музыки. – Да, погоди; вон стулья, присядем немного.
Стоял конец октября, весь день шел дождь, и к вечеру трудно было сказать с уверенностью, не моросит ли он и сейчас; это был один из тех парижских осенних дней, когда небо, земля, стены словно истекают водой, когда ночью отсветы газа на тротуарах кажутся пламенем, отраженным в реке. По пустынной аллее, где виднелось два-три силуэта, терявшихся в сырой дали, к братьям неслись грязные листья, гонимые порывами ветра, а у ног их на влажной земле рисовались круглые тени от бесчисленных железных стульев и напоминали страшные сонмища крабов, карабкающихся по страницам японских альбомов.
Внезапно из цирка донесся шум аплодисментов, тех аплодисментов простонародья, которые производят впечатление разбивающихся стопок тарелок, брошенных из-под сводов в первые места.
Нелло вздрогнул, и Джанни заметил, как глаза брата обратились на пару костылей, лежащих около него.
– Но ведь дождь идет! – молвил Джанни.
– Нет, – ответил Нелло, как человек всецело поглощенный своею мыслью и отвечающий, не расслышав вопроса.
– Ну так, братишка, идем мы или нет? – сказал немного погодя Джанни.
– Знаешь, мне расхотелось… да, мне было бы стыдно перед другими… позови извозчика… и отправимся домой.
На обратном пути Джанни не мог вырвать у Нелло ни единого слова.
LXXX
Теперь у младшего брата бывали дни полного уныния, когда он отказывался ходить и с утра до ночи лежал на постели, говоря, что не в ударе.
Джанни повел его к доктору. Тот снова заверил Нелло, что он со временем, в недалеком будущем, будет ходить без костылей. Но от неопределенных выражений доктора, от сомнений, сквозивших в его расспросах, от раздумий, во время которых люди науки говорят сами с собой, от фраз, упоминавших об отвердении суставов плюсны и берцовой кости, о затруднениях, которые встретятся в будущем при сгибании правой ноги, – Нелло вернулся в Терны в тревоге, что не сможет больше прыгать, не сможет делать упражнения, требующие эластичности и гибкости ног.
LXXXI
Мало-помалу в сердце каждого из них закрадывалась, – хоть они и не делились ею, – безнадежная мысль, что дело, что радость всей их жизни – содружество, в которое они вложили и взаимную привязанность, и ловкость своих тел, – близится к концу. И эта мысль, сначала лишь молнией мелькавшая в их мозгу, являвшаяся лишь, мгновенным боязливым опасением, лишь преходящим злым сомнением, которое тотчас же отбрасывалось всеми любящими и уповающими силами взаимной привязанности, – превращалось в глубине их сердец, по мере того как проходили не приносившие улучшения дни, в нечто стойкое и непоколебимое, как твердая уверенность. Постепенно в уме братьев совершалась мрачная работа, обычно происходящая в семьях вокруг смертельной болезни родственника, которую ни сам умирающий, ни живущий возле него не хотят считать смертельной; работа эта с течением времени, по мере накопления тревожных обстоятельств, – благодаря выражению лица окружающих, благодаря намекам докторов, благодаря раздумьям в сумеречные часы и всему, что припоминается во время бессонницы, что подсказывает тревогу, что шепчет в тиши комнаты: смерть, смерть, смерть! – превращает мало-помалу (путем вереницы медленных жестоких завоеваний и обескураживающих внушении) первоначальную смутную, преходящую тревогу в совершенную уверенность для одного в том, – что он умирает, для другого – что он будет свидетелем его смерти.
LXXXII
Нелло лежал на кровати печальный и молчаливый, растянувшись во всю длину, накинув на одеревенелые ноги коричневое одеяло, и не отвечал на слова брата, который сидел около него.
– Ты молод еще, очень молод, – говорил ему Джанни, – все наладится, мой дорогой. И даже если бы потребовался годовой, двухгодовой перерыв в работе, – так что ж, мы подождем… впереди у нас еще много времени – хватит и на трюки!
Нелло не отвечал.
В комнате вокруг братьев все поглотила незаметно спустившаяся ночь; и в сумерках этого грустного часа лишь бледными пятнами выступали их лица, скрещенные на одеяле руки младшего и в углу – серебряные отвороты его клоунского костюма, висящего на крюке.
Джанни поднялся, чтобы зажечь свечу.
– Посидим еще так, – промолвил Нелло.
Джанни снова уселся возле брата и снова заговорил с ним, стремясь добиться от него хоть слова надежды на будущее, хотя бы и на отдаленное.
– Нет, – внезапно прервал брата Нелло, – я чувствую, что уже никогда больше не смогу работать… никогда, понимаешь, больше никогда…
И это отчаянное никогда, повторяемое младшим братом, звучало с каждым разом все взволнованнее, как в припадке, как в приступе глухой злобы. Потом, стуча по ногам с мучительной горечью артиста, сознающего, что талант его умер прежде его самого, —
– Говорю тебе, – вскричал несчастный юноша, – это теперь уже пропащие для нашего ремесла ноги!
И он отвернулся к стенке, точно хотел уснуть и помешать разговорам брата. Но вскоре у уткнувшегося носом в стенку Нелло вырвались слова, в которых вопреки мужской воле послышались как бы всхлипывания женщины:
– А как хорош был зал! Ведь цирк был полон в тот вечер? Как прикованы были к нам все взоры! Что-то особенное билось в наших сердцах и даже немного – у публики… На улице стояла очередь… На афишах – наши имена крупными буквами… Помнишь, Джанни, когда я был совсем маленьким и ты говорил мне о новом трюке, который мы изобретем, – ты думал, что я не понимаю, а я ведь все понимал и ждал так же, как и ты сам… И хоть я и дразнил тебя – мне ведь, поди, тоже не терпелось… И вот, когда все было готово… вот и кончились для меня аплодисменты!
Потом, резко повернувшись и взяв руки брата в свои. Нелло ласково сказал:
– Но ты ведь знаешь, я буду радоваться твоим успехам, и то будет хорошо!
И Нелло сжимал руки Джанни, словно хотел сделать признание, которому трудно излиться.
– Брат, – вздохнул он наконец, – прошу тебя только об одном… но обещай мне это… Обещай, что ты теперь будешь работать только один… если появится у тебя другой партнер, мне будет слишком тяжело… Обещаешь, да? Не правда ли, никогда не будет другого?
– Если ты не выздоровеешь вполне, – просто ответил Джанни, – я не стану работать ни с другим, ни один.
– Я не прошу у тебя так много, не прошу так много! – вскричал младший в волнении, опровергавшем его слова.
– Да, темновато… но все же внутри есть огонек!
Тогда он спустился по лестнице, пересек двор, ползя на руках и коленях.
Дверь была приоткрыта; при свете огарка, стоявшего на полу, Джанни упражнялся на трапеции.
Нелло вошел так тихо, что гимнаст не заметил его появления. И младший брат, стоя на коленях, смотрел, как старший носится в воздухе с неистовым проворством здорового тела и неповрежденных ног. Он смотрел на него и, видя его таким гибким, ловким и сильным, подумал, что никогда брат не сможет отказаться от работы в цирке, и эта мысль внезапно вырвала у него раздирающий вопль.
Старший, застигнутый этим рыданием в самом раз rape кружения, сел на трапеции, наклонил голову в сторону жалкого комка, ползущего в темноте, резким рыв ком сорвал трапецию, бросил ее в окно, разлетевшееся вдребезги, подбежал к брату, приподнял его, прижал к груди.
И оба они, обнявшись, принялись плакать, плакать долго, не говоря ни слова.
Потом старший, окинув взглядом принадлежности своего ремесла и прощаясь с ними в величественном отречении, вскричал:
– Дитя, обними меня… Братья Земгано умерли… осталось лишь два пиликальщика на скрипках, которые будут отныне играть, сидя на стульях.
Примечания
1
«Братья Земгано» посвящены супруге Альфонса Доде – г-же Жюли Доде (род. 1847), поэтессе и автору ряда повестей, критических очерков и «Воспоминаний».
Литературные интересы, отзывавшие Э. де-Гонкура с семьей Доде, с годами перешли в тесную дружбу. Так, например, подводя итог истекающему году, Гонкур писал в своем «Дневнике» 31 декабря 1883 г.: «Моей духовной отчизной в течение последних месяцев были столовая и маленький рабочий кабинет Доде. Тут нахожу я у мужа – быстрое и сочувственное понимание моей мысли, у жены – ласковую почтительность к старому писателю, и у обоих – ровную, постоянную дружбу, не знающую границ привязанность. Э. де-Гонкур был старше А. Доде на восемнадцать лет.
(обратно)2
Западня (l'Assomraoir) – роман Золя (1877), Жермини Ласертё – роман братьев де-Гонкур (1865) – наиболее типичные произведения натуралистической школы.
(обратно)3
Гонкур имел в виду «Cherie» («Милочку»), вышедшую в 1884 г. и опереженную, вопреки первоначальному плану автора, «Актрисой» («La Faustin», 1882).
(обратно)4
За реалистическую обстановку, которою я окружил свою фабулу, мне хочется во всеуслышанье поблагодарить г. Виктора Франкони [Франкони, Виктор – внук Антуана Франкони, современник Гонкура, был выдающимся школьным наездником, историком, теоретиком и практиком кавалерийского дела и конного спорта.], г. Леона Сари [Сари, Леон, – псевдоним Наполеона-Эмманюэля Стефанини (род. 1824), известного театрального деятеля и давнего знакомого Гонкура. В «Дневнике» от 31 марта 1861 г. Э. де-Гонкур передает рассуждения Сари о театре за завтраком у Флобера.] и братьев Ханлон-Ли [Братья Ханлон-Ли – знаменитые английские клоуны, выступавшие с огромным успехом в Европе и Америке в 60-80 гг. прошлого века. Они являются создателями той мрачной психологической клоунады, о которой Гонкур говорит в главе XXXI.], являющихся не только превосходными гимнастами, которым аплодирует весь Париж, но также и знатоками, рассуждающими о своем искусстве как истинные художники и ученые. Прим. автора
(обратно)5
Гонкур намекает на автобиографический элемент романа «Братья Земгано», рисующего в иной – цирковой – обстановке взаимоотношения двух братьев, имеющие много общего с отношениями братьев Гонкуров. В «Дневнике» Э де-Гонкура, в записи от 27 декабря 1876 г., читаем: «Я хотел бы создать двух клоунов, двух братьев, любящих друг друга, как любили друг друга мы с братом; они слили бы воедино свои позвоночники и всю жизнь изобретали бы невыполнимый трюк, который был бы для них тем, чем является для ученого разрешение научной проблемы. Сюда примешалось бы много подробностей из детства младшего из них и братская любовь старшего с оттенком отеческого чувства».
(обратно)6
Via Condotti(улица Кондотти) – центр антикварной торговли в Риме.
(обратно)7
Loupe – нарост на деревьях; loupeur – сборщик этих наростов. На простонародном же арго «loupeur» означает «лентяй, бездельник». Отсюда – непереводимая игра слов.
(обратно)8
Цирк «Олимпико» в Пере. Пера – квартал Константинополя, населенный преимущественно европейцами. Цирк «Олимпико» – название цирка бр. Франкони, вскоре заимствованное многими другими цирками и постепенно сделавшееся нарицательным именем.
(обратно)9
Меджидие – турецкая золотая монета (около 8 рублей золотом).
(обратно)10
Тянь-Цзинь– китайский город, открытый для иностранной торговли в 1858 году. В 1870 г. в Тянь-Цзине возникли беспорядки, во время которых все жившие там иностранцы, в том числе и французские сестры милосердия, были убиты.
(обратно)11
Лейс, Жан-Огюст-Анри (1815—1869) – бельгийский исторический живописец.
(обратно)12
Парад – балаганная, шутовская, зачастую грубая сценка, бесплатно исполняемая ярмарочными шутами и комедиантами перед балаганом с целью привлечь внимание публики, дать ей возможность предвкусить представление, которое ей сулят, и понудить ее купить билет.
(обратно)13
Алкид – прозвище Геркулеса.
(обратно)14
Царица верховой езды (лат.).
(обратно)15
Гаргантюа– одно из главных действующих лиц романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», ненасытный обжора.
(обратно)16
вращающихся предметов (франц)
(обратно)17
Маренготтой называлась, собственно, повозка странствующего по провинции ярмарочного торговца, и лишь лет сорок тому назад название это стало применяться в переносном смысле к повозке комедиантов, которые называют ее иногда также «караваном», «своим углом». Прим. автора
(обратно)18
«Старый муж» и т. д. Песня Земфиры из поэмы «Цыганы» Пушкина. Ко времени написания «Братьев Земгано» имелось уже четыре перевода «Цыган» на французский язык (первый, анонимный перевод появился в 1828 г.); тем не менее цитату эту, по-видимому, указал Гонкуру И. С. Тургенев, писавший Флоберу 27 ноября 1878 г.: «Гонкур приезжал ко мне вчера за местным колоритом юга России, цыганскими именами и т. д.» (Е. Наlрerinе-Кaminskу, J. Tourgueneff d'apres sa correspondence. P– 1901, p. 115). Гонкур познакомился с Тургеневым еще в 1863 г., но особенно они сблизились в 1874 г., когда начались известные ежемесячные «обеды пяти» (Э. де-Гонкур. Тургенев, Золя, Доде и Флобер).
(обратно)19
Пяточная кость (лат.).
(обратно)20
Цыганском.
(обратно)21
Дорогой мой (итал.).
(обратно)22
Деянира (в греч, миф.) – жена Геркулеса, явившаяся косвенной причиной его смерти.
(обратно)23
Рябое, как Голландия, – т. е. как карта Голландии, изрезанной заливами и каналами.
(обратно)24
Турне – бельгийский городок близ французской границы.
(обратно)25
Шамбарьер (искалеченное цирковым жаргоном французское слово chambriere) – манежный бич.
(обратно)26
Астлей, Филипп (1742—1814) – знаменитый английский наездник, основатель цирка в Париже и театра в Лондоне, автор нескольких трудов о верховой езде.
(обратно)27
В английском цирке древесные опилки заменяют песок. Отсюда выражение, применяемое к людям этой профессии: родился в древесных опилках, и отсюда же своего рода поговорка, гласящая, что для старого клоуна запах опилок то же, что запах смолы для старого моряка. Прим. автора.
(обратно)28
Цирком императрицы был назван в 1853 г. Летний цирк в Елисейских Полях – в честь императрицы Евгении, супруги Наполеона III.
(обратно)29
А вот мы и снова пришли, всего ватагой. Как поживаете? (англ.)
(обратно)30
«Сердце-разоблачитель» – рассказ Эдгара По, американского поэта и новеллиста (1809—1849). Произведения По были переведены на французский язык Шарлем Бодлером и сначала появлялись в виде фельетонов в периодической прессе, а затем были собраны в отдельное пятитомное издание, вышедшее в 1875 году.
Творчеством По увлекался, по-видимому, весь кружок, в котором вращался Гонкур; А. Доде в «Trente ans de Pans» («Тридцать лет парижской жизни») упоминает о другом рассказе По «La barrique d'Amontillado» («Бочонок амонтильядо»).
В «Дневнике» Гонкура находим следующую запись от 15 мая 1881 г.: «Я писатель совсем другой школы, и все же из всех современных авторов я предпочитаю Генриха Гейне и По. Я считаю, что все мы приказчики по сравнению с воображением этих двух писателей» (Nous tous, je nous trouve commis voyageurs a cote de сев deux imaginations»).
(обратно)31
«Сон в летнюю ночь» – феерическая комедия Шекспира.
(обратно)32
Шере, Жюль (род. 1836) – известный французский рисовальщик, создавший в 1860-х годах тип современных цветных иллюстрированных афиш и плакатов.
(обратно)33
Надевать ливрейные униформы… По издавна установившейся в цирке традиции артисты обязаны до и после своего номера находиться на арене: подавать реквизит, убирать дорожку, «пассировать» (т. е. регулировать ход коня, держать обручи, расставлять препятствия) и т. п. При этом артисты надевают «униформы», т. е. форменный ливрейный костюм, в котором стоят шталмейстеры и конюхи.
(обратно)34
Самостоятельное упражнение, которое они должны были исполнять соло. Прим. автора.
(обратно)35
Матушка Жигонь – персонаж театра марионеток; обычно изображается с кучей ребятишек вылезающих из-под ее юбок.
(обратно)36
Наездник-любитель, владелец собственной лошади, в отличие от профессионального жокея (англ.).
(обратно)37
Франкони, Антуан (1738—1836) – знаменитый французский наездник, уроженец Венеции.
(обратно)38
Навязчивая идея (франц.).
(обратно)39
Леотар(1838—1861) – знаменитый французский гимнаст, впервые введший в цирковую программу воздушные полеты с трапеции на трапецию.
(обратно)40
Малый Трианон – миниатюрный дворец в Версале, построенный при Людовике XV.
(обратно)41
Блеском (итал.).
(обратно)42
В четвертую долю листа (лат.)
(обратно)43
Туккаро, Арканджело (1535 – ок. 1605) – итальянский акробат. Он выступил в Мезьере во время увеселений по случаю бракосочетания французского короля Карла IX и Изабеллы, дочери германского императора, и так понравился молодому королю, что тот увез его с собою в Париж и стал брать у него уроки акробатики После смерти Карла IX Туккаро оставался при дворе его преемников – Генриха III и Генриха IV. Последнему он посвятил свое сочинение, упоминаемое Гонкуром. Кроме «Диалогов», им написана небольшая поэма на итальянском языке «Presa e it giudizio d'amore» (Париж, 1602).
(обратно)44
Эмпуза– мифологическое существо с ослиными ногами, высасывающее по ночам кровь у спящих.
(обратно)45
De projundis– 129-й псалом, читаемый во время католических заупокойных богослужений («Из глубины взываю к тебе. господи»).
(обратно)46
Золотоискатель (англ.).
(обратно)47
Ханжество, лицемерие (англ.)
(обратно)48
Шляпа а lа Рубенс – круглая мягкая, широкополая шляпа
(обратно)49
О, да! (англ.).
(обратно)50
Площадь Рокет в Париже. На этой площади находится одна из самых суровых французских тюрем, предназначенная для преступников, осужденных на долгие сроки. Здесь же содержатся приговоренные к смерти; во второй половине XIX века казни совершались на дворе этой тюрьмы.
(обратно)51
«Антракт» – старейшая французская театральная ежедневная газета (с либретто), основанная в 1831 году.
(обратно)52
Непривлекательное (англ.)
(обратно)53
Исполнительница знаменитого аттракциона (англ.).
(обратно)54
Очень хорошо, очень хорошо! (англ.).
(обратно)55
Дафна (в греч. миф.) – нимфа, спасшаяся от преследований Аполлона тем, что превратилась в лавр.
(обратно)56
Доктор Бартез, Жюль-Жозеф (1731—1806) – знаменитый французский врач, друг д'Аламбера, один из авторов «Энциклопедии», написал несколько научных трудов, в том числе «Новейшую механику движений человека и животных» (1798).
(обратно)57
Термин итальянской комедии масок, означающий: шутка, выходка, «фортель».
(обратно)58
ДебюроЖан-Батист-Гаспар (179С – 1846) – известный французский акробат.
(обратно)59
Батуд – род трамплина, «состоит из дощатого ската до двадцати метров длиной, который, спускаясь, примерно, с высоты пяти-шести метров и доходя почти до поверхности грунта, резко подымается. образуя угол в 45° В конце трек опирается на чувствительный эластический брусок, который при отдаче, соединяющейся с инерцией от разбега тела, сообщает последнему исключительно мощный посыл. О степени динамики можно судить по тому, что при большом батуде предохранительный матрац достигал одного метра в толщину и что падение мимо матраца обычно приводило к смертельному исходу» (Е. М. Кузнецов. Цирк. Academia. М. – Л., 1931. стр. 98).
(обратно)60
Ориоль, Жан-Батист (1808 – ?) – знаменитый французский клоун, работавший сначала в провинции, а с 1834 г. в Париже, где вскоре приобрел громкую славу. Ориоль отличался исключительной разносторонностью, – он был акробатом, клоуном, эквилибристом, наездником, жонглером. Прыжок в туфли был одним из его коронных номеров.
(обратно)61
Мост Нейи. Нейи-сюр-Сен – пригород Парижа, примыкающий к Булонскому лесу. Каменный мост Нейи, перекинутый через Сену, является художественным памятником XVIII века.
(обратно)

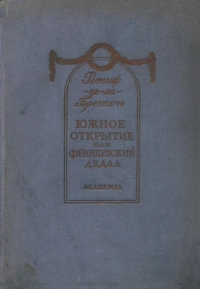
Комментарии к книге «Братья Земгано», Эдмон Гонкур
Всего 0 комментариев