Лион Фейхтвангер ЛИСЫ В ВИНОГРАДНИКЕ
Не говорите мне о «судьбе». Политика — вот что такое судьба.
НАПОЛЕОНСамо понятие судьбы, понятие «шикзаля» — предрассудок, ерунда…
СТАЛИНХудожественное изображение истории более научно и более верно, чем точное историческое описание. Поэтическое искусство проникает в самую суть дела, в то время как точный отчет дает только перечень подробностей.
АРИСТОТЕЛЬМы хотим взять из прошлого огонь, а не пепел.
ЖАН ЖОРЕСВступление
Начинается роман «Лисы в винограднике», названный также «Оружие для Америки».
В нем повествуется об остроумном безумии, хитрой глупости и благовоспитаннейшей испорченности гибнущего общества.
Вы найдете здесь очаровательных женщин, блистательных, ветреных мужчин, ум в сочетании с пустой душой и большую душу в сочетании с неумелой рукою,
и великого человека среди дураков,
и театр, и политику, и вражду, и похоть, и дружбу, и флирт, и дела, и любовь,
и вечно неизменное в непрестанной перемене.
Вы найдете также в этой книге людей, которые верят, что законы бытия можно познавать все больше и больше
и что, приспособляясь к этим законам, можно все больше и больше одухотворять мир.
Кроме того, роман расскажет о той борьбе людей, идей и понятий, которая разгорается вокруг экономического переворота.
Эта книга не преминет поведать и о слепоте человеческой к историческому прогрессу,
и о той нерасторжимой связи, которой все и все связаны между собой, но которую видят только немногие,
и о вере в медленный, медленный, но верный рост человеческого разума между последним ледниковым периодом и тем, что наступит.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ «ОРУЖИЕ ДЛЯ АМЕРИКИ»
1. Бомарше
Дорога из Версаля в Париж шла по чудесной, зеленой местности. Утром лил дождь, но сейчас тучи рассеялись, показалось солнце, и Пьер наслаждался влажной свежестью прекрасного майского дня.
Еще вчера, возвращаясь из Лондона, он был полон сомнений, он боялся, что из-за перемен в кабинете все его дело, которое он так тщательно продумал и с таким трудом продвигал, пойдет прахом. Подобные неудачи на него уже сваливались. Но на этот раз все сошло хорошо. Долгий, откровенный разговор с министром показал, что Версаль клюнул на его предложения. Граф Вержен проявил к планам Пьера интерес гораздо более глубокий, чем можно было предположить на основании сдержанных и осторожных писем графа. Обещания, которые ему дало сегодня правительство, превзошли все его надежды; большое дело было почти сделано.
Карета Пьера подъехала к перекрестку, откуда шла дорога в Кламар. Пьер приказал кучеру ехать медленнее. Он откинулся на спинку сиденья и, слегка улыбаясь, стал размышлять о том, чего он добился.
Пьер Карон де Бомарше провел последнее время в Лондоне в качестве тайного агента французского правительства. Дела, поручавшиеся этому ловкому, проворному человеку, были темные, грязноватые, не первой важности. Занимая весьма небольшую часть его времени, они оставляли ему досуг для более значительных проектов.
С той самой поры, как между королем Англии Георгом Третьим и его американскими колониями пошла распря, Пьер Карон де Бомарше со всей страстью стал на сторону американцев, на сторону мятежников. Подобно многим другим интеллигентам Парижа и даже Лондона, он приветствовал «бостонцев», «инсургентов», как людей, борющихся за осуществление великих идеи французских и английских философов. Эти люди были полны решимости вести простую, близкую к природе жизнь, отказавшись от того изуродованного условностями, предрассудками и деспотическим произволом существования, которое влачили в Лондоне и Париже. Люди Нового Света желали построить свой государственный уклад на основе свободы, разума, близости к природе. И этих-то людей английский король хотел заставить огнем и мечом отказаться от их благородных намерений.
Пьер был всей душой за американцев, их делу он помогал не только словом, но и действием. Во всех кругах лондонского общества к нему относились доброжелательно, он дружил с вождями консерваторов и либералов, у него была возможность узнавать самые разнообразные подробности конфликта с колониями. Он собрал богатый материал, привел его в систему, сделал выводы и, хотя никаких поручений на этот счет никто ему не давал, посылал Людовику Шестнадцатому и его министрам донесения, отличавшиеся знанием дела, ясностью, дальновидностью. Вспоминая сегодня эти свои отчеты, Пьер был вправе гордиться собою: он, никем на то не уполномоченный тайный агент, с самого начала разглядел существо англо-американского конфликта лучше, чем официальный королевский посланник. События подтвердили его предсказания.
Вывод же, заключавший все его доклады версальскому кабинету, представлял собой настоятельное требование ослабить Англию, оказав поддержку повстанцам. Конфликт англичан с колониями давал Франции единственную возможность избавиться от унизительного мира, навязанного ей Англией двенадцать лет назад.
Пьеру, конечно, было известно, что французское правительство не выступит открыто на стороне американских мятежников. Это означало бы войну с Англией, а для такой войны ни флот, ни армия не были еще достаточно сильны, не говоря уже о жалком состоянии финансов. Но Пьер знал, как выйти из трудного положения.
Он удовлетворенно улыбнулся. Он писал отчеты и давал советы, искренне стремясь помочь американцам отстоять дело свободы и разума. Но порой идеальные побуждения приносили и материальную выгоду. Кто считает, что поживиться на правом деле предосудительно, — дурак. Он, Пьер, не дурак. Чутьем искушенного дельца и привыкшего к интригам политического агента он сразу почувствовал, что борьба за свободу, если ее надлежащим образом направить, принесет не только духовную, но и материальную пользу.
Итак, понимая, что Франция еще не может позволить себе военный конфликт с Англией, Пьер хотел склонить французское правительство к тому, чтобы оно поначалу тайно поддерживало американцев, никак себя этим не компрометируя. Пусть частные лица, коммерсанты, поставляют инсургентам оружие и все необходимое — с виду на свой страх и риск, но втайне субсидируемые и всячески поощряемые французским правительством.
После долгой неопределенности, после того как он уже отчаялся увлечь министра иностранных дел графа Вержена своим планом, расчеты Пьера наконец оправдались. Сегодня министр решился, сегодня он поручил Пьеру организовать предприятие в точности так, как тот предлагал. Снабжая инсургентов оружием и прочими материалами, Пьер может отныне аттестовать себя Тайным Уполномоченным французского короля.
Он был доволен собой. Он ловко провел нелегкую беседу с министром, он достойно увенчал все свои хитроумные приготовления.
Да, повстанцы нуждались во многом. Снаряжение их было поистине жалким, производительность их убогих фабрик — ничтожной. А нужно было полностью экипировать тридцать тысяч солдат. Министр спросил Пьера, действительно ли он и его деловые друзья способны поставить и перевезти за океан такое обилие товаров.
— Да, да, да, — ответил Пьер, ответил решительно и сразу, но тут же добавил: — Конечно, при условии, если королевский арсенал даст нам оружие по льготной цене и если нас не будут ограничивать в финансах.
Граф Вержен сказал, что свяжется с военным министром, а затем перешел к самому щекотливому пункту. Он спросил Пьера, каковы размеры правительственной субсидии, на которую тот рассчитывает.
Пьер уже заранее решил, что возьмется за это предприятие, если получит от правительства субсидию не меньше чем в миллион ливров. Но сейчас, когда министр собирался доверить ему огромные поставки, он понял, что до сих пор весь этот план был для него только игрой, и вместе с восторгом перед большой и почетной задачей его охватил страх: под силу ли его финансам и его кредиту такое гигантское предприятие. Миллион ливров — основа до смешного ничтожная, когда речь идет об экипировке тридцатитысячной армии. По если попросить больше, если попросить слишком много, тогда, может быть, все пойдет насмарку.
Глядя с напускным спокойствием в выжидательно улыбавшееся лицо министра, он лихорадочно думал, какую сумму назвать.
— Я полагаю, — сказал он, — что трех миллионов хватит.
Последовала небольшая пауза, во время которой они смотрели друг на друга.
«Сейчас решается судьба Америки и моя», — думал Пьер.
— Мы можем обещать вам два миллиона, — сказал наконец министр. — Один миллион дадим мы, второй добудем вам у испанцев.
Почти оглушенный этим невероятным успехом, Пьер возвращался теперь в Париж в сиянии великолепного майского дня. Карета, в которой он ехал по прекрасной зеленой местности, была, пожалуй, слишком роскошна, спереди восседали кучер в богатой ливрее и грум-арапчонок, сзади — с дурацкой важностью, одетый в еще более богатую ливрею, пялил глаза лакей. Да и у самого Пьера, в сверхмодном костюме и с огромным брильянтом на пальце, вид был донельзя роскошный.
Он имел полное право устать. Эти последние дни были очень утомительны: ликвидация дел в Лондоне, спешка в пути, разговор с министром. Но Пьер не давал себе поблажек. Несмотря на склонность к полноте, он в свои сорок четыре года производил впечатление молодого человека, ему вполне можно было дать тридцать пять. Мясистое лицо его было румяно, слегка покатый лоб чист, карие глаза глядели выразительно и умно, под острым, прямым носом улыбались полные, красиво очерченные губы. Мягкий подбородок, разделенный ямкой, и маленький второй подбородок, выступавший из воротника дорогого кафтана, придавали его хитрому лицу добродушное выражение.
Проезжали Исси, и чем ближе был Париж, тем быстрее работали мысли в голове Пьера.
Фирма, которую он собирается основать, должна позаботиться и о внешней представительности. Его контора на улице Вьей-дю-Тампль, Отель-де-Голланд, — здание и без того ветхое, за время его пребывания в Лондоне пришло в полное запустение. Он его перестроит и обставит заново. Сразу же ему пришло в голову и название будущей фирмы. Он возьмет испанское имя, он любит Испанию, Испания всегда приносила ему счастье, он назовет фирму «Родриго Горталес». Он усмехнулся: отныне он, значит, сеньор Родриго Горталес. На должность управляющего он пригласит, конечно, Поля Тевено. Правда, Поль очень молод, и к тому же он человек больной. Но Поль испытан уже не раз и не два, он предан ему, Пьеру, он глядит на него, Пьера, с восхищением, он посвящен в его запутанные финансовые комбинации и сложные секреты, он очень талантлив, он обладает способностью наводить порядок там, где ему, Пьеру, уже не разобраться.
Два миллиона ливров — это звучит внушительно. Но дело идет об экипировке тридцатитысячного войска и о судах, которые должны доставить в Америку эту гору грузов. Просто счастье, что, торгуя лесом, он установил прекрасные отношения с крупнейшими судовладельцами. Как бы то ни было, свой кредит ему придется расширить до предела. Миллионов пять-шесть придется вложить в дело сразу же. Но когда еще да как еще заплатят американцы? На мгновение он почувствовал озноб. Он затеял очень большую игру. Но он тотчас же совладал с собой. Как бы ни обернулось дело, торговать мировой историей заманчивее, чем торговать лесом.
Жаль только, что все предстоит делать втайне. Ему хочется говорить, ему хочется прокричать на весь мир, какую задачу на него возложили. Но Вержен настоятельно просил его молчать. Всеми средствами нужно поддерживать видимость частного предприятия, ведущего самые невинные дела на свои собственные средства. Англичане и без того создадут сотни трудностей, они засыплют нотами министра иностранных дел. Если Пьер допустит неосторожность, ему нечего рассчитывать на заступничество Версаля, напротив, тогда его беспощадно бросят на произвол судьбы; министр, обычно весьма вежливый, разъяснил ему это до невежливости деловито и сухо. Значит, о своей всемирной миссии Пьеру нельзя говорить ни с кем, кроме нескольких деловых друзей и нескольких старших служащих. Он вынужден будет сносить вражду и насмешки в качестве какого-то там мосье де Бомарше и не сможет даже заткнуть рот насмешникам и недоброжелателям, раскрыв перед ними свои козыри.
Но эти неприятные соображения сразу исчезли при мысли о той огромной роли, которая выпала на его долю. Любому ясно, что без помощи Франции восставшие американцы пропадут. И вот он, он один, Пьер де Бомарше, благодаря своему усердию, своей страстности, своему красноречию, своему знанию людей, своей гибкости добился от бесхарактерного короля Людовика, от его тщеславных министров принципиального согласия на эту помощь. И только от его ловкости зависит теперь, получат ли американцы обещанное подкрепление, а если получат, то в каком размере. Судьба Нового мира, прогресс человечества зависят от его, Пьера, хитрости и ума.
Воображение быстро рисовало ему будущее. Он видел в складах французских портов непрестанно растущие штабеля ружей и горы мундиров, видел пузатые суда фирмы «Горталес и Компания», видел, как они уходят в море, груженные пушками для повстанцев, видел, как возвращаются, груженные индиго и табаком, — для него, Пьера. Он заранее наслаждался успехом своего плана. Да, предприятие, которое он затеял, — это та высокая задача, о которой он давно мечтал, задача, достойная Бомарше.
Он справится со своей задачей. Он обделывал дела, может быть, и не столь важные, но еще более трудные. И в то время, как с каждым оборотом колес он приближался к своему городу Парижу и к своей новой, захватывающей дух деятельности, в памяти его быстрой чередой проносились пережитые злоключения и радости.
Позади у него было множество невероятных неудач, но зато еще большее множество головокружительных успехов. Он, сын и подмастерье часовщика, заводил во дворце часы покойного его величества Людовика Пятнадцатого и сумел смышленостью и приятными манерами обратить на себя внимание старого короля. Он пришелся по душе немолодым королевским дочерям, и они назначили его своим учителем игры на арфе. Умный, капризный Дюверни, финансист, прошедший огонь и воду, заметил Пьера, посвятил его в махинации высокой финансовой политики и сделал своим компаньоном. Сметливый, проворный, наделенный светскими талантами и даром плести интриги, Пьер успешно повел дела фирмы Дюверни и свои собственные, купил титулы и придворные должности, стал процветать, снискал дружбу многих мужчин и любовь многих женщин, а своим живым, дерзким, острым, несдержанным языком нажил себе и немало врагов.
Потом были две его первые пьесы, он писал их между любовью и делами, что называется — левой рукой, но, пока он писал, левая рука его превращалась в правую. А потом были две его женитьбы, обе счастливые, обе жены были красивы и богаты, но обе скоро умерли, и остались от них лишь Шпионский лес, крупная лесоторговля, в которую он вложил часть их Денег, и поток клеветы.
А потом умер Дюверни, великий финансист, уважаемый учитель Пьера, и жизнь Пьера стала еще беспорядочней, сумбурней. Его втянули в гнуснейшие судебные процессы, волна лжи начисто поглотила его состояние, бросила его в тюрьму, отняла дорогостоящие должности и титулы, лишила гражданских прав.
Но эта несправедливость оказалась для него благом. Эта несправедливость оказалась толчком, побудившим его написать блестящие, остроумнейшие политические брошюры. А эти брошюры еще больше, чем комедия о севильском цирюльнике Фигаро, распространили его славу по всему миру.
Полемические сочинения принесли ему также дружбу многих высокопоставленных лиц, и, так как после его процесса государственные должности были для него закрыты, один из этих друзей устроил его в секретную службу короля. Он стал снова карабкаться вверх и наконец достиг высочайшей вершины — миссии, которую ему сегодня доверили.
Да, сегодняшний день был поворотным, он давал возможность окончательно разделаться с недобрым прошлым, нет-нет да вторгавшимся в его теперешнюю жизнь. Наконец-то будет покончено с вопиющей несправедливостью того процесса и приговора.
Ибо нелепый приговор, который вынес тогда парижский Верховный суд, все еще сохраняет силу. Он, Пьер, едущий сейчас в своей роскошной карете в свой город Париж, Пьер, одетый в дорогой костюм и облеченный величайшим довернем правительства его величества, он, призванный решить труднейшую задачу, стоящую ныне перед Францией, больше того — перед мировой историей, — он по приговору суда все еще лишен почетных прав, он не «оправдан», на нем «пятно». Так больше продолжаться не может, решает Пьер. Он заставит кабинет дать указание о пересмотре дела и восстановить его, Пьера, во всех правах. Если правительство этого не сделает, пусть поищет другого для своих интриг. Другого эти господа не найдут. Дело, которое задумал Бомарше, может довести до конца только Бомарше.
Наконец карета въехала в Париж. Быстрым счастливым взглядом окидывал он людей и дома. Всегда, возвращаясь в Париж, Пьер был горд от сознания, что он сын этого самого великого и самого красивого города в мире. Но никогда еще не испытывал он такой безудержной радости, как сегодня. Ни одна вершина не сияла еще перед ним так, как его новая цель.
Вот он едет, Пьер Карон де Бомарше, великий политик, делец, драматург. Он благодушен, временами даже великодушен и благороден, но сколько фиглярства в его безграничном, смешном тщеславии. Он быстро и уверенно судит о людях и явлениях и никогда не заглядывает в них глубоко. Он блестящий писатель и интересный собеседник, он бывает захватывающе патетичен и беспощадно остроумен. Он очень умен и совсем не мудр. Он жаден до наслаждений, но умеет мужественно сносить лишения и горе. Он восприимчив ко всем великим идеям своего времени, даже если они друг другу противоречат. Одни называют его знаменитым, другие — пресловутым. Где бы он ни был, вокруг него — зависть, злость, чьи-то задетые интересы, и все это атакует его оружием, подчас отравленным. Но бессчетное число людей, мужчин и женщин, и притом никак не самых худших, дружны с ним, а есть и такие, которые любят его и готовы всем для него пожертвовать.
Он многое пережил, он до краев полон прошедшим, но он не зазнался, и сегодня, в свои сорок четыре года, он так же жадно и любопытно смотрит вперед, как в шестнадцать лет, когда бросил ученье у отца и стал слоняться по парижским улицам. Любому событию и переживанию он по-прежнему отдается всем существом. Он не скупится. Он щедро расточает свое время, свои деньги, свой талант, свою жизнь.
Карета достигла уже многолюдных улиц городского центра. Пьер еще горделивее распрямляет плечи и принимает изящную позу. Половина Парижа его знает, каждый десятый с ним раскланивается. Он уверен, что множество людей глядят ему вслед и говорят друг другу: «Это мосье де Бомарше, великий финансист, великий писатель, причастный ко всем делам государства». А ведь они даже не подозревают, какой новой, необычайной миссией, всему миру на благо, он облечен. Жаль, трижды жаль, что он не может ничего рассказать своим парижанам.
Увы, и сестрам нельзя ничего рассказать, и отцу. Они привязаны к нему, Пьеру, и он привязан к ним, но они слишком горячи, слишком темпераментны, они не смогут сохранить тайну.
Сейчас он их увидит, сейчас они окружат его, — нежные, любопытные, озабоченные, надеющиеся, любящие. Он улыбается еще шире, его красивое, умное, румяное лицо светится радостью, когда карета въезжает в пеструю, шумную улицу Конде, улицу, где находится его дом.
Ужин прошел весело. Слух о возвращении Пьера из Лондона успел уже распространиться, и, кроме домашних, собрались родственники и близкие друзья. Приятели Пьера всегда были в его доме желанными гостями; Жюли, сестра и домоправительница Пьера, отличалась широким гостеприимством.
Они сидели в просторной, щедро освещенной свечами столовой, слуги то и дело вносили блюда; в кухне и в погребе дома на улице Конде всего было вдоволь.
Здесь собрались только самые близкие. Семья Каронов была шумная, веселая, любопытная; настроение Пьера, сегодня особенно радостного, всех заразило. Кароны любовались своим Пьером, который по числу вызываемых им пересудов был вторым после королевы лицом в стране. И вот сразу же по возвращении из Лондона он был принят в Версале. Конечно же, он затеял что-то грандиозное, что-то потрясающее. Но когда его спрашивали, он только ухмылялся.
— Да, Жюли, — отвечал он, — если ты хочешь завести еще одну карету или нанять еще нескольких слуг, то почему бы тебе этого не сделать?
Большего от него не удавалось добиться. Зато он много рассказывал о своем пребывании в Лондоне. Климат в том краю отвратительный, но женщинам он идет на пользу, он делает их кожу белой и нежной; а рыжеволосые, которых там немало, очень пикантны. И, нимало не смущаясь присутствием пятнадцатилетнего племянника Фелисьена, он принялся повествовать о своих любовных приключениях.
Жюли ловила каждое слово Пьера. Живая, приятная сорокалетняя дама, она была похожа на брата, у нее было такое же румяное лицо, такой же прямой большой нос, такие же умные карие глаза. Она боготворила брата и ради того, чтобы жить вместе с ним, отвергла множество женихов. Она вмешивалась во все его дела. Между ними часто вспыхивали ссоры, оканчивавшиеся в тот же день страстным примирением. Обоим доставляло удовольствие ссориться и мириться.
Тонтон, младшая сестра, еще более красивая, чем Жюли, сидела рядом со своим мужем, молчаливым советником юстиции де Мироном, и без умолку болтала. Ей хотелось, говорила она, сшить себе платье у мадемуазель Бертен, портнихи королевы. Но мадемуазель Бертен велела ей передать, что раньше чем через два месяца не сможет принять заказ и что самая низкая плата, которую она берет с дамы, не представленной ко двору, — две тысячи ливров за модель.
Тут наконец заговорил Филипп Гюден,[1] ученый, вернейший среди верных друзей Пьера. Филипп очень любил изысканные, обстоятельные фразы. Этот дородный господин, любитель поесть, расстегнул панталоны под длинным широким кафтаном и заправил в рукава кружевные манжеты, чтобы они не мешали ему во время еды. Он развалился в кресле, заполнив его собою, и разглагольствовал о жизненном уровне различных сословий. Приводя по памяти точные цифры, он рассуждал, как можно израсходовать две тысячи ливров, которые берет за модель платья мадемуазель Бертен. С удивительной точностью он подсчитал в уме, сколько лет нужно проработать лесорубу, чтобы заработать эту сумму, и сколько лесорубов могли бы прожить на нее в течение года. Получалось семь целых и девять шестнадцатых лесоруба. Однако Пьер, со свойственным ему легкомыслием и миролюбием, заметил:
— Мадемуазель Бертен первая модистка мира и, может быть, величайшая художница всех времен. Почему же она должна сбивать себе цену? Знаешь что, Тонтон, закажи платье на мой счет.
Тонтон, просияв, стала бурно благодарить брата.
Секретарь Мегрон доложил, что привратник насчитал свыше ста визитеров, явившихся в этот день по случаю возвращения мосье де Бомарше.
— Да, — сказал старый папаша Карон, голос у него был высокий, но не стариковский, все зубы у него — были еще целы, — город заметил, что наш Пьер вернулся.
С чуть насмешливой, но очень довольной улыбкой Пьер похлопал отца по плечу. Быстро пронюхали, что он идет в гору, сразу примчались. Но ему не хотелось быть несправедливым. Они ведь приходили и тогда, когда ему не везло; им восхищались и в счастливые и в несчастливые дни.
Пьер всегда знал об этом восхищении и знал, что такое восхищение обязывает. Все его дела на виду, и поэтому малейшее пятнышко заметно. Он не имеет нрава допустить оплошность, ему всегда надо быть начеку, чтобы снова и снова убеждать маловеров.
Вот, например, юный Фелисьен Лепин, сын его старшей сестры Мадлен. Когда родители Фелисьена умерли, Пьер взял на себя воспитание мальчика и определил его в аристократический коллеж Монтегю. Режим в коллеже был строгий, программа обширная, и, хотя Фелисьен не был тупицей, учиться этому медлительному, тяжелому на подъем мальчику было нелегко. Еще труднее давалась ему обязательная в коллеже придворная наука — фехтованье, верховая езда, танцы и этикет. Товарищи-аристократы не упускали случая попрекнуть его тем, что он сын часовщика-буржуа Лепина; изводили Фелисьена также злобными шутками насчет грязных делишек его дядюшки Пьера. Фелисьен никогда не жаловался, но он страдал. В пятнадцать лет в нем не было ничего мальчишеского; он был тяжеловеснее и задумчивее остальных Каронов, серьезнее и взрослее, чем сорокачетырехлетний Пьер. Разумеется, он был признателен знаменитому дяде за его благодеяния. И хотя Пьер легко находил общий язык с детьми, Фелисьен оставался ему чужим. Пьеру не удавалось завоевать доверие племянника. Фелисьен внимательно наблюдал за всеми делами Пьера, но Пьеру было неясно, что означает это внимание — восхищение или критику. Сегодня он снова испытывал неловкость, встречая взгляд больших серьезных глаз мальчика.
Он отвел глаза и посмотрел на другой конец стола, где сидел Поль Тевено. Он улыбнулся Полю, и тот ответил ему счастливой улыбкой. Привязанность Поля была особенно приятна Пьеру после легкого разочарования, которое он всегда испытывал при виде Фелисьена. Пьер был горд, что нашел такого человека. Судьба сначала свела их как врагов, во времена, когда у Пьера была жестокая распря с братом Поля; но Пьер быстро завоевал дружбу и восхищение молодого человека.
Наружностью Поль не блистал. Вид у него был весьма жалкий. Сюртук на нем висел; он подносил еду ко рту неверными движениями маленьких костлявых рук. Но над опущенными плечами очень молодо и красиво возвышалось его полное лицо с большими сияющими карими глазами. Он был незаменим, этот юноша, он был чертовски умен. Какая жалость, что у него больная гортань и дни его сочтены, хотя ему всего двадцать шесть лет.
Между тем разговор коснулся одной только что вышедшей книги о Вест-Индии, и всезнайка Филипп Гюден пустился в ученое рассуждение о важной роли этих островов в экономике королевства. Он по памяти приводил цифры, называл количества ввозимого оттуда сахара, табака, индиго, хлопка, какао, перца, кофе, и цифры эти звучали весьма внушительно.
— Если бы меня послушались, — вмешался Пьер, — эти владения принесли бы и совсем другие выгоды. Я однажды составил проект, который мог обеспечить нам отличную монополию, монополию торговли неграми. Если бы Версаль монополизировал вест-индскую работорговлю, как я предлагал, денег в государственной казне было бы предостаточно, король смог бы провести прогрессивные реформы Тюрго, и в стране было бы больше справедливости и свободы. — «И больше денег для Америки», — подумал он про себя. Вслух он сказал: — Когда новый торговый договор с Испанией будет наконец подготовлен, тогда, наверно, еще вспомнят о моем проекте.
Теперь все заговорили об Испании. Месяцы, проведенные Пьером в Мадриде, были лучшими в его жизни. Это было бурное, сумасшедшее время. Из множества сцен, делавших его жизнь столь драматичной, самой великолепной, пожалуй, была та, в которой он заставил соблазнителя своей сестры Лизетты, коварного труса Клавиго,[2] восстановить ее честь. Да, Пьер превратил свою мадридскую жизнь в сложный, увлекательный спектакль, полный страсти, остроумия, музыки, денег, большой политики, стихов, театра и красивых, доступных женщин. При этом, будучи примерным семьянином, он находил еще время подробно писать обо всем отцу и сестрам, писать со смаком, настолько ярко и увлекательно, что те переживали вместе с ним каждое событие. Теперь, когда он снова возвратился из продолжительной и успешной поездки, они цитировали эти старые письма, наперебой припоминали подробности, смеялись, блаженствовали.
Жюли попросила его спеть для Фелисьена несколько испанских песен, сегедилий и сайнете, другие тоже стали осаждать его просьбами. Фелисьен оживился, для него было праздником послушать пение дяди. Принесли гитару.
Но не успел Пьер начать, как пришел еще один гость, мосье Ленорман д'Этьоль.
Все поднялись ему навстречу, довольные и польщенные. Мосье Ленорман приветствовал Жюли с медлительно-церемонным изяществом. Одет он был очень тщательно, в его дорогом, но не бросавшемся в глаза костюме было что-то старомодное, — мосье Ленормана не смущало, что одежда подчеркивает его шестьдесят лет.
Ленормана представили тем из гостей, с кем он не был знаком. Тонтон с особым любопытством разглядывала этого могущественного человека, о котором она столько слышала и который был другом ее брата Пьера. Мосье Ленорман был тучноват. Маленькие, глубоко сидящие глаза на мясистом лице глядели меланхолически, от носа к углам полного рта тянулись глубокие складки. Это было лицо любителя удовольствий, пережившего разочарования и ставшего поэтому недоверчивым и все же не собиравшегося отказываться от радостей жизни.
Еще из Лондона Пьер написал мосье Ленорману, что возвращается по очень важным делам в Париж и будет рад увидеть его, Шарло, как можно скорее. В глубине души Пьер надеялся, что Ленорман придет в первый же вечер, но не решался признаться себе в этой надежде; случалось, что Ленорман заставлял ждать, и не один день, самого премьер-министра. То, что он пришел к нему сразу же, было для Пьера самым лучшим венцом счастливого дня.
Шестидесятилетний Шарль-Гийом Ленорман д'Этьоль происходил из старинного дворянского рода, ему ничего не стоило получить любую придворную должность и любой самый высокий титул. Но он предпочитал, чтобы в обществе поменьше о нем говорили, и довольствовался скромным званием «королевского секретаря»; Пьер, еще до того как лишился почетных прав, приобрел вдобавок к этому титулу несколько более звонких. У Ленормана был откуп на налоги с двух провинций, кроме того, он участвовал в различных других предприятиях. Он слыл необыкновенно умным и осмотрительным человеком, его удачливость вошла в поговорку, он любил деловой мир. Ленорман принадлежал к старинному дворянскому роду, ему было не к лицу заниматься промышленной и коммерческой деятельностью, поэтому он обычно прибегал к помощи подставных лиц; в деловой контакт с Пьером он всегда вступал с удовольствием.
С этим влиятельным человеком Пьер познакомился в доме своей приятельницы Дезире Менар. Пьер прекрасно понимал, что поначалу Ленорман искал его дружбы только потому, что был влюблен в Дезире и боялся, как бы Пьер не стал ему поперек дороги. Но постепенно они прониклись друг к другу симпатией, их знакомство переросло в настоящую дружбу, они называли друг друга Шарло и Пьеро. Бомарше восхищался деловым гением Ленормана и постоянно обращался к нему за советом, а Ленорман радовался смышлености своего ученика. Он помогал Пьеру в самые тяжкие времена, и это он, Ленорман, благодаря своим связям о премьер-министром добыл Пьеру место тайного агента в Лондоне, когда тот в результате громкого процесса лишился состояния и должностей.
Ленорман, в свою очередь, ценил светские таланты Пьера, его живость, его остроумие, его умение схватывать все на лету, его литературную деятельность и, не менее всего прочего, — его глубокое знание театра. На домашней сцене Ленормана, в замке Этьоль, спектакли устраивались по всем правилам, и без советов и сотрудничества Пьера нельзя было обойтись.
Жюли усадила мосье Ленормана за стол, захлопотала, стала угощать его конфетами и вином. Он учтиво грыз имбирь в сахаре, в то время как собравшиеся продолжали говорить об Испании. Желая угодить Пьеру, Филипп Гюден напомнил ему о его обещании спеть для Фелисьена несколько испанских песен.
Но с приходом Ленормана Испания для Пьера перестала существовать, он думал теперь только об Америке. Он рассчитывал на участие Шарло в фирме «Горталес и Компания», ему нужны были пять-шесть миллионов ливров, он нуждался в помощи Шарло, а уж если в деле будет доля мосье Ленормана, остальные пайщики появятся сами собой. Вот почему Пьеру не терпелось узнать, что скажет Шарло по поводу его грандиозных замыслов, вот почему ему не терпелось с ним поделиться. Человек настроения, Пьер хотел поговорить с ним как можно скорее, немедленно, сию же минуту.
Любезно, но со всею решительностью пообещав собравшимся спеть в другой раз, он попросил у Жюли разрешения встать из-за стола и вместе с Ленорманом, Полем Тевено и секретарем Мегроном удалился в свой кабинет.
В кабинете зажгли свечи, и из темноты медленно выступили контуры просторной, роскошно убранной комнаты. По углам стояли бюсты Аристофана, Мольера, Вольтера и хозяина дома. На стенах висели картины и всяческие украшения, но посредине оставался большой голый простенок. Это место сохранялось для великолепного портрета покойного Дюверни, написанного известнейшим портретистом Дюплесси. Дюверни завещал портрет Пьеру, но на этом злосчастном процессе завещание оспорили, и картина была присуждена другим наследникам. Пьер дал себе слово во что бы то ни стало добиться своей части наследства, и голое пятно в роскошной комнате служило ему постоянным напоминанием об этом решении.
Шарло, по просьбе Пьера, сел за письменный стол. Стол этот представлял собой могучее, затейливо украшенное сооружение. Он был сделан мастером Плювине из благородного, редкого дерева, выписанного для этой цели из-за океана, резьбу выполнил Дюпен, и стол был если не самым красивым, то, уж во всяком случае, самым дорогим в королевстве.
Итак, их было четверо. Шарло сидел за письменным столом, глубоко запавшие глаза его были полузакрыты. Секретарь Мегрон вооружился бумагой и карандашом — новомодной письменной принадлежностью, которую Ленорман терпеть не мог, потому что считал ее плебейской. Мегрон был уже много лет личным секретарем Пьера. Рассказа Пьера он, конечно, ждал с интересом. Но Мегрон был молчалив, он редко высказывал свое мнение, от оценок же и вовсе воздерживался, и сейчас, как всегда, лицо Мегрона ничем не выдавало его нетерпения. Поль Тевено, напротив, своего волнения не скрывал; он сидел на краю стула, уставившись на Пьера большими лихорадочными глазами.
Пьер говорил стоя, делая время от времени несколько шагов по комнате. Пылко и патетически, искусно оттеняя наиболее эффектные моменты, он поведал о своих докладных записках королю и министрам, о беседе с Верженом. Сказал, что потребовал субсидию в три миллиона ливров, хотя, по его подсчетам, безусловно, хватило бы и одного миллиона. В заключение Пьер скромно, мимоходом заметил, что правительство твердо обещало ему два миллиона.
Даже на невозмутимого секретаря Мегрона эта цифра явно произвела впечатление, — он удивленно взглянул на Пьера. А Поль Тевено просто пришел в восторг; моложавое, раскрасневшееся лицо чахоточного озарилось сиянием больших прекрасных глаз, ему не сиделось, он подошел к Пьеру, схватил его за руку и взволнованно произнес:
— Наконец-то кончилось время слов. Наконец-то настало время дел. Я восхищаюсь вами, Пьер.
Пьер знал, что Поль, несмотря на свою молодость, человек вполне деловой, и Пьеру было приятно, что его новости привели Поля в такой восторг. Но важнее всего по-прежнему было мнение мосье Ленормана.
А Ленорман молчал. Округлое печальное лицо его оставалось неподвижным, и его подернутые поволокой глаза под нависшим выпуклым лбом ничего не выдавали. Наконец Пьер не выдержал и спросил напрямик:
— Ну, а вы, Шарло, что думаете?
Все обернулись к мосье Ленорману. Тот жирным, тихим голосом задумчиво и деловито спросил:
— А кто будет платить, если американцев побьют?
— Их не побьют, — энергично возразил Пьер, — это я в своих докладных королю убедительно доказал.
Мосье Ленорман не удовлетворился таким ответом.
— Одно пока что не подлежит сомнению, — сказал он, — денег у повстанцев нет.
— Но у них есть товары, — тут же ответил Пьер, — индиго, табак, хлопок.
— Кто сказал вам, — возразил на это Шарло, — что они пошлют эти товары именно вам?
— Они борются за свободу, — горячо отпарировал Пьер, — они исполнены идеалов Монтескье и Руссо, такие люди платят свои долги.
Шарло ничего не ответил. Он только взглянул на Пьера, и при этом искривленные углы его рта искривились еще больше. Другие, может быть, ничего не заметили, но Пьер хорошо знал эту улыбку Шарло и боялся ее. Она шла из глубины души, эта усмешка, за ней был большой опыт, превратившийся в чувство и убеждение, при виде ее никла вера, увядала уверенность. Пьер ждал, что на сей раз дело обойдется без усмешки Шарло. И когда надежда эта не оправдалась, в нем снова с полной отчетливостью возникло сознание опасности, которой он подвергает себя, отваживаясь на подобное предприятие. Всю рискованность своей американской авантюры он увидел на мгновенье с предельной ясностью. Но уже в следующее мгновенье он сказал себе: «Все равно. Дело делом, а Америка главное. Рискну».
Чуть заметная усмешка сошла с лица мосье Ленормана. Но он все еще продолжал молчать.
— С другой стороны, — произнес он наконец, — с другой стороны, двухмиллионная правительственная субсидия не такая уж плохая штука.
— Да, совсем неплохая, — не без злорадства вмешался Поль Тевено. Обычно в присутствии генерального откупщика молодой человек держался скромно, но сегодня его захватила грандиозность замыслов Пьера.
— Два миллиона субсидии — неплохая штука, — повторил он и, не в силах обуздать свои чувства, стал шагать по просторному кабинету взад и вперед. Было что-то гротескное в его худобе, в угловатых движениях, в свисающем с плеч сюртуке, в непомерно тощих, плотно обтянутых чулками икрах. Но Пьер, как и Шарло, глядел на радостное возбуждение молодого человека с симпатией, и даже у секретаря Мегрона восторги Поля не вызывали неодобрения.
С самых юных лет Поль Тевено искал человека, которого он мог бы почитать, и дело, в которое он мог бы верить. И вот он нашел Пьера. Поля восхищали внезапные, гениальные идеи его старшего друга, он жадно ловил каждое его слово, когда того осеняли великие замыслы — планы, охватывавшие весь мир; Поль был убежден, что сама судьба уготовила Пьеру историческую миссию и что остановка только за поводом. Теперь у Пьера нашелся и повод — Америка.
— Я надеялся, Шарло, — вежливо обратился Пьер снова к мосье Ленорману, — что участие в этом деле не будет для вас неприятно.
— Все может быть, — отвечал мосье Ленорман, и глубоко сидящие глаза его глядели при этом меланхолически, — во всяком случае, очень любезно с вашей стороны, дорогой Пьер, что вы посвятили меня в эти важные новости первым. Доставьте же мне удовольствие и поужинайте завтра со мной. А я к тому времени обдумаю это дело.
Пьер знал Шарло, знал его недоверчивость. И все-таки он был разочарован, когда оказалось, что впереди еще целые сутки ожидания.
Было уже поздно, Шарло стал прощаться. Вслед за слугой, несшим подсвечник, он спустился по широким ступеням, и Пьер проводил гостя до самых ворот.
Когда Пьер вернулся, на верхней площадке лестницы его ждала Жюли. Она бросилась ему на шею, смеясь и плача.
— Ты подслушивала? — спросил Пьер.
— Конечно, — ответила Жюли.
Рядом с просторным кабинетом Пьера была маленькая уютная комнатка, в которой он иногда принимал дам, приходивших к нему по делу. Жюли обычно подслушивала оттуда его разговоры.
— Какое свинство, — сказала она нежно, — что своему Шарло ты рассказываешь о своих успехах, а мне нет. Я очень зла на тебя и очень счастлива. — И она снова обняла брата.
— Успокойся, — сказал он и тихонько повел ее в комнатку, из которой та только что вышла.
В комнате этой не было ничего, кроме двух стульев, большого дивана и ларца. В ларце Пьер хранил самые дорогие реликвии. Там находилось описание изобретения, сделанного им в молодости и применявшегося теперь в часовой промышленности далеко за пределами Франции. Были там и рукописи брошюр времен его большого процесса, принесших автору мировую славу, и черновик «Севильского цирюльника», и квитанции на суммы, заплаченные им за дворянское звание и придворные должности, и лучшие из любовных писем, им полученных. Теперь уж недалеко то время, когда он сможет присоединить к этой коллекции еще один документ, документ мирового значения.
И вот, глядя на ларец, Пьер делился новостями с сестрой. Он решил ни во что ее не посвящать, и прежде чем начинать разговор с Шарло, следовало, конечно, принять меры, чтобы она не подслушивала; было просто неумно рассказывать ей еще больше. Но, побаиваясь сдержанности Шарло, он вынужден был в беседе с ним держаться рамок делового, сухого доклада, и теперь ему надоело себя обуздывать. С великим воодушевлением расписал он сестре, как великолепно все будет. Они глядели друг на друга блестящими глазами, воспаряя в мечтах все выше и выше. Затем он взял с нее слово, что она не проговорится никому на свете, даже отцу: на старости лет люди становятся болтливы, а в этом деле важно соблюсти тайну.
Они пожелали друг другу спокойной ночи, поцеловались.
Эмиль, камердинер Пьера, дожидался хозяина, чтобы уложить его в постель. Быстро и ловко снимая с Пьера его сложный костюм, он спросил его с почтительной конфиденциальностью:
— У мосье был сегодня удачный день?
— Очень удачный, — ответил Пьер. — Желаю всем добрым французам таких же дней.
Эмиль раздвинул тяжелый полог, за которым на возвышении стояла роскошная кровать. Пьер потребовал фруктов в сахаре, пригубил приготовленный ему на ночь напиток. Эмиль укрыл Пьера и задернул полог, чтобы смягчить проникавший в альков свет ночника. Пьер громко, с удовольствием зевнул, лег на бок, подтянул колени к подбородку, закрыл глаза.
Но прежде чем он успел уснуть, свет снова стал ярче, кто-то раздвинул полог.
— Что там еще, Эмиль? — спросил Пьер, не открывая глаз.
Но это был не Эмиль, это был отец Пьера. Он сел на край низкой, широкой кровати. В халате, домашних туфлях и ночном колпаке старик Карон казался совсем дряхлым.
— Скажи мне теперь, сын мой, — начал он, — в чем, собственно, дело. Я понимаю, при девочках тебе не хотелось говорить, — женщины болтливы. Но теперь-то мы одни.
Пьер зажмурился. Ноги старика, торчавшие из-под халата, были волосаты и тощи, но его глаза, смотревшие на сына с нежностью, волненьем и любопытством, были полны жизни и молодости.
Отношение Пьера к отцу было двойственным. Старик Карон происходил из гугенотской семьи,[3] его как протестанта заставили пойти на военную службу, потом он отрекся от своей веры, стал дворцовым часовщиком и ревностным католиком. Образ жизни Пьера не раз вызывал стычки между отцом и сыном. Пьер бросил было учиться у отца, но затем, после нескольких неудачных попыток начать самостоятельную жизнь, вернулся к отцовскому очагу. Отец, однако, сменил гнев на милость только после того, как добился от раскаявшегося сына обстоятельного письменного соглашения, точно устанавливавшего сыновние права и обязанности. Во время этих событий и много раз впоследствии старик предсказывал сыну, что тот плохо кончит. Но сын отнюдь не собирался плохо кончать, напротив, он сумел купить себе дворянство и всяческие звонкие титулы. Желая добиться признания своего дворянства, он потребовал от отца, чтобы тот оставил свое буржуазное ремесло. Возмущенный папаша Карон наотрез отказался бросить любимое дело, и Пьеру пришлось напомнить отцу, что, отрекшись от протестантства, тот не прогадал ни в материальном, ни в нравственном отношении. Старик в конце концов смирился, но держался гордо.
Пьер любил отца. Он считал, что своим уменьем строить пьесы, а также политические и деловые интриги, в которых сотни шестеренок так целесообразно взаимодействовали, он обязан урокам часового мастерства, и был благодарен за это отцу. Пьер взял старика к себе в дом и назначил ему пенсию. Отец принял пенсию, отверг ее, снова принял; он поселился в доме Пьера, ушел из этого дома, поселился в нем снова. Когда Пьер, проиграв процесс, лишился привилегий и титулов, старик над ним издевался: стоило ли бросать свое доброе, честное ремесло? В последние годы отец и сын отлично ладили, дружно потешаясь над собой и над глупо устроенным миром. Хотя порою они все еще обменивались колкостями, они прекрасно знали, что любят друг друга и что им надо быть вместе. Иногда Пьер выходил с отцом на прогулку в Версальский парк и знакомил его со своими друзьями из высшей аристократии.
— Это мой добрый, старый отец, — говорил он нежно, и старик, казавшийся в своем буржуазном платье необычайно стройным, отвешивал учтивый, хотя и не слишком низкий поклон.
И вот теперь старик Карон сидел на постели сына, которого боготворил и которому всегда пророчил, что ничего из него не выйдет, и, полный счастливого любопытства, ждал рассказа о новом, невероятном успехе, которого тот снова достиг.
Для Пьера было событием сообщить об удаче своему другу Шарло. Для него было счастьем поговорить о ней с Жюли. Но рассказать все отцу было для него высшим блаженством.
Старик пришел в сильнейшее возбуждение; в развевающемся халате бегал он по комнате, жестикулировал, говорил сам с собой, возвращался к кровати, гладил сына по плечу. А тот совсем стряхнул с себя усталость, приподнялся. Перед отцом он не испытывал никакого смущения, он занесся в мечтах еще выше, чем когда говорил с сестрой. С поглупевшим от блаженства лицом, освещенным неясным светом ночника, развертывал он перед стариком свои замыслы, рассказывал, как выйдет в море флот торгового дома «Горталес», его, маленького Пьера, мосье Пьера-Огюстена де Бомарше, флот, какие горы пушек, ружей, пороха повезут его корабли, как это оружие, его, Пьера, оружие, разгромит тиранию Англии и распространит свободу по всему миру, не говоря уже о несметных богатствах, о запасах индиго, ситца и табака, с которыми вернется этот флот и которые достанутся семейству Карона де Бомарше.
Папаша Карон много читал, он был образованным человеком и добрым французом. Он гордился той огромной ролью, которая принадлежала Франции в исследовании и колонизации Нового Света, и злился на англичан, лишивших его страну ее законной доли и заставивших добрых христиан французов действовать такими же отвратительными средствами, как они сами, — например, объединяться с краснокожими, чтобы сдирать кожу с черепов у белых людей. Теперь, значит, его сын поможет народу, живущему по законам разума, этим храбрым бостонцам, этим близким к природе квакерам, рассчитаться с англичанами раз и навсегда.
В глубине души папаша Карон так и не отделался от чувства, что его отступничество от гугенотской веры — грех и что бог накажет его за это в его детях и в детях его детей. Когда ему не везло, в нем оживало сознание своей вины перед верой. Теперь оказалось, что бог может войти в положение бедного гугенота, вынужденного пойти в солдаты. Бог одобрил выбор человека, который предпочел быть порядочным, богобоязненным часовщиком-католиком, чем гугенотом-драгуном. Бог понял, бог простил. Иначе он не облек бы его сына Пьера этой всемирно-исторической миссией.
Впервые окончательно освободившись от чувства вины, Андре-Шарль Карон гладил руку своего сына.
— Америка, — бормотал он про себя, — мой Пьер освободит Америку.
Большую часть своей работы Пьер обычно проделывал в спальне, утром, как только вставал с постели, за туалетом. Так было принято в высшем свете, и обычай этот отвечал склонностям Пьера. Ему льстило, что люди собираются у него в доме, чтобы, покамест хозяина одевают, обратиться к нему с просьбой, жалобой, предложением. Приходила обычно весьма пестрая публика, и он видел перед собой сложную смесь честолюбия, нужды, корысти, почтительности, наглости и карьеризма.
На этот раз, благодаря разговорам о намерении Пьера основать новое, очень крупное предприятие, посетителей собралось больше, чем обычно; они толпились даже в коридоре.
Пьеру всегда доставляло удовольствие благодетельствовать, осыпать милостями; теперь он мог дать себе волю. Фирме «Горталес и Компания» нужны были агенты во всех портовых городах, ей нужны были писцы, конторщики, рассыльные, ливрейные лакеи.
Он сидел за туалетным столом, вокруг него хлопотали камердинер Эмиль и парикмахер, он кивал, отвечал на поклоны, расточал любезности, шутил, был в высшей степени милостив; если не мог удовлетворить просьбу сразу, обещал помочь, обнадеживал.
В числе прочих пришел капитан Аделон. Если Пьеру надо будет послать корабль через Атлантический океан, то капитан проделал этот путь сто двадцать три раза, у него великолепные рекомендации, мосье Мегрону стоит записать его имя.
В числе прочих пришла мадам Шэ. Много лет, даже десятилетий назад у Пьера что-то с ней было. Теперь эта женщина, все еще довольно аппетитная, напомнила тому, что она замужем за владельцем столярной мастерской. Пьер не сомневался, что в связи с переустройством торгового дома в Отель-де-Голланд у него возникнут приятные связи с этой мастерской, и мосье Мегрон снова записал адрес.
Пьер наслаждался ажиотажем вокруг себя, сознанием, что его почитают, что у него в руках власть. Все явились, и всякого рода друзья, и всякого рода враги. Должно быть, за одну ночь известие о счастливом повороте дел мосье де Бомарше успело облететь огромный город, и люди, прежде общавшиеся с Пьером крайне редко, вспомнили вдруг, что состоят с ним в дружбе или даже в родстве. В числе прочих пришел сын двоюродного брата второй жены его отца. В числе прочих пришел племянник мужа его сестры Тонтон.
Являлись люди, почуявшие выгодное дело, и люди, не желавшие ссориться с влиятельным писателем, в том числе и важные господа. Пришел барон де Труа Тур, вложивший деньги в важнейшую на севере верфь Пелетье, пришел мосье Гаше из бордоской судовладельческой компании «Тестар и Гаше». И восторг переполнил сердце Пьера, когда пришел сам шевалье де Клонар, синдик всемогущественной «Компани дез Инд».
Явился и мосье Клерваль из «Театр дез Итальен». Между Пьером и этим большим актером давно существовала скрытая вражда. Впервые пьесу «Севильский цирюльник» Пьер прочел труппе «Театр дез Итальен», труппа была восхищена пьесой, но постановку так и не удалось осуществить. Мосье Клерваль, которому предназначалась роль цирюльника, сам был когда-то цирюльником и не желал, чтобы вспоминали о его прошлом. Затем «Севильский цирюльник» принес огромный, невероятный успех конкуренту — «Театр Франсе»; мосье Клерваль больше не вспоминал о своем отказе от роли и не преминул навестить дорогого друга Пьера тотчас же по его возвращении.
Был среди визитеров и журналист Метра, который не раз нападал на Пьера, и нападал особенно злобно.
— По какой цене продаетесь вы сегодня, милейший? — спросил его дружелюбно Пьер, и журналист отвечал:
— Такой коллега, как вы, всегда может рассчитывать на максимальную скидку.
Но Пьер уже не слышал его ответа. К своему торжеству, он увидел позади журналиста характерную, исполненную достоинства голову мосье Репье. Важная персона, судья Верховного суда, Ренье не побоялся явиться с визитом к нему, человеку «осужденному», «запятнанному».
И снова просители, снова просители. Пьер никого не оставлял без внимания. Он умел обращаться с людьми, и стоило ему сказать человеку даже несколько ничего не значащих слов, тот уходил с таким чувством, как будто Пьер особо его отличил.
Счастливый среди этой суеты, Пьер готов был растянуть свой утренний прием. Но ему доложили, что в кабинете его ждет дама, мадемуазель Менар.
Это было в духе Дезире. Она примчалась к нему в дом, пренебрегая условностями. Пренебрегая антипатией, которую обычно столь добродушная Жюли не упускала случая выказать ей.
Жюли считала Дезире источником всех бед Пьера. Дезире оказалась в свое время причиной драки между Пьером и ревнивым герцогом де Шольном, и герцогу удалось упрятать в тюрьму ни в чем не повинного Пьера. Это случилось как раз в решающие дни большого процесса, и Пьер не смог должным образом отстоять свои интересы. Поэтому, по мнению Жюли, вина за неблагоприятный исход процесса и за его последствия лежала не на ком ином, как на Дезире Менар. Жюли просто не понимала, как может Пьер после всего случившегося держать у себя в доме портрет Дезире; она часто говорила, что не выносит этой дамы, и непрестанно требовала, чтобы Пьер избавился от портрета, прекрасного портрета кисти Кантена де Латура. Пьер только посмеивался; портрет был великолепен, да и Дезире была великолепна, он был крепко привязан к Дезире и к портрету.
Он распрощался с утренними посетителями и прошел в кабинет. Там сидела Дезире. Сидела не на парадном, неудобном стуле, а на монументальном письменном столе, отодвинув бумаги и безделушки, — рыжеватая, небольшого роста, очень стройная, в удобной, независимо-дерзкой позе. Увидев Пьера, она засмеялась.
— Хорошо я сделала, что приехала? — спросила она.
Он с радостью глядел на ее красивое, озорное лицо с чуть вздернутым носом.
— Приятно видеть разумного человека, который ничего от тебя не требует, — сказал он и поцеловал ее руку, шею и затылок.
— Ну, старый плут, — сказала она, — говорят, ты затеваешь что-то грандиозное. Я уже чувствую, что мне придется снова вытаскивать тебя из «Фор ль'Эвек». — Это было название тюрьмы.
Пьер и Дезире знали друг друга давно. Оба были детьми парижской улицы, оба любили Париж и страстно любили театр. Обоим пришлось пройти через всякую грязь, прежде чем они добились положения в обществе, оба любили жизнь, знали в ней толк и принимали ее без прикрас, не притворяясь ни перед собой, ни перед другими. Дезире была известной актрисой, в ее доме бывали маститые писатели, люди, имевшие влияние при дворе и в деловых кругах. Она искала общества сильных мира сего, потому что это могло быть полезно, однако громкие имена аристократов и дельцов нимало ее не ослепляли, она отлично видела, как неразумно правят Францией, и смотрела на этих господ с высоты своего здравого смысла. Точно так же смотрел на них Пьер. Оба прочно вошли в круг привилегированных. Оба испытывали к привилегированным бесконечное, слегка завистливое презрение. Первые, бурные времена их страсти давно прошли, осталась прочная дружба. Случалось, что, даже находясь в Париже, они не видались неделями и месяцами, но оба отлично знали, что могут друг на друга рассчитывать.
Дезире спрыгнула со стола. Она отворила дверь в маленькую комнату, посмотрела, не подслушивает ли Жюли. При этом лукавое лицо ее сморщилось.
— Воздух чист, — сказала она, — выкладывай.
Пьер рассказал ей об американском предприятии в деловом тоне, патетические фразы в ее присутствии звучали бы смешно. Как и весь прогрессивный Париж, она относилась к делу американцев, к их грандиозной попытке построить государство на началах свободы, разума и близости к природе, с полным сочувствием.
— А я уж боялась, — заметила она, — что ты состряпал что-нибудь вроде монополии на работорговлю или откопал новую любовницу для испанского короля, которая будет твоей шпионкой. Америка, — заключила она с теплотой, — это правое дело.
— И очень приятно, — хитро улыбнулся Пьер, — что на этот раз за преданность правому делу будут платить. Это потрясающее предприятие, Дезире, вот увидишь. «Компани дез Инд» окажется мелкой сошкой по сравнению с моей фирмой «Горталес».
— Мне кажется, — ответила Дезире, — я слышу это уже не в первый раз.
— Но сегодня, — заверил ее Пьер, — это не просто слова, это действительность.
— Примите мои наилучшие пожелания, мосье де Бомарше, — потешалась над ним Дезире, — но мне уже известны случаи, когда ты давал идею, а другие снимали сливки.
— На этот раз сливки буду снимать я, — настаивал Пьер, — на этот раз я не дам себя провести. Тут не может быть никаких сомнений. Никогда еще у меня не было таких огромных возможностей.
— Во всяком случае, очень утешительно, Пьер, — сказала Дезире с нежностью, — что на этот раздело действительно хорошее.
Что это дело хорошее, Пьер знал и сам; ему хотелось услышать хоть одно ободряющее слово о практической стороне вопроса. Еще вчера, до разговора с Ленорманом, он спрашивал себя, не следует ли сначала довериться Дезире. Шарло был влюблен в Дезире, а Пьер никогда не отказывался от пользы, которую можно извлечь из женщин. Однако на этот раз он колебался. Отношения между Шарло и Дезире были сложные; прибегнув к помощи Дезире, он мог продвинуть, но мог и погубить свое дело. А так как она сама пришла к нему и уже столько от него узнала, он отбросил все опасения и поведал ей о своих надеждах на Ленормана.
При упоминании о Ленормане Дезире нахмурилась, между бровями ее обозначилась вертикальная складка, глаза задумчиво скосились к носу.
Отношения с Ленорманом вносили в ясную жизнь Дезире какую-то сумятицу, неразбериху. Этот холодный и страстный человек, меланхолик и гурман, презиравший романтику и тосковавший по романтике, не походил на других мужчин, которых она знала. Он и с ней бывал иногда ироничен и зол, она видела, как сильно он ее любит и как старается преодолеть эту страсть. Шарло привлекал ее и отталкивал, она его и ценила и презирала. Ей следовало бы беспощадно использовать его беззащитность перед ней. С любым другим она так бы и поступила, — с ним она держалась иначе. Она сама толком не знала, что нужно ей от Шарло, для чего он ей нужен. Она никогда не набивала себе цену, никогда не дорожила своей любовью и своим телом, — иначе и нельзя, если хочешь пробиться в Париже. Случалось ей спать и с Шарло. Но с ним она обращалась хуже, чем с другими. Она давала ему понять, что не любит его, и если он требовал от нее большего, если просил, чтобы она пожертвовала своей независимостью и стала его официальной любовницей, она пожимала плечами, строила плутовскую гримасу, не отвечала.
Ее привлекала его раздвоенность. Как завороженная, наблюдала она внезапные переходы Шарло от мизантропического настроения к сентиментальному и нежному. Обычно она знала наперед, как будет протекать та или иная ее связь. Но от Шарло можно было ждать всего — он мог погубить ее, мог и жениться на ней.
Шарло был с Пьером на дружеской ноге. Но она не сомневалась, что Шарло, хотя и не показывает этого, ревнует ее к Пьеру, и всегда втайне боялась, что однажды он нанесет Пьеру ужасный удар. Никак не следовало Пьеру пускаться в такую авантюру с человеком, от которого можно ждать чего угодно. Если они возьмутся вдвоем за эти огромные поставки, Шарло зажмет в свой кулак более слабого Пьера, и от этой мысли ей становилось не по себе. При всем своем интриганстве Пьер был безобидным, веселым малым, он не умел быть настоящим врагом, он не был злопамятен, он ничего не хотел от жизни, кроме радости. Разве такой устоит против горькой ожесточенности, так часто прорывавшейся у Шарло.
— На твоем месте я бы трижды подумала, — предостерегла она Пьера, — прежде чем принимать в дело Шарло.
— Он мой друг, — сказал Пьер.
— Именно поэтому, — ответила она загадочно и добавила: — Очень уж он огромен. Все, что с ним ни соприкоснется, он в конце концов поглощает.
— Не бойся, крошка, — беззаботно рассмеялся Пьер. — Кто проглотит этого Иону,[4] тот его живехонько выплюнет.
После ужина Ленорман еще некоторое время испытывал терпение Пьера и не заводил разговора о деле, ради которого тот пришел.
Мосье Ленорман относился к Пьеру по-своему хорошо. Он прекрасно видел тщеславие и поверхностность Пьера, но ценил его ловкость и милое остроумие и, немного презирая Пьера за пустоту, завидовал его блеску, его успеху у женщин, легкости, с которой он работал.
Несмотря на знатность и богатство, Шарлю-Гийому де Ленорману всегда жилось трудно. В свое время — это было тридцать семь лет назад — он женился на очень молодой, очень красивой и обаятельной девушке, не имевшей ни средств, ни связей — Жанне-Антуанетте Пуассон.[5] Он был тяжел на подъем и долго раздумывал, прежде чем решился на этот брак; первые годы после женитьбы он от души радовался своему решению и все сильнее влюблялся в Жанну. Потом внезапно Жанна оставила его, чтобы под новым именем — маркизы де Помпадур — править Францией в качестве официальной любовницы короля. Ленорману казалось, что он не переживет этого удара. Впоследствии жена предлагала ему все, что угодно, и должность посла, и даже свое возвращение, но он был горд и самолюбив, он отверг все и в том числе ее самое.
Он уже давно оправился от страданий, но это был уже другой Ленорман — меланхоличный, горький, саркастический, падкий на удовольствия и склонный к коварному авантюризму. Если прежде он вел свои нелегкие дела по откупу налогов осторожно и осмотрительно, то теперь он с какой-то злой радостью и мрачной надменностью затевал все новые сложные коммерческие предприятия, действуя независимо, ловко и чрезвычайно успешно, и приобрел огромное состояние. При всей своей ожесточенности он постоянно искал новых наслаждений. Правда, над главным входом его замка Этьоль изящными буквами был начертан девиз: «Vanitas, vanitatum vanitas, omnia vanitas».[6] Но хозяина замка постоянно окружали красивые женщины, а празднества, которые он устраивал, славились изысканностью и великолепием, и с усталой жадностью мосье Ленорман снова и снова завладевал деньгами, почетом, роскошью, делами, влиянием, политикой, театром, женщинами, интригами.
В Дезире Менар Ленорман влюбился, увидев ее портрет. Не тот, что висел у Пьера, а пастель Перроно с изображением красивой, веселой, безыскусственной девушки. Но когда Ленорман познакомился с подлинной Дезире, его поразило, насколько портрет уступает оригиналу. Ленормана, который в жизни немало мудрил и хитрил, часто тянуло к сильному и простому; он любил ставить на своей домашней сцене сочные, простонародные фарсы. И вот, обнаружив, сколько здравого смысла, сколько пренебрежения к молве и сплетням, сколько дерзкого, живого парижского юмора скрывается за очаровательной хрупкостью Дезире, он пришел в восхищение. У нее были черты, которые он любил в покойной Жанне. Жанна была так же весела и так же умна, в ней было такое же сочетание трезвости и романтизма, такое же уменье видеть сквозь грязь жизни ее радостное сияние.
Ленорману было пятьдесят семь лет, когда в его жизнь вошла двадцатилетняя Дезире. Он с удовольствием замечал, как привлекательны для молодой актрисы своеобразно сочетавшиеся в нем мрачность и гурманство, его вкус, его понимание театра, его проникнутая горьким юмором философия; но он отлично понимал, что без богатства и громкого имени никак не удержался бы в кругу более молодых и интересных приятелей Дезире. Может быть, ему и удастся привязать ее к себе; но если затем появится другой, более могущественный, Дезире покинет его точно так же, как покинула Жанна ради хозяина Версальского замка.
И все-таки он считал большой удачей, что эта молодая женщина вошла в его жизнь и что теперь, когда его страсти остыли, ему еще раз выпало счастье влюбиться, как молодому. Конечно, он страдал, видя, с какой беззаботностью отдается Дезире то одному, то другому, но у него был уже горький опыт, и, но желая вторично приносить свое счастье в жертву достоинству и самолюбию, он не пытался посягать на ее независимость.
Он знал, что единственный его серьезный соперник — Пьер. Ясно видя отношения Пьера и Дезире, он находил, что их дружба, основанная на духовном родстве, гораздо опаснее любого романтического увлечения, и глубоко завидовал Пьеру в том, что Дезире к нему так привязана. Ему, Ленорману, который столько выстрадал по чужой вине и которому все давалось с трудом, было досадно, что этому Пьеру все достается легко, что ему все сходит с рук, что он шутя отметает от себя всякие неприятности. Как ни был он расположен к Пьеру, ему хотелось, чтобы и тот узнал, что такое неблагодарность, измена, страдание.
И вот теперь Пьер пришел к нему по поводу этих поставок Америке. Идея Пьера — снабжать инсургентов под видом частного предпринимателя, на самом же деле — в качестве агента французского правительства — была истинной находкой. По если это предприятие должно стать чем-то большим, чем чисто театральный эффект, если вооружать инсургентов так, чтобы они действительно могли противостоять английским регулярным войскам, тогда нужны совершенно иные суммы, чем жалкие три-четыре миллиона, о которых говорил Пьер. Человек, затевающий подобное предприятие, должен располагать неограниченным кредитом, он должен быть в состоянии ждать платежей, ему необходима огромная выдержка.
У него, Ленормана, хватило бы сил поднять этот груз, да и высокие прибыли очень заманчивы. Но разве Пьер тот человек, с которым можно браться за такое грандиозное предприятие? Не внесет ли он в дело слишком много фантазии и романтики? Конечно, перспективы очень соблазнительны, но у Ленормана никогда не было недостатка в большой игре, и никакие барыши не стоили той опасности, которую таила в себе возможная ссора с Пьером. Не сознавая этого, он представлял себе, как Пьер бахвалится перед Дезире: «Итак, теперь я вооружаю американцев, теперь я делаю историю». Нет, он, Ленорман, не воздвигнет для Пьера пьедестала из миллионов, который для этого требуется.
Жирным голосом, в тиши кабинета, он разъяснил Пьеру, что предприятие действительно сулит большие доходы, но и риск при этом необычайно велик. Не говоря уж о том, что каждое второе судно, возможно, захватят англичане, виды на оплату товаров слишком неопределенны. Как ни восхищается он, Ленорман, стремлением инсургентов к свободе, похвальный энтузиазм еще не есть гарантия их платежеспособности. В самом лучшем случае денег придется ждать много лет. По его приблизительному подсчету, чтобы продержаться, нужно около десяти миллионов основного капитала. Называя эту огромную цифру, он озабоченно взглянул на собеседника своими сонными, глубоко посаженными глазами.
Пьер, пораженный, вяло отвечал:
— Я думал, что перспектива огромных прибылей, известная вам еще лучше, чем мне, соблазнит вас участвовать в фирме «Горталес».
— Я только что пытался, дорогой мой Пьер, — сказал Ленорман с прекрасно разыгранной терпеливой любезностью, — разъяснить вам, что риска в этом деле еще больше, чем шансов на успех. Я уже совсем старик, и большие, опасные предприятия не доставляют мне прежней радости.
— Но почему же вы недавно возобновили откуп на налоги с двух провинций? — спросил Пьер.
— Какой же тут риск, — словно назло, невозмутимо спросил, в свою очередь, Ленорман, — какой же тут риск для человека, который может и подождать? У короля есть полицейские, а на худой конец и солдаты, чтобы воздействовать на нерадивых должников. А разве фирма «Горталес» может послать солдат против повстанцев, если те начнут мешкать с платежами?
— Я надеялся, — сказал не без горечи Пьер, — что мой друг Шарло будет с радостью участвовать в этом большом деле. Я верил, что мой друг Шарло будет первым, кто поможет и мне и американцам.
— Зачем же так горячиться, Пьеро? — стал ласково успокаивать его Ленорман. — Кто сказал, что я не стану вам помогать?
Игра, которую вел с ним Шарло, бесила Пьера, но по опыту он знал, что Шарло человек немелочный и ему, Пьеру, друг.
— Мне понадобятся деньги только на первых порах, — сказал Пьер неуверенно, — если вообще понадобятся.
Именно этого и ждал Ленорман. Ему хотелось предложить Пьеру ссуду. Он знал Пьера, знал, что тот скоро окажется в затруднительном положении и попросит об отсрочке долга. Тогда, при любых обстоятельствах, он, Шарло, своего добьется. Если даже он потеряет на этом деньги или часть денег, то разговор с извивающимся и просящим Пьеро, право же, стоит такой потери.
— Вот видите, — заметил он, — так мы легко договоримся. Деньги, особенно на короткий срок, я всегда готов дать вам в долг. Сколько вам нужно?
— Я думаю, — отвечал неуверенно Пьер, — что еще одного миллиона мне хватит.
— Можете располагать этой суммой, — немедленно сказал Ленорман.
Пьер воспрянул духом, хотя и был ошеломлен. Предложив такую огромную сумму, Шарло оказывал ему немалую услугу, но неужели риск действительно так велик, что сам Ленорман не решается вложить капитал в это дело и упускает неповторимые возможности?
— Благодарю вас, Шарло, — сказал он, — от души благодарю.
В голосе его звучало необычное замешательство.
— Я всегда рад вам помочь, друг мой, — любезно возразил Ленорман. — Во всем, что касается процентов, я буду очень уступчив.
Он на мгновение умолк и дружелюбно взглянул на Пьера.
— Но только, — сказал он затем и в шутку погрозил пальцем, — не транжирьте денег. — И как бы невзначай заключил: — Я даю деньги в долг на короткие сроки, и я взыскиваю долги, дорогой. Обращаю на это ваше внимание. Тем я и славлюсь, что взыскиваю.
Это были шутки во вкусе Шарло, неприятные шутки. Но не успело чувство неловкости овладеть Пьером, как он уже от него отделался. Он получил обещание Шарло, это главное. Разве он не собирался начать дело, даже если бы добыл всего-навсего один миллион? Теперь он получил два миллиона у правительства и один у Шарло.
— Еще раз спасибо, Шарло, — сказал он тем же легким и дружеским тоном, что и Ленорман, — спасибо от имени Америки, Франции и моего собственного.
Прошли уже ночь, и день, и еще одна ночь, а Пьер все еще не побывал у своей приятельницы Терезы. Вчера утром он послал ей записочку с обещанием прийти вечером, а вечером — с обещанием прийти сегодня утром. Слишком уж он перегружен, никогда ему не хватало времени на то, чего хотелось.
С Терезой можно, по крайней мере, говорить. Она понимает, как трудно человеку делить свое время между освобождением Америки и любовью к женщине, на которой он намерен жениться.
С первой встречи он знал, что эта девушка ему подходит, и не раз за годы их связи заигрывал с мыслью жениться на ней немедленно, завтра же, сегодня же. Но все дело было в Жюли. Она с самого начала стала его ревновать; стоило Пьеру однажды заикнуться о своем желании жениться на Терезе и ввести ее в дом, как между братом и сестрой вспыхнула жестокая ссора, и Жюли пригрозила, что уйдет из дому. Правда, затем, в приступе раскаяния, она заявила, что Тереза обворожительна, молода и во всех отношениях гораздо лучше ее и что, разумеется, она, Жюли, будет с ней ладить. Однако Пьеру было ясно, что если он введет в дом Терезу, то вспыльчивая Жюли вскоре уйдет от него, а лишиться Жюли он не мог. Мало того что она была идеальной хозяйкой его большого дома, он испытывал потребность хвастаться именно перед ней, он никак не мог отказаться от ее неизменного шумного и фанатического поклонения. Что же касается Терезы, то она и без формальных уз его не покинет; в ней он был вполне уверен.
Он пошел к ней пешком. Идти было недалеко. Улыбаясь, он вспоминал, сколько раз и с какой радостью ходил по этой дороге. Интересы его охватывали весь мир, ради того или иного дела ему случалось долго колесить по свету; но настоящая его жизнь была заключена в небольшом треугольнике между его жильем, его торговым домом и домом Терезы. Этот неукротимый искатель приключений был по природе своей семьянином; после безумных дней и безумных ночей ему нужен был по-мещански уютный часок в кругу семьи, состоявшей из отца, сестер, племянников, племянниц, дядюшек, тетушек и двоюродных братьев.
Он позвонил у дверей Терезы. Отворила ему служанка. Но он сразу увидел и Терезу в дверях ее комнаты, — она была одета по-домашнему, как он втайне и ждал, и ни тени упрека за его поздний приход не было на ее лице. Бросившись к ней, он взял в обе ладони ее голову и слегка запрокинул назад; Тереза была высокого роста, почти такого же, как он сам. Он глубоко заглянул в ее живые глаза. Медленно, крепко поцеловал ее в лоб, провел своими полными губами по ее высоким, крылатым бровям. Она сомкнула свои длинные ресницы; он поцеловал ее в пухлый рот, скользнул руками по ее полному, сильному подбородку, шее, груди.
Тереза, закрыв глаза, отдалась радости долгожданной встречи.
Как только она познакомилась с Пьером, она сразу почувствовала, что в этом человеке сосредоточен смысл ее жизни. Три года назад, когда она, едва достигнув семнадцати лет, прочитала его брошюры, звонкая и блестящая атака на царящую в мире несправедливость всколыхнула всю ее душу. Подумать только, что можно быть таким смелым и в то же время таким непринужденным, таким изящным, таким вдохновенным. Написанное им захватывало, покоряло. Она, обычно сдержанная и благоразумная, нашла предлог пойти к совершенно незнакомому человеку, и он оказался таким же, как его звонкие книги, — у него был гибкий, звучный голос, он говорил с ней вкрадчиво, дерзко, умно, и она поняла, что полюбила этого человека, полюбила навеки.
Тереза умела судить о вещах спокойно и верно. Прошли годы, и она разглядела в Пьере его пустоту, тщеславие, легкомыслие; но то, что она в нем любила, оказалось достаточно сильным, чтобы заставить ее примириться со всем остальным. В тех старых памфлетах он боролся за свое собственное дело, но оно было также общим делом всех, кто страдал от жестокой и оскорбительной системы. Потешаясь над знатью, он защищал себя, ибо знать наносила ему обиды и пыталась его притеснить, но руководило им нечто другое, нечто большее — глубокая, боевая непримиримость познающего ко всем нелепым предрассудкам мира. За всем его бахвальством и позерством было умение видеть большое; сталкиваясь с несправедливостью и злоупотреблениями, независимо от того, затрагивали ли они его самого или других, он бросался в драку без долгих раздумий. Таким видела его Тереза, таким она его любила.
Сейчас, после столь продолжительной разлуки, ему нужно было многое ей сообщить. Он посадил ее к себе на колени, гладил ее. Много раз уже приходилось ему это рассказывать — Шарло, сестре, отцу. Говорил он об одном и том же, но всякий раз по-иному: в разговоре с Терезой его впечатления и его проект приобрели опять новые оттенки. Ей он разъяснил политическое значение своего предприятия. У инсургентов было все — достаточно людей, огромная территория, правое дело, энтузиазм, моральная поддержка со стороны всего мира. Единственное, чего им не хватало, — это оружия.
— А теперь мы дадим им оружие, — заключил он.
Серые глаза Терезы сияли; она с самого начала сочувствовала инсургентам. Ему пришлось с новыми и новыми подробностями рисовать ей перспективы американцев, и его радовало, что ее занимает только это, а совсем не деловая сторона его новой затеи. Пусть жена видит в нем писателя, борца за свободу, защитника разума. Его согревал ее восторг, чуждый экзальтированности, подчас претившей ему в Жюля. Даже восторг никогда не лишал Терезу чувства реальности. Она великолепно дополняла Пьера; она сумеет его одернуть, если он хватит через край.
Он замолчал. В наступившей тишине он снова стал размышлять, не поторопиться ли с женитьбой.
Тереза понимала, что с ним сейчас происходит. Ей было неприятно довольствоваться положением подруги Пьера, ей очень хотелось узаконить их отношения. Но она знала Пьера и опасалась, что, если из-за нее он потеряет Жюли, ему будет не так-то легко примириться с этой утратой, и его чувства к ней, Терезе, возможно, ослабнут. Сплетни ее не пугали, она ни от кого не зависела, немного денег у нее было. Она не торопила Пьера. И сейчас она тоже молчала, ждала.
А Пьер, в который уже раз, представлял себе, какое лицо состроит Жюли, когда он сообщит: «Через неделю я женюсь на Терезе». Воображение не сулило ему ничего приятного. Слишком уж часто действовал он по первому побуждению. Он уже столько времени медлил — подождет еще немного.
Он сказал:
— Теперь, когда я так счастлив, когда затевается такое огромное предприятие, позволь мне доставить тебе маленькую радость. Тебе ведь всегда нравился мой домик в Медоне, тот, маленький, с запущенным садом, — так разреши мне его подарить тебе! Конечно, я его как следует оборудую. Мы могли бы иногда туда ездить, чтобы отдохнуть денек-другой на лоне природы.
Последовавшие затем недели прошли для Пьера в бешеной деятельности. Он встречался с судовладельцами, с поставщиками, со всякого рода коммерсантами, у него были совещания с людьми из министерства иностранных дел, из морского ведомства, из Арсенала. Нужно было достать пушки, ружья, снаряды, мундиры, белье, сапоги, одеяла, палатки. Нужно было добыть корабли, чтобы переправить через океан все это снаряжение, рассчитанное на тридцатитысячную армию. Пьер обещал господам из Версаля, что большую часть грузов он отправит уже осенью или, во всяком случае, до конца года.
Если в делах Пьер проявлял сейчас еще больше энергии, чем обычно, то объяснялось это стремлением заглушить все сильнее овладевавшее им беспокойство. Чтобы поставить товары в срок, он должен был сразу делать большие платежи. Собственные его средства и деньги, занятые у Ленормана, быстро разошлись, а миллион ливров, обещанный Верженом, все не поступал. Стоило Пьеру заикнуться в министерстве иностранных дел, что он остро нуждается в деньгах, как ему дали понять, что сумма изымается из секретного фонда и что задержка вызвана только проводкой по бухгалтерским книгам и неизбежной бюрократической процедурой. Это звучало правдоподобно. Но никаких гарантий у Пьера не было, никаких письменных обязательств в этом деликатном вопросе правительство не давало, и Пьер не мог избавиться от опасения, что в один прекрасный день его оставят с носом и еще прикинутся удивленными, если он вздумает ссылаться на прежние обещания.
Вдобавок скоро обнаружилось, что поставщики и судовладельцы отлично знают, как он от них зависит, и потому заламывают цены. Если бы Пьеру удалось получить из королевских арсеналов хотя бы то оружие, которое ему посулили в министерстве иностранных дел! Тогда бы он стряхнул с себя хоть часть забот и показал частным поставщикам, что может обойтись и без их услуг.
Арсеналу ничего не стоило ему помочь. Мосье де Сен-Жермен, год назад возглавивший военное министерство, приступил к перевооружению французской армии; благодаря этому выходили из употребления многие образцы орудий и ружей. Все зависело от того, сумеет ли Пьер заинтересовать своими планами военного министра; в случае удачи Пьер мог бы получить устаревшее оружие по очень низким ценам, может быть, даже по цене металлического лома. Предполагалось, что министр иностранных дел поговорит об этом со своим коллегой из Арсенала. Но в министерстве иностранных дел никак не хотели понять, что действовать нужно срочно; Вержен все откладывал и откладывал конфиденциальный разговор с военным министром.
Наконец Пьеру сообщили, что мосье де Сен-Жермен в курсе дела и желает его видеть. На следующий же день Пьер явился в Арсенал, где находилась резиденция военного министра.
Пьеру пришлось оставить карету у входа и направиться к канцелярии министра пешком. Арсенал представлял собой маленький самостоятельный город. Здесь были всякого рода оружейные фабрики, оружейные склады, конторы, казарма. Пьер любил Арсенал. Он был делец и романтик, оружие побуждало его и к героическим чувствам, и коммерческим расчетам.
Сегодня, однако, Пьер не испытывал никакого интереса к окружающему. Все его мысли были заняты предстоявшим разговором.
В последний раз Пьер видел министра около года назад. Тогда этот семидесятилетний человек казался удивительно молодым и подтянутым. Теперь, войдя в кабинет, Пьер был поражен тем, как постарел Сен-Жермен за короткий срок своей министерской деятельности. Небольшого роста, в простом мундире, он держался по-прежнему стройно и прямо, но видно было, что выправка стоит ему немалых усилий; землистое лицо Сен-Жермена избороздили морщины.
У министра были основания огорчаться. Париж ликовал, когда в прошлом году молодой король поручил перестройку армии строгому, честному, прогрессивному генералу, пользовавшемуся славой великого воина и хорошего организатора. Мосье де Сен-Жермен взялся за дело со всей энергией. Он усилил состав войсковых частей и повысил качество снаряжения, сократив при этом расходы своего ведомства. Но для этого ему пришлось упразднить ряд прибыльных должностей, предоставлявшихся придворной знати, и допустить к высоким командным должностям офицеров низкого происхождения. Поэтому он нажил себе при дворе немало врагов, и все считали, что никакие добрые намерения не помогут безвольному королю удержать на посту своего министра. Пьер хорошо понимал, почему у старого генерала такой унылый вид.
Допуская, что умудренный горьким опытом Сен-Жермен почует за его предложением какие-то интриги и отнесется к нему с подозрением, Пьер для начала не стал говорить о пушках и ружьях, которые хотел выманить у министра, а постарался прежде всего внушить ему доверие. Он знал, с какой страстью отстаивает Сен-Жермен свои революционные военные теории, повсюду стремясь их осуществить, повсюду пытаясь экспериментировать. Пьер решил использовать этот конек старика. Прежде всего, заявил он, инсургенты нуждаются в наставлении, в организации, в указаниях. Он, Пьер, покамест единственный, так сказать, представитель американцев во Франции, обращается за советом к министру от имени этой страны, страны разума и близости к природе. Нигде реформаторские принципы Сен-Жермена не будут более уместны, чем в Америке. Там не нужно бороться с укоренившимися предрассудками. Там можно организовать армию в строгом соответствии с десятью основными положениями, сформулированными министром в его «Руководстве по военному делу».
Сен-Жермен слушал его с интересом. Этот мосье де Бомарше вовсе не походил на бессовестного спекулянта, каким его изображали. Министр пустился с ним в дискуссию. Пьер хорошо подготовился и показал знание дела. С терпением и пониманием слушал он Сен-Жермена, увлекшегося подробностями своих реформ. Беседа доставляла старику огромное удовольствие.
Затем, постепенно, Пьер заговорил о деле, о вооружении своих инсургентов. Речь идет, пояснил он, не о снаряжении регулярных войск, а об экипировке милиции. Этой милиции нужно простое оружие, владение которым не требует особых навыков. В новом оружии, предусмотренном министром для французской армии, американцам пользы мало; ибо для эффективного применения этого нового оружия нужен продолжительный срок обучения. И Пьер сделал озабоченное лицо.
Мосье де Сен-Жермен оживился и как собственную мысль высказал то, к чему подводил его Пьер. Именно в этих обстоятельствах он, министр, может помочь мосье и оказать инсургентам неоценимую помощь. В связи с перевооружением множество образцов орудии и ружей окажутся в королевской армии непригодными. Но для милиции, которую описал мосье, эти старые образцы как раз идеальны, и он, министр, с удовольствием предоставит наличные запасы снятой с вооружения амуниции для нужд инсургентов. Относительно деталей мосье следует договориться с его первым секретарем, принцем Монбареем.
Пьер с облегчением вздохнул. Он всегда испытывал неловкость, ведя дела с такими наивными, бесхитростными людьми, как министр, — их поведение никогда нельзя было предугадать. С принцем Монбареем справиться будет куда легче. Дело в том, что принц Монбарей, страстный игрок, всегда был в долгах и, не задумываясь, пользовался служебным положением для упорядочения своих сложных финансовых дел. Для этого он прибегал к услугам одной своей приятельницы, оперной певицы де Вьолен. Стоило освободиться более или менее высокой армейской должности, как у мадемуазель де Вьолен был уже готов список кандидатов, согласных за эту должность заплатить, а принцу в большинстве случаев удавалось отстоять своего кандидата перед простодушным Сен-Жерменом.
Благодаря умелому обхождению с министром все наличные запасы оружия были уже закреплены за Пьером. Но при желании принц Монбарей мог назначить очень высокие цены, мог усложнить, мог бесконечно откладывать сделку с торговым домом «Горталес и Компания». Против этого существовало только одно средство: в изящной форме всучить принцу комиссионные. В подобных случаях Пьер не скупился.
Фирма «Горталес», объяснил он мосье де Монбарею, чрезвычайно озабочена одним обстоятельством — он имеет в виду выбор оружия, которое нужно послать инсургентам. Заказ американцев носит слишком общий характер, а покамест прибудут их эксперты, времени пройдет немало. Сам он, подобно другим представителям фирмы «Горталес», деловой человек и страстный приверженец инсургентов, но отнюдь не военный специалист. Поэтому он был бы крайне обязан принцу, если бы тот порекомендовал ему сведущего консультанта в этом вопросе. Разумеется, фирма «Горталес» не может принять такой услуги безвозмездно, фирма действует только на деловых началах.
С улыбкой взглянули хитрые, быстрые, черные глазки принца Монбарея в улыбающееся лицо Пьера. Потом принц назвал несколько имен, отверг их и наконец, постукав пальцем по лбу, сказал:
— Ну, вот я и нашел вам подходящего человека.
Как Пьер и ожидал, человек этот принадлежал к кругу приятельницы Монбарея, мадемуазель де Вьолен.
Пьер горячо поблагодарил принца за любезный совет и обещал им воспользоваться. Затем он дружески простился с министром и его первым секретарем и, очень довольный, покинул Арсенал.
С самого начала конфликта между английской короной и ее американскими колониями были в Париже люди, надеявшиеся выдвинуться в роли сторонников американцев. Стоило этим людям пронюхать о переговорах мосье де Бомарше, как они стали завидовать и пакостить Пьеру.
Особенно отличался некий доктор Барбе Дюбур. Он был врачом, политиком, коммерсантом, писателем, филантропом и переводчиком сочинений доктора Вениамина Франклина, самого популярного в Европе представителя инсургентов. Доктор Дюбур гордился тем, что первым по эту сторону океана выступил в защиту американцев. Услыхав о переговорах мосье де Бомарше, он нанес визит Пьеру.
И вот этот спокойный, тучный, буржуазного вида господин сидел перед Пьером и неторопливо говорил. Он слышал, что Пьер тоже проявляет интерес к делу повстанцев. Пьеру, конечно, известно, что ему, доктору Дюбуру, принадлежит честь считать своим другом великого Вениамина Франклина. Он пришел узнать, не желает ли мосье де Бомарше сделать какие-либо полезные предложения, которые он, доктор Дюбур, мог бы передать Франклину и американцам.
Все в этом грузном человеке — мясистое лицо, маленькие учтивые глазки, выпяченные губы, мещанская одежда, трость, которую тот вертел в руках, привычка то и дело сморкаться и причмокивать — сразу же вызвало у Пьера отвращение. Все в нем раздражало — самодовольная скромность, напыщенная болтливость, наивно-заговорщический тон. Пьер убеждал себя, что этот человек принят во всех салонах, что он пользуется известным влиянием и что контакт с ним целесообразен; но Пьер не привык сдерживать своих симпатий и антипатий. И, вопреки всем разумным доводам, он ответил с высокомерной вежливостью, что благодарит мосье Дюбура за его любезные намерения, но что располагает собственными посредниками, которые могут передать его, Пьера, советы в Филадельфию достаточно надежным и быстрым путем. Доктор Дюбур, несколько обескураженный, многословно повторил свое предложение, после чего Пьер повторил свой отказ. Попрощались они холодно.
Доктор Дюбур был человеком добродушным, но никто еще с ним так не обходился, как этот мосье де Бомарше. Доктор Дюбур сел за стол и написал письмо, — он любил писать письма. На этот раз он написал графу Вержену. Изобретательность мосье де Бомарше, писал он, его честность, его преданность всякому великому и правому делу не вызывают сомнений. Но едва ли найдется человек, менее подходящий для деловых отношений. Мосье де Бомарше любит роскошь, кроме того, известно, что он содержит женщин. Короче говоря, он слывет мотом, и ни один солидный коммерсант во Франции не хочет иметь с ним дела. Графу Вержену следует дважды подумать, прежде чем осуществить свое намерение и отдать американские дела в руки мосье де Бомарше.
Министр прочел письмо. Все, что сообщил доктор Дюбур, не было для него новостью. Но до сих пор доктор Дюбур давал только бесполезные советы, а Бомарше не раз оправдывал возлагавшиеся на него надежды. Вержен прочитал письмо еще раз, улыбнулся, послал копию с письма фирме «Горталес», предоставив ответить на него самому мосье де Бомарше.
Пьер ответил. «Глубокоуважаемый доктор Дюбур, — ответил он, — какое отношение к американским делам имеет то, что я слыву мотом и содержу женщин? Между прочим, я делаю это уже двадцать лет. Сначала я содержал пятерых: четырех сестер и одну племянницу. К сожалению, в настоящее время двух из этих женщин уже нет в живых, так что теперь у меня на содержании находятся только три — две сестры и одна племянница, что, конечно, тоже чистейшее расточительство для человека без званий и должностей. Но что бы вы сказали, узнав, что я содержу и мужчин — племянника, молодого и пригожего на вид, и несчастного отца, который и произвел на свет этого невиданного сладострастника, вашего покорного слугу? Еще хуже обстоит дело с роскошью, которой я себя окружил. Самое дорогое сукно кажется мне недостаточно элегантным, иногда, в сильную жару, я дохожу в своем расточительстве до того, что ношу чистый шелк. Только, ради бога, мосье, не сообщайте этого графу Вержену, а то, чего доброго, его мнение обо мне изменится к худшему».
С того дня, как министр, переслав письмо, доказал Пьеру, что доверяет ему, дела Пьера стали поправляться.
С военным министерством был заключен договор, лучше которого он и желать не мог. Арсенал поставлял ему двести пушек по цене металлического лома, то есть по сорока су за фунт; чугун фирме «Горталес» продавали из расчета девяноста франков за каждую тысячу фунтов. За ружья тоже взяли недорого, что было весьма приятно. Как ни высоко было вознаграждение, выплаченное принцу Монбарею, еще ни одному поставщику оружия во Франции не удавалось купить товар по такой низкой цене.
А потом наконец-то пришли и деньги, которых с такой тревогой ждал Пьер, — миллион ливров от министерства иностранных дел, миллион турских ливров золотом и векселями.
Пьер вытряхнул золото из мешков на свой огромный письменный стол, и монеты покрыли его целиком. На этих золотых монетах были запечатлены черты многих правителей, на них видны были лица всевозможных Людовиков — Четырнадцатого, Пятнадцатого, Шестнадцатого, а также лица Марии-Терезии Австрийской, Фридриха Прусского, Карла Испанского. Пьер наслаждался их блеском и обилием, он пожирал глазами векселя, подписанные графом Верженом и визированные его первым секретарем Конрадом-Александром де Жераром. Он радовался от всей души.
Что касается деловых партнеров по ту сторону океана, для которых работала фирма «Горталес и Компания», то они еще ничего не знали о существовании этой фирмы и ее деятельности. До сих пор Пьер действовал, можно сказать, наудачу. В Лондоне ему отрекомендовался в качестве представителя колоний некий мистер Артур Ли, молодой человек, весьма воодушевленный борьбой своей страны и чрезвычайно довольный самим собой. Мистеру Ли кто-то шепнул, что настоящим уполномоченным Версаля является не официальный посланник, а мосье де Бомарше, Пьер не стал его в этом разуверять, мистер Ли всячески его обхаживал, и Пьер по секрету обещал ему полную поддержку Франции, сказав, что свяжет его с графом Верженом. Но когда Пьер, вернувшись в Париж, попытался заговорить о мистере Ли с министром, осторожный дипломат не пожелал ничего о нем слышать и наотрез отказался принять человека, известного в Лондоне в качестве представителя мятежников. Обидчивый мистер Ли решил, что Пьер не проявил достаточного усердия, и почувствовал себя уязвленным. Он отменил свою поездку в Париж, и ни о каких дальнейших переговорах с ним фирме «Горталес» нечего было и думать.
Между тем филадельфийский Конгресс решил направить во Францию особого уполномоченного, и вскоре американский агент появился в Париже. Это был некий Сайлас Дин.
Не ожидая визита Пьера, мистер Дин сам явился в Отель-де-Голланд. Внешне он походил на добропорядочного, хотя и несколько необычно одетого буржуа. У него был большой живот, обтянутый атласным, расшитым цветами жилетом. Сразу стало ясно, что это делец, с которым можно обсуждать вопросы по-деловому. Говорил он только по-английски, в парижской обстановке ничего не смыслил и был очень благодарен фирме «Горталес» за услуги, которые она ему предлагала; через несколько дней он стал приходить к любезному мосье де Бомарше со всеми своими заботами.
Доктор Дюбур пытался помешать этому сближению. Но в Версале мистеру Дину было сказано ясно и определенно, что доверенным лицом французского правительства является мосье де Бомарше. Американца это устраивало, Пьер нравился ему больше, чем доктор Дюбур.
Мосье де Бомарше и американский агент поладили без труда и вскоре заключили между собой официальный договор. Фирма «Горталес и Компания», представляемая мосье де Бомарше, обязалась поставить Конгрессу Объединенных Колоний, представляемому мистером Сайласом Дином, полное снаряжение для тридцатитысячной армии; к договору прилагался минимальный список товаров, подлежавших поставке. Конгресс Объединенных Колоний, со своей стороны, обязался оплачивать каждую партию грузов не позднее чем через восемь месяцев со дня получения, возмещая не менее сорока пяти процентов их стоимости векселями, а остальное — товарами.
Сердце Пьера трепетало от радости, когда этот договор, подписанный и скрепленный печатями, оказался наконец у него в руках. Он тотчас же поехал к мосье Ленорману. Что скажет Шарло теперь? Ликуя, расхаживал Пьер по комнате. Чего только он не добился за такой короткий срок! Французское правительство выдало ему первый миллион, испанское — гарантировало второй. Королевский Арсенал поставил большую часть нужных товаров по самым низким ценам, а теперь прибавился еще этот великолепный договор с уполномоченным Конгресса. Неужели Шарло по-прежнему считает его предприятие рискованным?
Мутными глазами глядел Ленорман на друга, пока тот расхаживал по комнате, с гордостью перечисляя свои успехи. Затем он медленно и внимательно прочитал документ, принесенный Пьером.
— Не позднее чем через восемь месяцев пятьдесят пять процентов товарами, сорок пять векселями. Очень хороший договор, — сказал он. — Кто такой этот мистер Дин? — спросил он вдруг, подняв глаза.
— Представитель Конгресса, — ответил чуть удивленно Пьер.
— Это я знаю, — любезно сказал своим жирным голосом Ленорман, — это он не преминул здесь отметить. Но что такое Конгресс? Кто или что стоит за Конгрессом? — И он бросил на Пьера меланхолический взгляд.
— За ним, — вспыхнул Пьер, — трудолюбивый трехмиллионный народ, страна огромных, нетронутых богатств, за ним…
— Это я знаю, — сказал Ленорман. — Но кому принадлежат эти богатства? Подписаться могут повстанцы, подписаться могут и лоялисты. — Он задумчиво поглядел на подпись. — Мистер Сайлас Дин, — пожал он плечами.
— Послушайте, Шарло, — сказал Пьер, — любой подписи можно не доверять. Но ведь вы прекрасно знаете, что за этим соглашением стоит твердая решимость его соблюдать. Этот договор будет выполнен, и притом обеими сторонами. Во всяком случае, вы должны признать, что сегодня фирма «Горталес» стоит на ногах тверже, чем в тот день, когда мы в первый раз толковали об ее шансах на успех. Тогда вы дали мне ссуду, дали великодушно, под небольшие проценты. Мне кажется, я поступил бы некрасиво, если бы теперь, когда шансы на успех так разительно возросли, снова не обратился к вам с просьбой: примите участие в этом деле. — Он говорил проникновенно, с теплотой в голосе.
Ленорман уставился в одну точку, опустив свою круглую голову с большим выпуклым лбом. Договор неплох. Договор даже очень хорош при условии, что за ним стоит сильная фигура, человек, способный в случае необходимости косвенным путем, через французское правительство, оказать нажим на американцев. Если бы он, Шарло, принял участие в этом деле, оно стало бы очень заманчивым и ему досталась бы доля барышей, львиная доля. Но инициатором великой авантюры все равно останется маленький Пьеро, это навсегда останется его идеей, его славой.
— Дорогой мой Пьер, — отвечал он с обычной своей обстоятельностью и неторопливостью, — дела действительно приняли недурной оборот, это я признаю, и чрезвычайно любезно с вашей стороны, что вы предлагаете мне изменить наши финансовые отношения. Но я неисправимый педант. Я люблю соблюдать договоры, хотя в отдельных случаях это мне и вредит. Я предпочитаю, — заключил он любезно, — оставить в силе наше соглашение, а также предусмотренные им проценты и гарантии.
Пьер был поражен. Он думал, что Шарло обеими руками ухватится за его предложение. Он полагал, что, заключив с американцами договор, сможет привлечь к своему предприятию кого угодно; он считал свой приход к Шарло актом великодушия. Поведение Шарло было ему непонятно. Неужели он, Пьер, ошибся, неужели все-таки недооценил риск? Шарло всегда отличался верным чутьем.
Озабоченный, хмурый, вернулся он в Отель-де-Голланд.
Но стоило ему переступить порог своего торгового дома, стоило обойти прекрасные комнаты, как его дурное настроение бесследно исчезло. Дерзкие слова, сказанные доктором Дюбуром в том письме к Вержену, побудили Пьера обставить Отель-де-Голланд с особой роскошью. И сегодня, уже не впервые, Пьер радовался блеску, который он здесь навел. Хорошо, что этот гордый дом служил доказательством его веры в правое дело и в деловой успех.
Он еще раз перечитал договор с Конгрессом. Покачал головой, усмехнулся. Вздор, все опасения Шарле — это просто приступ дурацкой мрачности.
Он вызвал Мегрона и, сияя от воодушевления, продиктовал ему письмо в Конгресс Соединенных Штатов.
— «Многоуважаемые господа, — диктовал он, — мое восхищение храбрым народом, героически отстаивающим под вашим руководством свою свободу, побудило меня принять участие в ваших благородных начинаниях. Я основал большое торговое заведение, чтобы снабдить вас всем, что может помочь вам в вашей справедливой войне. Я заключил соглашение с вашим уполномоченным в Париже и намерен поставить вам до конца текущего года следующие товары».
Он диктовал, шагая по комнате, а секретарь Мегрон стенографировал одним из своих новомодных карандашей. Пьер перестал шагать и медленно — чтобы секретарь поспевал — прочитал, заглядывая в готовый список:
216 пушек,
290 000 рационов пороха,
30 000 ружей,
200 орудийных стволов,
27 мортир,
13 000 гранат,
8 транспортных судов,
кроме того, полное обмундирование для 30 000 солдат, состоящее из:
30 000 одеял,
30 000 пар башмаков,
30 000 пар пряжек для башмаков и подвязок,
60 000 пар шерстяных чулок,
30 000 носовых платков,
120 000 пуговиц,
далее:
95 000 локтей сукна для мундиров,
42 000 локтей подкладочной материи,
180 000 локтей полотна для рубашек,
15 000 фунтов пряжи,
1 000 фунтов шелка,
100 000 толстых швейных иголок.
Это был бесконечный список, Пьер насладился им сполна. Затем он отложил его в сторону и сказал:
— Ну, каково, Мегрон? Никогда бы не поверил, что мы сможем это осилить.
Потом он снова стал диктовать, не скупясь на пышные обороты:
— «Многоуважаемые господа, — диктовал он, — ваши представители найдут во мне надежного друга, в доме моем — гостеприимный кров, а в ларцах моих — деньги, они найдут у меня всяческую поддержку их деятельности — как явной, так и тайной. По мере сил своих я буду устранять в кабинетах Европы все помехи, встречающиеся на вашем пути. Во всех портовых городах Франции и Испании я буду содержать агентов, которые по прибытии ваших кораблей засвидетельствуют свое почтение капитану и окажут ему всяческие услуги. Король Франции и его министры будут вынуждены принять официальные меры против этих нарушений торговых договоров с иностранными государствами. Но можете быть уверены, господа, что моя неиссякаемая энергия одолеет все трудности. Я позабочусь о том, чтобы обойти или даже вовсе отменить ограничения. Я помогу выполнить все операции, необходимые для наших дел.
Итак, многоуважаемые господа, считайте отныне мой дом европейским центром деятельности, направленной к вашему благу, а меня самого — пламенным поборником вашего дела, человеком, не ведающим иных помыслов, кроме как о вашем успехе, и до глубины души исполненным того чувства благоговения и восхищения, с которым имеет честь подписать это письмо
Преданный вам
Родриго Горталес и Компания».— Ну, Мегрон, — заключил Пьер, — разве это не великолепное письмо?
— Уверен, что филадельфийским господам не случалось еще получать подобных деловых писем, — сухо отвечал секретарь.
Когда Мегрон удалился, Пьер еще раз перечитал свой договор с мистером Сайласом Дином, представителем Конгресса Объединенных Колоний. Затем, довольный, спрятал этот документ в ларец, где лежал чертеж изобретения, лежал черновик «Цирюльника», лежали любовные письма.
Но сомнения Ленормана не переставали его тревожить, и Пьер все время чувствовал потребность поделиться своими заботами с разумным человеком. Поль Тевено отпадал, он был таким же заинтересованным лицом, как сам Пьер. Пьер отправился к Дезире.
— Ты явился как нельзя более кстати, — встретила его Дезире. — Через два дня начнутся репетиции.
«Театр Франсе» ставил заново «Жоржа Дандена», комедию о богатом балбесе, который женится на бедной Анжелике, прельстившись ее дворянством; она изменяет ему направо и налево, он узнает об этом, он застигает ее врасплох, у него неопровержимые доказательства, но он беспомощен. Анжелика в десять раз умнее его, она сваливает всю вину на него самого и в союзе со своими именитыми родителями заставляет его просить у нее на коленях прощения за все, что он вынес по ее милости. Дезире досталась роль Анжелики — роль весьма пикантная, если принять во внимание ее отношения с Шарле. Пьер улыбнулся, когда она сказала ему, что согласилась играть Анжелику; он представлял себе, с какой миной примет эту новость Шарло. «Ты этого хотел, Жорж Данден!»
Когда Дезире предложили эту роль, она сначала больше думала о Шарло, чем о «Жорже Дандене». Но как только она решила играть, все ее интересы сосредоточились на новой роли. Дезире была одержима своим искусством, она была прирожденной актрисой, она уже перестала быть Дезире, она стала Анжеликой. В «Театр Франсе» существовали священные традиции мольеровских спектаклей; насколько можно ей отступить от этих традиций? Все предыдущие дни она размышляла, спорила, принимала решения, отвергала их, принимала снова.
И вот теперь к ней пришел Пьер, один из немногих, знающих толк в игре. Она тотчас же взяла его в оборот, засыпала занимавшими ее вопросами, сыграла ему сначала одну сцену, потом другую. Театрал до мозга костей, он увлекся и вскоре забыл, для чего сюда явился. Они с головой ушли в работу, обсуждали жесты, ударения, горячились, ссорились, соглашались.
Через три часа — а он собирался провести у нее час — она сказала, переводя дух:
— Ну, вот, а теперь мы сделаем перерыв.
Он тоже с удовольствием вздохнул и ответил:
— Хорошо, Дезире, я у тебя поужинаю, а потом, с божьей помощью, продолжим репетицию.
Они были взволнованы совместной работой, и ужин получился веселый. Они болтали о «Театр Франсе», некоторые его традиции хвалили, другие ругали, говорили об актерах и о возможности реформ на сцене. Пьер любил «Жоржа Дандена», он лучше всякого другого понимал сочный, жестокий юмор этой комедии, она касалась их обоих, его и Дезире, не меньше, чем их друга Шарло. Как знаток, раскрывал он перед Дезире технику, с помощью которой достигал желаемого эффекта Мольер, он объяснял ей, что в этой технике сегодня приемлемо, что устарело. Дезире слушала его с воодушевлением. Когда Пьер говорил о театре, он становился еще умнее, еще блистательней, чем когда он выступал борцом за свободу.
Но постепенно мысли его возвратились к американским делам. Ловко переменив тему, он рассказал обо всем Дезире и наконец — между двумя бокалами вина — прочитал ей свое письмо Конгрессу. Не прочитал, а сыграл; его увлекли великолепие цифр, музыка фраз. Дезире по достоинству отблагодарила Пьера за интерес к своей Анжелике величайшим вниманием к его делам.
Но по мере того как он читал, лицо ее мрачнело все более и более.
— Знаешь ли ты людей, — спросила она, — из которых состоит американский Конгресс?
— Я их не знаю, — ответил с некоторым неудовольствием Пьер. — Я знаю только имена, но, конечно, это всего только имена. Несколько больше я знаю об их Франклине, об их Вашингтоне и Томасе Пейне. В Лондоне я познакомился с неким Артуром Ли; приятным его не назовешь, но он полон энтузиазма и, несомненно, честен. А что касается этого Сайласа Дина, которого они мне прислали, то за него я ручаюсь головой.
Миниатюрная, задумчивая, благоразумная, сидела перед ним Дезире.
— Значит, — настаивала она, — ты не знаешь людей, которым адресовал это письмо?
— Да, не знаю, — раздраженно уступил Пьер. — Но я знаю, что, став членами этого Конгресса, они тем самым поставили на карту свое состояние, даже больше, чем состояние. Мне этого достаточно.
Глаза Дезире приняли сосредоточенное выражение.
— Я пытаюсь, — сказала она, — представить себе, кто они, члены твоего Конгресса. Наверно, в большинстве своем это люди пожилые, завоевавшие известное положение и доверие сограждан, коммерсанты, адвокаты и тому подобное.
— Ну, так что же? — вызывающе спросил Пьер. — Разве коммерсанты не могут быть идеалистами?
— Это вполне возможно, — согласилась Дезире. — Но в одном можно быть уверенным: деловые люда удивятся, получив такое письмо.
— Об оружии, нужном для борьбы за свободу, нельзя писать тем же слогом, что о селедках, — резко ответил Пьер.
— Ты написал это для парижан, — возразила Дезире, — для читателей твоих брошюр. Боюсь, что на добропорядочных филадельфийцев ты не произведешь впечатления серьезного, делового человека.
— А какое же еще впечатление могу я произвести своими мундирами и пушками? — раздраженно спросил Пьер.
Дезире ответила:
— Например, впечатление человека, который только разыгрывает из себя дельца, чтобы переслать товары, бесплатно предоставленные французским правительством.
— Ты думаешь, они не заплатят? — спросил Пьер на этот раз необычайно тихо и очень смущенно. Он вспомнил Шарло, вспомнил замечание своего секретаря Мегрона. Может быть, и впрямь следовало вместо этого прочувствованного послания отправить в Филадельфию сухую записку. Может быть, эти люди в самом деле не любят платить, и письмо его только подкрепит их уверенность в том, что товары, присланные им из-за океана, — подарок французского короля. Но он тут же прогнал эту мысль. — Пустяки, — сказал он. — Я заключил отличный договор с надежнейшим мистером Дином. Конгресс заплатит, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Я имею дело с представителями добродетельного народа.
— Будем надеяться, — сухо сказала Дезире. Потом она снова заговорила о «Жорже Дандене», и они опять принялись за работу. Но Пьеру уже не работалось так, как прежде, и вскоре он удалился.
Так как в финансовом отношении миссия, порученная Пьеру версальским правительством, приносила покамест одни лишь убытки, Пьер хотел использовать ее хотя бы для того, чтобы освободиться от тяготевшей над ним «вины», от «пятна» судебного приговора, запрещавшего ему занимать почетные должности. Уже три года прожил он в этом странном, двойственном положении; он — виднейший в стране драматург, он известен всей Европе своими брошюрами, королевский двор к нему благосклонен, министры поручают ему важные дела, женщины его балуют, он популярен и в великосветских салонах, и в парижских кафе и трактирах, но в то же время он на подозрении, на нем «клеймо» приговора.
Все эти годы он выказывал полное равнодушие к своему двусмысленному общественному положению и даже острил, когда кто-нибудь касался этой темы. Но его равнодушие было напускным. Ему надоело быть придворным шутом, которому аплодируют и которого презирают.
Уже много раз заговаривал он с графом Верженом о том, что такому трудному предприятию следует посвятить себя безраздельно и целиком, а между тем мысли о позорном приговоре и попытки добиться пересмотра дела отнимают у него, Пьера, много сил. Министр делал вид, что не понимает его намеков. Но теперь, когда материальная компенсация его усилий заставляла себя так долго ждать, Пьер не желал мириться с отсрочкой реабилитации. Он пошел к министру с твердым намерением не выходить из кабинета, пока не добьется обещания устроить пересмотр дела.
Со всей решительностью и горячностью он заявил, что если правительство христианнейшего короля доверяет человеку такую важную и почетную миссию, то оно должно снять наконец с этого человека обвинение, предъявленное ему пристрастным судом. Правительство обязано так поступить в интересах собственного престижа.
Граф Вержен глядел на Пьера своими круглыми, доброжелательными, задумчивыми глазами. Министр был патриотом и философом, преданным делу прогресса. Он давно уже решил оказать помощь американским повстанцам; он боялся, что, если их положение окажется безнадежным, они в конце концов помирятся с метрополией, и тогда Франция навсегда упустит благоприятный случай рассчитаться с Англией за позор 1763 года. С другой стороны, министр знал лучше, чем Пьер, что отважиться на войну с Англией можно будет еще очень нескоро, и предложение Пьера об оказании тайной помощи американцам пришлось ему весьма кстати; способный, изобретательный Бомарше казался ему самым подходящим для этого дела человеком. Поэтому граф Вержен чувствовал к Пьеру расположение и был ему в известной мере признателен.
Но он прекрасно видел и слабые стороны Пьера. Сам он был тихим, ироническим человеком, склонным к осторожности в выражениях; шумливость, комедиантство и тщеславие Пьера ему претили. «Пятно» Пьера он не принимал всерьез; в этом было больше забавного, чем трагического, это было чем-то вроде грязного пятна на спине у сверхэлегантного щеголя.
К тому же граф Вержен отличался медлительностью, он любил действовать не торопясь. Он и теперь ответил:
— Вы всегда так горячитесь, дорогой мой. Я же сказал, что готов вам помочь. Но неужели вы не можете потерпеть, неужели не можете немного подождать?
— Нет, нет, нет, — возразил Пьер, — не могу. Я боюсь, — продолжал он злым, дерзким и любезным тоном, — я боюсь, что, покамест с меня не снимут этого пятна, я не смогу оправдать своей работой возлагаемых на меня надежд. Я боюсь, что до тех пор, пока меня не реабилитируют, американцы будут получать меньше пушек и снаряжения.
Не тот человек был граф Вержен, чтобы пугаться таких грубых угроз. Но он заметил решительное и мрачное выражение лица Пьера. Впервые этот человек показался ему совсем не потешным. Министр понял, как глубоко ранил Пьера несправедливый приговор и каким нужно было обладать мужеством, чтобы в течение трех лет острить по поводу незаслуженной обиды.
Вержен поигрывал пером, глаза его были задумчивы.
— Не находите ли вы сами, мосье де Бомарше, — сказал он, — что если бы правительство назначило пересмотр вашего дела именно сейчас, то это привлекло бы внимание англичан? А ведь шума мы, во всяком случае, хотим избежать.
Пьер не без резкости ответил:
— Видно, уж мне самой природой суждено обращать на себя внимание. Всякий способный человек обращает на себя внимание, ибо таковых, к сожалению, немного.
— Благодарю за науку, — нисколько не обидевшись, возразил Вержен.
Между тем Пьер, перейдя на самый любезный тон, продолжал:
— Простите меня, граф, за то, что я потерял самообладание. Но вся эта история волнует меня гораздо больше, чем вы, вероятно, полагаете. Впрочем, — сказал он с беззаботно-покорной улыбкой, — пройдет еще много месяцев и, может быть, даже лет, пока будут исполнены все формальности и можно будет начать процесс.
Министр ухмыльнулся.
— Вы, пожалуй, правы, — заметил он. И пообещал: — Хорошо, я поговорю с коллегой из судебного ведомства. Американцы не должны испытывать недостатка в пушках и ружьях, — заключил он с улыбкой.
Пьер рассыпался в благодарностях. Но на этот раз он решил довести задуманное до конца.
— Граф, — сказал он, — ваша голова обременена таким множеством дел, что было бы просто нескромно с моей стороны взваливать на вас еще мои собственные. До сих пор правительство доверяло мне самые разнообразные посты. Поэтому я набрался мужества взять на себя — на самый непродолжительный срок — также и функции вашего секретаря. Я позволил себе подготовить ваше письмо господину генеральному прокурору, — и с любезно-дерзкой улыбкой он протянул графу исписанный лист бумаги. Письмо гласило: «Важные дела короны требуют, чтобы мосье де Бомарше в ближайшее время предпринял несколько длительных поездок. Он, однако, затрудняется их предпринять, прежде чем будет решен вопрос о пересмотре его дела. Если бы вы, господин генеральный прокурор, смогли повлиять в этом направлении, вам был бы крайне обязан преданный вам…» — Вам нужно только поставить подпись, граф, — с плутовским видом сказал Пьер.
Министр спросил себя, не осадить ли этого беспардонного малого. Решил, что не стоит. Усмехнулся.
— Вы еще беззастенчивее, чем герои ваших комедий, — сказал он и подписал.
— Я был уверен, что вы войдете в мое положение, — ответил с искренней благодарностью Пьер и взял письмо, ибо хотел передать его сам и немедленно.
Он радовался, что сможет рассказать своим близким об этом новом успехе. Кто-кто, а Тереза, принимающая столь горячее участие в его борьбе за свои права, будет счастлива еще больше, чем он сам. Хорошо, что она прислала записку, в которой зовет его поскорее приехать в Медон.
Сдержанная Тереза редко присылала ему подобные письма, обычно только когда ей надо было что-нибудь с ним обсудить. Теперь, правда, все, наверно, пойдет по-другому. Она теперь живет не по соседству, она переселилась в медонский дом, который он ей подарил. А дом принял совсем иной вид, чем он себе представлял. Перестройку и меблировку он целиком поручил Терезе, а она, к его удивлению, устроила все очень скромно и просто. Когда он впервые увидел заново отделанный дом, он с трудом скрыл свое разочарование и у него мелькнула мысль, что если он не живет вместе с Терезой, то в этом есть и своя хорошая сторона.
Но сегодня, полный своей великой новостью, он радовался, что она его вызвала. В самом веселом настроении он тотчас же отправился в Медон. Ему не терпелось ее увидеть, ему казалось, что карета движется слишком медленно. На этот раз он нашел, что дом, в сущности, недурен. Ведь простое убранство сейчас самое модное. У Терезы хороший вкус, она знает, какая оправа ей нужна.
Она вышла ему навстречу, и он тотчас заметил, что сегодня она не такая, как всегда; она казалась веселой, но необычно смущенной. Едва они вошли в дом, она сказала:
— Мне нужно тебе кое-что сообщить, Пьер.
Однако Тереза, всегда такая уверенная и спокойная, не находила сегодня нужных слов, она улыбалась, останавливалась на середине фразы, и все это в каком-то счастливом замешательстве.
Пьер понял не сразу. Когда же понял, пришел в бурный восторг. Ребенок, у него будет ребенок от Терезы. От первого брака у него не было детей, дети от второго брака умерли. В Испании у него, вероятно, подрастает ребенок, но мать рассталась с ним в гневе, и ему так и не удалось ничего узнать толком. Ребенок от Терезы — это великолепно.
И эту радостную весть он узнал чуть ли не в тот же самый день, когда добился пересмотра своего судебного дела.
Боже мой, ведь Тереза еще ничего не знает о его успехе. Он стал рассказывать. Воодушевился. Его воодушевление передалось Терезе. Она участвовала в его долгой борьбе, и вот теперь благодаря своей настойчивости, своей гибкости, своей энергии, своей хитрости и своему терпению он победил. Она испытывала такой же подъем, как тогда, когда впервые прочитала его брошюры, более того — она думала про себя: сбылось! На ее большом, красивом лице выступил легкий румянец, а рот приоткрылся в счастливой улыбке.
— Сегодня хороший день, Пьер, — сказала она. Она говорила тихо, но голос ее звучал еще полнее, еще глубже, чем обычно.
Только теперь, когда кто-то целиком разделял его гордую радость, счастье Пьера достигло вершины. Да, Тереза понимала его лучше, чем любая другая женщина на свете, она была поистине нареченной. Они должны быть вместе, и теперь больше, чем когда-либо.
— Да, — подхватил он ее слова, — это действительно большой день. — И с жаром продолжал: — А теперь мы поженимся, Тереза, не хочу больше слышать никаких возражений.
Но не успел он кончить фразу, как дом снова перестал ему нравиться.
— Как только меня реабилитируют, — заключил он, — мы поженимся.
Она задумалась, и ее большие серые глаза под высоко поднятыми бровями чуть потемнели.
— Если ты считаешь это нужным, Пьер, — сказала она все так же тихо, но без обычной уверенности. — Сколько времени, — продолжала она, — потребует твоя реабилитация?
— Это может произойти очень скоро, месяца через два-три, — ответил он.
Так оно и было. Но из-за судебного произвола дело могло затянуться, и он чувствовал некоторую неловкость оттого, что обусловил свое предложение каким-то сроком. Но как бы то ни было, предложение сделано, и хорошо, что она не обиделась. Они больше не говорили об этом, зато Пьер особенно весело и усердно принялся предлагать ей разные имена для ребенка. Они решили, что мальчика назовут Александром, а девочку — Эжени.
— Тогда, значит, первый свой корабль, который пойдет в Америку, — заявил с энтузиазмом Пьер, — я назову «Александр», а второй — «Эжени», чтобы предусмотреть оба случая.
В замке Этьоль, резиденции мосье Ленормана, праздновали день рождения хозяина, которому исполнился шестьдесят один год. Мосье Ленорман славился своими празднествами, к нему любили ходить в гости.
Прекрасный английский парк при замке как нельзя более подходил для светских приемов. Погода стояла великолепная, дул ветерок, и слишком жарко не было. На большинстве дам были пестрые платья и большие светлые шляпы. Гости устраивались в шатрах и на газонах, у разостланных на траве скатертей, ели, пили, играли в незатейливые игры. Кто питал пристрастие к играм более азартным, чем жмурки или крикет, для тех были приготовлены ломберные столы на воздухе и в помещении. В самое жаркое время дня можно было расположиться на диванчиках, специально для этого поставленных в тени деревьев, на террасах и в самом доме.
Теперь, когда стало прохладнее, весь огромный парк наполнился людьми. От внимания гостей не ускользнуло присутствие большого числа придворных. Здесь были герцог д'Эйан, граф и графиня де Ноай, молодой герцог де Ларошфуко, а также супруга премьер-министра, мадам де Морепа. Общее внимание обращала на себя Дезире Менар. Репетиции «Жоржа Дандена» поглощали почти все ее время; но мосье Ленорман, может быть, именно потому, что она готовила роль Анжелики, необычайно настойчиво просил ее приехать. И вот она здесь; яркая, изящная, рыжеволосая, очень уверенная в себе, она несколько вызывающе прогуливалась по газонам в окружении мужчин.
Мадам де Морепа, по обыкновению, находилась в обществе своей ближайшей подруги, принцессы Монбарей. Они сидели на террасе, потягивали охлажденный во льду лимонад и весело злословили о других гостях. Указав глазами на Дезире, мадам де Морена сказала:
— Подумать только, что такая тоненькая гусеница гложет такой жирный лист.
Было здесь много совсем молодых людей, даже детей, — мосье Ленорман любил молодежь. Принцесса Монбарей также привезла свою дочь, четырнадцатилетнюю Веронику, очень серьезную девочку.
— Плохие нынче времена для детей, — жаловалась мадам де Монбарей. — Наше поколение правильно воспитывали, наши монастырские дамы еще прививали нам вкус к радостям жизни. А поглядите на теперешних девиц, поглядите на мою Веронику, дорогая. В какую брюзгу ее превратили. С тех пор как у нас отняли религию, наши дети стали скучны и нравственны. Что это за мальчик, с которым она беседует? Разве у него не дьявольски унылый вид?
Мальчик, с которым беседовала Вероника, был Фелисьен Лепин, племянник мосье Пьера де Бомарше. Молодой человек с угловатым, суровым лицом и большими задумчивыми глазами, в длинном, табачного цвета сюртуке выглядел неуклюжим среди пестрой, живой толпы. Голова шагавшей рядом с ним девочки казалась слишком большой на ее худеньких обнаженных плечах, а пышная, белая в цветах юбка подчеркивала трогательную тонкость ее талии. Так — не по годам взрослые и задумчивые — бродили эти дети среди шумной, праздничной сутолоки, словно они здесь были одни. Во время знакомства Вероника бросила на Фелисьена испытующий, но в то же время ласковый взгляд, и мальчик, обычно замкнутый и смущенный поддразниваниями товарищей, сразу почувствовал к ней доверие. Робко и косноязычно пытался он теперь рассказать ей о своих переживаниях. Этот тон был по душе Веронике. Глядя на него большими теплыми глазами, она призналась ему, что часто и сама чувствует себя чужой и одинокой среди подруг.
Дети уселись у входа в искусственный грот. Они расположились на неудобных, высеченных в камне сиденьях, и под плеск фонтана Фелисьен с гордостью и смущением поведал девочке, что ему случается читать запрещенные книги. Он прочел даже две книги всеми поносимого и преследуемого властями философа Жан-Жака Руссо. Прочитав эти сочинения, он стал другим человеком. Жизнь людей вокруг него представляется ему с тех пор искусственной, легкомысленной, запутанной и греховной. Мы живем среди сплошных извращений и предрассудков, далекие от того естественного состояния, для которого предназначены создавшим нас высшим существом. Много лучше, чем наша жизнь, жизнь подлинных детей природы, так называемых дикарей. Не разделяет ли она это мнение, спросил он Веронику смущенно, решительно и мрачно одергивая слишком длинные рукава своего кафтана.
Вероника отвечала, что ей приходилось слышать о Жан-Жаке Руссо. Но ясное представление об идеях Руссо она получила впервые только сейчас, благодаря Фелисьену. Эти идеи ей очень близки. Торжества, подобные сегодняшнему, ей тоже не доставляют радости, и она тоже мечтает об уединении на лоне природы.
Затем Фелисьен рассказал о своем дяде, мосье де Бомарше. Тот живет в самой гуще шумного мира цивилизации, но знает толк и во многом другом, он восприимчив ко всем великим идеям. С таинственным видом Фелисьен прибавил, что мосье де Бомарше, по-видимому, даже участвует в создании того царства свободы, разума и близости к природе, которое сейчас строится в Новом Свете. И все-таки он, Фелисьен, не в силах преодолеть свою робость и заговорить с мосье де Бомарше о том, что его, Фелисьена, так глубоко волнует. Она, заключил Фелисьен смущенно и восторженно, первая, с кем он говорит об этих вещах.
К ним подошел Поль Тевено. Он раскраснелся, у него был возбужденный вид. С жадностью больного, дни которого сочтены, он всегда тянулся к людям, искал дружбы, любви, сенсаций, и присутствие стольких красивых, молодых, празднично одетых женщин оказывало на него живительное действие. Строгая, несколько высокомерная простота Вероники очень его привлекала. Он поздоровался с молодыми людьми, сел с ними рядом, попытался вступить в разговор. Но они отвечали ему односложно, и, поняв, что он здесь лишний, Поль огорченно умолк и удалился.
Он досадовал на свою неловкость. Он дал себя оттеснить этому ребенку Фелисьену. Мосье де Бомарше повел бы себя на его месте совсем по-иному. Тот самым любезным и непринужденным образом отодвинул бы Фелисьена на задний план и добился бы, чтобы маленькая Монбарей замечала только его, Бомарше. Поля всегда восхищала в Пьере легкость, с которой тот приобретал друзей и завоевывал женщин.
Собственно говоря, он, Поль, не мог жаловаться на отсутствие успеха у женщин. Но стоило женщине, которой он добивался, не обратить на него внимания, как он робел, терял мужество и чувствовал себя подавленным. Может быть, причиной этой робости было ощущение своего физического убожества. Однако он сознавал, что лицо его достаточно страстно, умно и даже привлекательно, чтобы женщина забыла о его жалком теле.
Он заметил рослую девушку, одиноко сидевшую на скамье. У нее были живые, с длинными ресницами глаза, крылатые, смелые брови, полный, сильный подбородок; вырез дорогого, очень простого лилово-розового платья открывал смуглые, тускло блестевшие плечи и грудь. Поль часто бывал в обществе Терезы, но никогда он не видел ее такой; ему казалось, что он видит ее впервые.
Пьер представлялся ему баловнем судьбы. Жизнь Пьера была непрерывным потоком потрясающих событии, и поток этот становился все шире и громче. Ему же, Полю, жить осталось немного, а что он успел взять от жизни? Пьер, наверно, даже не сознает, какой он счастливый. Он берет все, что ему достается, как нечто само собой разумеющееся.
Увидев Поля, Тереза улыбнулась ему. Ей нравился этот по-мальчишески беспокойный и явно влюбленный в нее человек, она знала об его болезни и относилась к нему с большим сочувствием. Пьер никогда не скупился на похвалы энергии Поля, и Тереза видела, как предан Поль Пьеру.
Она подвинулась и попросила Поля присесть с ней рядом. Они говорили о предприятии Пьера, он рассказал ей об объеме этого нового дела, об его заманчивых и опасных сторонах. Деловые подробности не очень интересовали Терезу, но ей было приятно, что Пьер сообщил ей только о политическом значении американского предприятия и умолчал о своем личном риске.
Ее удивляло, что Пьера до сих пор нет. Поль тоже был поражен. Всем недоставало Пьера; он бывал душой знаменитых празднеств мосье Ленормана.
Наконец Пьер пришел. Он обнял Шарло и извинился за опоздание. Когда он уже выезжал из дому, явился курьер с заокеанской почтой, и он, Пьер, не мог устоять перед искушением прочитать ее немедленно. Его нетерпение оправдало себя, продолжал он с самым загадочным и сияющим видом. Он получил чрезвычайной важности известия из Америки и просит у мосье Ленормана разрешения поделиться ими с ним и с его гостями.
Он стал на холмик под старым кленом, а гости, любопытствуя, собирались вокруг него. И вот он стоял, окруженный нарядными мужчинами и дамами из Парижа и из Версаля, ждавшими, что он скажет. И когда наступила тишина, а потом и глубокая тишина, он начал:
— Дамы и господа. Только что к нам прибыл документ, в начале июля единогласно одобренный и провозглашенный Конгрессом Объединенных Колоний, или, вернее, Конгрессом Соединенных Штатов Америки. У меня в руках подлинный текст этого воззвания на английском языке. Позвольте мне перевести вам его. Правда, мой перевод будет несколько поверхностным и не сумеет передать всей силы оригинала, превосходно сочетающего спокойствие с пафосом.
И, переводя, он огласил этот документ:
— «Если ход событий вынуждает один народ порвать политические узы, связывающие его с другим народом, чтобы занять среди держав мира то независимое и равноправное положение, на которое ему дают право законы природы, — уважение к мнению человечества требует, чтобы этот народ изложил причины, толкнувшие его на такой разрыв.
Мы считаем, и это истины, не нуждающиеся в доказательствах, что все люди созданы равными, что они наделены творцом такими неотъемлемыми правами, как жизнь, свобода и стремление к счастью. Мы считаем, что правительства у людей на то и существуют, чтобы охранять эти права, и что права и полномочия правительств зависят от согласия управляемых. Следовательно, если какая-либо система управления отступает от этих целей или вовсе ими пренебрегает, то народ имеет право, изменив или отменив старую систему, создать новое, основанное на таких принципах управление, все формы и полномочия которого были бы направлены на обеспечение безопасности и счастья народа».
Читая эти фразы, Пьер воодушевлялся, заново. Ему было важнее передать слушателям впечатление, которое произвел на него американский документ, чем точно его перевести. И это ему удалось. Увлекшись сам, он увлек других. Он стоял на холмике под развесистыми ветвями старого клена, а к нему устремлялось множество взволнованных взглядов. К Пьеру подбежала одна из собак Ленормана, большой черно-белый пятнистый дог; держа в одной руке листок, он стал другою гладить голову пса. Пьер стоял выпрямившись, с сияющим лицом, а собака доверчиво льнула к нему. Иногда от волнения звонкий его голос делался хриплым, но он не старался говорить красиво; если перевод сразу не удавался, он, не стесняясь, обрывал фразу на середине и начинал ее снова. Как раз поэтому слова его звучали так непосредственно, что казалось, будто они родились только сейчас.
— «Осторожность и мудрость требуют, — читал он, — чтобы правительства, державшиеся длительное время, не менялись по незначительным, преходящим причинам. Опыт показывает, что люди склонны скорее сносить зло, покамест оно терпимо, чем пресекать его, устраняя формы, с которыми они сжились. Но если бесконечные злоупотребления и акты произвола неукоснительно преследуют одну и ту же цель — навязать народу деспотический абсолютизм, то народ этот вправе и обязан свергнуть правительство и создать новые гарантии своей безопасности в будущем. Именно таким было страдальческое терпение этих колоний. Именно такова необходимость, заставляющая их ныне изменить прежнюю систему управления».
То, что читал Пьер, было для его слушателей не ново. Это были идеи, знакомые им по книгам Монтескье, Гельвеция, Вольтера, Руссо. Но если до сих пор эти идеи воспринимались только как некая игра остроумия, то теперь они стали вдруг делами, политическими фактами; они звучали не со страниц книг и не из уст философа, — нет, их провозгласили своим девизом люди, решившие построить новое государство.
Стояла глубокая тишина. Даже вышколенные лакеи, привыкшие и обязанные неустанно прислуживать, изменили своему обыкновению; с блюдами в руках, вытянув шеи, напряженно ловя каждое слово, застыли они на краю лужайки. В заполненном людьми парке было так тихо, что стали слышны и пенье птиц, и малейшее дуновение ветра. Все, не отрывая глаз, глядели на Пьера, большинство — с восхищением, некоторые — с недовольством, словно он сам был автором этой декларации. Многие знали, что у него какие-то дела с повстанцами, иные посмеивались над этими делами сверхпредприимчивого дельца. Теперь над ним уже никто не посмеивался. Теперь все чувствовали, все знали, что этому Пьеру Карону де Бомарше поручено дело мирового значения, что он олицетворяет участие Франции в грандиозном замысле, осуществляемом по ту сторону океана.
А Пьер читал:
— «История нынешнего короля Великобритании — это история непрекращающихся несправедливостей и произвола, это хроника дел, единственная цель которых — абсолютная тирания над нашими штатами. В доказательство своей правоты мы предлагаем вниманию всего непредубежденного мира следующие факты. Он отказался одобрить законы, крайне полезные и крайне необходимые для общественного блага, он с помощью своих губернаторов затягивал утверждение неотложных законов, он чрезвычайно небрежно относился к своей обязанности изучать законопроекты. Он созывал законодательные корпорации в местах, где они никогда прежде не заседали, в местах неподходящих, неудобных и удаленных от хранилища государственных актов, преследуя только одну цель — придраться к этим корпорациям и тем самым воспрепятствовать их деятельности».
Большими, карими, сияющими глазами глядел на своего друга и повелителя Поль Тевено. Он стоял в неизящной позе, в его вялых, обвисших плечах было что-то жалкое, но его красивая, одухотворенная голова жадно тянулась вперед: он впитывал в себя каждую фразу обвинения, выдвинутого Конгрессом Соединенных Штатов против английского короля. Поль забыл о стоявших вокруг него женщинах, забыл о своей болезни, в его душе отдавалось музыкой все, что он слышал, — низложение недостойного монарха, свобода, Америка, великая война, оружие для Америки, великая миссия, на его друга пал выбор и на него самого.
Графиня Морена, супруга премьер-министра, тоже слушала теперь молча и не отрываясь. Когда Пьер начал говорить, она как раз нашептывала какой-то анекдот своей подруге Монбарей. Но тут произошло нечто такое, чего с ней никогда еще не случалось. Молодой герцог де Ларошфуко сердитым шепотом сказал ей:
— Пожалуйста, не мешайте, мадам. — И, скорее пораженная, чем обиженная, она умолкла на полуслове.
Терезе кто-то разостлал плед на выложенном дерном холмике. Там она и сидела, и ее большое, живое лицо было устремлено к ее другу и возлюбленному. Сосредоточенно слушала она фразы, которые он произносил, она пила их, она видела его пылавшее прекрасным волнением лицо, она очень его любила. Он умолчал в разговоре с ней о деловом риске, связанном с его предприятием. Дело, за которое он боролся, было благородным делом гражданской свободы. То, что он говорил, и то, как он это говорил, напоминало слова, которые однажды толкнули ее к нему, напоминало фразы из брошюр времен его злосчастного процесса, когда он боролся не только за себя, но и за право и справедливость для всех, когда он от имени граждан всего мира выступал против аристократии, против привилегированных.
Пьер читал:
— «Король Англии неоднократно распускал палату представителей, потому что она мужественно противостояла его нападкам на права народа. Он учреждал множество новых должностей и присылал толпы чиновников, чтобы они изводили наш народ крючкотворством и прибирали к рукам наши богатства. Он заставлял нас в мирное время содержать его регулярные войска, не считаясь с волей наших законодательных корпораций».
Сильное и выразительное лицо актера Превиля из «Театр Франсе» застыло как маска, когда он слушал чтение Пьера. Слова декларации волновали Превиля, но в то же время он был зол на этого Карона де Бомарше, который всегда отнимал у людей лучшую долю заслуженной ими славы. Мало того что этому Бомарше приписывали главную заслугу в успехе «Севильского цирюльника», комедии, которую он только сочинил, тогда как они, актеры, и в первую очередь он, Фигаро-Превиль, завоевали пьесе победу, — этот выскочка выхватывает у него из-под носа и такой в общем-то пустяк, как успех на сегодняшнем празднестве. Неделями работали люди над маленьким фарсом, который предстояло показать после ужина, десятилетиями изучали технику игры и речи, и вот откуда ни возьмись является этакий дилетант, становится под дерево, почесывает собаке голову, читает по бумажке, — читает неумело, без подготовки, запинаясь, — и нашему брату уже нечего делать.
Просветленный, сияющий, глядел на своего сына папаша Карон. Старик стоял выпятив грудь, гордый своим мещанским кафтаном. Священник, проповедь которого он слушал, присутствуя в последний раз на гугенотском богослужении, казался ему высшим олицетворением великого, справедливого, карающего гнева. Но сейчас на его глазах сооружался еще более внушительный монумент возмущения. Воспоминание о священнике померкло при виде стоявшего под деревом человека, который клеймил английского тирана и бил в колокол свободы.
А Пьер продолжал читать о преступлениях английского короля:
— «Он отдал нас во власть юрисдикции, чуждой нашему укладу и отвергнутой нашими законами. Он расквартировал у нас многочисленное войско. Он лишил нас торговых связей со всем остальным миром. Он обложил нас налогом, не спрашивая нашего согласия. Он увозил наших граждан за океан, чтобы судить их за мнимые преступления. Он упразднил наши законодательные корпорации и присвоил себе право устанавливать для нас законы по своему усмотрению. Он сам отрекся от власти над нами, отказав нам в своей защите и поведя против нас войну».
Среди тех, кто глядел на Пьера, читавшего американское воззвание, был и благодушный, похожий на добропорядочного обывателя, несколько непривычно одетый человек; плотный, расшитый цветами атласный жилет обтягивал его круглый живот. Это был мистер Сайлас Дин, представитель Объединенных Американских Колоний. Он внимательно следил за говорившим. Он чувствовал всеобщее возбуждение, чувствовал, что речь идет об Америке, но, не зная французского языка, не понимал ни слова. Среди нескольких сот человек он был единственным, кто не сообразил, что он теперь ужо не представитель Объединенных Колоний, а представитель Соединенных Штатов.
Далеко от него стоял в толпе доктор Дюбур. Он умышленно не прошел вперед, поближе к оратору. Чем похвастается сегодня этот борзописец и выскочка Пьер Карон? Когда выяснилось, что сообщение Пьера действительно необычайно важно, доктору Дюбуру стало на миг досадно, что не он сам, а мосье Карон сообщил столь избранному обществу эту новость. Конечно, тот может позволить себе такую роскошь, как специальный курьер из Гавра, а он, Дюбур, получит это известие в лучшем случае только завтра. Но в следующее мгновение доктор Дюбур думал уже не о своей вражде с Пьером Кароном, а о содержании сообщения Пьера; он был захвачен пафосом благородных слов, перед его глазами вставал образ его великого друга, доктора Вениамина Франклина. Теперь, значит, Франклин на это отважился. Теперь, значит, Франклин этого добился. И путем обратного перевода доктор Дюбур мысленно соединял звонкие, блестящие фразы Пьера в размеренные, неторопливые периоды своего почтенного друга.
А Пьер читал:
— «Король Англии учинил грабеж в наших морях, он напал на наши берега, он сжег наши города и многих из нас лишил жизни. Теперь он переправляет через океан армии чужеземных наемников, чтобы завершить черное дело смерти, разбоя и тирании, начатое им с такой жестокостью и таким вероломством, каких не знали и самые варварские времена. Он натравил на нас индейцев, бессердечных дикарей, для которых война означает поголовное истребление противника без различия пола и возраста. Несмотря на все притеснения со стороны короля, мы самым почтительным образом ходатайствовали перед ним о прекращении произвола. Ответом на наши неоднократные просьбы служили только новые оскорбления. Правитель, обладающий всеми качествами тирана, не может властвовать над свободным народом. Поэтому мы вынуждены отделиться от наших британских братьев и считать их, как и все остальное человечество, врагами в войне, друзьями в мире».
Дезире сидела на скамеечке, наклонившись вперед, подперев щеку рукой; ее красивое, дерзкое лицо было задумчиво, брови сдвинуты. Она слушала чтение Пьера, как главную сцену волнующей своей новизной пьесы. Странно, что эти простые, исполненные достоинства слова, которые, конечно, еще долго и часто придется слышать, впервые прозвучали из уст ее легкомысленного, изящного, остроумного Пьера. Она видела, что Пьер не играет, не позирует, что он до глубины души полон тем, что сейчас читает. Он явно забыл, что этот великий манифест имеет отношение и к его деловым интересам. Она поглядела в сторону Шарле. Вид у него был угрюмый и, словно у человека, слушающего музыку, глуповатый. Лицо его ничего не выражало, и вполне возможно, что про себя он уже отметил связь, существующую между провозглашением человеческих прав, с одной стороны, и делами — своими и Пьера — с другой.
И уже совсем как зачарованные, забыв все на свете, слушали Пьера Фелисьен и Вероника. Они давно уже смутно чувствовали, что не может не быть, не может не существовать на свете чистоты, свободы, правды, идеала; но все это были только предчувствия, только догадки. Теперь эти догадки стали знанием, стали уверенностью. Свободу, правду, идеал можно было теперь видеть воочию. С отрешенными лицами ловили дети каждое слово декларации. Они незаметно для себя взялись за руки, не отрывая глаз от человека, который произносил эти окрылявшие душу слова.
А тот стоял во весь рост и, торжествуя, бросал безмолвной толпе заключительные фразы декларации:
— «Мы, представители Соединенных Штатов Америки, собравшись на очередном заседании Конгресса и призывая всевышнего судию в свидетели наших честных намерений, торжественно заявляем от имени и по поручению доброго народа этих колоний: эти Объединенные Колонии являются отныне свободными и независимыми штатами. Они не имеют отныне никакого отношения к британской короне. Всякие политические связи между ними и государством Великобританией прекращены окончательно и бесповоротно. Твердо уповая на божественное провидение, мы ручаемся за выполнение этой декларации своей жизнью, своим состоянием, своей честью».
Когда Пьер кончил, почти целую минуту стояла мертвая тишина. Потом все захлопали в ладоши, устремились к Пьеру, окружили его, стали его обнимать; они говорили ему что-то бестолковое и бессвязное — все эти нарядные, блестящие, изящные, церемонные господа и дамы из Парижа и Версаля. Восторг был такой, словно речь шла не о событиях, которые произошли много недель назад за тысячи миль от Франции, а о декларации, непосредственно касающейся всех собравшихся, словно они сами провозгласили ее, словно этот стоявший среди них человек сочинил ее от их имени.
Впрочем, некоторые вскоре почувствовали, что такой восторг не вполне уместен и что слишком долго поддерживать его не следует. Мадам де Морепа, например, заметила своей подруге Монбарей:
— Кто, кроме нашего Туту, сумел бы приправить свои делишки таким великолепным соусом?
Она обычно называла Пьера «наш Туту».
Хозяин дома и виновник торжества мосье Ленорман также не разделял всеобщего энтузиазма. Правда, как только Пьер кончил, с лица Ленормана сошло выражение угрюмой растерянности, и когда при нем восхищались декларацией, он вежливо кивал своей большой головой; но в глубине души он вовсе не был согласен с тоном этого заявления. Он был передовым человеком, он сочувствовал делу инсургентов и желал поражения англичанам. Но он был убежденным сторонником французской абсолютной монархии, он считал просвещенный деспотизм лучшей формой правления и боялся, что слишком явная победа повстанцев усилит и во Французском королевстве дух мятежа и анархии. Конечно, филадельфийские события заслуживали одобрения. Но мосье Ленорман не любил пафоса, он считал, что патетика хороша для домашнего употребления, а перед лицом всего мира на несправедливость нужно отвечать иронией. Эти честные борцы на Западе, может быть, и правы, но вкуса у них нет, что ясно, то ясно, и Пьер мог бы сделать что-нибудь более разумное, чем читать их выспреннее заявление с таким риторическим пафосом. Мосье Ленорман был немного огорчен, что эта патетическая сцена придала его празднику неверный тон.
Он подошел к Пьеру, который все еще стоял на прежнем месте, окруженный гостями. Большая, добрая собака не отходила от Пьера, она ласкалась к нему, и он время от времени почесывал у нее за ухом. Пьер умел обращаться с собаками, он любил их, его собака Каприс носила ошейник с надписью: «Меня зовут Каприс, Пьер де Бомарше принадлежит мне, мы живем на улице Конде». Чуть заметно улыбаясь своими полными губами, мосье Ленорман подошел к нему и сказал:
— Внушительная декларация, друг мой. Теперь, значит, инсургенты и в самом деле поставили на карту все — и жизнь и состояние. Для этого нужно мужество, нужна храбрость. — Он пожал руку Пьеру, не то поздравляя, не то соболезнуя, и удалился.
Стоявшие кругом гости улыбнулись вежливо и непонимающе. Пьер смутился. Но он тотчас же прогнал прочь свою досаду. Он понял Шарло, — ведь тот сегодня виновник торжества, и, конечно, ему неприятно, что Пьер оттеснил его на второй план. Пьер решил задобрить друга.
Такая возможность представилась вскоре, когда после роскошного ужина и фейерверка гости направились в большой театральный зал на представление комедии.
Несмотря на всю свою манерность и взыскательность, мосье Ленорман любил, чтобы на его домашней сцене ставились не только строгие современные трагедии, но иногда и фарсы, так называемые «парады», полные разнузданнейшего натурализма. С большой откровенностью говорили герои этих фарсов о вещах, связанных с пищеварением и отношениями полов, вынося на сцену самое грубое, самое непристойное из того, что называлось аристофановской вольностью. После манерной чопорности и сложного церемониала их повседневной жизни господа и дамы версальского двора и парижских салонов находили в этих вульгарных зрелищах большое удовольствие. «Нужно уметь, — сказал однажды премьер-министр Морепа, — превращаться то в бога, то в свинью, но всегда оставаться очаровательным».
Такого рода сцены Пьер писал шутя, при желании он делался мастером вульгарного стиля. Для сегодняшнего вечера он приготовил три маленьких фарса; особые надежды он возлагал на последний. Содержание его составляла борьба двух торговок рыбных рядов, мадам Серафины и мадам Элоизы, за возмещение убытков, которые они понесли, когда опрокинулась тачка с их товаром. Обе спорят между собой, спорят с прохожими, спорят с полицейским, спорят с судьей, у обеих неистощимый запас сочных, крепких, соленых оборотов, и они черпают из него, не скупясь. Фарс заканчивался пляской и восхвалением мосье Ленормана, единственного человека, который согласился выслушать мадам Серафину и мадам Элоизу и возместить им убытки.
Роль мадам Серафины должен был исполнять мосье Превиль, игравший в «Театр Франсе» Фигаро. Роль мадам Элоизы должен был играть мосье Монвель, исполнявший в том же спектакле роль дона Базилио. Пьер немного выпил, он был возбужден успехом своего сообщения, он любил переходить от одной крайности к другой, и ему пришло в голову самому сыграть мадам Элоизу. Это было бы не только забавнейшим развлечением, но и данью уважения хозяину, способной рассеять досаду Шарло.
Ни мосье Превиль, ни мосье Монвель не пришли в восторг от этой идеи. Но они знали, что не смеют возражать всемогущему автору «Цирюльника». С кислыми минами они повиновались, и Пьер надел юбку и деревянные башмаки мадам Элоизы. Он наспех соорудил себе пышный бюст; парикмахер быстро загримировал его, искусно придав ему самый вульгарный вид. Тут раздался условный стук, и они вышли на сцену.
Если Пьер не хотел смертельно обидеть обоих актеров, он должен был добиться, чтобы импровизированное представление получилось лучше, чем подготовленное заранее. Он напряг все свои силы. Вскоре актер Превиль увидел, что имеет в лице Пьера партнера, по меньшей мере не уступающего актеру Монвелю. После нескольких фраз оба разошлись, все более и более отдаваясь безудержному веселью этого маскарада. Споря, жалуясь и ругаясь на сочнейшем жаргоне, мадам Серафина и мадам Элоиза терпели одно злоключение за другим.
Узнав своих любимцев Бомарше и Превиля, зрители были радостно поражены; грубый фарс с переодеваниями доставлял им огромное наслаждение, они смеялись, смеялись все больше и больше. Дамы с осиными талиями и нарумяненными лицами корчились, задыхались от смеха и бешено аплодировали. Мосье Ленорман сиял, он обнял Пьера и простил своему другу неприятность, которую тот ему причинил.
Но детей, Веронику и Фелисьена, этот маленький фарс испугал. Они с ужасом глядели на человека, паясничавшего, бранившегося, непристойно плясавшего и горланившего на подмостках. Неужели это был тот, кто несколько часов назад окрылил им душу? О, лучше бы они ушли, не дожидаясь спектакля. Им было стыдно за него, стыдно за себя самих. Неужели таков человек, неужели он всегда скатывается с небесной высоты в гнусную грязь?
Окруженный толпой, осыпаемый поздравлениями, Пьер заметил обоих молодых людей в конце зала. Он видел их позы, их лица, он догадывался, что они сейчас чувствуют, и ему стало не по себе. Ему было досадно. В возрасте Фелисьена у него уже были связи с девушками; а этот малый в свои пятнадцать лет совсем еще ребенок и к тому же надменный моралист. И, продолжая вести шутливые разговоры, Пьер думал: «Какое чопорное, брюзгливое поколение у нас подрастает. У него нет терпимости, все человеческое ему чуждо».
Тучный мистер Сайлас Дин расхаживал теперь повсюду с самым энергичным и гордым видом, представляя Соединенные Штаты. Пьер благоразумно привлек его к своим делам, так что мистер Дин вел переговоры с судовладельцами, со всякого рода поставщиками и чувствовал себя полезным деятелем.
Пьер познакомил его с несколькими важными лицами — убежденными сторонниками американцев, среди прочих — с графом де Брольи,[7] маршалом Франции, очень богатым человеком, принадлежавшим к старинному дворянскому роду. Пятидесятивосьмилетний фельдмаршал, известный своими военными подвигами во всем мире, произвел на коммерсанта из Коннектикута сильное впечатление. Граф де Брольи был готов, если американцы его пригласят, отправиться за океан и в качестве «регента» взять на себя руководство армией и правительством. Чтобы войти в контакт с инсургентами, он отправил в Америку своего друга и ближайшего помощника полковника де Кальба, который спас ему жизнь в битве при Росбахе.[8] Будучи хорошим офицером и толковым человеком, этот мосье де Кальб привез оттуда много любопытного материала. Правда, он вынужден был доложить, что американцы пока не решаются принять предложение маршала. Но этот ответ не уменьшил преданности мосье де Брольи делу инсургентов.
И вот Сайласу Дину было поручено завербовать в американскую армию некоторое количество способных офицеров, в особенности — саперов и артиллеристов. Он рассказал об этом маршалу, и друг де Брольи, полковник де Кальб, выразил желание завербоваться; так как мосье де Кальб не был по происхождению аристократом — даже приставка «де» перед его фамилией была сомнительна — о дальнейшем его продвижении во французской армии не могло быть и речи; полковничий чин достался ему только благодаря влиянию маршала, и то с большим трудом. Мистер Сайлас Дин был горд и счастлив, что может от имени Конгресса предложить заслуженному офицеру звание генерал-майора американской армии. Новоиспеченный генерал представил Сайласу Дину других военных, готовых поступить в американскую армию, главным образом младших офицеров, и Сайлас Дин, обрадованный таким энтузиазмом, принял на службу всех скопом, пообещав им, что каждому будет присвоено звание, по крайней мере, на один ранг выше того, какое у него было во французской армии.
Но когда дело дошло до задатка, прогонных и экипировочных, возникли первые трудности. Конгресс отпустил мистеру Дину лишь небольшую сумму, посулив ему выручку от продажи захваченных товаров, которые доставят во французские порты американские капитаны. Однако этих товаров все не было и не было, а средства мистера Дина подходили к концу; платить судовладельцам, поставщикам и офицерам было нечем. Мистер Дин посылал в Конгресс письмо за письмом, требуя денег для оплаты поставок мосье Бомарше и для самого себя. Конгресс либо не отвечал, либо отвечал невразумительно.
Сайлас Дин был патриотом, он был предан делу свободы. Ради служения этому делу он бросил на произвол судьбы отлично налаженное предприятие в Коннектикуте, он гордился тем, что представляет Соединенные Штаты. Он был человеком смышленым и знал жизнь. Он знал, что Конгрессу приходится добывать деньги на самые насущные, самые неотложные нужды, что денег у Конгресса нет, что ход войны оставляет желать лучшего. Как это ни было огорчительно, мистер Дин понимал, что Конгрессу сейчас не до просьб своего представителя, находящегося где-то за тридевять земель, в Париже.
Мистер Дин не знал только, что уклончивость Конгресса вызвана стараниями того самого мистера Артура Ли, с которым Пьер познакомился в Лондоне. Мистер Ли был уже достаточно уязвлен тем, что мосье де Бомарше не устроил ему обещанной аудиенции в Версале; когда же Конгресс назначил своим уполномоченным в Париже не его, а другого, мистер Ли разозлился вконец. Подозрительный от природы, он заключил из разговоров, которые вел Бомарше в Лондоне, что фирма «Горталес» — это просто фикция, фасад. Мистер Ли не замедлил передать это мнение своим влиятельным филадельфийским братьям и самому Конгрессу. Поставки фирмы «Горталес», — писал он, — не что иное, как подарок французского короля Соединенным Штатам; если Бомарше и Дин изображают дело иначе, значит, они хотят на этом нагреть руки. Конгресс прочитал эти письма, у Конгресса не было денег, Конгресс счел себя вправе положиться на своего лондонского представителя Артура Ли и не откликаться на все более и более настойчивые просьбы своего парижского представителя Сайласа Дина.
Когда деньги Сайласа Дина пришли к концу, когда нечем стало платить даже за постой в Отель-д'Амбур, мистеру Дину пришлось обратиться к услужливому мосье де Бомарше. Потея в расшитом цветами жилете, толстый, смущенный, рассказывал он Пьеру о своих неприятностях. Пьер был поражен. Если господа из Филадельфии не могут выслать своему представителю каких-то несколько сот долларов на жизнь, как же станут они выплачивать миллионы, которые они должны фирме «Горталес»? Пьер представил себе чуть заметную улыбку Шарло, его жирный, любезный голос: «Теперь, значит, инсургенты поставили на карту все — и жизнь и состояние». Но лицо Пьера не отразило этих невеселых мыслей. Улыбаясь и бравируя своей щедростью, Пьер заявил, что фирма «Горталес» будет рада выдать мистеру Дину необходимую ссуду.
Добродушное лицо мистера Дина просияло. Какое счастье, что здесь, в Париже, есть этот мосье де Бомарше, который добывает из-под земли оружие, говорит по-английски, терпеливо ждет платежей за товары, поставленные Конгрессу, и вдобавок ко всему готов помочь человеку деньгами, когда тот в нужде.
На две или на три недели мистер Дин был спасен. Но что будет дальше?
Ближайшая почта из Америки принесла ему некоторое утешение. Денег, правда, Конгресс и на этот раз не прислал, но зато Конгресс известил мистера Дина о своем решении направить в Париж еще одного представителя, доктора Вениамина Франклина. Если этот знаменитый человек возьмет на себя руководство здешними делами, то ему, Сайласу Дину, бояться больше нечего. Конечно, до прибытия доктора Франклина в Париж пройдет еще несколько месяцев; но было отрадно сознавать, что конец неприятностям не за горами.
При всем своем темпераменте и тщеславии, при всей своей азартности Пьер был неутомимым работником и блестящим организатором. Склады фирмы «Горталес» наполнялись оружием, мундирами и другим товаром; в верфях Гавра, Шербура, Бреста, Нанта, Бордо и Марселя строились суда, которые должны были доставить эти товары в Америку, и фирма нанимала капитанов и матросов, которым предстояло эти суда повести.
У фирмы «Горталес» имелись агенты во всех крупных портовых городах Франции. Так, в портах севера эту роль исполняли господа Эмери, Вайян и д'Остали, в портах юга — господа Шасефьер и Пейру, не говоря уже о других, менее видных. Одни были добросовестны и исполнительны, другие плутоваты и ненадежны. Пора было посмотреть, как там идут дела.
Деятельность фирмы «Горталес» в портовых городах Франции находилась, однако, под пристальным наблюдением английской разведки, и статс-секретарь Жерар то и дело напоминал Пьеру о строжайшей секретности его предприятия. Северные порты кишмя кишели шпионами. Пьер послал на север Поля Тевено, а сам, со своим другом Филиппом Гюденом, инкогнито, под именем мосье Дюрана, отправился «с познавательными целями и для увеселения» на юг.
Пьер любил путешествовать. Глаза и душа его были открыты чужим краям, он радовался новым городам, новым людям. Спокойный, склонный к созерцательности, жадный до удовольствий, Гюден был идеальным спутником. Бесконечно преданный своему другу, он не обижался на Пьера за то, что тот совершенно не посвящал его в свои сложные и нередко темные дела. Верный Филипп всегда был к услугам Пьера и держался в стороне, если чувствовал, что может ему помешать. Гюден был также превосходным сотрапезником, он ел и пил с заразительным удовольствием. Кроме того, Филипп обладал чувством юмора и готов был участвовать в любой шутке. Наконец, у него были огромные, безотказные знания, которыми Пьер всегда мог располагать.
Так колесили они оба по южным провинциям Франции. Богатая, в осенней зрелости, расстилалась перед ними земля. Они останавливались в хороших трактирах, наслаждались природой, вином, женщинами.
И еще они наслаждались ароматом истории. Филипп Гюден был страстным исследователем древностей. Среди старинных стен он чувствовал себя как дома, для него развалины принимали свой первоначальный вид, и в них оживали прежние обитатели.
Пьер не был глух к подобным воспоминаниям, он расцвечивал рассказы Филиппа своим остроумием и своей фантазией. А тот снова и снова твердил:
— Какая жалость, Пьер, что ты не учился. Какой бы ученый из тебя вышел! Какого гения лишилась в твоем лице французская классическая трагедия.
— Ах, оставь меня в покое, — отвечал легкомысленно Пьер, — хватит с меня того, что есть.
Сам он полагал, что у него есть задатки для того, чтобы стать трагическим поэтом не меньшего пошиба, чем Корнель или Расин, что при других условиях он бы, пожалуй, и стал им, но что ему суждено достигнуть в лучшем случае мольеровской славы. Тем не менее он был, в общем, благодарен судьбе, уготовившей ему поприще великого дельца. Ему казалось, что сейчас не только привилегии происхождения, но и привилегии ума начинают меркнуть по сравнению с привилегией денег. Но он, Пьер, обеспечен всеми тремя великими привилегиями. Ум он получил от рождения, денег и дворянства добился.
Иногда дела заставляли Пьера на несколько часов или на несколько дней расставаться с Гюденом. Оставшись один, Филипп занимался своими науками, писал, читал и размышлял о том, что сам он, подобно тени, витающей над могилами и развалинами, вызывает мертвых, умудряя будущие поколения, тогда как его великий друг, заботясь о благе современников, объезжает верфи и судовладельцев, приводит в движение тысячи прилежных рук, направляет тысячи умов как организатор и созидатель. И он сравнивал Пьера с викингом, с королем-мореходом, уходящим в поход, чтобы завоевать для своего племени новые государства.
Когда они бывали на людях и Пьер покорял своим умом и живостью каких-нибудь незнакомых сотрапезников, случалось, что Филипп Гюден не сдерживал своего восторга и давал понять окружающим, что мосье Дюран не кто иной, как знаменитый мосье де Бомарше. Если после этого к Пьеру приставали с расспросами, он упорно отрицал свое тождество с Бомарше, но так, что всем становилось ясно, кто перед ними.
В прекрасном городе Бордо это привело к происшествию, которое сначала доставило Пьеру немалое удовольствие, а потом — огорчения. В Бордо, на верфи господ Тестара и Гаше, по заказу Пьера перестраивалось одно вместительное старое судно. Пьер часто заходил в контору фирмы «Тестар и Гаше», но никто, кроме мосье Гаше, не знал его настоящей фамилии. Как раз в это время в Бордо был построен большой новый театр, и к его открытию актеры готовили пьесу «Севильский цирюльник». Пьер ежедневно по нескольку раз ходил мимо этого театра; очень велик был соблазн пройти на сцену и сказать: «Это я, я Бомарше». Но Пьер сумел устоять перед искушением и настойчиво просил добродушно-болтливого Гюдена ни в коем случае не нарушать его инкогнито. Гюден с видом заговорщика энергично кивал головой: «Можешь на меня положиться».
Однако когда вечером в гостинице кто-то из сидевших за соседним столом сказал, что лицо Пьера ему знакомо, Гюден не удержался от предательской улыбки. На следующий день в городе только и было толков, что о знаменитом мосье де Бомарше, который приехал сюда, чтобы освободить Америку и присутствовать на премьере своей пьесы. А еще через день мосье Дюрана посетила делегация актеров, которая попросила его руководить репетициями «Цирюльника». Вежливо улыбаясь, мосье Дюран спросил делегатов, какое значение могут иметь для опытных, заслуженных художников советы ничем не замечательного мосье Дюрана. Ответив на улыбку улыбкой, актеры сказали, что если мосье Дюрану угодно остаться мосье Дюраном, то они готовы пойти навстречу его желанию, но пусть он все-таки примет участие в репетициях. Мосье Дюран принял в них самое пылкое участие и сделал ряд ценных замечаний, которые были с благоговением приняты. Спектакль прошел с триумфальным успехом, актеры указали зрителям на сидевшего в ложе мосье Дюрана, публика устроила мосье Дюрану овацию, и Пьеру, как бы защищаясь от приветствий, пришлось поднять руку и с улыбкой сказать: «Что вы, друзья мои, я ведь мосье Дюран».
Довольный этими впечатлениями, он вернулся в Париж. Тут он сразу почувствовал, что сладкий напиток славы оставил на дне чаши горький осадок.
Когда он явился к графу Вержену, его принял не министр, а мосье де Жерар. Пьер не любил вести переговоры с мосье де Жераром. Жерар держался корректно, но в нем не было ничего от философски-насмешливой любезности Вержена. Сегодня Жерар был особенно сух.
— Вам прекрасно известно, мосье, — набросился он на Пьера, едва успев поздороваться, — что лорд Стормонт неоднократно посещал министерство иностранных дел и с документами в руках указывал нам на сомнительную или, вернее, уже не вызывающую сомнений деятельность торгового дома «Горталес». С самого начала, мосье, вы были предупреждены, что из-за вас возникнут трудности в наших отношениях с Англией; мы настойчиво просили вас избегать каких бы то ни было опрометчивых действий. И вот в то самое время, когда в Бордо ведутся подозрительные работы на двух больших судах, — на бордосской премьере «Севильского цирюльника» появляется некий мосье Дюран, и все знают, кто этот мосье Дюран. О чем вы думаете, мосье, позволяя себе подобные выходки? Не воображаете ли вы, что правительство короля возьмет на себя ответственность за ваши действия?
Прикусив от досады губу, Пьер ответил, что если англичане обратили внимание на фирму «Горталес», то только из-за безответственной болтовни некоторых безответственных лиц, и в качестве примера назвал честного, полного благих намерений, болтливого хвастуна Барбе Дюбура.
Однако статс-секретарь резко отверг такое оправдание.
— Пожалуйста, мосье, — сказал он, — не думайте, что мы настолько глупы. Мы прекрасно знаем и вас, и доктора Дюбура, и ваши неосторожности нам надоели. Пожалуйста, решайте, будете ли вы впредь считать себя уполномоченным нашего министерства или частным лицом. В первом случае вы обязаны вести себя надлежащим образом, во втором — можете поступать, как вам заблагорассудится.
Пьер удалился в самом дурном настроении.
Осложнения возникли не только в Париже, но и на севере. Поль сообщал, что там уже совершенно готовы три судна, но англичане всячески препятствуют их отплытию; они ежедневно осаждают протестами морского министра, и французские власти, несмотря на свое доброжелательное отношение к фирме, вынуждены создавать иллюзию строжайшего расследования. При таких обстоятельствах Поль не мог оставить дела на попечение господ Эмери и Вайяна, он решил дождаться отплытия судов.
Охотнее всего Пьер поехал бы туда сам. Он верил, что у него хватит изобретательности и отваги, чтобы там, на месте, справиться с интригами англичан и, выбрав подходящий момент, дать приказ об отплытии, независимо от того, добьется ли он официального разрешения портовых властей или нет. Кроме того, Пьер страстно желал своими глазами увидеть, как выйдут в море первые его суда. Но он с досадой вспоминал о мосье де Жераре; к сожалению, нечего было и думать о поездке в Брест.
Вообще-то чертовски любезно было со стороны Поля, что он столько времени торчит на севере. Пьер хорошо знал, как любит Поль свой Париж; страсть Поля к чудесному городу усиливалась, оттого что он сознавал свою обреченность и стремился взять от жизни все возможное. К тому же дело шло к зиме, и пребывание на атлантическом побережье было Полю очень вредно.
Пьер рассказал Терезе о трех груженных товаром судах, ожидавших отплытия в Бресте и Гавре. Одно названо «Александр», второе — «Эжени», третье — «Виктуар». Пусть суеверные гадают, что бы это значило, когда какое-то из них уйдет первым. Тереза спросила, не повредит ли длительное пребывание на северном побережье здоровью Поля.
— Меня это тоже беспокоит, — ответил Пьер. — И я ему уже на этот счет намекнул. Но он хочет во что бы то ни стало дождаться отплытия, он пишет, что суда вот-вот отправятся в путь.
И действительно, через неделю Поль сообщил, что возвратится в ближайшие дни. Судно «Виктуар» вышло в море, и если не возникнет никаких неожиданных препятствий, то в тот момент, когда Пьер получит это письмо, далеко в море будут и два других судна — «Александр» и «Эжени».
Пьер сидел за своим большим письменным столом, на котором лежало письмо Поля, и широко улыбался. Он глядел на стену, на голое место, предназначенное для портрета Дюверни, портрета, который у него отобрали после процесса. Но он не видел голого места. Он ничего не видел, кроме судов, его судов, везущих за море, в Америку, оружие для борьбы за свободу и лучший мир.
2. Франклин
Старик стоял у поручня, плотно закутавшись в шубу, декабрь только начинался, но было уже очень холодно; свою большую, тяжелую голову старик тоже надежно укрыл меховой шапкой. Из-под шапки на воротник шубы падали длинные, прямые, седые волосы.
Дул резкий ветер, и даже здесь, в тихой Киберонской бухте, судно сильно качало. Глядя на берег сквозь большие, в железной оправе очки, старик непроизвольно сжимал обеими руками перила.
Поездка продолжалась недолго, путешествие в Европу заняло неполных пять недель, но приятным его никак нельзя было назвать. Нет, непрерывный, ни на минуту не ослабевавший ветер не беспокоил старого Вениамина Франклина, он никогда не страдал от морской болезни. Но еще отправляясь в эту поездку, он чувствовал, что изнурен и замучен долгими заседаниями в Конгрессе и неподвижным образом жизни, а нездоровая корабельная пища извела его вконец. Свежая птица была для его зубов слишком жесткой, и, питаясь преимущественно солониной и галетами, он заболел цингой, хотя и в легкой форме; струпья на его лысеющей голове и сыпь на теле изводили его нещадно.
Но хуже всего было постоянное сознание опасности. Правда, перед своими внуками, семнадцатилетним Вильямом и шестилетним Вениамином, он, как всегда, разыгрывал полную невозмутимость. Он изо дня в день измерял температуру воздуха и воды, продолжал свои наблюдения за Гольфстримом и методически занимался с внуками французским языком, одновременно совершенствуя и свои познания. Но за этим напускным спокойствием всегда таилась неприятная мысль: «Не встретить бы английский военный корабль». Такая встреча означала для Франклина почти верную гибель.
Однако все сошло хорошо, очень хорошо, «Репризал» захватил даже два небольших торговых судна противника, одно — с лесом и вином, другое — с грузом льняного семени и спирта. А теперь был виден берег, опасность миновала.
Он стоял у перил, ощущая слабость в ногах, особенно в коленях, а перед ним открывалась Франция, страна, которую он хотел расположить в пользу Америки, в пользу своего дела.
К нему подошел капитан Лемберт Уикс, шумный, веселый человек.
— Как ваши дела сегодня, доктор? — крикнул он сквозь ветер.
— Спасибо, — отвечал Франклин, — хороши, как всегда.
— Боюсь, — прокричал капитан, — что сегодня мы не управимся.
Они предполагали войти в устье Луары и подняться до Нанта; Франклин оглядел раскинувшийся перед ним берег.
— Как называется это место? — спросил он.
— Орей, — ответил капитан.
— Тогда, если можно, я сойду здесь, — решил Франклин.
— Конечно, можно, — согласился капитан Уикс. — Сейчас я распоряжусь. При таком ветре нам понадобится на это часа два. — И он удалился.
Франклин остался. Зрелище бурного моря, могучие порывы ветра действовали на него благотворно. Итак, через несколько часов он будет на суше, в стране, где ему суждено провести ближайшие годы, наверно, последние годы своей жизни; он стар, через несколько недель ему исполнится семьдесят один год.
Он не был стар. Он начинал новое, совершенно ненадежное дело, дело, которое требовало, чтобы человек ушел в него весь, целиком, и это его молодило. Он был государственным деятелем и ученым с мировым именем; но, в сущности, он мало чего добился с тех пор, как в семнадцать лет бросил ученье и приехал в Лондон — без средств, рассчитывая лишь на самого себя да на тот крошечный запас знаний, который он успел получить. Таким же неимущим, как тогда в Англию, прибыл он сегодня во Францию. Жена его умерла, его единственный сын перешел на сторону англичан и по праву считался в Соединенных Штатах изменником. Он, старик, отдал все свои свободные средства в распоряжение Конгресса, отдал заимообразно, но для человека его возраста это плохой способ помещения капитала. Лучшее, единственное, что у него есть, — это стоящая перед ним задача, задача трудная, сложная, почти неразрешимая. Насущная, благословенная задача — расположить Францию в пользу американцев.
Несколько минут назад, когда он говорил с капитаном Уиксом о своем намерении сойти на сушу, лицо его под меховой шапкой казалось хитрым и стариковским, глаза глядели сквозь очки пристально, даже недоверчиво, широкий рот еще более вытянулся в тихой, лукавой улыбке. Теперь, оставшись один, он снял очки и шапку, он подставил лицо ветру, и этого оказалось достаточно, чтобы оно сделалось совершенно другим. Большие задумчивые глаза молодо блестели, ветер приподнимал редкие волосы с высокого, могучего, властного лба, покрасневшее лицо с глубокими морщинами поперек лба и вдоль носа, с тяжелым, сильным подбородком говорили об энергии, опытности, решительности, непримиримости.
Он видел страну своего будущего, он физически ощущал величие стоявшей перед ним задачи, он шел ей навстречу, входил в нее, с готовностью, даже с жадностью.
На палубу поднялись оба мальчика — семнадцатилетний Вильям Темпль Франклин и шестилетний Вениамин Бейч Франклин. Со смехом, держась друг за друга, преодолевая качку, они подошли к деду. На мальчиков приятно было смотреть. У младшего, крепыша Вениамина Бейча, сына дочери, нежное личико было покрыто светлым пушком. Ну, а старший, семнадцатилетний Вильям, разве он не великолепен? Как красиво и дерзко подставил он ветру свой большой прямой нос! А какой у него приятный, веселый, довольный, алый рот, хоть подбородок и тяжеловат! Этот тяжелый подбородок достался Вильяму от него, от деда. Вообще-то у Вильяма, к сожалению, довольно много отцовских черт, и, несмотря на всю миловидность и красоту мальчишки, нечего себя на этот счет обманывать.
Мальчики очень волновались. Они услыхали от матросов, что прибыть в Нант удастся еще не так скоро, и теперь им не терпелось узнать, высадят ли их здесь. Когда доктор ответил, что высадят, и велел им тотчас же собирать вещи, мальчики очень обрадовались.
— Ты позаботился о том, чтобы мне приготовили ванну? — спросил старик Вильяма. Тот смущенно ответил, что забыл. Он вообще многое забывал; зато у него было множество других, приятных качеств. Вот и теперь раскаяние его было таким бурным, что дед тотчас же забыл о своем неудовольствии.
Купание на качающемся судне было делом нелегким. Доктор предпочел ограничиться небольшим багажом, но взял с собой ванну, конструкция которой, продуманная им самим, вполне отвечала его потребностям; продолжительное купание в горячей воде было ему необходимо. Ванна, сооруженная из очень твердого, благородной породы дерева, имела высокую, изогнутую в виде раковины спинку, и сидеть в ней было удобно. При желании ванна закрывалась крышкой, так что видны были только плечи, шея и голова купающегося. Вода не разбрызгивалась, а посетители, с которыми старик беседовал во время своего длительного купания, могли сидеть на крышке.
Сегодня купальщик довольствовался обществом своих мыслей, внуки были заняты сборами. Сидя в ванне, блаженно ощущая усталым телом теплую воду и осторожно почесывая струпья на голове, он позволил мыслям свободно разгуливать.
Нет, очень добросовестным человеком этого мальчишку Вильяма назвать нельзя. Едва ему придет на ум что-нибудь более приятное, он забывает любое поручение. Зато отец его, Вильям, изменник, не таков. Тот, при всей своей любви к удовольствиям, никогда не забывает о карьере. Он хорош собой, этот старший Вильям, в нем нет грузности и медлительности старого Вениамина. Он куда элегантнее, он располагает к себе людей. Вильяму-младшему не хотелось покидать отца и ехать с дедом во Францию. Но уж тут он, старик, вмешался. Тут уж раздумывать не приходилось. Мальчик должен ехать с ним в Париж. Мальчик должен расти в здоровой атмосфере, вдали от неудачника-отца, который соблазнился посулами и деньгами лондонского правительства и теперь — поделом ему — сидит в личфилдской тюрьме. Но за маленьким Вильямом нужно глядеть в оба. В мальчике нет злой и эгоистической расчетливости отца, но зато бездумной жизнерадостности в нем хоть отбавляй. И он прекрасно знает, что ему многое сходит с рук потому, что он такой красавчик. Да, мы, Франклины, любим жизнь. Не на брачном ложе произвел я на свет Вильяма-старшего, не на брачном ложе произвел он на свет своего Вильяма, и не похоже, что у этого маленького Вильяма будут во Франции только законные дети. Она передалась по наследству, моя жизнерадостность. Многие мои качества передались по наследству сыну и внуку, и поразительно, до чего мы все трое разные при этом сходстве. Достаточно мелочи, чтобы сущность человека стала совершенно другой.
Доктор позвонил, велел подлить горячей воды.
Да и родители маленького Вениамина тоже не бог весть какие выдающиеся люди. Мать, Салли, — милая, доброжелательная женщина, он, доктор, очень ее любит, у нее есть здравый смысл, но ничем особенным она не блещет. И муж ее, Ричард Бейч, славный малый, именно славный, и только. Конечно, родители были недовольны, что он забирает у них маленького Вениамина. Но можно ли сомневаться, что во Франции, под наблюдением деда, мальчик получит лучшее воспитанна, чем в Филадельфии, под руководством мистера и миссис Бейч? Вдобавок он вознаградил зятя за разлуку с сыном, назначив его своим заместителем в почтовом министерстве. Там ничего не испортишь, там славный Ричард вполне на месте. Конечно, враги старого Вениамина будут теперь шуметь по поводу любой меры, принятой или не принятой Ричардом. И пускай себе шумят. Бог свидетель, Франклин принес достаточно много жертв Америке и ее делу; он может позволить себе немножко помочь своим родным.
В Филадельфии немало людей, которые всегда рады в него вцепиться. И когда он предложил отправить специальных уполномоченных во Францию, у этих людей нашлось множество возражений. Старая, глубокая вражда, сохранившаяся со времен франко-индейской войны, была еще очень живуча. По-прежнему многие считали французов заклятыми врагами, идолопоклонниками, рабами абсолютной монархии, легкомысленными, не заслуживающими доверия существами. Переубедить филадельфийских коллег стоило больших трудов. Наконец они уразумели, что в войне против английского короля Франция — непременный союзник и что без помощи Франции победить нельзя. Но, посылая старика за океан, они не очень-то его обнадеживали. И действительно, на союз с Францией почти не было видов. Но будь что будет, он уже не раз затевал безнадежные дела, и они удавались. Старик вытянулся в ванне и сжал губы, так что они стали еще уже. Удастся и это.
Денег ему тоже не дали, у Конгресса нет денег, нужно будет изворачиваться, чтобы как-то покрыть свое содержание. Три тысячи долларов — на это нужно создать и поддерживать представительство Соединенных Штатов. На борту «Репризал» есть еще груз индиго, который можно реализовать. Да, представитель Нового Света снаряжен не роскошно. Жить придется кое-как.
При этом он знает цену деньгам и не упускает из виду собственной выгоды. Он не слишком осторожен в выборе средств, когда речь идет о наживе. Но тут существуют границы, и он их знает. Вот, скажем, англичане обещали ему деньги, посты и высокие титулы, если он выступит за примирение с ними. Сидящий в ванне мрачнеет. В Филадельфии есть люди, которые всерьез задумались бы над таким предложением. Например, сын его Вильям не на шутку задумался над подобными обещаниями. Но человек, сидящий сейчас в ванне, знает меру, и он скорее надел бы петлю на свою старую шею, чем высказался за такое «примирение».
Его соотечественники в Филадельфии не будут особенно благодарны ему за труды, которые выпадут на его долю в Париже. Нигде в мире не смотрят на старого Вениамина Франклина так критически, как в Филадельфии. Его ненавидят не только тори, не только лоялисты, все эти Шиппены, Стенсбери, Кирсли и как их там еще; даже среди республиканцев, даже в Конгрессе у него есть противники, «аристократы», которые его терпеть не могут, и недаром его назначение на пост посланника в Париже состоялось лишь после множества проволочек. Человек, сидящий в ванне, улыбается мудрой, ехидной, снисходительной и горькой улыбкой. Есть люди, которым он кажется недостаточно представительным для Парижа. Правда, если не считать генерала Вашингтона, он — единственный американец с мировым именем, но все-таки он сын мыловара, от этого никуда не уйти, и одно время он жил без всяких средств, и доктор он только honoris causa,[9] и систематического образования у него нет.
Нет, от Филадельфии надо ждать не признательности и не разумных советов, а настойчивых требований побольше выжать из французского правительства да вечных упреков за то, что выжал слишком мало. Он не намерен из-за этого огорчаться. Он стал старше, мудрее, он знает людей.
В Лондоне поговаривают, что он провалил примирение колоний с королем только из суетности, только затем, чтобы отплатить за позор, который он изведал однажды в Тайном государственном совете.
Когда старик вспоминал о тех днях, в нем до сих пор еще, при всем его самообладании, закипала кровь. Верно, как королевский чиновник он поступил не вполне корректно, опубликовав письма королевского губернатора, свидетельствовавшие о злой воле и подстрекательской деятельности правительства. Но положение было таково, что опубликование этих писем стало дозволенным приемом, и каждый из тех, кто участвовал в злосчастном заседании, поступил бы на его месте точно так же; в этом не могло быть сомнения. И все-таки уличив его в формальном упущении, они обошлись с ним, как с последним негодяем. Ему пришлось целый час сидеть и выслушивать разнузданную брань государственного поверенного. Как они посмеивались между собой, и первый министр, и все лорды, как переглядывались, как нагибались друг к другу, как глазели на него, словно он — воплощение коварства и низости. На нем был тогда добротный новый синий кафтан из тяжелого бархата, а сидеть пришлось возле камина, так что потов сошло с него много. Но он и виду не подал, что все в нем клокочет. Он не изменился в лице, не ответил ни слова. В присутствии этих враждебно настроенных лордов самым разумным ответом на передержки и грубые оскорбления поверенного было молчание. Как тот распинался, как стучал по столу! Это было отвратительно, это было самое противное в его жизни. Шестидесятивосьмилетнего ученого с мировым именем, пользовавшегося доверием своей страны, отчитывали, как мальчишку, укравшего у отца деньги из ящика.
«Злость есть кратковременное сумасшествие», — эту фразу ему часто приходилось писать, и тогда он тоже твердил ее про себя. Лицо его оставалось спокойным. Но внутри его все кипело, и пока он, обливаясь потом, неподвижно сидел около камина, выслушивая оскорбления королевского поверенного, в душе его, несомненно, произошла глубокая перемена. Он понял, что никакое примирение с лордами английского короля невозможно ни ныне, ни в будущем. Целых семнадцать лет был он гостем в домах этих важных господ, он был с ними на короткой ноге, они любезно беседовали с ним, отдавая дань уважения его учености, его исследовательскому уму, его философии; и вот теперь они, ухмыляясь, слушали, как поносит его этот горлодер поверенный, как осыпает его уличной бранью. Теперь они показали себя. Теперь стало ясно, как рады они его унизить. Они унижали его, потому что он им не ровня, потому, что он не дворянин, а простой мещанин, сын мыловара, осмелившийся раскрыть рот в защиту маленьких людей.
Крепко запомнился ему этот час. Злость, может быть, и прошла, но то, что он понял тогда, — осталось.
Остался и гнев, гнев на сына Вильяма. Он объективно описал Вильяму происшедшее и посоветовал ему уйти с государственной службы. «Теперь ты знаешь, как обошлись со мною, — писал он, — предоставляю тебе самому подумать об этом и извлечь выводы». Мальчик подумал и извлек выводы. Он заявил своим английским друзьям, что не разделяет политических взглядов отца. Пусть теперь поразмыслит об этом в личфилдской тюрьме.
Вода в ванне остыла. Позвонить и потребовать еще горячей воды? Не стоит. Надо привести себя в порядок перед высадкой. Он пробудет в ванне еще две минуты.
Нет смысла злиться. Жизнь нужно принимать такой, какова она есть, — глупая, великолепная, умная, скверная, сумасшедшая и очень, очень приятная. Человеческие слабости нужно воспринимать как нечто присущее людям, их нужно учитывать и извлекать из них пользу для правого дела.
Так он считал всегда, так будет считать и впредь. Никогда, даже в самых скверных обстоятельствах, он не отчаивался. Он верит в свою страну, верит в разум, верит в прогресс. Он знает свои достоинства и знает свои недостатки, он верит, что и сейчас еще может помочь прогрессу. Он стар, даже немного дряхл, несмотря на свой крепкий вид, его одолевают подагра и сыпь, а сын его — человек ненадежный, реакционер и оппортунист. И все-таки он чувствует себя еще достаточно сильным, чтобы явиться в эту Францию и завоевать ее для своей Америки.
Медленно, осторожно, не без удовольствия покряхтывая, вылез старик из ванны. Мокрый, большой, тучный, сидел он, склонившись, у железной решетки, ограждавшей жаровню, и медленно, обстоятельно вытирался; к его могучему черепу прилипли редкие волосы.
Затем, совершенно голый, он подошел к ящику, где хранил важнейшие документы — свои верительные грамоты, инструкции Конгресса и другие секретные бумаги. Из этого ящика он вынул документ под заглавием «Предложения о мире между Англией и Соединенными Штатами, врученные достопочтенному Вениамину Франклину для передачи правительству его величества короля Англии» — ниже следовали условия мира. Франклин взял этот документ на тот случай, если его судно захватят англичане. Этот документ, сообщавший ему неприкосновенность парламентера, мог бы, возможно, спасти его от петли. Теперь, когда уже показался французский берег, надобности в таком документе не было; более того, во Франции эта бумага могла бы оказаться только помехой. Вынув длинный список мирных предложений из ящика, старик разорвал его на мелкие части, бросил клочья в жаровню и стал смотреть, как они сгорают.
Подпрыгивая на пенившихся, серо-зеленых, бросавших брызги волнах, маленькая шлюпка с Вениамином Франклином, Вильямом Темплем Франклином и Вениамином Франклином Бейчем с трудом подошла к берегу. Путешественников встретили удивленные, недоверчивые, мужланистые бретонцы. Потом не торопясь подали видавшую виды коляску. Старые клячи тронули убогой рысью. «Репризал» дал прощальный залп, и Франклин двинулся в страну своих надежд и своей миссии.
В Нанте он остановился в доме агента Грюэ, у которого были коммерческие дела с Конгрессом. Франклин чувствовал себя до предела усталым и с удовольствием передохнул бы несколько дней. Однако покоя не было. Конгресс не опубликовал решения о назначении американских представителей во Франции, и Франклин ни с кем не говорил о своей политической миссии. Но Франклин был ученым с мировым именем, и ему приписывали освобождение его страны от английской короны. Многие явились к нему с визитом.
Его засыпали вопросами, обнаруживавшими полную неосведомленность о положении в его стране. Он слушал с самым любезным и спокойным видом и отвечал очень коротко, оправдывая односложность своих ответов плохим знанием французского языка.
Хозяин дома, коммерсант Грюэ, отличался разговорчивостью и считал своей обязанностью дать гостю представление о французской жизни. Иностранец удивился, узнав, что, вопреки его ожиданию, американскими делами в Париже и Версале занимается не его друг и переводчик Дюбур, а некий Родриго Горталес, он же Карон де Бомарше.
О Бомарше Франклин, конечно, слышал. Он даже читал памфлеты, написанные Бомарше по поводу какого-то судебного дела. Они показались ему слишком эффектными, слишком скороспелыми, слишком поверхностными, слишком риторическими, им не хватало мудрости. По мнению Франклина, мосье де Бомарше был фельетонистом, пишущим на злобу дня, и старик не находил ничего приятного в том, что именно этого человека считают наиболее важным и энергичным защитником американских интересов.
Коммерсанты богатого города Нанта не могли отказать себе в удовольствии устроить в честь Франклина грандиозный бал. Доктор привез с собой парадный костюм — тот самый, синий, дорогого бархата, который был на нем в Лондоне во время памятного позорного заседания. Но этот костюм лежал в нераспакованном, плотно увязанном сундуке, и, по правде говоря, Франклину не хотелось доставать его до прибытия в Париж. Он решил, что наденет простой мещанский коричневый кафтан.
Коричневый кафтан показался жителям города Нанта самой подходящей одеждой для скромного мудреца с близкого к природе Запада. Франклин имел огромный успех. Его спокойная, приветливая медлительность разительно отличалась от юркой, но сдобренной скепсисом, блестящей галантности, принятой в здешнем обществе в подражание парижским салонам. Женщины были покорены старомодно-степенной любезностью знаменитого человека. В городе только о нем и говорили. Где бы он ни появлялся, ему оказывали внимание и почтение, его меховая шапка и железные очки стали символом.
Среди множества визитеров, посетивших доктора во время его пребывания в Нанте, был очень худой, похожий на мальчика молодой человек с опущенными плечами и большими карими, необыкновенно сияющими глазами на полном красивом лице — некто Поль Тевено.
Поль задержался на побережье, чтобы тотчас же по прибытии Франклина засвидетельствовать ему свое почтение. И вот он глядел на старика сияющим взором, явно наслаждаясь близостью знаменитого человека. Тронутый этой наивной восторженностью, Франклин приветливо ему улыбался. Но едва юноша заявил, что пришел приветствовать Франклина как представитель фирмы «Горталес» и ее шефа мосье де Бомарше, — приветливая улыбка исчезла, и Поль, к своему изумлению, нашел, что мясистое, массивное лицо доктора уже совсем не похоже на лицо добродушного мудреца. Старик смотрел на него большими строгими глазами, брови его, казалось, еще сильнее нахмурились, узкие губы сомкнулись, морщины, пересекавшие большой лоб, углубились; могучей и грозной была эта старая голова на широких плечах.
— И вы говорите, что они уже в море, эти суда мосье де Бомарше? — спросил Франклин; в его тихом, вежливом голосе трудно было различить антипатию и недоверие.
До сих пор Поль, хотя это было ему и нелегко, говорил по-английски, теперь он перешел на французский язык. Почувствовав, что надо защищаться, он стал горячо хвалить дела своего замечательного друга Пьера. Он сказал, что три судна — «Виктуар», «Александр» и «Эжени» — уже вышли в море, что они доставят в Америку сорок восемь пушек, шесть тысяч двести ружей, две тысячи пятьсот гранат и в большом количестве обмундирование. Кроме того, на складах мосье де Бомарше ожидает отправки оружие и прочее снаряжение на тридцать тысяч солдат, и Поль по памяти назвал виды товаров и цифры.
Франклин слушал с неподвижным лицом. То, о чем рассказывал этот молодой человек, было серьезной услугой Конгрессу и армии. Но он, Франклин, не мог отделаться от неприязненного чувства, которое внушало ему имя Бомарше, и от недовольства, что его друг, славный и достойный Дюбур, оказался не у дел.
— Я полагаю, — сказал он, — что французское правительство по мере своих сил поддерживало мосье де Бомарше.
— И да и нет, доктор, — отвечал Поль. — Конечно, Версаль был заинтересован в отправке военных грузов для Америки, но точно так же он был заинтересован и в том, чтобы не раздражать английского посла. Позвольте мне, доктор Франклин, назвать вещи своими именами, — продолжал он с теплыми нотками в голосе. — Это оружие для вашей страны раздобыл благодаря своему таланту и ценою огромного риска мой друг мосье де Бомарше, и никто другой. Он действовал по собственной воде и преодолел невероятные трудности.
Франклин спокойно глядел на взволнованного Поля своими большими выпуклыми глазами.
— Я очень рад, — сказал он степенно, — что оружие для наших солдат уже в пути. Нам оно пригодится. Нас немного, и одним нам трудно выдержать длительную борьбу за дело всего человечества. Благодарю вас за ваше сообщение, мосье, — закончил он. Теперь он тоже говорил по-французски — медленными, рублеными, деревянными фразами.
Поль понял, что разговор окончен. Он был обескуражен. Он возлагал на эту встречу большие надежды, а Франклин обошелся с ним, как с нерадивым поставщиком. В сознании Поля не укладывалось, как этот человек, рискующий ради своего дела положением, состоянием и самой жизнью, может быть таким холодным, таким скептически высокомерным; но Поль заставил себя не делать преждевременных заключений. Он скромно удалился, решив искать еще одной встречи.
Такой случай представился через три дня, когда мосье Грюэ устроил в честь Франклина ужин для небольшого круга друзей.
Поль был приятно изумлен, увидев, что на этот раз доктор ведет себя совершенно иначе. Если при первой встрече Поля поразила холодная, сухая сдержанность Франклина, то сегодня он понял, почему все очарованы американцем. Он сам поддался обаянию франклинской степенности. Каждое самое незначительное слово доктора, даже его немного тяжеловесные шутки, даже несколько примитивных анекдотов, которые он вставлял в разговор, удивительно отражали его характер.
В этот вечер много толковали о религии. Вольнодумство парижского общества сказалось и на этом застольном сборище в Нанте. Гости потешались над суевериями местных крестьян, едко острили насчет родства этих суеверий с католической доктриной и рассказывали фривольные анекдоты о духовенстве.
Франклин слушал эти речи с любезной сдержанностью. Ждали, что и он выскажется, но он молчал. Наконец кто-то спросил его без обиняков, какого он мнения о духовенстве.
— Я не хотел бы делать никаких обобщений, — сказал он медленно, как всегда, когда говорил по-французски. — Среди духовенства есть серьезные люди, старающиеся согласовать свою веру с данными науки. Но есть и такие, которые рады ополчиться на науку.
И в самой непринужденной манере он стал рассказывать о своих собственных столкновениях с церковью. Например, когда он изобрел громоотвод, один священник заявил, что подобные действия равнозначны искушению бога; управлять небесной артиллерией смертному не по силам. Другой сказал в своей проповеди, что молния — это кара за грехи человеческие, средство предостережения от новых грехов; следовательно, попытка обезвредить молнию есть грех и посягательство на права божества.
Но вольнодумцы этим не удовлетворились; они явно добивались от Франклина такого недвусмысленного высказывания, которое можно было бы потом использовать.
— Мы слышали, доктор Франклин, — сказал один из гостей, — что в трактате «О свободе и необходимости, радости и страдании» вы подвергаете сомнению бессмертие души и оспариваете существование теологического различия между животным и человеком.
— Разве? — спросил любезно Франклин. — Да, да, в молодости я писал много такого, чего писать не стоило, и я рад, что эти мои опусы не снискали успеха и не распространились. — И он прихлебнул превосходного бургундского, которое хозяин дома налил своему отлично разбиравшемуся в винах гостю.
Поль думал, что назойливые вопрошатели наконец-то поняли, что доктор предпочитает не обсуждать подобные вопросы. Но вольнодумцы не унимались, и главарь их дерзко спросил напрямик:
— Не скажете ли вы нам, доктор Франклин, что вы думаете об этих вещах теперь?
Бросив на него открытый, спокойный взгляд, старик молчал так долго, что некоторым стало уже неловко. Затем он заговорил самым дружелюбным тоном:
— Теперь я думаю не так, как тогда, это ясно. Теперь, напротив, я подчас спрашиваю себя: зачем, собственно, нужно отрицать возможность существования высшей силы или бессмертие души?
Вольнодумец прикусил губу.
— Тем не менее, доктор, — настаивал он, — вы с нами заодно. Вы никогда не делали заявлений, которые, будучи превратно истолкованы, могли бы содействовать распространению суеверия в этом мире.
— Боюсь, мосье, — отвечал с улыбкой Франклин, — что мне придется вас разочаровать. Я всегда старался не лишать других радости, которую доставляют им религиозные чувства, даже если их мнение казалось мне нелепым. И я заходил в этом стремлении довольно далеко. Вам, должно быть, известно, что у нас в Филадельфии существуют всевозможные секты, в том числе и враждебные друг другу по своим взглядам. Ко всем сектам я относился одинаково дружелюбно и содействовал каждой в постройке или ремонте ее церкви. Если бы сегодня мне пришлось умереть, я умер бы в мире со всеми. Я думаю, мосье, что терпимость исключает нетерпимость и в отношении верующих.
Он сказал это самым любезным и мягким тоном, так что даже у вольнодумцев не было никаких оснований раздражаться.
И все-таки они хотели оставить за собой последнее слово.
— Не могли бы вы нам объяснить, — спросил их оратор Франклина, — почему вы ни разу публично не высказались за веру в высшее существо?
Чуть ухмыляясь, Франклин ответил:
— Не могу себе представить, чтобы такое публичное высказывание что-либо значило для высшего существа. Я, по крайней мере, никогда не замечал, чтобы оно проводило какое-либо различие между верующими и неверующими, клеймя, например, неверующих какими-то особыми знаками своего неодобрения.
Тут вмешался в разговор Поль. Самым почтительным образом он спросил:
— Не скажете ли вы нам, доктор Франклин, влияет ли ваша вера в бога на вашу практическую деятельность, и если да, то в какой степени?
— Я думаю, — ответил Франклин, — что лучший способ почитать высшее существо — это порядочно вести себя с другими его созданиями. Всю свою жизнь я старался вести себя с ними порядочно.
Однако вольнодумец, никак не желавший признать себя побежденным, продолжал настаивать.
— Но вы все-таки сомневаетесь в божественности Иисуса из Назарета? Или с этим вы тоже согласны? — спросил он вызывающе, когда Франклин задумчиво повернул к нему свое большое лицо.
— Этого вопроса я не изучал, — ответил доктор, — и считаю, что не стоит ломать себе голову по этому поводу. Видите ли, молодой человек, я уже стар, и, по-видимому, в скором времени у меня будет возможность узнать истину без особого труда.
Так, обиняками и полушутливо, на плохом французском языке, отвечал Франклин назойливым вольнодумцам. Поль радовался. Старик сказал многое и ничего не сказал; Поля восхищало умное превосходство и лукавство, с которым Франклин дал отповедь докучливым вопрошателям.
На другой день Франклин уехал в Париж. Полю страшно хотелось поехать с ним. Иногда робкий, иногда дерзкий, Поль становился очень настойчив, если что-либо вбивал себе в голову. Всякому другому он, не задумываясь, предложил бы свое общество, но обратиться с подобным предложением к Франклину он не решился.
Зато он присутствовал при его отъезде.
Внизу, во дворе, стояла с упряжкой большая пузатая карета мосье Грюэ, заканчивались последние приготовления. Франклин был еще наверху, в комнате, вокруг него хлопотало несколько человек. Ему принесли шубу, шапку, огромные рукавицы, резную палку яблоневого дерева.
Одеваясь, доктор говорил с Полем своим обычным спокойным и любезным тоном.
— Благодарю вас, друг мой, — сказал он, — за ценные сведения, которые я от вас получил.
Поль покраснел от гордости, что старик назвал его своим другом. Франклин уже совсем собрался, меха подчеркивали массивность его фигуры, шапка, густые брови, сильный подбородок придавали особую внушительность его лицу; рядом с могучим стариком Поль казался маленьким и тщедушным.
— В Париже мне предстоит расколоть твердый орешек, — сказал, покряхтывая, Франклин.
Он с трудом дышал под тяжелой шубой и произнес эти слова так тихо, что услышал их один только Поль. Они стояли у окна; внизу, в заснеженном дворе, дюжие носильщики укладывали в карету последние вещи, это были ящики, обитые железными полосами, Франклин вез в них важнейшие документы и книги. Один из носильщиков пытался поднять ящик, другой ему помогал, но и вдвоем они не могли справиться. К ним подошел третий. Первый жестом велел ему не мешать.
— Не трогай, — крикнул он, запыхавшись, и голос его донесся через окно, — не трогай, сейчас пойдет — Cа ira. — И он с грохотом опрокинул ящик в карету.
— Cа ira, mon ami, ca ira,[10] — сказал старик Полю своим любезным, спокойным голосом, и с чуть заметной улыбкой на узких губах, опираясь на руку Поля, он с трудом стал спускаться к карете, где его ждали внуки.
Последний привал устроили в Версале. Можно было и не останавливаясь ехать в Париж, но Франклин очень утомился. Он занял комнату в гостинице «Де ла Бель Имаж».
Не успел он сесть за ужин, как явился гость из Парижа, высокий, толстый, представительный человек в расшитом цветами атласном жилете, — Сайлас Дин. Радостно возбужденный, он сиял и долго не отпускал руки Франклина. Он тотчас принялся рассказывать, не зная, с чего начать, на чем остановиться. Сложные переговоры с графом Верженом, шпионаж и постоянные жалобы английского посла, то и дело задерживаемые корабли, офицеры, которых он завербовал, которым ему нечем платить и которых не на что отправить, Конгресс, посылающий вместо денег невразумительные ответы. Какое счастье, что наконец приехал Франклин и снял с него тяжелую ответственность. Этот разговорчивый человек сразу же выложил немногословному Франклину все свои заботы. Затем, без всякого перехода, хихикая, он сообщил, что английский посол, пронюхав о предстоящем прибытки Франклина, потребовал, чтобы Вержен запретил этому американцу пребывание в Париже. Вержен обещал послу выполнить его просьбу, но, по совету изобретательного мосье де Бомарше, курьера, который должен передать Франклину запрещение на въезд в Париж, направили в Гавр, где Франклина не было. А теперь, когда Франклин уже здесь, его, конечно, никто не станет высылать. Да, худо пришлось бы нам без нашего мосье де Бомарше!
Покамест мистер Дин беседовал так со своим знаменитым коллегой, в гостиницу явился нарядный арапчонок и доставил письмо на имя Франклина. Мосье Карон де Бомарше многословно извещал великого представителя Запада, что будет счастлив, если ему позволят прибыть с визитом сегодня же. С недовольным видом разглядывал Франклин красиво написанное, слегка надушенное письмо. Затем, очень вежливо, велел передать, что слишком устал и поэтому не может принять мосье де Бомарше сегодня.
Езда и болтовня мистера Дина действительно утомили, извели его, и он был рад, когда мистер Дин наконец откланялся. Но тут явился новый гость, которому он не хотел отказать, доктор Барбе Дюбур.
Доктор Дюбур обнял Франклина, похлопал его по спине; грузные, старые, они вдвоем почти заполнили маленькую комнатку гостиницы «Де ла Бель Имаж». Доктор Дюбур не уставал твердить, как мололо выглядит и как хорошо сохранился Франклин, а Франклин говорил то же самое о Дюбуре. Но в глубине души каждый с огорчением отметил, как постарел другой, и Франклин тоскливо подумал: «Вот и опять я лгу, десяток надгробных камней не сумели бы солгать лучше».
Дюбур был вне себя от радости и ни на секунду но умолкал. Говорил он весело и беспорядочно. Рассказывал об общих знакомых, об Академии, о новых произведениях, излагающих принципы физиократов,[11] об отставке министра финансов Тюрго, о своих переводах трудов Франклина, о жалком состоянии государственной казны, о новом директоре финансов Неккере,[12] о Вержене, о придворных интригах. Он говорил по-английски, говорил недурно, но от волнения то и дело сбивался на французский.
Он сто раз повторил, какое это счастье, что Франклин наконец-то здесь. Он, Дюбур, ничего не имеет против старательного, патриотически настроенного Сайласа Дина, но у того нет, разумеется, достаточного веса, чтобы представлять революционную Америку. Не удивительно, что такой падкий на сенсации сочинитель комедий, как мосье де Бомарше, предстал перед дворцом и городом в роли главного защитника Америки, словно вся европейская деятельность в пользу Тринадцати Штатов сосредоточена у него в доме.
Когда незадолго до этого Сайлас Дин восторженно рассказывал ему о делах мосье де Бомарше, Франклин сам испытывал некоторое неудовольствие, и теперь он прекрасно понимал злость своего друга Дюбура, чувствовавшего себя оттесненным. Но Франклин помнил и об энтузиазме, с каким расхваливал своего шефа юный Поль Тевено.
— Я слыхал, — сказал он, — что этот Бомарше уже отправил в Америку солидную партию товаров, что-то около шести тысяч ружей, я не запомнил точных цифр.
— Да, конечно, — согласился Дюбур, — когда в твоем распоряжении королевский Арсенал и тайный фонд министерства иностранных дел, это не фокус.
— Неужели все средства отпущены королевским правительством? — осведомился Франклин.
— Кое-что, конечно, вложено и со стороны, — с неудовольствием признал Дюбур. — Но откуда бы Бомарше ни набрал денег, — оживился он, — плохо то, что именно этого человека Париж считает представителем Америки. Он такой несерьезный. — И Дюбур повторил по-французски: — Такой несерьезный. Но теперь, — сказал он с облегчением, — этому пришел конец. Если здесь доктор Франклин, Бомарше больше нечего делать. — И он нежно похлопал Франклина по спине.
Потом, за ужином, они говорили о литературных делах. Издатель мосье Руо собирался выпустить большим тиражом популярную книжку Франклина «Путь к благосостоянию» во французском переводе Дюбура, под заголовком «La science du bonhomme Richard».[13] Доктор Дюбур полагал, что перевод ему особенно удался, вообще спокойный стиль — это его, Дюбура, конек. И тут же, за обильной едой, которую оба поглощали с большим аппетитом, доктор Дюбур прочитал Франклину его притчи и изречения по-французски.
На другой день, в сопровождении Дина и Дюбура, Франклин отправился в Париж. Там он остановился в Отель-д'Амбур, где до сих пор жил мистер Дин. Жилье оказалось тесным, и Вильям, которому было поручено разобрать бумаги деда, никак не мог справиться с ними в этой тесноте. Разбросав их в живописном беспорядке, мальчик стоял перед ними с милой и беспомощной, но ничуть не виноватой улыбкой.
Слухи о Франклине успели уже дойти из Нанта в Париж. Едва распространилось известие о его прибытии, как многочисленные почитатели доктора стали являться к нему с визитами. Среди первых был Пьер де Бомарше. Франклин принял его вместе с двумя другими визитерами. Он был с Пьером очень учтив, отметил в разговоре его заслуги перед Америкой, но, избегая всякой эмоциональности, с любезным видом пропустил мимо ушей слова Бомарше, в которых тот выразил надежду на возможность обстоятельного разговора с доктором в ближайшем будущем. Пьер был озадачен. Но со свойственной ему беззаботностью он быстро утешился. Ведь Поль же рассказывал, что и его Франклин сначала принял очень холодно, а потом стал держаться иначе. Пьер не сомневался, что расположит американца к себе.
А Франклин принимал других посетителей, они шли нескончаемой чередой. Ему отвешивали поклоны, пожимали руку, его обнимали, с ним заговаривали на беглом французском языке. Он сидел грузный, добродушный, почтенный, редкие, седые волосы падали ему на плечи. Время от времени он растягивал в улыбке широкий рот, много слушал, мало говорил.
У дверей Отель-д'Амбур дежурила толпа людей, жаждавших воочию увидеть представителя Америки, свободы и философии. Он вышел и оказался точно таким, каким его расписала молва. На нем были железные очки и знаменитая меховая шапка. Любопытные пришли в восторг. Вообще-то Франклин собирался сесть в ожидавшую его карету и поехать. Но теперь, несмотря на то что было скользко и холодно, он пошел пешком, опираясь на руку красивого, юного Вильяма, грациозно поддерживавшего своего деда. Повсюду с великим человеком здоровались почтительно и растроганно. Франклин отвечал на приветствия с веселой, лукавой улыбкой. Если можно оказать услугу своей стране такой недорогой ценой, он согласен носить меховую шапку хоть в мае.
Все следующие дни имя Франклина гремело в газетах, произносилось в салонах и кафе. Лорд Стормонт выразил Вержену свое возмущение. Министр полиции хотел было запретить публичное упоминание имени Франклина, но граф Вержен боялся, что такое распоряжение покажется смешным, и его не издали.
Воодушевление парижан все росло и росло. Подумать только, что за человек: изобретатель громоотвода, борец за независимость Америки, автор первоклассных трудов по физике и по философии! Кто еще при таких заслугах отличался такой простотой? Патриархальный старик в очках и шубе — таким и только таким мог быть истинный мудрец, натурфилософ, bonhomme Richard, органически сочетавший благороднейшие учения древности с наукой нового времени. Славу своего «Франклина» парижане распространяли со свойственной им быстротой. Мосье Леонар, парикмахер королевы, лучший в мире мастер своего дела, ввел в моду новую дамскую прическу — высокий, завитой парик, имитировавший франклинскую меховую шапку, и назвал этот фасон «coiffure a la Franquelin».[14] Над каминами парижских салонов, на стенах кафе, на табакерках и носовых платках появились изображения Франклина. Портреты его продавались на каждом углу, у рисовальщиков работы было по горло.
Доктор Дюбур принес своему другу один из таких портретов. Оба, усмехаясь, стали его разглядывать. Франклин был изображен в меховой шапке, в железных очках, с палкой яблоневого дерева, ни дать ни взять добропорядочный обыватель, настоящий bonhomme. Обрамлением портрета служил латинский стих, гласивший: «У неба он вырвал молнию, у тиранов — скипетр». Почти все изображения Франклина появлялись в обрамлении этого антично-звонкого стиха. А сочинил этот стих барон Тюрго, бывший министр финансов, один из главных физиократов, друг Франклина.
— Хороший стих, — сказал, разглядывая портрет, Франклин.
— Да, — ответил Дюбур, — если у вас есть настоящий друг и почитатель, так это Тюрго.
— Жаль, что они прогнали его, — сказал Франклин. — Но я с самого начала боялся, что он окажется недостаточно гибким для Версаля. Государственный деятель не имеет права терять терпение, он должен подчас искать окольных путей.
— Во всяком случае, в американском вопросе, — как всегда, запальчиво возразил Дюбур, — Тюрго проявил достаточно терпения. Будучи министром финансов, он не давал на Америку ни одного су. Я не раз уговаривал его, как поп умирающего, а у него на все был один ответ: «Дело Америки прогрессивно, поэтому оно победит и без наших денег. Деньги нужны для своих собственных реформ».
— Не был ли он по-своему прав? — спросил Франклин.
Доктор Дюбур поглядел на него с упреком.
Такая объективность Франклина не переставала удивлять его друзей. Доктор Дюбур и многие сочувствовавшие Америке парижские интеллигенты понимали, что двор, конечно, не может прийти в восторг от их демократического рвения; но неужели Версаль не в состоянии понять, какие огромные возможности открываются благодаря американской войне для расплаты с англичанами за поражение и мирный договор 1763 года? Этих интеллигентов приводила в негодование выжидательная политика косных французских министров. Пора наконец-то, черт побери, признать Соединенные Штаты и заключить с ними торговое соглашение.
Франклин, напротив, находил поведение французского правительства вполне естественным и даже единственно возможным. Состояние французских финансов внушало тревогу; воина, даже самая победоносная, привела бы Францию к катастрофе. Поэтому даже такой ярый приверженец американских идей, как Тюрго, был решительным противником оказания помощи американцам, — он боялся вызвать войну с Англией. В будущем Франция могла воевать лишь при поддержке своих союзников — Испании и Австрии. Но абсолютистская Австрия не была заинтересована в победе республиканской Америки, а Испания опасалась, что такая победа побудит к восстанию ее собственные колонии.
Учитывая эту обстановку, Франклин не разделял возмущения и нетерпения Дюбура и ему подобных; примирившись с перспективой длительного выжидания, он решил не смущать министров никакими демонстрациями.
Но если французскому правительству приходилось соблюдать осторожность, то для народа такая сдержанность не была обязательна. Располагать парижан в пользу своего дела Франклин мог без всяких помех. А завоевывать общественное мнение он научился уже давно, недаром он был печатником, издателем, писателем и государственным деятелем. Он родился на свет, чтобы быть инженером человеческих душ, в этом было его призвание. Если двор не может признать его посланником Америки, он будет им в глазах французского народа. Это тоже немало и тоже довольно приятно.
К сожалению, однако, Франклин был не единственным представителем Соединенных Штатов в Париже. Назначив на этот пост Франклина, Конгресс наделил такими же правами и обязанностями Сайласа Дина и, кроме того, Артура Ли, обидчивого интригана из Лондона.
С Сайласом Дином Франклин отлично ладил. Правда, этот добродушный патриот был слишком мелок для большой политики, в американской революции он видел всего-навсего широко разветвленное торговое предприятие. Но он был, по крайней мере, полезен в коммерческих делах. Он не вмешивался в непонятные ему области и с чистосердечной почтительностью признавал превосходство Франклина.
Между тем в Париж прибыл Артур Ли, намеренный порочить и саботировать все, что сделает или скажет Франклин. Помощи от него не было никакой, он только ставил палки в колеса.
Артур Ли происходил из знатной виргинской семьи. Он был своего рода вундеркиндом: не достигнув двадцати лет, он опубликовал уже несколько блестящих политических брошюр. Семья Ли придерживалась передовых, радикальных взглядов, и не кто иной, как брат Артура, Ричард Генри Ли, сформулировал и внес в Конгресс предложение о провозглашении независимости колоний; сам Артур Ли, которому исполнилось уже тридцать семь, много лет занимался проамериканской деятельностью в Европе.
Когда Конгресс направил его в Париж, он испытал большое удовлетворение. Но скоро, к своему разочарованию и огорчению, Артур Ли убедился, что здесь он остается в тени из-за доктора Франклина.
Не впервые скрещивался его путь с путем Вениамина Франклина. Еще в Лондоне они сообща, или, вернее, бок о бок, работали агентами колонии Массачусетс. Уже тогда молодому, фанатичному, любившему эффектные слова и позы Артуру Ли нелегко было находиться в одной упряжке со старым, спокойно-рассудительным доктором honoris causa, — он иначе не называл Франклина, — и он со страстным нетерпением ждал, когда наконец старик уступит ему дорогу. И вот теперь, в Париже, в годы, когда решается судьба его родины, его снова оттесняет, ему снова всюду мешает этот флегматичный, пользующийся незаслуженной славой старик.
Худой, хмурый, ходил Артур Ли по битком набитым вещами комнатам Отель-д'Амбур, недоверчиво, запальчиво давал советы, выражал свое несогласие. Он не забыл обиды, нанесенной ему Бомарше, он считал Бомарше обманщиком и, подозревая его в растрате денег, отпущенных Версалем для Америки, искал все новых и новых доказательств, чтобы подтвердить свое подозрение. Он предостерег от Бомарше Сайласа Дина, и когда тот вступился за Бомарше, стал с подозрением относиться и к Дину. Он предостерег Франклина от Бомарше и Дина, а когда Франклин заявил, что еще не составил себе мнения о Бомарше, Ли решил, что и доктор honoris causa с Дином и Бомарше заодно.
Злость Артура Ли на Франклина становилась сильней и сильней. Что, собственно, люди нашли в этом старике? Может быть, он и сделал несколько полезных изобретений, в этих вещах он, Артур Ли, ничего не смыслил. Но зато он прекрасно понимал, что старик ведет нерешительную, робкую политику. Да и чего другого можно ждать от человека, который всю свою жизнь был ненадежен и у которого к тому же сын — тори? Он ханжа, этот Вениамин Франклин. Что за дешевый прием — вечно носить коричневый кафтан и меховую шапку, беззастенчиво разыгрывая перед наивными французами скромного философа. Артур Ли видел своими глазами, что в великосветских салонах Лондона и Филадельфии этот хитрый старик бывал одет столь же изящно, как все другие. Да и здешняя его жизнь ничуть не походила на жизнь Диогена: он завел роскошную кухню, карету и слуг, покупал старые вина и окружил себя молодыми женщинами.
Итак, оба сотрудника Франклина скорее мешали ему, чем помогали.
Это стало совершенно ясно, когда трех эмиссаров Соединенных Штатов принял министр иностранных дел граф Шарль Вержен.
Франклин сомневался в том, что их примут в Версале, и поэтому он почувствовал облегчение, когда в Отель-д'Амбур явился вежливый секретарь министерства иностранных дел и сообщил, что граф Вержен почтет за честь увидеть у себя трех американских гостей. Конечно, прибавил тут же секретарь, граф Вержен не знает и не хочет знать, что господа приехали сюда по поручению филадельфийского Конгресса; он примет их только как частных лиц.
Артур Ли вскипел. Это неслыханное оскорбление, и, разумеется, приглашение министра следует отклонить. Франклин и Дин с трудом переубедили несдержанного упрямца. Понимая, что Вержен преодолел сопротивление короля и добился тайной помощи Америке лишь ценою величайших усилий, Франклин оценил это приглашение как смелый знак доброжелательности.
Он приветливо глядел на министра своими большими испытующими глазами. Министр оказался таким, каким Франклин его себе представлял: спокойным, любезным, опытным, учтивым, немного насмешливым и очень осторожным. Эти качества были Франклину по душе.
Многословно и вполне искренне выразил граф Вержен свою радость по поводу встречи с великим философом, чьи труды хорошо известны ему, Вержену. Это не были пустые комплименты. Граф Вержен знакомился с сочинениями Франклина, не дожидаясь переводов доктора Дюбура: он свободно читал по-английски.
При всей своей благовоспитанности министр обращался преимущественно к Франклину. Сайлас Дин считал это вполне естественным, он сидел молча, грузный, тучный, и радовался успеху своего великого товарища. Артура Ли злило, что граф Вержен его не замечает. Время от времени он пытался вставить в разговор остроумную фразу, но министр вежливо его выслушивал и тотчас же снова обращался к Франклину.
Вержен задал вопрос относительно некоторых полномочий Конгресса. Не дав Франклину ответить, он поспешил разъяснить, что задает этот вопрос, конечно, только как частное лицо, интересующееся политической философией. Будучи министром христианнейшего монарха, он не может знать о существовании Тринадцати Соединенных Штатов, для него они по-прежнему существуют как колонии английского короля, состоящие в прискорбном конфликте со своим сувереном.
— Но если, — продолжал он, — министр Вержен глубоко сожалеет о поведении колоний, то мосье де Вержен вполне разделяет позицию Конгресса. Мосье де Вержен с самого начала считал полюбовное разрешение конфликта невозможным. Я знаю английское правительство, знаю его упрямый эгоизм. Меня охватывает гнев, когда я думаю о позорном мире, навязанном нам англичанами в шестьдесят третьем году. При мысли о Дюнкерке[15] и о сидящем там, словно в насмешку над Францией, английском контрольном комиссаре у каждого француза сжимаются кулаки.
Эти страстные слова удивительно не соответствовали манерам министра; он говорил тихо, спокойным тоном, играя пером.
Слушая графа Вержена, Франклин думал, что, если бы не победы американцев, Англия не смогла бы навязать Франции столь жесткие условия мира и послать своего комиссара в истерзанный Дюнкерк. Сам он, Франклин, в ту войну поставлял оружие для борьбы против Франции, а генерал Вашингтон, который теперь в такой чести у парижан, именно в той войне и приобрел опыт и славу.
В ходе беседы министр сказал, что если его гости позволят дать себе совет, то он рекомендовал бы им до поры до времени избегать всякого шума. В Париже и так нет недостатка в людях, произносящих пламенные речи в защиту Америки. Он убежден, что одно присутствие такого человека, как Франклин, окажется действеннее самых громких слов.
У Артура Ли внутри все кипело. «Какой наглец этот жирный лягушатник, — думал он. — Вместо того чтобы предложить нам официальное признание и союз, которых мы добиваемся, он отделывается от нас подлыми советами. Мы должны притаиться на задворках, это его устраивает».
Между тем Франклин, к изумлению и раздражению Артура Ли, продолжал сидеть с самым любезным видом и медленно, подбирая слова, говорил по-французски:
— Нет никого, кто был бы в состоянии оценить наше положение в этой стране лучше, чем вы, граф. Поэтому ваши советы ценны вдвойне.
Вержен улыбнулся.
— Я полагаю, — ответил он, — вы не взыщете, если наша встреча даст нечто большее, чем советы. Не угодно ли вам по окончании нашей беседы переговорить с мосье Жераром?
Посетители стали прощаться с министром. Вержен заверил Франклина, что будет всегда рад с ним побеседовать. Но он, Вержен, предлагает устраивать такие встречи не в официальном Версале, а в Париже и частным образом. Если правительство, вопреки желанию лорда Стормонта, не возражает против пребывания мосье Франклина в Париже, то это объясняется тем, что член Академии Франклин, как доложили ему, министру, находится здесь для обмена мнениями со своими коллегами и для приобщения своих внуков к благам французского воспитания.
Артур Ли испытующе взглянул на Франклина своими большими глазами, горевшими на его худом лице мрачным огнем. Неужели старик проглотит и это оскорбление? Неужели его подлый оппортунизм зайдет так далеко? Он напряженно глядел на массивное, мясистое лицо Франклина, Оно отнюдь не выражало возмущения, напротив, оно любезно показывало, что Франклина позабавили слова министра.
— Я совершенно согласен с вами, граф, — отвечал старик. — Гораздо уютнее беседовать дома, у камина, чем в официальной приемной.
Тут Артур Ли не выдержал.
— Я считаю достойным сожаления, — сказал он резким, дрожащим голосом, — что представители Тринадцати Соединенных Штатов Америки должны являться к министру иностранных дел французского короля только с черного хода.
— Но мосье, мосье… — отвечал граф Вержен, вспоминая имя этого пылкого молодого человека, которое он явно забыл.
Но Франклин уже говорил примирительным тоном:
— Мосье Ли, мой уважаемый молодой коллега, по-видимому, неверно понял французскую речь, граф. Он знает не хуже моего, что в серьезном разговоре важно содержание, а не стулья, на которых сидят собеседники.
Попрощавшись с министром, американцы направились в кабинет мосье де Жерара. Там говорили только о цифрах и фактах. Выяснилось, что статс-секретарь получил указание предоставить господам эмиссарам бессрочный и беспроцентный заем в размере покамест двух, миллионов ливров.
— Великолепно, — сказал Сайлас Дин.
— Жалкая подачка, — сказал Артур Ли.
Вениамин Франклин ничего не сказал.
Из собственного, иногда приятного, а иногда и горького, опыта Франклин с детства знал, какое большое влияние оказывает на действия отдельного человека и целого общества его экономическое положение. «Человеку, у которого нет денег, — говорил он обычно, — трудно оставаться порядочным; пустой мешок не стоит». Он не сомневался, что в конечном счете причины американской революции экономические. Для него самого, стоило ему достичь минимальной обеспеченности, экономические проблемы были только средством и никогда не превращались в цель. Повышение мобильности имущества вело к быстрейшему накоплению денег и давало среднему сословию мощное оружие для борьбы с феодальными привилегиями, стоявшими на пути прогресса. Экономика интересовала Франклина только как оружие, вообще же она оставалась на периферии его мышления и его политики.
Но, к сожалению, в эти первые парижские дни большую часть его времени отнимали дела, так или иначе связанные с экономическими проблемами. Трое уполномоченных знали, что рассчитывать на денежную помощь Конгресса им не приходится. Они должны были достойным образом содержать посольство, они должны были посылать товары в Америку, а деньги для всего этого им предстояло добывать во Франции. Тут было два пути: во-первых, непрестанно клянчить деньги у французского правительства, во-вторых, снабжать документами судовладельцев, отваживавшихся, ради участия в прибылях, на каперство под американским флагом.
Реализовать захваченные суда и товары было, однако, не так-то просто. Вот, например, этот шумный приятель Франклина, морской волк, капитан Лемберт Уикс. Кроме тех двух суденышек, он захватил еще два, и теперь, гордый этими успехами, хотел устроить открытую распродажу своей добычи. Но тут вмешались французские власти: в торжественных договорах Франция обещала англичанам запрещать вход в свои порты, не говоря уже о продаже добычи в этих портах, любому иностранному судну, плавающему под флагом державы, враждующей с Англией. Морской волк никак не мог уразуметь, чего от него хотят. Он совершал героические подвиги, и вот, вместо того чтобы его чествовать, эти французские крючкотворы требуют, чтобы он сбывал свою добычу тайком, как воришка. Он ругался на чем свет стоит. Он поехал в Париж, и в тесных комнатах Отель-д'Амбур загремела грубая матросская речь, раздались жалобы и проклятия.
Франклин стал успокаивать возмущенного капитана. Стал объяснять ему, что французское правительство связано с Англией договорами, что если оно разрешит Уиксу пользоваться своими портами для нападения на мирные английские суда, то это будет нарушением нейтралитета. Морской волк не желал слышать этой бюрократической болтовни. Он требовал от Франклина, чтобы тот поставил на место версальских господ.
В своих переговорах с французскими властями Франклин коснулся возникших трудностей в самой мягкой форме; он считал абсурдным досаждать Ворсалю из-за таких пустяков. Но его коллеги придерживались другого мнения. Морской волк нажаловался и им. Они хотели, чтобы Франклин проявил решительность в разговоре с министром. Артур Ли насмешливо спросил его, чего же стоит дружба мосье Вержена, если тот даже не может защитить от Англии героя-капитана.
Даже друг и почитатель Франклина Дюбур не разделял его точки зрения. Более того, Дюбуру самому хотелось принять участие в каперских предприятиях. Деньги и суда для таких целей достать было нетрудно: даже осторожный мосье Ленорман ничего не имел против того, чтобы вложить капитал в такое дело. Когда Франклин стал добродушно посмеиваться над пиратскими фантазиями своего друга, тот обиделся. Зачем пренебрегать таким великолепным средством, если можно добыть деньги для дела свободы, для Америки.
Много хлопот причинили Франклину и офицеры, завербованные Сайласом Дином в американскую армию. Чтобы не нарушить нейтралитет, версальское правительство запретило им выезд. Франклин, опасавшийся, что засилие высших французских офицеров в американской армии вызовет недовольство американских военных, с радостью воспользовался бы этим запретом и освободился бы от заключенных Дином контрактов. Однако Сайлас Дин, гордясь, что привлек на сторону Америки столь именитых господ, не уставал твердить доктору, чтобы тот всеми силами добивался для них разрешения на выезд.
Подобные дела заполняли день Франклина до отказа. Между тем он был убежден, что вся эта деятельность скорее вредна, чем полезна. Вержен, вне всякого сомнения, настроен доброжелательно и сам отлично знает, когда придет время добиваться у своих коллег министров и короля признания Соединенных Штатов и заключения союза. Не следует на него наседать. Американо-французская дружба — растение нежное, не переносящее грубых, неосторожных прикосновений.
Множество симптомов подтверждало правоту Вержена, предсказавшего, что само присутствие Франклина в Париже возымеет определенное действие. Премьер-министр старого короля, герцог Шуазель, впавший при молодом короле в немилость, искал общества Франклина, он нанес ему визит и пригласил его к себе в дом. Даже герцог Луи-Филипп де Шартр, двоюродный дядя короля, по старой фамильной традиции враждовавший со двором, старался сблизить Франклина со своим кругом и с приятелями своей красивой и одаренной подруги, писательницы мадам де Жанлис. Доктор был вежлив, но сдержан; он считал, что заигрывать с оппозицией не следует. Артур Ли, напротив, хотел продемонстрировать королю и правительству, что американцы представляют собой серьезную силу; он полагал, что нужно объединиться с оппозицией и показать кулак королю и министрам. Чтобы предотвратить возможные недоразумения, Франклину приходилось лавировать и хитрить.
Обстановка, в которой протекала эта безрадостная деятельность, тоже удручала. Комнаты, снятые американской делегацией, были очень тесны, и если канцелярия юного Вильяма всегда находилась в беспорядке, то он имел известное право сослаться на тесноту. С самого начала Франклин находил, что Отель-д'Амбур неподходящее для него место. Постепенно он пришел к убеждению, что ему лучше обосноваться не в самом Париже, а в его окрестностях. Конечно, и там он не укроется от назойливых посетителей, но все-таки их будет меньше.
Когда Франклин поделился своими заботами и соображениями с доктором Дюбуром, тот нашел выход из положения. У его друга Рея де Шомона, страстного сторонника американцев, близ Парижа, в Пасси, есть вилла, Отель-Валантинуа. Мосье де Шомон, сказал доктор Дюбур, чувствует себя заброшенным и одиноким в огромной усадьбе. Один из флигелей расположен далеко от главного здания, в прекрасном саду. Если Франклин перенесет туда свою резиденцию, мосье де Шомон будет счастлив.
Франклин поехал в Пасси. Флигель, о котором шла речь, оказался просторной, красивой, благоустроенной дачей, расположенной среди огромного сада, так что, поселившись здесь, можно было фактически жить в саду. Сад полюбился Франклину с первого взгляда. Строго декоративный, он постепенно переходил в английский парк. Спускавшиеся к реке террасы открывали прекрасный вид на Париж, раскинувшийся на том берегу. К воротам дома вели аллеи и плавно поднимавшаяся проезжая дорога; но тучный и мучимый подагрой Франклин сразу же решил, что будет ходить по ступеням террас в те дни, когда ему удастся преодолеть свою слабость к удобствам.
Во время этого осмотра он влюблялся в дом и сад все сильней и сильней. Это было то, о чем он мечтал. Здесь можно жить и городской — Пасси лежало в непосредственной близости от Парижа, — и сельской жизнью, здесь найдется место для книг и для всякого милого его сердцу хлама, здесь можно устроить мастерскую и мастерить в свое удовольствие, здесь он сможет укрыться от Сайласа Дина, Артура Ли и от всякой другой докуки.
С некоторой нерешительностью спросил он мосье де Шомона, какую цену тот назначит за флигель и сад. Мосье де Шомон ответил, что почтет за честь отдать свой пустующий дом в безвозмездное пользование великому человеку.
Сначала Франклин задумался. Мосье де Шомон занимался поставками для Америки и, конечно, рассчитывал на ответные услуги. Но потом, сидя на маленькой наблюдательной вышке, глядя на этот приятный мирный пейзаж и думая о шумной тесноте Отель-д'Амбур, Франклин принял предложение мосье де Шомона. Пусть Артур Ли сообщает своим американским друзьям что угодно.
На следующее утро, проснувшись, Франклин вспомнил, что сегодня день его рождения. В Филадельфии в этот день устраивалось семейное торжество — с пирогами, подарками, торжественным обедом; внуки обычно читали стихи. Доктору было любопытно, вспомнит ли Вильям об этом.
Старик лежал на широкой кровати, за занавесками алькова; несмотря на январский холод, окно было приотворено: Франклин любил свежий воздух. Одну ногу он высунул из-под одеяла, он считал, что холод действует на нее благотворно.
Семьдесят один. Пора бы начать следить за собой. Однако удовольствия для него все еще часто важней, чем здоровье. Нужно бы побольше ходить пешком, пореже наполнять вином стакан. Жизнь во Франции полна соблазнов. Несмотря на свои годы, он явно нравится женщинам. Может быть, он еще раз женится, франклинская порода крепкая.
Скорее всего Вильям не вспомнит о дне рождения деда. Этот малый думает только о своих удовольствиях, на другие мысли у него нет времени. А мальчик он приятный, добрый, смышленый. Может быть, в нем еще обнаружатся какие-нибудь способности.
Доктору больше не лежалось. Он поднялся тяжело, покряхтывая. Обычно он вставал гораздо раньше других и перед завтраком час-другой читал или работал.
В халате он прошел в комнату, где стояли книги. В этой комнате было тепло, но полно дыма, здесь не умели топить. Франклин занялся камином. Потом сбросил халат и уселся нагишом; он любил так сидеть по утрам.
Из-за недостатка места книги стояли в два ряда, тесно прижатые одна к другой, нужную книгу нельзя было увидеть сразу. В Пасси будет не так. Но до переселения пройдет еще месяца полтора-два, раньше не удастся привести дом в порядок. Предстоит еще трудная зима здесь, в Париже.
Он подвинул стул к книжной полке. Это был просторный стул, сконструированный специально для доктора и привезенный им из Филадельфии. Сиденье поворачивалось так, что стул превращался в лесенку. Доктор достал книги, сложил их около себя, стал читать. Сегодня он не будет торопиться; и, может быть, он и его коллеги опоздают к мосье де Жерару на четверть часа. В день, когда тебе исполняется семьдесят один год, можно позволить себе такую роскошь.
В восемь, как всегда, сели завтракать. Шумно и весело поздоровавшись с дедом, Вильям стал над ним подшучивать: ведь сегодня, вопреки обыкновению, опоздал не внук, а дед. Франклин признался себе, что опоздал, наверное, нарочно, желая напомнить мальчику о дне своего рождения. Старик был огорчен, что Вильям об этом не вспомнил.
Чтобы вознаградить себя, доктор потребовал оладьев из гречневой муки; обычно они подавались только по воскресеньям, он привез муку из Америки. Ел он медленно, с удовольствием, представляя себе свою Филадельфию, храм Христа, Академию, рынок и ратушу, немецкую церковь, дом правительства, дом гильдии плотников, верфь, Сассафрас-стрит, Честнут-стрит, Малбери-стрит.
После завтрака он принялся за работу. Диктуя, он шагал по комнате. Он взял за правило проделывать ежедневно не менее трех миль пешком, если не на свежем воздухе, то хотя бы в помещении; поэтому нужно было шестьсот раз пересечь комнату в обоих направлениях.
Обильная, разнообразная почта, лежавшая перед доктором, в общем не содержала ничего радостного. Некто шевалье де Невиль, которому, по его словам, грозила голодная смерть, просил Франклина послать ему несколько луидоров. Доктор Ингенхус, лейб-медик Марии-Терезии, желал получить у своего друга Франклина сведения о некоторых научных экспериментах. Некая мадам Эрисан просила доктора узнать, где находится ее сын, у нее есть основания полагать, что он в Америке. В обстоятельных, каллиграфически выведенных фразах мистер Артур Ли сообщал, что так как Франклин оставил его устные протесты без внимания, то он письменно заявляет, что господа из министерства иностранных дел его, Артура Ли, систематически оскорбляют и игнорируют; если Франклин и на этот раз не вмешается, он, Артур Ли, примет необходимые меры сам; он требует, чтобы его заявление было приобщено к делу. Следующее, неразборчиво подписанное письмо содержало резкие нападки на вздорное и дилетантское, по мнению автора, учение Франклина о молнии. Некто мистер Рассел из Бостона, застрявший в силу ряда сложных причин в Марселе, просил у своего великого соотечественника совета и помощи. Некий аббат Лекомб, проигравший все свои деньги, умолял Франклина помочь ему, обещая, что он, со своей стороны, будет молиться за победу американского оружия. Четырнадцать матросов с «Репризал» жаловались на бесчеловечное обращение с ними морского волка Уикса, морской же волк, заботясь не столько об орфографии, сколько о сочности выражений, проклинал четырнадцать непослушных матросов. Мосье Филипп Гефье сообщал, что закончил работу над антианглийским эпическим произведением, которое снискало самую высокую оценку друзей автора; мосье Гефье просил оказать ему материальную помощь в целях опубликования этой поэмы.
Вот какими письмами пришлось заниматься доктору в день, когда ему исполнился семьдесят один год. Но все-таки его ждал сюрприз и подарок: почта пришла и из Англии. Наперекор английской разведке британские друзья Франклина нашли способ посылать ему письма.
Перед ним лежало письмо Джорджианы Шипли, дочери его доброго приятеля епископа Джонатана Шипли. Джорджиане было сейчас лет восемнадцать, самое большее — девятнадцать. Отец, писала Джорджиана, считает очень неосторожным, что она, несмотря на войну, вступает в переписку со своим Сократом, но она не может в день его рождения не сказать ему, с какой теплотой о нем вспоминает. Известные события нимало не изменили чувств, питаемых к нему ее семьей и ею самой. «Не могу, — заканчивала она, — не завидовать вашему внуку, который может всегда оказать вам свое внимание и выразить свою любовь». Франклин читал и перечитывал это письмо, написанное крупным детским почерком.
Потом пошли отчеты лондонских агентов. Они сообщали, что английское правительство крайне встревожено прибытием Франклина в Париж. Король строго приказал следить за каждым шагом «коварного филадельфийца» в Париже. Лорд Рокингхэм, с самого начала не одобрявший колониальной политики английского правительства, кричит на всех перекрестках, что деятельность Франклина в Париже улучшает виды американцев на победу. Автор отчета слышал собственными ушами, как лорд в присутствии большого числа лиц сделал примерно следующее заявление: «Отвратительная сцена в Тайном государственном совете не отпугнула Франклина от путешествия за океан. Он подверг себя опасности быть пойманным и вторично преданным аналогичному суду. Если господа, участвовавшие в той безобразной сцене, представят себе сейчас Франклина в Версале, они, наверно, поймут чувство, которое испытывал Макбет, увидев дух Банко». Двое из этих господ слышали эту речь лорда Рокингхэма, однако не сказали ни слова.
Франклин все еще читал письма, когда пришли Сайлас Дин и Артур Ли, чтобы вместе с ним отправиться на совещание к мосье де Жерару. Артур Ли недовольно твердил, что они опаздывают.
— Простите меня, — сказал любезно доктор. — Я был занят. Я приобщал к деду то, что вы требовали приобщить к делу. — Франклин поднялся. — Ну, вот, теперь и я готов, и лошади готовы.
Артур Ли поглядел на него с нескрываемым изумлением: на Франклине был обычный коричневый кафтан, и он явно не собирался переодеваться.
— Не находите ли вы, что мне следует переодеться? — спросил Франклин с чуть заметной усмешкой.
— Откровенно говоря — нахожу, — отвечал Артур Ли. — Но, — прибавил он с горечью, — насколько я вас знаю, вы все равно не станете этого делать.
— Вы угадали, — сказал Франклин, и они поехали.
Надоедливый мосье Бомарше через день справлялся у Франклина, когда ему будет позволено переговорить с этим уважаемым человеком об американских делах. Сайлас Дин не уставал твердить, что помощь мосье де Бомарше, оказавшего американцам больше услуг, чем кто бы то ни было, будет необходима и впредь, и удивлялся, что Франклин все еще откладывает свидание. К сожалению, Сайлас Дин был прав. Франклину следовало преодолеть свою антипатию к этому человеку, нельзя было больше противиться встрече с ним. Франклин известил Бомарше, что ждет его на следующий день в половине двенадцатого.
С утра этого следующего дня Франклин, по своему обыкновению голый, писал и читал у себя в кабинете. Но книги и бумаги не доставляли ему никакой радости. В это утро подагра мучила его сильнее обычного, и ему казалось, что сыпь вызывает сегодня особенный зуд. С досады он решил, что не станет ради этого мосье затруднять себя нарядами, а примет его просто в халате.
Пьер в это утро тоже был полон ожиданием предстоявшего разговора, полон забот и надежд. По эту сторону океана не было человека, который оказал бы делу американцев такие неоценимые услуги, как он. Три судна торгового дома «Горталес» вышли в море, и, наверно, их груз уже в руках американцев. Новые огромные партии товаров загромождали склады, строились новые суда, заключались новые договоры; флот, зафрахтованный и построенный фирмой «Горталес», скоро будет уступать, пожалуй, лишь эскадрам короля и «Компани дез Инд». И было непонятно, почему доктор Франклин до сих пор не только не шел ему, Пьеру, навстречу, но даже как будто избегал его. Что в этом виноват он сам, его характер, его поведение, его деятельность, его сочинения, — Пьеру и в голову не приходило. Видимо, этому иностранцу представили его действия в неверном свете или извратили смысл его высказываний. Подобные случаи бывали. Он не сомневался, что, встретившись с американцем лицом к лицу, сразу же рассеет его опасения.
Торжественно, в парадной карете, тщательно одетый, подъехал Пьер к Отель-д'Амбур. Он был обескуражен простотой и убожеством обстановки, в которой живет знаменитый американец; здесь все напоминало Пьеру быт некоторых его литературных знакомых. Но особенно поразил Пьера халат Франклина; Пьер не знал, считать ли ему эту небрежность в одежде знаком неуважения к себе или, наоборот, проявлением доверия.
Они сидели друг против друга. Несмотря на небрежность туалета, в грузном человеке с изборожденным морщинами, стариковским лицом, с тяжелым подбородком и большими, холодными, испытующими глазами была какая-то надменность, даже властность. А Пьер, при всем своем лоске, при всей своей уверенной непринужденности, походил сейчас на просителя. Может быть, чтобы приуменьшить значение этой встречи, Франклин разговаривал с Бомарше в присутствии своего внука, юного Вильяма. Тот внимательно, явно стараясь запечатлеть в памяти каждую подробность, разглядывал великолепный, сшитый по последней моде костюм посетителя, и это почтительное любопытство мальчика отчасти вознаградило Пьера за холодность и сухость старика.
Пьер начал с похвал Франклину. Он говорил по-французски, быстрыми, звучными фразами. Пользуясь многочисленными сравнениями, он превозносил силу и мудрость великого человека, поколебавшего трон английского тирана. Доктор слушал с неподвижным лицом, и Пьер усомнился в том, что собеседник понимает его изысканную французскую речь.
Но после паузы, медленно подбирая слова, Франклин ответил:
— Говоря о событиях такого огромного исторического значения, как борьба Соединенных Штатов Америки за свою независимость, не следует преувеличивать заслуги отдельных лиц.
На мгновенье Пьеру показалось, будто эта сентенция намекает на его, Пьера, деятельность, будто старик дает ему понять, что он, Пьер, переоценивает свою роль. Но он тотчас же прогнал эту мысль и почтительно возразил, что такое философское отношение к событиям как нельзя более соответствует облику выдающегося ученого. Беседа шла на французском языке, и неуклюжая, нечистая речь Франклина разительно отличалась от быстрой, изящной речи Пьера; однако скупые слова старика звучали значительнее, чем разнообразные, красивые и оригинальные обороты его более молодого гостя.
Доктор заранее решил, что он скажет этому господину во время беседы. Бомарше придется долго ждать каких бы то ни было платежей за свои поставки. Доктор Франклин знал, что такое Артур Ли, и знал, что такое Конгресс. Поэтому Франклин собирался сказать Бомарше несколько любезных, приятных фраз; они ничего не стоили, и доктор чувствовал, как ждет, как жаждет их Бомарше. Но стоило ему увидеть воочию сверхэлегантного, надушенного, явно исполненного сознания своего значения Пьера, как в нем усилилось то странное враждебное чувство, которое возникло у него при первом упоминании имени его посетителя. Доктор не сумел преодолеть своей антипатии и ограничился тем, что сухо сказал:
— Я рад, мосье, что по эту сторону океана столько достойных людей отстаивают наше дело. Мне доставляет удовольствие познакомиться еще с одним из этих людей.
Пьеру было неприятно, что старик считает его одним из многих. Он ответил довольно резко:
— Снабжение американской армии обмундированием и оружием, без которых она не смогла бы вообще вести войну, казалось мне чрезвычайно почетным занятием. Смею сказать, что опасности, связанные с моей деятельностью, представлялись мне в свете великих ее задач утренним туманом, который исчезает при первых лучах солнца.
— Опасности? — переспросил Франклин, не уверенный, что правильно понял французское слово. — Вы имеете в виду риск? — осведомился он, несколько оживившись.
— Можете назвать это риском, — вежливо согласился Пьер, перейдя на английский язык, — я не в силах учесть все оттенки этого слова. Но я думаю, что большинство ваших, да и моих соотечественников назвало бы серьезной опасностью встречу лицом к лицу с противником, известным своей воинственностью, мстительностью и бесцеремонностью.
— Дуэль, мосье де Бомарше? — с интересом спросил юный Вильям. — Вам приходилось драться на дуэли из-за нашего дела?
— Не однажды, — отвечал Пьер. — В последний раз, например, — с маркизом де Сен-Бриссоном, этим назойливым болваном, который нагрубил мне, когда я доказывал преимущества американской свободы перед произволом обнаглевшей знати.
Доктору было досадно, что этот писатель и буржуа Пьер Карон подражает пошлым аристократическим обычаям.
— И что же, вам удалось его переубедить, вашего маркиза де Сен-Бриссона? — спросил он любезно Пьера. — Убедили ли вы его своей шпагой в правильности наших принципов?
Немного смущенный, Пьер промолчал; тогда Франклин продолжил:
— В моем возрасте, мосье, уже не верят в пользу дуэлей. — И с видимым удовольствием он стал рассказывать гостю одну из своих любимых историй. — Однажды некий мосье, сидя в кофейне, потребовал от другого мосье, занимавшего соседний столик, чтобы тот расположился подальше. «Но почему же, мосье?» — «Потому что от вас воняет, мосье». — «Это оскорбление, мосье, вам придется дать мне удовлетворение». — «Если вы настаиваете, мосье, я готов дать вам удовлетворение. Но что мы от этого выиграем? Если вы меня заколете, мосье, я тоже стану вонять, а если я заколю вас, то вы будете вонять еще сильнее, если это вообще возможно».
Пьеру показалась неуместной эта грубая и безвкусная история, которую старик рассказал, чтобы его проучить. Во Франции, возразил он, борьбу против привилегий знати приходится вести иными способами, чем в Филадельфии. И затем, без всякого перехода, он стал говорить о том, как трудно покупать оружие и доставлять его в Америку. Он откровенно говорил о невероятном риске этого дела, он жаловался на уклончивость Конгресса, либо вовсе не отвечавшего на письма, либо отделывавшегося от Сайласа Дина, да и от него самого, пустыми отписками.
Доктор ответил, что договоры с мосье заключены ведь еще до его, Франклина, прибытия. Версалю, по-видимому, была бы неприятна всякая шумиха и переписка по поводу этих договоров. Он, Франклин, полагает, что мосье следует по-прежнему обращаться с этими делами к мистеру Дину, опытному коммерсанту и заслуженному патриоту. Франклин сделал большую паузу, многозначительно сомкнул губы и поглядел на Пьера открытым, вежливым и ничего не говорящим взглядом.
Пьер понял: Франклин, следуя указаниям Вержена, ведет себя крайне осторожно, и только этим, а не какой-то личной неприязнью к нему, Пьеру, объясняется такая сдержанность. Что ж, весьма утешительно. И Пьер не стал больше касаться дел, а вернулся к разговору о свободе. Хотя формы борьбы в Америке и во Франции различны, заметил он, по существу это одна и та же борьба.
— На какие бы области ни распространялась моя деятельность, — сказал он, — я думаю, господин доктор, что я всегда был солдатом в борьбе за свободу. Настанет, надеюсь, время, когда даже такие мои труды, которые на первый взгляд не имеют отношения к этой борьбе, — например, мою комедию «Севильский цирюльник», — люди оценят как выигранное сражение.
Франклин глядел на разговорчивого посетителя все с тем же внимательно-вежливым выражением лица.
— К сожалению, я незнаком с вашей комедией, — ответил он.
Пьер опешил. Он еще не встречал человека, который бы не знал этой комедии, пожалуй, самой знаменитой комедии современности. Криво улыбнувшись, он сказал, что почтет за честь прислать Франклину билеты на ближайший спектакль в «Театр Франсе». Без его, Пьера, помощи достать билеты очень трудно, приходится целыми ночами стоять в очереди. Франклин вежливо поблагодарил, прибавив, что зимою состояние здоровья позволит ему, как он опасается, выходить из дому по вечерам лишь в случае крайней необходимости. Юный Вильям, напротив, поспешил заявить, что если мосье де Бомарше достанет ему билет, то он, Вильям, будет за это очень признателен.
Они еще немного поговорили о том, о сем. Затем доктор поднялся, показывая, что аудиенция окончена, и официальным тоном сказал, что Америка сумеет по достоинству оценить услуги французских друзей свободы. Но слова его прозвучали очень холодно, и Бомарше, правда не подавая виду, ушел, разумеется, недовольный.
Франклин потом пожалел о своей неприветливости. Пусть этот человек несимпатичен, все равно без него не обойтись. Ему, старику, следовало взять себя в руки и на комплименты Бомарше отвечать комплиментами.
Но раз уж он поступил неверно, он решил извлечь хоть какую-то пользу из своей ошибки. Он честно признался своему внуку Вильяму, что сделал глупость, показав мосье де Бомарше, какого он мнения о нем. Это слишком дорогое удовольствие. В любом положении нужно быть вежливым, умная вежливость приносит проценты. И он рассказал Вильяму историю о бороне.
— Велели во время оно двум слугам нести тяжелую борону. Один из них, похитрее, желая избавиться от обременительной ноши, возьми да скажи: «Что это вздумал наш хозяин, разве двоим справиться с такой бороной?» — «Глупости, — сказал другой, очень гордившийся своей силой. — Вдвоем? Да я ее один донесу. Помоги мне поднять ее, и увидишь». Он взвалил тяжелый груз себе на плечи, а хитрец не унимался: «Черт побери, да в тебе же Самсонова сила. Другого такого силача не сыщешь во всей Америке. Будет тебе, давай помогу». А простак радовался похвале и не замечал тяжести ноши. «Ничего, — сказал он, — я донесу ее один до самого дома». Так он и сделал. Я надеюсь, — заключил Франклин, — что мосье де Бомарше будет и дальше тащить нашу борону. Если он не перестанет ее тащить — это не моя заслуга. Мне нужно было солгать, — продолжал раскаиваться Франклин, — мне нужно было сказать мосье, что без его поставок и без его красноречия мы бы уже давно сложили оружие. Мне следовало быть вежливым. Так будь же ты умнее, мой мальчик, и не бери примера со своего деда.
Зимние дни были по-прежнему заполнены докучливыми делами. Сайлас Дин присылал поставщиков и судовладельцев, предлагавших свои услуги, и настойчиво требовал, чтобы Франклин вступил в более тесную связь с Бомарше. Доктор Дюбур присылал поставщиков и судовладельцев, предлагавших свои услуги, и настойчиво требовал, чтобы Франклин не имел никаких дел с Бомарше. Оба присылали также людей, желавших получить рекомендации для поездки в Америку. Артур Ли придирался к любому устному и письменному слову Франклина. Франклин выслушивал доктора Дюбура, Сайласа Дина и Артура Ли, давал любезные, ни к чему не обязывающие ответы и предоставлял делам идти своим чередом.
Граф Вержен рекомендовал ему показать обществу, что он, Франклин, преследует научные, а не политические цели. Этот совет Франклин с удовольствием выполнял. Он посещал многочисленные библиотеки — Королевскую, Сент-Женевьев, Мазарини, — и везде его принимали с величайшим почетом.
Он появился и в Академии. Он был членом этого исключительного объединения, принадлежать к которому ученые всего мира считали величайшей честью. Только семь членов Академии были нефранцузы, Франклин был единственным американцем.
Франклин появлялся в Академии и во время прежнего своего пребывания в Париже. Но теперь, когда он претворил свою философию в жизнь, его визит привлек к себе еще больше внимания. Его представили доктора Леруа и Левейар. Из сорока академиков присутствовали тридцать один, все хотели познакомиться с ним, у всех нашлись для него взволнованно-почтительные слова.
Затем академики перешли к повестке дня. Сначала с докладом об эволюции нравов выступил д'Аламбер, который несколько раз с уважением упомянул имя Франклина. Франклин владел французским языком еще недостаточно свободно, он с трудом улавливал подробности доклада. Однако на этот раз он избежал того конфуза, какой случился с ним во время его последнего пребывания в Париже. Тогда он, не пытаясь понять доклады, решил слепо следовать примеру остальных — смеяться, когда все смеются, и аплодировать, когда все аплодируют; и однажды, когда докладчик его хвалил, он вместе со всеми с воодушевлением захлопал в ладоши. Вообще же доклады не представляли для него особого интереса. Седен[16] говорил о Фенелоне,[17] Ла Гарп[18] читал из эпической поэмы «Фарсалня»,[19] Мармонтель[20] говорил о миграции кельтов. Франклин слушал всех с подобающим внимательным видом, с трудом превозмогая желание закрыть глаза; несколько раз ему очень хотелось почесаться. Его страдания окупались постольку, поскольку каждый докладчик стремился связать труды и личность Франклина с темой своего доклада, что вызывало множество натяжек и забавляло польщенного гостя. Под конец вице-президент Академии, великий экономист мосье Тюрго, предложил отметить присутствие Франклина в протоколе заседания, и академики приняли соответствующее постановление.
Все эти дела Франклина, в меньшинстве своем приятные и в большинстве неприятные, пришлись на сырую, холодную парижскую зиму, и неуютная теснота Отель-д'Амбур вконец отравляла ему жизнь. Он чувствовал себя разбитым и мечтал о переселении в Пасси, в «свое» Пасси, как он уже его называл. Но ремонт и переустройство Отель-Валантинуа никак не подходили к концу.
По крайней мере, из-за океана поступали теперь отрадные известия. Генерал Вашингтон, перейдя в наступление, форсировал Делавэр и одержал победу над крупными силами захваченного врасплох врага. Через несколько дней он разгромил английского генерала Моугуда у Принстауна и заставил его отступить к Нью-Йорку.
Опытный пропагандист, Франклин умел извлекать из счастливых вестей максимальную пользу. Во всех газетах благодаря его хлопотам появились статьи, полные торжества и смелых прогнозов по поводу одержанных побед.
Все восхищались американцами, а вскоре доктор почувствовал приятные последствия этих успехов. Считая, что в Париже Франклин не дает ему ходу, Артур Ли после победы Вашингтона решил поехать в Испанию, чтобы отстаивать там дело Соединенных Штатов независимо от своих коллег. Франклин поспешил добыть Артуру Ли необходимые рекомендации и документы; крепко пожав ему руку, пожелав счастливого пути и долгой, успешной деятельности в Мадриде, старик со вздохом облегчения глядел вслед удалявшейся карете.
Известия о победах изменили к лучшему и отношения Франклина с премьер-министром, графом Морена. Мадам де Морепа не забыла, что десять лет назад, впервые приехав в Париж, Франклин нанес визит ей и ее супругу. Тогда Морепа еще не был всесильным государственным деятелем, он жил в своем замке Поншартрен, снисходительно сосланный туда старым королем за злую эпиграмму на Помпадур. Франклин, которого сближали с графом либеральные взгляды, навестил опального Морепа в его изгнании.
Морепа не скрывал своей почтительной симпатии к Франклину. Но политика графа в американском вопросе по-прежнему оставалась неясной.
На это были основания. Причиной назначения Морена послужило в конечном счете недоразумение. Отец Людовика Шестнадцатого, святоша-дофин,[21] считал вольнодумного премьер-министра Шуазеля своим врагом, и, едва придя к власти, молодой Людовик посадил на место Шуазеля его заклятого врага Морепа. Юный Людовик был так же благочестив, как его отец, и верил в непосредственную связь королевской власти с богом и церковью. А старик Морепа, терпимый в религиозных вопросах и восприимчивый к либеральным веяньям, был, в сущности, таким же вольнодумцем, как и его предшественник Шуазель.
Морепа исполнилось уже семьдесят шесть лет, годы делали его все большим и большим циником. Теперь он пекся только об одном — умереть в должности премьер-министра. Поэтому он всячески считался с благочестивыми настроениями молодого монарха; с другой стороны, ему хотелось сохранить славу передового человека, и поэтому он прислушивался к мнению прогрессивно настроенных парижских салонов. В американском вопросе сочетать одно с другим было чрезвычайно трудно, так как мнение парижан и мнение короля были прямо противоположны.
Собственное мнение Морепа по американскому вопросу не отличалось твердостью. Будь он частным лицом, он относился бы к делу инсургентов иронически-доброжелательно. Построить общественную жизнь на основе разума и веры в природу — это очень заманчиво, особенно если такой эксперимент производится по ту сторону океана, так что он, Морена, успеет спокойно умереть задолго до того, как во Франции возникнет опасность подражания американцам. Позиция государственного деятеля Морепа не была столь определенна. Конечно, нужно поддерживать любые действия, ослабляющие Англию; но победы мятежников, кто бы они ни были, абсолютная монархия Франция не может желать. Версаль до сих пор еще не разрешил проблемы вооружения Франции. Конфликт между Америкой и Англией Версаль должен обострять до тех пор, пока сам не окрепнет настолько, чтобы позволить себе возобновление старого спора с Англией. Таким образом, в войне Англии и американских колоний Версаль должен быть против Англии, но не за повстанцев. В этом смысле и высказывался старый министр в беседах с молодым королем. Он рекомендовал помогать повстанцам, но в очень небольшой степени. Он сочувствовал глубокому отвращению Людовика к инсургентам и разделял его опасение, что победа повстанцев на Западе оживит мятежный дух и во Франции.
Итак, по отношению к повстанцам Морепа соблюдал строгий нейтралитет. И вот, однажды утром, несколько неожиданно, графиня предложила устроить прием в честь Франклина. Морепа на мгновение задумался. Со стороны премьер-министра было бы большой смелостью принять у себя в доме американского эмиссара, не получившего официального признания Версаля. Но доктор Франклин живет в Париже как частное лицо, это ученый с мировым именем и, кроме того, старый добрый знакомый, которому нужно отдать долг вежливости. После того как премьер-министр Морена из соображений высокой политики не принял американца, можно было предполагать, что частное лицо Морепа выиграет в глазах общества, если загладит свою вину, и притом именно теперь, после военных успехов повстанцев.
Таким образом, предложение мадам де Морена пришлось премьер-министру весьма кстати. Они с графиней сидели за завтраком в небольшом, но очень комфортабельном помещении Версальского дворца, которое неподалеку от собственных покоев отвел своему ментору молодой король. Министр, обычно строго соблюдавший этикет, попросил сегодня у графини разрешения явиться к завтраку в халате; стоял холодный зимний день, и высохший семидесятишестилетний старик был предусмотрительно укутан во множество шарфов и пледов, из которых и глядел на графиню своими удивительно живыми, быстрыми глазами; графиня была на добрых двадцать пять лет моложе своего мужа, и благодаря хорошему росту и черным, беспокойным глазам на овальном лице она еще сохраняла привлекательность.
— Прием в честь нашего Франклена, — сказал он и постучал ложечкой по скорлупе яйца, — очень милая мысль. Конечно, надо подумать. Но очень, очень мило. А как вы представляете себе частности?
— Я думаю, что приглашения будут исходить не от вас, а только от меня: de part Madame de Maurepas. Доктор Франклен мой старый друг; почему же мне не устроить в его честь небольшой прием? Разумеется, я приглашу гостей на улицу Гренель.
На улице Гренель находилась парижская резиденция Морена — большой, старомодный, обычно пустовавший Отель-Фелипо.
— Очень милая мысль, — повторил старый министр. — Правда, Отель-Фелипо — отвратительнейшее место для званого вечера, и отопление там никуда не годится. Но в конце концов Франклен — представитель примитивного народа. Надеюсь, что он не наживет себе ревматизма. Да и другие, — вздохнул он, — может быть, тоже не заболеют.
— Насколько я поняла, Жан-Фредерик, вы тоже появитесь на вечере? — спросила графиня.
Морена осторожно положил ложечку на блюдце и с живостью поцеловал жене руку.
— Мне доставит удовольствие, мадам, — ответил он, — приветствовать нашего друга Франклена.
Так было решено устроить этот прием. Список гостей мадам де Морепа тщательно продумала; была приглашена та высшая знать, которая считалась либерально настроенной. Коричневокафтанный представитель республиканской свободы окажется в обществе самой важной аристократии, — в этой затее графини избалованные салоны Версаля и Парижа находили особую пикантность.
Доктору с самого начала была ясна сущность этого замысла; он знал, что его хотят подать как диковинку. Но он знал также, что делается это не со злыми намерениями. Париж жил еще под впечатлением побед у Трентона и Принстауна, и нужно было ковать железо, пока оно горячо. Он предпочел бы явиться одетым по моде, но было бы слишком невежливо разочаровывать людей, настроившихся полюбоваться коричневым квакерским кафтаном.
Мадам де Морепа собрала в его честь изысканное общество. Никогда еще за все время пребывания во Франции доктору не случалось видеть вокруг себя стольких носителей старинных фамилий. Здесь был молодой герцог де Ларошфуко, с самого начала выступивший в роли пламенного поборника дела американцев. Из свиты королевы здесь были графини Полиньяк и принцесса Роган, а с ними маркиз де Водрейль. Сама Мария-Антуанетта проявляла величайшую сдержанность в отношении американских повстанцев, но многие господа и дамы ее ближайшего окружения не могли отказать себе в модном увлечении инсургентами. Здесь было много членов семьи Ноай; одна из дочерей Ноай была замужем за маркизом де Лафайетом, очень молодым человеком, который вел с Сайласом Дином переговоры о своем вступлении в американскую армию. Здесь был фельдмаршал де Брольи, который злился на Франклина за то, что американцы все еще не решились назначить его, де Брольи, своим регентом.
Франклин вошел в сопровождении внука, Вильяма Темпля, и со всех сторон его тотчас же стали поздравлять с победами генерала Вашингтона. Он с достоинством благодарил, заявив, что энтузиазм, с которым приняли в Париже известие об американских победах, послужит цепным поощрением Конгрессу и армии.
В свое время в Нанте вокруг Франклина собралась компания добропорядочных буржуа; здесь, в салоне графини Морепа, общество было высокоаристократическое и самое изысканное. В Нанте прически дам были в пять — семь раз выше, чем голова; здесь, как вскоре отметил интересовавшийся такими вещами Вильям, — самое большее, в полтора раза. Но обладательницы этих причесок образовали вокруг Франклина такой же любопытный и восторженный кружок, как и в Нанте, они задавали вопросы, отвечать на которые нужно было с таким же терпением, и так же, как те провинциальные дамы, аристократки, собравшиеся в Отель-Фелипо, были покорены старомодно-степенной галантностью доктора.
— Разве он не восхитителен, — говорили они, — этот философ с дикого Запада? Стоит взглянуть на него, и сразу представляешь себе пустынность девственных лесов.
С Франклином заговорил пожилой человек. Это был очень тщательно, хотя и несколько старомодно одетый господин с мясистым лицом и полным, чувственным ртом, искривленные углы которого выражали недоверчивую настороженность; в карие выпуклые глаза Франклина погружались сонливые, глубоко посаженные глаза. Мосье Ленорман был уже ранее представлен доктору, и тот сразу понял, что с этим господином нужно обращаться осторожно.
Мосье Ленорман редко отсутствовал на вечерах, устраиваемых в Отель-Фелипо. Он принадлежал к близким друзьям дома. Однако у премьер-министра не было с ним никаких деловых связей; деньги не интересовали графа Морена, он не извлекал из своего служебного положения финансовых выгод, и весь Париж удивлялся такой простоте этого вообще-то очень умного человека. Морена любил Шарло бескорыстно; он разделял многие его склонности, его вкус, его жажду наслаждений, его любовь к театру — изысканному и вульгарному.
Шарло был поражен, услыхав, что американского мятежника пригласили в Отель-Фелипо. Конечно, сейчас модно сочувствовать инсургентам, да и просто любопытно взглянуть на человека, который раздул пожар на Западе. Но ведь Жан-Фредерик де Морена не частное лицо, он и в Отель-Фелипо остается премьер-министром христианнейшего короля и поэтому не вправе из чистого снобизма сеять этот сомнительный западный ветер. Правда, он уже стар, Жан-Фредерик, и, вероятно, надеется, что бурю пожнут потомки.
Как бы то ни было, мосье Ленорман решил воспользоваться случаем и прощупать американского уполномоченного. С самым невинным видом он спросил Франклина, каково, по его авторитетному мнению, военное положение инсургентов после недавних побед. Он ожидал, что Франклин станет бурно выражать свой оптимизм: девять дипломатов из десяти поступили бы на его месте именно так. Но Франклин, поглядев на своего собеседника, уклончиво ответил, что пока еще трудно предсказать последствия этих сражений; что же касается окончательного исхода войны, то на этот счет можно быть совершенно спокойным, положившись на незаурядные полководческие способности его достославного друга генерала Вашингтона.
Шарло пришлось в глубине души признать, что такая сдержанность очень умна. Они выбрали подходящего человека, эти бунтовщики, ловкого плута, прикидывающегося простодушным добряком, способного обвести вокруг пальца и двор, и парижское общество. У него немного шутовской наряд, у этого мятежника. Он, Шарло, не стал бы ради французской короны так выставлять себя напоказ, как этот бесстыжий старик в железных очках и с жиденькими, не прикрытыми париком волосами. Но эта клоунада явно оказывает свое действие. А на все остальное ученому шарлатану, как видно, наплевать, если он так не щадит себя. Позавидуешь такому счастливому характеру. С этим невозмутимым стариком деловой человек должен держать ухо востро.
Наконец, умышленно запоздав, явился и Морена; он хотел показать, что относится к этому приему не очень серьезно. Он обнял Франклина; сухой, невысокого роста, тщательно одетый, подтянутый француз и могучий, грузный американец похлопали друг друга по плечу. Затем Морепа стал рассказывать всем и каждому, как приятно чувствовать себя свободным от обязанностей хозяина дома — ведь здесь он только на правах гостя своей жены. Выслушав множество дифирамбов Франклину, министр сказал мужчинам:
— Да, это Сенека и Брут в одном лице; будем надеяться, что ему повезет больше, чем обоим римским политикам.
Дамам же министр сказал:
— Я тоже люблю его, нашего Франклена; но, право, маркиза, если вы и впредь будете им так восхищаться, вы заставите меня ревновать.
Позднее он объявил, что ненадолго завладеет своим другом Франклином. Сопровождаемый секретарем, мосье Салле, премьер-министр повел Франклина в свои покои. Настоящей своей резиденцией Морена считал помещение, отведенное ему в Версальском дворце, и поэтому в его старом, полном закоулков парижском особняке, пришедшем в запустение во время долгой ссылки хозяина, с любовью были убраны только те комнаты, в которых он сам жил и спал.
— Мне хочется показать вам самую любимую мою комнату в этом доме, — сказал он, вводя Франклина в небольшой, изящно меблированный кабинет, стены которого были задрапированы тяжелыми шелковыми занавесками.
— Пожалуйста, располагайтесь поудобнее, — прибавил он. Потом, улыбаясь, Морена отдернул занавески.
На стенах висели игривые картины, изображавшие голых или почти голых женщин. Это были картины современных мастеров. Одна из них изображала Венеру, только что вышедшую из морских волн — с простертыми вверх руками и немного выпяченным, розовато-серебристым, в светлом пушке, животом, — в Париже не было человека, который бы не знал, кто такая эта Венера; две картины изображали одну из приятельниц старого короля, мисс О'Мэрфи, — голую, на ложе, повернутую к зрителю нежными линиями зада.
— Когда мы, молодой король и я, — рассказывал граф Морена своему гостю, — впервые вошли в запертые дотоле кабинеты покойного монарха, мы увидели эти картины. Молодой король отнюдь не является страстным ценителем искусства, из всех картин и рисунков его более всего интересуют географические карты. Он боялся, что близость этих полотен будет для него помехой в работе. И попросил меня их убрать. Поэтому они временно висят здесь, лишь знатоки из числа моих друзей имеют к ним доступ. — И глаза старого ценителя искусства Морена с нежностью окинули драгоценные холсты.
Старик Франклин был ученым, он не очень-то разбирался в искусстве. Теория звука интересовала его больше, чем спор о том, чья музыка лучше — Глюка или Пиччини, и ньютоновская теория цветов казалась ему важнее законов живописи, открытых Тицианом или Рембрандтом. Ему доставил бы удовольствие вид и, пожалуй, поцелуй здоровой, молодой, даже грубоватой женщины; нежная испорченность, утонченная чувственность, которыми так и дышали эти картины, оставляли его равнодушным. Но он видел, с какой гордостью и любовью смотрит на эти картины Морепа, и поэтому вежливо сказал:
— Великолепно! Какое освещение, какие оттенки тела! Вы оказали мне большую честь, удостоив меня знакомства с вашими сокровищами.
Министр понял, как мало смыслит этот филадельфиец в искусстве; он огорчился, но сумел скрыть свое разочарование.
Он весело перешел к делу, которое собирался обсудить с Франклином.
— Я не большой охотник до официальности, — сказал он. — А уж в этих стенах от моей официальности ничего не остается. Здесь я человек, и только. — И доверительным тоном министр продолжал: — Позвольте мне как частному лицу спросить вас, дорогой доктор, как идут у вас дела с моим другом и коллегой Верженом?
— Отлично, — отвечал без промедления Франклин. — Граф Вержен совершенно откровенен со мной, и я это ценю.
— Я очень рад, — сказал Морепа, — что мы встретили у вас понимание. Наши с Верженом взгляды на американскую политику совпадают.
Задумчиво и рассеянно скользили по непристойным картинам, по животу Венеры и нежным бедрам мисс О'Мэрфи большие выпуклые глаза Франклина. Морепа решил показать ему эти полотна, конечно, только для того, чтобы с глазу на глаз побеседовать с ним о политике. Он, Франклин, не вправе ограничиваться пустой вежливостью, он обязан сделать первый шаг.
— Откровенно говоря, — пожаловался он, — бездеятельное ожидание, на которое меня обрек Версаль, дается мне нелегко. Трудно оставаться пассивным представителю народа, страстно борющегося за свое существование. Я вынужден считаться и с тем, что моя сдержанность может быть превратно истолкована у меня на родине. Мало того, мои коллеги совершенно не согласны с такой политикой.
Морепа усмехнулся.
— Да, да, — сказал он, — нам, старикам, часто бывает нелегко с молодыми. Нужно прожить очень много лет, чтобы понять, что политика делается разумом, а не сердцем. — И с коротким вздохом он задернул тяжелые шелковые занавески.
Франклин был рад, что не видит больше этих противных, обескураживающих изображений, которые к тому же, как показалось ему, не соответствовали законам анатомии. Он молчал, предоставляя Морепа продолжать. Через несколько мгновений тот спросил напрямик:
— Вы, значит, того мнения, что два миллиона — недостаточная плата за вашу сдержанность?
Франклин, действительно державшийся такого мнения, ответил:
— Дело обстоит так, как я сказал. Политика проволочек, которую ведет ваше правительство, делает наше положение здесь немного смешным.
— Такой человек, как доктор Франклин, — вежливо ответил Морепа, — никогда не бывает смешным. Ни перед одним чужеземным мудрецом Париж еще не склонялся так низко, как перед вами.
— Мы благодарны, — ответил Франклин, — за любовь и энтузиазм, которые вызывает наше дело у парижан. Но мы надеялись, что явная общность наших интересов приведет к более тесным связям также между Версалем и представителями Тринадцати Штатов.
Сухие губы Морепа чуть вытянулись в улыбке. Этот человек с Запада славился своей безыскусственностью; но, оказывается, при желании он может вести себя и иначе. Неделикатно позволять себе такие банальности в разговоре с Морепа. Мигая, глядел министр на американца. Грузный, по-мужицки хитрый и откровенно расчетливый, сидел перед ним поборник, может быть, и полезного для мира, но отнюдь не безопасного для французской монархии дела. Морепа должен показать этому мнимому простаку, что раскусил и его, и его политику.
— Я становлюсь стар, — сказал он, — и думаю, что мне пора запечатлеть свой опыт на благо потомству. Я пишу мемуары, вернее, — поправился он, указывая на секретаря, — их пишет мой добрый, надежный и скромный Салле. Задача Салле — правдиво изложить мое мнение. Будьте добры, дорогой Салле, расскажите, что мы пишем об отношении Версаля к мятежным колониям.
Франклину уже приходилось слышать об этих мемуарах. Семидесятишестилетний Морена не скрывал, что хочет оставить для посмертного опубликования неприкрашенный рассказ о достопамятных событиях своего времени. Желая припугнуть кого-либо из друзей или врагов, он обычно с плутовским видом грозил: «Берегитесь, дорогой, вы рискуете предстать в невыгодном свете в моих мемуарах», — и с удовольствием наблюдал вымученную улыбку на лице собеседника.
С самого начала Франклин недоумевал, зачем министр взял с собою секретаря. Теперь, сквозь оправленные в железо очки, доктор принялся рассматривать этого бесцветного человека, сидевшего до сих поп незаметно и молча. Оба эти человека, министр, превративший секретаря в свою бесплотную тень, и секретарь, позволивший себя до такой степени обезличить, могли служить поучительным примером того, во что превращает человека деспотизм. Когда мосье Салле раскрыл рот, голос у него, как и ожидал Франклин, оказался глухим и надтреснутым.
— Мы стары, — произнес этот голос, словно голос читающего акты писца, — и нам случалось многое видеть. Мы видели людей, изворачивавшихся и менявшихся с такой быстротой, что до сих пор перемены и повороты не казались нам невероятными лишь потому, что происходили на наших глазах, а порою и с нами самими. Вот, например, недавно английские колонисты в Америке вели с нами кровопролитную войну. Они злодейски вторглись в земли, которые мы заселили и цивилизовали. И уж совсем недавно, когда Англия была вынуждена сохранить в части Канады французский образ жизни, эти англо-американские колонисты всячески поносили французский режим, французские обычаи и католическую церковь. И вот теперь те же англо-американские колонисты приходят к нам и с невинной улыбкой спрашивают: «Разве мы не друзья? Разве у нас не общие интересы?»
Старый Вениамин Франклин усмехнулся своим большим, широким ртом и сказал:
— Разве мы не друзья? Разве у нас не общие интересы? — Он слегка подчеркнул слово «разве». Затем с самым любезным видом он продолжал: — Но заслугу открытия этой истины я не вправе принять на свой счет. Если не ошибаюсь, прежде чем мы установили контакт с Парижем, к нам прибыл оттуда некий мосье Ашар де Бонвулюар, посланный графом Верженом, и заявил, что, порвав с Англией, мы можем рассчитывать на любую поддержку со стороны Франции.
— Были у него какие-либо бумаги, у вашего мосье де Бонвулюара? — осведомился министр.
Франклин ничего не ответил, и тоном добродушного поучения министр прибавил:
— Вот видите. Значит, его не существует. Значит, он появится в природе лишь в том случае, если он нам понадобится. Понадобится ли он нам? — спросил Морепа секретаря.
В ответ раздался монотонный голос мосье Салле:
— У французского государства и английских колоний в Америке две общие цели — ослабить Англию и наладить друг с другом торговлю. В остальном у нас сплошные расхождения. Абсолютная монархия Франция не заинтересована в том, чтобы демонстрировать своим подданным победоносный мятеж.
Теперь Франклин понял, зачем понадобилось старому дипломату говорить с ним с глазу на глаз. Этой замысловатой беседой министр показывал, что и он сам, и Вержен поддерживают Франклина только из личной к нему симпатии, что Франклин требует слишком многого и не может ничего предложить взамен. Но на самом-то деле все далеко не так просто. Если Франция допустит, чтобы Англия покорила Америку, то Англия и Америка раньше или позже сообща нападут на вестиндские владения Франции, на ее богатые сахаром острова. Это, конечно, не очень сильный аргумент, но если его правильно сформулировать, он звучит совсем не так плохо.
Однако министр нашел, что урок окончен и Франклин теперь уже не будет пытаться одурачить его. Не дав Франклину ответить, он сказал:
— Кажется, пора вернуть вас гостям графини. — И они возвратились в гостиную.
Там, пока Франклин отсутствовал, всеобщее внимание привлек к себе красивый мальчик, которого он привел с собой, его внук. Тот давно успел сообразить, что в присутствии деда ему выгоднее всего играть роль заботливого и почтительного внука. Но стоило старику удалиться, как Вильям показал себя. Одет он был всегда тщательно и по моде, он научился говорить комплименты дамам и уже заметил, что его плохое французское произношение придает этим комплиментам особую пикантность. Итак, он чудесно провел время.
В салоне между тем появился еще один человек, вызвавший интерес у гостей мадам де Морепа, — мосье де Бомарше. Присутствие этого человека в столь избранном обществе поражало: дворянский титул Бомарше был куплен, да и вообще репутация его была сомнительна. Но графиня находила, что имя ее Туту связано с Америкой достаточно крепко и что поэтому она глубоко обидит его, если не пригласит на сегодняшний вечер.
Приглашение графини возвысило Пьера в собственных глазах. И все-таки он не сразу решился его принять. Не создастся ли впечатление, что он, Пьер, бегает за Франклином, после того как старик вежливо выказал ему свое пренебрежение? Кроме того, Пьеру трудно было освободиться на целый вечер. Загруженный по горло делами, он с трудом находил время для своих близких. Он слишком мало заботился о Терезе, будущей матери своего ребенка. Внушало тревогу и здоровье старика отца; правда, папаша Карон был по-прежнему свеж и бодр, но эта бодрость стоила ему больших усилий, он заметно сдал.
И все-таки Пьер в конце концов решил отправиться к графине де Морена; именно потому, что преодолеть сопротивление Франклина было очень трудно, эта задача показалась Бомарше заманчивой. Он ведь мастер располагать к себе людей, и смешно так быстро отказываться от борьбы за нужного человека.
Пьер явился тоже не один. Он прибыл в сопровождении своего юного племянника, Фелисьена Лепина. Услыхав, что на вечере будет Франклин, этот скромный и застенчивый мальчик превозмог себя и попросил изумленного Пьера выхлопотать приглашение и для него, Фелисьена. Ему не терпелось увидеть замечательного человека.
Возможно, что он надеялся также застать у графини принцессу Монбарей и ее дочь Веронику. В этом он не ошибся. Франклина покамест не было видно, и Фелисьен робко приблизился к девочке. Вероника строго с ним поздоровалась, и они остались рядом. Они ждали Франклина, и то, что они ждали его вместе, было для обоих радостью.
Ждал его и Пьер. Пьер чувствовал себя уверенно, сегодня он хорошо владел собой, и даже те, кто сидел далеко от него, прислушивались к его речам. Он рассказывал о победах при Трентоне и Принстауне, разбирая со знанием дела военное положение американцев. Об американцах он говорил с теплотой.
Среди прочих Пьера слушал Шарло. Их тайный, безмолвный спор о том, кто из них окажется прав в американском вопросе, с течением времени обострился и наложил особый отпечаток на их деловые и человеческие отношения. Военные победы американцев шли на пользу делам Пьера, и присутствие среди его слушателей Шарло придавало его речам еще больше блеска и остроумия. Некоторое время Шарло, по своему обыкновению, слушал Пьера молча и с дружелюбным видом. Но от него не ускользнул оттенок вызова в этих речах.
— Меня радует ваша уверенность, дорогой Пьеро, — сказал он наконец. — Сегодня мне уже представилась возможность побеседовать с доктором Франклином. Он настроен не столь оптимистично.
На губах Шарло показалась хорошо знакомая Пьеру недобрая усмешка, и Пьер почувствовал легкий озноб. Но озноб скоро прошел, и, покоряя свою аудиторию, Пьер стал говорить еще убедительнее. Фелисьен и Вероника снова поддались очарованию его речей. Этот человек не дожидался приезда Франклина и не нуждался в модном поветрии, чтобы выступить в защиту Америки. Они верили каждому его слову и уже упрекали себя в том, что были несправедливы к нему в тот памятный вечер в замке Этьоль.
Тем временем в гостиную вернулись Франклин и Морепа.
Доктор никак не предполагал встретить здесь мосье де Бомарше; его другу Дюбуру, например, едва ли удалось бы получить доступ в такое избранное высокоаристократическое общество. Франклин взял себя в руки и поздоровался с Пьером с подчеркнутой сердечностью. Пьер был поражен; его радовало, что капризный старик явно раскаивается в своем непонятном поведении. Он поздравил Франклина с победами при Трентоне и Принстауне с таким подъемом, словно эти победы завоеваны самой Францией. Завязался разговор, вокруг Пьера и доктора собрались другие гости; Пьер испытывал огромное удовлетворение, оттого что вместе с Франклином оказался в центре внимания.
Чтобы отплатить Шарло, он снова заговорил о военном положении американцев. Пьер изучил этот вопрос. Он подробно освещал его в своих докладных записках королю и министрам. Американцы, писал он, непобедимы, потому что у них огромная территория. Хорошо обученным английским войскам, возможно, и удастся захватить ряд городов, однако отряды Вашингтона могут бесконечно отступать в неприступные, непроходимые леса, изматывая непрестанными атаками оттуда английских генералов.
Франклин слушал, как обычно, внимательно и любезно. Он решил быть с этим мосье терпимым и мягким, отдавая должное его красноречию, его остроумию, его легкости и ловкости в разговоре. Да и то, что говорил Бомарше, вовсе не было абсурдом. Конечно, в его речах чувствуется тот романтический налет, без которого в этой стране вообще не умеют говорить об американских делах, но в конце концов действительно не исключена печальная возможность, что придется отступать в ненаселенный тыл. Но, несмотря на все эти соображения, доктору было тягостно слушать быструю французскую речь нарядного и надушенного господина, рассуждавшего об этих жестоких и страшных вещах, и, вопреки благим намерениям Франклина, к нему вернулась прежняя раздражительность.
— Было бы жаль, мосье, — сказал он, — если бы нас вынудили вести войну таким методом. За такой метод пришлось бы очень дорого платить. Большая часть нашего населения живет в городах. У нас есть Бостон, Балтимора, Нью-Йорк, Филадельфия, а Филадельфия — это самый большой после Лондона город, говорящий на английском языке. Представьте себе, что вам пришлось бы сменить парижскую жизнь на жизнь в лесах.
Пьер был разочарован и огорчен. То, что он говорил, он говорил от чистого сердца, кроме того, слова его подтверждались разумными доводами. И вот теперь этот Франклин пристыдил его в присутствии Шарле. Пьер старался не глядеть на Шарло; ему было трудно скрыть свою досаду.
Но тут Франклин посмотрел на Пьера и, расплывшись в любезной улыбке, сказал:
— А в остальном вы совершенно правы, мосье. У Англии втрое больше людей, чем у нас, у нее обученная армия, мощный флот и множество наемных солдат, но у нее нет никаких шансов ни на политический, ни на военный успех. Англии придется признать нашу независимость, она должна будет понять, что из этого конфликта мы выйдем более сильными, чем были в его начале.
И Франклин рассказал одну из своих историй.
— Выследил некогда орел кролика. Спустился, схватил его и поднял в воздух. Но кролик оказался кошкой, она стала царапать орлу грудь. Орел раскрыл когти, чтобы кошка упала на землю. Кошка, однако, не хотела падать, она вцепилась в орла и сказала: «Если ты, орел, желаешь от меня избавиться, изволь доставить меня туда, где ты меня схватил».
Для людей, выросших на баснях и фривольных историях Лафонтена, эта басня была, пожалуй, примитивна. Тем не менее она вызвала одобрительные и задумчивые улыбки. Все чувствовали, что за этой наивной, патриархальной мудростью кроется твердая убежденность и что при желании старику ничего не стоило бы выразить свою мысль в более уместной здесь и более занятной форме.
Пьеру, собственно, следовало быть довольным, что Франклин все-таки воздал ему должное. Пьер тоже одобрительно улыбался и даже похлопал в ладоши. Но, продолжая остроумно и с видом превосходства беседовать с соседом, он вдруг ощутил свою беспомощность. Его подавило сознание, что этот человек неизмеримо больше его, Пьера, что он, Пьер, меркнет перед ним.
На мгновение им овладело такое чувство, будто все погибло и случилась невиданная катастрофа. Он всегда считал, что главное не быть, а казаться. Pas etre, paraitre. Этому убеждению его жизнь была подчинена и внешне и внутренне. Важно не то, что ты думаешь, а то, что ты говоришь. Важно не то, сколько у тебя денег, а то, сколько ты можешь выложить на людях. Важны не те идеалы, что у тебя в груди, а те, которые ты исповедуешь публично. Таково было кредо Пьера. И вот перед ним человек, который не лезет вон из кожи, не отличается остроумием, говорит очень мало, а если уж говорит, то рассказывает какие-то доморощенные истории, и притом на топорном французском языке. И все-таки одним своим присутствием этот простой, любезный и почтенный старик добивается большего, чем он, Пьер, самыми блистательными фейерверками остроумия. Для чего, собственно, нужно было ему, Пьеру, всю свою жизнь, не щадя себя, играть утомительную роль человека, надменно улыбающегося даже в самом отчаянном положении и отметающего любую беду веселой шуткой?
Но это отчаянное чувство было мгновенным, оно не успело облечься в слова, и на лице Пьера, подавленного сознанием своей внутренней пустоты, сохранялась все та же вежливая улыбка. Вполне возможно, что, несмотря на внимательное выражение лица, он не расслышал всего, что говорил ему его собеседник, шевалье де Бюиссон, однако главное он уловил: этот молодой офицер принадлежал к группе аристократов, пожелавших поехать в Америку и принять деятельное участие в войне за свободу. Окончательно прогнав страшные мысли, внушенные ему присутствием Франклина, и притворившись, что сосредоточенно слушает шевалье, Пьер многословно пожелал офицеру успеха и пылко заявил, что с радостью поможет ему отправиться в путь.
Грузный, спокойный, любезный, сидел в своем кресле Франклин; рядом с ним, грациозно облокотившись на спинку кресла, стоял юный Вильям; Пьер, шевалье де Бюиссон и другие гости, кто сидя, кто стоя, расположились вокруг них. Шевалье говорил так, что Франклин не мог его не слышать, и, вероятно, его слова предназначались скорее Франклину, чем Бомарше.
— Я тоже, — сказал теперь доктор, — нахожу ваши намерения, шевалье, в высшей степени похвальными. Однако я прошу вас, прежде чем вы примете окончательное решение, выслушать мнение старого человека, хорошо знающего тамошние условия. Мосье де Бомарше совершенно справедливо заметил, что эта война не походит на европейские войны. Я слышал, что перед одной из битв в последней кампании ваш полководец сказал английскому командующему: «За вами первый выстрел, мосье».[22] В нашей войне о подобной вежливости не может быть и речи. Наша война — это не череда блестящих, живописных героических сражений, она была и, по-видимому, будет бесконечной чередой далеко не героических лишений, мелких, досадных и изнурительных трудностей. Подумайте об этом, шевалье, прежде чем ехать за океан. Дело, которому вы хотите себя посвятить, — это жестокое, трудное, будничное и долгое дело.
Все умолкли. Старик говорил, как всегда, негромко, но в его фразах была такая сила, что весь этот блестящий зал и все эти расфранченные гости куда-то исчезли; вместо них перед глазами встали другие картины: глушь, грязь, одиночество, голод, болезни, жалкая смерть. Старик понял, что зашел слишком далеко. Он слегка расправил плечи, тряхнул могучей головой, так что его волосы рассыпались по воротнику, и, чуть повысив голос, сказал:
— Но все-таки дело пойдет. Пойдет, пойдет. Ça ira!
Фелисьен и Вероника, самые молодые среди собравшихся, слушали и смотрели. Им случалось видеть портреты Франклина, они знали изречение: «У неба он вырвал молнию, у тиранов — скипетр». Он был точно такой, как его портреты, и совсем другой. Его присутствие возвышало и подавляло. У них замерло сердце от страха, когда он говорил о жестоком и горестном однообразии войны, об одинокой, бесславной смерти. Они воспрянули духом, когда он решил рассеять тоску. Они прочли все, что можно было прочесть об Америке, они расспросили всех, кого можно было о ней расспросить. Но сегодня они впервые почувствовали: вот он, этот новый, свободный мир. Он поднимается во весь рост, на него ополчились все силы старого мира, но он не даст себя одолеть. Обоим подросткам передалась спокойная уверенность, которой дышало большое лицо старика.
3. Луи и Туанетта
Веселая, торжественная процессия следовала через зеркальную галерею. Впереди шли гвардейские офицеры, затем Луи и Туанетта, затем господа и дамы из свиты; эта яркая, блестящая толпа двигалась между двумя рядами застывших в низком поклоне людей и повторялась в зеркалах сотнями отражений. Не так просто было участвовать в такой процессии: по скользкому паркету приходилось шагать очень осторожно, почти не поднимая ног; к тому же мужчинам мешали шпаги, а дамам невероятно широкие юбки. Но участники шествия не испытывали затруднений, у них был большой опыт, и все, кроме толстого короля, неуклюже переваливавшегося с боку на бок, шагали по-королевски — торжественно и легко. Этот путь — к мессе и с мессы — молодому Луи случалось проделывать бессчетное число раз, но всегда он явно его затруднял. Со смущенной улыбкой на жирном мальчишеском лице он неуверенно передвигал свои тяжелые ноги, и стоявшие шпалерами придворные не на шутку опасались, как бы король не упал и не свалил кого-нибудь из свиты.
Рядом с королем Туанетта казалась особенно легкой и грациозной. Многие из тех, кто сейчас глядел на нее, неоднократно злословили по адресу надменного, порочного, изломанного создания, чужачки, не на радость прекрасной Франции покинувшей свою Вену. Но сейчас, при виде Туанетты, этой высокой, тонкой, ослепительно молодой женщины, полной девичьей прелести, и в то же время настоящей дамы, злословие умолкало. Оставалось только смотреть и смотреть. Кружева платья открывали благородную белизну шеи, плеч, рук и груди, линии стройного стана поражали своей нежностью, из-под крылатых темно-русых бровей, освещая продолговатое, овальное лицо, глядели лучистые, ярко-синие глаза, над очень высоким лбом блестели прекрасные, пепельные, высоко поднятые волосы; слегка изогнутый нос и полная, чуть отвисшая нижняя губа не портили этого лица, они не давали ему казаться умиротворенно-скучным. Так, поразительно легкой походкой, рослая, но грациозная, по-детски приветливая и в то же время надменная, шагала, нет, не шагала — парила дочь Марии-Терезии, сестра императора Иосифа, жена короля Франции — Туанетта.
Посылая улыбки направо и налево, величественная и прелестная, проходила она мимо толпы придворных — красивая, сияющая, молодая королева.
Однако мысли, скрывавшиеся за этим ясным лбом, никак нельзя было назвать приятными. Минувшей ночью Туанетте не удалось выспаться. На вечере у принцессы Роган она засиделась за картами и много проиграла. Граф Мерси и аббат Вермон, советчики, навязанные ей матерью, конечно, уже об этом узнали. Теперь они станут ее упрекать и, может быть, даже доложат обо всем матери в Вену. Кроме того, после этого проигрыша касса ее будет пуста, и ей снова придется просить у Луи денег.
У принцессы Роган было много гостей, некоторых из них вовсе не следовало там принимать — в этом граф Мерси и аббат правы. Среди людей, с которыми ей пришлось вчера есть и играть за одним столом, какого только не было сброда. Эти оба маркиза, попеременно державшие банк, де Дрене и де ла Вопольер, наверно, сами присвоили себе свои титулы, да и этот мистер Смит из Манчестера, индийский выскочка, тоже личность весьма сомнительная; и если герцог де Фронсак утверждает, что эти господа порой полагаются более на свою ловкость, чем на фортуну, то в этом, по-видимому, есть доля правды.
Ей следовало прекратить игру около полуночи. Так она и хотела поступить, она даже поднялась. Но тут принц Карл, ее деверь, посоветовал ей отыграться. И вот тогда-то, после полуночи, она проигралась по-настоящему. Зато она изведала сильные ощущения; ведь, честно говоря, если самое прекрасное на свете — это огромный выигрыш, то на втором месте — огромный проигрыш.
Но дальше так продолжаться не может, это безрассудно, ей уже двадцать один год, пора взять себя в руки. Она твердо решила, что сегодня вечером играть не будет. Она только покажется в кругу своих друзей, — они ведь поднимут ее на смех, если она не явится. Но как бы принц Карл ни уговаривал ее взять реванш, как бы ни было это заманчиво, она останется непоколебима. Никакая сила в мире не заставит ее сесть за карты.
У покоев королевы кортеж рассеялся. Туанетта приказала раздеть себя. Оставшись одна, она глубоко, по-детски, вздохнула, потянулась и громко зевнула.
Через три часа начнется одевание к ужину. До этого ей предстоит обсудить с архитектором Миком планы разбивки садов в Трианоне. Кроме того, ее желает видеть аббат Вермон; этот, конечно, станет читать ей нотации от имени матери. У нее останется не больше часа на отдых. Нет, она не примет ни аббата, ни архитектора. Она поспит, она проспит все эти три часа, чтобы к вечеру отдохнуть и устоять перед соблазнами ломберного стола.
Она сидела в своей просторной парадной спальне. За тяжелыми, драгоценными занавесками полога монументально возвышалась кровать. Сейчас эта очень молодая, очень здоровая, очень жизнерадостная, очень легкомысленная и очень красивая женщина в пеньюаре до предела устала. Она с отвращением глядела на парадное ложе. Она думала о церемониях, совершавшихся около этого ложа каждое утро и каждый вечер, когда она вставала и когда ложилась, о фрейлинах, которые, строго блюдя этикет, подавали ей кто рубашку, кто чулки, кто таз для умывания; каждую нужно одарить приветливым взглядом или приветливым словом, и за всяким твоим движением следит добрая сотня глаз.
Шаловливо улыбаясь, Туанетта сунула ноги в ночные туфли и на цыпочках вышла из парадной спальни. Быстро миновала один темный коридор, затем другой. Коридоры были запутанные, но она хорошо ориентировалась в лабиринте огромного здания. Она вбежала в одну из бесчисленных «боковых комнат»; эта всегда пустовавшая комната должна была, если Туанетта забеременеет, служить местом ночлега для дежурной фрейлины. О существовании этой комнаты мало кто знал, и никому не пришло бы в голову искать в ней королеву. Туанетта захлопнула дверь и заперлась на засов. Затем она сбросила пеньюар и, совершенно голая, легла на узкую, совсем не роскошную кровать. Потянулась, сладко зевнула, повернулась на другой бок, поджала ноги. Она уснула крепким, глубоким сном, а у дверей ее парадной спальни аббат и архитектор дожидались приема.
Когда Туанетта вошла в покои принцессы Роган, собачки, как всегда, приветствовали ее тявканьем, а попугай — криком. Принцесса не разлучалась со своими собачками Шери, Эме и Жужу и терпеливо сносила бормотанье попугая Мосье. Попугай выкрикивал всегда одно и то же: «Les amants arrivent» — «любовники идут», — больше он ничему не научился; он был очень стар, говорили, что он жил еще во времена регентства[23] и вырос в знаменитом среди высшей аристократии доме свиданий, где и выучил эту фразу.
Было поздно, гости давно собрались, и партия в фараон уже началась. Игроки не стали прерывать своего занятия: в кругу своих друзей из Сиреневой лиги Туанетта отменила церемониал.
Навстречу Туанетте поднялись ее ближайшая подруга Габриэль Полиньяк и принцесса Роган.
— Вот и ты, Туанетта, — сказала своим мягким, ленивым и теплым голосом Габриэль.
Принцесса же Роган стала многословно упрекать Туанетту за столь поздний приход; опоздав, она кое-чего лишилась. В бесцветных глазах истеричной принцессы была сегодня какая-то особенная одержимость; со смесью досады и торжества она рассказала, что у нее опять было видение. Под жалобное завыванье собачки Эме перед принцессой снова предстал один из великих мертвецов. На этот раз ее посетил кардинал Ришелье, и она с ним говорила. Присутствие мертвого кардинала заметили все собравшиеся; для менее проницательных достаточно ясным знаком послужило поведение собачек, испуганно уступивших дорогу покойнику и в страхе поджавших хвосты. Попугай тоже нахохлился и умолк. Принцесса пожелала, чтобы гости засвидетельствовали ее рассказ.
— Не правда ли, господа, нам всем казалось, что перед нами живой кардинал? — спросила она.
— Это было сладостно-жутко, — отозвался из-за огромного стола своим мощным голосом граф Жюль Полиньяк, муж Габриэль. — Принцесса, несомненно, беседовала с кардиналом, — продолжал он, скрывая иронию под хорошо разыгранной серьезностью, — но, пожалуй, у мертвого преосвященства не столь значительный вид, как у живого.
Как и вся Сиреневая лига, Туанетта снисходительно относилась к причудам принцессы Роган — к ее зверинцу и к ее видениям. Однако в этих видениях было что-то странно притягательное для свободомыслящих друзей принцессы, которые, правда, подтрунивали над нею, но любили обсуждать высказывания мертвецов и сами чуть-чуть верили в подобные чудеса.
У принцессы Роган было красивое, худощавое, поблекшее лицо с большими беспокойными глазами; в ее речах и жестах чувствовалась какая-то фанатическая горячность. Муж, которого она страстно любила, грубо ею помыкал, и принцесса искала прибежища у мертвецов. Она была богата и часто устраивала в своем доме, всегда полном собак и кошек, пышные приемы. Умные замечания, которые обычно делала принцесса, могли кого угодно поставить в тупик. Для своих друзей она не жалела ни денег, ни времени, и обычно недоброжелательное общество Парижа и Версаля относилось к ее чудачествам с благодушной насмешливостью.
С Туанеттой поздоровался принц Карл.
— Вы прекрасно сделали, милая свояченица, что последовали моему совету, — сказал он. — Итак, давайте возьмем реванш.
Принцу Карлу, младшему брату короля, едва исполнилось двадцать лет. В отличие от своих непомерно толстых старших братьев, Луи и принца Ксавье, Карл был красив и строен; повеса, готовый на любую проказу, принц Карл был непременным участником, даже вдохновителем развлечений Туанетты.
Туанетта покосилась на карточный стол, прислушалась к тихому звону монет, к глухому шелесту открываемых карт. Но она совладала с собой.
— Нет, — сказала она, — сегодня я не стану играть. Я пришла только, чтобы всех вас увидеть. У меня был трудный день — месса, прием послов. Но я все-таки пришла. — И она окинула зал сияющим взором.
Однако вскоре она почувствовала, что не в силах долее глядеть на соблазны карточного стола. Обняв за плечи свою подругу Габриэль, она повела ее в соседнюю комнату — маленький кабинет.
Маркиз де Водрейль, самый видный из мужчин Сиреневой лиги, несколько обособившись от остальных гостей, сидел на диване рядом с невесткой Габриэль Дианой Полиньяк, сестрой графа Жюля. Глядя на обеих дам, медленно и грациозно пересекавших большой зал, он хотел было бросить им вслед любезно-шутливую фразу, но тут же нашел, что это безвкусно, и удовлетворился тем, что проводил их насмешливой улыбкой и жадным, продолжительным взглядом. Непринужденно беседуя с Дианой Полиньяк, он с опытностью знатока снова мысленно сравнивал Туанетту и Габриэль. Туанетта молода и весела, лицо ее по-детски беззаботно отражает каждое душевное движение; как и всегда, Водрейля привлекало и злило удивительно надменное выражение, которое придавали этому детскому лицу габсбургские черты — чуть отвисшая нижняя губа и орлиный изгиб носа. У Габриэль такой же высокий лоб, как у Туанетты, но из-за черных бровей ее синие, широко расставленные, слегка заспанные глаза кажутся гораздо более яркими, линия ее чуть задранного носа обворожительна, а черные как смоль волосы придают лицу этой двадцативосьмилетней женщины особую белизну. Бесчисленные поклонники Габриэль восхищаются «небесной чистотой» ее лица. Водрейль усмехнулся, подумав о том, что скрывается за этой ангельской наружностью.
Туанетта и Габриэль расположились в маленьком кабинете. Портьера, отделявшая кабинет от гостиной, была отдернута, так что оттуда их видели. Поэтому Туанетта старалась владеть своим лицом и все время сохранять самую любезную улыбку; но из улыбавшегося рта лились горькие жалобы. Хорошо, если от нее этого требуют, она готова быть благоразумной и отказаться от игры. Но разве это не позор, что у нее, королевы, нет никакой свободы? Каждый ее шаг скован дурацким этикетом, и даже в редкие свободные часы она не вправе делать то, что ей хочется. А за все лишения, за все насилие над собой ей платят одними упреками. Право же, последней торговке рыбного ряда живется лучше, чем королеве Франции.
Габриэль Полиньяк нежно провела рукой по прекрасному плечу Туанетты, по ее длинным, полноватым, очень белым пальцам.
— Ты согласилась бы поменяться положением с торговкой? — спросила она низким, ленивым голосом.
Туанетта рассмеялась звонко, по-детски.
— Что за мысли у тебя, Габриэль, — сказала она.
Через незавешенную дверь они видели Водрейля. Он все еще болтал с Дианой Полиньяк. Остроносая, с темным, худым лицом, некрасивая, она была самой умной не только из Полиньяков, но из всей Сиреневой лиги.
— Почему, собственно, он так с ней носится? — опросила Туанетта. Габриэль ничего не ответила, ее большие глаза медленно обвели Водрейля и Диану. Туанетта знала, да и все знали, что Водрейль любовник Габриэль, но об этом подруги почти никогда не говорили. Сегодня Туанетта неожиданно спросила:
— Тебе никогда не случается ревновать, Габриэль?
Габриэль, все еще глядя на Водрейля и Диану, медленно и с большой силой погладила плечо Туанетты и сказала:
— Никого мне не нужно, кроме тебя, Туанетта.
— Но почему же в самом деле он говорит только с Дианой? — еще раз спросила Туанетта.
Немного помолчав, Габриэль ответила:
— Я думаю, у него какие-то заботы. Нам он из гордости не показывает этого, а с Дианой можно говорить о чем угодно, потому что она некрасива.
Туанетта знала, что это за заботы, на которые намекала Габриэль. Франсуа Водрейль был богат, но богатство растекалось у него между пальцев. Диана Полиньяк находила, что Туанетте следует вновь учредить старую придворную должность — «интенданта зрелищ и увеселений королевы». Туанетте необходим такой интендант, маркиз де Водрейль как нельзя более подходит для этой роли, а должность интенданта означает весьма высокое жалованье.
Туанетта задумалась. Назначение Водрейля — это лишние шестьдесят тысяч ливров в ее бюджете. У Луи и министра финансов Неккера вытянутся физиономии; да и австрийские советчики, посол Мерси и аббат Вермон, снова начнут твердить, что дружба с Габриэль обходится ей слишком дорого. Самое удивительное, что Габриэль никогда ни о чем не просила для себя; у нее не было никаких потребностей. Когда Туанетта, покоренная ангельской красотой этого прелестного лица, впервые ее заметила, Габриэль была бедна, так бедна, что большую часть года ей приходилось жить в своем убогом поместье, в провинции, выезжая в Версаль всего на две-три недели, чтобы только показаться при дворе. Но Габриэль не тяготилась своей бедностью. Туанетте пришлось прибегать ко всяким уловкам, чтобы уговорить ее взять деньги, необходимые ей и ее близким для жизни в Версале. Однако Полиньяки были большим изголодавшимся семейством, и непритязательная, когда речь шла о ней самой, Габриэль не могла отказать своему мужу, графу Жюлю, и его сестре Диане, требовавшим, чтобы она рассказала своей подруге о бедственном положении семьи. В конце концов она пошла к Туанетте и с легким румянцем на кротком, спокойном лице, глядя на подругу своими сонными, обворожительными глазами, казавшимися в тот день какими-то особенно детскими и большими, намекнула на стесненное положение своих родных. Туанетта не могла примириться с мыслью, что ее любимой Габриэль приходится сталкиваться с какими-то денежными затруднениями; для нее было высшим, ни с чем не сравнимым блаженством утешить подругу и помочь ее близким. Недавно Мерси подсчитал, что она выбросила Полиньякам более полумиллиона ливров ежегодного дохода. Это и впрямь отдавало расточительством и легкомыслием. Но неужели она позволит каким-то нелепым цифрам помешать единственному своему счастью — дружбе с Габриэль?
— Ты права, — сказала она, — нужно что-то предпринять для нашего друга Франсуа. Но ведь если я попрошу его стать моим интендантом, он откажется. Он ужасный гордец.
— Если кто-либо другой сделает ему подобное предложение, — ответила Габриэль, — он с негодованием его отвергнет. Только вы, Туанетта, можете с ним об этом поговорить.
Между тем Водрейль покинул Диану и направился через зал к кабинету. Никто другой не отважился бы помешать интимной беседе королевы с ее подругой, маркиз же вошел в кабинет с самым непринужденным видом и подсел к дамам. Он сказал, что восхищается стойкостью Туанетты, так долго подавляющей свое желание возобновить игру.
Это он, Франсуа Водрейль, был истинным главой Сиреневой лиги. В салонах Версаля и Парижа душой кружка слыл молодой принц Карл; но руководил принцем не кто иной, как Водрейль. Ни сам принц, ни другие этого не замечали: Водрейль действовал умно и старался оставаться в тени. Но хотел того маркиз или нет, он обращал на себя внимание. В полном волевом лице этого тридцатилетнего человека с чувственным, дерзким ртом, с карими, немного хмурыми, глядящими из-под густых, совершенно черных бровей глазами и прекрасно вылепленным лбом было что-то очень мужественное. Водрейля занимали интеллектуальные вопросы, он дружил почти со всеми более или менее известными парижскими писателями и считался лучшим, незаменимым исполнителем ролей в любительских спектаклях, которые устраивала высшая знать. С его именем было связано бесконечное множество слухов и толков. Далеко за пределами Парижа говорили, что сильнее всех других мужчин Франции на воображение женщин действуют актер Лекен, писатель Бомарше и маркиз де Водрейль.
— Вы правы, Франсуа, — сказала Туанетта, — и в самом деле, удивительно, что я не играю. Наши развлечения так однообразны, что только и остается играть. Теперешние мои празднества и увеселения устраиваются неумело. Пожалуй, они даже примитивнее шенбруннских,[24] которые я помню с детства. У моей доброй Кампан, да и у Ламбаль не хватает выдумки. Мы как раз сейчас говорили об этом с Габриэль. Я хотела бы восстановить должность интенданта, — заключила она небрежно и храбро.
Водрейль не изменил своей изящной и непринужденной позы, он только немного сдвинул брови и взглянул сначала на одну даму, потом на другую. Лицо его стало вдруг удивительно свирепым: карие глаза помрачнели, густые брови угрожающе нахмурились; во время таких внезапных приступов ярости Водрейль всегда бывал страшен.
Габриэль поспешно поднялась.
— Мне, пожалуй, пора присоединиться к остальным, — сказала она и удалилась.
— Серьезно, Франсуа, — сказала Туанетта, когда они остались вдвоем, — мне нужен интендант, с этим вы не можете не согласиться. И никого, кроме вас, мне не найти.
Тот, кто заглянул бы в кабинет из большого зала, нашел бы, что Водрейль, сидя в безукоризненной позе, почтительно-галантно беседует с королевой. Туанетта, однако, видела, какую бурю страстей скрывают эти принужденные улыбки. Туанетта знала своего Франсуа. Отношения их были сложные и волнующие. Луи был ее мужем лишь номинально; он страдал физическим недостатком, мешавшим осуществлению их брака. Этот недостаток могла бы устранить несложная операция, своего рода обрезание; но тяжелый на подъем молодой Людовик никак не мог решиться на такую операцию. Туанетта была замужем уже шесть лет. Шесть лет назад, при участии всей Европы, императрица Мария-Терезия и старый король Людовик с торжественными церемониями положили к ней в постель дофина, но на том дело и кончилось, ничего другого за эти годы так и не произошло. Виновной в отсутствии престолонаследника французский народ, исполненный верноподданнического благоговения перед помазанником, считал Туанетту. Рыночные торговки распевали по этому поводу похабные куплеты, литераторы распространяли изящные непристойные эпиграммы. Но при дворе и особенно в Сиреневой лиге все было известно доподлинно. Ухаживания мужчин за Туанеттой становились все настойчивее и многозначительнее, а избалованный Водрейль задался тщеславной целью — переспать с дочерью Цезарей, королевой Франции. Невинной Туанетте нравилось внимание мужчин, она с увлечением флиртовала, и дерзкие комплименты искушенного Водрейля возбуждали ее любопытство к мужчине, так выгодно отличавшемуся от Луи. Она не противилась его прикосновениям, его заученным ласкам. Она многое ему позволяла. Но последнего она так и не позволила. На все его просьбы, то нежные, то раздраженные, у нее всегда был один ответ: она твердо решила, что родит законного дофина, она но станет подвергать себя опасности забеременеть от другого.
Среди друзей Водрейля не было никого, кто отказался бы от должности интенданта королевы. А для него это предложение было ударом. То поднимая, то опуская свои красивые, мрачные, опасные глаза, глядел он на Туанетту. Она видела, какого усилия стоит ему эта вежливая улыбка, и невольно вспомнила, как однажды, в приступе ярости, целуя ей руку в присутствии большого числа людей, он с такой силой сжал ей запястье, что несколько дней на этом месте оставался синяк.
— Вы хотите отделаться от меня жалованьем? — спросил он приглушенным голосом. — Подачкой? Это все ваше проклятое габсбургское зазнайство. Но так просто вы от меня не отделаетесь. Мне не нужно вашего интендантства, Туанетта, мне нужно совсем, совсем другое. — Горько, надменно, угрожающе и волнующе звучали его слова.
— Будьте благоразумны, Франсуа, — попросила она. — Чего вы добьетесь, если в один прекрасный день ваши глупые кредиторы заставят вас объявить себя банкротом? Только того, что вас перестанут принимать в Версале, и я не смогу вас больше видеть.
— Тогда-то вы и навестите меня в Женвилье, — ответил Водрейль. — Какую-нибудь одну из моих берлог мне, наверно, все-таки оставят.
— Все это вздор, — горячилась Туанетта. — Я же говорю вам, что твердо решила учредить должность интенданта. Если вы не займете эту должность, ее займет Безанваль, или д'Адемар, или еще кто-нибудь. А они все никуда не годятся.
— Послушайте, Туанетта, — сказал Водрейль, — я с удовольствием устрою вам праздник или спектакль. Но не предлагайте мне никаких должностей.
— Вы ужасный гордец, Франсуа, — сказала Туанетта. — Маркиз де Водрейль не желает принимать подарков от королевы Франции, а королева должна принимать от него подарки. Я очень прошу вас, — сказала она проникновенно и, не смущаясь тем, что их видят, подвинулась к нему ближе, — согласитесь принять должность, не бросайте меня на произвол судьбы.
В денежных делах Водрейль отличался великолепной беззаботностью. Деньги всегда откуда-нибудь да появятся, Франсуа Водрейль немыслим без денег. Его в самом деле не интересовала должность, которую хотела навязать ему Туанетта. Но она так мило его уговаривала, он так желал ее.
— Хорошо, Туанетта, — сказал он. — Я подумаю. Может быть, я и стану интендантом зрелищ и увеселений. Но заявляю вам сразу: если я займу эту должность, я потребую полной свободы действий. Если мне понадобится кто-нибудь из моих сочинителей, Шамфор,[25] Мармонтель или, допустим, Бомарше, пожалуйста, не говорите мне: «Луи на это не согласится». Заявляю вам заранее: если я буду интендантом, ваши спектакли и празднества станут не похожи на теперешние. Толстяк еще задаст вам перцу.
— Я не разрешаю вам называть короля «толстяком», — сказала Туанетта, но улыбнулась.
Он проводил ее в большой зал. «Les amants arrivent», — закричал попугай Мосье. Но никто не обратил внимания на этот возглас, к нему привыкли.
— Вы уже вполне доказали свою стойкость, свояченица, — раздался из-за игорного стола голос принца Карла. — Не будьте же так ужасно добродетельны.
Она стояла в нерешительности, и он продолжал:
— Мне все равно придется идти к Людовику Строгому и просить у него денег. Если вам не повезет, я попрошу и на вашу долю.
До Туанетты доносились тихий, приятный звон золота и приглушенные восклицания игроков. Она медленно подошла к карточному столу. Принц Карл и Жюль Полиньяк тотчас же вскочили, уступая ей место. Туанетта все еще не могла решиться, но по лицу ее было видно, как трудно ей устоять перед искушением.
— Садитесь на мое место, мадам, — сказал граф Жюль, — оно принесло мне удачу.
— Для начала я поставлю за вас двадцать луидоров! — воскликнул принц Карл.
— Оставьте ваши шутки, Карл, — ответила Туанетта; однако она подошла еще ближе и стала напряженно следить за игрой. Карл выиграл. Вместо двадцати луидоров теперь у него было сто.
— Это ваши деньги, свояченица, — сказал он беззаботно.
— Нет, нет, — ответила Туанетта. Потом, помедлив, она сказала: — Но вы можете дать мне в долг пятьдесят луидоров. Я ничего не взяла с собой, чтобы не поддаваться соблазну. — И она села за карточный стол.
Едва они приступили к игре, как принцесса Роган вдруг закричала:
— Собаки! Поглядите на собак, поглядите на Жужу! — Собственно говоря, с собаками ничего особенного не происходило, они негромко тявкали, но это с ними часто случалось. Зато у Роган действительно остановились глаза и исказилось лицо. — Разве вы ее не видите? — спросила она глухим, полным смертельного страха голосом.
— Десятка пик, — сказала Туанетта.
— Прекратите же вашу игру! — воскликнула Диана, а Габриэль тихо и кротко спросила:
— Кто же на этот раз?
— Разве вы не видите ее? — громким шепотом отозвалась Роган. — Разве вы не видите, что это Адриенна?[26]
Адриенна была великой актрисой недавно ушедшей эпохи, величайшей актрисой своего времени: несмотря на свой мягкий и спокойный нрав, она прожила бурную жизнь и погибла из-за коварной соперницы-аристократки. Архиепископ Парижский отказал покойной в христианском погребении. Тогда появилось бесчисленное множество памфлетов, и среди них один особенно знаменитый, всколыхнувший всю Францию и всю Европу, — памфлет Вольтера.
Об этой-то Адриенне и говорила Роган, и гости, в большинстве своем насмешники, не очень-то верившие в бога, все-таки чуть-чуть поверили в присутствие мертвой Адриенны. Им стало немного не по себе. Герцог де Фронсак шепотом спросил:
— Что сказала покойница?
Одна из дам испуганно осведомилась:
— Она очень зла на нас?
— Она не зла, — возразила Роган, — она не думает о мести, она скорее удручена.
— Но что же она сказала? — настаивала Габриэль.
— Она грустит о нас, — отвечала Роган. — Она говорит, что мы плохо начали и скверно кончим.
Наступило молчание. Затем принц Карл сказал:
— Господа и дамы, я полагаю, что теперь мы можем продолжить игру.
— Десятка пик, — сказала Туанетта, и игра возобновилась.
На следующий день, во время «леве», Туанетта отпустила фрейлин раньше обычного. Они удалились почтительно, с кислыми минами и возмущенно шепчась. Сорок две дамы помогали Туанетте при одевании, сто одиннадцать других явились с визитом; для всех этих дам, цвета аристократии, у Туанетты нашлось ровно девятнадцать минут. Портнихе, — никто не сомневался, что Туанетта сейчас начнет совещаться с портнихой, — портнихе она, конечно, уделит опять часа два или три. А ведь Роза Бертен не имела даже права показываться в королевских покоях, и надо было всячески обходить церемониал, чтобы добиться для нее доступа в одну из «боковых комнат».
Стоило дамам подумать об этих «боковых комнатах», как досада их возрастала. Кто знает, сколько таких «боковых комнат» отвела себе Туанетта в огромном, почти необозримом лабиринте Версальского дворца, и кто знает, что в них происходит. У всех на устах был случай с полковником швейцарской гвардии, старым, храбрым Безанвалем, который сам принадлежал к Сиреневой лиге и, уж конечно, не был невинным Иосифом. Однажды нужно было воспрепятствовать дуэли между двумя горячими молодыми людьми из Сиреневой лиги, и Туанетта пригласила полковника к себе. Его повели через коридор, затем вверх по лестнице, затем еще через один коридор и вниз по лестнице, так что другой такой уединенной и отрезанной от всего мира комнаты, как та, в которой его наконец приняла Туанетта, не было, конечно, во всем Париже.
Действительно, сразу после «леве» Туанетта со вздохом облегчения направилась в одну из боковых комнат. Наконец-то она оказалась втроем с Габриэль и с модисткой Бертен. Она была в самом лучезарном настроении. Вчера ночью она выиграла. В проигрыше она усматривала коварство судьбы, в выигрыше — собственную заслугу и надежную добрую примету. Поэтому сегодня она была еще оживленнее и веселее, чем обычно. Поглядев на себя в зеркало, она заметила, что недосыпание никак не отразилось на ее внешности; она была очень милостива к Розе Бертен.
Обе дамы сидели, а Бертен раскладывала перед ними свои сокровища. Отражаясь во множестве зеркал, маленькую комнату заливал блестящий ноток кружев, шляп, лент, перьев, перчаток, вееров, тканей, мишуры и всяческих украшений. Возбужденные и довольные, Туанетта и Габриэль рылись в этих драгоценных мелочах, а маленькая, полная Бертен, чье круглое, курносое, смышленое крестьянское лицо забавно не соответствовало светской утонченности ее вкуса, давала им ценные советы. Это были приятные два часа.
Между тем в передней ожидали приема аббат Вермон и архитектор Мик. Собственно, Туанетте следовало первым принять аббата. Но предстоявшее совещание с архитектором занимало ее больше, чем заведомо неутешительная беседа с посланцем матери. Ей не хотелось портить себе настроение.
Вошел архитектор Мик, и они сразу же углубились в планы и сметы.
В перестройку своего дворца, Малого Трианона, и примыкавших к нему садов Туанетта вкладывала всю душу. Впервые увидев это изящно строгое здание, Туанетта, которой тогда было пятнадцать лет, тотчас же решила, что маленький, белый, великолепный своей простотой дворец должен принадлежать ей. Повсюду ей приходится соблюдать этикет, а здесь она заведет свои порядки. Здесь, в Трианоне, она будет не королевой Франции, а просто Туанеттой, молодой женщиной, которая живет, как ей заблагорассудится.
Как только Луи стал королем, она заставила его подарить ей Малый Трианон и принялась перестраивать дворец по своему вкусу. Она оказалась убежденной сторонницей новой моды, отвергавшей помпезность прошлой эпохи и склонявшейся к простым, заимствованным у античности линиям. Это была изысканная, утонченная простота, и требовалось немало денег, чтобы легкость и кажущаяся хрупкость сочетались с прочностью и добротностью. Но Туанетта задалась целью не отступать от этих принципов, и все архитекторы, художники и садовники-декораторы быстро поняли, что имеют дело с женщиной, твердо знающей, чего она хочет. У Туанетты были идеи, она ничего не принимала на веру; не терпя никаких отклонений от своих замыслов, она давала советы художникам, и большей частью эти советы бывали дельны.
Перестройка здания уже закончилась, и теперь шла речь о садах. Холодное великолепие затейливых парков, окружавших Версальский дворец, внушало Туанетте отвращение, ей нужна была природа, образцовый английский парк, где на небольшом клочке земли можно сосредоточить все относящееся к «природе» — реку, островки, мостики, деревья, цветы, долину, холмы и, разумеется, деревушку с живыми поселянами, с настоящим скотом, с мельницей, с коровником и рыночной площадью для сельских праздников.
И сейчас Туанетта углубилась в детали своего плана.
— Жаль, — сказала она вдруг, — что до сих пор не готов обещанный вами макет.
Мосье Мик извинился, сказав, что это зависит не от него; дело в том, что деньги на макет все еще не отпущены. Все подготовительные работы шли бы гораздо быстрее, если бы то и дело не возникали затруднения с деньгами.
Возмущенная Туанетта немедленно послала за мосье д'Анживилье, интендантом королевских построек. В ожидании интенданта она любезно и оживленно беседовала с архитектором. Как только тот явился, она превратилась в гневную повелительницу. Она была бы очень признательна мосье д'Анживилье, заявила королева с ядовитой любезностью, если бы он объяснил ей, почему, собственно, ее распоряжения не выполняются. Ее колючая вежливость заставила интенданта побледнеть.
— Я не раз позволял себе, — отвечал он, — верноподданнейше напоминать мадам, что мой бюджет исчерпан. Мне дано строгое указание в дальнейшем отпускать деньги только с разрешения господина министра финансов. Мосье Неккер до сих пор не дал своей санкции.
— Неужели все решает только мосье Неккер? — осведомилась Туанетта. — Может быть, король тоже что-нибудь значит?
И тихо, но тоном, не терпящим возражений, приказала:
— Отпустите необходимую сумму.
Мосье д'Анживилье сделал поклон, удалился.
— Видите, мосье, — сказала Туанетта, весело рассмеявшись, — это же очень просто. Нужно только ясно говорить по-французски.
Теперь уже нельзя больше откладывать, теперь уже никуда не уйти от разговора с аббатом Вермоном. Она с сожалением отпустила архитектора и велела пригласить аббата.
Вермон злился, что Туанетта вчера его вообще не приняла, а сегодня заставила долго ждать, и при всем старании он не мог скрыть своей обиды. Аббат Вермон происходил из скромной семьи, ему просто нежданно-негаданно повезло, начальство рекомендовало его в свое время императрице Марии-Терезии в воспитатели ее дочери. В Вене Вермону удалось добиться не только расположения старой императрицы, но и слегка строптивого доверия своей юной воспитанницы. Советчиком Туанетты он остался и в Версале, и мать следила за тем, чтобы дочь не предпринимала никаких важных шагов, не посовещавшись с аббатом.
Должность его была нелегкой. Туанетта обычно отвечала на его предостережения шутками. «Когда-нибудь, — говорила она, — я возьмусь за ум, господин аббат. Не отнимайте же у меня до поры до времени моих развлечений». В сущности, его роль свелась к тому, что он исправлял ее ошибки во французском языке и добросовестно докладывал матери обо всем, что затевает ее милое и, увы, столь легкомысленное дитя.
Но эта должность доставляла аббату и некоторые радости. Он ловко сумел распространить мнение, будто подлинная правительница Франции — Туанетта, а наставляет Туанетту не кто иной, как аббат Вермон. Многие верили этому, вокруг него образовался небольшой кружок приближенных, и аббат тешился сознанием, что он, сын коммерсанта Вермона из Сенса, принимает во время своего «леве» важных сановников, униженно обращающихся к нему со всякого рода просьбами.
Положение аббата Вермона имело, однако, и свои минусы. Молодой король, обычно такой обходительный, невзлюбил его с первого взгляда. Венскому двору аббата представил премьер-министр Шуазель, в партии которого он состоял, а Луи, хотя он об этом и не говорил, не мог отделаться от подозрения, что дофина, его отца, устранили люди этого самого Шуазеля. Дофин умер при странных обстоятельствах; ходил слух, что его отравили, и Луи считал это вполне вероятным. Как бы то ни было, едва придя к власти, он подверг Шуазеля опале и посадил на его место Морепа, а аббату Туанетты при каждом удобном случае выказывал свою антипатию. Он никогда не обращался к Вермону, и, не имей аббат достаточно сильной опоры в лице Марии-Терезии, Луи, конечно, давно выслал бы его из Версаля.
Безобразный, с огромным ртом и желтыми кривыми зубами, аббат явился сегодня с портфелем в руках. Туанетта глядела на этот портфель с неприязнью: его содержимое было всегда огорчительно. Аббат, пока не раскрывая портфеля, завел обычный придворный разговор. Склонился над планами Трианона, все еще лежавшими на столе, изобразил интерес к ним, стал расхваливать изобретательность Туанетты и ее вкус.
Но она отлично знала, что аббат обидчив и злопамятен, что она заставила его долго ждать и что этого он ей, конечно, не простил. Вскоре он действительно с озабоченным видом спросил ее, не слишком ли дорого обойдется эта перестройка, и, когда Туанетта ответила ему лишь беззаботно-презрительным движением плеч, упомянул о том, что в Париже ходят недобрые толки о ее расточительности.
— Дорогой мой аббат, — возразила она с невинным видом, — покажите мне человека, который не вызывал бы толков. — И она улыбнулась ему в лицо; может быть, она имела в виду разговоры об отравлении своего покойного свекра, дофина.
Однако сегодня Вермон чувствовал себя уверенно, у него в портфеле лежала бумага, как нельзя лучше подкреплявшая его слова; поэтому он рискнул сделать еще один выпад. Будь она только королевой Франции, заметил он, она, конечно, имела бы право пренебрегать подобными толками. Но бог возложил на нее трудную и благословенную миссию — служить связующим звеном между двумя величайшими католическими династиями — Габсбургами и Бурбонами. Поэтому, как бы безобидны ни были ее действия, она обязана думать об их последствиях для политики ее величества матери-императрицы. Все с большей и большей враждебностью говорят в Париже о чужеземке, каждый день приносит новые и новые памфлеты против нее, «австриячки». С пленительно разыгранным огорчением Туанетта отвечала, что в самом деле никак не думала, что, посадив несколько деревьев в Трианоне, можно помешать габсбургской политике и взволновать Париж. Но она ничего не смыслит в политике. Уж не советует ли ей аббат вообще отказаться от Малого Трианона?
Вермону хотелось быть с Туанеттой построже, но на это он не решался. Дважды в подобных обстоятельствах он грозил своей отставкой. Во второй раз ее чуть было не приняли, и аббату пришлось мучительно изворачиваться, чтобы замять дело. Да, ему живется несладко, бог послал ему тяжелое испытание. Этот проклятый молодой король не ценит его заслуг и ищет только предлога, чтобы его прогнать. А эта прелестная молодая королева, которую он с радостью наставил бы на путь истинный, к сожалению, одержима пороком легкомыслия и испорчена обществом насмешников. Когда дело касается ее удовольствий, она становится упряма, как ослица. И сейчас ему ничего не остается, как отступить. Из кривозубого, злого, огромного рта аббата полились кроткие, успокаивающие слова. Он стал объяснять, что хотел только дать ей несколько советов в духе указаний ее величества императрицы; вообще же он от души желает, чтобы все ее строительные замыслы осуществились наилучшим образом.
Затем, не без злорадства, он наконец извлек из портфеля документ, которым собирался подкрепить свои нравоучения.
— Имею честь, — сказал он самым официальным тоном, — вручить вам еще одно послание вашей августейшей матушки; и он подал ей запечатанное письмо.
Этих писем Туанетта боялась. Она знала, что мать окружила ее соглядатаями, что каждый ее шаг немедленно становится известен императрице. В Вене знали обо всех ее выходках, знали, с кем она флиртует, знали обо всех ее туалетах, прическах, балах, карточных проигрышах, развлечениях, и на нее неизменно изливался поток дружеских советов и строгих упреков.
Туанетта благоговела перед матерью; из всех живущих Мария-Терезия была не только самым могущественным, но и самым великим человеком. Все, что она писала дочери, всегда было верно и мудро и шло от самого сердца. Туанетта робела перед матерью, уважала, любила ее. В Версале ей часто казалось, что она одинока, продана и предана, покинута на чужбине, скована этикетом. Она была убеждена, что единственный человек, которому она может вполне довериться, — это мать. Поэтому письмо, протянутое ей Вермоном, она взяла в руки с двойственным чувством. Она сорвала печать и, прежде чем приступить к чтению, окинула взглядом густо исписанный лист. Сначала шел почерк секретаря, ниже она узнала руку матери. Это письмо, несомненно, содержало что-то очень, очень важное.
Она стала читать. Сначала медленно. Потом, не удержавшись, заглянула в конец письма. Поразилась. Прочитала еще раз, сначала, не торопясь. В смятении опустила руку с листком, глубоко задумалась.
То, что она прочла, испугало ее и обрадовало. Приезжает ее брат Иосиф, Римский император, Иосиф-вольнодумец, пока еще только талантливый соправитель Марии-Терезии, но вся Европа ждет его воцарения с надеждой и страхом. Иосиф, блестящую внешность и ум которого она столько раз расписывала своим друзьям. Иосиф, вечный ее наставник, от которого ей еще в детстве доставалось за ее глупость и который теперь каждые два-три месяца присылает ей резкие, саркастические, полные упреков письма. Иосиф, Зепп, на которого она взирает с любовью, с уважением, с сознанием своей вины и досадой.
Как бы то ни было, приезд ее блестящего брата укрепит ее положение в Версале. При упоминании Габсбургов в Париже будут теперь думать скорее об умном, буржуазно-скромном вольнодумце Иосифе, чем о падкой на удовольствия расточительнице Туанетте. С другой стороны, ей не избежать неприятнейших объяснений. В письмах он говорит с ней, как с девочкой, не выучившей урока; при этом он часто прав, он желает ей добра, он такой неприятно умный. Он великолепен и несносен, и она заранее знает, что его язвительность и резкость возмутят ее до глубины души.
Подняв глаза, она поглядела на аббата, следившего за ней с любезной усмешкой.
— Вам известно содержание письма, господин аббат? — спросила она.
— Да, мадам, — отвечал он.
— Известно ли оно королю? — спросила она затем.
— Думаю, что еще нет, — ответил аббат. — Думаю, что ему доложат о нем позднее. Ваш сиятельный брат, мадам, приедет инкогнито. Думаю, что его визит будет неофициальным. — И аббат осклабился еще любезнее.
У Туанетты кровь прилила к сердцу. Если Иосиф едет без официальной миссии, какое же у него дело в Версале? Конечно, то самое, которое ее более всего касается. Сомнений здесь быть не может. Иосиф будет уговаривать Луи, чтобы тот наконец решился на операцию, которая позволит ему приступить к своим супружеским обязанностям в интересах Габсбургов и Бурбонов. Это миссия не официальная, это миссия секретная, это самая важная, самая священная миссия.
Иосиф всегда добивается своего; Иосифу удавалось переспорить даже мать, сильнейшего человека на свете. Нерешительного, вечно колеблющегося Луи Иосифу, конечно, ничего не стоит уговорить. А что же потом? Потом она родит стране наследника, которого от нее ждут, и тем самым выполнит все, чего вправе требовать от нее бог, Габсбурги и Бурбоны. Вот тогда-то она и станет настоящей королевой. Тогда она будет свободна и сможет жить, как захочет.
У Туанетты закружилась голова от волнующих картин, пронесшихся в ее воображении. Она взяла себя в руки.
— Благодарю вас, господин аббат, — сказала она тоном истинной дамы. — Вы, конечно, понимаете, что, получив такое письмо, я хотела бы побыть в одиночестве.
С самым почтительным видом, слегка ухмыльнувшись, аббат удалился.
Луи сидел за небольшим столом на балкончике библиотеки. Этот балкончик-фонарь был его самым любимым местом во всем огромном дворце. Щуря близорукие глаза, он обычно глядел вниз, на дворы и подъездные аллеи — из окна открывалась широкая панорама, — и гадал, кто там снует по дорожкам.
Но сегодня мысли его были далеки от такой забавы. Он сидел за столиком, погруженный в себя, подперев ладонями жирное молодое лицо. На нем был зеленый костюм, он собирался поехать на охоту. Он любил охотиться, верховая езда и погоня за дичью были одним из немногих доставлявших ему удовольствие занятий; да и врачи советовали ему почаще выезжать на охоту, ибо при его полноте неподвижный образ жизни вредил его здоровью. Как раз сегодня ему хотелось двигаться. Он слишком много съел, это с ним часто случалось; стоило ему задуматься, и он незаметно для себя начинал глотать кусок за куском.
Тем не менее он отменил охоту. Мосье Салле, секретарь премьер-министра, просил немедленно принять своего шефа. Если его ментор Морепа, серьезно простуженный, хочет с ним поговорить, — значит, дело не терпит отлагательств, и он, Луи, должен пожертвовать своим удовольствием и выслушать премьер-министра.
Конечно, Морепа придет к нему с какой-нибудь неприятностью. К нему всегда приходят с неприятностями. Решения, которых от него требуют, почти всегда противны его инстинкту. Но очень тягостно вечно возражать, неизменно отказывать. И у других обычно находятся аргументы. Это ложные аргументы, но не так-то просто их опровергнуть. В конце концов он дает себя уговорить и подписывает.
Грузный, неуклюжий молодой человек поднялся и стал шагать по комнате. Библиотека у него была обширная. Луи любил читать, особенно сочинения по географии, истории, политике. В этой комнате, перестроенной но его указанию, он собрал все вещи, которые ему нравились. Здесь были глобусы, географические карты, часы, всевозможные произведения искусства, и прежде всего фарфор. Он велел изготовить на своей фарфоровой фабрике в Севре статуэтки великих умерших поэтов — Лафонтена, Буало, Расина, Лабрюйера. Кроме того, он украсил свою библиотеку множеством изделий из железа и бронзы. В этих предметах он знал толк; он сам любил слесарную работу, и наверху, под самой крышей дворца, у него была своя слесарная мастерская.
Остановившись у камина, он погладил искусно отлитую решетку; жирные, неловкие руки коснулись металла с удивительной нежностью. Он скользнул по камину невидящим взглядом. Насколько приятнее было бы сейчас заняться книгами, а не делами, с которыми явится к нему его ментор. До чего же тягостна, до чего противна эта вечная обязанность управлять. Почему он не родился простым помещиком-дворянином? Как хорошо было бы когда вздумается ездить на охоту, писать, читать, немного переводить с английского, углубляться в историю и географию. Или, скажем, следить за газетами, особенно за английскими, запрещенными. Вместо этого приходится управлять, принимать решения, защищаться от корыстолюбцев и честолюбцев, действовать во имя мелких соображений, вопреки высшим, вопреки своей совести, вопреки своей интуиции.
Его размышления прервал приход принца Карла. Отношение Луи к младшему брату было двойственным. После смерти отца добродушный Луи чувствовал себя главой семьи, обязанным помогать своим братьям. Но оба только ставили ему палки в колеса. С детства они презирали нескладного старшего брата, принц Ксавье — исподтишка, а беспардонный принц Карл совершенно открыто.
— Я жду Морепа, — сказал Луи, когда вошел Карл. — У меня мало времени. Пожалуйста, говорите покороче. Что вам угодно?
— Денег, — сказал Карл.
За три года правления Луи принц Карл успел выжать из него, кроме своего удельного имения, замок с обширными и весьма доходными угодьями. При этом он заставлял брата оплачивать свои долги, обычно немалые; со времени последней такой оплаты не прошло и четырех месяцев. Тогда у них было бурное объяснение. Карл предложил Луи, чтобы тот именовал себя не Roi de France et Navarre, a Roi de France et l'Avare.[27] В конце концов Луи оплатил долг, но Карлу пришлось торжественно обещать, что впредь он будет бережливее.
С несчастным и мрачным видом глядел Луи на брата.
— Ты же мне обещал… — Он не кончил фразы, в его голосе были тревога, участие, безнадежность и гнев.
— Значит, я солгал, — невозмутимо ответил Карл. — Мне придется улаживать это дело с господом богом. Выкладывай деньги, — продолжал он, — все равно тебе ничего другого не остается. Не скаредничай. Не разыгрывай из себя Людовика Строгого, это тебе не к лицу.
Тринадцатилетний Луи как-то сказал, что мечтает войти в историю Людовиком Строгим, и Карлу доставляло удовольствие напоминать ему об этом.
Луи весь встрепенулся.
— Я не дам тебе денег, — закричал он пронзительным голосом. — Я поставлю над тобой опекунский совет из моих министров.
— Великолепная идея, — насмешливо ответил Карл. — Весь Париж станет гадать, когда ты учредишь опекунский совет для надзора за Туанеттой.
Луи был убежден, что своими долгами и прочими легкомысленными выходками Туанетта обязана подстрекательству Карла. До самой смерти Луи не забудет мерзкого пари, которое затеял Карл в прошлом году. Издеваясь над затянувшейся перестройкой Трианона, Карл поспорил с Туанеттой на сто тысяч ливров, что в течение семи недель снесет до основания и отстроит заново свой маленький замок Багатель. Действительно, в установленный срок на месте старого замка вырос новый. День и ночь работали девятьсот человек, а когда не хватило строительного материала, Карл приказал полку швейцарских гвардейцев задерживать на всех парижских дорогах и направлять в Багатель все телеги, груженные бревнами. Вся страна была возмущена. Принц Карл бахвалился, что заработал без помощи брата целых сто тысяч ливров, а ему, Луи, ничего не оставалось, как выдать сто тысяч ливров Туанетте. И вот теперь этот же Карл требует, чтобы он, Луи, оплачивал его новые сумасшедшие кутежи, и вдобавок еще глумится над старшим братом.
— Я запрещаю вам, — воскликнул он возмущенно, — называть королеву Туанеттой.
— Отлично, — нагло улыбаясь, согласился Карл, — в таком случае весь Париж станет гадать, когда ты учредишь опекунский совет для надзора за королевой… Или за австриячкой, — добавил он с издевкой.
Луи устал от этой бессмысленной перебранки.
— Сколько тебе нужно? — спросил он.
— Мне нужно пятьсот восемьдесят семь тысяч и еще несколько сот ливров, — ответил Карл, — но я удовлетворюсь пятьюстами тысячами.
Луи совсем поник.
— Я пошлю к тебе де Лаборда, — сказал он; де Лаборд был его интендант, — чтобы он снесся с твоими кредиторами.
— Такая мелочная недоверчивость вполне в твоем духе, — сказал Карл.
— И когда он представит мне доклад, — закончил Луи, — мы с Неккером подумаем, как быть.
— Только, пожалуйста, думайте поскорее, — сказал Карл. Оба знали, что Луи заплатит сполна.
Оставшись один, Луи принялся вздыхать и отдуваться; у него было чувство какой-то тяжести. Для облегчения он расстегнул камзол, а затем — немного и панталоны. Выглядел он всегда неопрятным, часто казался грязным, у камердинера и парикмахера бывало с ним немало хлопот.
Неудачный, пропащий день. А теперь еще Морепа. Наверно, опять пойдет речь об Америке. Нет покоя от этих мятежников. Не надо было пускать в Париж доктора Франклина. В городе и так полно вольнодумцев и атеистов. Зачем привозить их из-за океана? А он, Лун, должен еще давать деньги бунтовщикам. Тут что-то неладно, определенно что-то неладно. Но только заикнись об этом своим министрам, и тебя засыплют доводами.
Сопя, он втягивал воздух толстыми ноздрями крючковатого носа и с шумом его выталкивал. Все требуют денег — Карл, Туанетта, американцы. Рыхлой глыбой молодого мяса сидел он за монументальным письменным столом, томясь ожиданием.
Наконец Морепа явился. Луи торопливо и вежливо двинулся ему навстречу; при своей утиной походке он шагал сейчас удивительно быстро. Старик, несмотря на простуду, был одет самым тщательным образом. Графиня настаивала, чтобы он поберег себя, она советовала ему пригласить Луи к себе или хотя бы проделать короткий путь к нему в халате. Но премьер-министр твердо придерживался церемониала. О государственных делах он говорил с монархом только в королевских покоях и только надев парадный мундир, как того требовал придворный этикет.
Они сидели за большим столом, заваленным бумагами, письменными принадлежностями и фарфоровыми статуэтками поэтов: некрасиво развалясь — молодой, неопрятно одетый, казавшийся из-за тучности гораздо старше своих двадцати двух лет Луи и, стараясь держаться прямо, — худощавый, подтянутый, моложавый для своих семидесяти шести лет Морена. Широко расставленные карие глаза Луи близоруко косились на портфель, лежавший перед его ментором.
Морена сказал, что получил письмо от своих австрийских коллег. Кауниц[28] подробно и очень ясно излагает габсбургскую точку зрения на все нерешенные вопросы. Но если бы дело было только в этом, он, Морепа, не стал бы беспокоить короля. Старик приосанился и улыбнулся Луи так, словно собирался его приятно поразить.
— Я буду рубить сплеча, сир, — сказал Морена. — Ваш сиятельный шурин, римский император, находится на пути в Версаль.
Бегающий взгляд Луи сразу остановился, в остолбенении молодой король разинул рот. За его покатым лбом медленно зашевелились не лишенные логики мысли. Он ведь так и знал, что Морепа его чем-нибудь да огорчит. Если приедет Иосиф, ему, Луи, придется говорить с ним о множестве неприятных вещей, и прежде всего об этом противном баварском наследстве. Баварский курфюрст стар, и вопрос этот скоро приобретет актуальность. Правда, Мария-Терезия заявила, что тут у нее нет никаких притязаний, но тем большую тревогу вызывали некоторые высказывания его шурина Иосифа. Уже несколько месяцев версальские советники требуют, чтобы он, Луи, недвусмысленно заявил Иосифу, что в этом вопросе Австрия не должна рассчитывать ни на малейшую поддержку со стороны Франции. Если Иосиф приедет, он, Луи, будет вынужден сказать ему это в лицо. Его министры, Морепа и Вержен, пожелают, чтобы он пошел еще дальше и отчитал Иосифа за его неосторожные высказывания. Но ведь он гораздо моложе Иосифа, и к тому же говорить он не мастер, а Иосиф славится своим блестящим, убийственно саркастическим красноречием. Как же скажет он шурину с глазу на глаз такие жестокие вещи? Круглые тяжелые плечи Луи обмякли еще больше.
Морепа по-прежнему глядел на него выжидательно-добродушно, словно явился с невесть каким приятным сообщением. Толстые щеки Луи вздрагивали, руки его нервно теребили края рукавов, пуговицы камзола, но он все еще молчал и ждал; слышно было только, как тикают часы. Морена догадывался, о чем он думает. Старик неторопливо откашлялся, достал носовой платок, высморкался — ах, как раздражала его эта простуда.
— Я думаю, сир, — сказал он, — этот визит доставит вашему величеству одну только радость, он не влечет за собой никаких политических переговоров. Император посетит нас инкогнито. Он едет под именем графа Фалькенштейна, отказавшись от церемониала. Следовательно, это просто родственный визит. Я полагаю, что на сей раз император отправился в путь с разрешения и даже благословения своей августейшей матушки. Шурин Иосиф едет к зятю Луи и навестит свою сестру Туанетту.
Луи отвел глаза от Морена и стал машинально поглаживать фарфоровые фигурки. Затем, подперев голову руками, задумался. Соображал он медленно, но хорошо. Поэтому он догадался, какова подоплека неофициального визита шурина. Но Луи не хотелось думать об этой догадке, он гнал ее прочь от себя. Наконец, сделав над собой усилие, он спросил старика:
— Зачем едет Иосиф? Что ему нужно?
Но так как министр только едва ухмыльнулся в ответ, Луи пронзительно вскрикнул:
— Что ему нужно?
Эта внезапная вспышка нисколько не испугала Морепа. Он знал Луи и хорошо представлял себе, что сейчас происходит в его душе. О своих супружеских затруднениях застенчивый и робкий молодой человек поведал только ему, Морепа, и врачу. Если операция пугала Луи, то объяснялось это не недостатком мужества, а благочестием, или, как склонен был думать вольнодумец Морена, суеверием и ребяческим стыдом. И о таких-то вещах ему придется теперь толковать с решительным, рационалистичным Иосифом. Старому цинику было, пожалуй, даже жаль своего незадачливого ученика. Тихо и вежливо он разъяснил Луи, что весьма вероятная цель визита Иосифа — уговорить шурина решиться на ту небольшую операцию, о которой упоминал доктор Лассон; возможно, что, по мнению Марии-Терезии, такая операция принесет счастье Франции и Австрии.
— Неужели все знают? — с болью в голосе спросил Луи. Грузный, несчастный, мрачный, он был подавлен сумятицей чувств, всегда возникавших у него при мысли о его физическом недостатке.
Луи женили, когда ему было пятнадцать лет; этим браком его дед, старый Людовик Пятнадцатый, хотел создать «семейный пакт» — союз между Францией и Австрией. Так советовали министры, а они были врагами дофина, отца Луи. Своего рано умершего отца Луи почитал и любил, и то, что брак затеяли люди, ненавидевшие и, может быть, даже погубившие отца, заранее внушало Луи недоверие и неприязнь ко всему, что связано с этим браком. Глубоко религиозный, он верил в божественное провидение и боялся, что брак, затеянный врагами отца, неугоден небу. Может быть, именно поэтому бог наделил его таким недостатком. Но в таком случае вправе ли он, Луи, противиться высшей воле? Не будет ли операция посягательством на дело рук божьих?
С другой стороны, брачный союз заключен, и речь идет теперь не только о нем, Луи. Не обидит ли он Туанетту, если откажется от ножа хирурга? Перед Туанеттой у него было чувство неловкости. Она покинула родину, чтобы стать его супругой, чтобы родить дофина габсбургской и бурбонской крови. Он не может ей дать того, чего она вправе ждать, и если теперь разгневанный Иосиф вступится за сестру, если заявит, что Бурбоны обманули Габсбургов, то это сущая правда, и ему, Луи, нечего на это возразить.
И все-таки не случайно же всевышний наделил своего благословенного помазанника такою плотью. Долг сталкивался с долгом, и Луи, нерешительный от природы, не мог склониться ни в ту, ни в другую сторону. Ожидание лучше, чем перемена, бездействие лучше, чем действие.
Мрачный и вялый от этих чувств и мыслей, он молча сидел за огромным столом, машинально теребя рукава. Наконец Морена спросил, не соизволит ли его величество выслушать верноподданнейшее предложение своего слуги.
— Да, да, говорите, мой ментор, — с любопытством отозвался Луи.
— Есть средство, — сказал Морепа, — использовать предстоящий визит Иосифа в интересах Версаля.
Луи поглядел на него с любопытством, и, лукаво улыбнувшись, Морепа продолжал. Он советует Луи, не дожидаясь приезда графа Фалькенштейна, воспользоваться услугами доктора Лассона. Римскому императору ничего не останется, как поздравить своего зятя и, вернувшись в Вену, доложить августейшей матери, что ее беспокойство было напрасным.
Луи согласился, что это прекрасный совет. Но король, сказал он, покраснев, не может всегда следовать голосу разума и обязан прислушиваться к скрытым движениям своей души. Министр знал, что это не отговорка, а искреннее убеждение Луи. Луи верил в свою богоизбранность, он считал свои смутные порывы изъявлением высшей воли, ослушаться которой — грех. Если Луи, при желании внимавший разумным советам, ссылался на свою богоизбранность, это значило, что от него ничего не добьешься. Совсем недавно Морепа дал молодому монарху повод огорченно заметить, что он, первый министр, недостаточно тверд в вере. Поэтому старик решил сегодня не продолжать этот разговор.
Он и без того чувствовал себя усталым. Помня, что графиня советовала ему беречь себя, он предпочел бы сейчас удалиться. Но, к сожалению, этого нельзя было себе позволить. Над ним висело еще одно дело. Получив известие о предстоящем приезде Иосифа, он сразу стал думать, какие последствия может иметь этот визит для него, Морепа. Туанетта его не любит, Мерси и Вермон то и дело повторяют, что он не сторонник слишком тесных связей с Австрией, Сиреневая лига пытается его свалить. Если Иосиф своего добьется, если после успешной операции произойдет сближение Луи с Туанеттой, если, чего доброго, родится ребенок, положение Мерси и Вермона упрочится, а он, Морепа, окажется под ударом. Правда, Луи старается, чтобы прекрасные белые ручки Туанетты были подальше от его политики; но Луи человек безвольный, а Морепа, твердо решивший умереть в должности премьер-министра, не хотел рисковать. Аудиенцией, во время которой Луи узнал о приезде Иосифа, старик собирался воспользоваться и для выпада против Туанетты.
Министр превозмог свою слабость, вынул дорогой носовой платок, коснулся им лица, откашлялся, выпрямился. Худощавый, стройный, элегантный, сидел он напротив вялого, мужланистого Луи.
Имея честь явиться к королю с докладом, начал Морепа, он позволит себе коснуться еще одного нерешенного вопроса. Мосье д'Анживилье снова обратился к министру финансов за средствами на переустройство Трианона. Между тем, по договоренности с королевой, Людовик дал указание ведомству двора ни в коем случае не выходить из ранее установленного бюджета. Поэтому мосье Неккер не решается отпустить требуемую сумму без личного приказания короля.
Луи недовольно засопел. Сам он был бережлив. Он знал, что расточительство Туанетты вызывает ярость в Париже, и все-таки не проходило недели, чтобы вежливый, деловитый и презрительный Неккер, которого он терпеть не мог и который явно не одобрял этих расходов, не получал от него приказа о дополнительных ассигнованиях на нужды королевы. С другой стороны, он находил оправдание безудержному мотовству Туанетты. Он считал, что вихрь удовольствий, в котором она живет, заменяет ей радости и права супружеского ложа, которых она, к стыду его, лишена. Сознание своей вины делало его крайне снисходительным к ней, и, боясь истратить на себя лишний франк, он бывал даже рад, когда мог деньгами возместить Туанетте то другое, в чем вынужден был ей отказывать.
— Сколько денег нужно на этот раз? — спросил он.
— Триста тысяч ливров, — ответил Морепа.
— Триста тысяч ливров, — пробормотал Луи. Он взял перо и аккуратно вывел на одном из лежавших на столе листков: 300000. Разрисовав эту цифру хвостиками, он написал рядом: 60000x5; 50000x6; 25000x12. Он подумал о дерзких замечаниях по адресу Туанетты, сделанных его братом Карлом, и спросил себя, знал ли Карл об этом новом ее требовании. Конечно, знал. Луи стало досадно, что у брата такие близкие отношения с Туанеттой. — Триста тысяч ливров, — повторил он. — Еще триста тысяч ливров на Трианон. Это скандал, теперь толков не оберешься.
Радуясь эффекту, произведенному его словами, Морепа решил ковать железо, пока горячо. По его смиренному мнению, продолжал он все так же тихо и вкрадчиво, Луи следует санкционировать выплату этой суммы, но попросить королеву несколько ограничить свои расходы.
— Триста тысяч ливров, — бормотал Луи, — двадцать пять тысяч, умноженные на двенадцать.
— Триста семнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре ливра, если вы желаете знать точную цифру, — сказал Морепа. — Сама по себе эта сумма не так уж велика. Но жизненный уровень, а особенно в деревнях, падает, и естественно, что люди сравнивают расходы Сиреневой лиги с расходами, которых они сами не могут себе позволить. Наглые писаки объявляют любые, даже совершенно частные дела королевы, австрийской политикой. Как раз сейчас мы пытаемся помешать распространению пасквиля, в котором говорится, что неумеренные расходы королевы мешают нам оказать необходимую помощь Америке. Как бы то ни было, несмотря на все ухищрения Неккера, наше финансовое положение продолжает оставаться напряженным. Мой коллега Вержен не решается просить вашего соизволения, сир, предоставить американцам еще два миллиона ливров, о которых они ходатайствуют.
Хорошо, что Морепа перевел разговор на другой предмет. Теперь Луи может дать волю своей ярости.
— Ваши американцы, — сказал он злым, высоким голосом, и его маленький двойной подбородок дрогнул. — Только и слышишь об этих американцах, только и слышишь об этих мятежниках. А кто должен платить за их мятеж? Я.
Премьер-министр, не раз уже обсуждавший с Луи американский вопрос, чувствовал себя слишком усталым, чтобы пускаться в бесполезную дискуссию. Он ограничился кратким повторением основных принципов американской политики, которые он уже ранее втолковывал Луи.
— Я надеюсь, сир, — сказал он несколько резче обычного, — что правильно понял ваше мнение по американскому вопросу. Вы и ваши советники сошлись на том, что в наших интересах как можно дольше затягивать конфликт между Англией и ее американскими колониями, ослабляющий и мятежников и в первую очередь Англию. Вы приказали своим министрам вести соответствующую политику. Вы велели своим советникам, сир, оказывать мятежникам умеренную поддержку, покуда мы сами не сможем возобновить старый наш спор с Англией.
Луи пришлось это подтвердить. Морена и Вержен так долго осаждали его своими аргументами и «разумными доводами», что он в конце концов сказал «да». Но в душе он знал, что все это софистика, что единственно верное — это его королевское отвращение к мятежникам и что помощь американцам не приведет к добру. Но что же ему делать? Он сокрушенно опустил веки, так что глаза почти исчезли в жирных складках его мясистого лица.
— Сколько же денег требуется на этот раз для ваших американцев? — спросил он с неудовольствием.
— Предложение Вержена — два миллиона, — терпеливо повторил Морена. — Он хочет взять их из своего тайного фонда.
— Один миллион, — сказал Луи злобно. — Один, а не два. Больше одного миллиона я мятежникам не дам. Это было бы против моей совести.
— Хорошо, один миллион, — примирительным тоном заключил Морена.
— И пусть он выдаст его в три срока, — запальчиво приказал Луи. — Ваш доктор Франклин ужасно назойлив, вечно он недоволен, всего ему мало.
— Как вы прикажете, сир, — отвечал министр, собирая свои бумаги. — А теперь позвольте мне удалиться, — попросил он. — И соблаговолите, сир, — напомнил Морепа, — переговорить с королевой об ограничении ее расходов.
— Хорошо, — сдавленным голосом отозвался Луи.
Он видел, какого труда стоит Морепа его осанка.
— Мне следовало бы поблагодарить вас, мой ментор, — сказал он с раскаянием, — но вы задаете мне нелегкие задачи.
— Знаю, знаю, — утешил его старик. — Но теперь разговор со мной позади, сир. Желаю вам веселой охоты.
Он попрощался с Луи церемонно, с вымученной молодцеватостью.
Выйдя из кабинета, он чуть не упал в обморок. Секретарь Салле и камердинер подхватили Морепа под руки и поволокли в его покои. Поспешно прибежала мадам де Морепа и принялась кротко и озабоченно упрекать мужа. Он кашлял, стонал, кряхтел. Его отнесли в постель, обложили грелками, напоили бульоном.
Луи тоже был утомлен беседой. Желание ехать на охоту пропало. Он снова сидел в башенке, глядя в окно на подъездные аллеи дворца и не замечая никого, кто по ним двигался. «Триста тысяч на австриячку, — размышлял он, — один миллион на мятежника, пятьсот тысяч на этого оболтуса». И он задумался о тяжелой доле, ему доставшейся.
На следующее утро он проснулся с сознанием, что сегодня ему предстоит нечто очень тягостное и неприятное. Мысли его медленно заработали, и он вспомнил, что впереди разговор с Туанеттой, впереди объяснение с ней, обещанное им его ментору.
Он еще немного подремал, сопя и всхрапывая. Затем дернул шнурок, привязанный другим концом к руке лакея, которого таким образом можно было вызвать в любую минуту. Лакей явился немедленно, и Луи, встав с постели, где спал, направился к ложу, где происходила церемония пробуждения и «леве». Его одели в присутствии ста знатнейших персон королевства, с которыми он машинально обменивался обычными, ничего не значащими фразами. За завтраком он ел много, но ел рассеянно, весь поглощенный предстоявшим разговором.
На это утро был назначен прием военного министра Сен-Жермена. Луи любил Сен-Жермена и не сомневался в полезности его реформ. Но в последнее время от него, Луи, то и дело требовали отставки старика. Между тем Луи все еще мучила совесть, когда он вспоминал, как по настоянию Туанетты и Сиреневой лиги он однажды позорно уволил своего великолепного министра финансов Тюрго; Луи твердо решил сохранить Сен-Жермена. Но в глубине души он все же не был уверен в том, что это ему удастся. Во всяком случае, ничего приятного беседа с Сен-Жерменом не сулит. Старик придет к нему с жалобами и обвинениями, он будет глядеть на него своими преданными, собачьими глазами и ждать, что он, Луи, защитит его от врагов. Нет, сегодня не подходящий для этого день. Он не должен утомлять себя перед тягостным разговором с Туанеттой. Он не примет сегодня Сен-Жермена. Но чтобы вознаградить старика, он осмотрит наконец Отель-дез-Инвалид. Это давнишнее желание министра, гордящегося порядком, который он там навел. Да, Луи осмотрит Отель-дез-Инвалид и попросит Туанетту его сопровождать.
Довольный своим решением, он пожелал провести освободившееся время в библиотеке. Он любил набивать свою превосходную память фактами и подробностями; книги доставляли ему благотворное спокойствие.
Оба библиотекаря, мосье де Кампан и мосье де Сет-Шен, приветствовали его низким поклоном; это были тихие, незаметные люди, они появлялись, как только в них наступала нужда, и исчезали, когда становились помехой.
Прежде всего Луи потребовал свежих газет. Во многих газетах был напечатан анекдот об историке Эдварде Гиббоне, труды которого очень интересовали Луи. Год назад этот мистер Гиббон опубликовал первую часть своего большого исторического сочинения «Упадок и гибель Римской империи»; Луи понравилось это сочинение, он изучил его и начал переводить на французский язык. Как раз теперь мистер Гиббон находился в Париже и, по сообщению французских газет, случайно встретился в популярном трактире «Капризница Катрин» с Вениамином Франклином. Франклин велел спросить Гиббона, сидевшего за другим столиком, не переберется ли тот к нему. Гиббон же, как сообщали газеты, ответил, что не желает сидеть за одним столом с мятежником, восставшим против его короля. Тогда Франклин велел передать мистеру Гиббону, что если тот вздумает написать еще одно сочинение об упадке и гибели великой империи, то он, Франклин, постарается предоставить в его распоряжение богатый материал. Этот ответ мосье Франклина показался Луи неостроумным; смешно думать, что восставшие колонии смогут сокрушить Англию.
Он недовольно отложил газеты в сторону.
— Не пришли ли английские газеты? — спросил он.
Луи обычно просматривал запрещенные английские газеты. Сет-Шен поспешил их принести.
— Не заглядывали ли вы часом в них сами, Сет-Шен? — лукаво спросил Луи и, громко засмеявшись, погрозил библиотекарю пальцем; смех у него был зычный, оглушительный — «извозчичий», как говорили в Сиреневой лиге. Мосье де Сет-Шен обрадовался привычной шутке.
Луи углубился в английские газеты. Они были полны отчетов о конфликте с американскими колониями. Много места уделяли они и доктору Франклину. Они считали достойным удивления, что вождь мятежников нашел приют в Париже. Луи вздохнул: они правы. Он с удовольствием читал злые эпитеты, которыми наделяли старого бунтовщика английские журналисты. Они называли его «семидесятилетним хамелеоном», «корыстолюбивым утопистом», «шарлатаном». Луи хлопнул себя по ляжке, позвал обоих библиотекарей, показал им эти заметки, прочитал их вслух по-английски. Слово «хамелеон» он произнес не совсем правильно, и мосье де Сет-Шен почтительно его поправил. С ученическим усердием Луи несколько раз повторил это слово, стараясь верно его произнести.
Затем он потребовал книг; он любил рыться в нескольких томах сразу. Перед ним лежали труды английских историков — исследование Горейса Уолпола «Достоверны ли наши сведения о жизни и правлении Ричарда Третьего?», книга Джеймса Андерсона о процессе Марии Стюарт, толстые тома «Истории Англии» Давида Юма.
Оба библиотекаря замечали, что Луи требует обычно все шесть томов сочинения Юма, а читает всегда только один. Король явно хотел скрыть, что именно его интересует. Том, привлекавший к себе внимание Луи, содержал историю Карла Первого.[29]
Интерес к сочинению Давида Юма возник у Луи примерно год назад, а точнее — после отставки министра финансов Тюрго в мае прошлого года. Этот интерес был вызван письмом, которое прислал ему Тюрго незадолго до того, как он впал в немилость и ушел в отставку. Наглец писал, что его, Луи, окружают сомнительные советчики, что у него, двадцатидвухлетнего короля, нет ни опыта, ни знания людей, что поэтому его подстерегают опасности и что он уже на краю пропасти. «Не забывайте, сир, — говорилось в письме, — что голову Карла Первого положила на плаху его слабость. Вас считают слабым, сир». Это письмо Луи никому не показал, он запечатал его и спрятал в ларец, где хранил самые секретные документы. Но в тот же день он потребовал сочинение Юма и с тех пор, каждый раз с удивлением и гневом, перечитывал рассказ о том, как преступники-англичане восстали против своего короля, предали его суду и казнили; его радовал спокойный научный и в то же время очень доброжелательный тон, в котором великий ученый Юм писал об этом мученике Карле. Сегодня Луи, как всегда, старательно вникал в подробности, делая на полях книги пометки, ставя вопросительные и восклицательные знаки.
Нет, нет. Что бы ни доказывали Вержен и Морена, королю Франции не следует поддерживать семидесятилетнего хамелеона и его друзей-мятежников. Это не может кончиться добром.
Луи захлопнул книги, потянулся, размял суставы, расстегнул мешавшие ему пуговицы. Беда, что вот уже второй день не удается выбраться на охоту. Так или иначе, двигаться необходимо. До разговора с Туанеттой осталось еще четверть часа. Луи направился на самый верх, в свою мастерскую.
Хорошо, что он застал здесь не только этого коренастого молодца Франсуа Гамена, но и мосье Лодри, который руководил в Версале всеми работами, связанными с тонкой механикой. Луи, недовольный тем, как запирался его ларец, трудился с Гаменом над новым потайным замком; но получалось не то, чего он хотел, Гамен был недостаточно находчив. Зато Лодри, отличный мастер своего дела, сразу понял, в чем тут загвоздка. Луи воодушевился, они втроем принялись за работу, и, глядите-ка, дело пошло на лад: замок удался.
Но это продолжалось не четверть часа, а гораздо дольше. Луи опаздывал. Он торопливо сунул увесистый замок в карман кафтана, наспех вытер замасленные руки и отправился к Туанетте.
Переваливаясь, плелся он по залам и коридорам; замок, лежавший в кармане, больно ударял его по ягодице. В коридорах сновали лакеи, гвардейцы, придворные в парадных мундирах. При виде Луи они приосанивались и сгибались в глубоком поклоне. Правда, у некоторых на лицах было написано явное презрение к столь невеличественному королю. Луи знал, что, проходя через тронный зал, эти господа отвешивают предписанный церемониалом низкий поклон перед пустым троном с большим респектом, чем перед живым королем; он снова сокрушенно спросил себя, за что божественное провидение наделило его такой неподходящей для его священной миссии внешностью.
Так, покачиваясь, двигался он по паркету через залы и коридоры и, миновав комнату с круглым окном «ceil de boeuf»,[30] достиг апартаментов королевы. Здесь, из закоулка, где висела большая картина, изображавшая Юпитера, Справедливость и Мир, неожиданно выбежал мальчик лет восьми. Он был тщательно одет, и его быстрые, озорные движения удивительно не соответствовали его богатому, торжественному наряду. Луи знал, кто этот малыш, — это был Пьер, сын младшего садовника Машара; год назад, исполняя свою прихоть, Туанетта его усыновила. Увидев короля, мальчик сразу остановился и, прислонившись к стене, чтобы дать королю пройти, отвесил глубокий поклон, как его учили. Луи прошел мимо ребенка, приветливо ему улыбнувшись; замок по-прежнему ударял Луи то в ягодицу, то в бедро.
Вдруг он услышал за своей спиной звонкий смех; видно, маленький Пьер никак не мог сдержаться.
Луи был добродушным молодым человеком и обычно держался совершенно просто. Но он был также правнуком Людовика Четырнадцатого, внуком Людовика Пятнадцатого, королем Франции и Наварры. Он подумал о покойном деде, о его поистине царственной поступи, о том, что при виде его придворные переставали шептаться об его распутстве, он подумал о Туанетте, в которой, несмотря на неистовую ее азартность, на ее страсть к балам-маскарадам, к Сиреневой лиге и всяческим увеселениям, столько королевского блеска, что даже на самых дерзких устах замирают насмешки при ее появлении. И вдруг Луи овладело бешенство. Он обернулся, схватил бледного как полотно мальчика своими большими руками, встряхнул его и пронзительным, прерывающимся голосом крикнул: «Стража!» Лакеи, солдаты швейцарской гвардии бросились к королю. Перед лицом Юпитера, Мира и Справедливости Луи передал им маленького Пьера, велев не отпускать его до особого приказания.
Затем, гораздо спокойнее и решительней, он направился к Туанетте.
Когда через два часа он вышел от Туанетты, у него был вид человека, сбросившего с плеч большую тяжесть. С широкой, довольной улыбкой на жирном лице вернулся он в свои покои.
Здесь он прежде всего стал прилаживать к ларцу новый замок. Не так-то просто было вынуть старый замок и заменить его новым. Но Луи справился с этой работой, пригнал замок на славу. Он отомкнул ларец, потом замкнул, вытер пот со лба, порадовался своей удаче.
Он снова отомкнул ларец, поднял крышку. Окинул нежным взглядом предметы, которые там хранились. Это были главным образом его личные вещи — дневники, письма, всяческие сувениры. Теперь все это в безопасности. Он принялся рыться в ларце с глуповато-счастливой улыбкой, с упоением истинного коллекционера. Наткнулся на запечатанное письмо бывшего министра финансов Тюрю. Непроизвольно сунул его под другие письма, поглубже, в самый низ. Стал снова рыться.
Вот небольшая книжечка. Он сам написал ее, когда ему было тринадцать лет, и сам напечатал; с детства ему нравились два дела: писать и мастерить. Книжечка называлась «Об умеренной монархии. Моральные и политические правила, основанные на Телемаке и составленные Людовиком-Августом, дофином». Он задумчиво полистал страницы. Да, он никогда не облегчал себе жизнь. Он прочитал: «Властитель тоже всего лишь человек. Как таковой, он разделяет христианский долг со своими ближними. Однако, вознесенный над всеми остальными людьми рукою всевышнего, он обязан служить примером веры и добродетели, образцом благочестия и усердия». Выпуклые глаза его уставились в страницу невидящим взглядом. Он вспомнил, с какой гордостью побежал он, тринадцатилетний мальчик, к деду и показал свою книжку. Ему пришлось пережить горькое разочарование. Старый Людовик Пятнадцатый, — может быть, он как раз в этот момент вернулся от Дюбарри,[31] — листал книгу минуту-другую. Потом он ласково потрепал по щеке своего старательного внука и сказал: «Очень хорошо, Monsieur le Dauphin, все очень хорошо. Но чрезмерное усердие вредно. Бросьте-ка лучше эту книжонку в огонь».
Покачав головой при мысли о тогдашней своей наивности и радуясь, что не послушался деда, Луи положил книжку на место. Стал снова рыться. Извлек письмо своей тещи, Марии-Терезии. Она написала его семь лет назад, отправляя Туанетту в Версаль. Близорукий Луи перечитал его медленно и внимательно. В письме говорилось: «Мой дорогой дофин, ваша супруга только что попрощалась со мною. Она была моей отрадой и, надеюсь, будет вашим счастьем. Для того я ее и воспитывала, ибо давно знала, что она разделит вашу судьбу. Я воспитывала в ней чувство долга перед вами, сердечное к вам расположение и умение вам нравиться. Моя дочь будет вас любить, в этом я уверена, ибо я ее знаю. Прощайте, мой дорогой дофин, будьте счастливы, сделайте ее счастливой. Утопаю в слезах. Ваша любящая мать Мария-Терезия».
Луи держал листок в руке. Хорошее письмо. Тогда он не знал, что ответить: в пятнадцать лет это нелегкое дело. Вместе со своим наставником он в конце концов сочинил ничего не говорящий ответ, по-немецки, и сделал несколько ошибок, чтобы звучало естественней. Впрочем, ее австрийское величество пишет по-французски тоже не блестяще. Луи насчитал в коротком письме четыре грамматических ошибки и пять орфографических.
«Будьте счастливы, сделайте ее счастливой». Легко рассуждать августейшей матушке, сидя у себя в Вене. Теперь, значит, она посылает к нему Иосифа. «Сделайте ее счастливой».
Прекрасное письмо. Императрица обладает не только ясным умом, она разбирается и в чувствах. «Моя дочь будет вас любить, в этом я уверена, ибо я ее знаю».
Сейчас, во время последней беседы, Туанетта была с ним очень любезна. Хотя ни он, ни она не говорили о возможной цели приезда Иосифа, беседа их была сегодня не такой, как всегда; в разговоре их появились какие-то теплые нотки, которых никогда не было раньше.
Впрочем, то, что собирается сделать Туанетта в Трианоне, в самом деле великолепно. Вкус у нее есть, идеи тоже. А как она красива! Что она нравится ему, это еще ничего не значит, он ничего не смыслит в женской красоте. Но Уолпол, автор превосходной книги о Ричарде Третьем, как хороший писатель, наверно, кое-что в этом смыслит, а он назвал ее красивейшей женщиной Европы. Если бы она только не была так остра на язык и так смешлива; он немного побаивается ее смеха.
Нельзя сказать, что это выброшенные деньги, триста тысяч ливров на Трианон. Вернее, триста семнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре ливра; на свою память он может положиться. Скрепя сердце он округлил сумму и дал ей четыреста тысяч. Начатые работы нужно продолжить, она права, бросать дело на середине — настоящее расточительство. Зато она обещала, что в будущем году ни в коем случае не выйдет из предусмотренного для Трианона бюджета. Так что, отдавая приказание Неккеру, он сможет сослаться хотя бы на это.
А вот в деле Сен-Жермена он достиг гораздо меньшего успеха. Туанетта наотрез отказалась участвовать в посещении Отель-дез-Инвалид. Мало того, она опять требовала, чтобы он наконец прогнал старика. Она его просто не переносит. Хорошо еще, что он, Луи, отделался от нее, пообещав, что тоже не поедет в Отель-дез-Инвалид.
В остальном же Туанетта была сегодня благоразумна и терпелива. Она серьезно намерена не выходить из бюджета. Правда, в одном вопросе она не пожелала слушать никаких возражений. Ей понадобился собственный интендант зрелищ и увеселений. После того как он отдал ей Трианон в полное распоряжение, пожалуй, вполне логично, что она хочет завести и собственного интенданта. Как ни мучительно говорить с министром финансов, он вынужден был в этом пункте уступить Туанетте.
«Я воспитывала в ней чувство долга перед вами… Прощайте, мой дорогой дофин, будьте счастливы, сделайте ее счастливой». Он гладит листок удивительно нежным для его тяжелой руки движением, потом складывает и бережно прячет в ларец.
Вынимает дневник. Сидит над ним. Думает, что бы записать из впечатлений дня. Записывает: «Прием военного министра отменен из-за тяжелого разговора личного свойства. Беседа с Туанеттой окончилась благоприятно. Изготовлен потайной замок. Очень хорош. На охоту не поехал». Кладет дневник на место, в ларец, щелкает замком, широко улыбается.
Вдруг улыбка его исчезает, он что-то вспомнил. Он нетерпеливо звонит, приказывает позвать дежурного офицера гвардии.
— Здесь был задержан, — говорит он, — некий Пьер Машар, находящийся под покровительством королевы. Немедленно выпустить мальчика. И выдать ему сластей на два франка. Нет, на пять франков, — поправляется он.
4. Иосиф
Несколько недель спустя Иосиф отправился в Париж.
Иосиф, второй император, носивший это имя, был главой Римской империи германской нации лишь номинально. Мать назначила его своим соправителем, но, по существу, старая императрица, еще полная сил и очень решительная в суждениях, правила совершенно самостоятельно. Суждения матери часто казались ее сыну и соправителю предрассудками. Мария-Терезия отличалась глубокой набожностью и была верной дочерью церкви. Иосиф же, восприимчивый к веяниям нового времени, питал неприязнь к церкви, носительнице и защитнице суеверий, и мечтал о переоценке ценностей в духе своего просвещенного века.
Молодому императору, который был не так уж и молод — Иосифу исполнилось тридцать шесть лет, — жилось нелегко. Он сгорал от желания претворить свои идеи в дела и изменить мир. Он заявлял об этом миру, мир прислушивался к его голосу, и прежде всего молодежь; Иосиф был отрадой и надеждой молодежи всей Римской империи германской нации. Но властью он обладал лишь номинально. Будучи соправителем, он мог только говорить; действовала и правила его мать. С годами он ожесточался все более и более.
Не имея до поры до времени возможности изменить мир, он пользовался вынужденным досугом, чтобы его познать. Он ездил. Ездил больше любого другого государя. Ездил часто инкогнито, убежденный, что это лучший способ получить верное, свободное от прикрас представление о странах и людях. Не желая, чтобы с ним обращались как с властелином, он останавливался в скромных гостиницах и возил с собою походную кровать, которая служила ему во время военных кампаний. Однако он был тщеславен и отнюдь не делал секрета из своего стремления изучить подлинные условия жизни в различных странах. Он благодушно улыбался, когда узнавали, что под именем графа Фалькенштейна путешествует сам император, и любил, чтобы об его поездках сообщали газеты.
На этот раз, однако, были приняты все необходимые меры, чтобы сохранить инкогнито императора во время его поездки и пребывания в Париже. Князья, земли которых ему предстояло проехать, были предупреждены, что граф Фалькенштейн запрещает какие бы то ни было церемонии и желает, чтобы его принимали, как обыкновенного путешественника. Кое-кто из князей не мог с этим согласиться. Например, герцог Вюртембергский не представлял себе, как это римский император переночует в обычной гостинице. Со всех гостиниц, по приказу герцога, полиция сорвала вывески, жителям герцогской резиденции — города Штутгарта — ведено было забыть, где эти гостиницы находятся, и графу Фалькенштейну ничего не осталось, как искать пристанища во дворце герцога.
Зато в Париж графу разрешили въехать в обычном фиакре. Он поселился в непритязательном Отель-де-Тревиль, где и поставили его складную кровать. Хозяин гостиницы, мосье Гранжан, был с ним не более любезен, чем с прочими постояльцами. Когда же Иосиф отправился на свою первую большую прогулку по городу, мосье Гранжан с благоговением и за солидную мзду показывал желающим походную кровать римского императора, быт которого ничем не отличался от быта его солдат.
На следующий день Иосиф поехал в Версаль. Туанетта, следуя церемониалу, ждала его в окружении свиты. Но не в силах сдержать нетерпение, она то и дело подбегала к окну. Когда он показался на лестнице, Туанетта бросилась ему навстречу и в присутствии взявших на караул гвардейцев обняла его и расцеловала.
Они походили друг на друга, брат и сестра. У Иосифа, как и у Туанетты, было открытое, выразительное лицо, высокий лоб, живые синие глаза, маленький рот с чуть отвисшей нижней губой, слегка изогнутый нос. Он был строен, высок, движения его отличались сдержанностью и изяществом. И все-таки Туанетта была разочарована, когда разглядела брата как следует. В ее воспоминаниях он оставался таким, каким она видела его семь лет назад в Шенбрунне, — старшим братом, пугавшим ее своей наставнической серьезностью и восхищавшим своими знаниями, своим блеском; сотни раз она рассказывала версальским друзьям, как покоряет всех ее брат с первого взгляда. И вот перед нею неприметный, скромно одетый человек, немного потрепанный, лысеющий и, пожалуй, даже староватый.
Тем не менее встреча была для обоих приятна. Иосиф заранее решил, что поначалу не станет досаждать сестре нотациями. Удержавшись от педагогических замечаний, которые ему очень хотелось сделать, он похвалил Туанетту за цветущий вид, рассказал ей о братьях и сестрах и прежде всего — о матери. Они говорили по-французски, но то и дело сбивались на немецкий. Туанетте часто не хватало немецких слов, и Иосиф приходил ей на помощь. Усмехнувшись, но без тени порицания он заметил, что теперь она делает ошибки и во французском языке и в немецком. Сам он гордился тем, что одинаково бегло говорит по-немецки, по-французски и по-итальянски и что с представителями большинства подвластных ему народов объясняется на их родном языке.
Держа руку сестры в своих руках, он спросил:
— Правда, Тони, приятно встретиться после долгой разлуки?
От звука его голоса, от его ласкового взгляда у нее стало тепло и легко на душе.
При встрече с Луи Иосиф снова подавил в себе желание произнести нравоучительную речь. Луи удалось справиться со своей робостью, и беседа их прошла лучше, чем оба ожидали. Луи показал шурину свои книги и некоторые кузнечные изделия собственного изготовления; он пытался говорить по-немецки, добродушно посмеиваясь над своей беспомощностью в этом языке, и исправлял частые ошибки шурина во французском. Тот, слегка расстроенный, отстаивал правильность своего произношения. Луи, любивший во всем точность, не уступал и обращался к авторитету библиотекаря Сет-Шена; в одном сомнительном случае он пожелал даже обратиться за разъяснением в Академию. Иосиф не мог не признать, что его зять обладает филологическими способностями и ясным, трезвым умом. А ведь посол Мерси много раз почтительно, но вполне прозрачно намекал в своих отчетах на некоторую ограниченность христианнейшего короля.
Следующую неделю Иосиф посвятил осмотру Версаля и Парижа. В сущности, французский дух был ему глубоко чужд; но, будучи человеком добросовестным, он не мог уехать из Франции, не изучив ее досконально. Деловито, вникая в любую мелочь, ходил и ездил он по Парижу. «Не разменивайтесь на пустяки», — посоветовал ему однажды его блистательный противник, прусский король Фридрих; эти слова старика — не только их смысл, но и резкий, отрывистый, повелительный тон, каким они были сказаны, — глубоко запали Иосифу в душу, но он ничего не мог поделать со своей деятельной натурой. Именно мелочи обладали для него притягательной силой. Во все уголки города Парижа совал император-путешественник свой габсбургский нос. Посещал больницы, пробовал на вкус похлебку в домах призрения, присутствовал на судебных заседаниях, осматривал всякого рода фабрики, вступал в беседы с разносчиками, записывал сочные вульгаризмы торговок, захаживал в мастерские ремесленников, допытывался, какие там механизмы, — везде инкогнито и везде узнаваемый. Газеты восторженно писали о скромном и любознательном графе Фалькенштейне, его демократическое поведение произвело сенсацию, он вошел в моду, и рядом с портретом мудрого простолюдина Франклина многие повесили портрет общительного императора Иосифа.
Первым делом Иосиф счел нужным встретиться с великими умами Франции. С учеными, писателями, философами он держался как их коллега-интеллигент, которому обязанности правителя, к сожалению, не оставляют времени для научных занятий. Он побывал в библиотеках, присутствовал на заседании Академии, долго беседовал с ее вице-президентом, бывшим министром Тюрго. Кроме того, он неоднократно встречался с академиками Кондорсе и Леруа;[32] толстый мистер Гиббон, великий историк, отказавшийся есть за одним столом с мятежником Франклином, все время говорил графу Фалькенштейну «ваше величество», хотя тот просил называть себя просто мосье. С особым интересом посещал он салоны ученых дам. Он появлялся даже в салоне мадам Неккер, хотя министр финансов Неккер был еретиком, буржуа и швейцарцем. Эти визиты императора в «швейцарский домик» вызывали в Сиреневой лиге насмешливые улыбки.
Иосиф подробнейше осмотрел огромный Версальский дворец и тщательно ознакомился с придворными порядками. Он исходил все закоулки и коридоры гигантского лабиринта; ничего от него не ускользнуло — ни «боковые комнаты» Туанетты, ни кузнечная мастерская Луи. Под видом обыкновенного просителя, никого не предупредив, он сиживал в приемных министров Морена и Вержена. Он присутствовал на торжественном шествии зятя к мессе и на его официальном, парадном обеде.
Спрятавшись в толпе придворных, он без ведома Луи присутствовал на его «леве» и «куше». Скромный римский император неодобрительно качал головой, глядя, с какой беззастенчивостью, с каким торжественным и скучающим видом позволяет одевать и раздевать себя жирный Луи в присутствии стольких людей; слева одежду подавали одни вельможи, справа — другие.
Иосиф наблюдал, как однажды во время «куше» Луи, разгуливавший среди придворных в полуспущенных панталонах, внезапно остановился перед молодым и стройным графом Грамоном и затем, подойдя к опешившему камергеру вплотную, оттеснил его своим большим животом к стене; Луи разразился смехом, а испуганный граф так и застыл на месте.
Ежевечернее публичное раздевание Луи продолжалось не менее двадцати минут. Желая закончить процедуру, Луи давал знак пажам, они стаскивали с короля сапоги и с шумом бросали их на пол. Этот шум сброшенных сапог составлял часть ритуала и показывал, что свите пора удалиться; она удалялась, и тогда Луи наконец ложился в постель. Иосиф с гордостью думал о том, насколько прогрессивны простые порядки его двора по сравнению с этим нелепым, азиатским церемониалом.
Вообще же Иосиф старался отдать должное всему, что было хорошего в Париже и Версале. Он видел великолепие дворца и садов Версаля, видел гордые и внушительные здания Парижа, красоту парижских площадей и мостов. Но еще лучше видел он паутину в роскошных покоях Версаля, сломанные рамы картин, неисправную мебель; видел торговцев, громко расхваливавших наперебой свой товар на величественных, исполненных благородства лестницах и у пышных порталов. Еще лучше видел он грязь, шум и неразбериху Парижа. И беспорядочность, безалаберность города и дворца произвели на него большее впечатление, чем их блеск и великолепие. Он удовлетворенно порицал увиденное, радуясь, что представление, сложившееся у него о Франции с чужих слов, целиком подтверждается его собственным опытом.
Когда его спрашивали, нравятся ли ему Париж и Версаль, он старался отвечать дипломатично и подыскивал вежливо-одобрительные выражения. Иногда, однако, ему не удавалось скрыть свой сарказм, и он позволял себе ехидные, пренебрежительные замечания. Например, указывал на устаревшую организацию французской армии, или на беспорядочность уличного движения в Париже, или на скрытую коррупцию, которая мерещилась ему повсюду. Эти частные замечания немедленно всеми подхватывались.
За каждым шагом Иосифа следили не только агенты французской полиции, но и шпионы австрийского посла Мерси и аббата Вермона. Мария-Терезия в Шенбрунне и Людовик в Версале непрерывно получали подробнейшие отчеты о самоотверженных попытках графа Фалькенштейна расширить свои познания о мире и людях и передать эти познания другим.
У Иосифа были литературные наклонности; он любил излагать свои впечатления в тщательно отделанных фразах. Самым близким человеком Иосиф считал своего брата Леопольда, великого герцога Тосканского. «Все в этом городе Париже, — писал он брату, — рассчитано на внешний эффект, здесь много великолепных, поражающих своей красотой зданий, но лучше глядеть на них издалека. Снаружи мило, внутри гнило. Величие здесь показное. В этом Вавилоне понятия не имеют ни о законах природы, ни о разумном общественном устройстве. Зато на всем здесь лоск вежливости и этикета». Письмо получилось длинное; то, о чем Иосифу приходилось умалчивать в разговорах с французами, он без обиняков поведал брату.
Он передал письмо своему послу Мерси, чтобы тот отправил его с нарочным в резиденцию Леопольда — Феррару. Письмо попало в руки французской разведки; прежде чем послать его по назначению, шеф парижской тайной полиции мосье Ленуар снял с него копию и представил ее королю.
Луи долго сидел над письмом, размышляя о несправедливых преувеличенно резких суждениях шурина. Все это оттого, что Иосиф якшается с философами, известными мятежниками и безбожниками; даже с Тюрго, дерзость которого граничит с бунтом, шурин долго беседовал. И если Иосиф с презрительным состраданием глядел на отвратительную рабскую возню вокруг своего жирного зятя, то Луи искренне печалился о римском императоре, который тоже присоединился к хулителям и рисковал погубить свою душу.
У императора Иосифа была страсть поучать. Он полагал, что затем и явился на свет божий, чтобы улучшить все несовершенное — и мир в целом, и образ жизни своей сестры, и детородные способности своего зятя. Уже несколько лет назад, после первых сообщений графа Мерси о несколько легкомысленном поведении Туанетты, Иосиф заявил: «Придется мне как-нибудь самому туда съездить и все уладить». Когда же преданный и преисполненный чувства долга посол в почтительно-озабоченном тоне доложил о физическом недостатке молодого монарха, Иосиф тотчас же объявил: «Я поеду туда, я все устрою, вы можете на меня положиться, мама».
После столь самоуверенного обещания он должен был во что бы то ни стало добиться успеха. Он не имел права надеяться на случай. Однако прежде чем начинать серьезный мужской разговор об операции, нужно было как следует разобраться в самом Луи. До сих пор он еще не раскусил своего зятя. Иногда Луи делал поразительно тонкие замечания, иногда его тупость граничила с кретинизмом. Чтобы испытать твердость зятя, Иосиф завел с ним обстоятельную политическую дискуссию.
Сначала все шло гладко. Иосиф развивал свои идеи относительно англо-американского конфликта. Он решительно заявил, что считает вредным малейшее проявление симпатий к Америке. Луи понимал подоплеку этого заявления. Габсбургам нужна Англия как союзник в борьбе против возрастающей мощи России. Следовательно, ни при каких обстоятельствах Габсбургам не следует портить отношений с Англией. Но каковы бы ни были мотивы шурина, Луи целиком разделял его мнение. Иосиф с жаром говорил о том, что подлинная свобода возможна лишь в условиях просвещенной монархии, он уверенно и остроумно высмеял филадельфийских ревнителей свободы, которые, кроме анархии, ничего не добьются. Луи с удовольствием слушал, изредка покачивая жирной головой или издавая нечленораздельные звуки в знак одобрения, и запоминал наиболее удачные формулировки Иосифа, чтобы при случае пустить их в ход против Морепа и Вержена.
Но затем Иосиф завел речь о баварском наследстве. Он многословно и горячо говорил о возможностях, открывавшихся перед Габсбургами в связи с предстоявшей кончиной курфюрста Баварского. Разве не святая обязанность Габсбургов воспользоваться обстановкой и овладеть стратегически важной областью, чтобы застраховать себя от усиливающейся угрозы нападения пруссаков? Глухое недовольство овладело Луи. Неужели отлично обоснованные притязания Цвейбрюкена для шурина пустой звук? Неужели этот высоконравственный, просвещенный правитель-философ готов пренебречь всякими моральными соображениями? Морепа и Вержен совершенно правы: Габсбурги вынашивают безумные захватнические планы, и никакие семейные пакты не должны вовлечь Францию в их затеи. Шурин, разглагольствовавший о морали и разуме, на поверку оказался фантазером, авантюристом, захватчиком, помышляющим о мировом господстве Габсбургов. Пустая затея. Он, христианнейший король Людовик, отказывается в этом участвовать. Не для этого помазан он богом.
Обливаясь потом, с возраставшей досадой слушал он дерзкие, богопротивные речи. Не пора ли на них ответить? Но как же осмелится он, молодой, неопытный, читать мораль блистательному римскому императору? Ведь тот заткнет ему рот бесчисленными доводами. Нет, лучше он поступит так, как намеревался, — он не станет возражать, он уклонится от пререканий.
Он молчал и слушал. Взял листок бумаги, принялся что-то чертить. Потом, когда Иосиф кончил, протянул ему листок и сказал:
— Поглядите-ка, сир, вот ваша граница, а вот Бавария. Какова моя память?
Иосиф не знал, что и подумать об этом жирном, наивно и гордо улыбавшемся молодом человеке: кто он — болван или коварный шутник? Он поглядел на листок, положил его на стол и спокойно спросил:
— Так как же, сир? Разделяете ли вы нашу точку зрения? Можем ли мы, отстаивая наши притязания, рассчитывать на вашу поддержку?
— Интересно, — задумчиво отвечал Луи, — удастся ли мне по памяти назвать все пункты с населением свыше двух тысяч человек, находящиеся под властью баварского курфюрста. — И он начал перечислять их названия.
Иосиф решил, что с этим человеком нельзя говорить серьезно, он перешел на пустяки и вскоре удалился.
Со свойственной ему методичностью он стал думать, какие выводы надлежит сделать из этого разговора. То, что зять умеет только уклоняться от ответа, но не отказывать, вселяло в Иосифа уверенность в успехе своего дела. Однако потребуется немало гибкости и энергии, чтобы преодолеть это мягкое, скрытое, упрямое сопротивление.
Марии-Терезии Иосиф написал: «Ваш зять Луи, дражайшая матушка, дурно воспитан и обладает весьма невыгодной внешностью. Но внутренне он вполне порядочен. Его удивительная память хранит множество сведений. К примеру, он может назвать в алфавитном порядке все баварские селения, имеющие более двух тысяч жителей. Правда, мне не ясно, какую косвенную или прямую пользу может принести правителю такая способность. Вообще же наш Луи страдает вызывающей тревогу нерешительностью. От него можно всего добиться запугиванием. Надеюсь, дражайшая матушка, что цель моей поездки будет достигнута».
Это письмо также попало в руки шефа парижской полиции. Мосье Ленуар не стал докладывать о нем лично королю, а предпочел направить копию премьер-министру.
Прочитав письмо, старик Морепа покачал головой. Затем он показал его своему секретарю Салле и спросил:
— Каково ваше мнение об этом письме, милейший Салле?
Секретарь ответил своим монотонным голосом:
— Для римского императора римский император неплохо разбирается в людях.
Морена решил приберечь письмо и дать ему ход лишь в особом случае.
Доктору Франклину, жившему в Пасси, в своем тихом доме и в саду, случалось часто слышать о вольнодумном римском императоре. Друзья доктора, которым приходилось встречаться с Иосифом, — а их было немало, — хвалили монарха за его простоту, энергию и не лишенную приятности деловитость. Все эти академики и поэты были польщены тем, что он говорил с ними как с равными, и считали хорошим симптомом, что даже сам император считает нужным изображать из себя интеллигента и вольнодумца.
Франклин был бы рад, если бы и ему представилась возможность побеседовать с Иосифом. Он надеялся внушить Иосифу, что американский вопрос, — в сущности, внутреннее дело англосаксов и что Тринадцать Штатов вовсе не собираются подстрекать к мятежу европейские народы. Франклин полагал, что он способен рассеять опасения Марии-Терезии и ее сына, боявшихся, как бы пример Америки не подстрекнул к бунту европейские страны.
Поэтому, когда один из его друзей, академик Кондорсе, сообщил ему, что говорил с Иосифом о Франклине и что император выразил желание познакомиться с доктором, это пришлось как нельзя более кстати.
Аббат Никколи, представитель Великого герцогства Тосканы, где правил брат Иосифа — Леопольд, взялся устроить неофициальную встречу. Он пригласил графа Фалькенштейна и доктора Франклина на чашку шоколада. Через Кондорсе он уведомил обоих, кого они застанут у него в доме.
Получив приглашение, Иосиф на какую-то долю секунды подумал, что, пожалуй, ему не следовало изъявлять желание встретиться с Франклином. Когда он уезжал из Вены, мать просила его, чтобы он, раз уж ему приходится ехать в этот беспутный Париж, по крайней мере, избегал общества «сумасбродов». Кого именно причисляла мать к «сумасбродам», Иосиф точно не помнил. Несомненно, были упомянуты среди них Вольтер и Руссо, но, кажется, она назвала и Франклина. Как бы то ни было, римский император в конце концов не может позволить матушке предписывать себе, с кем говорить и с кем — нет. Мятежник или не мятежник Вениамин Франклин, он один из крупнейших ученых эпохи, большой философ, и побеседовать с ним очень интересно. Что же тут такого, если Иосиф воспользуется случаем и потолкует с Франклином? Он вежливо и убедительно докажет вождю мятежников, что чернь по природе своей не в силах заботиться о собственном благе и что поэтому просвещенный деспотизм — наиболее разумная форма правления. Иосиф даже радовался предстоявшему разговору.
У него уже бывали встречи, вызывавшие всеобщее изумление, например, встреча с заклятым врагом его династии, с Фридрихом Прусским. Теперь он, римский император, будет беседовать один на один с вождем американских мятежников. Что может быть смелее и оригинальнее? Гордый собственным демократизмом, он говорил о своем намерении всем и каждому.
Назначенный день наступил. В девять часов утра, как было условлено, Франклин со своим внуком Вильямом Темплем прибыл к аббату Никколи. Через несколько минут явился Кондорсе. Пили шоколад, болтали. Франклин попросил вторую чашку и отдал должное превосходным сладким бриошам аббата. Ждали, беседовали. Время подошло к десяти, потом к одиннадцати. Аббат велел подать портвейн. Франклин отдал должное и портвейну. Непонятно было, что помешало Иосифу явиться вовремя. Франклин решил ждать еще час. Наступил полдень. Задерживаться дольше стало уже неловко. Гости поблагодарили хозяина, Франклин вернулся в Пасси.
Юный Вильям очень сердился и почти весь обратный путь бранил католиков и аристократов. Он так ждал этой встречи. Можно было бы небрежно бросить своим приятельницам: «Знаете, недавно император Иосиф сказал мне…» Сам Франклин отнесся к неудаче философски. Скорее всего, разговор с Иосифом не повредил бы делу американцев. Что ж, придется ждать другого случая.
А с Иосифом произошло следующее. Граф Мерси, которого Мария-Терезия считала своим верным другом, давно уже получил от нее конфиденциальное письмо. Императрица делилась со старым дипломатом своими опасениями по поводу поездки ее строптивого сына Иосифа в этот Вавилон на берегах Сены. К письму Мария-Терезия предусмотрительно приложила список неблагонадежных лиц — демократов, философов, «вертопрахов», от которых следовало во что бы то ни стало оградить римского императора. Первыми в списке стояли имена Вольтера и Франклина.
Узнав об опрометчивом решении молодого монарха встретиться с бунтовщиком, старик Мерси пришел в ужас. Он тотчас же написал обо всем Марии-Терезии и посоветовал ей, чтобы она сама уговорила сына отказаться от его намерения. Нарочный Мерси поскакал в Вену, другой нарочный помчался из Вены в Париж, и ранним утром того дня, когда должна была состояться встреча с Франклином, Иосиф получил письмо от матери. Оно было написано по-немецки, собственноручно Марией-Терезией. Мать прислала ему теплое, трогательное письмо. Ей понятно, писала она, его желание воочию увидеть таких злодеев, как безбожник Вольтер или бунтовщик Франклин, но она просит его подумать об его ответственности перед историей. Письмо было не очень длинное и со следами слез.
Глаза Иосифа медленно скользили по буквам, выведенным детским, корявым почерком. Он выработал в себе привычку, читая письма, обращать внимание на их язык, орфографию, стиль. Но сегодня такие мелочи от него ускользнули. Все его мысли и чувства были сосредоточены на смысле этих строгих немецких, полных сознания долга и полных материнской заботы слов.
Римский император восстал против вечной опеки. Он принял решение встретиться с доктором Франклином. На то у него были свои причины. Разве не обязан правитель знакомиться со всякого рода людьми и узнавать различные мнения из первоисточника? Опасения матери неосновательны. Ведь он вовсе не присоединяется к любым взглядам. Но даже если отбросить все эти «за» и «против», разве весь свет уже не прослышал, что он собирается встретиться с Франклином, разве отказ от собственного решения не будет оценен как недостойный правителя поступок и не повредит его престижу?
Иосиф еще раз прочитал письмо. Он уехал из Вены, оставив множество нерешенных проблем. Например, этот вечный вопрос о богемских протестантах, или школьная реформа, или баварское наследство, или русско-турецкие отношения. Если он хочет добиться от матери уступок хотя бы в одном из этих вопросов, он не смеет ее раздражать. Что важнее — австрийская школьная реформа или встреча со старым доктором? Он вздохнул. Из-за этого письма Марии-Терезии личное желание графа Фалькенштейна повидать доктора Франклина превращалось в государственную проблему Габсбургской монархии.
Мрачный и недовольный, он обратился за советом к графу Мерси. Старая императрица, сказал он послу, к сожалению, опасается, что его разговор с Франклином может получить превратное толкование. Поэтому в принципе он решил пожертвовать своей любознательностью в угоду политическим соображениям матери. С другой стороны, ему не хочется быть невежливым в отношении доктора Франклина. Что посоветует ему Мерси? Мерси облегченно вздохнул и подсказал выход из положения. Никто не посетует на Иосифа, если какие-либо непредвиденные обстоятельства, — а за ними дело не станет, — помешают ему явиться к аббату Никколи в назначенный час. Пусть он поэтому не отменяет своего визита, но заставит аббата Никколи немного подождать. Скажем, два, три, четыре часа. Надежные агенты графа Мерси своевременно известят Иосифа, когда можно будет посетить аббата, не рискуя вызвать недовольство престарелой императрицы.
Вот почему, появившись у аббата в двадцать минут первого, Иосиф, к великому своему сожалению, не застал там доктора Франклина.
Следуя модному английскому обычаю, принцесса Роган пригласила гостей на чай. У нее должны были собраться самые видные члены Сиреневой лиги. Обещал прийти и Иосиф.
Много раз Иосиф отзывался о друзьях Туанетты очень неодобрительно. «Ну и зверинец у тебя», — заявлял он сестре, называя небрежно-рассеянную Габриэль неряхой, а «tous ces messieurs»[33] вертопрахами; вертопрахами в Вене именовали пустых, сомнительных, склонных к авантюризму людей. Даже дамам Иосиф говорил в лицо колкости.
Чтобы предотвратить или хотя бы смягчить бестактные выходки брата, Туанетта отправилась к принцессе Роган очень рано. Она застала там только Франсуа Водрейля и Диану Полиньяк.
За последние недели у Франсуа и Туанетты было несколько резких объяснений. Пребывание Иосифа в Париже раздражало и нервировало высокомерного Водрейля. Он считал Францию не только самой могущественной, но и самой цивилизованной страной в мире, и его задевало поведение этого Габсбурга, который кое-что, правда, снисходительно одобрял, однако всем своим видом показывал, что презирает эту несерьезную, погибшую страну, ее столицу, ее двор. В сознании Водрейля брат и сестра слились в одно целое. В Иосифе было много той наивной заносчивости, которая так часто и глубоко возмущала Франсуа в Туанетте. Хотя Туанетта никогда не говорила с ним об этом, он хорошо знал причину ее гордости. Она с детства была убеждена в богоизбранности монарха, для нее король был олицетворением страны, и свое презрительное сострадание к этому болвану и импотенту Луи она, естественно, распространяла на всю Францию. Внучка Цезарей, римских императоров, она презирала страну, королевой которой была. Обнаружив такую же врожденную спесь в Иосифе, дерзкий, избалованный, спесивый Водрейль с особым злорадством думал о том, как он овладеет Туанеттой, как растопчет ее и унизит.
Еще большее смятение вызвала у Франсуа цель, с которой приехал Иосиф. Водрейлю было досадно, что король Франции нуждается в помощи Габсбурга, чтобы лишить девственности свою жену.
Оставаясь с Туанеттой наедине, этот деспотичный человек наносил ей такие оскорбления, на которые до сих пор никто, даже он сам, еще не отваживался. Теперь они всячески старались побольнее кольнуть друг друга.
Сейчас, перед приходом Иосифа, Водрейль был с ней церемонно вежлив, а это злило ее больше всякой насмешки.
— Что с вами, Водрейль? — спросила она. — Почему вы ведете себя, как посол на первой аудиенции?
— Я озабочен, — отвечал Водрейль, — упреком графа Фалькенштейна. Его величество утверждает, что наша вежливость — только лоск, за которым скрываются грубость и распущенность. Вот я и хочу как можно убедительнее подтвердить его мнение.
Между тем уже почти все гости собрались.
— Будем надеяться, — сказал Водрейль, — что граф Фалькенштейн прибудет к нам с меньшим опозданием, чем к аббату Никколи.
— Зачем ему заставлять ждать нас? — отвечала Диана Полиньяк.
Туанетта насторожилась. Узнав, что намеченная встреча брата с мятежником Франклином не состоялась, она не придала этому никакого значения. Но теперь, по улыбкам друзей, Туанетта поняла, что они считают его опоздание намеренным, а его поведение трусливым. Только сейчас она с изумлением заметила, что Габриэль и Диана украсили свои высокие прически статуэтками Франклина. Так как Луи и Туанетта игнорировали вождя мятежников, придворное общество, вопреки моде, относилось до сих пор к доктору Франклину с большой сдержанностью. Однако обе дамы Полиньяк всегда пользовались известной привилегией: они позволяли себе любые политические замечания, особенно Габриэль, которая с самым естественным и небрежным видом постоянно подчеркивала свою независимость. Поэтому вообще никто не удивился бы, если бы дамам Полиньяк вздумалось вдруг продемонстрировать свою симпатию к Франклину; в прическах было принято носить всякие украшения и безделушки, намекавшие на злободневные события. Но то, что обе дамы воткнули себе в волосы статуэтки Франклина именно сегодня, еще более встревожило Туанетту, и без того озадаченную последним намеком Франсуа. Ее бы нисколько не удивило, что господа и дамы из Сиреневой лиги ищут случая, чтобы отплатить Иосифу за его тевтонскую грубость. Боясь, что история с американцем скомпрометировала брата, Туанетта в беспокойстве гадала, что же замышляют ее друзья.
Графа Жюля, отнюдь не блиставшего проворством и находчивостью, они явно не посвятили в свой план.
— Не находите ли вы, мадам, — бестактно обратился он к Туанетте, — что мои дамы слишком уж либеральны? — Граф указал на статуэтки Франклина. — Погодите, — сказал он, — эти фантазии доведут нас еще до того, что в один прекрасный день ваш Франклин подожжет Версаль.
Обычно граф Жюль ограничивался тем, что молча сидел за карточным столом и демонстрировал дамам свое красивое, пустое и жестокое лицо; его политических замечаний никогда не принимали всерьез.
— Ах, наш славный Жюль, — только и возразила Диана, и на ее некрасивом, умном лице появилась сострадательная улыбка. Габриэль же лениво, но решительно заявила:
— Я мало что знаю об Америке, но доктор Франклин, по-моему, восхитителен. Я видела его у мадам де Морена и у мадам де Жанлис и оба раза была от него просто в восторге. Слушая его комплименты, чувствуешь свою значительность. Не представляю себе, чтобы затея американцев могла быть совершенно безнравственной.
Замешательство Туанетты росло. До сих пор она как-то не выбрала времени задуматься над американским конфликтом. Мерси и Вермон советовали ей не высказываться о мятежниках в сочувственном тоне. Она так и поступала, это ей ничего не стоило. Но, может быть, следовало проявить больше интереса к этому американцу? Неужели он действительно вошел в моду? С удивлением и смущением увидела она, как горячо вступаются за него ее друзья.
«Les amants arrivent», — закричал попугай, прерывая раздумья Туанетты.
— Граф Фалькенштейн, — возвестил дворецкий.
Пришел Иосиф.
В тонких, новомодных чашках был подан чай, и гости стали обмениваться мнениями об этом непривычном лакомстве. Они долго говорили о странном пристрастии англичан к чаю, упоминали о пошлинах и монополиях, удивлялись, что этот незамысловатый пресный напиток, в сущности, и вызвал бунт американских колоний.
Притворяясь неосведомленным, принц Карл спросил Иосифа, какое впечатление произвел на него прославленный апостол свободы в очках и шубе. С напускной веселостью Иосиф ответил, что неистовый старик настолько нетерпелив, что не дождался его прихода. Гости не преминули выразить удивление: доктор славился своей кротостью и спокойствием.
— Не попытаетесь ли вы вторично встретиться с ним, сир? — с невинным видом спросила Габриэль Полиньяк.
— Во-первых, мадам, пожалуйста, не называйте меня «сир», а во-вторых, я не испытываю такого желания, — ответил Иосиф и, саркастически усмехаясь, прибавил: — В конце концов мистер Франклин не вправе требовать, чтобы я за ним бегал. — Своим тоном Иосиф показывал, что разговор окончен.
Но Габриэль мягко и спокойно сказала:
— Мне кажется, граф Фалькенштейн, что вы не разделяете нашего восхищения этим мудрым старцем.
— Неужели вы ждали от меня иного, мадам? — сухо ответил Иосиф. — В конце концов я роялист по профессии.
Теперь, чрезвычайно вежливо, в разговор вмешался маркиз де Водрейль.
— Неужели, граф Фалькенштейн, вы в самом деле находите, что доктор Франклин проявил неистовое нетерпение, уйдя от аббата после некоторого ожидания? Он дорожит своим достоинством. Он представляет страну, презирающую наши сложные церемонии, но тем не менее пекущуюся о своем достоинстве.
Подняв брови, Иосиф взглянул на Водрейля. Уж не собирается ли тот его поучать? Водрейль выдержал взгляд Иосифа с прекрасно разыгранным спокойствием.
— Мне хорошо известно, — запальчиво, резко и самоуверенно сказал Иосиф, — что парижане очень балуют доктора Франклина. Но, обладает ли он личным достоинством или нет, идеи, которые он представляет, вздорны и недостойны. Поэтому я сожалею, — его синие глаза с наставнической строгостью остановились на прическах обеих дам Полиньяк, — что некритическое и восторженное отношение к этому человеку распространилось в кругу королевы. При всей своей либеральности я бы не впустил Вениамина Франклина к себе в Вену и, уж во всяком случае, не потерпел бы, чтобы люди, принадлежащие к моему двору, безрассудно расточали ему похвалы.
Иосиф уже не раз третировал членов Сиреневой лиги, но никогда еще он не был с ними так груб. Наступила неприятная тишина. Ее нарушил отрывистый голос хозяйки дома, принцессы Роган:
— Когда здесь появился Франклин, я пыталась вызвать Оливера Кромвеля.[34] Но он не явился.
Никто не обратил на нее внимания. Туанетта, смущенная резкостью брата, чуть покраснела, Габриэль слегка улыбалась насмешливой, рассеянной улыбкой, Диана гладила одну из собачек принцессы Роган, принц Карл, сделав надменную гримасу, тщетно старался придумать какую-нибудь наглую шутку. Все напряженно ждали, проглотит ли Водрейль обидные слова римского императора или у него хватит дерзости на ответный удар.
У него хватило дерзости. Он был доволен, что Габсбург говорил с ним так высокомерно и раздраженно; на это Водрейль и рассчитывал. Смелое, мужественное лицо маркиза, готовившегося отплатить чванному австрийцу, дышало чувством собственного превосходства.
— Видите ли, граф Фалькенштейн, — сказал он, — у вас в Вене живется просто. Ваши конфликты вполне определенны и легко обозримы. У нас же в Версале все настолько усложнено, изощрено и утончено нашей многовековой цивилизацией, что мы стремимся уже только к чистой природе. В этом старом, почтенном Вениамине Франклине мы видим воплощение тех естественных начал, которые грезились нашим философам. Вы, наверно, слышали и о нашем Жан-Жаке Руссо. Воплощая в себе все естественное, этот старый, простой человек волнует нас, трогает и приводит в бурный восторг.
Он замолчал в ожидании ответа. Иосиф, однако, ничего не возразил. Чувствуя себя неловко и глупо, Туанетта принялась тараторить.
— Природа! — воскликнула она с напускной веселостью. — В моем Трианоне будет столько природы, что у вас пропадет вкус к вашему Франклину. — Она засмеялась.
Но только она. Остальные по-прежнему глядели на Иосифа и Водрейля. И так как Иосиф все еще молчал, Водрейль продолжал:
— Может быть, вы и правы, граф Фалькенштейн. Может быть, мы поступаемся своими непосредственными интересами — интересами короля и своими собственными, — безгранично сочувствуя Франклину и стремясь по мере сил поддержать его и его мятежников. Но, может быть, в нашем поведении больше мудрости, чем в простой брани по адресу бунтовщиков и в гонениях на них. Бессильные против духа времени, мы помогаем духу времени. Мы рубим сук, на котором сидим, потому что знаем: ему суждено упасть.
В отличие от римского императора, маркиз де Водрейль говорил без тени поучения, эти слова он сказал Иосифу легко, покоряюще смело, и члены Сиреневой лиги радовались, что Водрейлю удалось так изящно выразить то, что все они смутно чувствовали. Но в то же время у них захватило дух от такой дерзости. Что ответит Иосиф? Что мог он ответить?
Иосиф был полон бессильной ярости. Он, римский император, апостолическое величество, в своем благородном самоограничении провозглашал и осуществлял идеи вольности; множество людей восхваляли его слова и дела как самые смелые деяния человеческой истории. И вот выскакивает какой-то несчастный придворный, жалкая креатура его безмозглой сестры, отчитывает его при всех и гордо объясняет, почему он, ветреный французишка, верит в доктора Франклина и отважно рубит сук, на котором сидит. А другие глазеют и слушают. Франклин у них на языке, Франклин у них в прическах, они смеются над римским императором, не осмелившимся взглянуть в глаза мятежнику. Что ж, поделом. Надо было вовремя прийти к аббату Никколи, не уклоняться от встречи, не трусить. В разговоре, который имел бы историческое значение, он, просвещенный монарх, должен был объясниться с анархистом с дикого Запада и показать, что такое настоящая доблесть и настоящая ответственность.
Но нельзя дольше так стоять и молчать. Он поборол свою ярость, взял себя в руки.
— Таких настроений, господин маркиз, — сказал он сухо, — я не потерпел бы при своем дворе.
— В этом я никогда не сомневался, сир, — любезно улыбаясь, ответил Водрейль.
Но любезность эта была такова, что Иосиф сразу потерял самообладание.
— Если вы, мосье, — сказал он резко, — хотите этими словами противопоставить ваш «истинный») либерализм моему «показному», значит, вы никогда меня не понимали. Либерализм не означает мягкотелости и покорности судьбе. Либерализм означает действенность, деятельность. Подлинно свободный дух стремится не к бунту и не к анархии, а к порядку и престижу, основанным на разуме.
— Короче говоря, к просвещенному деспотизму, — сухо и насмешливо заключила Диана.
— Да, мадам, к просвещенному деспотизму, — резко ответил император.
Все с той же покоряющей любезностью Водрейль сказал:
— Сами того не подозревая, сир, своим просвещенным деспотизмом вы рубите упомянутый сук точно так же, как и мы сами. Вы тоже отказываетесь от своих прав, вы тоже уступаете духу времени. Только вы это делаете с гневной серьезностью, а мы превращаем свое несчастье в забаву.
— Вы циничны, несерьезны, легкомысленны. Вам чужды понятия чести и долга, — гневно выпалил Иосиф. Он повысил голос; собачки беспокойно залаяли, а попугай расшумелся. Перекрикивая их, Иосиф закончил: — Вы гораздо более опасный мятежник, чем Франклин, мосье.
Туанетта была убеждена, что правители поставлены богом на благо смертным. Если увлечение Франклином могло еще сойти за невинный, светский каприз, вроде духовидения принцессы Роган, за каприз, который завтра сменится другим, то последние слова Франсуа показались ей чистейшим вздором и бредом. Скорее погибнет мир, чем погибнет монархия. Тем не менее она была глубоко удовлетворена тем, что нашелся человек, осмелившийся противоречить ее великому, всеведущему брату. С почти чувственным наслаждением наблюдала она, как беспомощен, при всей своей правоте, Иосиф перед смелостью и изяществом ее Франсуа. Наконец-то этого вечного наставника самого отчитали.
Но все-таки пора уже прекратить этот спор; Туанетте хотелось вмешаться, сказать что-нибудь приятное, умиротворяющее.
Однако ее опередила принцесса Роган.
— Довольно, месье, — воскликнула та. — Мы же не в клубе мадам Неккер. Здесь пьют чай и говорят о разумных вещах.
Все рассмеялись, и спор прекратился.
Туанетта пригласила Иосифа на ужин в интимном кругу. Прийти должны были только ближайшие родственники, оба брата Луи со своими женами.
Компания собралась очень молодая. Луи было двадцать три года, его брату Ксавье, графу Прованскому, — двадцать два, брату Карлу, графу Артуа, — двадцать. Из женщин самой старшей была Туанетта, которой исполнился двадцать один год. В этом обществе тридцатишестилетний Иосиф чувствовал себя стариком.
Луи считал своим долгом поддерживать теснейшую связь между членами семьи. В Версале он отвел своим братьям лучшие апартаменты, и они часто бывали вместе. Трио, однако, получалось на редкость нестройное. Отношение Луи к Ксавье было столь же двойственным, как и к Карлу. В отличие от Карла, Ксавье не проматывал огромных денег и вообще давал гораздо меньше поводов к общественному недовольству. Но уже с детства он не мог примириться с мыслью, что королем суждено быть глупому Луи, а не ему, Ксавье, схватывающему все на лету и умеющему держаться с монаршим достоинством. Правда, затем, на злобную радость Ксавье, выяснилось, что Луи не способен к продолжению рода. Когда Луи пришел к власти, он, Ксавье, стал престолонаследником, ему присвоили титул «Мосье» и оказывали почести как наследному принцу. Но ему предстояло ждать, и ждать, по-видимому, долго, и пока он убивал время, сочиняя ядовитые эпиграммы на Луи. Все это Луи знал, но это не мешало ему поддерживать с Ксавье братские отношения. При посторонних он даже защищал Ксавье всем своим королевским авторитетом. Однажды, когда появились особенно ехидные куплеты о «королеве-девственнице», шеф полиции Ленуар представил Луи убедительные доказательства, что автор этих куплетов — принц Ксавье. Луи сухо ответил: «Вы ошибаетесь, мосье». Наедине же братья часто обменивались замечаниями, на вид шутливыми, но на самом деле полными желчи; иногда они сами не знали, ссорятся они или дружески беседуют. Однажды, когда принц Ксавье играл в любительском спектакле Тартюфа, Луи многозначительно похвалил его: «Отлично, Ксавье. Эта роль подходит вам более всякой другой».
Принц Карл, менее коварный, чем Ксавье, высмеивал Луи в лицо. Отец уже двоих детей, он всячески выказывал свое презрение старшему брату — импотенту. К Туанетте у него было мальчишески-товарищеское отношение, и только; но чтобы взбесить Луи, он распространил в Париже слух, будто заменяет красивой невестке своего неуклюжего брата в постели.
С приездом Иосифа отношения братьев обострились. Карл отпускал циничные шутки. Принц Ксавье, рисковавший остаться с носом, кипел от злости и сочинял ядовитые куплеты.
Вот какие узы связывали трех молодых людей, сидевших сегодня вместе с Иосифом за интимной, семейной трапезой.
Говорили о прогулках Иосифа по Парижу.
— Известно ли вам, Луи, — спросил Иосиф зятя, — что вам принадлежит красивейшее здание в Европе?
— А именно? — полюбопытствовал Луи.
— Отель-дез-Инвалид, — ответил Иосиф.
— Да, — вежливо согласился Луи, — все говорят мне, что это красивое здание.
— Как? — изумленно воскликнул Иосиф. — Неужели вы ни разу его не видели?
— Не предлагал ли я вам недавно, Туанетта, — сказал добродушно Луи, — оказать любезность Сен-Жермену и осмотреть его Отель-дез-Инвалид? Он так им гордится.
Туанетта рассердилась. Снова она виновата в каких-то упущениях. Вечно этот Сен-Жермен. Ее друзья давно уже пристают к ней, чтобы она прогнала этого старого болвана. Он многим из них досадил. Она вспомнила, какое удовольствие доставило всем падение Тюрго. Нет, достаточно ей кололи глаза этим Сен-Жерменом. Продолжая болтать и отдавая должное жигО, она твердо решила избавиться от этого старика.
Иосиф рассказывал о своих исследовательских путешествиях по Парижу и по Версалю. Он не ленился; дворец он осмотрел вплоть до подвалов и кладовых.
— Мощный у тебя сундук, Тони, — сказал он Туанетте по-немецки.
— Да, — отвечала Туанетта, — и притом ужасно неуютный.
Луи спросил:
— Что значит «сундук»?
— Сундук, — ответил Иосиф, — значит Версаль. Но вот что я вам скажу, зять. В вашем Версале куча чудесных вещей, на которые почти не обращают внимания. В кладовых и чуланах я натыкался на прекрасные полотна, покрытые пылью, сваленные у стен. Нужно бы побывать там, разобраться, навести порядок.
— Да, — без энтузиазма отозвался Луи, — со времен Людовика Великого[35] там скопилось много всякой всячины. Между прочим, есть и безнравственные картины. Я как-то уже приказал Морепа кое-что убрать.
— Наш Луи никогда не питал особой слабости к картинам, — обычным своим дерзким тоном заметил принц Карл. Он оживился и, обращаясь к обоим братьям, сказал: — Помните, как в детстве нам велели описать картину, изображавшую пруд с лебедями? Луи великолепно ее описал; только, к сожалению, он не заметил, что это тот самый пруд, мимо которого мы проходили чуть ли не каждый день.
Луи добродушно рассмеялся.
— Дело было не совсем так, — сказал он, продолжая спокойно есть. Ел он очень много, с удовольствием, то и дело наполняя свою тарелку. Остальные уже покончили с едой, слуги готовились убрать тарелки. Все смотрели, как ест Луи — ест один, в свое удовольствие, самозабвенно, неизящно.
— Луи, — окликнула его наконец Туанетта.
— Да, моя дорогая, в чем дело? — ответил Луи.
Поглядев по сторонам, он дал знак убрать свою тарелку и вытер руки. Затем откинулся на спинку кресла.
— А помните, — спросил он тоном, в котором удовлетворение странно сочеталось со злостью, — как однажды на уроке географии герцог Вогюйонский растянулся на паркете? Он тогда как раз проходил с нами реки Иберийского полуострова. Я-то знал, в чем дело: вы ничего не выучили. За то, что он полетел, наказали нас всех. Луи сделал небольшую паузу. — Ты подставил ему ножку, Карл, — закончил он.
— Да нет, — сказал Карл с озорной улыбкой. — Он просто поскользнулся, старый балбес.
— Ты подставил ему ножку, — повторил Луи, — но мы на тебя не наябедничали.
И вдруг на Луи нахлынули бесчисленные воспоминания детства. Он был тогда еще более неуклюж, чем теперь. Часто он отлично знал, что следует сделать или сказать, но из-за чрезмерной робости не делал этого и не говорил. Ксавье и Карл учились хуже, чем он, но они были живые и бойкие дети, их считали способными, а его — неспособным, и все — а Карл и Ксавье в первую очередь — над ним потешались. Однажды — он тогда еще носил титул «герцога Беррийского»[36] — они втроем были у тетки Аделаиды.[37] Оба брата затеяли шумную возню, а он с беспомощным видом стоял в углу. «Не стой же так, Берри, скажи что-нибудь, Берри, пошевелись, пошуми», — говорила ему тетка, и в тоне ее было столько сострадания и столько презрения, что никогда он этого не забудет. А потом, когда умер его отец, умер внезапно, страшной, таинственной смертью, — сразу все изменилось. Когда он проходил по коридорам, часовые отдавали честь и кричали: «Да здравствует дофин!» Он застенчиво озирался, словно приветственный возглас относился не к нему, а к кому-то другому, хотя знал, что приветствуют его. И у него сжималось сердце от горького и сладостного сознания, что отец, которого он любил и боялся, умер и что теперь он, Луи, главный. С тех пор как он пришел к власти, оба брата, толстый и стройный, возненавидели его еще более. Ксавье, по крайней мере, ограничивается тайным распространением куплетов. Но зато этот наглый, блудливый мот Карл, который каждые две недели вымогает у него деньги, кричит на всех углах, что он, Карл, украсил его рогами.
— Говорю тебе, Карл, — повторил он зло, почти угрожающе, — это ты подставил ножку Вогюйону.
— Перестань, — вмешался Ксавье.
— Хватит болтать вздор, — повелительным тоном ответил Карл.
— Я говорю только, как было дело, — настаивал на своем Луи. — Может быть, ты станешь это отрицать? — сказал он и, неожиданно вскочив, схватил Карла за запястья.
Карл, смеясь, хоть был и зол не на шутку, стал защищаться. Однако ему не удавалось вырваться из нескладных, но сильных рук Луи.
— Оставь же его в покое, — требовал Ксавье. Но Луи еще крепче сжал руки.
— Месье, месье, — урезонивал их Иосиф. Жены обоих принцев тихонько визжали.
Луи наконец отпустил брата.
— Сила у меня есть, — сказал он с глуповатой, смущенной улыбкой, обращаясь скорее к самому себе, чем к окружающим. Затем он сел на свое место и снова принялся за еду.
Чтобы доказать себе и парижанам, что от встречи с Франклином он уклонился вовсе не из предубеждения, Иосиф старался общаться с людьми, неугодными Версалю. Он проводил много времени в беседах с опальным Тюрго и показывался чаще, чем прежде, в «швейцарском домике» — салоне мадам Неккер. Он даже не поленился съездить в Лювисьен, чтобы навестить самую ненавистную Туанетте женщину, графиню Дюбарри, «шлюху», «мразь». Еще при жизни старого короля Дюбарри, воздействовав через него на Марию-Терезию, заставила Туанетту заговорить с ней. Такого оскорбления Туанетта не могла ей простить и сразу после прихода Луи к власти добилась, чтобы эту ослепительно красивую двадцативосьмилетнюю женщину сослали в глухой Лювисьен. Туда и поехал к ней Иосиф. Возлюбленная старого короля показала ему свой знаменитый парк с прекрасными аллеями и беседками, а он сопровождал ее к столу; вернувшись в Париж, Иосиф расточал похвалы красоте и грации опальной фаворитки.
Иосиф посетил еще одну непопулярную в Версале особу, образ жизни которой вызывал толки в Париже, — писательницу мадам де Жанлис. Она была придворной дамой герцогини Шартрской, любовницей герцога Шартрского, воспитательницей и матерью детей этой четы, а также автором детских книжек прогрессивного содержания.
В салоне мадам де Жанлис не придавали особого значения этикету. Трижды в неделю, запросто, собирались у нее друзья. Иосиф, не желавший отличаться от прочих, явился без предупреждения и застал там писателя Карона де Бомарше.
Пьер не раз высмеивал Иосифа. Римскому императору, говорил он, живется легко. Ведь он всего-навсего флейта монархии, кулак же монархии — старая императрица. Она деспотически управляет, а молодой человек заботится о либеральном аккомпанементе.
От Пьера нельзя было требовать объективного отношения к Габсбургам. Несколько лет назад, когда Туанетта была еще дофиной, Пьер примчался в Вену, чтобы передать императрице Марии-Терезии пасквиль, направленный против ее дочери. Пьер с жаром рассказывал венскому двору, с каким трудом, ценою каких опасностей и приключений добыт этот пасквиль у его автора. Вот он, пасквиль. Пьер прочитал его королеве и вызвался заставить автора замолчать. Но, конечно, сочинителю нужны деньги. Однако тут в дело вмешалась завистливая венская полиция. Она утверждала, что опасности и приключения, о которых говорил мосье Карой, представляют собой плод фантазии, что раны, якобы полученные мосье в борьбе за рукопись, нанесены им собственноручно бритвой и что если мосье прочел пасквиль с таким чувством, то в этом нет ничего удивительного, поскольку он сам его написал. Императрица приказала арестовать Пьера. Потом, однако, одумалась и решила обойтись с ним кротко. Она снабдила его изрядной суммой денег и прислала ему дорогое кольцо. Это кольцо он носил и теперь и при случае любил небрежно заметить: «Сувенир от императрицы Марии-Терезии».
И все-таки, как только заходила речь о Габсбургах, он вспоминал об оскорблении, которое ему нанесли в Вене. По воле случая он пока еще не встречался с императором Иосифом. Но зато мысленно он не раз рисовал себе, как унизит габсбургского краснобая блестящей речью. Теперь Иосиф был в Париже, и Пьер ждал своего часа.
Смутно помня о тех венских проделках мосье де Бомарше, Иосиф не решался заговорить с этим сомнительным господином. Однако он читал его брошюры, а совсем недавно смотрел в «Театр Франсе» его комедию «Севильский цирюльник» и невольно восхищался этими произведениями. Кроме того, он слыхал, что мосье де Бомарше слывет главным заступником американских инсургентов во Франции, а ему, Иосифу, не хотелось, чтобы его опять заподозрили в боязни общения с такого рода людьми.
Он сказал мосье де Бомарше несколько любезных слов о «Цирюльнике». И самоуверенный Пьер стал еще самоувереннее. В присутствии коронованного лица в нем пробудилась вся его буржуазная гордость, он заговорил с Иосифом, как равный с равным, как интеллигент, труды которого оценены и признаны, с интеллигентом, которому предстоит еще себя показать. Он с дерзким изяществом упомянул об услуге, которую по милости судьбы ему довелось оказать престарелой императрице, и подробнейше рассказал о злосчастном пасквиле; некоторые места, благодаря хорошей памяти, он привел императору дословно, беспристрастно заметив, что в части формы автор обнаружил незаурядное остроумие. Он весьма тонко дал понять Иосифу, что в свое время околпачил его августейшую матушку.
Иосиф слушал его сдержанно. После неудавшейся встречи с Франклином и разговора с Водрейлем он стал осторожен. Со свойственной ему подчас объективностью он в глубине души признавал, что в пасквиле, который цитировал мосье де Бомарше, есть крупица правды; он сам заметил в сестре некоторые черты, высмеянные в этом сочинении.
Наслаждаясь ситуацией, Пьер, ободренный сдержанностью Иосифа, пошел еще дальше. Он заметил, что у парижан есть одна слабость: ради красного словца они готовы бездоказательно опорочить кого угодно. Ему случалось испытать это и на себе. Дама же, находящаяся в центре светской жизни, например, королева, неизбежно становится мишенью для злых шуток. Шутки эти различны: есть среди них грубые и глупые, но есть и тонкие, — эти особенно коварны. Взять, к примеру, высокую прическу, которая с легкой руки королевы, великой законодательницы мод, была принята во всей Европе и которую королева, пользуясь выражением одной из его брошюр, что для него крайне лестно, назвала «Ques-а-со?».[38] Клеветники утверждают, что эта прическа очень идет к высокому лбу и длинному лицу королевы, но уродует округлые, более близкие к классическому типу, лица парижских дам. Злые языки говорят, что австриячка ввела эту прическу только из ревности, только из неприязни ко всему французскому, только из желания обезобразить парижанок. Пьер всячески сожалел о склонности света к злословию.
Иосифа злила дерзость его собеседника. Не следовало вступать с ним в разговор. За последнее время он наделал много ошибок. Сначала сплоховал перед Франклином, а теперь этот Бомарше. В американских делах ему решительно не везет. Он чувствовал себя беспомощным, слепым, ему казалось, что какая-то невидимая рука толкает его на опасный путь. Он честно стремился к правильным, полезным, значительным поступкам, он чувствовал, что в этом его призвание, и вот он не справляется с самыми легкими, самыми простыми вещами.
И вдруг он очень непосредственно высказал свои чувства этому Бомарше.
— Видите ли, мосье, — сказал он, — легко иметь совесть, когда об этой совести приходится только писать или говорить. Но тот, кто действует, всегда вынужден, угождая одному, не угождать другому.
Слова Иосифа прозвучали не как остроумная фраза, а как крик души; Пьер это почувствовал и не нашелся, что ответить.
Прошла еще неделя; Иосиф достаточно подготовился к тому, чтобы приступить к решительному разговору с зятем и добиться его согласия на операцию.
Оба сидели в библиотеке Луи, окруженные книгами, глобусами и фарфоровыми поэтами. Граф Фалькенштейн, одетый очень тщательно в буржуазное платье, держался подчеркнуто прямо; Луи же сидел, опустив круглые плечи, по обыкновению неряшливый, грязноватый. Он как раз слесарничал с Гаменом, когда нагрянул Иосиф и насильно вовлек его в эту тягостную беседу.
Иосиф умел, если считал это уместным, быть очень сердечным. Сегодня он считал это уместным. Он говорил тоном старшего брата. Он уже консультировался с венским специалистом доктором Ингенхусом и с лейб-медиком Туанетты доктором Лассоном. С научной точностью доказывал он Луи, что операция совершенно безопасна и гарантирует полный успех.
Луи любил слушать людей сведущих; ученая деловитость Иосифа ему импонировала. Узнав о намерении шурина посетить Версаль, он сразу понял, что больше не сможет сопротивляться, что уступит настояниям Иосифа. С другой стороны, все его существо бунтовало против такого вмешательства. Ему не хотелось ничего изменять: quieta non movere — не шевелить пребывающее в покое — это было его глубочайшим убеждением. Он сидел грузный, мрачный, глубоко недовольный, замкнутый. Не глядя на собеседника, он беспомощно ерзал, теребил рукава.
Когда Иосиф кончил, Луи долго молчал. Иосиф не торопил его. Наконец Луи собрался с духом, начал говорить, привел старые доводы, высказанные уже премьер-министру Морена. Хотя Луи очень доверял старику, он испытывал робость и смущение, беседуя с ним об этих интимнейших, деликатнейших вещах. Другое дело Иосиф, государь милостью божией, как и он сам; Иосиф поймет эти тонкие и священные движения души, Иосифа можно не стесняться. Медленно и откровенно он изложил все свои опасения, и речь его превратилась из пустой отговорки в самую конфиденциальную исповедь.
Тело короля священно. Если бог сотворил Луи таким, каков он есть, и наделил его физическим недостатком, значит, в этом был высший смысл. Не согрешит ли человек, прибегший к вмешательству ножа, против воли божьей? Может быть, бог обрек его на безбрачие, ведь требует же он воздержания от своих священников.
Иосиф прекрасно понимал, как искренне, как честно говорил Луи. Не так легко опровергнуть аргументы, идущие от самого сердца. Но Иосиф был достаточно подготовлен. Хитрец Мерен выпытал все у Морепа, и окольным путем, через Мерси, Иосиф узнал о характере опасений Луи. Иосифу ничего не стоило рассеять его сомнения.
Сама по себе подобная богословская казуистика была глубоко противна трезвому вольнодумцу Иосифу. Император ненавидел поповщину, и если бы на месте зятя был кто-нибудь другой, Иосиф жестоко высмеял бы того за суеверные страхи. Но сейчас он собирался сделать дипломатический ход. Посоветовавшись по богословским вопросам с аббатом Вермоном, он решил разбить смехотворные, иезуитские доводы зятя такими же смехотворными, иезуитскими контрдоводами. И если только что Иосиф обнаружил удивительные познания в области медицины, то теперь он показал себя не менее сведущим и в вопросах теологии.
Обрезание, объяснил он Луи, ни в коем случае — насколько он, Иосиф, знает — нельзя рассматривать как богопротивный акт. Мало того что бог повелел соблюдать этот обряд своему избранному народу, собственный сын божий был обрезан, что явствует из Евангелия от Луки, глава 2, стих 21, и крайняя плоть его доселе хранится в одном итальянском монастыре. Правда, он лично, прибавил Иосиф гневно, считает эту реликвию подделкой, поповским надувательством, и придет время, когда он запретит выставлять ее напоказ. Но он тут же смягчился и самым дружеским тоном сказал:
— Согласитесь на операцию, Луи. Только так вам удастся выполнить библейскую заповедь — «плодитеся и размножайтеся». Конечно, — продолжал он лукаво, — если бы вы предпринимали эту операцию из сластолюбия, если бы вы уродились в своего покойного деда, то ваши опасения, может быть, и были бы справедливы. Но вы, сир, человек спокойный, умеренный, нисколько не похожий на молодого жеребчика, — и вы можете быть уверены, что и после операции сумеете успешно преодолевать искушения плоти. — Он улыбнулся.
Но Луи было не до улыбок. Он представил себе, как после удачной операции встретится с Туанеттой. Что он ей скажет? Как ему вообще вести себя с ней? При одной мысли об этом он почувствовал сковывающую робость. Он пыхтел и уныло молчал.
Иосиф поднялся, и Луи тоже пришлось встать. Рассеяв теологические опасения зятя, Иосиф приготовился выдвинуть главный аргумент — политический. Он знал, что на этот раз политика найдет отклик в душе Луи: от него не ускользнуло двойственное отношение короля к его братьям. Иосиф обнял зятя за плечи и, с некоторым усилием водя его по комнате, стал говорить о последствиях, которые повлекла бы за собой смерть бездетного Луи. Корона перешла бы к принцу Ксавье. Он, Иосиф, не может скрыть, что этот принц ему не очень понравился, и, если он не ошибается, Луи тоже не жаждет видеть Ксавье на троне. Он, Иосиф, убежден, что на семейном пакте, на политических и родственных связях между правителями Франции, Австрии и Испании, держится не только благоденствие этих стран, но и благополучие всего мира. Может быть, Луи относится к этому союзу с меньшим энтузиазмом, чем он сам, но представить себе политику трех стран вне этого альянса уже невозможно. Если же на трон сядет принц Ксавье, семейный союз распадется, коалиция трех католических держав окажется под угрозой, а последствия этого не поддаются учету. Во имя безопасности всего мира ему следует довериться доктору Лассону и согласиться на небольшую операцию.
— Поборите себя, — мягко сказал Иосиф и протянул Луи руку. — Дайте мне возможность сообщить моей, — нет, нашей — матери, что Туанетта наконец обрела то счастье, которого мы ей желали.
Глядя на протянутую руку императора, Луи почувствовал себя виноватым и не нашел в себе сил для дальнейшего сопротивления.
— Хорошо, — сказал он покорно, вяло вложив свою неуклюжую, грязноватую руку в сильную, узкую руку Иосифа.
— Итак, — тотчас же подвел итог разговора Иосиф, — вы твердо и недвусмысленно обещаете мне проделать операцию в течение ближайших двух недель. — Он задержал руку Луи в своей.
— Да, мосье, — неуверенно сказал Луи, освобождая руку. — Но лучше, — прибавил он быстро, — не торопиться. Я выполню свое обещание в течение, скажем, шести недель.
У Иосифа были добрые намерения, он честно стремился быть благодетелем для своих ближних и образцовым правителем для своих народов. Но он убедился, что люди, которых он хотел осчастливить, как правило, тупы и строптивы; это больные, вышибающие склянку с лекарством из рук врача. Не удивительно, что он делался все более желчным и неуступчивым и что лучше всего чувствовал себя в роли нетерпимого, крутого наставника.
Слишком долго прикидывался он перед Луи славным, любящим старшим братом, и ему стало невмоготу. Ничего, в разговоре с Туанеттой он отведет душу; он втолкует ей, что она, собственно, не заслуживает тех усилий, которых он не пожалел ради нее.
Прежде чем сообщить о благоприятном результате своей беседы с Луи, он в самых язвительных выражениях перечислил ей все, что ему не нравилось в ее образе жизни. Перечень получился длинный. Например, ее бесстыдная манера являться в маске на публичные балы и заводить не подобающие королеве, часто весьма фривольные разговоры с совершенно посторонними людьми. Ее туалеты, вызывающие насмешки и недовольство всей Европы. Ее мотовство, приводящее в отчаяние министров. И ее азартная игра, обозлившая всю Францию.
— Я боюсь того часа, — сказал он, — когда мне придется держать ответ перед нашей матерью.
Туанетта хорошо знала, как резок Иосиф. Но что он так обрушится на нее, она не ожидала. Ее взорвало.
— Теперь вы довольны, — сказала она, и ее прекрасное лицо стало еще злее и высокомернее, чем лицо брата. — Наконец-то вы задали мне перцу. Вы отлично изображаете великого, прославленного монарха, отчитывающего младшую сестру, которая позорит его своим легкомыслием. Но, может быть, вы сами совсем не так безупречны, как воображаете. Мне, например, приходится слышать всякое. Вы издеваетесь над нашими порядками. Вы потешаетесь над нашей армией и нашим флотом. Вы думаете, это способствует популярности Габсбургов во Франции? Вы думаете, матери будет приятно услышать о безобразных препирательствах, вызванных вашей безудержной придирчивостью? Вы говорите, что я даю повод к насмешкам и критике. А вы сами? Кто показал недавно пример непостоянства и нерешительности, вы или я?
Иосиф смущенно молчал, и она торжествующе кончила:
— Кто протрубил на весь мир, что встретится с американцем, а потом скис и благоразумно остался дома?
Сам Иосиф не смог бы сказать, какое чувство сейчас в нем преобладало — ярость или изумление. Он приехал и добился от этого ублюдка Луи обещания лечь к ней в постель и сделать ей наконец дофина, который так нужен и ей и Австрии. И вместо благодарности она становится на дыбы и бунтует. Бунтует против него, против апостолического величества, против старшего брата. А кто во всем виноват? Ее окружение, ее друзья, в первую очередь этот наглец и сутенер Водрейль. От сознания, что Туанетта права, что в известном смысле прав и Водрейль, Иосифу было вдвойне досадно. Ему легко говорить, этому господину. Он может себе позволить курить фимиам американскому инсургенту и совать своего идола в волосы своим шлюхам. До этого никому нет дела. Но если он, римский император, станет похлопывать по плечу мятежников, это изменит облик всего мира. Он несет большую ответственность. Он не вправе ради каких-то далеких задач забывать о ближайших — о школьной реформе, о богемских протестантах.
— Ну и гусыня же ты, — сказал он презрительно. — Ты говоришь о вещах, в которых ничего не смыслишь. Ты просто повторяешь то, что тебе напевают твои милые друзья. Ты убеждена в их правоте. Слепа ты, что ли? Разве ты не видишь, какая это безответственная, циничная банда, твоя Сиреневая лига? Они ведь только и думают, как бы тебя использовать. Ты же только кость для собак. Кость, на которой, кстати, немало мяса и жира, — сказал он и с издевательской точностью перечислил все подачки, брошенные ею Полиньякам, их друзьям и родственникам. Граф Жюль получил место ее первого гофмаршала, в его распоряжение отданы почтовое министерство и таможенная палата, на его имя записано поместье Фенестранж, приносящее ежегодно шестьдесят тысяч ливров дохода, а сверх всего этого ему выдано четыреста тысяч ливров на оплату неотложных долгов. Отец графа Жюля назначен на пост посла в Швейцарии. Герцогу Гюишу, двоюродному брату Полиньяков, поручен верховный надзор за лейб-гвардией. Другой двоюродный брат — гофмаршал принца Карла. Третий двоюродный брат — первый инспектор по делам благотворительности в ее собственной свите. Перечню не было конца. Семья Полиньяк извлекала из королевской казны более, чем полмиллиона годового дохода только за то, что ублажала своим обществом Туанетту. Но это еще не все. Недавно Туанетта выжала из бедного Луи еще шестьдесят тысяч годового дохода для этого фата, прожужжавшего ей уши дурацкой болтовней о докторе Франклине, для своего Водрейля.
Как только он назвал Водрейля, Туанетта вспыхнула.
— Теперь мне ясно, — воскликнула она, — почему ты меня так обругал. Ты не можешь ему простить, что предстал перед ним в неприглядном свете. Нечего было трусить, надо было съездить к американцу. Тогда бы тебе не пришлось нападать на меня и клеветать на людей, которые, конечно, порядочнее всех твоих льстецов и подхалимов. Франсуа Водрейль — самый умный и самый остроумный человек в Париже. Литераторы и философы, которых ты навещал, из кожи вон лезут, чтобы он обратил на них внимание. Я горжусь тем, что этот человек — мои друг. Если он станет моим интендантом, у меня будет наконец настоящий театр. Но, к сожалению, до этого дело не дошло. Он не дал еще окончательного согласия. Его не интересуют деньги, которые мне предложил для него Луи. Ты без конца твердишь мне, что я должна заниматься литературой и изящными искусствами. А когда я это делаю, ты все переиначиваешь и гнусно клевещешь на меня. Фи! Ты совсем не такой, каким помнился мне.
Иосифа обескуражила эта вспышка. Хуже всего, что она, кажется, верит в тот вздор, который мелет.
— Я не отказываю мосье Водрейлю в остроумии, — уступил он. — Но это остроумие — личина, за которой скрывается пустой, лишенный убеждений развратник. Ты любишь пари. Так вот, давай поспорим, что он в конце концов соблаговолит принять шестьдесят тысяч ливров. Но ты же ослеплена. Тебе ничем не поможешь. С тобой говорить, что со стеной. Дело ведь не в одном Водрейле. Ты окружена сбродом. Салон твоей приятельницы Роган — это самый настоящий игорный дом и бордель. Ни мама, ни я никогда не считали тебя слишком умной. Но ты все-таки должна понять, что эрцгерцогиня Австрийская и королева Французская не смеет вести себя, как венская прачка, дорвавшаяся до хорошей жизни.
— Хорошая жизнь, — сказала Туанетта насмешливо. — Хорошая жизнь, — повторила она с досадой. И вдруг вся ее гордость исчезла, и на глазах показались слезы, которые она давно сдерживала. — Зачем вы меня сюда прислали? — с горечью спросила она. — Кто я здесь такая? Зачем я здесь? Все меня ненавидят. Все, что я ни сделаю, плохо. Зачем вы дали мне такого мужа? Не муж, а чурбан бесчувственный, — прибавила она со злостью и с презрением. — Я так тебя ждала, — призналась она. — Вот наконец-то, думала я, приедет человек, с которым можно поговорить. Я думала, ты мне поможешь. А теперь еще и ты пинаешь меня.
Иосиф по-своему любил сестру. Он понимал, почему она так себя ведет. Она приехала сюда пятнадцатилетней девочкой, ее окружили лестью и враждой, ее баловали, за нею злобно подглядывали; к тому же ее ошеломило бессилие Луи. Она, естественно, пыталась забыться и очертя голову предавалась дурацким развлечениям.
Он взял ее руку.
— Тони, — сказал он с необычайной теплотой, — я приехал сюда не ругать тебя, а помочь тебе. И, кажется, я тебе помог.
Она подняла глаза, и ее продолговатое, прекрасное, белое лицо покрылось легким румянцем.
— Ты говорил с Луи? — спросила она.
— Да, — отвечал он. — Все будет хорошо, можешь мне поверить. Самое большее — через шесть недель, — прибавил он, усмехаясь.
Румянец на ее лице стал гуще, глаза потемнели, она учащенно дышала полуоткрытым ртом. В душе ее, вытесняя друг друга, поднимались противоречивые чувства. Итак, теперь к ней придет Луи, он ляжет в ее постель, прижмется к ней. Она вспомнила, как однажды во время «леве» ей пришлось полуголой сидеть на кровати и ждать рубашки; по обычаю, в спальню одна за другой входили дамы, все более и более высокого ранга; они церемонно передавали рубашку из рук в руки, а она, королева, должна была ждать, дрожа от холода и стыда. Нечто подобное почувствовала она и сейчас, представив себе, как Луи ляжет в ее постель. Ей было стыдно. Но одновременно у нее появилось и гордое чувство: женщина, которой суждено быть королевой Франции, должна пройти через это. И еще сильнее, чем стыд и гордость, было в ней сейчас щекочущее любопытство, желание по-ребячески прыснуть со смеху. В следующую долю секунды в ее воображении на месте Луи возникли всякие другие мужчины — и господа из Сиреневой лиги, и незнакомцы, которые заговаривали с ней на балах, брали ее за руку, склоняли голову к ее лицу. Она представила себе этих мужчин, потом Габриэль, потом снова Луи, ложащегося в ее постель, а потом все слилось и перемешалось. Но эта сумятица вылилась в огромную, всепоглощающую радость ожидания. Когда все будет позади, когда она родит ребенка, тогда прекратятся пересуды, умолкнут сплетни, торговки придержат грязные языки, а пасквилянты — перья, а она — она станет настоящей королевой. Королева будет поступать, как ей заблагорассудится. Королева будет жить в свое удовольствие. Наконец-то, близко и зримо, перед ней открывается жизнь, настоящая жизнь. У нее будет все, что только есть на земле. Она молода, она будет королевой, она будет прекрасна, она будет женщиной, которую любят многие, бесконечно многие, и которая может выбирать, кого ей любить.
Она медленно подошла к Иосифу с серьезным, просветленным лицом.
— Почему ты не сказал мне этого сразу? — спросила она, положив руки ему на плечи. — Зачем мы с тобой ссорились? — Она обняла его, поцеловала. — Зепп, — сказала она — так называла она его в детстве — и повторила: — Зепп. — И голосом, полным счастья, прибавила: — Когда мне совсем уж плохо, ты мне всегда поможешь.
Иосиф похлопал ее по затылку и полушутя-полусерьезно сказал:
— Да, Тони, остальное зависит от тебя.
— Теперь можешь меня еще немного поругать, если это доставит тебе удовольствие, — сказала она.
Ему было немного жаль омрачать ее счастье, продолжая серьезный разговор. Но необходимо воспользоваться ее кротким настроением и втолковать ей, в чем состоит ее миссия. При всей своей мягкости и уступчивости Луи хитер. Правда, он никогда не отказывает наотрез, но от прямого ответа уклоняется, и чтобы преодолеть его глухое, упрямое, мягкое сопротивление, требуется немало энергии и труда. Он, Иосиф, за недостатком времени не добился от Луи некоторых важных для Габсбургов политических обещаний. Это придется взять на себя Туанетте. Подобные дела будут у нее и впредь. Они потребуют значительной части ее времени. Но в конце концов для этого ее сюда и прислали. И если он, Иосиф, извел целый месяц на то, чтобы заставить молодого толстяка сделать ей наследника, то уж ей придется поступаться некоторыми ее дурацкими удовольствиями и находить время приспособлять политику своего Луи к политике Габсбургов.
Он сел очень прямо; он всегда принимал такую позу перед длинным монологом.
— Послушайте, Туанетта, — начал он, снова перейдя на французский, — мне нужно поговорить с вами об очень серьезных вещах. Становясь подлинной королевой Франции, вы берете на себя большую, я бы даже сказал, огромную ответственность. Вы являетесь важнейшим залогом союза между Габсбургами и Бурбонами, а от действенности этой коалиции зависит благополучие Европы. Король окружен советниками, настроенными недоброжелательно к Австрии. Ваша задача, мадам, обезвредить такого рода влияния.
— Зачем вы мне это объясняете? — возразила Туанетта, немного обиженная. — Разве я до сих пор поступала иначе?
— Я признаю, — сказал Иосиф поучающим, но дружелюбным тоном, — что вы по мере сил следовали советам, которые от нашего имени давали вам Мерси и Вермон. Но этого мало. Вы должны сами разбираться в происходящем, сами понимать, что к чему. Вы должны читать, должны беседовать с серьезными людьми, даже если они не столь приятны на вид, как ваши друзья. Вы должны вникать в советы, которые мы будем посылать вам через Мерси и через аббата. Король и его министры, наверно, будут вам иногда возражать, что наши требования отвечают скорее интересам Вены, чем интересам Франции. В иных случаях они будут, пожалуй, правы. Но ни при каких обстоятельствах вы не должны этого признавать, у вас всегда должны быть наготове аргументы, опровергающие возражения Луи и его советников. Вы должны всегда помнить, Туанетта, что благополучие мира зависит в первую очередь от Габсбургов и лишь во вторую — от Бурбонов.
— Конечно, — отвечала Туанетта с видом прилежной и внимательной ученицы, хотя половину слов брата пропустила мимо ушей; она все еще была полна новыми, отталкивающими и пленительными образами.
— Я бы хотел, Туанетта, — продолжал Иосиф, — чтобы вы следовали нашим советам не механически, а со страстью и внутренним убеждением.
— А я так и делаю, — оживилась Туанетта. — Во мне еще больше габсбургского, чем в вас. Поглядите на мою губу и на нос.
— Что за ребячество, — ответил нетерпеливо Иосиф и начал наконец тот монолог, для которого приосанился. Он попытался объяснить ей трудности русско-турецкой проблемы и перспективы, открывающиеся перед Габсбургами в случае кончины баварского курфюрста. Туанетта слушала с самым благонравным видом. Но Иосиф видел, что все это ее нисколько не трогает. Он попробовал заинтересовать ее по-другому. Разве политика менее увлекательная и возбуждающая игра, чем «фараон» в салоне Роган? Неужели она откажется от такой игры?
— Конечно, нет, — горячо возразила Туанетта. — Я всегда слежу за тем, чтобы все важные должности занимали мои друзья.
Иосиф поглядел на нее: увы, она отвечала совершенно серьезно, говорить с ней бесполезно, и он умолк.
Но Туанетта не отпускала его. Он столько рассказывал ей о своих делах, о Баварии и о России, теперь она расскажет ему о своих — о Трианоне. Только с ним она и может поговорить по душам. Она показала ему макет, наконец-то готовый; на макете все было необычайно красиво. Туанетта стала с увлечением излагать Иосифу свой замысел. Без ее указания не посадят ни одного куста, не вобьют ни одного гвоздя. Иосиф убедился, что она хорошо знает, чего хочет, что каждая мелочь подчинена у нее единому плану и вполне соответствует ее вкусу, а вкус у нее превосходный. Он не мог не сокрушаться в душе, видя, с каким увлечением отдается она делу, сколько таланта в него вкладывает. Жаль, что сердце ее принадлежит не Австрии и не Франции, а Трианону.
А она в это время мечтала о том, что здесь, в Трианоне, будет ее настоящее королевство, что здесь она станет полновластной, не связанной никаким церемониалом хозяйкой. Здесь будет задавать тон она одна, вместо ливреи с гербом короля слуги наденут здесь ее ливрею — красную с серебром; на пригласительных билетах она велит писать «от королевы», а если ей вздумается устроить в Трианоне спектакль, то на представление она пригласит только тех, чье общество ей приятно.
Она была очаровательна, когда с таким жаром говорила о своих планах: женщина и дитя. Она нравилась Иосифу, и ее Трианон ему нравился. Но он думал о неприятностях, которые готовит ей этот Трианон. Те, кого она туда не допустит, начнут пакостить, Туанетта наживет себе новых врагов. А бедный Луи со своим мосье Неккером будут долго ломать себе голову, как заплатить за эту дорогостоящую простоту.
Вечером того же дня Иосиф писал своему брату Леопольду в Феррару: «Сестра наша Тони необыкновенно красива и очаровательна, но думает она только о своих удовольствиях. Она заразилась расточительностью этого испорченного двора. В ней нет ни капли любви к бедному Луи и ни малейшего представления об обязанностях супруги и королевы. Ее друзья — это шайка жадных до денег и титулов прохвостов и охочих до нарядов потаскух, и они поощряют ее бешеную жажду удовольствий. Я изо всех сил старался вдолбить несколько благоразумных мыслей в ее пустую, красивую головку, но, кажется, мне это не удалось. Боюсь, что, если так пойдет дальше, нашу сестру ждет ужасное пробуждение».
Два дня спустя, к великому облегчению Луи, к радости и огорчению Туанетты, Иосиф уехал. Последний вечер он провел с Луи и Туанеттой в Версале.
Они сидели за ужином. Луи чувствовал себя смущенным, он много ел, старался как-то поддержать компанию, «Пошуми, Берри!» — говорил по-немецки и оглушительно смеялся над своими ошибками. Сразу же после ужина он поднялся. Заикаясь, краснея, он поблагодарил Иосифа за его советы. Тот небрежно ответил: «Надеюсь, все будет хорошо».
Потом Иосиф остался наедине с Туанеттой. Брат и сестра, обычно словоохотливые, были сегодня молчаливы; в этот последний перед разлукой час они говорили только по-немецки. В мягком свете свечей комната Туанетты, убранная с роскошной простотой, казалась веселой и уютной, а Иосиф и Туанетта были озабочены и печальны.
Неожиданно нежно погладив руку сестры и на мгновение сбросив с себя обычную показную бодрость и целеустремленность, Иосиф сказал:
— Нам приходится нелегко, Тони. Тебе тоже нелегко. Но все-таки мы своего добьемся. — Он обнял ее крепко, от души; поцеловал в лоб, в щеки. Она заплакала. Затем, с непривычно развязным: «Честь имею, Тони», — он удалился. Она чувствовала себя очень несчастной, оттого что снова осталась совершенно одна.
В этот час расставания Иосиф не докучал ей ни сентенциями, ни резкими насмешками, он поборол свою страсть к поучениям. Зато на следующее утро посол граф Мерси имел честь от имени римского императора вручить Туанетте тетрадь. На обложке рукою Иосифа был написан заголовок: «Руководство для моей сестры, принцессы Лотарингской, эрцгерцогини Австрийской, королевы Франции». Тетрадь содержала различные правила и предписания и открывалась призывом к Туанетте пользоваться этими советами как можно чаще.
Туанетта была тронута заботой брата. Она вспомнила, как они были близки друг другу вчера, и сразу же принялась за чтение. Но тетрадь была очень толстая. Она пробежала несколько первых страниц, потом несколько последних, потом снова вернулась к началу, стараясь читать внимательно. Но, помимо ее воли, мысли ее то и дело перескакивали на новые шарфы и шляпы, о которых говорила Бертен. Кроме того, она думала о предстоявших скачках, о том, что теперь ни за что не поставит на ту же лошадь, что и принц Карл. Еще она думала о большой, торжественной мессе, на которой завтра должна присутствовать. Думала и о том, что после операции Луи ей можно будет вести себя иначе с изящным и дерзким Водрейлем.
Глаза ее все еще скользили по старательно выведенным строчкам «Руководства». Но смысл их до нее уже не доходил. Она посмотрела, много ли ей осталось читать. Еще тридцать две страницы. А страницы длинные. Она зевнула. Прочитала еще одну страницу. Затем захлопнула тетрадь и заперла ее в ящик.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ «СОЮЗ»
1. Долгое ожидание
Франклин праздно сидел в своем саду в Пасси, на скамейке, под высоким буком. Была ранняя весна, и молодая листва пропускала еще много света. Франклин радовался солнцу, блики которого падали на его лысоватую голову и старые руки.
Дом и парк составляли одно целое с милым его сердцу пейзажем. Весь старый, просторный, уютный Отель-Валантинуа, и особенно флигель, где жил Франклин, утопал в зелени; люди говорили, что он живет в саду, и называли его «старик в саду» — «le vieux dans le jardin».
Франклин сидел, наклонившись, он снял очки в железной оправе и почесывал свою лысину; струпья понемногу заживали. И вообще здоровье его улучшилось с тех нор, как он разрешил себе отдых после напряженной парижской жизни. Может быть, даже слишком роскошный отдых. Он подробно обсуждал с мосье Жаком Финком, своим новым дворецким, меню каждой трапезы. Меню эти были обильны и едва ли шли на пользу его здоровью. Да и карману тоже. Но одиннадцати тысяч и нескольких сот ливров, которые он получал от Конгресса, все равно ни на что не хватало.
Большое лицо доктора было сейчас спокойно. Он с удовольствием глядел на прекрасный парк, спускавшийся террасами к Сене, на реку, на серебристо-серый Париж на том берегу. Он взял за правило не менее двух раз в день спускаться и подниматься по ступеням террас. Вчера и позавчера он дал себе поблажку. Нельзя быть таким ленивым.
Мимо проходил мосье де Шомон. Он вежливо поздоровался и замедлил шаг, ожидая, что Франклин заговорит с ним. Мосье де Шомон не упускал случая выразить радость по поводу того, что приютил Франклина, он был очень любезен, и его гость был ему весьма обязан. Но доктору не хотелось нарушать своего приятного одиночества, и, ответив на приветствие мосье де Шомона, он не вступил с ним в разговор и дал ему удалиться.
Здесь он нашел покой, блаженный, благословенный покой. Мало кто отваживался тревожить его в Пасси, а главный нарушитель спокойствия, Артур Ли, все еще был в Испании.
К сожалению, другой его сотрудник, Сайлас Дин, тоже никак не хотел понять, что договора о союзе с Францией можно добиться только окольными путями, а не лобовой атакой, и что в данном случае избыток энергии приносит больше вреда, чем пользы. Он, Франклин, настроился на долгое ожидание. В одной из беседок он соорудил небольшой печатный станок, примитивный, но удобный в работе, и забавлялся, набирая брошюры и всякую мелочь своими большими старыми руками. Вильям помогал ему, обнаруживая при этом немалую ловкость; да, в печатании Франклины знали толк, все, даже маленький Вениамин Бейч.
Ему просто повезло с Пасси. И люди вокруг «сада» попались славные, с ними легко было ужиться. С доктором Леруа, академиком, и доктором Кабанисом[39] у него множество общих интересов, аббаты Мореле[40] и де ла Рош образованны и остроумны, а небольшая, приятная прогулка с мэром Пасси мосье Дюссо всегда приносит ему кучу полезнейших сведений.
Собственно говоря, ему действительно пора погулять и хотя бы разок пройтись по террасам. Но под буком тепло и уютно, да и кто знает, будет ли такое же чудесное солнце завтра. Чтобы наверстать упущенное, он решает в первый же день, когда вода немного согреется, поплавать в Сене; он отличный пловец. Франклин ухмыльнулся, представив себе, как невзначай расскажет мадам Гельвеций и мадам Брийон, что два раза подряд переплыл Сену.
Он немного лицемерил с самим собой, когда, мысленно перечисляя приятных соседей, отметил и аббатов, и доктора Кабаниса, но не мадам Гельвеций, в доме которой жили эти господа. Вероятно, он чувствовал бы себя в своем саду далеко не так хорошо, если бы в непосредственной близости от него не находились мадам Гельвеций и мадам Брийон. Он всегда находил удовольствие в обществе женщин, но настоящий вкус к ним у него появился, пожалуй, только теперь, на восьмом десятке. Понадобилось много времени, чтобы сделаться мудрым, но, именно став мудрым, он не мог представить себе большого человека, которому чувственность была бы чужда.
Нет, он еще не постарел и не одряхлел. Ему еще доставляет радость многообразие жизни, ему доставляют радость наука, женщины, успех, природа, плаванье, свобода, добродетель, ему доставляют радость несхожесть людей, их достоинства и их слабости, ему доставляют радость и одиночество и беседа.
На дорожке показался Вильям. Он пришел по приказанию деда напомнить ему, что пора идти работать. Мальчик был очень красив; крепкий и стройный, шагал он между деревьями, покрытыми нежной листвой.
Они вернулись в дом. Сели за работу. Почта, как это часто бывало, принесла несколько неприятностей.
Важнейшим было письмо мосье де Вержена. Речь шла, конечно, о деле капитана Конингхэма. Капитан Конингхэм был человеком того же склада, что и «морской волк» Лемберт Уикс, только гораздо большего размаха. Он захватил почтовое судно с ценным грузом у самого Хариджа. Смелая или, как говорили англичане, наглая выходка капитана крайне возмутила лондонское правительство. Этим делом занялся сам король Георг. Вержен обещал возместить Англии понесенный ею ущерб и наказать виновного. Конингхэма арестовали, но вскоре, по ходатайству Франклина, отпустили. Теперь отважный капитан стал командиром нового корабля с четырнадцатью тяжелыми и двадцатью двумя легкими орудиями. Но хотя Конингхэм торжественно уверял, что отправится в торговый рейс, французские власти не разрешали ему выйти в море, и Франклину пришлось обращаться в Версаль с новыми ходатайствами.
И вот перед ним лежал ответ, письмо Вержена американским делегатам, полное досады и серьезнейших упреков. Министр еще раз перечислил все случаи, когда американские корабли, занимавшиеся каперством, заходили с добычей во французские гавани, провоцируя тем самым конфликт между правительством Версаля и Лондоном. Министр еще раз подчеркивал, что король твердо намерен добросовестно и педантично выполнять обязательства, налагаемые на него договорами с Англией. «Вы достаточно опытные политики, господа, — писал Вержен, — и достаточно мудры, чтобы понять, что такое поведение ваших капитанов угрожает чести моего короля и что, мирясь с подобным поведением, мы нарушаем нейтралитет. Смею ожидать, господа, что вы и сами осудите поведение ваших капитанов, ибо оно противно чувству признательности и уважения к нации, оказывающей гостеприимство вашим судам. Ваш капитан Конингхэм получит разрешение на выход из нашей гавани только при условии, что он незамедлительно отправится в Америку и никогда более не станет искать убежища в наших портах, совершив какие-либо враждебные действия против английских судов. Я вынужден, господа, просить вас представить мне достаточные гарантии. Обращая ваше внимание на то, что письмо это написано по категорическому приказанию короля, настоятельно рекомендую вам ознакомить с позицией правительства его величества не только капитана Конингхэма, но и всех других моряков, которых касается данный вопрос, дабы впредь ваши корабли не причиняли подобных неприятностей ни вам, ни нам».
Франклин вздохнул; на месте Вержена он, наверно, написал бы то же самое. Он стал сочинять ответ. В красивых, строгих оборотах он выразил свое сожаление по поводу случившегося и заверил министра, что даст капитану Конингхэму необходимые указания, кроме того, он напишет в желательном смысле и в Филадельфию и не сомневается, что в кратчайший срок Конгрессом будут приняты необходимые меры.
Между тем Франклин отлично знал, что капитану и людям, которые за ним стоят, фирме «Вильям Ходж», банкирскому дому «Гран, Морель и сын», плевать на его указания, что капитаны будут по-прежнему заниматься морским разбоем, банкиры — ухмыляясь, загребать денежки, англичане — писать протесты, филадельфийцы — посмеиваться над проделками каперов, а расхлебывать все это придется ему, Франклину.
Он велел Вильяму пока не отправлять письма; письмо было важное, он хотел сначала показать его Сайласу Дину и сделать своему коллеге серьезное внушение, хотя прекрасно сознавал тщетность своих увещеваний.
Он продолжал рыться в почте. Снова пришло много писем от желавших получить рекомендации в Филадельфию. Возможно, что одним из мотивов, двигавших этими людьми, была любовь к свободе, но, несомненно, среди волонтеров оказалось немало самых настоящих авантюристов и проходимцев. Часто просьбы о рекомендации исходили от людей, о которых Франклин ни разу в жизни не слышал. Сначала Франклин отвечал каждому корреспонденту особо. Потом это ему надоело.
— Сейчас я продиктую тебе текст, — сказал он, — которым мы будем всегда пользоваться в подобных случаях. — И он продиктовал: «Податель настоящего письма отправляется в Америку и просит меня написать ему рекомендацию. Ничего, кроме его имени, я о нем не знаю. Поэтому, если вы желаете узнать характер и заслуги господина подателя, обратитесь к нему лично, ибо, вне всякого сомнения, они известны ему лучше, чем мне. Во всяком случае, прошу вас отнестись к нему с той доброжелательностью, какой вправе ждать любой иностранец, не пользующийся дурной славой. Пожалуйста, окажите ему все услуги и любезности, которых он окажется достоин при ближайшем знакомстве».
Составив это письмо, Франклин решил, что на сегодня неприятных обязанностей хватит; к тому же скоро должен был явиться Сайлас Дин. Он отпустил Вильяма и занялся более интересным делом — разбором бумаг, привезенных им из Америки. Это были рукописи, наброски, всякого рода заметки, письма от политиков, ученых, приятелей и приятельниц. Срочный отъезд из Филадельфии помешал ему ответить на некоторые письма и привести их в порядок. В эти подчас очень интимные дела Франклин не посвящал никого, даже Вильяма.
Сколько здесь накопилось всего, и какое все разное. Вот перед ним письмо, написанное его собственной рукой, он тогда не успел его отправить. Он точно вспомнил час, когда его написал, — он сделал это сразу же после того, как услыхал о битве у Банкер-Хилла. Тогда он не мог не излить всего, что у него накипело, своему другу и издателю Вильяму Страхену.
Большие глаза доктора скользили по строчкам, написанным быстрым, но четким почерком. В письме говорилось:
«Господин Страхен, вы член парламента, вы принадлежите к тому большинству, которое обрекло мою страну на уничтожение. Вы начали сжигать наши города и истреблять наших граждан. Поглядите на свои руки, они обагрены кровью ваших родных. Мы с вами долго были друзьями. Теперь вы мой враг, а я — ваш.
В. Франклин».Старик читал, и в глазах его снова вспыхивала злоба, владевшая им в тот день, когда писалось это письмо. Но сегодня над злостью преобладала спокойная, трезвая рассудительность. Сейчас он видел, как витиеват росчерк, которым он украсил тогда свою подпись. Сейчас он вспомнил, что сначала написал «ваши руки обагрены кровью родных», а уж потом вставил слово «ваших». Исправление получилось удачное: «обагрены кровью ваших родных», несомненно, звучит лучше. И вообще письмо вышло на славу, оно очень точно передало его холодную ярость, его презрение к человеку, который не умел предвидеть последствий своих поступков.
Он, Франклин, умеет предвидеть последствия своих поступков. Он был доволен, что не отправил тогда этого письма. Вильям Страхен хороший друг, — даже теперь, несмотря на войну, Вильям Страхен поддерживает с ним связь. А иметь друзей в Лондоне полезно. Хорошо, что тогда в Филадельфии он не поддался злорадному чувству и не отправил письма. Здесь, в Пасси, оно на месте. Слегка улыбаясь своим широким ртом, Франклин бережно положил письмо к бумагам, собранным в папке с надписью «Личное».
Он отделил письма, на которые предстояло ответить, от тех, к которым уже не предполагал возвратиться. Работу его прервал приход Сайласа Дина.
За последнее время этот толстый, представительный, жизнерадостный человек стал уже не таким жизнерадостным; его беспокоило странное поведение Конгресса, упорно не внимавшего ни его, ни Бомарше просьбам и не высылавшего денег. На мясистом лице Сайласа Дина появились морщинки, а расшитый цветами атласный жилет обтягивал его живот совсем не так туго, как прежде. Но он был все так же энергичен и, не успев войти, начал с жаром рассказывать, как весь Париж радуется подвигам капитана Конингхэма и какую великую помощь оказало делу американцев нападение на английское почтовое судно.
Вместо ответа Франклин протянул ему письмо Вержена. Сайлас Дин стал читать; читал он медленно: с французским языком дело у него все еще не шло на лад. Когда до него дошел смысл письма, он не пожелал принять его всерьез. Подобные поучения, заявил он, это всего-навсего дипломатические формальности; захват английского почтового судна радует Вержена, конечно, не меньше, чем его самого. Франклин пожал плечами. Он показал Сайласу Дину черновик своего ответа. Тот явно предпочел бы ответить министру в менее серьезном тоне, но, будучи человеком добродушным и благоговея перед доктором, не стал возражать. Капитан, разумеется, получит разрешение на отплытие, заметил он.
Франклин отвечал, что в этом он и сам не сомневается, но что Конингхэм доставит американским эмиссарам, по-видимому, еще немало неприятностей. Это вполне возможно, согласился Сайлас Дин; и все-таки гордость, которую внушают подвиги капитана, и их резонанс во всей Европе — достаточно щедрая компенсация за подобные неприятности. У англичан с каждым днем возрастает страховой фрахт, и английские купцы почти не рискуют пользоваться для своих перевозок английскими судами.
Терпеливый Франклин снова попытался разъяснить Дину, что такой небольшой выигрыш не может уравновесить огромного политического урона, который наносит Америке безудержный морской разбой. Дело идет сейчас не о двадцати или тридцати тысячах ливров, а о торговом договоре и союзе с Версалем. Дин, однако, почти обидевшись, отвечал, что если при теперешних финансовых затруднениях Конгресса удается получать двадцать — тридцать тысяч ливров еженедельно или даже каждые две недели, то такими деньгами нельзя бросаться.
— Дорогой и уважаемый доктор, — доказывал он, пуская в ход все свое красноречие коммерсанта, — подумайте только, как велики нужды Конгресса. Вспомните о списке, который нам прислали три недели назад.
Франклину не хотелось вспоминать об этом списке. Список был длинный, бесконечный. Население аграрной страны, естественно, нуждалось в промышленных товарах, и Конгресс желал получить из Франции не только орудия, ружья и мундиры, но и ножницы для стрижки овец, висячие замки, сапожные шила, швейные иглы, всевозможные лекарства, опиум, алоэ и спринцовки, конские скребницы и брезент, музыкальные ноты и литавры. Все требовалось в огромных количествах. Но, по мнению доктора, именно это и подтверждало, что никакие полумеры тут не помогут. При такой чудовищной бедности непременно нужно добиваться полного успеха — признания, торгового договора, союза.
Призвав на помощь всю свою логику, он постарался втолковать это своему коллеге. Дин, однако, с добродушным лукавством возразил:
— Позвольте, уважаемый доктор, опровергнуть Франклина Франклином. Не вы ли учили в «Бедном Ричарде», что яйцо сегодня лучше, чем наседка завтра?
Отказавшись от дальнейших пререканий, доктор заговорил о других неприятных и ненужных делах, навязанных ему Сайласом Дином. Вот, например, люди, которые, ссылаясь на Дина, требуют от него, Франклина, постов и должностей в Филадельфии. Послать этих людей в Америку — значит доставить хлопоты Конгрессу и горькое разочарование самим просителям.
Сайлас Дин задумчиво разглядывал свой красивый жилет. Он не разделял мнения своего великого друга и коллеги. Ему представляется, заявил он скромно, но решительно, что они с доктором совершат ошибку, если оттолкнут французских офицеров, готовых ради борьбы за свободу пожертвовать своим положением на родине и в армии. Такое деятельное участие в американских делах увеличит популярность Америки во всем мире.
— Разве отъезд Лафайета, — заключил он, — не был для нас огромным шагом вперед?
С Лафайетом же произошло следующее. Молодой маркиз Жозеф-Поль-Жильбер де Лафайет, которому Сайлас Дин выправил офицерский патент, повсюду кричал о своем намерении вступить в армию генерала Вашингтона. С самого начала американского конфликта англичане стояли на той точке зрения, что всякая деятельность французских офицеров в пользу мятежников будет рассматриваться как нарушение нейтралитета со стороны Версаля; обратив внимание Вержена на намерения мосье де Лафайета, англичане потребовали, чтобы министр принял должные меры. Влиятельный тесть молодого маркиза, герцог д'Эйан, несмотря на свою симпатию к американцам, тоже не одобрял авантюристических планов зятя. Герцог и Вержен добились приказа, категорически запрещавшего молодому человеку выезд из Франции. Эти препятствия только разожгли его пыл; Лафайет упрямо и во всеуслышание заявил, что своего добьется. Из-за этого шума вступление Лафайета в армию Вашингтона стало для Франклина и его коллег вопросом престижа; в салонах Парижа и Версаля с нетерпением ждали, осуществится ли замысел молодого офицера. Он осуществился. С помощью Бомарше Лафайет на собственные средства снарядил корабль и вышел в море из какого-то испанского порта.
Парижане восторженно приветствовали его отъезд, и Сайласу Дину нельзя было отказать в правоте, когда он назвал затею Лафайета полезной для Америки. Франклин тоже радовался отъезду молодого маркиза, но, к сожалению, эта радость вскоре была омрачена. Мало того, что Франклину пришлось успокаивать разгневанного герцога, подозревавшего американских эмиссаров в содействии его взбалмошному зятю, — выяснилось еще, что маркиз взял с собою кучу французских офицеров, завербованных Сайласом Дином, и Франклин с тревогой думал о том, какие физиономии скорчат американские военные, которых отдадут под начало этим заносчивым и в большинстве своем очень молодым людям. Однако перед Сайласом Дином Франклин не стал распространяться насчет теневых сторон дела Лафайета, а ограничился тем, что попросил коллегу ни в коем случае не раздавать больше офицерских патентов. Немного удивленный и обиженный, Сайлас Дин обещал выполнить эту просьбу.
Но зато он тоже решил обратиться с просьбой к Франклину. Какое бы предприятие они ни затевали, сказал он — будь то отправка необходимых Конгрессу товаров или отъезд Лафайета, — никогда, ни в большом деле, ни в малом, они не обходятся без помощи изобретательного мосье де Бомарше. Бомарше был и остается единственным, кто послал в Америку более или менее значительные партии оружия, и если бы не Бомарше, Лафайет ничего бы не добился. Однако у него, Сайласа Дина, сложилось впечатление, что Франклин не проявляет в отношении этого нужнейшего человека той любезности, которой тот заслуживает. Мосье де Бомарше почитает Франклина и глубоко огорчен, что столь редко имеет возможность докладывать ему о своей деятельности.
Сайлас Дин был прав, и в глубине души Франклин не мог этого не признать. Не говорил ли он сам своему внуку Вильяму, что обошелся с этим мосье Кароном не очень-то любезно и не очень-то вежливо? Не рассказывал ли он внуку, да и себе самому, историю о бороне? Пусть этот человек ему неприятен, нужно пересилить себя и видеться с ним почаще.
— Покамест я здесь не совсем устроился, — сказал он, — и принимаю только близких друзей — вас и еще кое-кого. Но в скором времени я с радостью стану беседовать с вашим изобретательным мосье де Бомарше. У него есть идеи, это не подлежит сомнению, он деловой человек, он débrouillard, как здесь говорят, ловкач. Я не хочу недооценивать его услуг. Пожалуйста, передайте ему это со всей сердечностью, на какую только способен ваш французский язык.
Он на минуту задумался.
— Если не ошибаюсь, — сказал он затем, — в начале июля исполнится год, как Конгресс провозгласил независимость. Я думаю созвать по этому случаю наших друзей и, уж конечно, не обойду вашего ловкача.
Сайлас Дин находил, что до июля, пожалуй, еще далеко; но, обрадованный даже таким обещанием, он от души поблагодарил доктора и удалился.
В тот же день, позднее, к удовольствию Франклина, его навестил доктор Дюбур. За последние месяцы Франклин очень привязался к этому почтенному, словоохотливому, образованному, любезному, педантичному человеку. По просьбе Франклина Дюбур помогал ему отшлифовывать письма и заметки на французском языке; он являлся всегда с сотнями больших и маленьких, иногда довольно любопытных сплетен и новостей и оказывал Франклину множество разнообразных услуг. Кроме того, Франклин был признателен Дюбуру за то, что благодаря ему поселился в «саду», в Пасси. Спокойного, уравновешенного американца забавляла горячность его французского друга, который в пылу спора часто говорил лишнее и искренне удивлялся, если такая несдержанность обижала собеседника.
Доктор Дюбур с гордостью сообщил, что через две недели издатель Руо начнет продавать четвертое издание франклиновского «Bonhomme Richard». У него, Дюбура, на днях была долгая дискуссия но поводу его перевода с бароном Гриммом[41] из «Энциклопедии» — долгая и, надо сказать, весьма бурная. Новоиспеченному барону не правится, что переводчик злоупотребляет оборотом «говорит бедный Ричард». Между тем этот оборот встречается на протяжении восемнадцати страниц всего только восемьдесят четыре раза. Он, Дюбур, дал понять критикану, что не дело переводчика исправлять автора. Такие значительные произведения, как франклиновское, нужно переводить со смирением, благоговением и точностью, а эти качества, по-видимому, совершенно чужды господину барону.
Франклин задумался. По зрелом размышлении, сказал он затем, он вынужден признать, что барон Гримм прав. По-видимому, часто повторяющийся оборот «говорит бедный Ричард» и в самом деле звучит по-французски тяжелее, чем по-английски, так как французскому языку свойственны особая живость и блеск.
Доктор Дюбур недоумевающе посмотрел на своего Друга.
— Неужели вы меня предадите? — возмутился он. — Неужели вы согласитесь с этим выскочкой?
— Может быть, — предложил Франклин, — в виде опыта стоит кое-где выбросить этот оборот.
Дюбур расплылся в лукавой улыбке.
— Значит, я заручился вашим согласием, дорогой друг, — обрадовался он. — Чтобы избежать нападок барона Гримма в печати, я в новом издании вычеркнул этот оборот в двадцати шести местах, так что он встречается теперь только пятьдесят восемь раз. Я не из тех упрямцев, которые не отступаются от предвзятого мнения. Готовя перевод к новому изданию, я вообще его переработал и, как мне кажется, улучшил.
Взяв рукопись, он прочитал Франклину свои исправления. Тот нашел, что разница незначительна, вернее, он ее попросту не уловил. Однако Дюбур, сопя и сморкаясь, силился объяснить ему, что от отделки его произведение выиграло, и, в угоду другу, Франклин в конце концов с ним согласился.
Затем Франклин долго размышлял вслух о трудностях и опасностях, подчас подстерегающих страстных переводчиков. Он рассказал о том, сколько пота и крови стоил великолепный английский перевод Библии. Он рассказал о переводчике Вильяме Тиндале, который передал множество мест, например, двадцать третий псалом, прекрасным народным языком, но все-таки был сожжен за то, что ради логики и здравого смысла отступал от не всегда логичного подлинника.
— Да, — закончил он задумчиво, — переводчикам иногда приходится рисковать.
Поглядев на него с сомнением, Дюбур заговорил о другом — о капитане Конингхэме и его подвигах. По-видимому, такую ассоциацию вызвало у Дюбура слово «рисковать». Он по-мальчишески, пожалуй, еще больше, чем Сайлас Дин, восхищался проделками флибустьеров. С наивно-заговорщическим видом рассказывал он об ухищрениях, благодаря которым капитаны-пираты захватывают и сбывают добычу чуть ли не на глазах у английских и науськиваемых ими французских властей. Например, получив приказ покинуть французскую гавань в течение двадцати четырех часов, капитан заявляет, что при всем желании не в силах его выполнить, так как, по свидетельству специалистов, в такой срок невозможно залатать пробоину. Или, например, по сигналу пиратов французские купцы выходят в море и принимают у них товар. Бывает и так, что за одну ночь меняются окраска и внешний вид судна — «Кларендон» и «Гановер Плантер» превращаются в «Гэнкок» и «Бостон». При всей внешней строгости версальского правительства можно вполне рассчитывать на его негласную помощь. Когда Стормонт указал Вержену на сотрудничество американцев и французов при реализации добычи, — Дюбур узнал это из надежного источника, — граф только возвел глаза к небу и, сокрушенно качая головой, посетовал на корыстолюбие частных предпринимателей.
Между прочим, продолжал Дюбур, у него есть просьба к своему великому другу. К несчастью, капитан Джеймс Литтл по ошибке вошел вместо французской гавани в испанскую, и теперь его интернировали испанские власти. Он, Дюбур, лично заинтересован в этом деле, потому что вложил немного денег в предприятие капитана Литтла. Не может ли Франклин похлопотать в Мадриде?
Франклин поглядел на Дюбура, который смущенно поигрывал тростью. В Мадриде, сказал Франклин задумчиво, находится сейчас Артур Ли; если он, Франклин, начнет хлопотать, это едва ли обойдется без неприятных последствий. Но, насколько ему известно, здесь, в Париже, есть человек, множеством нитей связанный с Мадридом, — да, да, наш debrouillard, наш Бомарше. Дюбур мрачно засопел. Он очень хочет выручить своего капитана Литтла, сказал он, подумав, но пойти на такое унижение… — Он не окончил фразы.
Затем, снова оживившись, Дюбур рассказал, что узнал наконец в морском министерстве о намерении списать и поставить на прикол «Орфрей», прекрасный, большой военный корабль — пятьдесят два орудия, длина киля пятьдесят метров.[42] Он, Дюбур, намерен создать небольшое товарищество, чтобы приобрести, отремонтировать и снарядить на морской разбой это судно. Предприятие, однако, требует больших капиталовложений; не заинтересует ли Франклин своего домовладельца, мосье де Шомона? Конечно, он, Дюбур, мог бы и сам поговорить с Шомоном, но если предложение будет исходить от Франклина, если гений свободы, так сказать, самолично окрылит этот замысел, дело сразу предстанет в совершенно ином свете. «О корабль мой, корабль! Вновь понесет тебя вал», — процитировал он по-латыни Горация.
Франклин только вздохнул про себя по поводу авантюризма своего друга. Насколько он помнит Горация, отвечал он, в этой оде о корабле речь идет о тревогах, неизбежных при мореплавании. Он, Франклин, проявил бы черную неблагодарность в отношении любезного мосье де Шомона, если бы, отняв у него дом, навязал ему еще никуда не годный военный корабль.
Дюбур немного обиделся. Тем не менее, когда Франклин предложил ему остаться поужинать, он не заставил себя долго просить. Дворецкий, мосье Финк, как всегда, позаботился о том, чтобы еда была обильной и вкусной, однако Франклин, евший с большим аппетитом, с огорчением заметил, что кушанья не вызывают у доктора Дюбура прежнего энтузиазма. Он снова подумал о том, как постарел его друг, и не без ужаса увидел на его лице гиппократову маску.[43] Он обречен, он долго не протянет, его бедный, его дорогой друг Дюбур.
Сам Франклин собирался еще пожить. Но он знал, что не сегодня-завтра все может кончиться, и часто размышлял о смерти. Он не был сентиментален. Он видел много смертей, — умирали друзья, умирали враги. Он был писателем до мозга костей и не мог не облекать в слова свои мысли о друзьях и врагах; он написал множество эпитафий. Постепенно у него вошло в привычку сочинять надгробные надписи друзьям, врагам, мертвым, живым, себе самому. И вот теперь, смакуя ужин, он подыскивал хвалебные и меткие выражения для эпитафии своему другу Дюбуру.
А тот, неожиданно нарушая ход его мыслей, обеспокоенно и деловито сказал:
— Вы отменно бодры, мой глубокоуважаемый друг, но все-таки меня тревожит ваша неумеренность в еде. Не следует ли в нашем возрасте быть осторожнее? Бургундское мосье Финка превосходно, и все-таки я советую вам: разбавьте вино водой.
Франклин подумал: «Удивительно, что этот врач не замечает своей facies Hippocratica». Когда Дюбур взялся уже за графин, чтобы подлить ему воды, Франклин прикрыл свой стакан ладонью и сказал:
— Библию, старина, вы цитируете менее точно, чем классиков. Апостол Павел рекомендовал наливать не воду в вино, а вино в воду.[44]
На следующий день, во вторник, Франклин поехал со своим внуком Вильямом в Отей, чтобы, как всегда по вторникам, провести вечер у мадам Гельвеций. До Отея было немногим больше двух миль, и Франклин сначала собирался сегодня, ради физического упражнения, пройти это короткое расстояние пешком. Въезжая, однако, в прекрасное поместье мадам Гельвеций, он порадовался, что прибыл в коляске, — приятно являться бодрым, не запыхавшись, не вспотев.
Красочный и веселый раскинулся парк. В доме, как всегда, стоял гул; здесь было полно собак, кошек и канареек, а неугомонные дочери мадам Гельвеций, равно как оба аббата и врач доктор Кабанис, жившие здесь, вносили свою долю в этот жизнерадостный шум. Как всегда, на ужин к мадам Гельвеций приехали друзья; у нее было множество друзей — политиков, писателей, художников.
Мадам Гельвеций громко приветствовала доктора. Точно так же она приветствовала его, когда он в первый раз появился у нее в доме. Ему хотелось еще более приобщить эту передовую, влиятельную женщину к делам своей страны, и он с радостью согласился поехать к ней с бывшим министром финансов Тюрго. Она просияла при его появлении и сразу же сердечно протянула ему свою красивую полную руку.
— Поцелуйте мне руку, — воскликнула она, — только не торопитесь. — И у них быстро установились самые дружеские отношения.
Вот и сегодня, усадив его рядом с собой настолько близко, насколько позволяла ее широкая юбка, она ласково и строго спросила его, не нарушил ли он опять своего обещания ходить к ней всегда пешком. Он с удовольствием разглядывал ее, отвечая, что на этот раз он снова дал себе поблажку и приехал в коляске.
Мадам Гельвеций было далеко за пятьдесят. Тучная, белая и розовая, наспех нарумяненная, с небрежно подкрашенными, выцветшими светлыми волосами, она целиком заполняла кресло, в котором сидела. Он знал, что некоторые женщины сравнивают ее с развалинами Пальмиры. Сам он еще видел в ней остатки прежнего блеска; его, как, впрочем, многих других мужчин, она привлекала своей сердечностью, живостью, ясным умом, и он нисколько не удивлялся, что и теперь, почти в шестьдесят лет, она ведет себя, как избалованная ослепительная красавица.
Они весело болтали о пустяках, а сверху на них глядел портрет Клода-Адриена Гельвеция, который умер шесть лет назад и которого Франклин, познакомившийся с ним во время своего предыдущего пребывания в Париже, глубоко уважал. Больше тридцати веселых, счастливых лет прожила с этим очень богатым человеком, известным философом и не менее известным откупщиком, лучезарная красавица Мари-Фелисите. Теперь все стены были увешаны портретами покойного, а на камине стояла копия его надгробия, статуэтка женщины, печально склонившейся над урной. На смертном одре ее возлюбленный Клод-Адриен наказал мадам Гельвеций, чтобы она и впредь, в меру своих физических и духовных сил, наслаждалась жизнью, и, выполняя его желание, она и ее красивые дочери весело шумели около его портретов и его надгробия.
После ужина доктор Кабанис и аббат Мореле, при участии аббата де ла Роша, начали партию в шахматы, Вильям принялся флиртовать с девицами, а Франклин остался наедине с мадам Гельвеций.
— Виделись ли вы с мадам Брийон? — спросила она напрямик.
Мадам Брийон жила по соседству. Эта изящная, красивая и молодая дама была замужем за пожилым советником из министерства финансов.
— Разумеется, — тотчас же ответил Франклин и, медленно подбирая французские слова, прибавил: — Я просил мадам Брийон встречаться со мной как можно чаще. Она взяла на себя труд заниматься со мной французским.
— Вы достаточно хорошо говорите по-французски, друг мой, — уверенно заявила мадам Гельвеций, — к тому же мне не нравятся методы обучения, применяемые вашей новой наставницей. Я слыхала, что она при всех садилась к вам на колени.
— Что же тут предосудительного? — с наивным видом спросил Франклин. — Не докладывали ли вам также, что мадам Брийон, очень любившая своего покойного батюшку, пожелала сделать меня своим приемным отцом?
— Ах, старый греховодник, — сказала мадам Гельвеций просто и убежденно. — Я согласна, — продолжала она, — что мадам Брийон красива. Но не слишком ли она худа?
— Творец, — отвечал Франклин, — дал прекрасному многоразличные формы. С моей стороны было бы неблагодарностью отдавать предпочтение какой-то одной.
— Терпеть не могу баб, — решительно заявила мадам Гельвеций. — Они такие сплетницы. Обо мне, например, говорят, что я невоздержанна на язык и что у меня манеры прачки.
— Если у парижских прачек, — отвечал, подыскивая французские слова, Франклин, — такие же манеры, как у вас, мадам, то, значит, у них манеры королев.
Потом, подвинувшись к нему поближе, мадам Гельвеций спросила:
— Скажите положа руку на сердце, ведь правда, что письмо аббату Мореле вы написали только для того, чтобы он пересказал его мне?
По просьбе мадам Гельвеций аббат однажды отменил назначенную ранее встречу с Франклином, и Франклин отправил ему письмо, в котором подробно и красноречиво объяснял, почему он был так огорчен этим обстоятельством. «Если всех нас — писал он, — политиков, поэтов, философов, ученых, притягивает к Нотр-Дам д'Отей, — так называли мадам Гельвеций ее друзья, — как соломинки к янтарю, то объясняется это тем, что в ее милом обществе мы находим доброжелательность, дружеское внимание, участливое отношение к окружающим, веру в их участие и такую радость от общения друг с другом, какой мы, увы, лишены, когда ее нет среди нас».
— Неужели аббат показал вам это письмо? — спросил Франклин с притворным смущением.
— Ну конечно, — ответила она и, громко рассмеявшись, добавила: — Желаю вам, старый хитрец, чтобы министров вы подкупали так же легко, как меня.
Они часто беседовали таким образом.
Мадам Гельвеций, шумная и подвижная, то и дело вскакивала, чтобы обнять его и поцеловать, он же держался чинно, но в скупых его жестах была подчеркнутая рыцарская галантность. В ее громких и его тихих комплиментах была доля иронического преувеличения, но оба они знали, что за этими словами кроется подлинная привязанность. Франклина привлекали ее ясный, житейский ум, ее огромный интерес к вещам и людям, ее молодая жизнерадостность, ее беззаботная естественность, даже ее вульгарное, чисто королевское пренебрежение к грамматике и правописанию. Что же касается мадам Гельвеций, то она, не представлявшая себе жизни без мужчин, без поклонников, утешалась сознанием, что этот великий человек, перед которым преклонялись даже покойный Гельвеций и ее друг Тюрго, явно восхищается ею и ценит ее, по крайней мере, не меньше, чем молодую и хрупкую мадам Брийон; две недели назад, когда он на секунду отбросил условности и назвал ее не «мадам», а «Мари-Фелисите», — она почувствовала настоящее волнение при звуке его глубокого, вкрадчивого голоса.
Между тем приехали Дюбур и Тюрго.
Жаку-Роберу Тюрго, барону дель Ольн, было под шестьдесят; этот рослый человек выглядел старше своих лет. У него было красивое лицо с полными губами, прямым носом и глубокими, резкими складками около рта. Тюрго и мадам Гельвеций дружили с юности. Когда она была еще мадемуазель де Линьивиль, он собирался на ней жениться, но так как оба они были нищи, она, следуя голосу разума, отклонила его предложение. Когда затем она вышла замуж за богатого, способного, всеми уважаемого, всегда благодушного Гельвеция, Тюрго отозвался о ее шаге с большим неодобрением, но они остались друзьями и на протяжении тридцати лет виделись почти ежедневно. После смерти Гельвеция, когда оба они оказались свободны, богаты и окружены почетом, Тюрго еще раз сделал ей предложение и опять безуспешно. Однако и это не мешало ему часто бывать у нее.
Человек неподкупно честный, страстный поборник разума, Тюрго пользовался всеобщей любовью и почетом. Доктор Дюбур также питал к нему искреннюю симпатию и глубоко его уважал, хотя не мог удержаться от того, чтобы добродушно и часто не к месту попрекнуть друга тем-и или иными упущениями, которые тот совершил на посту министра. Вот и сегодня он завел свой излюбленный разговор о том, что Тюрго следовало в свое время изыскать три или даже пять миллионов для инсургентов, Тюрго, поначалу не теряя самообладания, принялся не то в десятый, не то в двадцатый раз объяснять Дюбуру, что он поставил бы под удар свои реформы и дал бы противникам повод для справедливых нападок, истрать он хоть одно су на что-нибудь другое, кроме этих реформ. Дюбур, однако, не отступался, он продолжал язвить, и обидчивый Тюрго перешел в контратаку. Мадам Гельвеций напрасно старалась помирить спорщиков. Наконец Тюрго объявил, что его министерскую деятельность нужно рассматривать в целом, но Дюбур никак не желает этого понять. Раздосадованный упрямством собеседника, он сказал еще, что Дюбур, как всегда, за деревьями не видит леса; в филологии такой метод, может быть, и хорош, но в политике неприемлем. Дюбур ответил цитатой из римского философа, утверждавшего, что сумма состоит только из слагаемых, то есть из отдельных частей. Дюбур говорил громко, Тюрго тоже повысил голос, собаки лаяли, было шумно.
В конце концов Тюрго попросил Франклина подтвердить, что тот понял и даже одобрил его тактику.
— Одобрил, это, пожалуй, слишком сильно, — отвечал Франклин, — но что ваше поведение объяснимо, этого я не могу не признать.
Затем — он только и ждал подходящего момента — Франклин заявил, что давно хочет напомнить уважаемым спорщикам одну малоизвестную библейскую историю.
— Дорогой аббат, — обратился он к де ла Рошу, — будьте добры, расскажите господам притчу о терпимости из Первой Книги Моисеевой.
Подумав, аббат ответил, что не знает, какую притчу имеет в виду Франклин; аббат Мореле также не понял, на что намекает собеседник. Доктор покачал головой и подивился непопулярности этой притчи; а ведь это мудрейшая из всех мудрых историй, которые наряду с темными и путаными повествованиями во множестве содержатся в Библии. Зная нетерпимость своих друзей и предвидя возобновление их старого спора, он захватил с собой Библию и просит у присутствующих разрешения прочесть упомянутую главу.
Он достал из кармана небольшую Библию.
— Глава тридцать первая из Первой Книги Моисеевой, — сказал он и стал читать историю о том, как к Аврааму из пустыни пришел незнакомец, согбенный, опирающийся на посох старик. — «Авраам сидел у шатра своего, и он встал, и пошел чужеземцу навстречу, и сказал ему: „Войди в шатер мой, прошу тебя, и омой ноги свои, и проведи ночь под кровом моим, и встань поутру, и продолжи путь свой“. И пришелец сказал: „Нет, я буду молиться богу моему под этим деревом“. Но Авраам упорствовал и стоял на своем, и старик уступил, и они вошли в шатер, и Авраам испек хлеб, и они ели его. И увидал Авраам, что чужеземец не благодарит и не хвалит бога, и сказал ему: „Что же ты не чтишь всемогущего бога, творца неба и творца земли?“ И старик отвечал: „Не желаю я чтить бога твоего и называть его имени, ибо я сам сотворил себе бога, он всегда пребывает в доме моем и всегда помогает мне в нуждах моих“. И возгневался Авраам на пришельца, и встал, и напал на него, и побил его, и прогнал его прочь в пустыню. И явился бог Аврааму и молвил: „Авраам, где гость твой?“ И Авраам отвечал: „Господи, он не желал чтить тебя и называть тебя твоим именем. И я прогнал его с глаз моих в пустыню“. И сказал бог: „Я хранил его девяносто восемь лет кряду, и питал его, и одевал, хоть он и закрыл мне сердце свое, ты же, грешник и сам, не пробыл с ним и ночи единой?“
Франклин захлопнул книгу.
— Неплохая история, — сказал доктор Кабанис.
— Удивительно, — подумал вслух аббат Мореле, — что я не могу вспомнить этой главы.
То же самое заметил и аббат де ла Рош. Франклин протянул им Библию, и оба аббата склонились над нею. Четко и ясно, старинными литерами, было напечатано: «Бытие, глава 31».
— Скажите честно, — спросила Франклина мадам Гельвеций, когда они снова оказались наедине, — кто написал эту главу — господь бог или вы сами?
— Мы оба, — ответил Франклин.
Весь остаток вечера Тюрго был любезен с Дюбуром, и Франклину был очень симпатичен бывший министр. Конечно, если бы в свое время Тюрго дал американцам деньги, это принесло бы их делу немалую пользу, но Франклин как раз за то и уважал Тюрго, что тот никогда не шел на компромиссы. Правда, для практической политики такой метод не годится, но зато только так и создаются ясные, незыблемые идеалы для будущего и для хрестоматий.
Писатель по призванию, Франклин попытался выразить свое мнение о Тюрго в одной фразе и, продолжая оживленный флирт с мадам Гельвеций, придумал такую формулу: «Жак-Робер Тюрго был политиком не восемнадцатого века, он был первым политиком девятнадцатого».
Пьер сидел за своим чудесным письменным столом в непривычной задумчивости. Ему несвойственно было печься о завтрашнем дне; он жил для сегодняшнего дня и для вечности, завтра его не интересовало. Но он не скрывал от себя, что ближайшие дни принесут ему серьезные неприятности. Сегодня, когда он попросил секретаря Мегрона взять из кассы фирмы «Горталес» какие-то несчастные восемь тысяч, тот с трудом наскреб эти деньги, и когда он вручал их Пьеру, серое лицо его, казалось, стало еще серее. Что же будет дальше? Через три дня истекает срок векселя, выданного Тестару и Гаше, 17-го нужно вернуть первые четверть миллиона мосье Ленорману, а если удастся заключить договор относительно военного корабля «Орфрей», надо сразу выложить не менее ста тысяч ливров наличными.
«Орфрей» можно взять за гроши. Неужели он откажется от покупки только из-за того, что сию минуту у него нет этих жалких грошей? Но ведь он же не дурак. Едва услыхав, что «Орфрей» подлежит продаже, он сразу решил его купить. Он просто влюбился в этот прекрасный корабль. Три палубы, пятьдесят два орудия, пятьдесят метров длины. И этот великолепный галеон. Сердце радуется, когда подумаешь, что впереди твоего каравана полетит эта могучая птица с орлиным клювом.
Нет, деньги нужно достать в ближайшие дни, завтра же, и не менее ста тысяч ливров, не то корабль уплывет у него из-под носа. На судно зарятся другие, конкуренты Пьера, шепнул ему свой человек из морского министерства. Это Дюбур конкурент. Погодите, он еще сядет в калошу, этот ученый, напыщенный осел; что у него за душой, кроме того, что он друг великого Франклина? Пьер-то уж знает, как поймать «Морского орла», знает, кого нужно подмазать.
Смешно, что ему, главе фирмы «Горталес», приходится ломать себе голову, чтобы добыть какие-то паршивые сто или двести тысяч ливров. Но кто бы подумал, что американские борцы за свободу окажутся такими скверными плательщиками? Недаром каркал этот неисправимый пессимист Шарло. Нелепо и стыдно, но покамест Шарло прав.
Когда его первые три судна пришли в Нью-Хемпшир, американцы встретили их с ликованием и почестями. Вернулись эти суда, однако, не с деньгами и не с векселями, а с несколькими тюками табака, не покрывавшими и восьми процентов счета фирмы «Горталес». Сайлас Дин из кожи вон лез, но ничего не добился; обескураженный, он полагал, что единственная причина медлительности Конгресса — клеветнические доклады Артура Ли, согласно которым поставки фирмы «Горталес» не что иное, как замаскированный дар французского правительства. «Ох, уж эти американцы», — бормотал Пьер, поглаживая голову своей собаки Каприс.
А имел он в виду только одного американца, и совсем не Артура Ли. Нападки Артура Ли не возымели бы действия, если бы некто другой взял на себя труд раскрыть рот. Но некто другой не брал на себя такого труда. Некто другой сохранял непонятное, оскорбительное равнодушие. Некто другой заявил, что договоры были заключены без него, что они подписаны Сайласом Дином, что, следовательно, к Дину и надлежит обращаться. Однако, несмотря на все свои добрые намерения, Сайлас Дин был бессилен, коль скоро его не поддерживал некто другой.
Обычно Пьер откровенно делился своими заботами с близкими людьми, но об отношениях, сложившихся у него с Франклином, он не говорил никому, даже Полю. Однако теперь, перед покупкой «Орфрея», ему придется обсудить с Полем общее положение дел, и тогда не миновать разговора об этой нескладной истории с Франклином.
Услыхав о намерении Пьера купить «Орфрей», Поль сказал:
— Вы играете крупно.
— Может быть, лучше уступить «Орфрей» другим, — спросил Пьер, — Шомону, Дюбуру и иже с ними?
Поль понял его, Пьеру незачем было развивать эту мысль. Речь шла не об одном корабле. Покамест без фирмы «Горталес» американцам не обойтись, покамест Пьер единственный человек, который располагает достаточным количеством судов и оружия, чтобы спасти Америку от капитуляции. Если же люди, увивающиеся вокруг Франклина, сами окажутся в состоянии послать в Америку нужное количество кораблей и товаров, они быстро припрут Пьера к стенке, и торговый дом «Горталес» превратится просто в вывеску, за которой ничего нет.
— Мегрон превзошел самого себя, — сказал Поль. — До сих пор он не оставлял без оплаты ни одного нашего векселя, никто другой не смог бы так изворачиваться. Но я не знаю, чем он заплатит Тестару и Гаше и где он добудет четверть миллиона для Ленормана.
— На Сайласа Дина мы можем положиться, — ответил Пьер.
— Да, на Сайласа Дина, — сказал Поль. Больше он ничего не сказал, но Пьер уже понял, что Поль в курсе дела.
После Нанта Поль только дважды видел Франклина, оба раза на больших приемах. Поль был человеком не робкого десятка, но он не отваживался к нему обратиться; странное и оскорбительное обхождение Франклина с его другом и шефом сковывало Поля и уязвляло. Если Пьер, всегда такой открытый и словоохотливый, замкнулся в своей обиде, значит, это лишний раз показывало, как глубоко ранила его холодность Франклина. Даже сейчас, когда разговор шел о бедственном его положении, о первопричине всех бед, Пьер отделывался общими фразами. Поль решил, без лишних объяснений с Пьером, пойти к Франклину и спросить его напрямик, почему он не хочет сотрудничать с Бомарше.
А Пьер ждал, что Поль первый заговорит об упрямой враждебности Франклина. Ему было досадно, что Поль тоже отмалчивается. Наконец он не выдержал и с нетерпением, почти со злостью сказал:
— Рано или поздно американцы заплатят.
— Но еще раньше истечет срок последнего взноса за «Орфрей», — ответил Поль.
— Вы сегодня мрачно настроены, друг мой, — сказал Пьер.
— На вашем месте, — настаивал Поль, — я не рассчитывал бы на американские деньги, покупая «Орфрей».
— Я просто не могу представить себе, — нахмурился Пьер, — что и следующие пять транспортов не вернут денег.
— Надежда — плохой советчик, — сказал Поль.
— Вы слишком мудры для своих лет, — возразил Пьер. — Ваш афоризм мог бы сойти за изречение нашего друга из Пасси в переводе Дюбура.
— Вам удастся купить «Орфрей» лишь в том случае, — твердо сказал Поль, — если мосье Ленорман откроет вам новый кредит или хотя бы отсрочит уплату старого долга.
В сущности, Пьер с самого начала знал, что, задумав купить этот корабль, он должен будет просить Ленормана об отсрочке, но признаваться себе в этом ему не хотелось. Сейчас, когда Поль заговорил об этом неприятном деле и назвал вещи своими именами, он вспомнил о предостережении Дезире. Увидев, как мучительна для Пьера мысль о Ленормане, Поль поспешил на помощь другу.
— Может быть, мне поговорить с мосье Ленорманом? — вызвался он.
Пьера очень соблазняло это предложение. Но он отверг его.
— Нет, нет, друг мой, — сказал он, — я поговорю с Шарло сам.
Узнав, что Пьер хочет с ним повидаться, мосье Ленорман пригласил его приехать на следующий день в гости. У Шарло собралось избранное общество — несколько очень важных мужчин и дам. Пьер оказался единственным, не принадлежавшим к родовой знати. Он был в прекрасном настроении и, не уставая, шутил и острил. Ему сразу удалось завладеть всеобщим вниманием, и он явственно слышал, как герцог Монморанси сказал хозяину дома: «С вашим Бомарше не надоест сидеть и до утра». Мосье Ленорман был, казалось, очень доволен успехом своего званого вечера.
Когда гости поднялись из-за стола, Пьер задержал Шарло.
— Одну минутку, старина, — сказал он небрежно, еще со стаканом арманьяка в руке. — По-моему, скоро истекает срок одного из наших американских векселей. Я думаю, для вас ничего не составит продлить его на несколько месяцев.
Мосье Ленорман приветливо поглядел на Пьера своими подернутыми поволокой глазами. Он давно ждал этой просьбы. Может быть, только надежда на такой разговор и заставила его дать Пьеру денег. Значит, все вышло так, как он ему предсказывал. Американское дело оказалось предприятием, требующим большого запаса сил, а запасом сил обладает не Пьер, а он, Шарло. Вот перед ним стоит этот Пьеро — очень способный, очень приятный человек, но человек, которому не приходилось страдать и который, следовательно, не знает, что такое настоящие переживания. Ему все дается легко, он считает естественным, что люди наперебой стараются ему угодить. Вот, например, Дезире. Он, Шарло, добивался ее, он страдал из-за нее, но единственное, чего он достиг, — это то, что она с ним спит, а принадлежит она другому; да, да, все тому же, его другу Пьеро. Пьеро она любит, а тот по-настоящему этого даже не сознает. Вот он стоит перед ним и просит отсрочить вексель на четверть миллиона, отсрочить, может быть, до второго пришествия. Просит небрежно, не сомневаясь, что Шарло окажет ему такую услугу. Что ж, пускай Пьеро легко живется, но и ему, право, не вредно немного помучиться.
До самого последнего мгновения Шарло не знал, выполнит он просьбу Бомарше или нет; не знал даже тогда, когда услышал ее из уст Пьера. Теперь, в каких-нибудь три секунды, поглядев на красивое, моложавое, самодовольное лицо Пьера, он наконец принял решение. Он улыбнулся своей неприятной улыбкой, которая всегда раздражала Пьера, и равнодушно, тихим, жирным голосом ответил:
— Вы сегодня великолепно острили, Пьер. Но из всех ваших острот эта, пожалуй, самая удачная. — И, сделав легкий поклон, возвратился к своим гостям.
Пьер остался один в изысканно роскошной столовой, наполненной запахами догоравших свечей и недопитого вина. Лакеи начали уже убирать со стола. Он машинально взял конфету из вазы и так же машинально стал ее грызть.
Он был уверен, что Шарло даст ему отсрочку. Он не понимал, что произошло. Он не понимал, почему Шарло так с ним поступил. Ему самому было совершенно чуждо злорадство. Но Шарло важный барин, он из тех, у кого бывают приступы гнусного высокомерия. А может быть, он просто ревнует.
Убирая со стола, лакеи удивленно поглядывали на блестящего гостя, стоявшего в глубокой задумчивости, с конфетой за щекой. Он был явно чем-то потрясен. Но они над ним не смеялись. Карона де Бомарше, автора «Цирюльника», простые люди любили. Они прощали Пьеру его щегольство, они были признательны ему за то, что он защищал их от привилегированных; лакеи, официанты, цирюльники питали к создателю «Фигаро» особую симпатию, считая его своим поэтом и покровителем.
Он собрался с силами, поехал домой. В карете он сидел прямо, в непринужденно-изящной позе, и отвечал на поклоны. Но мысли его были далеко. Шарло хочет взять его за горло. Шарло хочет показать Дезире и всему миру, что Пьер Бомарше хвастун и фразер. Он докажет Шарло, что тот ошибается. Именно теперь он и купит «Орфрей» и швырнет Шарло его несчастные четверть миллиона.
Он им еще покажет, всем этим проклятым, чванным аристократам. И Вержену тоже; Вержен из того же теста. С тех пор как здесь появился Франклин, Вержен перестал его, Пьера, замечать. Граф, наверно, думает, что теперь его можно выбросить, как изношенную перчатку. Не тут-то было. Неужели эти господа полагают, что все их дела обделают болван Шомон и старый осел Дюбур? Даже с таким пустяком, как освобождение этого горе-капитана Литтла, который вошел в испанскую гавань, не сумев отличить испанский берег от французского, — даже с таким пустяком Дюбур прибежал к нему, к Пьеру. Если они не в силах выручить своего капитана, где уж им снабжать Америку. И на таких-то людей полагается Вержен. Сначала он втравил Пьера в опасное дело, а теперь бросает его на произвол судьбы ради какого-то Шомона или Дюбура. Он возомнил, что если Пьер не аристократ и не друг великого Франклина, то, значит, можно плевать ему в лицо. Ладно же, вы просчитаетесь, господин граф де Вержен.
Полный гневной решимости, отправился Пьер в министерство иностранных дел. Он поехал не в парижское здание министерства на набережной Театен, а в Версаль, поехал с шиком и блеском, в сопровождении лакеев и арапчонка, и потребовал аудиенции у Вержена. Однако его принял всего-навсего мосье де Жерар, вежливо заявивший, что министр очень занят и что, может быть, он, Жерар, сумеет в данном случае его заменить. Нет, возразил Пьер, не сумеет. Дело идет не только о его, Пьера, жизни и смерти, но об интересах короны. После некоторого колебания Жерар сдался.
Пьер заблуждался, думая, что у министра не чиста перед ним совесть. Граф Вержен был доброжелательным скептиком. Он верил, что мосье Карон заботится об Америке из преданности правому делу, но считал, что все-таки главная причина этих забот — личная выгода. Так как деятельность мосье Карона отвечала желаниям правительства, оно оказало ему серьезную финансовую помощь. Но известный риск — об этом ведь условились заранее — мосье Карон должен был взять на себя; зато у него есть и шансы на огромную прибыль. Если американцы медлят с платежами, то пусть мосье Карон справляется с временными затруднениями собственными силами. Граф Вержен ценил заслуги мосье Карона, ему нравился этот находчивый, остроумный человек, но он отнюдь не закрывал глаза на его неприятные качества; кичливость и болтливость мосье Карона доставили правительству немало хлопот. Счастье, что теперь американскими делами занялся доктор Франклин. Мосье Карон ветреник, с которым иногда приятно встретиться; доктор Франклин — крупнейший политик и ученый, это человек, внушающий уважение своим спокойствием.
Вержен встретил вошедшего Пьера вежливым и выжидательным взглядом умных, круглых глаз. Пьеру не хотелось начинать с денежных затруднений, и он повел речь о своей реабилитации. Из-за обычной бюрократической канители, сказал он, пересмотр дела бесконечно откладывается; он был бы очень обязан министру, если бы тот при случае замолвил за него слово и подхлестнул крючкотворов. Вержен отвечал, что, по-видимому, уже достаточно продвинул дело мосье де Бомарше, написав генеральному прокурору, но что при встрече с министром юстиции он, Вержен, напомнит ему об этом письме. В тоне Вержена Пьер почувствовал неприязненные нотки, которые появлялись у него самого, когда он старался отвязаться от назойливого просителя.
Но это только усилило злую решимость Пьера сбросить Вержена с высоты спокойствия и равнодушия. Если граф смеет обращаться с ним подобным образом, то пусть он, по крайней мере, за это заплатит. Пьер вытянет денежки из министра, сидящего перед ним с таким заносчиво-неприступным видом.
Он заговорил о своих финансовых затруднениях, о непонятной медлительности Конгресса, не отвечающего на его письма и не оплачивающего его счетов. Он драматически рассказал о том, как в кратчайшие сроки, с невероятным трудом преодолев множество хорошо известных министру опасностей, добыл и доставил через океан инсургентам огромное количество оружия. Кроме сухого подтверждения, Конгресс не удостоил его ни единым словом. Он, Пьер, стоит теперь на краю пропасти. Он все вложил в поставки, которых требовало от него правительство, свое состояние, свою честь, свои способности, и вот благодарность за эти благороднейшие, за эти сверхчеловеческие усилия.
Играя пером, министр глядел на Пьера с легким сожалением.
— Почему же вы не обратитесь непосредственно к американцам? — ответил он наконец. — У них же теперь есть здесь представители.
Такой прием — отделываться от просителя дешевым советом — тоже был хорошо знаком Пьеру, он сам к нему иногда прибегал. Но никогда он не применял его, когда дело касалось людей, перед которыми он был в таком долгу, как Вержен перед ним. Разве подобный совет не насмешка? Франклин говорит: «Обратитесь к Дину». Дин говорит: «Ступайте, к Франклину». Вержен говорит: «Ступайте к американцам».
Министр продолжал играть пером, и эта невинная жестикуляция возмутила Пьера еще больше, чем его слова. До сих пор он не решался пускать в ход свое самое сильное средство, средство, что и говорить, неизящное. Но аристократы ведут себя подло, они толкают его на это. И если он пускает в ход неизящные средства, то ведь он, черт побери, и не аристократ.
В интересах родины, заявил он, ему пришлось вложить в фирму «Горталес и Компания» не только свои собственные деньги; чтобы оплатить огромные партии товаров, он вынужден был взять на себя столь же огромные обязательства. Сроки некоторых его долговых обязательств вот-вот истекут. Он в безвыходном положении, он разорен, ему грозит скандальное банкротство, и едва ли он сумеет оправдаться, не сделав невольных, но сенсационных разоблачений.
Министр поднял голову; в его круглых глазах вспыхнули злобные искорки. Но через мгновение лицо его приняло прежнее, небрежно-спокойное выражение, а пальцы снова стали играть пером.
— До такой крайности вас не доведут, мосье, — сказал он, но сказал тоном, какого Пьер никогда еще, пожалуй, не слышал и каким тот, безусловно, ни разу не говорил.
При всей безукоризненной вежливости этого тона в нем чувствовалось пренебрежение, отвращение, бесконечное высокомерие, проводящее между говорящим и его собеседником четкий рубеж, брезгливое «не тронь меня».
— До такой крайности вас не доведут, мосье, — вежливо и с презрением сказал Вержен. — Сколько вы просите?
Пьеру казалось, что министр влепил ему пощечину своей холеной рукой. Он проглотил слюну. Он пришел сюда, чтобы потребовать триста пятьдесят тысяч ливров — двести пятьдесят тысяч для Ленормана и сто тысяч на «Орфрей», и заранее настроился на то, что министр даст меньше.
— Пятьсот тысяч ливров, — сказал он теперь и приготовился упорно торговаться.
Но Вержен не стал торговаться.
— Хорошо, — сказал он все тем же, неподражаемо высокомерным тоном, воздвигающим между собеседниками высокую стену. Он не сказал даже: «Хорошо, мосье», — он просто вежливо и брезгливо сказал: «Хорошо». — Это все? — прибавил он через мгновенье.
Да, это было все.
— Спасибо, граф, — сказал Пьер, стараясь принять равнодушный, спокойный вид, но против своей воли поблагодарил униженно и с явным облегчением. Он тут же непристойно выругался про себя. Ах, как он ненавидел министра, как завидовал его тону.
Он ушел. Он вернулся домой с лакеями, арапчонком и обещанием министра выдать ему полмиллиона. Он вернулся домой вне себя от ярости.
Он добился всего, чего желал. Больше того. Вероятно, он даже ускорил и пересмотр дела. Во всяком случае, он может удовлетворить требование Ленормана и в состоянии купить «Орфрей». Но достигнутое нисколько его не радовало.
— Мы в очень скверном настроении, друг мой, — сказал он своей собаке Каприс.
Французское слово «bagatelle» имело и имеет множество значений. Оно значит «мелочь», «безделица», и оно значит «пустяк». Шутовские фарсы, которыми открывают и перемежают свои представления фигляры, называются «les bagatelles de la porte»; «се sont les bagatelles de la porte» значит: «это цветочки, а ягодки впереди». Кроме того, «bagatelle» значит «конек», «слабость к чему-либо» и особенно часто «кокетство», «любезничанье», «флирт». «Ne songer qu'a la bagatelle» значит: «думать только о шашнях».
У Франклина было два излюбленных французских оборота: один — «Ca ira», другой «Vive la bagatelle».
Ранним летом семьдесят седьмого года, когда ему ничего не оставалось, как ждать в Пасси, Франклин заполнял свое время «багателями», пустяками. Это были осмысленные пустяки, они шли на пользу его отношениям с друзьями и приятельницами или на пользу его великому делу.
Со времени побед у Трентона и Принстауна почти никаких сведений о военном положении американцев не поступало, и у Франклина были основания полагать, что оно не блестяще. Англичане доставили в Америку новые большие войсковые подкрепления, новые пополнения «гессенцев», наемных солдат, проданных немецкими князьями. Это послужило для Франклина поводом к одному из его «пустяков».
Рано утром, обложившись книгами, он сидел голый за письменным столом и писал. Он сочинял письмо, французское письмо, от вымышленного отправителя к вымышленному адресату.
Он пробежал глазами написанное: «Граф фон Шаумберг барону Гоэндорфу, командующему гессенскими войсками в Америке. Рим, 18 февраля 1777 г.». Да, граф Шаумберг вполне подходящее имя для немецкого князька. И дата тоже правдоподобна. Едва ли весть о поражении при Трентоне дошла до этого графа Шаумберга раньше чем в середине февраля, да и легко поверить, что человек, торгующий своими подданными, проедает выручку не в Германии, где зимой неуютно и холодно, а в ласковой Италии.
Франклин продолжал читать: «Любезный мой барон, воротившись из Неаполя, я застал в Риме ваше письмо от 27 декабря минувшего год». С великою радостью узнал я, сколь доблестно сражались паши войска под Трентоном, и вы не представляете себе, как я возликовал, когда вдобавок услышал, что из тысячи девятисот пятидесяти гессенцев с поля брани вернулось всего только триста сорок пять. Стало быть, пало тысяча шестьсот пять солдат; я настоятельно прошу вас послать подробный список павших моему посланнику в Лондоне. Эта предосторожность тем необходимее, что в официальном отчете английскому министерству наши потери исчисляются лишь одной тысячей четырьмястами пятьюдесятью пятью солдатами, что составило бы четыреста восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят гульденов вместо шестисот пятидесяти четырех тысяч пятисот, которые я вправе требовать на основании нашего соглашения. Вы отлично понимаете, любезный барон, как влияет эта ошибка на мои доходы, и, я не сомневаюсь, не почтете за труд сообщить английскому премьер-министру, что его список, не в пример нашему, неточен».
Злорадная улыбка, появившаяся на лице Франклина, еще более растянула его широкий рот. Он стал писать дальше: «Лондонское правительство, — писал он, — стоит на том, что-де около ста солдат ранено, но не убито и что нет нужды вносить их в реестр, а равно и платить за них. Но я уверен, что, следуя моим наставлениям, полученным вами при отъезде из Касселя, вы не позволили сбить себя с толку гуманным пустословам, тщащимся сохранить жизнь несчастным раненым даже ценою отсечения руки или ноги. Это обрекло бы несчастных на жалкое существование, и я уверен, что они предпочли бы умереть, чем влачить свои дни, лишившись возможности мне служить. Это, любезный барон, вовсе не означает, что вам надлежит их умерщвлять, — мы должны быть гуманны. Однако вы можете должным образом намекнуть врачам, что увечный солдат — позор для всего солдатского сословия и что воину, неспособному более сражаться, уместнее всего умереть.
Посылаю вам новых рекрутов. Не щадите их чрезмерно. Помните, что в подлунном мире нет ничего выше славы. Слава есть истинное богатство; ничто так не служит к посрамлению солдата, как корыстолюбие. Воину следует печься о славе и чести, слава же добывается среди опасностей. Сражение, выигранное малой кровью, есть бесславный успех; напротив, побежденные, павшие с оружием в руках, покрывают себя неувядаемой славой. Вспомните о трехстах лакедемонянах, защищавших Фермопилы. Никто из них не вернулся живым. Я был бы горд, если бы смог сказать то же самое о своих доблестных гессенцах».
Старик продолжал писать в том же тоне. Он писал быстро, с ядовитой последовательностью одна фраза влекла за собой другую, он писал по-французски, но если не находил нужного слова, не смущаясь вставлял его по-английски.
Он видел, что написанное ему удалось, и улыбался зло и довольно. Добросовестно относясь ко всякой, даже самой мелкой работе, он переписал письмо начисто, теперь уже на более правильном французском языке. Затем запер рукопись в ящик и пошел принимать ванну. Он долго лежал в горячей воде, — сегодня ее подливали дважды, — почесывался, блаженствовал.
Во второй половине дня к нему пришел аббат Мореле. Взяв с него обещание молчать, Франклин показал ему письмо о «гессенцах» и попросил его немного поправить стиль. Они принялись за работу. К удовольствию Франклина, аббат увлекся этой забавой, и в окончательной редакции письмо стало еще лучше. Собственноручно, тайком от внука, Франклин набрал свой опус и с помощью небольшого печатного пресса, стоявшего в саду, сделал несколько оттисков.
Прочитав оттиск «Письма графа Шаумберга», Франклин нашел, что пасквиль получился, пожалуй, чересчур ядовитый. По замыслу автора, неподготовленный читатель должен был на мгновение задуматься, подлинное перед ним письмо или нет. Франклин боялся, что оно вышло слишком злобным.
Вечером пришел доктор Дюбур, и Франклин решил с ним посоветоваться. Он дал ему оттиск, а сам взял другой и, с наслаждением вдыхая запах бумаги и краски, стал следить за лицом друга.
Доктор Дюбур читал медленно, старательно, беззвучно шевеля пухлыми губами, все его мясистое лицо выражало искреннее стремление вникнуть в написанное.
— Ну, как? — спросил Франклин, когда Дюбур кончил. — Каково ваше мнение по этому поводу?
Старик Дюбур покачал тяжелой, большой головой.
— Я и раньше знал, — отвечал он, — да и все знали, что эти немецкие князья мерзавцы, но что они такие мерзавцы, я все-таки не подозревал.
Слушая его, Франклин радовался своему литературному дару. Но ему было жаль своего друга Дюбура. Раньше он так легко не попался бы на удочку. Он стал стар, очень стар, бедняга Дюбур.
Дюбур пришел с сюрпризом, он принес Франклину маленькую, изящную книжечку, новое издание басен Лафонтена; Лафонтена Франклин часто при нем хвалил. Франклин был искренне рад подарку, он отдал должное и красивому шрифту, и прелестной мудрости автора.
Дюбур боялся, что Франклин, имея много общего с Лафонтеном, увы, не сумеет оценить всех его достоинств, особенно некоторых стилистических тонкостей, которые, должно быть, ускользают от иностранца, даже обладающего франклиновским чувством языка.
— Какая плавность, — восторгался Дюбур, — какое изящество. — Затем стал читать стихи вслух.
Наслаждаясь чеканной легкостью стиха, он прочитал сначала одну басню, потом вторую. Листая томик, дошел до девятой басни седьмой книги, басни о карете и мухе. С пыхтеньем и пафосом, подчеркивая ритм движениями мясистой руки, толстяк принялся читать, и архаично-спокойные строки звучали изящно, когда их произносили его пухлые губы.
В этой басне говорится о том, как шестерка дюжих лошадей, выбиваясь из сил, преодолевает трудный, крутой подъем. Седоки вышли из кареты и, подталкивая ее, стараются помочь лошадям. В это время возле кареты вьется муха, она кусает то одну лошадь, то другую, садится на дышло, на нос кучера, воображает, что это она, муха, толкает карету вперед, жалуется, что никто, кроме нее, не помогает лошадям, что на нее одну взвалили всю тяжесть. Хвастливая, вездесущая, она летает с места на место и, когда подъем остается наконец позади, радостно заявляет: «Ну, а теперь, лошадки, можно и отдохнуть, я потрудилась на славу».
Пока доктор Дюбур с чувством читал стихи, широкое лицо Франклина все больше и больше расплывалось в улыбке. Опустив книгу, Дюбур прочитал наизусть мораль, которой завершается эта басня:
Ainsi certaines gens, faisant les empresses, S'introduisent dans les affaires. Us font partout les necessaires, Et, partout importuns, devroient etre chasses.[45]При всей своей ненаблюдательности, поглощенный чтением, Дюбур заметил, что веселое настроение Франклина вызвано не самой басней, не ее исполнением, а чем-то другим. Постепенно он понял, в чем дело, и выпалил:
— Как это мне не пришло в голову? Поистине, Лафонтен предвосхитил нашего хвастунишку, нашего мосье Карона.
И оба старика повеселились от души.
На следующий день явился неожиданный гость, Тевено.
Посетителей, приходивших к нему без предупреждения, Франклин обычно не принимал. Поля Тевено он принял сразу. Ему нравился этот славный, усердный, преданный делу Америки молодой человек, а кроме того, ему было приятно, что радушным отношением к служащему фирмы «Горталес» он в какой-то мере возмещал свое невнимание к мосье Карону.
Франклину показалось, что со времени их последней встречи Поль стал еще худее; одежда на нем висела, болезненный румянец усилился, большие блестящие глаза стали, казалось, еще больше. Поль явно смутился при виде Франклина, ему было трудно начать разговор.
Доктора снова приятно поразила трезвость суждений Поля, его здравый смысл. Гораздо отчетливее, чем господа Артур Ли и Сайлас Дин, понимал мосье Тевено, что окончательная победа Соединенных Штатов невозможна без поддержки Версаля и французской армии. Занятый в основном только поставками, этот юноша ясно сознавал, что не поставки отдельных фирм, а только союз с Францией приведет Америку к великой политической цели, обеспечит ей свободу.
Доктору доставляло радость общество отважного юноши, который так умно и самоотверженно отстаивал дело Америки, хотя увидеть осуществление своей великой мечты у Поля было еще меньше надежд, чем у него, старика.
При всей чистосердечности Вениамин Франклин не любил делиться своими сокровеннейшими мыслями и чувствами. Он не сомневался в благоприятном исходе великой борьбы, но опасался, что борьба эта продлится много лет и что победа будет стоить множества человеческих жизней. Людям он показывал только уверенность, люди видели в нем только благополучного, мудрого, убежденного в своей правоте старика. Они не видели тревог и горечи, скрывавшихся за этим веселым спокойствием; он никому не говорил о своих сомнениях, об изнуряющей тяжести вечного ожидания.
Но этому молодому, уже обреченному на смерть солдату свободы он сказал все. Он говорил с ним, как говорят об общих заботах с младшим братом. Говорил о военном превосходстве английских войск, о политической разобщенности Соединенных Штатов, о множестве американцев, которые либо из корыстолюбия, либо по глупости держат сторону англичан, говорил о безденежье Конгресса. Говорил о долгом, трудном пути, лежащем перед борцами за свободу. С отвращением говорил о войне. Со сдержанным пафосом — о своих попытках ее предотвратить. С горечью — о слепоте и тупости лондонских политиков, затягивавших это ужасное кровопролитие.
Поль жадно ловил каждое слово Франклина. Его потрясло, что этот великий человек изливал перед ним Душу.
Как же после таких волнующих признаний заговорить о денежных делах фирмы «Горталес»? Разве эти дела не вздор в сравнении с великими заботами, одолевающими почтенного старца? Разве не наглость, не дерзость — взваливать на него еще свои личные неурядицы? И все-таки, будучи верным другом, Поль собирался начать разговор о нуждах Пьера. Но слова застревали у него в горле.
Терзаемый этими размышлениями, он уже рассеянно слушал Франклина. Поль сделал над собой усилие и, отбросив мысли о собственных бедах, сосредоточил все свое внимание на речи старика. Он услыхал:
— С этой стороны океана все видится совсем иначе, чем с той!
Эти слова глубоко врезались в его сознание. И вдруг у него возникла идея. Великая идея. Он сам поедет в Америку.
Вот он, единственный выход. Другого пути устранить затруднения фирмы «Горталес» не существует, Франклин, которого он ни о чем не спрашивал, сам наставил его и вразумил. Он, Поль, поедет сам, чтобы там, на месте, в Филадельфии, опровергнуть вздорные обвинения мистера Артура Ли. В Америке люди смотрят на вещи по-иному, чем здесь. Нужно, чтобы кто-то, сведущий в делах и преданный Пьеру, приехал к ним и объяснил, что к чему. Да и может ли он лучше использовать оставшиеся ему дни? Самое правильное — это увидеть своими глазами, что происходит за океаном, и самому стать участником жестоких битв, в которых нуждается новый мир, новая, разумная жизнь на земле.
Он принял решение со свойственной ему быстротой. Он ответил, что надеется вскоре лично участвовать в тех великих и суровых делах, о которых говорил Франклин. Он поедет в Америку представителем фирмы «Горталес». Он говорил об этой поездке не как о туманном проекте, нет, он со всею определенностью заявил, что будет сопровождать следующий караван судов, направляемый фирмой в Америку.
Франклин глядел на тщедушного юношу своими большими, задумчивыми глазами. Выдержит ли он мытарства, предстоящие в пути, справится ли со своей нелегкой задачей в стране, которая, в сущности, — Франклин это знал, — относится к французам враждебно? Мальчик не подумал как следует, мальчику этого не осилить. Франклин стал осторожно отговаривать его от поездки.
Поль понял, что старик беспокоится за его жизнь. Но он был уже целиком захвачен новой идеей. Нельзя прекраснее и благороднее употребить отпущенные ему дни, чем отдав их борьбе за свободу, борьбе за друга. Он не хотел умереть, не увидев того, о чем всегда тосковал. Он ответил скромно, но твердо, что его поездка — дело решенное.
Франклин заговорил о другом. Его вдруг осенило.
— Прочитайте это, мосье, — сказал он, протянув Полю «Письмо графа Шаумберга».
Поль стал читать, и точно так же, как вчера за Дюбуром, Франклин наблюдал сегодня за выражением лица Поля Тевено.
Со второй фразы на губах Поля появилась злая, жестокая, торжествующая улыбка. Франклин подумал, что, наверно, так улыбался и он сам, когда сочинял письмо.
— Великолепно, — воскликнул Поль, закончив чтение. — Вы блестяще разделались с этими людишками, доктор.
— Кто вам сказал, что письмо написано мною? — ухмыльнулся Франклин.
— Никто, кроме вас, не смог бы так написать, — воодушевился Поль. — Так написать может только тот, кто любит свою страну, как вы, кто ненавидит и презирает этих людей, как вы.
— Я рад, что вам нравится мой пустячок, — сказал Франклин, — он меня очень позабавил.
— Пустячок, забава? — возмутился Поль. — Да ведь это письмо, — воскликнул он с жаром, — обезвредит столько же гессенцев, сколько битва при Трентоне. После этого письма гессенцы вообще не поедут больше за океан.
— К сожалению, вы переоцениваете силу литературы, — ответил Франклин.
Непосвященному показалось бы, что «леве» мосье де Бомарше проходит и сегодня не менее пышно, чем в те дни, когда создавалась фирма «Горталес и Компания». Столько же друзей и просителей испытывали потребность с утра пораньше сообщить мосье, как они почитают его и любят, актеры и певцы демонстрировали свое искусство и просили оказать им протекцию, купцы предлагали самые редкие свои товары. Секретарю Мегрону, который по утрам являлся к шефу с докладом, не удавалось сказать и двух слов без того, чтобы его не прервал какой-нибудь усердствующий посетитель. Однако, несмотря на обычное столпотворение, Пьер чувствовал, что его «леве» утратило тот блеск, с каким оно проходило несколько недель назад. Не видно было барона де Труа-Тур, не видно было мосье Ренье из Верховного суда, не видно было шевалье Клонара из «Компани дез Инд». Ему снова давали почувствовать, что на нем «пятно».
Пьер, конечно, понимал, что все это связано с финансовым положением фирмы «Горталес», и внешне сохранял гордую невозмутимость. Но камердинер Эмиль, любивший своего господина, разбиравшийся в выражении его лица и его жестах лучше, чем кто-либо другой, отлично видел, что мосье одолевают тайные заботы, и служил ему с удвоенным рвением, с еще большей чуткостью стараясь предупредить каждое его желание.
И вот, с обидной аккуратностью, пришли деньги, обещанные этим кичливым негодяем Верженом. Пьер хоть и не ощущал теперь той бесконечной радости, которую доставил ему первый денежный перевод, однако некоторое удовлетворение все же испытывал: опять он, debrouillard, добился своего.
Немедленно — хотя до срока оставалось еще два дня — он послал Шарло его несчастные четверть миллиона.
— Наш Шарло, наверно, очень удивился? — злорадно и торжествующе спросил он принесшего расписку Мегрона.
— Если он и удивился, то мне он этого не показал, — сухо ответил секретарь.
Затем Пьер направился в кое-какие учреждения, дал кое-кому взятки и уверился в том, что гордый «Орфрей» возглавит стаю его кораблей, а не кораблей какого-то там Шомона или Дюбура.
После этого он облегченно вздохнул. Теперь наконец он по-настоящему наслаждался своей злостью на важных господ, которые, едва только фортуна от него отвернулась, так подло с ним обошлись. Этот Шарло, этот Вержен, эти Труа-Тур, Ренье и Клонар.
В те годы, находясь на середине жизненного пути, Пьер чувствовал себя бодрее чем когда-либо, он наслаждался всем, что дарило ему бытие, вдохновляясь своей удачей и силой. Чувства, которые он вызывал у окружающих, их восхищение, любовь, сочувствие, зависть, ненависть, гнев, дикая путаница его дел, величие цели, которой он служил, грандиозность прибыли, которая, несмотря ни на что, ждала его впереди, — все это вместе приводило его в состояние легкого опьянения.
В сорок пять лет он уже не был Фигаро из «Цирюльника». Правда, он по-прежнему любил интриги и деньги ради интриг и денег, но теперь за всем этим стояло сознание своего значения. Он уже не был просто паяцем, и если его унижали, если над ним потешались, то, смеясь над судьбой, над самим собой, над нелепостью ситуации, он куда злее и веселей смеялся над глупым и преступным высокомерием тех, кто его унижал.
Освободившись от гнетущих мыслей о завтрашнем дне, он почувствовал неодолимую потребность высказать то, что его волновало. Решив, что он увяз в американских делах, господа Ленорман и Вержен не только не помогли ему, но еще над ним же и посмеялись. Хорошо, господа, возможно, что с Америкой я в конце концов действительно попаду впросак. Но если это повод для смеха, то ваше поведение дает для него еще больше оснований. И если вы осмеливаетесь, сохраняя дистанцию, злобно смеяться надо мной со своей высоты, то я, вы увидите, высмею вас с еще большим успехом, еще язвительней и с высоты куда большей.
Он давно уже вынашивал план новой комедии, продолжения «Цирюльника». Теперь этот замысел приобрел конкретность. Он ходил по своему роскошному кабинету, вокруг огромного письменного стола, сопровождаемый влажным взглядом собаки Каприс. Он говорил сам с собой, напевал, насвистывал, останавливался перед голым простенком, напоминавшим об отобранном портрете. Он видел Фигаро. Фигаро стал старше, опытнее, в его блеске появилась глубина, в его остроумии горечь. Этого нового, этого старого Фигаро нельзя было упустить. И Пьер писал, запечатлевая черты своего нового, своего старого Фигаро.
Он написал речь Фигаро, обращенную к важным господам, у которых тот состоит на службе, для которых сводничает и обделывает тысячи сомнительных дел, зная, что сам он на добрую сотню голов выше своих хозяев. Описал жизнь Фигаро — всю свою бурную, хитроумную, блестящую, проклятую, благословенную жизнь, сумасшедшие интриги, трагикомические сражения с правосудием и цензурой — описал весело, с блеском, изящно, задорно, слегка ядовито.
«Мне сказали, — писал он, — что в Мадриде объявлена свобода печати и что я не вправе касаться в моих статьях только властей, религии, политики, нравственности, должностных лиц и важных господ, — обо всем же остальном я могу писать совершенно свободно под надзором двух-трех цензоров». «Друзья, — писал он, — устроили мне должность при правительстве; правительству нужен был человек с идеями. К сожалению, идеи у меня имелись. Через неделю на мое место посадили балетмейстера». «Вы воображаете, граф, — писал он, — что если вы — сильный мира сего, так уж, значит, вы и гений. Знатное происхождение, состояние, положение в свете, видные должности — от всего этого не мудрено возгордиться. А много ли вы приложили усилий для того, чтобы достигнуть подобного благополучия? Вы дали себе труд родиться, только и всего. Это не то, что я, черт побери! Я находился в толпе людей низкого происхождения, и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией со всеми ее колониями».
Всю эту длинную речь он написал одним духом. Пока он писал, на него глядели бюсты Аристофана, Мольера, Вольтера и его собственный, на него глядела собака Каприс, на него глядел пустой, предназначенный для портрета мосье Дюверни простенок, на него глядел портрет, изображавший его самого в восточном наряде.
Он прочитал написанное. Да, это крепко, это бьет в цель. Он машинально погладил собаку Каприс. Улыбнулся. Просиял. Вдохновился собственным сочинением. Ему уже не терпелось кому-нибудь показать сделанное.
Взяв листок, на котором еще не просохли чернила, он помчался в комнату отца. Старик лежал в постели, он страшно осунулся и отощал, но глаза его, глядевшие из-под ночного колпака, не утратили прежнего блеска; приветливо осклабившись при виде Пьера, папаша Карон приоткрыл крепкие, белые зубы.
— Я тут кое-что написал, отец, — сказал Пьер. — Думаю, что тебе понравится. Я делаю сейчас вторую часть «Цирюльника», она будет еще лучше первой. Послушай-ка и скажи сам — разве это не здорово?
Он начал читать. Старик с жадностью слушал. Его все больше захватывали дерзкие, насмешливые и — ай-ай-ай — такие правдивые фразы. Он вспомнил о своем прошлом, о своей буржуазной гордости гугенотских времен, он выпрямился, и высохшая рука его непроизвольно приподняла колпак, чтобы лучше было слышать. «Я находился в толпе людей низкого происхождения, и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией со всеми ее колониями». Старик упивался словами Пьера, он смаковал их, он наслаждался мастерством, с которым сын выразил его собственные переживания. Им овладела неистовая, злобная радость; огромная, буйная волна веселого презрения подкатилась к его сердцу и, до краев наполнив старое, исхудавшее тело, подступила к губам, чтобы излиться резким, звенящим смехом, который, не прекращаясь, его сотрясал. Пьер глядел на старика сияющими глазами. Потом он тоже стал звонко смеяться. От смеха дрожали стены. Смеху не было конца.
И вдруг он кончился. Смех старика перешел в хриплый стон, затем старик умолк, упал на подушки и застыл.
Листок, на котором Пьер записал речь своего Фигаро, выпал у него из рук. Он смотрел на отца. Из-под одеяла торчала худая, неподвижная, волосатая нога, колпак сполз на затылок, обнажив большой лысый лоб.
Пьер стоял и смотрел. Затем нерешительно подошел к кровати и склонился над ней. Старик не шевелился, не дышал.
Лицо Пьера сразу поглупело, он не мог поверить случившемуся: папаша Карон умер, смеясь вместе с Фигаро.
На той же неделе Тереза родила Пьеру ребенка, правда, не Александра, но как-никак Эжени.
Тереза чувствовала себя хорошо, и уже на следующий день Пьер стал твердить, что жить врозь дольше нельзя, что пора им пожениться. Он говорил с жаром.
Она смотрела на него своими ясными серыми глазами. Во время родов он ухаживал за ней с нежностью, какую трудно было предположить в этом неистовом человеке. Теперь он с гордым волнением снова и снова разглядывал маленькое существо, которое она родила. Она знала, что он любит ее, она знала, что он искренне привязан к ней, что это не пустые слова, что он действительно хочет жить вместе с ней и с крошечной Эжени. Но она помнила, как однажды назначил он срок женитьбы, она тогда не обиделась, впрочем, нет, немного обиделась, и теперь не хотела, чтобы он раскаивался в своей поспешности.
Она ответила, что лучше, как он и предлагал, подождать до его реабилитации. В обществе маленькой Эжени она не будет чувствовать себя в Медоне такой одинокой. Смутившись, он начал было переубеждать ее, но она стояла на своем, и Пьер уступил.
Суеверие было совершенно несвойственно Пьеру. Однако странная смерть отца и совпадение этой кончины с рождением Эжени привели его в замешательство. Обычно словоохотливый, Пьер не рассказал друзьям о том, как умер папаша Карон. Монолога Фигаро, при всей своей авторской гордости, Пьер также никому не показывал. Смерть отца явилась для него настоящим горем, рождение ребенка — настоящим счастьем. Он был, пожалуй, даже рад, что хлопоты, связанные с похоронами отца и родами Терезы, отвлекали его от метафизических размышлений.
Он запустил дела торгового дома «Горталес». Даже с Полем он говорил о них только в самом общем аспекте; он заявил, что сейчас у него нет настроения вникать в мелочи.
Полю это было на руку. Он ничего не рассказал другу о своей встрече с Франклином и о решении поехать в Америку. Он еще не оправился от беседы в Пасси. Удивительно, что человек франклиновской широты, мудрости и опытности не может простить Пьеру его недостатков; но, увы, это так — в Франклине все восстает против Пьера. Приходится с этим мириться, никакие попытки посредничества тут не помогут. Поль и сам старался теперь относиться к своему другу критичнее, но его критика сразу же тонула в восхищении. Он ценил в Пьере блеск, живость, подвижность, отзывчивость ко всему великому, пристрастие к преувеличениям, любовь к роскошеству и к женщинам. Шумная сердечность Пьера была ему так же мила, как лукаво-добродушная сдержанность Франклина.
Тем временем снарядили новый караван судов и ждали только сообщения из Филадельфии, чтобы отправить суда в Америку. Если Поль хотел уехать с этим караваном, как он о том гордо заявил доктору, пора было собираться в путь. Прежде всего предстояло поговорить с Пьером.
Он пошел к врачу, лечившему его уже много лет, — к доктору Лафаргу. Когда Поль вернулся с севера, Лафарг долго бранил его за легкомыслие; теперь доктор хотел послать его на все лето в Альпы, в какую-нибудь высокогорную долину. Поль сказал врачу, что дела требуют его отъезда в Америку. Доктор Лафарг со всей решительностью заявил, что в положении Поля о такой поездке нечего и думать. Поль только улыбнулся, растерянно, глуповато, и попросил доктора не говорить друзьям, в особенности Пьеру, об угрожающем состоянии его здоровья.
Он ходил по шумным парижским улицам, глядел лихорадочно блестевшими глазами на светлые, весенние платья женщин, слушал зычные крики разносчиков, ругань ломовиков, видел буйную пестроту битком набитых снедью рынков, вглядывался и вслушивался в краски, шумы, движенье самого большого, самого яркого города в мире, своего родного города Парижа. Бывали минуты, когда он переставал понимать, почему ему вздумалось ехать в Америку. Покинуть все это, покинуть Париж — да как же могло такое прийти в голову? Он ведь еще очень молод, он ведь еще так мало взял от жизни, он ведь еще столько хочет от нее взять, и, право же, немногие обладают его умением ценить ее радости. Если он поедет в Америку, он не вернется. Как ни щадил его доктор Лафарг, он достаточно ясно дал ему это понять.
Он пошел к Терезе. Он глядел на маленькую Эжени. Говорили о Пьере. Поль стал теперь проницательнее, он заметил, что и от Терезы не ускользают слабости Пьера. Но это не мешает ей безгранично его любить. Ему было больно от сознания, что Тереза, так хорошо понимающая Пьера, не догадывается о его, Поля, чувствах, о том, что он хочет, нет, не хочет, а должен сделать для Пьера.
Между тем из Америки — через Голландию — пришли поразительные вести. Сухое письмо амстердамского банкирского дома Гранда уведомляло фирму «Горталес» о том, что этот банкирский дом получил указание филадельфийского Конгресса выплатить фирме четыре тысячи тридцать шесть ливров и семь су за носовые платки, пуговицы и пряжу, поставленные упомянутой фирмой Конгрессу. Это было просто издевательством. Фирма отправила в Америку огромные партии пушек, мортир, боеприпасов, палаток, мундиров, ее счет Конгрессу составлял более двух миллионов; и вот теперь Конгресс присылает четыре тысячи ливров, и те через банкирский дом конкурентов.
Сразу же по получении этого оскорбительного письма состоялся разговор, который Пьер и Поль так долго откладывали. Вопреки своему обыкновению, Пьер на этот раз воздержался от многословных проклятий и жалоб. Он спросил своего друга и первого помощника деловито, но раздраженно:
— Что нам делать? Что вы предлагаете предпринять?
Письмо банкирского дома Гранда и вопрос Пьера были для Поля последним толчком. Если он сейчас не заговорит о своем намерении поехать в Америку и самому во всем разобраться, значит, он никогда об этом не заговорит, значит, он никогда туда не поедет, значит, в глазах Франклина он навсегда останется хвастунишкой и болтуном.
— Я хочу вам кое-что сказать, Пьер, — начал он. — Есть только одно средство вытребовать деньги у американцев. Кому-то нужно поехать в Филадельфию и поговорить с этими господами начистоту. Кто-то должен на месте опровергнуть измышления Артура Ли, и опровергнуть их убедительным материалом. Кто-то должен принять грузы и хранить их под замком до тех пор, пока взамен не предложат денег или других товаров.
— Кто же это возьмет на себя? — спросил Пьер.
— Я, — ответил Поль.
С первого слова Поля Пьер понял, куда тот клонит. Пьер и сам иногда заигрывал с мыслью о поездке в Америку. Очень уж заманчиво было самому отстоять свое дело перед Конгрессом. Но, как ни воодушевляли Пьера мировоззрение и великие замыслы людей Запада, люди эти, после знакомства с Франклином, внушали ему страх. Он чувствовал себя весьма уверенно в присутствии первого министра английского короля и императрицы Марии-Терезии, люди же Нового Света чем-то сковывали. Он боялся, что, поехав в Америку, принесет своему делу не пользу, а вред.
Он подумывал и о том, чтобы послать вместо себя компетентного представителя. Но единственным человеком, подходившим для такой миссии, был Поль, а послать больного друга за океан — значило обречь его на смерть, и Пьер гнал от себя эту мысль, едва она появлялась. Теперь Поль сам предлагал свои услуги; такая жертва тронула Пьера. Порывисто, не раздумывая, он заявил, что никогда не позволит Полю поехать в Америку, что Поль слишком необходим ему здесь, во Франции. Поль упрямо отвечал, что не изменит своего решения и поедет в Америку со следующим караваном, на «Амети». Он уже кое-кому сообщил о своем решении.
— Вы говорили об этом с другими? — удивленно спросил Пьер.
— Да, — ответил Поль, — мне нужно было решиться. Я хотел связать себя и вас.
— С кем же вы говорили? — спросил Пьер, полагая, что Поль ответит: «с Мегроном» или «с Гюденом».
— С доктором Франклином, — сказал Поль.
Пьер опешил. Этого молодого человека американец подпустил к себе, он настолько сблизился с ним, что юноша посвящает его в свои сокровенные планы.
— Поймите, Пьер, — говорил тем временем Поль, — теперь я уже не могу отказаться от поездки в Америку. Я не хочу предстать перед Франклином в смешном свете.
Эти простые слова еще более ожесточили Пьера. Он, Пьер, по непонятным ему причинам предстает перед Франклином в смешном свете, а этот юноша готов скорее умереть, чем показаться американцу смешным.
— Я ни за что не отпущу вас в Америку, — воскликнул он с жаром, — ни за что!
— И все-таки я поеду, — с таким же жаром возразил Поль. — Как вы заплатите за «Орфрей», как сохраните фирму, если никто туда не поедет и не вытребует у них ваших денег?
— Предоставьте мне самому об этом заботиться, — грубо ответил Пьер. Он грубил потому, что иметь в Америке такого представителя, как Поль, было бы просто великолепно, и еще потому, что об этом нечего было и думать. Ни за что, даже если фирма «Горталес» обанкротится, не позволит он Полю идти на верную смерть.
Он стал энергично доказывать Полю, что без него здесь не обойтись. Поль слушал с непроницаемым лицом.
«Амети» снялась с якоря, караван ушел в море без Поля.
Из прованского города Экса сообщили, что апелляционный процесс, которого Пьер столько лет ожесточенно добивался, наконец назначен. Вержен все-таки сдержал слово. Пьера охватила буйная радость.
На время процесса необходимо было его присутствие в Эксе. Между тем сложные дела фирмы «Горталес» почти ежедневно требовали новых решений, принимать которые следовало в Париже, а из-за ремонта «Орфрея» — судно было уже куплено — приходилось довольно часто ездить в Бордо; фирма «Тестар и Гаше», взявшаяся за этот ремонт, становилась все несговорчивее, она то и дело повышала цены, и ускорить завершение работ мог только постоянный контакт с верфью, а для этого фирме «Горталес» нужен был сведущий, надежный и энергичный представитель. Решили, что в отсутствие Пьера парижские дела будет вести Мегрон, а в Бордо отправится Поль.
— Видите, — сказал Пьер, — как хорошо, что вы остались во Франции.
Затем Пьер поехал в Экс; он и на этот раз взял с собой Филиппа Гюдена, идеального спутника. Расставшись с запутанными, наводившими уныние делами, Пьер забыл о них и после первой же мили пути пришел в отличное настроение.
Судебное дело Пьера, само по себе весьма простое, было умышленно осложнено. В основе его лежали два разных процесса. Первый касался наследства друга и покровителя Пьера — Дюверни. Пьер предъявил документ, являвшийся как бы его последним расчетом с Дюверни. Правомочность этого документа оспорил племянник и наследник Дюверни, граф де ла Блаш. Суд стал на сторону графа. Хотя документ и не был объявлен поддельным, его признали недействительным, лишив Пьера значительной доли состояния и косвенно создав ему репутацию фальсификатора.
В ожидании того процесса Пьер, как это было принято, давал взятки. Он посылал подарки жене судьи, готовившего доклад по его делу, чтобы та устроила ему свидание с мужем; всем этим Пьеру приходилось заниматься, сидя в тюрьме, куда он попал из-за нелепой драки с герцогом де Шольном, ревновавшим к нему Дезире. Однако все ухищрения, взятки и хлопоты помогли ему столь же мало, как и его правота.
Когда приговор был вынесен и терять стало нечего, Пьер обратился к общественному мнению. В блестящих памфлетах он живописал, сколько труда и сил стоит французскому гражданину борьба за свои права и как он все-таки не может добиться правды. Пьер никого не обвинял, он просто рассказал историю своего процесса, но рассказал ее так красноречиво, с таким остроумием, с таким убийственным юмором, что продажность французского правосудия сразу же становилась очевидна всякому. Памфлеты Пьера взволновали всю страну, всю Европу и привели наконец к реформе французского судопроизводства. Автору, однако, эти памфлеты принесли только новые беды; Пьером заинтересовался Верховный парижский суд, который обвинил его в оскорблении правосудия и, признав виновным, «заклеймил» его, приговорил к лишению почетных прав.
Всем было ясно, что такого «клейма» Пьер не заслуживает, что это — жестокая месть судей, задетых его памфлетами. Однако судьи всегда могли возразить, что осужденный ими автор памфлетов был уже однажды уличен в подлоге и, следовательно, репутация его сомнительна. Вот почему Пьеру нужно было прежде всего добиться отмены первого приговора; на процессе, назначенном в Эксе, он собирался представить новые доказательства подлинности документа, предъявленного им в подтверждение последней воли Дюверни и последних своих расчетов с покойным. Если этот документ признают подлинным, то он, конечно, добьется, чтобы с него сняли «клеймо» и объявили второй приговор недействительным.
Едва прибыв в Экс, Пьер поспешил нанести визиты председателю и членам апелляционного суда. Нет, на этот раз друзья-аристократы его не подвели. Здешние судьи явно получили указания из Версаля, они были полны решимости довести его дело до победного конца.
Уверенный в судьях, Пьер пригласил самых близких ему людей — Терезу, Жюли, Поля — приехать в Экс и участвовать в его триумфе. Тереза отклонила приглашение; ехать без маленькой Эжени ей не хотелось, а пускаться в дорогу с ребенком, да еще в жару, она боялась. Поль написал, что ему не на кого оставить дела в Бордо. Одна только Жюли сообщила, что приедет.
Хотя ближайшие друзья Пьера отсутствовали, предстоявший процесс вызвал во всей стране не меньший интерес, чем предыдущий. Со всех концов Франции съезжались юристы, чтобы следить за процессом на месте, и все газеты давали отчеты о заседаниях суда.
Пьер рассчитывал, что процесс продлится две-три недели. Но именно потому, что исход был предрешен, судьи, желая доказать свою объективность, вникали в мельчайшие подробности дела. Заседания сменялись заседаниями, проходили месяцы, и все это время оба противника сражались перед судом в речах, а перед обществом — в памфлетах.
Де ла Блаш привез с собой кучу адвокатов и экспертов по финансовым вопросам. Пьер ограничился Гюденом и одним поверенным. «Мой противник, — писал он в одном из своих памфлетов, — бросает на меня из засады целую армию наемников; что же касается меня, то я подобен дикому скифу, сражающемуся в открытом поле и надеющемуся лишь на собственные силы. Когда моя стремительно пущенная стрела со свистом вонзится в противника, всякий скажет, с чьей тетивы она слетела. Ибо, подобно скифу, я пишу на наконечнике стрелы имя лучника. Это имя — Карон де Бомарше». Дальше он заявлял: «Я миролюбив. Я вступаю в бой, только если на меня нападают. Я — барабан, который гремит, только когда в него ударяют, но зато уж гремит грозно».
И снова речи сменялись речами, заседания заседаниями, свидетели свидетелями, а дело все тянулось. Пьер ждал шесть лет. По сравнению с этими шестью годами ждать оставалось недолго. Ему же казалось, что ожиданию не будет конца.
В городе Эксе, центре французской юстиции, все дышало пылью юриспруденции. Мрачностью веяло от развалин древнего поселения, от руин римских дворцов и бань, печать запустения лежала на замке графа Прованского, давно пришли в ветхость стены большого монастыря, где заседал суд. От этого угрюмого окружения ожидание казалось Пьеру еще нестерпимее. Всякий раз, когда выдавался свободный день, он ездил со своим Гюденом в окрестности города. Они бродили но горам и холмам, по лесам, по оливковым и дубовым рощам, по бесконечным виноградникам красочного Прованса. Они восхищались гигантскими акведуками, которые римляне возвели возле Нима, и огромным, похожим на крепость папским дворцом в Авиньоне.
Тем временем приехала Жюли. Поль же снова сообщил, что, к сожалению, не может быть и речи об его отъезде из Бордо. Ему приходится сражаться с бюрократами из фирмы «Гаше», наглость которых дошла до того, что они подвергли сомнению его полномочия. Поэтому он просит Пьера подписать прилагаемую доверенность, которая защитит его, Поля, от любых придирок.
Поль числился первым доверенным фирмы «Горталес», и это было отлично известно фирме «Гаше»; Пьер только покачал головой, узнав о таком крючкотворстве. Он мельком вспомнил, что на ближайшие дни назначено отплытие из Бордо его судов «Ле Фламан» и «Л'Эре». Может быть, чтобы выжать деньги, верфь «Гаше» стала чинить препятствия выходу кораблей? Не лучше ли, вместо доверенности, послать Полю письмо с настойчивой просьбой отложить все дела и приехать? Они бы здесь все обсудили, и в момент вынесения приговора его друг был бы с ним рядом. Но ведь Поль ужасный педант, когда дело касается его обязанностей, он же все равно не согласится покинуть Бордо. Пьер подписал доверенность, отправил ее.
И забыл обо всей этой истории. Наконец-то наступал долгожданный миг. Наконец-то, после пятидесяти девяти заседаний, судьи назначили к слушанию заключительные речи обеих сторон.
Граф де ла Блаш говорил ровно пять часов, Пьер — на час дольше. Потом судьи удалились еще на одно, теперь уже последнее заседание, чтобы вынести приговор. Это заседание заняло остаток дня и весь следующий день.
Присутствовать при объявлении приговора хотелось многим. Полуразрушенный монастырь, где заседал суд, был полон любопытных. Весь город нетерпеливо ждал.
Граф де ла Блаш держался очень уверенно. На время пребывания в Эксе он снял один из старинных дворцов. Вечером того дня, когда суд удалился на совещание, он пировал со своими адвокатами и советниками; все окна огромного здания были освещены. Пьер скромно провел этот вечер с Жюли и Гюденом в квартире своего адвоката на одной из отдаленных боковых улиц.
Поздней ночью наконец объявили решение.
Из зала суда по всем запутанным улочкам Экса пронеслось: «Бомарше победил!» Огни во дворце де ла Блаша погасли. Зато узкая улица, на которой жил Пьер, озарилась пламенем факелов. «Бомарше победил!» — ликовали участники факельного шествия.
Пьеру не раз случалось одерживать победы, но никогда еще не был он так счастлив, как сегодня. Только теперь, в короткое мгновение, он почувствовал всю глубину несправедливости, которую претерпел. Он был невиновен, это знали все, всех убедили в этом его памфлеты. И все-таки его врагам-аристократам позволяли наносить ему один коварный удар за другим, позволяли устраивать ему всяческие гадости, обвинять его в жульничестве, подлоге, отравлении — в чем угодно, и никто пальцем не пошевелил в его защиту. Привилегированные друзья, которые могли бы ему помочь, ограничивались тем, что восторгались брошюрами и благодушно похлопывали его по плечу. А позора, самого настоящего позора, они и не думали с него снять; еще бы, ведь он же мещанин, что ему позор? Но он-то чувствовал все эти годы этот позор, что лежал на его плечах тяжким грузом и жег кожу. Теперь наконец он смыл с себя «пятно», теперь наконец от «вины» ничего не осталось. Он боролся за справедливость не только ради себя самого, но и ради всех тех, кто вышел из низов, кто не звал привилегий. Это была славная борьба и славная победа, лучшей и быть не может.
Вот какие мысли пронеслись у него в голове, когда возглас: «Бомарше победил!» — донесся до его слуха. Иного исхода он и не ждал. Все эти годы он был уверен, что так и будет. Но сейчас, когда надежда его сбылась, он не выдержал. Избыток счастья разрывал ему грудь, и Пьер упал, потеряв сознание.
Его стали растирать всякими снадобьями, привели в чувство, напоили вином. Возле дома собрался целый оркестр — флейты, барабаны, скрипки. Факельные процессии прибывали и прибывали. Делегация ремесленников поздравила его импровизированными провансальскими стихами. Гюден блаженствовал, он не спускал с Пьера восхищенных глаз. Жюли неистовствовала больше всех.
— Хорошая была поездка, — сказал Пьер, когда карета остановилась перед его домом на улице Конде.
Еще больше блистал Пьер, когда на основании процесса в Эксе был назначен пересмотр его дела в Верховном парижском суде.
Версальские друзья Пьера дали ему понять, что правительству было бы приятнее, если бы он на этот раз помолчал. Поэтому он ограничился тем, что заявил в памфлете о своем намерении «проглотить язык и предоставить слово фактам, только фактам». Так он и поступил. Просто одетый, с одним-единственным перстнем на руке — это был бриллиант императрицы Марии-Терезии — он вошел в переполненный зал, скромно уселся на указанный ему стул и за все время заседания не проронил ни слова.
Процедура была короткой, слишком короткой для Пьера. Генеральный прокурор в двух словах предложил отменить прежний приговор. После пятиминутного совещания суд объявил решение: «Пьер Карон де Бомарше возвращается в то гражданское состояние, в каком он пребывал до приговора, суд признает его невиновным и полностью оправдывает, возвращая ему все прежние чины и звания». Зал гремел от ликования, когда Пьер отвесил поклон своим судьям. Энтузиасты понесли его на руках к карете. «Мученику Бомарше» был устроен триумф, какого до сих пор он не видывал и в театре.
На следующее утро, во время его «леве», все исчезнувшие визитеры были снова тут как тут, — и барон де Труа-Тур, и мосье Ренье из Верховного суда, и шевалье Клонар из «Компани дез Инд».
Еще через неделю пришел приговор из Экса. В кое-каких частностях он оказался еще благоприятнее, чем Пьер ожидал. Правда, приговор предписывал уничтожить памфлет о скифе со стрелою и барабаном, как незаслуженно оскорбляющий противную сторону, но зато Пьеру присуждались все денежные суммы, на которые он претендовал, да еще с очень высокими процентами. Кроме того, суд присудил ему тридцать тысяч ливров в возмещение урона, понесенного им по вине лиц, нерадиво распоряжавшихся наследством покойного Дюверни. В общем, его опустевшая касса неожиданно получила хорошее пополнение.
А потом ему доставили портрет, который также отходил к нему по суду, портрет Дюверни работы художника Дюплесси. В стену вбили крюки, и голый простенок исчез. Картина висела как воплощение его упорства, энергии, оптимизма, и Пьер глядел на нее с поглупевшим от счастья лицом.
В блестящей, хмельной суете этих дней Пьер как-то не думал о том, что от Поля давно нет известий. Он жалел, что Поля не было и на парижском процессе, и удивился, увидев на последних отчетах из Бордо вместо подписи Поля подпись постоянного агента фирмы «Горталес», мосье Пейру. Но вот от мосье Пейру пришло срочное деловое письмо с вопросами, которые без труда мог бы на месте разрешить Поль. Встревожившись, Пьер потребовал, чтобы ему немедленно сообщили, что случилось с Полем. Удивленный мосье Пейру тотчас же ответил, что мосье Тевено, как известно, отбыл в Америку с последним караваном.
С тех пор как перестали поступать письма от Поля, у Пьера мелькало такое подозрение, но всякий раз он гнал его прочь. Теперь, потрясенный, он пенял на себя, оправдывался перед самим собой. До чего же хитро мотивировал Поль свою просьбу о доверенности. Все равно, он, Пьер, не имел права попасться на удочку. Он и не попался бы, если бы не был так занят своим процессом; на это-то Поль и рассчитывал. Разве он, Пьер, в чем-нибудь виноват, если коварный Поль действует такими методами? Разве он не сделал всего возможного, чтобы удержать друга? Разве он самым решительным образом не запретил ему ехать? Разве Поль не повиновался? Право же, он не хотел, чтобы Поль уезжал за море. Он был зол на себя, на Поля и больше всего — на недоброжелательство американцев.
Сразу же после триумфа в зале суда он отправился к Терезе и, сияя, заявил ей, что он реабилитирован и ничто больше не препятствует их браку; он сказал это с таким видом, как будто не он, а она связала их бракосочетание определенным сроком. Они тогда же договорились дождаться возвращения Поля из Бордо: им не хотелось устраивать свадьбу в его отсутствие. И вот теперь Пьер смущенно, взволнованно, однако не без гордости рассказал Терезе, как благородно и как безрассудно поступил его друг.
Она побледнела, покраснела, ее большие, ясные, серые глаза потемнели, а крылатые брови поднялись еще выше.
— Этого никак нельзя было допускать, Пьер, — сказала она и через мгновение прибавила: — Это подлость.
Она говорила спокойнее, чем он ожидал, но резче, решительнее.
У Пьера была бурная жизнь, его часто захлестывали волны брани и оскорблений, иногда заслуженных, иногда незаслуженных, но каждый раз он одолевал волну и поднимал голову над ее гребном. Слова, брошенные ему сейчас в лицо этой женщиной, самым близким ему на земле человеком, были, мягко говоря, чудовищным преувеличением. Может быть, занятый своим процессом в Эксе, он и в самом деле отнесся без должного внимания к странному письму друга; но больше он ни в чем не был виноват. А Тереза говорила с ним так, словно он послал мальчика на смерть. Он начал было горячо возражать. Но, поглядев на ее большое лицо, увидев на нем гнев и презрение, сразу осекся и замолчал. Прежде чем он собрался с мыслями, она успела выйти из комнаты.
Побитый и бесконечно одинокий, сидел Пьер у стола, на котором еще стояли остатки завтрака. Его поражение казалось ему гораздо важнее побед в Париже и в Эксе, он потерпел его неожиданно, и потерпел у нее, Терезы. Всегда такой находчивый, он сидел сейчас беспомощный, сокрушенный. Залпом выпил стакан вина, встал, пошел за ней.
Она была в спальне. Он сел рядом с ней. Он ни словом не обмолвился о злосчастной новости, он знал, что оправдания бесполезны. Он осторожно заговорил о предстоявшей свадьбе, о том, о сем. Она покачала головой. Он робко взял ее руку, она отдернула ее.
Он помолчал. Потом, зная, что не следует этого делать, стал рассказывать, как он противился отъезду Поля. Тогда она отвернулась и тихо, но так, что не повиноваться нельзя было, сказала:
— Прошу тебя, уходи.
Он ушел, униженный, как никогда.
Артур Ли, вернувшийся из Мадрида ни с чем, нашел немало ядовитых слов для осуждения той легкой, привольной жизни, которую вел доктор honoris causa в Пасси.
И действительно, всю весну и начало лета Франклин, общаясь в свое удовольствие с людьми, мало беспокоился о делах, убежденный, что всякая попытка ускорить переговоры о признании, о торговом соглашении и союзе с Версалем ничего, кроме вреда, не принесет. Оставалось только ждать.
Из Филадельфии сведения поступали скупо; большая часть судов, шедших в Европу, несомненно, попадала в руки англичан. Было ясно, что дела обстоят не блестяще. Однажды даже пришлось эвакуировать Филадельфию, и Конгресс заседал в Балтиморе. Сейчас, правда, Конгресс возвратился, и наступление противника явно приостановилось, но положение по-прежнему внушало тревогу. Если, однако, Артур Ли полагает, что тем сильнее нужно нажимать на Версаль, то он ошибается. Именно теперь, когда нельзя похвастаться победами вроде трентонской или принстаунской, нужно ждать, пока не улучшится военное положение.
Франклин не был воином. Ему было свойственно глубокое отвращение разумного и гуманного человека к такому дикому, атавистическому абсурду, как война. В течение всего длительного конфликта с Лондоном он, не жалея сил, старался избежать войны, и если это не удалось, то, конечно, не по его вине. Из всех глупых игр человечества война казалась ему самой глупой и дорогостоящей, и ему было совестно перед самим собой, что обстоятельства заставляют его желать второго Трентона или второго Принстауна, со всеми смертями и страданиями, которые связаны с такими победами.
Господа из Конгресса явно не понимают, что при теперешнем положении дел союз с Францией попросту недостижим. Их письма, точное повторение речей Артура Ли, неизменно заканчивались требованием, чтобы эмиссары любой ценой ускорили заключение торгового договора и союза, которых Америка ждет, как ждут дождя в засуху.
Морепа и в самом деле был прав, когда с присущим ему цинизмом издевался над наглой забывчивостью филадельфийцев. Ведь совсем недавно некоторые члены Конгресса, более других ратующие теперь за союз с Францией, произносили громовые речи об исконной вражде к французам, еретикам, идолопоклонникам и рабам тирана. Обо всем этом забыли теперь в Филадельфии. Но не забыли в Версале.
Да и сам он, Франклин, отнюдь не забыл той войны, которую американцы называли франко-индейской, а европейцы Семилетней. Хорошо зная людей, он понимал филадельфийцев, объяснявших победу в этой войне прежде всего военными успехами американцев и англичан. Но он понимал и парижан, полагавших, что только случайное стечение обстоятельств лишило Францию верной победы. Если бы в тот момент, когда Фридрих Прусский был на волосок от разгрома, русская императрица не умерла и престол не перешел к ее слабоумному, известному своими романтическими бреднями сыну, то, по мнению парижан, Пруссия потерпела бы поражение, а Франция диктовала бы условия мира на континенте, и обе католические державы никогда не отдали бы врагам своих заокеанских владений.
Франклин часто размышлял об удивительных последствиях победы 1763 года, обернувшейся теперь против победителей-англичан. Если бы не эта победа, католические колонии Испании и Франции по-прежнему охватывали бы английскую Америку железным кольцом; сдержать натиск Франции и Испании без военной помощи метрополии английская Америка не сумела бы, а следовательно, о независимости от Англии не могло бы быть и речи.
Такие размышления настраивали и на веселый и на мрачный лад. Если глядеть на события широко, — а к началу восьмого десятка Франклин этому научился, — становилось ясно, что наперекор всему человечество движется вперед, что оно делается умнее или, по крайней мере, менее глупым. История идет окольными путями, очень странными окольными путями, не всегда поймешь, куда она клонит. Но цель в этом, кажется, есть, и, кажется, разумная цель. Только нужно уметь ждать.
Думая обо всем этом, Франклин сидел за письменным столом, и мудрые мысли о медленности исторического прогресса не ослабляли досады, которую вызывала у него неприятная почта, снова непозволительно запущенная. Он со вздохом взглянул на гору бумаг. Затем решительным движением отодвинул ее в сторону. Он еще раз навлечет на себя гнев мистера Артура Ли и еще раз отложит составление ответов на эти докучливые послания. Зато он доставит себе удовольствие и напишет письмо мадам Брийон.
Мадам Брийон уехала на юг. Доктору было приятно думать о ней. Приготовившись писать, он ясно представил себе, как она сидит у него на коленях, нежно прижавшись к нему, касаясь своим красивым лицом его лица. Смуглая, темноволосая, она обладала внешностью южанки, ее большие, кроткие черные глаза находились в удивительном контрасте с легким, теплым пушком над короткой верхней губой, ласково щекотавшим его при прикосновении. Франклин сам не знал, кого он предпочитает — мадам Гельвеций или мадам Брийон; обе с одинаковой нежностью называли его старым плутом, обеим он уделял одинаково много времени, с обеими говорил в галантно-фривольном тоне, к обеим его одинаково влекло.
«Я часто прохожу мимо вашего дома, милая и дорогая мадам Брийон, — писал Франклин, — и мне кажется, что он опустел. Прежде при виде его я часто грешил против заповеди „Не желай жены ближнего своего“. Теперь я ее не нарушаю. Должен, однако, признаться, что всегда находил эту заповедь весьма обременительной. Она противна человеческой природе, и можно только пожалеть, что она существует. Если во время своего путешествия вы случайно встретитесь со святым отцом, сделайте милость, попросите его отменить эту заповедь». В том же духе он написал еще несколько строк; он писал увлеченно, он очень любил такие письма.
Но играть в прятки с самим собой стало в конце концов невозможно, и он занялся деловой корреспонденцией. Сразу же начались подагрические боли в ноге, давно его не беспокоившие. Он разулся и, покряхтывая, принялся растирать больные места.
Жаль, что от Вильяма так мало толку. Ни одного более или менее важного письма нельзя ему поручить. Мальчик он сметливый, но к делам относится несерьезно, голова у него забита другим. Он очень хорош собой, всех подкупают его живость и молодость, но тут-то и кроется соблазн и опасность. Он любит сорить деньгами, пристрастился к игре, водит знакомство с женщинами. Когда он просит денег, он бывает так очарователен, что отказать ему невозможно. Пытаться образумить его бесполезно; притчи и изречения деда, благотворно действующие на других, не производят впечатления на этого изящного, довольного собой и миром молодого человека.
Жаль, что у него нет помощника, такого, скажем, как мосье Тевено. Тот принес себя в жертву своему ветреному патрону и уехал в Америку, а ему, Франклину, приходится вести дела одному.
Впрочем, люди, его окружающие, вовсе не так уж ненадежны, как утверждает Артур Ли, у которого после Испании появилась новая блажь: ему везде чудились шпионы. На каждого, кто появлялся в Пасси, будь то Банкрофт, которому Франклин поручал иногда сложную секретарскую работу, или молодой священник Джон Вардил, Артур Ли смотрел с недоверием. Сайлас Дин жаловался, что его, Дина, секретарей, Джозефа Гинсона и Якобуса ван Зандта, Артур Ли объявил шпионами, тогда как собственный секретарь Артура Ли, некий мистер Торнтон, вне всякого сомнения, темная личность. Дело дошло до бурной ссоры между обоими эмиссарами, и Франклина забавляла его новая роль посредника между коллегами.
Он не знал, что правы оба. Подозреваемые ими в шпионаже помощники и секретари, все без исключения, действительно выполняли задания английской или французской разведки.
Мысль о взаимных подозрениях его сотрудников побудила Франклина выбрать из груды писем одно, полученное накануне от неизвестного лица и к тому же загадочным путем. Таинственный барон Вейсенштейн давал ряд заманчивых обещаний американским вождям на тот случай, если они выскажутся за компромиссный мир с Англией. Большие деньги, чины и звания барон сулил, в частности, Франклину и генералу Вашингтону. Франклин решил, что эти предложения сделаны всерьез и не иначе, как с ведома короля Георга; доктору показалось даже, что он узнал педантичный стиль английского короля. Предположив, что и ответ его будет читать сам король, он постарался написать как можно острее и ядовитее, чтобы его величество позеленел от злости.
Сочинив ответ, он еще раз прочитал хитроумное указание, как связаться с таинственным бароном. В следующий понедельник у железной решетки на хорах Нотр-Дам появится художник, рисующий хоры собора; в петлице у него будет роза. Этот посыльный не знает, в чем дело; он верит, что речь идет о каком-то любовном приключении. Ему можно безбоязненно передать ответ.
Доставить письмо в Нотр-Дам Франклин поручил одному молодому человеку, который, как казалось доктору, состоял на службе во французской полиции. Не мешает, чтобы мосье де Вержен узнал, что американские эмиссары не отказываются от тайных переговоров с англичанами. Может быть, это немного подхлестнет Версаль.
В назначенный день и час на хорах Нотр-Дам появился посыльный Франклина; равным образом появились английские и французские тайные агенты. У каждого было дело, каждый нашел материал для доклада, каждый чувствовал свое превосходство над другими.
Парижане, как и прежде, восхищались Франклином; мудрец и политик, с философским спокойствием следивший за событиями из своего сельского сада, был для них фигурой символической. Однако скверное военное положение американцев заставляло Франклина опасаться, что эти иллюзии скоро рассеются; восторгаться делом, обреченным на гибель, долго нельзя. Ему казалось, что на портретах, изготовлявшихся по-прежнему во множестве, у него уже не такой располагающий вид. С портретов глядел на него теперь хитрый, прижимистый крестьянин, лишенный величия и добродушия.
Поэтому он обрадовался, когда его домохозяин, мосье де Шомон, попросил у него разрешения заказать его портрет художнику Дюплесси: мосье Дюплесси — самый знаменитый и дорогой портретист Франции — придавал своим моделям особое благообразие.
Мосье Дюплесси оказался невзрачным пятидесятипятилетним человеком. На провансальском диалекте, который Франклин понимал с великим трудом, художник робко объяснил ему, что работает медленно и тяжело и что потребуется довольно много сеансов. Это было некоторым разочарованием для доктора, не любившего подолгу сидеть на месте, тем не менее портрет кисти Дюплесси стоил такой жертвы.
После первого же сеанса любопытному Франклину захотелось посмотреть, как движется дело, но Дюплесси предпочитал не показывать незаконченных картин.
Вообще же Франклин явно импонировал Дюплесси; художник, и без того скупой на слова, был при нем особенно молчалив. Впоследствии, однако, поняв, что Франклину он понравился, Дюплесси несколько оживился. Он рассказал о своих попытках улучшить некоторые лаковые краски, в первую очередь крап и ультрамарин. Кроме того, он изобрел новый способ изготовления кукол, которыми художники пользуются в своих мастерских как натурой, — из резины. Оценив несомненный интерес доктора к этим изобретениям и его толковые вопросы, художник решил поведать ему и другие свои заботы.
Не так-то просто писать сильных мира сего. Сначала они долго не соглашаются позировать, затем по пяти, а то и по десяти раз откладывают сеансы или просто, без всякого предупреждения, их отменяют. Сколько хлопот доставил ему портрет королевы, — она была тогда еще дофиной, — портрет, который он писал для ее величества императрицы Австрийской. В конце концов Туанетта соблаговолила дать ему два с половиной сеанса. И все-таки, по мнению знатоков, портрет удался. Ее венское величество, однако, осталась недовольна и заявила, что сходство с оригиналом недостаточно, что можно было изобразить ее дочку и покрасивее, что вообще живая Туанетта лучше написанной. Дюплесси вздыхал, ухмылялся. Затем полувесело, полугневно рассказал о том, как ему пришлось писать короля. Он писал его трижды. Мосье д'Анживилье требовал, чтобы в портретах чувствовалось королевское величие, они предназначались для иностранных монархов. Когда его величество не были еще так жирны, изобразить его во всем королевском блеске не составляло большого труда: корона, скипетр, горностаевая мантия, орденская звезда делали свое дело. Но добиться, чтобы король спокойно посидел, было почти невозможно. Дюплесси ездил за ним на коронацию, и когда до открытия Салона оставалось всего шесть дней, Людовик еще не дал художнику обещанного второго сеанса. В другой раз ему заказали особенно «грандиозный» портрет Людовика: «Компани дез Инд» хотела сделать подарок карнатикскому радже.[46] Людовика нужно было изобразить без короны, но со всеми другими знаками власти; срок дали очень маленький, судно должно было вот-вот уйти в Индию. Однако служба хранения королевских регалий не торопилась и чинила одно препятствие за другим. Наконец, — при всем своем спокойствии художник до сих пор не мог говорить об этом без гнева, — д'Анживилье велел ему заменить голову на портрете покойного Людовика Пятнадцатого, написанном Ван-Лоо,[47] головой Людовика Шестнадцатого: раджа вряд ли, мол, разберется в таких тонкостях.
В ответ на это Франклин рассказал художнику несколько своих любимых историй. Работа, однако, шла медленно, обоим хотелось, чтобы она удалась; темы для бесед понемногу исчерпывались, и в конце концов им стало не о чем говорить. Тогда Франклин начал приглашать на сеансы разных друзей, которые болтали с ним или читали ему вслух. Дюплесси, боявшийся, что американцу надоест позировать, был рад любому средству.
Однажды, без предупреждения, явился Морепа. Ему сказали, заявил он, что доктор Франклин позирует портретисту. Он, Морепа, счел своей обязанностью навестить и развлечь старого друга.
Франклин сидел на возвышении в удобной, но чинной позе, жилет его вздулся складками, волосы падали на меховой воротник. Он знал, что такая поза очень ему идет. Элегантный Морепа сидел напротив и несколько ниже доктора. Этот тщательно одетый, сильно надушенный семидесятишестилетний старик и его полный простоты и достоинства собеседник, семидесяти одного года, были разительно непохожи друг на друга.
В последнее время, добродушно сказал доктор, ему часто приходилось слышать, что его величают хитрецом и пройдохой; он полагает, однако, что у него есть и другие качества, которые, надо надеяться, отразит портрет почтенного Дюплесси, например, терпение. Морепа усмехнулся.
— Это вы-то хитрец, дорогой доктор? — сказал он по-английски, не желая, чтобы Дюплесси его понял, и продолжал: — Нет, при всем уважении к вашей мудрости хитрецом вас никак не назовешь. Взять, к примеру, ваш фокус с этим бароном Вейсенштейном. Такие вещи на нас, парижан, не действуют.
Франклин про себя ухмыльнулся. Так вот почему пришел Морепа. Доктору давно не терпелось узнать мнение Версаля о своей переписке с сомнительным бароном.
— И как бы вы нас ни убеждали, — продолжал министр, — мы не верим, что вы — лиса и Макиавелли. Мне было даже лень читать ваше письмо к этому Вейсенштейну. Я и так знал, что вы не станете заключать мир, пока не признают вашу независимость.
Франклин обрадовался. Министр говорил в точности так, как он, Франклин, хотел и ожидал.
— Так вот, можете спокойно продолжать переговоры с вашими англичанами, — сказал Морепа. — И если в будущем вы пожелаете передавать свои послания незаметно, то наша полиция подскажет вам менее дилетантские способы. Например, доверенный вашего Вейсенштейна может просить милостыню на мосту Пон-Неф, а вы, бросая в его шляпу су, опустите туда заодно и письмо.
— Я не помешаю вам, если улыбнусь, мосье Дюплесси? — спросил Франклин.
— Отнюдь нет, многоуважаемый доктор, — поспешил ответить художник.
— Вы должны признать, — сказал Франклин министру, — что ваша политика толкает нас на переговоры с Лондоном. Вы заставляете нас слишком долго томиться ожиданием.
— Положим, такому человеку, как Франклин, томиться несвойственно, — любезно ответил Морена. — Ожидание дается вам легко, говорят, вы умеете приятно и достойно проводить время. И, конечно, вы согласитесь, что военное положение Америки не облегчает задачи ваших версальских друзей, стремящихся поскорее заключить договор.
По указанию Дюплесси Франклин немного склонил голову вправо, но лицо его невольно приняло более серьезное и мрачное выражение, чем того хотелось художнику. Не дав Франклину ответить, Морепа продолжал:
— Я приехал не затем, чтобы портить вам сеанс. Поверьте мне, что неблагоприятные вести из Америки, в сущности, не меняют вашего положения в Париже. Мы не будем торопиться с договором, но отдать вас на растерзание англичанам мы тоже не можем себе позволить. Одно ясно, — закончил он учтиво, — никакие превратности войны не тронут главного актива Америки — вашей популярности, доктор Франклин.
— Очень жаль, — тихо, но внятно ответил со своего возвышения Франклин, — если такое великое дело, как создание американской республики, зависит от популярности какого-то одного человека.
— Мы оба достаточно стары, друг мой, — возразил Морепа, — чтобы видеть, какую огромную роль в мировой истории играет счастливая случайность, скажем, приятная пароду внешность того или иного деятеля. Или, может быть, вы думаете, что историей управляет более глубокий закон? Я, например, этого не думаю. Чем дольше я живу — слушайте и вы, милейший Дюплесси, — вставил он, перейдя на французский, — вам пригодятся мои признания, — чем дольше я живу, тем яснее мне становится, что история лишена смысла. Она несет нас на своих волнах то туда, то сюда, мы барахтаемся в них и зависим от их воли.
Приветливая, веселая комната стала вдруг голой и унылой от этих слов. Они были сказаны спокойным, непринужденным тоном и поэтому прозвучали особенно брюзгливо. Даже мосье Дюплесси опустил кисть и с неудовольствием поглядел на любезно улыбавшегося Морепа.
Франклин, сидевший на возвышении, не шевельнулся.
— Я думаю, — сказал он, — что мы пытаемся придать смысл мировой истории. — Фраза эта была произнесена скромно, без тени поучения; но в ней слышалась такая уверенность и такая убежденность, что от мрачности, навеянной словами министра, ничего не осталось.
— Это вы пытаетесь, мосье, — вежливо сказал Морепа.
Он встал, выпрямился и с удивительным для его лет проворством, так что Дюплесси не успел ему помешать, подошел к картине. Сделал шаг-другой назад, подошел ближе, опять отошел, посмотрел. Оживился. Стал сравнивать человека, сидевшего на возвышении, с человеком, глядевшим с холста.
— Но это же великолепно, дорогой Дюплесси, — вырвалось у него. — Это еще лучше, чем написанный вами портрет Глюка. Теперь только и видишь, — обратился он к Франклину, — что вы за человек. Какой широкий, могучий лоб, — восторгался он, нимало не стесняясь присутствием модели, — сразу видно, как за ним работает мысль. А эти складки, глубокие и сильные! В них нет ничего, что говорило бы о скучном, пахнущем потом труде. А какое хладнокровие в глазах. Вы зададите нам еще немало хлопот, милейший доктор. Теперь я только и понял, сколько с вами будет хлопот.
Он снова углубился в созерцание картины.
— Какая жалость, — пробормотал он, — что я не захватил с собой Салле и что мое первое впечатление пропадет для потомков.
Он решил высказаться хотя бы перед художником.
— Человек, которого вы изобразили на этом полотне, не знает трудностей. Ему все дается легко. Даже на склоне лет создание республики для него не работа, а игра. Все для него игра — науки, люди, дела. «Par mon ame, s'il en fut en moi», — процитировал он свой любимый стих, — «клянусь душой, если она у меня есть», вы сами не знаете, дорогой Дюплесси, какой шедевр вы сотворили.
— Простите, если я разошелся, доктор Франклин, — продолжал он, — но когда мы, французы, чем-нибудь восхищаемся, мы должны сразу же выговориться. Знаете, кто вы такой, уважаемый доктор Франклин, — воодушевился он снова, — знаете, о чем говорит эта поза и этот взгляд? Вы мужчина. Voila un homme, — сказал он. — Behold the man, — попробовал он перевести. — Нет, — заключил он, — это можно сказать только по-латыни: ecce vir.
Франклин поднялся, потянулся.
— Можно мне немного размять ноги? — спросил он художника, который, покраснев от похвал министра, неуклюже стоял в стороне.
Франклин сошел с возвышения, сделал несколько шагов, почесался.
— Граф считается первым знатоком искусства в этой стране, — сказал он живописцу. — Наверное, вы и в самом деле создали шедевр. Позвольте мне взглянуть.
С холста на него глядел Вениамин Франклин, которого он знал, но в котором появилось что-то чужое. Были и мешки под глазами, и морщины, и двойной подбородок. Могучий лоб, сильные, энергичные скулы, строгие, испытующие, очень справедливые глаза, длинный, сомкнутый рот, не созданный для того, чтобы жаловаться или отрекаться. Старый человек и вовсе не старый, знакомый и все-таки новый.
Дюплесси поглядел на Франклина с некоторым испугом. Лицо доктора непроизвольно приняло строгое, испытующее выражение, как на портрете.
— Вы сделали это хорошо, мосье Дюплесси, — сказал он наконец, и его скупая похвала доставила художнику больше радости, чем многословный панегирик министра.
— Вы должны и для меня написать портрет нашего Франклина, — сказал Морепа.
— Больше я позировать не согласен, — поспешил заявить Франклин.
— Это и не нужно, — успокоил его Дюплесси, — если я с некоторыми изменениями повторю этот портрет, то вторая или третья копия будет еще лучше.
— Итак, мы договорились, — сказал Морепа.
— Только, пожалуйста, не вешайте меня рядом с вашими потайными голыми дамами, — попросил Франклин.
Министр задумался.
— Куда вас повесить, — сказал он, — это вопрос. Пожалуй, покамест вам лучше не попадаться на глаза его христианнейшему величеству. Пожалуй, покамест вы повисите в Париже, в Отель-Фелипо, а не в Версале. Когда же настанет время, я отправлю вас в Версаль в благороднейшей золотой раме. Мой молодой монарх равнодушен к женской красоте, зато он ценит достоинство и честь. Un homme, — повторил он. — Ecce vir. — Он наслаждался определением, которое нашел для старика, что глядел с портрета.
Слова «это подлость» звучали у Пьера в ушах, перед его глазами все время стояло большое, гневное, презрительное лицо Терезы.
Он поехал к ней в Медон. Горничная сделала реверанс и сказала: «Мадам не принимает». Он написал ей, она не ответила.
Он не понимал ее, но в глубине души он ее понимал, он любил ее за то, что она такая. Он еще раз проверил себя, еще раз пришел к заключению, что на нем нет и тени вины.
Своего друга Поля он тоже ни в чем не винил. Виноват был один человек: Франклин. Старческие капризы Франклина не только лишили его, Пьера, заслуженных плодов невероятных усилий, они отняли у него и любимую и друга.
Он долгое время думал, что его оклеветали перед доктором, что причина странного поведения Франклина — какое-то досадное недоразумение. Теперь он перестал себя обманывать. Теперь ему стало ясно, что он не понравился старику и, в отличие от Поля, не расположил его к себе. Это нельзя было постичь умом, ничего подобного с ним никогда не случалось. Он не мог этим примириться. Однако, при всей своей словоохотливости, он не решался говорить об этом ни с кем: такой разговор был для него слишком унизителен.
Так обстояли его дела, когда из Америки пришли новые огорчительные вести. Вернулся третий караван фирмы «Гортадес», на этот раз вовсе без денег и без товаров. Конгресс снова изыскал предлог, чтобы уклониться от платежа. Он отказался возмещать какие-либо страховые расходы на том основании, что, по сообщениям Артура Ли, суда не были застрахованы Пьером у третьих лиц, и, следовательно, вся ответственность лежит на нем одном. В Конгрессе заявили, что до тех пор, пока по этому вопросу не будет достигнуто соглашение, никаких платежей не последует.
Пьер был вне себя от злости. Крупные французские фирмы, занимавшиеся заморской торговлей, обычно сами страховали свои суда, то есть включали в счет, предъявляемый получателю грузов, высокие страховые премии. Но зато за суда, не достигшие места назначения, никаких денег не взималось, и Пьер не требовал от Конгресса оплаты товаров, доставшихся англичанам. Все это Франклину было известно; ему следовало бы опровергнуть гнусные измышления Артура Ли. А капризный старик своим коварным молчанием, наоборот, укреплял позицию филадельфийцев в отношении фирмы «Горталес».
Вся ярость Пьера обратилась против старика из Пасси. Пьер не мог больше сдерживать разрывавшего его грудь гнева. Жюли первой он излил душу. Вот сидит себе в саду огромный, ленивый паук, высасывает из всех соки и наливается славой. А кто внакладе? Кто платит? Он, Пьер, добряк, идеалист, всегда остающийся в дураках. Обычно подобные вспышки кончались у Пьера шуткой, легкомысленно-небрежной фразой вроде: «А, наплевать». На этот раз, к удивлению Жюли, злость его не остывала. Видно, доктор Франклин сильно ему насолил. Присоединившись к проклятиям брата, Жюли стала многословно им восхищаться и бурно выражать свою уверенность в том, что Пьер справится и с этой бедой, что он еще задаст зловредному старику.
С Гюденом Пьер держался осторожнее. Он знал, что этот верный друг запоминает, а может быть, даже и записывает все его высказывания: трудясь над «Историей Франции», Гюден тайно работал также над «Историей Пьера Бомарше». Поэтому перед ним Пьер изобразил не возмущение, а разочарование, великолепно ироническую покорность судьбе. При нем Пьер только понимающе-горько пожимал плечами по адресу борцов за свободу, забывающих за великими делами о своих долгах и обрекающих на гибель лучших своих помощников. Гюден был потрясен. Он понял, что за гордым смирением друга кроется клокочущее негодование — «saeva indignatio». «Мне ненавистны все неблагодарные» — процитировал он «Безумного Геракла» Еврипида. Он привел цитаты также из других латинских и греческих авторов и сравнил Франклина с плутарховским Марцеллином,[48] которому Помпеи по праву сказал: «Не стыдно ли тебе так поступать со мной? Ты был нем, и я дал тебе язык, ты подыхал с голоду, и я дал тебе столько жратвы, что теперь тебя рвет». Своего пострадавшего за свободу друга Гюден мрачно и гневно сравнил с жертвой, которую при сооружении храма заживо замуровывали в фундамент.
Ученость Гюдена утешила, однако, Пьера не больше, чем проклятия, посланные американцу устами Жюли. О, как нужна была ему сейчас его подруга Тереза! О, как нужен был ему сейчас его друг Поль!
Через несколько дней, во время «леве», Мегрон, серое лицо которого сохраняло обычную невозмутимость, сообщил ему, что наличность фирмы «Горталес» составляет сейчас триста семнадцать франков и два су. На мгновение лицо Пьера поглупело от ярости, беспомощности и смущения. Но он сохранил способность недолго предаваться гневу и отвечать на огорчения смехом. Такая уж у него жизнь, причудливая и великолепная. Не смешно ли, что он, владелец контор и складов во всех портовых городах Испании и Франции, приводящий в движение тысячи рук, поставивший американской армии девяносто процентов ее вооружения, хозяин четырнадцати находящихся в плавании и девяти готовых к отплытию судов, — не смешно ли, что такой человек задолжал своему камердинеру Эмилю? Он не роптал на судьбу, он принимал ее.
Но довольно с него неприятных дел, хоть на время надо от них избавиться. Он отбросит их в сторону, он попросту от них отмахнется. Важнейшая часть работы в пользу Америки, в пользу свободы сделана. Пусть теперь Америка немного потрудится без него. Он посадил ее в седло, пускай теперь скачет.
С легкомысленной решительностью, которая всегда появлялась у него в подобных случаях, он сказал Мегрону:
— Вот вам прекрасная возможность отличиться. Сам я в ближайшее время не смогу заниматься делами. У меня спешная литературная работа.
Он действительно перестал являться в Отель-де-Голланд и не желал слушать о том, что там происходит. Зато он вернулся к плану своей комедии. Он извлек рукопись, монолог Фигаро, который однажды в порыве вдохновения прочел отцу и с тех пор из какой-то робости от всех скрывал. Он снова почувствовал ту радость, с которой тогда писал, и стал строить вокруг монолога задуманную комедию — продолжение «Цирюльника», историю человека, весело и ловко преодолевающего любые невзгоды, великого debrouillard'а, который выступил против всей глупости, против всех предрассудков мира и по-своему победил, — историю Фигаро.
Он изливал в строках комедии все свое возмущение миром, где привилегированному болвану живется так легко, а одаренному и способному простолюдину так трудно. Верное чутье подсказывало ему, что громкие слова тут неуместны, он объяснялся с современниками особым, своим языком. Злость, горячившую его кровь, он вкладывал в куплеты, в едкие, легкие песенки в народном духе. Работа всегда шла у него легко, но никогда еще ему не работалось так легко, как сейчас. Фразы рождались сами собой, реплик не нужно было придумывать. К нему снова вернулось лучшее его время, дни Испании. Его легкомысленная любовь к жизни, его шутливая злость на жизнь свободно и изящно ложились на бумагу, звучали, пели.
Он прочитал пьесу сестре Жюли. Над комедией предстояло еще долго работать, но самое главное было уже сделано. И не подлежало сомнению, что пьеса удалась, что она смела и правдива, занимательна и значительна. Жюли отнеслась к комедии с горячим участием и восторгалась ею без устали.
С таким же восторгом, но с большим пониманием дела прослушал ее Филипп Гюден. Он оценил остроумие и блеск комедии как опытный, сведущий критик, сравнил своего друга с Аристофаном и Менандром, с Плавтом и Теренцием, а также объяснил, почему творчество Пьера означает для французской комедии большой шаг вперед по сравнению с мольеровским театром.
Радость, которую доставили Пьеру веские похвалы Гюдена, была отравлена тоской по Терезе. Пьер стремился к ней всей душой, ему не терпелось поглядеть, какие чувства отразятся при чтении на ее большом лице. А она, Тереза, не желала его ни видеть, ни слышать.
Слоняясь без дела после упоительной работы, он, вопреки ожиданию, не чувствовал никакого удовлетворения.
И вдруг пришла неожиданная весть. Из Пасси, из Отель-Валантинуа, Пьер получил изящно напечатанную карточку: мосье Вениамин Франклин приглашал мосье де Бомарше прибыть 4 июля на небольшое празднество, устраиваемое им для узкого круга друзей в честь годовщины независимости Тринадцати Соединенных Штатов.
Огромная волна счастья подняла Пьера. Как все хорошо складывается! Сначала ему удалась эта чудесная пьеса «Женитьба Фигаро», «Безумный день», а теперь и старик из Пасси наконец понял, что без помощи Бомарше Америке не обойтись. Пьер снова и снова перечитывал пригласительный билет; злость на Франклина исчезла.
Постепенно, однако, стали появляться сомнения. В самом ли деле такое приглашение чего-то стоит? Может быть, этим клочком бумаги ему хотят заплатить за суда, за оружие, за товары, за миллионы, отданные Америке? Может быть, этим приглашением хитрый старик пытается утешить его и задобрить? Пьер нерешительно вертел в руках карточку.
Как нужен ему совет. Но только два человека могли быть ему советчиками. Один из них в Америке.
Он должен увидеть Терезу. Она не откажется помочь ему в таком важном для него деле.
Он поверил свои заботы Гюдену. У них с Терезой, сказал он приятелю, произошла маленькая размолвка. Пусть Гюден поедет в Медон и намекнет Терезе, что ему, Пьеру, необходимо выслушать ее мнение по поводу одного важного дела, Гюден лукаво улыбнулся. Пьер мастер на все руки, он знает, как обращаться с женщинами.
— Скажите ей, пожалуй, — продолжал Пьер, — что речь идет о моих отношениях с Франклином, а впрочем, можете сказать все, что вам заблагорассудится. Кстати, старик пригласил меня в свой «сад», в Пасси. Кажется, наконец-то уразумели, что без Пьера дело не пойдет.
— И вы, конечно, побежите на зов, — возмутился Гюден. — С вашим глупым великодушием вы все простите и все забудете.
Пьер только усмехнулся.
— Поезжайте в Медон, дорогой мой, — попросил он, — и, пожалуйста, не возвращайтесь ни с чем. Я надеюсь на вашу ловкость.
Польщенный и очень довольный, Гюден отправился в путь.
Спокойно поразмыслив о предательстве в отношении Поля — так она про себя определяла случившееся — Тереза нашла, что, в сущности, ничего неожиданного не произошло. Она Знала Пьера как облупленного, знала его достоинства и его слабости. Она нисколько не раскаивалась в том, что так резко от него отвернулась, что не принимала ни его самого, ни его писем. Но она сознавала, что твердости ее хватит ненадолго. При всех слабостях Пьера его нельзя было не любить, она не хотела его лишиться, он составлял смысл ее жизни.
В таком настроении и застал ее Гюден. С Гюденом они были добрыми друзьями, ей нравился этот честный, разговорчивый, добродушный человек, она знала, как предан он Пьеру. Уверенный, что поступает чрезвычайно хитро, Гюден рассказал, будто Пьер намекнул ему на какую-то свою размолвку с Терезой, и он, Гюден, будучи верным другом обоих, тотчас же, тайком от Пьера, помчался к ней, ибо такие размолвки нельзя затягивать. Глядя, как усердствует, как потеет Гюден, Тереза с первых же его слов поняла, что он лжет. Начав издалека, Гюден рассказал, что Пьер находится сейчас в затруднительном положении и нуждается в совете своего лучшего друга Терезы. Она с недоверием спросила, в чем же, собственно, состоят затруднения Пьера. Речь идет, отвечал Гюден, об отношениях Пьера с Франклином. Они далеко не блестящи. А ведь Пьер и Франклин являются представителями прогресса на этом континенте, и поэтому очень жаль, что между ними не установилось дружеского доверия.
Терезе и прежде казалось, что Пьер уязвлен франклиновским равнодушием. Теперь, когда Гюден это подтвердил, она подумала, что холодность Франклина — своего рода наказание за то, что Пьер так подло поступил с Полем. Она тут же сказала себе, что это вздор: ведь Поль уехал в Америку именно потому, что Франклин отмахнулся от Пьера, и не может быть, чтобы высшее существо карало людей за преступления, еще не совершенные. И все-таки она не могла отделаться от чувства, что между предательством Пьера и недоброжелательным поведением Франклина существует какая-то роковая связь.
Теперь Пьер через Гюдена просит ее совета. Это дает ей повод пойти на уступки. Она сказала, что готова с ним повидаться. Сияя, Гюден сообщил другу об успешном окончании переговоров, которые он так тонко провел.
С Терезой Пьер держался в высшей степени просто. Он ни словом не упомянул о распре из-за Поля. Он по-деловому сообщил о своих неоднократных попытках плодотворного сотрудничества с Франклином, о холодном, оскорбительном тоне Франклина, об упорстве, с которым старик отказывался поддержать его требования к Конгрессу. Затем он рассказал о приглашении в Пасси и о сомнениях, которые оно у него вызывает: то ли это предложение о мире, то ли маневр, призванный задобрить его и удержать от решительных действий. Тереза отвечала, что это приглашение, по-видимому, просто акт вежливости. Она не думает, чтобы за ним скрывались какие-то коварные планы. Она не думает также, чтобы Франклин питал ненависть к Пьеру. «Мне кажется, — сказала она, — ты занимаешь его гораздо меньше, чем тебе кажется. Наверное, ты произвел на него не такое сильное впечатление, как на других, и в этом все дело».
Пьер не стал возражать. Он спросил ее, принять приглашение или нет. Она ответила, что на его месте непременно поехала бы в Пасси. Не явиться невежливо; это было бы мальчишеским объявлением воины, а борьба с Франклином Пьеру не по силам.
Он проглотил и это. Он понимал, что она дает ему разумный совет. К тому же было очень соблазнительно пойти к этим американцам и блеснуть перед ними. Он сухо ответил, что она права и что он последует ее совету.
Но больше он уже не мог оставаться деловитым и сдержанным. Он разразился бурными упреками по адресу Франклина. Он, Пьер, затеял это великое предприятие, право же, не в расчете на вознаграждение или благодарность, а ради существа дела. И просто позор, что доктор бросил его на произвол судьбы только из чувства соперничества. Тереза взглянула на него своими большими глазами, ему стало неловко, и он умолк.
Через мгновение он заговорил о другом. Он рассказал о своей работе, о Фигаро; он уверен, что на этот раз ему удалось создать что-то стоящее. Спросил, не прочитать ли ей комедию, пока еще не просохли чернила, которыми она написана.
Тереза заранее решила, что на первых порах ограничится одной этой встречей с Пьером: нельзя облегчать жизнь этому беззаботному, безответственному человеку. Но в свое время, когда она с ним еще и словом не обмолвилась, ее покорили именно его литературные труды, его памфлеты, в которых он вел великолепную, вдохновенную борьбу за свои права, — и теперь она почувствовала себя счастливой, узнав, что он вернулся в свою настоящую стихию, в литературу. Всякий раз, слушая, как он читает свои произведения, она испытывала волнение и восторг. Все, что было в нем мелкого, в эти минуты бесследно исчезало, и оставался только огонь, только дух. Читая, он создавал произведение заново, слушатели как бы присутствовали при его рождении. Ей не терпелось послушать комедию, которую он написал. Ей стоило большого труда сказать ему спокойным и сдержанным тоном: «Хорошо, приезжай в конце недели».
Когда в конце недели он приехал к ней с рукописью, у нее было праздничное настроение, но она старалась не подать виду. Она не вынесла из комнаты маленькой Эжени, и в его чтение часто вторгался детский плач. Пьеру, однако, это не мешало. Он читал, он с увлечением играл ей свою комедию, и вскоре на ее большом, красивом, живом лице появилось то выражение, которого он ждал и желал. Она от души смеялась, младенец кричал, счастливый Пьер тоже смеялся над собственными остротами. Он смаковал их, они смаковали их вместе. Это были остроты парижан, это было воплощение народной мудрости — не дешевое острословие, не блестящее пустозвонство, а смелая, бьющая не в бровь, а в глаз правда.
Когда он кончил, Тереза протянула ему руку и, не сдерживая себя больше, сказала:
— Ты действительно сделал что-то настоящее, Пьер.
Он с гордостью подумал: «Пусть теперь старик Франклин угонится за мной со своими доморощенными притчами». Но он оставил эту мысль невысказанной и, ловко пользуясь моментом, воскликнул:
— Ну, а теперь хватит тянуть, пора и пожениться!
Тереза с ним согласилась, и Пьер был горд, что его литературное творчество, его комедия сломили сопротивление этой неприступной, непокорной женщины.
Тереза, однако, наотрез отказалась жить под одной крышей с Жюли.
Пьер нашел выход.
Всякий раз, направляясь из своего дома в близлежащее предместье Сент-Антуан, Пьер проезжал мимо одной усадьбы, огороженной каменной стеной и давно уже привлекавшей к себе его внимание. Она находилась на окраине Парижа, там, где улица Сент-Антуан, расширяясь, переходила в площадь Бастилии. Это был обширный, запущенный сад, в центре которого, едва заметный с улицы из-за деревьев и высокой стены, стоял старый, одинокий, полуразвалившийся дом. Пьер дважды осматривал это владение. Дом и сад не походили ни на одну парижскую резиденцию. Тому, кто озирал окрестности с верхнего этажа ветхого здания, казалось, что он находится на острове, среди бурлящего, как океан, города. С одной стороны, утопая в садах, виднелись тихие, старые дома, один из них принадлежал когда-то Нинон де Ланкло,[49] другой — знаменитому магу Калиостро;[50] с противоположной стороны лежала широкая площадь, в конце которой мрачной громадой возвышалась Бастилия.
Через посредника Пьер узнал цену. Понимая, что усадьба эта представляет интерес для любителя, домовладелец запросил огромную сумму, на тридцать — сорок тысяч ливров выше настоящей цены. Цифра эта отпугнула даже легкомысленного Пьера. Теперь, собираясь жениться, он все-таки решил купить дом и перестроить его по своему вкусу. Важные господа часто жили на два дома, и Пьеру тоже захотелось позволить себе такую роскошь. В одном доме он будет жить с Жюли, в другом — с Терезой и дочерью.
Он купил участок на улице Сент-Антуан и поручил архитектору Ле Муану набросать план дома, еще более красивого и роскошного, чем на улице Конде.
Сияя, он рассказал о своей покупке Терезе.
— Разумеется, — прибавил он, — мы не станем откладывать свадьбы до окончания работ. Они, чего доброго, продлятся еще несколько лет. Если ты согласна, мы поженимся на следующей неделе.
Так и поступили.
2. Встреча
Среди гостей, собравшихся 4 июля с наступлением предвечерней прохлады в загородном доме Франклина, было приблизительно одинаковое число французов и американцев. Сайлас Дин испросил разрешения привести двух своих морских волков, капитанов-каперов господина Джонсона и господина Смита, чтобы они развлекли общество рассказами о своих приключениях. Артур Ли явился в сопровождении мистера Рида, мрачного господина из Лондона, порывавшегося продемонстрировать свое уважение к правам человека и неуважение к деспотическому режиму Сент-Джеймского дворца;[51] именно из-за столь подчеркнутого свободолюбия мистера Рида Франклин втайне считал его шпионом, но у доктора не было никаких оснований возражать против его присутствия. Сам Франклин представил гостям не только юного Вильяма Темпля, но и маленького Вениамина Бейча, вызванного для этого случая из интерната. Боясь, что он избалует внука, доктор решил послать его в Женеву, в учебное заведение, слывшее наиболее передовым. Но покамест Франклину хотелось как можно больше видеть мальчика около себя. Семилетний малыш с сияющими глазами расхаживал среди взрослых и непринужденно со всеми беседовал. Старик радовался, что мальчик говорит по-французски уже лучше, чем он сам, и одобрительно глядел, как лакомится и даже понемногу отпивает из рюмки его младший внук. Старик отлично чувствовал себя среди гостей, дружно, шумно и весело собравшихся в его доме, говоривших по-французски и по-английски, не понимавших друг друга и старательно повышавших голос, словно от этого их скорее поймут.
При всей пестроте, это было сборище людей с громкими именами. Кроме господ де Шомона и Дюбура, издателя Руо, академика Леруа, здесь были барон Тюрго, молодой герцог де Ларошфуко и высоко ценимый Франклином как философ очень молодой маркиз де Кондорсе, и, уж конечно, мосье де Бомарше.
Мадам Гельвеций согласилась принимать гостей, но поставила условие, что будет единственной дамой. «Терпеть не могу баб», — заявила она. Франклин полагал, что это условие направлено, главным образом, против мадам Брийон; до мадам Гельвеций, кажется, дошло, что мадам Брийон назвала ее «вечной грозой». Доктор счел разумным исполнить ее желание, и вот теперь, белая и розовая, шумная и довольная, небрежно напудренная и нарумяненная, она одна царила среди собравшихся.
— Не стойте с таким кислым видом, Жак-Робер, — сказала она своему старому другу Тюрго. — Когда и расстаться с постной миной, как не сегодня?
Однако ей не удалось расшевелить мосье Тюрго. Он верил, что в ходе истории побеждает доброе и полезное, и был убежден в конечном торжестве американского дела. Но он на собственной шкуре изведал, сколь длинны порою окольные пути, которыми идет история, и сколько горечи, сколько разочарований несет с собою борьба за прогресс. Выбор подходящего момента определяется не только разумом государственного деятеля, но и его удачливостью. Политик, которому дано либо оттянуть, либо ускорить большой, неизбежный конфликт, зависит от Фортуны в такой же степени, как от Минервы.[52] Может быть, он, Тюрго, принес бы больше пользы правому делу, если бы не пытался провести свои реформы в такой короткий срок. Он завидовал хладнокровию Франклина, его поразительной способности ждать.
Капитан Джонсон, которого подпоил доктор Дюбур, рассказал, как однажды захватил английское торговое судно с грузом ткацких станков. Станки было трудно разместить на его корабле, а о том, чтобы передать их французским купцам в открытом море, как он намеревался, не могло быть и речи. В конце концов, после ряда приключений, ему удалось привести свой корабль и захваченное английское судно в один из французских портов («Названия порта я вам не скажу, но оно начинается на „Г“) и распродать станки на глазах у французских чиновников и английских шпионов.
— Разве не славно, — заключил он, — что благодаря борьбе за свою свободу американцы снабжают французов дешевыми ткацкими станками и дают им возможность приодеться за счет англичан?
Его бронзовое от загара лицо плутовато осклабилось.
Другой капитан, мистер Смит, захватил двух скаковых лошадей. Доставить их на сушу удалось без труда, но никто не отваживался на такую покупку, потому что их ничего не стоило опознать. Лошадей пришлось перекрасить и дать им новые клички: одна именовалась теперь «Свобода», другая — «Независимость». Они будут участвовать в ближайших скачках, устраиваемых принцем Карлом.
Слушая эту историю, Сайлас Дин громко смеялся, и его большой, обтянутый узорчатым атласным жилетом живот дрожал от хохота. Доктору Дюбуру, который все, что было связано с каперством, рассматривал как свое кровное дело, история с лошадьми также пришлась по душе, и даже Сайлас Дин показался ему на этот раз не таким противным.
Между тем юный Вильям слушал мосье де Бомарше, распространявшегося о трудностях и опасностях своей деятельности. Как ни старался Вильям быть внимательным к гостю, он следил, пожалуй, больше за изящными жестами этого блестящего человека, чем за его словами. Вильям помнил, как раскаивался дед в недостаточном внимании к мосье де Бомарше, и старался теперь загладить вину старика.
К их разговору присоединились другие гости, в том числе Вениамин Бейч. Мальчик во все глаза глядел на ослепительный костюм Пьера, на перстень с бриллиантом, на рот, из которого так свободно и плавно лилась речь. Пьер заговорил с Вениамином, спросил о его школьных делах; он легко располагал к себе детей, и, к удовольствию окружающих, оба — сорокапятилетний и семилетний — отлично беседовали.
Затем, ободренный всеобщим вниманием, Пьер обратился к остальным. Заметив, что большинство гостей, даже те из них, кто говорил только по-английски, понимает французскую речь, он то и дело сбивался на французский и вскоре стал вести себя так, как вел бы себя во французском салоне, — рассказывал интересные сплетни, сыпал афоризмами — о женщинах, о литературе. Хотя до слушателей доходило явно не все и многие его намеки ничего им не говорили, Пьер не унимался. Если он рассыплет перед ними сто перлов, думал он, то хотя бы пять или шесть они оценят; его нисколько не смущало, что изрядно подвыпившие капитаны время от времени разражаются смехом, который с одинаковой вероятностью мог относиться и к его остротам, и к его персоне.
Пьер ехал сюда с чувством неловкости, он не знал, какое впечатление произведет на американцев. Когда же выяснилось, что он им понравился, скованность его сразу исчезла, и Пьер подумал, что теперь он справится с задачей, которую перед собой поставил, — показать доктору Франклину, как несправедливо с ним, Бомарше, обошлись. Он сел поближе к хозяину дома.
Франклин твердо решил помнить притчу о бороне и скрыть свою антипатию к мосье Карону. Он принял его радушно и непринужденна, без той презрительной вежливости, которая так уязвляла Пьера. У Пьера словно гора с плеч свалилась, едва он заметил, что сегодня Франклин не холоден с ним; он с подчеркнутым вниманием слушал доморощенные истории старика, громко смеялся и глядел на рассказчика сияющими глазами. Затем, втайне надеясь на особое внимание Франклина, он пустился в рассуждения о различии между юмором и остроумием. Он привел примеры из Сократа и Аристофана, почерпнутые им у ученого Гюдена, и почувствовал себя счастливым, когда Франклин, поначалу не все разобравший, попросил его повторить и пояснить некоторые фразы и, улыбнувшись, по достоинству оценил их.
Затем, однако, доктор принял серьезный вид и участливо спросил Пьера, как поживает его молодой помощник, мосье Тевено, который, насколько ему, Франклину, известно, уехал в Америку. Пьер отвечал, что сведений о караване, с которым отправился Поль, еще не поступило, да и не могло поступить. Оба, Франклин и Пьер, на мгновение умолкли и задумались.
Мосье де Ларошфуко тщательно перевел Декларацию независимости, а издатель Руо поторопился напечатать перевод к 4 июля, снабдив его обстоятельным, патетическим предисловием. Переводчик вручил Франклину экземпляр Декларации. Под выжидательным и почтительным взглядом переводчика, молодого герцога, доктор стал листать изящный томик. Он не поскупился на похвалы переводу, хотя про себя отметил, что благородные периоды подлинника звучат по-французски пошловато. Затем, обратившись к Пьеру, он сказал, что слышал, какое глубокое впечатление произвела на слушателей эта Декларация, когда мосье де Бомарше впервые прочитал ее в парке замка Этьоль. Пьер покраснел от удовольствия — это с ним редко случалось — и уже готов был простить Франклину все неприятности, которые тот ему причинил. Он считает милостью судьбы и своим постоянным капиталом, отвечал он, то обстоятельство, что он первым на этом полушарии узнал о величайшем событии новейшей истории и что ему выпала честь ознакомить с текстом этого благородного манифеста лучших сынов своего отечества.
Доктор Дюбур с досадой вспомнил чтение в парке Этьоль. Его уязвляло, что Франклин так превозносит этого спекулянта Карона; к тому же он не мог простить Пьеру, что тот правдами и неправдами завладел кораблем «Орфрей», тогда как он, Дюбур, борец за правое дело, должен довольствоваться плохо снаряженными судами. Вспомнив, однако, как весело смеялся Франклин над басней о мухе и карете, Дюбур перестал сердиться на своего мудрого друга: в самом деле, почему бы и не дать мухе сахару?
Маркиз де Кондорсе сказал:
— Сколько чувств, о великий муж, возникает, наверно, у вас в душе, когда вы читаете свое произведение, изменившее мир.
— Мне жаль, — отвечал терпеливо Франклин, — что распространилось мнение, будто Декларация составлена мною. Еще раз повторяю, это не соответствует действительности. Прошу вас, мосье, поверить мне и принять к сведению, что предложение провозгласить независимость было внесено в Конгресс мистером Ричардом Генри Ли, братом нашего мистера Артура Ли. Что же касается Декларации, то она была подготовлена одним моим молодым коллегой, мистером Томасом Джефферсоном.[53] Я внес лишь несколько незначительных поправок.
Худое лицо Артура Ли заволоклось тучами. Его злила надменная скромность Франклина. Пьер с жаром возразил:
— Любая ваша поправка, доктор Франклин, не может быть незначительной. От кого бы ни исходило внесенное в Конгресс предложение, — продолжал он, — освобождение Америки — это ваша заслуга. Честь и хвала вашему мистеру Жефферсону, но стоило вам приложить руку к Декларации, как она стала вашей. Стиль Вениамина Франклина узнаешь безошибочно, он чувствуется даже во французском переводе.
Франклин не стал возражать. Все равно не убедишь парижан, что автор Декларации — действительно Томас Джефферсон, как не втолкуешь им, что фамилия этого молодого депутата — «Джефферсон», а не «Жефферсон».
Он представил себе, как совсем по-другому звучала бы Декларация, если бы ее автором был он, Франклин. Его политические взгляды также основывались на идеях Джона Локка, Монтескье, Ваттеля,[54] и, по существу, никаких расхождений с образованным, пламенно-гуманным Джефферсоном у него не было. Но он, Франклин, сформулировал бы и общую часть Декларации, и отдельные претензии к королю более логично и в более спокойном тоне. Впрочем, документы, предназначенные для всего мира, не должны быть слишком объективны. Тогда нужнее всего были пафос, риторика. Декларация удалась на славу, ничего более подходящего для этого случая он бы не сочинил; счастье для Америки, что в надлежащий момент нашелся и надлежащий автор.
Мысленно усмехаясь, он вспомнил, как проходило обсуждение текста Декларации в Конгрессе. Это было год назад; в Филадельфии стояло жаркое лето, днем в зале заседаний делалось нестерпимо душно, к тому же из-за соседства конюшен не было покоя от мух, кусавших, главным образом, ноги. Как, наверно, страдали от жары франтоватые и потому особенно пышно одетые господа Гэнкок и Адамс-первый, длинный, тощий Сэмюэль Адамс. При мысли о них доктору и сейчас еще становилось смешно.
Он, Франклин, сидел тогда рядом с Джефферсоном. Будучи плохим оратором и не обладая достаточно сильным голосом, Джефферсон поручил защищать свой текст Адамсу-второму, маленькому Джону Адамсу. Джон, как всегда, отнесся к поручению с энтузиазмом; маленький толстяк то и дело вскакивал, шумно отстаивал джефферсоновские формулировки и бесстрашно оскорблял оппонентов.
Каждый считал своим долгом вставить в Декларацию словечко, но далеко не у всех это получалось удачно. Если бы не жара, прения продолжались бы еще два-три дня и от первоначального текста, наверно, вовсе бы ничего не осталось.
Доводы против его формулировок, не всегда разумные, причиняли Джефферсону физическую боль. На всю жизнь запомнится Франклину страдальческое выражение, появлявшееся на длинном худом лице этого рыжеволосого молодого человека всякий раз, когда ораторы с жестокой и не очень умной придирчивостью ополчались на его текст. Франклин хорошо представлял себе, что испытывал этот способный юноша, от творения которого не оставляют камня на камне. Скрывая свою ярость, бедный автор держался, как подобало, внешне спокойно, но его всего передергивало: он сжимал кулаки и, несмотря на худобу, обливался потом, словно нес тяжесть.
По своему обыкновению, он, Франклин, попытался утешить несчастного небольшой историей. Это была хорошая, поучительная история, и сейчас доктору захотелось рассказать ее здесь, в обществе французов.
— Между прочим, при обсуждении Декларации, — начал он, — члены Конгресса предлагали различные поправки, весьма огорчавшие ее автора, упомянутого мною мистера Джефферсона. Я сидел рядом с ним и пытался его успокоить. Я взял за правило, — сказал я ему, — никогда не составлять документов, подлежащих утверждению на каких-либо собраниях. Этому меня научил один мой знакомый шляпник. Он хотел заказать для своей лавки вывеску с таким примерно текстом: «Джон Томпсон, шляпник, изготовляет шляпы и продает их за наличные деньги». Надпись он собирался украсить изображением шляпы. Набросок вывески Томпсон показал друзьям. Первый из них нашел, что слово «шляпник» лишнее, так как тот же смысл заключен в словах «изготовляет шляпы». Мистер Томпсон вычеркнул это слово. Второй сказал, что следует вычеркнуть и слово «изготовляет». Покупателям безразлично, кто изготовляет шляпы, им важно, чтобы они были хороши. Мистер Томпсон вычеркнул и это слово. Третий нашел, что слова «за наличные деньги» излишни, так как другого способа торговли шляпами в Америке вообще не существует. Мистер Томпсон вычеркнул и эти слова, теперь надпись гласила: «Джон Томпсон продает шляпы». «Продает? — возмутился четвертый. — Никто же не думает, что вы отдаете их даром». Пришлось выбросить и слово «продает». Та же судьба постигла и слово «шляпы», так как шляпу предполагалось изобразить на вывеске. В конце концов на вывеске осталось только имя «Джон Томпсон» и над ним шляпа.
Гости долго смеялись, и маркиз де Кондорсе сказал:
— Из Декларации нельзя выкинуть ни одного слова. В теперешнем ее виде это величественный манифест, блистательно и просто провозглашающий права человека, права святые, но, увы, забытые.
— Считаю своим почетным долгом, — сказал Франклин, — напомнить здесь о той большой роли, которую сыграли в формировании нашего мировоззрения философы вашей страны. Без трудов Монтескье, Руссо, Вольтера этой Декларации не существовало бы.
Артур Ли тихонько заскрежетал зубами. Бесстыжий старик и сейчас не упустил случая польстить французам, которые ни на что, кроме пустых речей, в сущности, не годятся.
Маркиз де Кондорсе снова взял слово.
— Это верно, — сказал он, — права человека давно уже записаны в книгах философов да, пожалуй, еще в сердцах честных людей. Но был ли от этого какой-нибудь толк до сих пор? Не было. Иное дело теперь. В Декларации права человека провозглашены языком, который понятен и невежественным и слабым. Вот почему эти слова повлекли за собой такие дела, каких не могла повлечь за собой философия.
Он говорил, ничуть не рисуясь, но со страстью и глядя на Франклина. Все глядели на Франклина, и Артур Ли готов был лопнуть от злости: ведь доктор honoris causa пожинал не только славу произведений Локка, Гоббса и Давида Юма, но и славу подвигов Ричарда Генри Ли и Джорджа Вашингтона.
Слегка приподняв руку, Франклин сказал:
— Я еще не кончил, мосье де Кондорсе. Я еще не назвал одного великого сына вашей страны, без которого наша революция была бы немыслима — Клода-Адриена Гельвеция. Вы не правы, господин маркиз, если считаете, что его философия не повлекла за собой дел. Его книга «De l'Esprit» продолжает жить в Декларации моего коллеги Джефферсона. Идеи, осуществляемые в Америке, — это идеи моего покойного друга Гельвеция.
Все обступили мадам Гельвеций.
— Сущая правда, доктор Франклин, так оно и есть, — сказала она без тени смущения и, счастливая, протянула ему руку для поцелуя.
Франклин сказал:
— Если можно не только придумывать, не только излагать свою философию, но и жить ею, то никто не обладал этой способностью в такой степени, как Гельвеций. Он разгласил общий наш секрет, заявив, что единственная цель человека — счастье, и с этой своей теорией сообразовал собственную жизнь. Из всех людей, которых я знал, он был самым счастливым: он завоевал красивейшую и умнейшую в мире женщину, и благодаря ему на земле стало больше счастья и радости.
— Да, — отвечала мадам Гельвеций, — жаль, что он не дожил до сегодняшнего дня. Я хотела бы видеть здесь вас обоих, его и вас.
Тюрго казалось, что все это лишено чувства меры и, пожалуй, вкуса. Он никогда не испытывал особого восторга перед трудами Гельвеция. Он сожалел о том, что сожжение книг Гельвеция создало этому незначительному человеку ореол мученика, и разделял мнение Вольтера, находившего книги покойного банальными, а все оригинальное в них — спорным или неверным. Несколько поучающе и запальчиво Тюрго выразил надежду, что пример Америки заставит теперь задуматься все цивилизованное человечество и вызовет подражание во всем мире.
— Человечество достойно гибели, — с жаром воскликнул Кондорсе, — если этот пример ничему его не научит!
Дворецкий мосье Финк доложил, что кушать подано. Мадам Гельвеций составила изысканное меню; дешевым это угощение никак нельзя было назвать, и мадам Гельвеций пришлось торговаться с мосье Финном из-за каждого су. Мосье Финк даже пожаловался Франклину. Он заявил, что он человек честный и порядочный. Когда Франклин передал его слова мадам Гельвеций, та возразила:
— Это мосье Финк всегда говорит, но я боюсь, что он ошибается.
Во всяком случае, меню было составлено с любовью и со вкусом; гости отдали ему должное, они ели, пили и оживленно беседовали.
Много говорили о маркизе де Лафайете, чей отъезд все еще вызывал толки в Париже. Сведений о маркизе покамест не было. Все надеялись, что сегодняшний день он отпразднует в Филадельфии; был предложен тост за Лафайета.
Мосье де Ларошфуко, близкий друг Лафайета, рассказал о его великодушии и беспечности в денежных делах. Пьер сообщил, что был посредником при покупке судна, на котором маркиз отправился в Америку, и что только благодаря ему, Пьеру, с маркиза не запросили втридорога. Де Ларошфуко выразил надежду, что и за океаном найдутся люди, которые оберегут маркиза от ростовщиков. Ведь Лафайет на редкость легкомысленный человек, а в евреях, конечно, нигде нет недостатка.
Франклин сказал, что евреи в Филадельфии живут разные: есть среди них сторонники короля, но есть и сторонники Конгресса. Лицо его стало задумчивым: он вспомнил Франков — еврейскую семью, где два сына были на стороне патриотов, а один на стороне лоялистов, он вспомнил о собственном сыне, изменнике. Он продолжал:
— У меня лично есть, или, вернее, был, так сказать, собственный еврей, некто Хейз. Однажды, при высадке в нью-йоркской гавани, лодка, на которой я находился, перевернулась, и я упал в воду. Меня подобрало почтовое судно. Никакой опасности мне не грозило, дело происходило в непосредственной близости от берега, а пловец я превосходный. И вот откуда ни возьмись является еврей Хейз и утверждает, что это он знаками заставил почтовое судно меня подобрать. С тех пор он считал меня главным источником своего дохода. Встречаясь со мной, он всегда просил у меня денег: еще бы, ведь это же ему посчастливилось спасти мою драгоценную жизнь. Так он выжимал из меня то двойной иоганнис, то испанский дублон. Дешевле мне ни разу не удавалось от него отделаться. Теперь он умер, но он завещал меня своей вдове. Не поймите, господа, — продолжал Франклин, когда все засмеялись, — этой истории превратно. Я не люблю никаких обобщений и отнюдь не считаю своего Хейза типичным евреем. С евреями у меня связаны и плохие воспоминания, и очень хорошие. Однажды я познакомился с неким Перецем. Видя, как другие садятся за книги, он тоже иногда брал книгу и начинал ее листать. Я знал, что мой Перец не умеет ни читать, ни писать; можно было не сомневаться, что он ничего не понимает в ученых спорах. Будучи от природы любопытным, я завел с ним разговор. И вот что он мне сказал: «Даже если человек не умеет читать, сидя над книгой, он делает богоугодное дело». Я желал бы своим соотечественникам проникнуться таким уважением к науке.
К концу ужина были провозглашены тосты за Америку и за свободу. Англичанин мистер Рид, приятель Артура Ли, исступленно воскликнул:
— Да будет Америка свободной и независимой до тех пор, пока не остынет солнце и пока не вернется к первозданному хаосу наша земля!
Худое, мрачное лицо мистера Рида исказилось от напряжения. Пораженный таким избытком эмоций, Франклин бросил на него недоверчивый взгляд.
— Решение, принятое год назад в Филадельфии, — сказал Кондорсе, — великолепно подтверждает слова греческого поэта: «На свете нет ничего могущественнее человека». Каким мужеством нужно было обладать, чтобы объявить себя независимыми. Говорят, что среди филадельфийцев много людей зажиточных, интересам которых отвечал бы мир с метрополией. Но во имя своей души, во имя своей свободы они поставили на карту свое имущество и свою жизнь. Подумать только, что эта резолюция была принята единогласно, что никто не голосовал против.
Франклин сидел молча, его широкое лицо приняло приветливое и сосредоточенное выражение. Его юный друг говорил сущую правду, и если документ, о котором шла речь, назывался «Единодушное решение Тринадцати Соединенных Штатов», то эти слова соответствовали действительности. Но скольких усилий, скольких уловок стоило это единодушие. Чтобы доставить в Конгресс депутата Сизара Родни и получить голос Делавэра, пришлось гнать курьеров за сто миль; нью-йоркские депутаты при голосовании воздержались, а консервативно настроенные коллеги Диккинсон и Роберт Моррис предпочли отсидеться дома. В те три дня, когда обсуждался джефферсоновский проект, приходилось иметь дело не только с величием человеческого духа, но и с жарой, потом, мухами, критиканством, мелочностью. И все-таки результат вселял уверенность и давал основания торжествовать, — ведь в конце концов нашлось много людей, не побоявшихся подписать этот великий, этот опасный документ.
— Когда мы поставили подписи, — вспомнил вслух Франклин, — я сказал своим коллегам: «Теперь, господа, решение принято. Теперь нам висеть либо всем вместе, либо каждому в одиночку».
Еще раз, громко, торжественно и уверенно, провозгласили тост за будущее Америки. Мадам Гельвеций обняла Франклина.
— В вашем лице, друг мой, я обнимаю все четырнадцать штатов! — воскликнула она, прижимаясь к Франклину и целуя его в обе щеки.
— Тринадцать, — поправил он мягко, — тринадцать, моя дорогая.
Французские гости разошлись в приподнятом настроении.
Американцы же, все до одного, как будто сговорившись, задержались у Франклина.
Когда молодой Кондорсе сказал, что Лафайет, наверно, празднует сегодняшний день в Филадельфии, все американцы мыслями унеслись в этот город. Но они не были уверены, что Конгресс заседает сегодня в Филадельфии. И если даже город не эвакуирован вторично, если даже годовщину Декларации отмечают сегодня колокольным звоном, парадами и фейерверком, то жители все равно уже успели понять, что свобода все еще в опасности, что придется пролить за нее еще много крови и пота.
Перед французами, словно по молчаливому уговору, американцы не выказывали своих тревог, но все они испытывали потребность остаться в узком кругу, побыть среди своих, отдохнуть от звуков чужой речи.
Усталые от празднества, усталые от еды и питья, необычно смущенные, словно стыдясь своего волнения, они сидели теперь одни. Даже оба морских волка присмирели и приумолкли, и, должно быть, их подвиги казались им уже не такими значительными.
Всем и без слов было ясно, что бороться сейчас нелегко и что самые тяжелые времена еще впереди. Они были рады, что проводят этот вечер не врозь, а вместе, что сидят рядом, что они у себя. Они пили, курили, говорили о пустяках. И даже Артур Ли ни к кому не питал неприязни.
Всем стало легче, когда Франклин высказал общие чувства. Он выразил их, как обычно, окольным путем и всего в двух словах, к тому же по-французски. «Ca ira!» — сказал он.
Только лицам, которых это непосредственно касалось, надлежало знать, что Луи принял совет Иосифа и решился на операцию. Однако об этом было известно всему Версалю; в Вене, Мадриде и Лондоне с нетерпением ждали дня, когда Луи выполнит свое обещание.
Принцу Ксавье не хотелось сознаваться перед самим собой, что он рискует потерять право престолонаследования; Луи никогда не отважится на операцию, говорил он себе и другим. Постепенно он так уверовал в это, что даже предложил поставить двадцать тысяч ливров за то, что раньше чем через год дело до операции не дойдет. Принц Карл принял пари; если Луи действительно ляжет в постель к Туанетте, рассудил он, то пусть хотя бы двадцать тысяч ливров послужат утешением ему, Карлу.
В ожидании операции Туанетта вела прежний образ жизни. Танцевала, давала балы, посещала балы, еще неистовее носилась в погоне за развлечениями из Версаля в Париж, из Парижа в Версаль. Стоило ее приближенным, Габриэль или Водрейлю, позволить себе малейший намек на планы Луи, она гневно обрывала их на полуслове.
А затем, в августе, в среду, после жаркого дня, пришла ночь, которую следовало бы отметить в хронике Версаля большими буквами. В эту ночь, в одиннадцатом часу, Людовик, король Франции, вышел из своей спальни и направился в спальню Марии-Антонии Австрийской.
В халате крался он по коридорам гигантского дворца, сооруженного его прадедом, самого большого здания в мире. Под халатом была роскошная ночная рубашка, на мясистых ногах — удобные туфли. Впереди короля, в красно-бело-синей ливрее, шагал старый-престарый лакей, шагал, как привык за сорокалетнюю службу, безучастно и торжественно, с шестисвечным канделябром в руке. Так, волнуясь, обливаясь потом, стараясь не обращать на себя внимание и всячески привлекая его к себе, шествовал по коридорам Версаля король Людовик. Коридоры были полны лакеев, швейцарских гвардейцев, сновавших туда и сюда сановников. Смущенный их взглядами, Луи решил соорудить потайной ход, чтобы его спальня сообщалась со спальней Туанетты незаметно и непосредственно. Чтобы отвлечься от мыслей о предстоявшем, он стал размышлять о технических деталях этого сооружения; такие вещи всегда его интересовали. Самое лучшее — провести подземный ход под залом с «бычьим глазом». Обдумывая проект во всех подробностях, не замечая бравших на караул гвардейцев, не замечая застывших в поклоне лакеев и придворных, он тащил свое неуклюжее тело в покои Туанетты.
Дамы, дежурившие перед спальней королевы, приветствовали его глубоким приседанием и низким поклоном.
— Добрый вечер, медам, — сказал он, покраснев от смущения и гордости. Он порылся в карманах халата и со словами: «Вот тебе, сын мой!» — протянул луидор старику лакею. Стучаться ему не подобало, он достал гребешок, поскреб им о дверь и исчез в спальне Антуанетты.
Через пять минут по дворцу пронесся шепот: «Толстяк уже у нее». Шепот расползался, он полз по коридорам, по апартаментам, выполз за ворота. Через десять минут о случившемся узнал австрийский посол, граф Мерси, через пятнадцать — испанский посол Аранда, еще через десять минут — лорд Стормонт, посланник его величества британского короля. Среди ночи будили секретарей. Послы — Мерси, Аранда, Стормонт — все диктовали, наспех прочитывали продиктованное, запечатывали депеши. Конюхи седлали скакунов. Гонцы мчались кратчайшими путями на восток, на юг и на запад, меняя лошадей на каждой станции.
На следующий день взялись за перо виновники переполоха. Луи писал Иосифу, писал в порыве благодарности по-немецки. «Вам, сир, — писал он, — обязан я своим счастьем». Туанетта писала императрице: «Этот день, дорогая мама, самый счастливый в моей жизни. Теперь мой брак состоялся, все прошло удачно. Я пока еще не беременна, но надеюсь забеременеть с минуты на минуту». Здесь она посадила кляксу.
Вообще Туанетта не любила оставаться наедине со своими мыслями. Но на этот раз, даже потрудившись над письмом к матери, она никуда не выходила и никого не принимала. Переполненная смутными мыслями и чувствами, она праздно сидела одна и вспоминала. Это произошло в густом мраке, за тяжелым пологом, обрамлявшим ее большую кровать, — снаружи еле-еле просачивался свет ночника. Впрочем, Туанетта почти все время не открывала глаз. Неожиданность лишила ее способности соображать: если она о чем-нибудь и думала тогда, то только о том, что лучше бы на месте Луи оказался другой. Ей случалось уже изведать многое, но последний шаг был ей внове. Теперь она поняла, что, собственно, ждала большего, и поэтому чувствовала разочарование. Тем не менее она полностью и даже с удовлетворением принимала случившееся. Наконец-то она выполнила свою миссию, наконец-то она настоящая королева, никому не подвластная, сама себе госпожа. Теперь прекратятся шуточки насчет «королевы-девственницы», торговки закроют свои грязные рты. Но что скажут ее близкие друзья, Габриэль, Франсуа? Она побаивалась встречи с ними, хотя и ждала ее с нетерпением.
В Версальском дворце все злобно задавали теперь один и тот же вопрос: если Туанетта забеременеет, кто будет истинным отцом ребенка — Луи или, может быть, какой-нибудь любовник из «боковых комнат»? Особенно ядовитые остроты отпускали в покоях принца Ксавье. Между тем принцу Ксавье было доподлинно известно, что то, чего он опасался, совершилось в самом деле законным путем; и принц Карл, выигравший пари, получил у него двадцать тысяч ливров.
Молодой король ходил с глуповато-счастливым видом, показывая всем и каждому, как он доволен собой и жизнью. Добродушно-грубые шутки, до которых он и прежде был большой охотник, участились; он еще чаще толкал своих приближенных в живот или изо всей силы хлопал их по плечу. Однажды, увидев нагнувшегося за чем-то лакея, он не удержался и с хохотом звонко шлепнул его по заду, а затем протянул ему луидор.
Туанетте он всячески показывал свою покорность и благодарность. Втайне от нее он ознакомился с ее счетами, ужаснулся и, не сказав ни слова, уплатил все ее долги. После некоторой внутренней борьбы он даже увеличил бюджет Трианона. Туанетта благосклонно принимала наивные знаки его любви и преданности и обращалась с ним ласково, как с большой, неуклюжей собакой. Она не показывала, как претят ей его некоролевские манеры, его слабое чувство собственного достоинства.
До сих пор отношение Луи к друзьям Туанетты было равнодушным, если не откровенно враждебным. Теперь он стал снисходителен, вежлив. Луи появился в апартаментах принцессы Роган, посмеялся над лопотаньем попугая, подставил палец под его клюв; затем любезно осведомился о любимых мертвецах принцессы. Он страшно мешал собравшимся, и все были рады, когда он ушел.
В другой раз он стал добродушно поддразнивать Диану Полиньяк. Грубым своим голосом, шутливо грозя пальцем, он заявил ей, что наслышан о ее романе со старым бунтовщиком из Пасси. Она ответила очень холодно. После этого разговора он велел Севрской мануфактуре изготовить великолепный ночной горшок с портретом Франклина и послал его Диане Полиньяк в качестве подарка ко дню рождения.
Жертвой назойливой общительности короля оказался и маркиз де Водрейль. Теребя кафтан маркиза и глядя ему своими близорукими глазами прямо в лицо, Луи с благосклонной обстоятельностью рассуждал о предложении Туанетты назначить Водрейля интендантом ее увеселений. В настоящий момент, сообщил он добродушно, бюджет его двора оставляет желать лучшего, однако последние недели дали ему, Луи, основание прийти в доброе настроение, а потому он удовлетворил просьбу Туанетты и санкционировал назначение Водрейля. С ледяной вежливостью Водрейль ответил, что он счастлив оттого, что Луи одобряет выбор ее величества. Однако он не знает, заслуживает ли он такой чести, и просил королеву дать ему небольшой срок для размышления. Луи с самым дружелюбным видом схватил его за пуговицу.
— Пустяки, дорогой маркиз, — сказал он, — нечего ломаться. Вы будете вполне на месте. Надо верить в собственные силы.
Это были печальные недели для всей Сиреневой лиги. Один только граф Жюль Полиньяк сохранял невозмутимость, и на его красивом, немного свирепом лице по-прежнему было написано самодовольство. Остальные, держась иронически-равнодушно, тревожились не на шутку. Не последует ли за физическим сближением Луи и Туанетты сближение духовное? А если это случится, удастся ли сохранить свое влияние на королеву?
Наконец самые умные члены Сиреневой лиги, Диана Полиньяк и Водрейль, высказались. Горячий Водрейль хотел немедленно выяснить соотношение сил, подбив Туанетту на какое-либо политическое действие, которое обязательно вызовет недовольство Луи. Если она заартачится, члены Сиреневой лиги откажутся с ней дружить. Диана была против мер принуждения. По ее мнению, нужно осторожно, как бы невзначай, дать понять Туанетте, что именно теперь она должна показать себя не только супругой короля, но и королевой. Водрейль с досадой признал, что так действительно будет умнее.
Итак, члены Сиреневой лиги стали вести себя с Туанеттой более сдержанно, чем прежде, внушая ей, будто неким своим поступком она создала рубеж между собой и друзьями.
Властному, избалованному Водрейлю нелегко было разыгрывать эту легкую отчужденность: его так и подмывало показать Туанетте свое презрение и возмущение. Но он держал себя в руках. Зато он сорвал злость на Габриэль. Он так изводил ее своей хмурой надменностью, что эта обычно спокойная и равнодушная женщина однажды не выдержала и разрыдалась. Между тем она хорошо знала своего Франсуа и понимала, что он зол не на нее, а на Туанетту, которую по-своему любил. Его уязвляло, что теперь этот болван Луи наслаждался тем, что по праву причиталось ему, Водрейлю. К тому же он более других опасался, что Лига утратит свое влияние. Высокомерие Водрейля постоянно нуждалось в пище, и если бы Лига, некоронованным королем которой он являлся, лишилась власти над Туанеттой и, значит, над Францией — это оказалось бы для маркиза величайшим ударом.
План Дианы Полиньяк начал давать результаты. Заметив, что друзья держатся с ней по-иному, Туанетта почувствовала себя неуверенно. Она вовсе не хотела терять друзей, терять свою любимую Сиреневую лигу. Она пыталась объясниться с Габриэль, с Водрейлем. Но оба уклонились от объяснения. Туанетта все сильнее чувствовала потребность в прежней близости.
По тому, как прижималась к ней, как обнимала ее Туанетта, Габриэль было ясно, что та любит ее по-прежнему. Габриэль менее, чем других, интересовали выгоды дружбы с королевой, она была искренне ей предана. Габриэль первая сбросила с себя нелепую маску и стала вести себя с Туанеттой как ни в чем не бывало.
С Водрейлем дело обстояло иначе. Он всячески себя сдерживал, а когда наконец снизошел до объяснения, постарался сделать его как можно более тягостным для Туанетты.
Объяснение состоялось в одной из «боковых комнат». Эта комната, свидетельница многих бурных сцен, кончавшихся уступкой или отказом, показалась Туанетте подходящей для такого разговора.
Можно не сомневаться, начал он, что она достигла вожделенной цели, это написано у нее на лице. Вся она так и сияет бесстыдно-мещанским счастьем. Туанетта не обиделась; его злость только доказывала ей, как много она для него значит.
— Теперь наконец, — отвечала она, — я избавилась от дурацкого препятствия, мешавшего мне быть настоящей королевой. Я понимаю ваше огорчение, Франсуа, но, как другу, вам следовало бы радоваться вместе со мной.
— Вы судите обо мне свысока, мадам, — саркастически возразил Водрейль. — Попробуйте, однако, объективно оценить мое положение. Вы должны будете согласиться, что мне не на что больше надеяться. Теперь — вы сами сказали — вы истинная королева и, значит, находитесь на недосягаемой для какого-то маркиза Водрейля высоте. Маркизу ничего не остается, как удалиться, проводив благоговейным взглядом улетающее в вышину облако. Имею честь, мадам, обратиться к вам за разрешением. Я хочу уединиться в своем поместье Женвилье.
Туанетта ждала, что он станет над ней глумиться, может быть, даже прикрикнет на нее или, как в тот раз, схватит за запястье; в глубине души она именно этого и хотела. Его ледяная ирония и мрачная решимость привели ее в смятение. Это не пустая болтовня, он действительно хочет уехать, он действительно готов бросить ее на произвол судьбы. Она вспомнила его бурные, порою осязаемые домогательства, узнанные ею вот здесь, в этой же комнате, она вспомнила, с какой гордой уверенностью сумел он унизить и сделать смешным самого Иосифа, ее великого брата. Он не смеет уезжать, она его любит, она ни за что его не лишится.
— Это же глупости, Франсуа, — сказала она смущенно. — Вы же сами в это не верите. Вы же не можете нас покинуть. Этого мы не позволим. Мы должны быть вместе — вы, и я, и Сиреневая лига.
— Вы ошибаетесь, мадам, — вежливо отвечал Водрейль. — Я хочу тихой, созерцательной жизни наедине с собой. То, что я пережил здесь за последнее время, мне не нравится. Не заблуждайтесь, мадам. Мое появление в этой комнате не ход в галантной игре, а прощальный визит. Позволит ли мне королева еще раз поцеловать ее руку?
— Оставьте наконец эти мрачные шутки, — взмолилась Туанетта, теперь уже волнуясь по-настоящему. — В кои-то веки мы оказались вдвоем, и вы так меня мучаете.
— Вы меня мучили по-другому, мадам, — ответил Водрейль. — Впрочем, Женвилье не так уж далеко отсюда. Я займусь там литературой, театром. Если мне удастся поставить какую-нибудь особенно добродетельную пьесу, может быть, вы, мадам, и король осчастливите мой дом своим посещением.
На глазах у Туанетты появились слезы.
— Будьте благоразумны, Франсуа, — попросила она снова, — не опьяняйтесь злостью. Что случилось — случилось и в ваших интересах. Я ведь столько раз вам говорила: как только я рожу дофина, я буду свободна. Я умею держать слово.
Водрейль посмотрел на нее и отвел глаза.
— Мадам, — сказал он, — чувства мужчины не замаринуешь, как селедку. Ни один мужчина не может сказать, продлится ли его страсть до той поры, когда будет выполнено то или иное условие. Когда дело касается страсти, нельзя говорить о сроках и условиях, — заключил он. Он говорил тихо, но его глубокий голос звучал удивительно сильно, наполняя всю комнату и словно бы сотрясая стены; на лице маркиза появилось хорошо знакомое Туанетте выражение бешенства.
Она в страхе отпрянула; это был приятный страх. Таким она его желала, такой он становился ей ближе. Она разразилась слезами.
— Теперь она еще и ревет, — сказал он презрительно.
— Я думала, — сказала она, всхлипывая, — так будет лучше и для вас, и для меня. Я чувствовала себя такой свободной, такой счастливой, а вы все испортили.
Не обращая на нее никакого внимания, он несколько раз прошелся по небольшой комнате. Затем, в некотором отдалении от нее, остановился и поглядел на нее.
— Значит, — спросил он, — когда это происходило, вы думали обо мне?
Ничего не ответив, она взглянула на него, взглянула робко, со слабой улыбкой. Он вспыхнул.
— Этого еще не хватало, — возмутился он. — Послушайте, этого я не могу позволить. Это уже в мои верноподданнические обязанности не входит. Если вы хотите родить дофина, я вовсе не желаю служить для вас возбуждающим средством.
Но теперь он уже не мог ее испугать. Увидев его сумасшедшее лицо, она уже не верила, что он уедет.
— Не думайте только о себе, — попросила она. — Подумайте и обо мне, или, вернее, о нас обоих. Мы так долго ждали. Большая, худшая часть ожидания теперь позади. Потерпите еще немножко.
Она встала, прижалась к нему.
— Франсуа, — умоляюще сказала она, — останьтесь здесь, Франсуа. Теперь, как никогда, вы должны быть рядом со мной. Примите эту должность. Вы обязаны ее принять, Франсуа.
Со сладостной горечью подумала она сейчас о том, каких трудов стоило ей выжать из Луи шестидесятитысячное жалованье; и вот Франсуа заставляет себя упрашивать.
— Вы многого требуете от меня, Туанетта, — сказал он; она облегченно вздохнула, когда он наконец назвал ее Туанеттой.
— Это верно, — согласилась она кротко. — Но ведь вы же сказали, что любите меня. Примите эту должность, Франсуа, — повторила она.
— Не скажу вам ни «да», ни «нет», — ответил он. Он схватил ее и осыпал злыми, милостивыми поцелуями.
Пьер сидел за своим письменным столом, напротив него висел доставшийся ему ценой упорной борьбы портрет Дюверни, перед ним стояла модель носовой части судна «Орфрей», доставшегося ему ценой унижений, благодаря его хитрости и отваге. Теперь, после 4 июля, Пьер был уверен, что завоевал и Франклина. Да и можно ли было сомневаться, что такие люди, как он и доктор, в конце концов сойдутся? Поглаживая голову собаке Каприс, он говорил:
— Твой хозяин был ослом, Каприс. Самые умные и те иногда бывают ослами.
Раздевая Пьера, камердинер Эмиль сказал:
— Некоторое время мосье неважно выглядели.
Пьер согласился.
— Вполне возможно. Наверно, я немного переутомился. Но теперь я снова пришел в себя, правда? — спросил он с гордостью.
И Эмиль, протягивая своему голому господину ночную рубашку, удовлетворенно отвечал:
— Да, теперь мосье снова дашь лет тридцать, не больше.
Планы Пьера относительно дома на улице Сент-Антуан становились все шире и шире, и когда архитектор Ле Муан указывал ему на то, как дорого обойдется осуществление его проектов, он отметал эти благоразумные доводы небрежным движением руки.
Между тем положение фирмы «Горталес» нисколько не изменилось к лучшему. Вестей от Поля все еще не было. Два судна фирмы вернулись из тяжелого плавания со смехотворно ничтожным грузом американских товаров. Но Пьера это не беспокоило. Он был уверен, что в недалеком будущем ему заплатят сполна, и его мало трогали новые злопыхательские толки о состоянии его финансов. Даже когда ему принесли подлую статейку журналиста Метра о денежном балансе дома «Горталес», он только пожал плечами.
Затем, однако, его осенило, что кое-какие частности, на которые намекала статья, могли стать известны автору только от его, Пьера, ближайших друзей и компаньонов. Тут было над чем призадуматься. Он стал размышлять, кто скрывается за этой статьей; догадался, понял. Шарло злится, потому что он, Пьер, сумел швырнуть ему его несчастные четверть миллиона до истечения срока векселя. Шарло злится, потому что у него, Пьера, наладились великолепные отношения с Франклином. Шарло злится, что Дезире… — Пьер схватился за голову. Он уже много недель не видел Дезире, за ворохом дел он просто забыл о своей лучшей, о своей умнейшей подруге. Теперь он не мог понять, как это до сих пор не прочитал ей своего Фигаро. Мысли о Ленормане сразу же улетучились, он не чувствовал сейчас ничего, кроме желания немедленно увидеть Дезире и рассказать ей о своей пьесе. Он даст ей роль, хорошую, большую роль, роль камеристки Сюзанны. Пока еще этой Сюзанны у него нет, но она будет, она удастся, это он знал наперед.
Он поехал к Дезире.
Она встретила его так, словно они расстались только вчера. Рыжеватая, невысокая, очень стройная, стояла перед ним Дезире, и на ее красивом, смышленом, подвижном лице с чуть вздернутым носом была написана радость, которую доставило ей его появление.
Он рассказал ей о торжественном приеме у доктора Франклина, о своей уверенности в том, что дела фирмы «Горталес», имеющие большое политическое значение, окажутся к тому же очень и очень прибыльными. Она внимательно слушала, над переносицей у нее появилась вертикальная складка; по-видимому, Дезире не вполне разделяла его оптимизм.
Зато она поверила ему на слово, когда он заговорил о своей пьесе. Он не знал другого человека, который так понимал бы театр, как она. Он говорил деловито, обрисовал общий замысел, остановился на ролях и технических приемах, изложил все плюсы и минусы отдельных сцен, отдельных черт персонажей.
Затем он стал читать. Дезире схватывала все на лету. Она часто его прерывала, задавала вопросы, отмечала несообразности и слабые места. Только теперь, глядя на Дезире и беседуя с ней, он понял, какой должна быть камеристка Сюзанна: смышленая, дерзкая, остроумная, она должна быть достойной партнершей Фигаро. Дезире сразу увидела, куда он клонит, она стала подсказывать ему и помогать, у обоих возникали идеи, фразы, реплики.
Так они работали долго. Они понимали друг друга с полуслова; увлеченные делом, они глядели друг на друга смеющимися глазами, он приходил в восторг от ее находок, она — от его находок.
Когда она наконец сказала: «Ну, пожалуй, довольно», — он не стал рассыпаться в благодарностях, он просто потянулся к ней, она бросилась к нему, они смеялись и были счастливы.
Позднее, но именно позднее, ему пришло в голову, что в графе Альмавива он изобразил не только министра Вержена и некоторых других своих версальских знакомых, но в первую очередь своего дорогого друга Шарля Ленормана д'Этьоля.
Без видимой связи он сказал:
— Я вернул Шарло его деньги до истечения срока векселя.
— Ты поступил не очень умно, — сказала после короткой паузы Дезире и на мгновение нахмурилась.
Ее отношения с Шарло усложнились еще более. Эта связь была ей нужна не только для карьеры: Дезире по-своему любила Шарло. Она страдала из-за этого трудного человека, насколько вообще способна была страдать. Будь он, подобно многим другим ее великосветским приятелям, глуп, пуст и жесток, она бы просто спала с ним и не очень-то пеклась о нем. Но знание людей, которым обладал этот мрачный сластолюбец, его враждебность к людям — вот что притягивало ее и отталкивало. Вне всякого сомнения, он ее любил, но, вместо того чтобы радоваться этому, он цинично и меланхолично подтрунивал над своей любовью и, обнимая женщину, сокрушался, что снова уступает велению плоти. Подчас она делала над собой усилие, чтобы не бросить ему в лицо грубых, непристойных слов, которые только и могли бы передать все ее презрение к его изощренному снобизму. Но она знала, что ее власть над ним не беспредельна, что человек, отвергший раскаявшуюся Помпадур, никогда не простит ей, если она перейдет известные границы.
Узнав, что беспечный Пьер дал щелчок болезненно гордому Шарло, Дезире не на шутку встревожилась. Но она понимала Пьера. Разве она сама не рискнула сыграть Анжелику?
Они больше не говорили о Шарло и вернулись к комедии Пьера, этой великолепной, пестрой мешанине из любви, денег и интриг. Когда она по достоинству оценила искусное построение сюжета, он снова вспомнил о своем отце. Нужно иметь опыт часовщика, сказал он, усмехаясь, чтобы добиться такого сцепления всех шестеренок.
Со свойственной ей практичностью она принялась вслух размышлять, удастся ли поставить комедию, а если да — то где и как. Она быстро все взвесила.
— Поздравляю вас, Пьер, — сказала она. — Вы написали самую прекрасную и самую смелую комедию на свете. Жаль, что ее никогда не поставят.
Пьер и сам уже говорил себе, что вряд ли ему удастся поставить «Фигаро». Но сейчас, когда Дезире сказала это напрямик, он не пожелал с ней согласиться.
— Мне, — ответил он, — уже тысячу раз пророчили: «Никогда, никогда!» — и все пророки попадали пальцем в небо.
Маленькая, дерзкая, очень красивая, с живым, озорным лицом, Дезире сидела на краю стола. Он легко догадался, о чем она сейчас думает. Она считает его болтуном: он, маленький Пьер, хвастает, что поставит свою комедию назло Версалю.
В эту минуту, глядя на скептическое лицо Дезире, Пьер решил: Фигаро произнесет свой монолог с подмостков. Я добьюсь постановки «Фигаро». Я буду бороться за это так же, как за свою реабилитацию, как за американский проект, как за «Орфрей», как за старика из Пасси. «Фигаро» будут играть.
Решение его было настолько твердо, что он даже не облек его в слова. Он сказал только: «Поживем — увидим».
Он тотчас же стал придумывать, как сломить сопротивление аристократов. Тут есть только один путь. Нужно заставить их стать горячими поклонниками этой комедии.
— Вот увидишь, — сказал он с победоносным видом, — как раз наши аристократы и помогут мне поставить «Фигаро». Разве среди них нет напыщенных гордецов, которым любая сатира доставит только эстетическое удовольствие? Они воображают, что находятся на такой недосягаемой высоте, где никакие насмешки черни к ним не пристанут.
— Это неплохой афоризм, — ответила Дезире. — Но можно ли строить на нем серьезное дело?
— Можно, — сказал Пьер, сказал так убежденно, что она готова была поверить ему.
На мгновение задумавшись, она спросила:
— Кого вы имеете в виду?
Он погрузился в размышления, умолк.
— Водрейля? — подсказала она.
Что-то в ее тоне заставило его насторожиться. Неужели она завела роман с Водрейлем? Во всяком случае, она сказала дельную вещь: Водрейль — подходящая для его планов фигура. Он достаточно циничен и сложен, чтобы заинтересоваться пьесой как раз потому, что она направлена против него, если только эта пьеса по-настоящему остроумна.
— Благодарю вас, Дезире, — сказал Пьер, — за все.
— Вы мне нравитесь, Пьер, — отвечала она. — У вас и у вашей пьесы приятные, ясные идеалы: деньги, комедиантство, интриги, свобода.
— Не забудьте еще любовь, Дезире, — сказал Пьер.
После разговора в «боковой комнате» Франсуа Водрейль пребывал много дней, даже недель в злобно-веселом настроении. Он добился, чего желал: его отношения с Туанеттой стали более близкими, а влияние на нее Сиреневой лиги — сильнее чем когда-либо.
Решив реже показываться в Версале, он проводил почти все время в Париже, в общении с писателями и философами, которым покровительствовал. Он любил литературу. Он и сам пописывал. Но написанное незамедлительно уничтожал. Его забавлял самый процесс сочинительства; воздействовать своим творчеством на людей казалось ему вульгарным. Он хотел быть единственным ценителем своего ума. Возможно, он немного опасался, что другие не сумеют по достоинству оценить его продукцию.
В Париже его хорошо знали и валом валили на его «леве». Однажды в числе утренних посетителей к нему явился Пьер де Бомарше.
Водрейль был рад его видеть. Он находил, что остроумие Пьера сродни его собственному. Но чтобы сын часовщика не обнаглел, надлежало держать его на некотором расстоянии. Сегодня маркизу вздумалось показать Пьеру, что его, Водрейля, расположение — милость, дар, которого можно в любой момент лишиться. Он ограничился небрежным кивком и, не обращаясь к Пьеру, стал болтать с другими о разных пустяках — о скаковой лошади, приобретенной им у брата английского короля. Наконец Пьер пробился к нему и заявил, что хочет предложить Водрейлю участие в деле, доходы с которого позволят маркизу приобрести, если угодно, всю конюшню английского принца. Не взглянув на Пьера, Водрейль надменно бросил: «Я не коммерсант», — и вернулся к болтовне о своих лошадях.
Пьера это не смутило. Он знал, что Дезире права. Из сильных мира сего Водрейль более всех способен был оценить его, Пьера, творчество, его прозу, его реплики, изящество его ума. Только унижаясь, и можно заставить этого типичнейшего представителя версальской знати продвинуть его мятежную пьесу. Поэтому Пьер, глазом не моргнув, проглотил обиду и решил прийти на следующее утро.
Ночью Водрейлю пришел в голову какой-то особенно удачный, на его взгляд, каламбур, и маркизу удалось его запомнить. Наутро Водрейль был настроен благодушно и милостиво, и когда Пьер рассказал ему, что почти закончил новую пьесу и что почел бы за честь прочитать ее маркизу и с ним посоветоваться, он с радостью принял его предложение. Он помнил, какое удовольствие доставляли ему прежде чтения этого шута; он вообще любил новинки, а теперь, как интендант Туанетты, был вдвойне заинтересован в том, чтобы первым познакомиться с новой пьесой популярного автора. Поэтому он попросил Пьера сразу же послать за рукописью, пригласил его остаться к обеду, а затем, после еды, лениво развалившись в халате на кушетке, приказал:
— Ну, что ж, мосье, начинайте.
Заманчивая перспектива выложить этому чванному аристократу самые смелые истины воспламенила Пьера. Он был превосходным чтецом, а сегодня он чувствовал свою силу, как никогда; ему казалось, что, читая, он творит. Голос его, способный передать любой оттенок, звучал то плавно, то напряженно, выражая то гнев, то презрение, то горечь, то любовь; он не читал, он играл своих героев. Комедия стала яснее и ярче, чем могла бы стать на сцене.
Сам Водрейль не раз потешался над своим классом. Но можно ли позволить такие насмешки этому мужлану, этому сыну часовщика? Не лучше ли вырвать у него рукопись из рук и заткнуть ею этот наглый рот? Но не успел он собраться с мыслями, как его уже подхватил веселый поток. Он никогда еще не встречался с таким великолепным буйством мысли и слова, его неудержимо тянуло смотреть, слушать и осязать, он ничего не мог поделать с собой, это было слишком дерзко и слишком увлекательно.
Пьер сознавал, что сейчас, во время чтения, решается судьба его комедии. Все зависит от того, как примет ее этот человек в халате. Если Водрейль захочет, Париж увидит «Фигаро». Если нет — Пьеру остается запереть пьесу в ящик и возложить все надежды на потомство.
У человека, лежавшего на кушетке, возле которой сидел Пьер, было умное, избалованное, надменное лицо, более даже надменное, чем умное. Но постепенно с этого лица сошла гордость. Водрейль знал толк в театре. Он решил отбросить сомнения и без помех насладиться пьесой. Он приподнялся, вскочил, забегал по комнате. Рассмеялся. Стал подыгрывать Пьеру. «Бис, бис!» — выкрикивал он, хлопая в ладоши, как в зрительном зале. Он все чаще и чаще просил повторить какую-нибудь фразу, заставил Пьера прочесть сначала целый кусок, принялся сам подавать реплики. Получилась великолепная буффонада, они хохотали до слез, не разбирая, кто же из них двоих шут.
— Ты это здорово сделал, Пьеро, — сказал, все еще задыхаясь от смеха, Водрейль. — Это кого угодно сведет с ума. Весь Париж сойдет с ума, весь двор. Это — лучшая пьеса, написанная французом со времен Мольера.
— И вы думаете, ее поставят? — спросил Пьер.
— Толстяк меня терпеть не может, — размышлял вслух Водрейль, — толстяк ничего не смыслит в театре, и у него нет чувства юмора. Провернуть это будет нелегко. Что ж, тем более. Положись на меня, Пьер.
Филипп Гюден благоговел перед великими мужами, он любил читать Плутарха и очень страдал оттого, что такие выдающиеся люди, как Франклин и Пьер, борющиеся за одно и то же дело, не ладят между собой. Когда Пьер рассказал ему о празднике в Пасси и о своем примирении с Франклином, у него камень с души свалился.
В трактире «Капризница Катрин», где собирались писатели и философы, он встретил доктора Дюбура. Дюбур принадлежал к тем немногим людям, к которым мягкий и добродушный Гюден питал антипатию. Мало того что Дюбур не явился в тот вечер, когда Гюден читал из своей «Истории Франции», он приписывал себе заслуги, принадлежавшие по праву не ему, а Пьеру. И если Франклин столько времени был холоден с Пьером, то, конечно, без наушничества Дюбура дело не обошлось.
Гюден обрадовался случаю ввернуть коллеге Дюбуру, что его наветы не возымели результата. Не скупясь на прикрасы, он стал говорить об энтузиазме, который вызвал у Пьера праздник в Пасси. Должно быть, сказал он, Дюбур пережил волнующие минуты, глядя на дружескую беседу двух великих солдат свободы — Франклина и Бомарше.
Дюбур с неудовольствием вспомнил, что, действительно, в тот вечер Франклин незаслуженно отличил мосье Карона, проявив к нему особую сердечность. Он, Дюбур, тогда уже предвидел, что этот господин и его друзья превратно истолкуют простую учтивость Франклина. Так оно и вышло. Теперь от жужжания этого овода, этой mouche au coche совсем не будет покоя.
У него было в запасе несколько сильных выражений, чтобы осадить этого ученого дуралея Гюдена. Но он решил воздержаться от необдуманных замечаний: они были бы противны духу Франклина.
— Да, — ответил он сухо, — насколько я помню, в числе прочих на этом небольшом празднестве был и мосье де Бомарше. Он, как, впрочем, и многие другие, своим присутствием подчеркнул величие Франклина и франклиновского дела.
Гюден нашел, что кислое замечание этого скучного педанта лишний раз показывает, какую зависть вызывают в нем дружеские отношения Пьера и Франклина. Уютно устроившись за тяжелым столом в шумном, битком набитом людьми трактире, расстегнув под жилетом панталоны и отпив глоток знаменитого анжу, которым славилась «Капризница Катрин», Гюден ответил, что спокойный, умудренный наукой Франклин и изобретательный, деятельный Бомарше действительно превосходно дополняют один другого. Франклин помогает Америке своей философией, Бомарше — своими смелыми делами. Франклин — это Солон, или, лучше сказать, Архимед нашего столетия, а Бомарше потомки назовут Брутом нашего времени. Впрочем, кроме демократического пыла Брута, мосье де Бомарше свойствен еще блестящий, убийственный юмор Аристофана. Благодушный Гюден высказал свое мнение с подобающей ученому обстоятельностью и беспристрастностью, хотя и с полемическим задором.
Но доктор Дюбур не желал больше слушать этой высокопарной болтовни, терпение его истощилось. Его тусклые глаза, его дряблое, угасающее лицо неожиданно оживилось, он запыхтел, засопел, пригубил вина и сентенциозно сказал:
— Бывает, что историк, верно оценивающий события прошлого, поразительно ошибается в оценке современных событий. По-видимому, так обстоит дело и с вами, доктор Гюден. Я менее всего склонен приуменьшать заслуги мосье де Бомарше. Он не только пишет острые, полные добрых намерений фарсы, но и ведет рискованную заморскую торговлю, и, по-видимому, оба рода его деятельности приносят Тринадцати Соединенным Штатам некоторую пользу. Но если даже все это и служит к чести мосье де Бомарше, по-моему, никак нельзя при оценке американских событий ставить его на одну доску с таким философом и государственным деятелем, как Франклин. Слушая вас, начинаешь понимать людей, которым при упоминании Бомарше приходит на ум лафонтеновская басня о карете и мухе.
Гюдену показалось, что из-за трактирного шума он ослышался. Однако Дюбур глядел на него злыми глазками и торжествующе чмокал пухлыми губами. Гюден почувствовал, что кровь ударила ему в голову. Он тяжело вздохнул и, расстегнув еще несколько пуговиц на жилете и панталонах, спросил:
— Неужели встречаются такие люди, мосье? Неужели встречаются люди, сравнивающие поэта и политика Бомарше с лафонтеновской мухой?
— На прямой вопрос, — сказал Дюбур, — нужно отвечать прямо. Да, мосье, встречаются.
Оба тучных господина сидели друг против друга и, сопя, защищали каждый своего кумира. К их разговору стали прислушиваться окружающие, но за шумом они не могли уловить, о чем идет речь.
— Уж не хотите ли вы сказать, господин доктор Дюбур, — тихо, но с горечью продолжал Гюден, — что и в Пасси имя Бомарше напоминает названную вами басню?
Помедлив мгновение, потом еще одно, Дюбур вспомнил о корабле «Орфрей», который ушел у него из-под носа, о письме, в котором потешался над ним этот мосье Карон, и ответил:
— Да, мосье. Разумеется, мосье.
Гюден опешил. Ему не хотелось верить услышанному, но по лицу Дюбура он видел, что тот не лжет. Гюден считал себя сердцеведом, у Сенеки, у Цицерона, у Марка Аврелия,[55] в «Характерах» Теофраста[56] он вычитал немало впечатляющих примеров неблагодарности, зависти, ревности, приуменьшения чужих заслуг. Впервые узнав от Пьера о странном поведении Франклина, он сам указал другу на распространенность такого отталкивающего порока, как неблагодарность. Но сейчас, видя перед собой полное злобного торжества лицо Дюбура, услыхав собственными ушами о невероятной несправедливости Франклина к Пьеру, он был все-таки потрясен до глубины души. Подумать только, что доктор Франклин, почитаемый по обе стороны океана как воплощение честности и прямоты, Франклин, глашатай доблести и разума, на людях умасливает своего великого соперника, а за глаза оскорбляет его ехидными сравнениями. Плечи Гюдена обвисли, его полное, добродушное лицо помрачнело; он пил, не слыша веселого трактирного гомона, но легкое, шипучее вино уже не казалось ему вкусным.
— Если философ из сада Пасси, — сказал он, — если западный Сократ действительно допустил подобное глумление над борцом и писателем Бомарше, то — при всем моем уважении к нему — я должен сказать, что он поступил не по-сократовски.
Дюбур уже жалел, что так обидел Гюдена.
— Мне жаль, — сказал он, — если у вас сложилось впечатление, будто вашему другу не воздают должного. Но вы сами обратились ко мне с вопросом, и я вынужден был на него ответить. Ложь — не мое занятие. Amicus Plato, magis arnica veritas.[57]
Это было полное торжество доктора Дюбура.
Но радоваться своему торжеству ему не пришлось. Все следующие дни его преследовало воспоминание о поникшем, потрясенном Гюдене. Дюбур был ученым, он любил объективность и в глубине души не мог не признать, что в словах ограниченного, но добросовестного историка Гюдена была доля истины. Его, Дюбура, великий друг создал основы американской независимости, но, поселившись в Пасси, он стал поразительно инертен и не интересуется даже каперством. Естественно, что такая бездеятельность получает превратное толкование. По-видимому, мосье Гюден не единственный человек, противопоставляющий вечную занятость Бомарше философской праздности Франклина.
Занявшись какой-либо проблемой, доктор Дюбур додумывал ее до конца. Он сидел в одиночестве за бутылкой кортона[58] с томом Монтеня[59] в руках и размышлял о споре в трактире «Капризница Катрин». В том, что этот тугодум Гюден отважился неуклюже, pingui Minerva, напасть на Франклина, есть и своя хорошая сторона. Теперь не остается никаких сомнений в одном обстоятельстве, на которое он, врач Дюбур, давно уже обратил внимание, но с которым ему до сих пор не хотелось считаться: с возрастом энергия Франклина идет на убыль.
Нужно что-то предпринять. Он, Дюбур, немногим моложе Франклина, но, к счастью, еще крепок и бодр. Он обязан расшевелить своего великого друга — такова историческая миссия, выпавшая на долю ему, Дюбуру. У Франклина большое имя, широчайшая популярность; он, Дюбур, скромно оставаясь на заднем плане, должен добиться от друга, чтобы тот использовал эту популярность для важного и значительного шага.
Он старался придумать такой шаг, такой грандиозный план, который можно было бы предложить Франклину. Ему приходило в голову то одно, то другое, но все это были несостоятельные проекты, он никак не мог найти корень вопроса. Дюбур пил, читал, думал, пил, читал. Потом лег спать, так ничего и не придумав.
На следующее утро он проснулся, и удивительное дело! — он нашел этот корень. Пока он спал, высшее существо внушило ему великолепный план. Какое счастье! Прежде чем сойти в могилу, он окажет Франклину и свободе такую услугу, которой человечество никогда не забудет.
Он велел заложить карету и поехал в Пасси.
В это время Франклин сидел у себя в кабинете и сочинял письмо своему венскому другу, доктору Ингенхусу. Он подробнейше описывал свою встречу с химиком Лавуазье. Брошюра Лавуазье об окислении открыла новую страницу в науке, и дополнительные сведения, которые сообщил ему этот молодой ученый, заслуживали глубочайшего внимания. Франклин питал страсть к ясному, письменному изложению научных вопросов, дисциплина и сосредоточенность в работе давно уже вошли у него в привычку. Сегодня, однако, мысли рассеивались, он то и дело клал перо на стол и принимался размышлять о вещах, весьма далеких от соединений определенных частей воздуха с определенными металлами.
Физически Франклин давно уже не чувствовал себя так хорошо, как теперь; стояли чудесные дни, он плавал в Сене и, делая моцион, часто прогуливался по террасам парка. Вечера он проводил в приятном обществе мадам Гельвеций или мадам Брийон. И все-таки обычное спокойствие его покинуло.
Почта, пришедшая из Америки, дала ему наконец ясную картину тамошних дел. Картина эта была весьма неутешительна. Если уж официальные письма Конгресса звучали достаточно тревожно, то интимные письма друзей и вовсе настраивали на мрачный лад. Армия Вашингтона нуждалась в людях. Нарушая собственные обязательства, отдельные штаты не поставляли положенного количества рекрутов, товаров и денег. Зато тысячи граждан, на свой страх и риск, вкладывали деньги в каперство или поступали матросами на каперские суда. Административным и экономическим трудностям не было конца. Деньги, выпускаемые Конгрессом, имели хождение только при условии высокого ажио или вообще не имели. Споры между отдельными штатами не прекращались, вера в конечную победу ослабевала, все распадалось и рушилось. Если Франклин, писали друзья, не добьется союза в ближайшее время, помощь уже не потребуется.
В числе прочих пришло письмо и от его дочери Салли. Когда Конгресс бежал в Балтимору, она со своим мужем Ричардом Бейчем также покинула Филадельфию и вывезла библиотеку Франклина. Вернувшись вместе с Конгрессом, они водворили книги, картины и прочие дорогие отцу вещи в дом на Маркет-стрит. Теперь, писала она, говорят, что над городом снова нависла угроза. Тори, всякие Шиппены, Кирсли, Стенсбери, снова подняли головы, республиканцы же, готовясь к новому бегству, сбывают с рук свою недвижимость; многие из них уже бежали. Что касается ее, то на этот раз она не даст себя запугать. На этот раз она останется и оставит на месте отцовские вещи; она уверена, что все будет хорошо.
Франклин ясно представлял себе дочь Салли, полную, крепкую, светловолосую, орудующую своими большими, сильными, ловкими руками. Вот кто обладает здравым смыслом; вот кто по-настоящему бесстрашен — она и ее муж Ричард Бейч. Их отвага — это отвага людей, лишенных воображения. Но именно поэтому их решение остаться никак не может служить доказательством безопасности Филадельфии.
Многие его друзья, писала Салли, продали за бесценок свои дома и бежали. Печаль наполнила сердце Франклина. Он представил себе свой любимый город. Самый большой в Америке, хотя и не очень большой. Париж в двадцать раз больше. У его города сельский вид. В нем мало мощеных улиц, в нем больше садов и зелени, чем строений. И все же это красивый, яркий, здоровый город. Большая часть его населения живет в явном достатке. Здесь, в Париже, гораздо чаще встречаются люди в бархате и шелку, но приглядываться к их одежде не стоит: как правило, это обноски привилегированных, наряды с чужого плеча. Такой прикрашенной бедности в Филадельфии не знают. Карет там тоже меньше; ленивцы, вроде него самого, пользуются паланкинами. Зато в Филадельфии меньше грязи и нищеты, там не знают тесноты, вони и отчаянного убожества, которые ему случалось видеть во многих парижских кварталах. Там и бедняки живут среди садов, как он в Пасси. Нелегко было, наверно, его друзьям покидать свой прекрасный город. Нелегко и ему думать, что вот сейчас, может быть, сию минуту, по Маркет-стрит маршируют английские офицеры, а в кофейне Джеймса, в «Сити-Таверн» и в харчевне «Индейская королева» хозяйничают красномундирное английское солдатье и болваны гессенцы. Старое его сердце сжималось от негодования, и даже мысль о гречневой и маисовой муке, заботливо присланной ему Салли, чтобы он не оставался без своих любимых блюд, не могла отвлечь его от горьких раздумий.
Артур Ли и Сайлас Дин, наверно, тоже получили частную информацию. Можно не сомневаться, что они сегодня же явятся, явятся поспешно, с возмущенным, важным и озабоченным видом. Они пристанут к нему с дурацкими предложениями, потребуют каких-то действий. Он понимает их нетерпение, ему самому надоело сидеть сложа руки. Но ничего другого не остается. Образовался порочный круг: из-за плохого военного положения нужен немедленный союз с Францией, а чтобы добиться от Версаля союза, надо сначала улучшить военное положение.
Франклин внушал себе, что на старости лет он стал мудрее и примирился с медлительностью исторического прогресса. Но терпение его было поверхностно, долгое ожидание превращалось в долгую муку. Жизнь шла на убыль, а дело, которому он посвятил остаток своих дней, не двигалось. Ему казалось, что он походит на изображение святого Георгия; тот тоже без устали скачет вперед, но остается на том же месте. В конечной победе он не сомневался. Независимость Америки гарантирована историей, и в этом есть и его заслуга. Он видел обетованную землю. Но он боялся, что умрет, так и не вступив на нее.
В такие печальные мысли и был погружен Франклин, когда в его кабинет, спеша поведать свою идею, деловито вошел доктор Дюбур.
До сих пор, заявил он, самый большой и лучший капитал Америки лежал втуне.
— Что же это за капитал? — пожелал узнать Франклин.
— Ваша популярность, — торжествующе отвечал Дюбур, энергично указывая на Франклина тростью. И, не обращая внимания на скептическую усмешку своего друга, он заявил, что если Франция до сих пор не заключила союза с Соединенными Штатами, то объясняется это, как всем известно, сопротивлением короля. До сих пор американцы имели дело только с министрами. Но сломить это сопротивление министры, при всей своей доброй воле, не в силах. Сделать это в состоянии только один человек, австриячка, Мария-Антуанетта. Нужно добиться ее расположения или по меньшей мере свидания с нею.
Франклин испытующе заглянул Дюбуру в глаза и ласково сказал:
— Займитесь-ка лучше своими каперами, старина.
Ничуть не смутившись, Дюбур стал защищать свой план. При всем уважении к своему другу он может похвастаться одним преимуществом: прожив всю жизнь в Париже, он улавливает дух Версаля лучше, чем Франклин. Он знает, какой это идол для двора, а в особенности для ближайшего окружения австриячки, Сиреневой лиги, — мода.
— Вы сейчас в моде, доктор Франклин, — сказал он многозначительно. — Попытайтесь встретиться с королевой. Увидите, что игра стоит свеч, — пообещал он с самоуверенным видом.
— Узнаю старого романтика Дюбура, — добродушно отозвался Франклин. — Может быть, вы помните, что даже с либералом Иосифом мне так и не удалось встретиться?
— Туанетта — женщина, — горячился Дюбур, — мода для нее важнее политики.
— Легко сказать — увидеть королеву, — покачал головой Франклин. — Может быть, в Париже американская делегация и популярна, но двор воротит от нас нос. Чтобы увидеться с мосье де Верженом, да какое там, даже с мосье де Жераром, я должен являться с черного хода.
На старом, дряблом, морщинистом лице Дюбура показалась лукавая, озорная улыбка.
— А почему бы, — спросил он, — вам не явиться с черного хода и к королеве? Насколько мне известно, Луи приступил к своим супружеским обязанностям совсем недавно, так что Мария-Антуанетта только сейчас стала женщиной. В этот период, — объяснил он с видом искушенного соблазнителя, — женщины чрезвычайно эмоциональны и склонны к экстравагантным поступкам. От версальского двора можно ждать чего угодно. Почтенный друг, — взмолился Дюбур, — послушайтесь меня один раз в жизни. Поверьте мне, что самое умное — это сразу взять быка за рога.
Маленькие, запутанные интриги, вроде той, которую сейчас предложил Дюбур, бесконечно претили старому мудрецу Франклину. Он верил в великий имманентный смысл истории, и ему казалось нелепым ускорять исторические события такими дешевыми маневрами, до которых только и может додуматься впавший на старости лет в детство Дюбур. С другой стороны, занимаясь естествознанием, Франклин убедился, что иногда какое-то крошечное, случайное наблюдение дает толчок к великим революционным открытиям. Всего вероятнее, что «проект» Дюбура — просто пустая затея, которую невозможно осуществить и которая, даже если ее исполнить, делу не поможет. Но Франклин привык сначала пробовать, а уж потом отказываться. Чем он, собственно, рискует, если действительно попытается встретиться с габсбургской королевой? Конечно, о том, чтобы «добиться ее расположения», как это представляет себе его наивный друг, не может быть и речи. Но есть немало влиятельных лиц, сочувствующих Америке и не выражающих своих симпатий только из-за враждебно-нейтральной позиции королевской четы. Если он встретится с королевой, поговорит с ней, может быть, самый этот факт придаст смелости таким людям? И разве старик Морена не говорил, что он, Франклин, недооценивает практического значения своей популярности? Зачем, в самом деле, зарывать в землю свой талант? Ли и Сайлас Дин заклинают его что-то предпринять. Если он попытается встретиться с австриячкой, он продемонстрирует им свою добрую волю, и они хотя бы на время оставят его в покое. Да и положение Соединенных Штатов, к сожалению, таково, что не приходится пренебрегать самыми авантюрными проектами. Надо хвататься за любое средство спасения, будь то даже хвост дьявола.
— Если вы возлагаете на это такие надежды, дружище, — сказал он, — то я, конечно, обдумаю ваше предложение. Во всяком случае, благодарю вас. — Глядя на просиявшее лицо Дюбура, Франклин с сожалением отметил, что оно приобретает все новые и новые черты маски Гиппократа.
В присутствии Дюбура Франклин поделился его идеей с господами Сайласом Дином и Артуром Ли.
Ли тотчас же с большим жаром отверг это предложение. Эмиссар свободного народа, заявил он сурово, не должен унижаться до лести деспотам. Сайлас Дин, напротив, пришел в восторг. Непонятно, заявил он, как это они до сих пор не попытались повлиять на Версаль таким способом, и хотя он вообще-то терпеть не мог врага и хулителя Бомарше доктора Дюбура, на этот раз он назвал его мысль колумбовым яйцом.[60]
Артур Ли надменно заявил, что, к счастью, недостойный проект отпадает сам собой. После неудачи с венским фараоном он, Ли, не видит пути к осуществлению встречи с парижской диктаторшей. Дюбур возразил, что к королеве, инкогнито общающейся со всякого рода людьми, такая персона, как Франклин, сумеет найти доступ. Сайлас Дин, плутовски улыбаясь, сказал:
— Если кто-нибудь в состоянии устроить подобную встречу, то это прежде всего человек, который уже не раз выручал нас из беды, — это наш друг Бомарше.
Дюбур недовольно фыркнул. На это он не рассчитывал. Он, Дюбур, указал способ вытащить карету из грязи, и тут же опять появляется назойливая муха.
— Только и слышишь от вас «Бомарше», — сказал он с досадой.
— В том-то и беда, что больше надеяться не на кого, — отвечал, пожимая плечами, Сайлас Дин.
Артур Ли сказал:
— Вот видите, господа, куда мы сразу скатываемся, едва только допускаем возможность таких недостойных компромиссов. Чтобы польстить диктаторше, нам нужна помощь спекулянта.
Франклин миролюбиво заметил:
— Хочешь выточить костяной набалдашник — не бойся вони.
Отведя в сторону Сайласа Дина, он поручил ему поговорить с Бомарше.
— Только не сообщайте ему, — прибавил доктор, — что эта просьба исходит от меня. Неприятно, если после неудачи с Иосифом новая затея также провалится, а скрытность как раз не самое сильное качество мосье де Бомарше. Пусть это будет услуга, которую он оказывает вам лично. Представьте ему наш проект как вашу собственную идею.
— Мне не нужны лавры доктора Дюбура, — помедлив, ответил Сайлас Дин.
— Доктор Дюбур обладает присущей ученым скромностью, — успокоил его Франклин, — я все возьму на себя.
— Хорошо, — согласился Сайлас Дин. — Я рад, — не преминул он прибавить, — что наконец-то и вы оценили нашего debrouillard'а.
Когда на следующее утро Сайлас Дин заговорил с Пьером, тот сразу догадался, кто его послал.
— Скажите, уважаемый, — спросил он просто, без обиняков, — вы пришли по поручению нашего великого друга из Пасси?
Сайлас Дин залился краской, вытер пот и поспешил заверить:
— Нет, это моя идея.
— Значит, у вас бывают смелые идеи, — признал Пьер.
— Благодарю вас, — отвечал польщенный Дин.
Пьер был глубоко удовлетворен. Предположения, возникшие у него 4 июля, блистательно подтвердились. Франклин понял, что без помощи Пьера Бомарше независимость Америки недостижима.
Задача, стоящая перед ним, чрезвычайно соблазнительна. Королеву Франции нужно против ее воли свести с вождем мятежников. Тут требуется интрига вроде тех, которые он заваривал в своих пьесах. Он уже видел, каким путем действовать. И снова, как обычно в таких случаях, он помчался с наполовину готовым планом к своей приятельнице Дезире.
И вот они сидели рядом, эти изворотливые, живучие дети парижской улицы, и думали, как сыграть шутку со своими высокомерными версальскими покровителями. Ясно, что кратчайший путь идет через Водрейля. Дезире любила своего друга Франсуа, он был щедр, и она не сомневалась, что в случае любой ее ссоры с «Театр Франсе» маркиз окажет ей действенную помощь. Но иногда он держался с ней беспощадно высокомерно, и было заманчиво использовать его как слепое орудие в большой интриге, направленной против его собственного класса.
Оба были убеждены, что стоит только Водрейлю, признанному фавориту королевы, серьезно этого захотеть, как она согласится встретиться с Франклином. Дезире считала, что сейчас как раз наиболее подходящий момент, чтобы заинтересовать маркиза их планом. Он явно готов принять предложенное ему интендантство и ищет только какой-нибудь сенсации, которая бы показала двору и городу, что Водрейль, несмотря ни на что, остается прежним Водрейлем, не желающим считаться ни с прихотями Луи, ни с его политикой.
Заручившись поддержкой Дезире, Пьер отправился к маркизу и поведал ему, что после работы над «Фигаро» он, Пьер, ни о чем не может думать, кроме театра; все, с чем он ни сталкивается, он воспринимает только как материал для сцены. Он пытался «обыграть» даже старика Франклина. Американец в коричневом меховом кафтане и железных очках — чудесный персонаж для комедии, этакий бесхитростный, старый герой, мудрый, трогательный и немного смешной. Однако соорудить вокруг него пьесу чертовски трудно. Уж на что он, Пьер, горазд на подобные выдумки, а даже он не видит правдоподобной возможности свести героя и его антагонистов таким образом, чтобы они могли обмениваться задиристыми, остроумными репликами. Старик из Филадельфии — это один полюс, Версаль, двор — другой, и хотя между ними расстояние всего в несколько миль, их разделяет целый океан, так что дать их в рамках одной пьесы совершенно невозможно. Жаль, что фигура старика Франклина остается, так сказать, монологической и что построить вокруг него комедию, по-видимому, не удастся.
Они сидели за завтраком, Водрейль рассеянно ел и рассеянно слушал. Однако Пьер, всегда очень чуткий к реакции собеседника, понял, что эта рассеянность — напускная. Его не смутило, что маркиз не поддерживает разговора. Он знал, что внушил маркизу то, что намеревался внушить.
Он был так уверен в успехе, что, возвращаясь в карете домой, дал волю своей фантазии. Он представил себе, как Франклин приходит к нему на улицу Конде, в его прекрасный кабинет, и благодарит его, Пьера, — благодарит степенно, чуть насмешливо — иначе уж он не может, этот старик. А потом из Пасси посылается в Конгресс письмо, прославляющее фирму «Горталес» и требующее немедленного удовлетворения справедливых и давнишних притязаний заслуженной фирмы. И написано это письмо им самим. Пьером, а подписано Вениамином Франклином. А потом флот торгового дома «Горталес и Компания» возвращается из Америки, судно приходит за судном, и каждое привозит векселя, и каждое привозит товары, огромные груды товаров, достойную награду за его идеализм и за его хитрость.
Водрейль тоже был очень доволен. Этот сын часовщика, этот шут, сам того не подозревая, дал ему великолепную идею, идею, которой он, маркиз, так долго, так настойчиво ждал. Столкнуть американца с Версалем — это чудесно, это как раз та сенсация, которая ему нужна. Конечно, для какого-то мосье Карона такая штука — несбыточная мечта. Если тот задумает что-нибудь в этом духе, он сразу же наткнется на стену. Иное дело маркиз Водрейль. У него, Франсуа Водрейля, есть крылья, чтобы перемахнуть через стену. Свести вождя мятежников с влиятельной при дворе фигурой? Что может быть проще! Нужно только обладать смелостью и фантазией природного аристократа, и тогда ничего не стоит свести его не просто с влиятельной фигурой, а с самой влиятельной, с той самой.
Водрейль составил дерзкий, веселый и простой план действий. Это будет аристофановская, достойная Водрейля забава, проказа, которая разозлит толстяка и даст двору хорошую пищу для разговоров.
Предпосылкой к встрече — это сразу же стало ясно — послужит празднество в его имении Женвилье, своего рода бал-маскарад, так что Туанетта сможет явиться инкогнито и поговорить с мятежником. Остается только найти подходящий предлог, чтобы пригласить старика. Пожалуй, пусть это будет спектакль, пьеса, имеющая какое-то отношение к квакерскому бунту.
Он мысленно перебирал все написанное для театра. Искал, находил, отвергал, нашел.
Был такой старый, уважаемый драматург Антуан-Марен Лемьер. Он писал полные благородного пафоса, хотя и скучноватые пьесы в стихах, изобиловавшие бунтарскими выпадами против нетерпимости духовенства и деспотизма правителей. Обычно действие этих пьес происходило в давние времена и в весьма отдаленных странах, например, в древней Персии или в древней Индии, так что цензура после некоторых колебаний разрешала их ставить. Но вот Лемьер написал «Вильгельма Телля», и цензор заявил, что не потерпит изображения на сцене мятежа, разыгрывающегося на временной дистанции менее чем в тысячу лет, а на пространственной — менее чем в две тысячи миль. Запрет вызвал бурную реакцию, автор пожаловался королю, но Луи утвердил решение своего цензора. Поставить эту пьесу у себя в замке для небольшого, избранного круга гостей, в исполнении аристократов-любителей, а не профессиональных актеров — такая мысль показалась Водрейлю храброй и пикантной, иронической и революционной. К тому же этот спектакль — отличный предлог, чтобы пригласить и американца и Туанетту.
Он посвятил в свой план ближайших друзей — принца Карла, Полиньяков, Роган. Объяснил им, что в замысел его входит не политическая демонстрация, а чисто эстетический, развлекательный эффект. Само собой разумеется, что ни старика Лемьера, ни его бравых швейцарцев, ни добропорядочного квакерского патриарха нельзя принимать всерьез. Аристократы, так сказать, похлопывают мятежников по плечу, понимающе подтрунивают над ними. При таком снисходительно-насмешливом отношении к спектаклю это будет проделка, достойная Сиреневой лиги.
Друзьям Водрейля проект понравился и вскоре захватил их не менее, чем самого маркиза. Было решено придать увеселению вид бала-маскарада, на котором постановка «Вильгельма Телля» точно так же, как балет или фейерверк, представляет собой всего лишь один из множества аттракционов. Подготовка к спектаклю велась втайне, чтобы зрелище было неожиданным и потому особенно пикантным. Поначалу принц Карл хотел играть и Телля, который стреляет, и габсбургского наместника, в которого тот стреляет. В конце концов он остановился на Телле; роль мрачного австрийца дали красивому, грубоватому графу Жюлю, которому она очень подходила. Габриэль Полиньяк обрадовалась возможности предстать в виде благородной, свободолюбивой, близкой к природе швейцарки и тотчас же начала совещаться с мадемуазель Бертен. Единственную развлекательную роль, роль мальчика, у которого его отец, Вильгельм Телль, выстрелом сшибает с головы яблоко, Водрейль поручил профессиональной актрисе Дезире Менар.
Диана Полиньяк вызвалась разжечь любопытство Туанетты, чтобы заставить ее принять приглашение. Она по секрету рассказала королеве, что Водрейль собирается поставить в своем Женвилье нашумевшего «Вильгельма Телля» мосье Лемьера и не знает, следует ли приглашать Туанетту. Туанетта поняла, что Франсуа хочет показать, каким он будет оригинальным интендантом; она и сама была не прочь невинно подшутить над добряком Луи и поэтому немного обиделась, узнав, что друзья сомневаются в ее храбрости.
Когда Туанетта после этого встретилась с Водрейлем, она спросила его полушутливо-полуобиженно:
— Так что же, Франсуа? Вы пригласите меня на свой бал или нет?
— Ваше присутствие, мадам, — вежливо отвечал Водрейль, — было бы для меня честью, которой я не осмеливаюсь требовать. Я не хочу подбивать вас на смелые шаги.
— Насколько я помню, — возразила Туанетта, — я не давала вам повода сомневаться в моей храбрости.
— Я поставлю пьесу, — резко сказал Водрейль, — которая привела в раж толстяка, — Лемьерова «Вильгельма Телля». Не знаю, разумно ли при теперешних ваших отношениях с королем вас приглашать.
— Очень признательна вам, Франсуа, — сказала Туанетта, — что вы так трогательно заботитесь о моих отношениях с королем. Не вижу причины не явиться на вашего «Вильгельма Телля». Швейцария меня интересует. Вам, наверно, известно, что в своей трианонской деревушке я велела устроить швейцарскую ферму. Я очень сочувствую национальному герою швейцарцев.
— На представлении будет автор «Вильгельма Телля», — сказал Водрейль.
— Ну и что же? — спросила Туанетта.
— Будут и другие любопытные гости, — продолжал Водрейль, — например, доктор Франклин.
Высокие брови Туанетты взлетели еще выше, белое ее лицо слегка покраснело.
— Вот видите, — усмехнулся Водрейль. — Теперь вы и в самом деле сестра императора Иосифа, — прибавил он.
Туанетта почувствовала мучительную беспомощность. Это оказалось куда опаснее, чем она ожидала. Она, Мария-Антония Габсбургская, королева Франции и Наварры, и старый книгопечатник-мятежник — о нет, как храбро ни пренебрегала она церемониалом, такой роскоши она не может себе позволить. Мало того что она причинит неприятности Луи, брат Иосиф, через Мерси и аббата, будет по заслугам ее упрекать. Правда, император предстал перед Франсуа в неприглядном свете, но во всем, что он думал и говорил о мятежнике, он был совершенно прав.
Однако, с другой стороны, разве сам Иосиф не собирался встретиться с Франклином? И разве ей, женщине, такая встреча не более позволительна, чем брату? И разве речь идет не о маскараде? Если она, скрыв лицо под маской, поболтает с американцем, неужели это страшнее, чем разговоры, которые так часто заводят с ней посторонние лица на костюмированных балах?
Водрейль стоял позади нее. Облокотившись на спинку ее стула, он смотрел на Туанетту сверху. Его карие, глядевшие из-под густых черных бровей глаза, все его мужественное, насмешливое лицо говорили яснее всяких слов: да, хвастать она мастерица, но как только ей начинают грозить неприятности со стороны мужа или со стороны брата, она тут же пасует.
Нет, она не хочет казаться трусихой. Ею вдруг овладела ненависть к Иосифу, к этому вечному наставнику, который столько раз отчитывал ее и унижал, а теперь пытается направлять ее жизнь своим толстым «Руководством».
Не меняя позы, Водрейль открыл свой наглый, красивый рот и тихим, грудным голосом, очень любезно сказал:
— Теперь вы понимаете, Туанетта, что я хотел избавить вас от этого испытания? Если во время празднества кто-нибудь спросит меня о вас, я могу, не солгав, ответить: «Мадам не приглашена».
Туанетта не на шутку обиделась.
— Вы очень дерзки, Франсуа, — отвечала она. — У вас нет ко мне доверия. Вы обижаете меня.
Этого-то Водрейль и ждал.
— Как угодно, мадам, — ответил он. И, став перед ней, и склонившись в глубоком поклоне, и смеясь одними глазами, он почтительно произнес: — Прошу вас, мадам, оказать мне милость и осчастливить меня своим прибытием на мой маленький праздник в Женвилье.
Туанетта прикусила губу, вздохнула. Водрейль отошел на несколько шагов, прислонился к камину и вежливо, нагло, дружелюбно, надменно поглядел ей в лицо.
Ей было ясно, что нужно ответить отказом. Только ради того, чтобы не лишить Франсуа маленького триумфа, нельзя создавать трудности для Луи, да и для себя самой, а может быть, даже и вредить Франции и Габсбургам. Франсуа легко, он только подданный. А она королева, на ней ответственность. Нужно отказаться. Она откажется.
Водрейль глядел на нее не отрываясь, его полное, насмешливое, властное лицо издевалось: «Сестра императора Иосифа».
— Я приеду, — сказала она.
— Милейший Пьер, — сообщил через два дня Водрейль своему другу и шуту, — скоро я смогу показать вам спектакль, не уступающий вашему «Фигаро». Пьеса называется «Безумный день, или Вильгельм Телль и королева».
Испытывая величайшее удовлетворение, Пьер удивленно взглянул на Водрейля и ответил:
— Я не понимаю вас, мой покровитель.
С хорошо разыгранным равнодушием Водрейль рассказал ему, что нашел решение, которого Пьер искал. Пьер увидит, как он, Водрейль, сведет дряхлого комедийного героя Пьера с могущественной и прелестной партнершей.
— Только, пожалуйста, — предупредил он Пьера, — примите меры предосторожности, чтобы ваш приятель из Пасси не нарушал правил игры. Пожалуйста, скажите старику, что ему не следует узнавать высокопоставленную даму, с которой он встретится на балу. Дайте понять этому господину с Запада, что речь идет об увеселительном рауте, а не о политическом собрании. Между прочим, любезнейший, — закончил он милостиво, — вы тоже приглашены на спектакль.
Пьер не поскупился на изъявления благодарности и восторга и с готовностью предложил маркизу свои услуги. В глубине души он испытывал огромную, злобную радость. Если господину маркизу угодно плясать, то можно не сомневаться, что его, Пьера, приятель с Запада сумеет подыграть господину маркизу. Аккомпанемент будет скромный, зато с большим резонансом.
Хотя Пьер знал, что о задуманном вечере нельзя никому говорить, он по секрету рассказал своим близким — Терезе, Жюли, Гюдену — и о предстоявшем событии, и о великой помощи, которую он, Пьер, оказал Франклину.
Жюли ликовала, Тереза осталась равнодушна, а Филипп про себя кипел от ярости. Гнусно со стороны американца так эксплуатировать его благородного, доверчивого друга, а потом издеваться над ним за его спиной. Пьер поставляет им оружие не только для поля брани, но и для министерских кабинетов, это он тянет их воз, а они называют его «мухой на карете». Но если высказаться начистоту, ничего хорошего из этого не получится ни для Пьера, ни для всего мира. И Гюден, превозмогая себя, молчал.
Зато он отводил душу за письменным столом. Как Прокопий из Цезарей,[61] тайно работавший над своей «Historia arcana»,[62] которая должна была показать миру истинное, отвратительное лицо превозносимого до небес Юстиниана, писал он, Филипп Гюден, подлинную историю Тринадцати Штатов и доктора Вениамина Франклина. Яркими, пестрыми красками изображал он своего друга Пьера и его великие дела, подчеркивая тем самым черную неблагодарность Америки и эгоистичного патриарха из Пасен. Каких только классиков Гюден ни цитировал, чтобы выразить свое возмущение. Он цитировал Софокла:
О, как недолговечна благодарность, И как неблагодарностью она Становится мгновенно…Цитировал Цицерона и Сенеку. И хотя Пьер ничего не знал о злословии по своему адресу, Гюден восторженно сравнивал его с плутарховским Александром Великим, который сказал: «Царю подобает сносить хулу облагодетельствованного им человека».
Вот какими изречениями и сопоставлениями пересыпал историк Филипп Гюден свое описание подвигов Бомарше и злодеяний Франклина. И это приносило ему облегчение.
Франклин сидел в ванне, когда в комнату вошел Вильям, явно чем-то обрадованный и возбужденный.
— Посмотри-ка, дедушка, — сказал он, — какую штуку мы получили.
Усевшись на деревянную крышку ванны, он показал деду красиво отпечатанную карточку. Пока Франклин старательно вытирал руки, чтобы не намочить ее, мальчик продолжал:
— Ее принес лакей в фисташковой ливрее. Как ты думаешь, дедушка, можно мне будет с тобой пойти?
Это был пригласительный билет. Маркиз де Водрейль просит доктора Франклина пожаловать на бал-маскарад в имении Женвилье. В программе фейерверк, балет и спектакль. Девиз празднества — «Вечер в швейцарских горах».
Франклин не сомневался, что это приглашение связано с авантюрным проектом добряка Дюбура. В то же утро явился Сайлас Дин и с плутовским видом сообщил, что на празднике у маркиза де Водрейля уважаемый коллега встретит одну высокопоставленную особу, которую он, конечно, не узнает. Кроме того, Сайлас Дин говорил о героическом восстании близкого к природе народа Швейцарии, вспыхнувшем благодаря усилиям тамошнего Вашингтона, которого звали Вильгельмом Теллем; он говорил также о своем друге, великом debrouillard'е, мосье де Бомарше. Кивая могучей годовой и почесываясь, Франклин задумчиво сказал:
— Вот и опять верблюд пролез в игольное ушко.
Он навестил доктора Дюбура, который теперь редко выходил из дому, и поделился с ним последними новостями. Дюбур был вне себя от счастья, что ему все-таки довелось оказать такую большую услугу Франклину и Америке. Он сам спустился в свой погреб и принес оттуда запыленную бутылку кортона 1761 года; у него оставалось всего две бутылки этой благородной марки, и хотя ему не следовало пить, они с Франклином распили сначала одну бутылку, а потом и вторую, последнюю.
Про себя доктор посмеивался над трогательным энтузиазмом своего друга. Впрочем, предстоявшая встреча вызывала некоторое волнение и у него самого. Жизнь его прошла в постоянном общении с сильными мира сего, он бывал на приемах у английского короля и присутствовал на официальном обеде Людовика Пятнадцатого в Версале. Он не раз со свойственной ему иронической невозмутимостью потешался над нелепым дворцовым церемониалом. И все-таки сейчас, перед встречей с Габсбургшей, он чувствовал какую-то неуверенность. У него была только одна манера обхождения с женщинами, и он не знал, уместна ли его тяжеловесная, слегка ироническая галантность в разговоре с этой королевой.
Как бы то ни было, ему случалось бывать в самых неожиданных ситуациях и видеть самых разных людей, так что он научился применяться к обстоятельствам и извлекать максимальную пользу из людей и событий. Ему приходилось иметь дело с мыловарами и дипломатами, с печатниками, учеными и работорговцами, с писателями, полководцами, крестьянами, индейцами, и со всеми он так или иначе справлялся. Его не собьешь с толку внешностью, нарядом, вероятно, он не ударит лицом в грязь и перед этой королевой.
Он часто для забавы мысленно переносил обстановку какого-либо события и костюмы его участников из одной эпохи в другую. Сейчас он тоже занялся такой игрой. Он взял Библию, раскрыл ее на книге Иова и прочитал: «6. И был день, когда пришли сыны Божий предстать пред Господа; между ними пришел и Сатана. 7. И сказал Господь Сатане: „Откуда пришел ты?“ И отвечал Сатана Господу, и сказал: „Я ходил по земле и обошел ее“. 8. И сказал Господь Сатане: „Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла“. 9. И отвечал Господу Сатана, и сказал: „Разве даром богобоязнен Иов? 10. Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. 11. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя?“
Франклин перевел эти стихи по-своему: 6. И когда на небе началось «леве» и собралась вся знать господня, чтобы засвидетельствовать богу свое почтение, под видом придворного явился и Сатана. 7. И сказал Бог Сатане: «Я что-то давно вас не видел. Где вы пропадали?» И Сатана отвечал: «Я был в своем имении и навещал друзей в их имениях». 8. И Бог сказал: «Скажите, пожалуйста, какого вы мнения о графе Иове? Я считаю его своим лучшим другом, это очень порядочный человек, он просто благоговеет передо мной и избегает всего, что могло бы меня огорчить». 9. И Сатана отвечал: «Неужели, ваше величество, вы в самом деле думаете, что такое примерное поведение объясняется только его личной симпатией к вам? 10. Разве вы не осыпали его всякого рода милостями и не помогли ему сколотить огромное состояние? 11. Устройте ему испытание. Лишите его своего покровительства, отнимите у него чины, звания и высокие оклады. И вы увидите, как он сразу примкнет к оппозиции».
Франклин сравнил свой вариант с общепринятым, старым. Теперь он был спокоен. Он сумеет найти верный тон с этой королевой.
В назначенный день, теплый, но не душный летний день, Франклин в сопровождении своего внука Вильяма поехал в Женвилье. Вильям, прекрасно выглядевший в модном костюме пастуха-овчара, был полон радостного ожидания. Франклин надел коричневый кафтан, он был сейчас тем самым философом с Запада и квакером,[63] которого желала в нем видеть эта страна.
Водрейль, с большим изяществом и по моде перестроивший свой парижский дворец и свой небольшой дом в Версале, оставил пышное родовое имение в том виде, в каком его получил. Парк в Женвилье, заложенный во времена Людовика Четырнадцатого прадедом Водрейля, сохранял тяжеловесно-роскошную вычурность. Гости Водрейля прогуливались по пыльным, залитым солнцем дорожкам, среди удручающе однообразных газонов и деревьев, подстриженных с педантичной аккуратностью.
Увидев Франклина, хозяин дома поспешил ему навстречу и с учтивой сердечностью поблагодарил его за оказанную честь. Появление доктора вызвало, как всегда, сенсацию. Однако среди гостей у Франклина было здесь гораздо меньше знакомых, чем в Париже, и он чувствовал себя не столь непринужденно, как обычно. Чинно и несколько скованно расхаживал он среди швейцарцев и швейцарок, пастухов и пастушек, мужчин в домино и дам в масках, и ему казалось, что он здесь лишний.
Слегка утомившись, он сел на скамью, где было немного тени. Ему очень хотелось почесаться. К нему подсол одетый в домино мосье Ленорман и принялся аттестовать проходивших мимо гостей. Вообще же мосье Ленорман был не очень разговорчив и, пожалуй, не очень хорошо настроен. Ему не нравилось, что Дезире согласилась играть в революционной драме мосье Лемьера. Когда же вдобавок в Женвилье появился американец, он сразу заподозрил тут какую-то интригу Пьера.
Так сидели они вдвоем на скамье, в солнечных бликах, молчаливые и задумчивые — Франклин и Ленорман. Мимо них прошла дама с красивым, чересчур худым, изможденным лицом и большими беспокойными глазами, удивительно дисгармонировавшими с нарядом альпийской пастушки. Ее сопровождали два кавалера и еще одна дама. Вокруг этой группы сновали, тявкая, две собачонки. Мосье Ленорман поднялся и поклонился даме с самым почтительным и серьезным видом. Франклин, которому дама показалась знакомой, также не преминул поклониться. Она ответила на его поклон обстоятельно, даже многозначительно.
— Принцесса Роган, — пояснил мосье Ленорман, когда группа прошла мимо.
Дама сделала еще несколько шагов. Потом она неожиданно остановилась, повернулась, лицо ее застыло, приняв благоговейное и в то же время полное ужаса выражение, спутники ее сразу умолкли, и в необычайном волнении она прошептала:
— Вы его видите? Вы его видите?
— Кого же на сей раз? — спросили ее.
— Графа Фронтенака, — отвечала она. — Он ничего не говорит, но он печален, и во взгляде его чувствуется упрек. Мы в чем-то провинились.
К ней подошел Водрейль. Он успокоил принцессу, увел ее прочь.
Дважды или трижды Франклину случалось уже наблюдать подобные припадки. Они вызывали у него некоторый научный интерес, но, как все темное, сумбурное, иррациональное, были ему противны. Сейчас он вспомнил, что эта принцесса, — кажется, это было в салоне мадам де Жанлис, — с энтузиазмом толковала с ним об американских делах. Если теперь ей кажется, что граф де Фронтенак, человек, возвеличивший Канаду, возвеличивший Новую Францию, гневается на нее, принцессу, и на все здешнее общество, не свидетельствует ли это о том, что энтузиазм принцессы и окружавших ее придворных был чисто напускным и что в глубине души они боятся английской Америки? Нет, ненависть французов к Америке, говорящей по-английски, отнюдь не канула в Лету, и ему, Франклину, придется здесь нелегко.
Мажордом и другие слуги Водрейля попросили гостей в зрительный зал. Представление началось.
Драма мосье Лемьера показалась Франклину благонамеренным, патетическим и далеким от действительности сочинением. Швейцарские крестьяне на сцене, удивительно богато одетые, декламировали мрачновато-пылкие стихи, прославляя свободу и рьяно нападая на тиранов. Нападки эти казались Франклину недостаточно обоснованными; в Америке такие общие слова ни на кого не произвели бы впечатления и, уж конечно, не оторвали бы крестьянина от его плуга, а ремесленника от орудий его ремесла. И в то время как поселяне на сцене продолжали ораторствовать и философствовать, доктор решил справиться, какие налоги и подати платили в те времена императору и его наместнику настоящие швейцарцы. «Вот где собака зарыта, господин сочинитель», — думал Франклин. Некоторое оживление в эту монотонную, высокопарную декламацию вносила мадемуазель Дезире Менар, которую Франклину случалось уже, к его удовольствию, видеть на сцене «Театр Франсе». Мало того что на нее было приятно смотреть в роли мальчика, она читала стихи весело и наивно, подчеркивая, что этот мальчик — женщина. В скучное действо она внесла жизнь, и когда под конец, в затейливых александрийских стихах, с явным намеком на Франклина, актриса возвестила, что пример швейцарцев, несомненно, обрушит молнии на тиранов и в других местах земли, публика наградила ее бурными аплодисментами, к которым чуть было не присоединился и доктор.
После представления артисты, оставаясь в своих костюмах, смешались с гостями. Вокруг Франклина образовалась довольно большая группа. Ему, как обычно, задали несколько умных и множество глупых вопросов. Многие просили у него автограф, и он ставил свою подпись то на веере, то на танцевальной карточке. Его не понимали, но им восторгались.
Вскоре среди обступивших Франклина появился и сын Телля. Франклин, на своем плохом французском языке, сделал Дезире несколько тяжеловесно-галантных комплиментов. Ленорман мрачно заметил, что с опасением наблюдал, как свирепо и старательно орудовал луком и стрелами принц Карл, и очень рад, что все сошло благополучно. Дезире ответила, что она счастлива, если доктор остался доволен, и с озорной улыбкой прибавила, что, наверно, и дальнейший ход вечера оправдает его ожидания. Франклин был поражен, узнав таким образом, что и она участвует в заговоре. Найдя в многозначительной фразе Дезире подтверждение своих подозрений, что тут кроется какая-то интрига Пьера, Ленорман помрачнел еще более.
К собравшимся присоединился Пьер. Он стал красноречиво хвалить драму своего коллеги Лемьера, впрочем, только для того, чтобы с энтузиазмом заключить: когда в зале находится Франклин, перед такой действительностью меркнет даже самая лучшая пьеса. Ибо какой спектакль может состязаться с тем великолепным зрелищем, которое доставила миру Америка? Франклин сказал сухо, с горьковатой любезностью:
— К сожалению, зрители за это не платят.
Пьер, однако, подхватил эти слова и ответил:
— Совершенно справедливо.
Франклину шутка понравилась, и он понимающе улыбнулся.
Слуги расставили ломберные столы. Среди игроков доктор заметил даму в синем пастушеском костюме и синей маске. Он сразу понял: это — королева. Верхнюю часть ее лица скрывала маска, но нельзя было не узнать этот гордый нос, эту полную, маленькую, слегка отвисшую нижнюю губу.
За столом, где сидела дама, было шумно, игроки вели себя непринужденно, собачки принцессы Роган, тявкая, вертелись у них под ногами. От Франклина не ускользнуло, что даме в синей полумаске определенно не оказывают особого внимания; пожалуй даже, все явно старались ее не узнать.
Он поднялся и в сопровождении Вильяма подошел к ломберному столу. Ему учтиво предложили стул; он предпочел стоять. Бросив на него беглый взгляд, дама продолжала играть и болтать столь же непринужденно, как прежде. Он с удовольствием отметил, как нежна и бела ее кожа, как красивы ее руки.
Ему предложили сыграть.
— Ну-ка, старик! — тоном ярмарочного зазывалы воскликнул наглый молодой принц Карл, сидевший за столом в костюме Вильгельма Телля. — Попытайте счастья, сыграйте!
Франклин заметил, что дама в полумаске взглянула на него. Он попросил у Вильяма денег и, любезно принимая приглашение, поставил крупную серебряную монету, экю.
— Позвольте мне, доктор, увеличить вашу ставку, — сказала Диана Полиньяк. — В случае выигрыша истратьте, пожалуйста, деньги на ваше великое дело. — И она прибавила к его экю пять золотых луидоров. Экю, а с ним и пять луидоров были тотчас же проиграны. Франклин сказал Вильяму:
— Экю мы поставим в счет Конгрессу.
Он вышел из-за стола и возвратился к своему удобному креслу. Гости говорили о сцене с яблоком и шутили насчет роли яблок в истории. Были упомянуты яблоко Евы, яблоко Париса, ньютоново яблоко, отравленные яблоки семейства Борджиа.
Это напомнило Франклину одну из его историй, которую он тут же и рассказал. Как-то его друг, шведский миссионер, пришел к сусквеханским индейцам и стал им читать проповедь. Он рассказал им несколько библейских историй, в том числе историю о том, как Адам съел яблоко, вследствие чего наши праотцы лишились рая. Индейцы долго размышляли. Наконец поднялся глава племени и сказал миссионеру следующее: «Мы очень признательны тебе, брат наш, за то, что ты не побоялся пересечь большую воду, чтобы передать нам сведения, которые ты узнал от своих предков. Это — верные и полезные сведения. В самом деле, нехорошо есть яблоки. Гораздо лучше делать из них яблочное вино».
Рассказывая это с самым непринужденным видом, Франклин поглядывал на даму в синей полумаске. Напротив нее стоял теперь Водрейль, а рядом с ней, в костюме швейцарской крестьянки, сидела Габриэль Полиньяк. Дама в синей маске продолжала, болтая, играть; но Франклину показалось, что мысли ее заняты не игрой и не разговором.
Он не ошибся, Туанетта действительно нервничала. Да, она дала Франсуа доказательство своей храбрости, которое он вынудил ее дать. Она приехала к нему, она смотрела запрещенную пьесу, она дышала одним воздухом с этим западным мятежником. Франсуа, стоя напротив и внимательно следя за картами, не спускал с нее глаз. Он глядел на нее дерзко, ничуть не смущенно, он явно не хотел признать ее мужества. Ей было ясно без слов, что этого ему еще недостаточно, что Франсуа ждет от нее большего. Он требует, чтобы она заговорила с мятежником. Если она этого не сделает, Франсуа завтра же станет над ней издеваться, и тогда сегодняшнее посещение Женвилье, посещение, на которое она с таким трудом решилась, окажется совершенно напрасным.
Она легко прикоснулась к плечу Габриэль.
— Сегодня игра не доставляет мне никакой радости, — сказала она, — я ничего не выигрываю и ничего не проигрываю. Пойдем к твоему доктору, мне хочется на него посмотреть.
Получилось очень естественно, Туанетта была довольна собой. Габриэль лениво, как всегда, улыбнулась и кивнула ей в знак согласия. Обе дамы не спеша поднялись и не спеша подошли к Франклину.
Им принесли стулья, группа вокруг Франклина была уже довольно большой. Пьер успел снова завладеть разговором.
— При всем своем несомненном таланте, — сказал он, — принц Карл был не вполне убедителен в роли революционера, зато граф Полиньяк в роли злодея достиг необычайного правдоподобия.
— Если наш Вильгельм Телль показался не вполне правдоподобным, — сказал мосье Ленорман, — то виновен в этом поэт, не вложивший в уста героя достаточно веских аргументов. Нам все время твердят об угнетении и тирании. Между тем этому Теллю и его коллегам живется не так уж плохо; во всяком случае, им хватает времени на то, чтобы устраивать политические собрания и готовить убийства и мятежи.
Вместо ответа Пьер обратился к Франклину:
— Не подумайте, пожалуйста, доктор Франклин, что мой друг Шарло действительно такой привередник и ворчун. Язык его иногда колюч, но сердце его открыто любому достойному делу.
Собравшиеся вокруг Франклина делали вид, что слушают его и Бомарше и не обращают внимания на даму в синем. Но Туанетта знала, что все только и ждут, заговорит ли она с Франклином, и если заговорит, то что она ему скажет. Она привыкла быть в центре внимания и умела держаться уверенно. Но сегодня она чувствовала себя неловко; так было с ней всего один раз в жизни — в тот день, когда ее заставили обратиться к «шлюхе» Дюбарри. Тогда она недурно вышла из положения. «Не правда ли, в Версале сегодня много всяких людей, мадам?» — спросила она, а Дюбарри ответила: «Да, мадам». Вот и сейчас самое лучшее сказать мятежнику какую-нибудь ничего не значащую, общую фразу. Франклин облегчил ей эту задачу, он ни разу не взглянул в ее сторону. Дождавшись паузы в беседе, она шутливо сказала:
— Вам было очень жаль, доктор Франклин, расстаться с вашим экю?
Гости засмеялись. Франклин повернулся к ней своим большим лицом и приветливо на нее посмотрел.
— Старикам, — сказал он, — следует довольствоваться своими старыми пороками и не приобретать новых. Но, глядя на вашу игру, прекрасная дама, я заразился вашим пылом. Очень уж приятно и соблазнительно было наблюдать за вами, когда вы играли.
Скованность Туанетты сразу исчезла. Она чувствовала на себе испытующий, оценивающий, чуть жадный взгляд Франклина. С приятным трепетом вспомнила она маскарады и танцы, во время которых к телу ее прижимались тела незнакомых мужчин. Она шаловливо подумала: «Если господин мятежник на меня смотрит, значит, он не опасен. Значит, я могу с ним сделать все, что захочу».
— Что же во мне было особенного? — спросила она.
Франклин почувствовал кокетливый взгляд, брошенный ему сквозь прорези полумаски. Стало быть, он избрал правильную тактику. Эта королева была одной из женщин, каких он встречал во Франции сотни. Она была глуповата, она говорила банальности, но говорила прелестно. Ну, что ж, с этой королевой он будет и дальше разыгрывать роль старика, полуотечески, полуфривольно, почтительно и чуть иронически ухаживающего за молодой красивой женщиной.
— Это добрый знак, — сказал он, — если женщина иногда дает себе волю и немного играет. Кто терпим к себе, тот, несомненно, терпим и к другим.
— Вы считаете меня терпимой? — спросила Туанетта.
Франклин поглядел на нее испытующе-доброжелательно.
— О людях по внешности так же трудно судить, как о дынях, — сказал он, — особенно если видишь только половину лица. Обычно женщины, наверно потому, что они ближе к природе, терпимее мужчин. В этом у них есть нечто общее с так называемыми дикарями. Я хотел бы, — запросто обратился он ко всему обществу, — рассказать вам еще одну историю о моем шведе-миссионере. Как все миссионеры, он долго и добросовестно проповедовал индейцам свои христианские истины и знакомил их с Библией. Индейцы слушали его внимательно, дружелюбно и терпеливо. Потом, будучи людьми воспитанными, они в знак благодарности рассказали ему несколько своих легенд. Рассказы их оказались менее длинными, чем его, но короткими их тоже нельзя было назвать. Наконец терпение моего друга лопнуло. «Перестаньте, — взмолился он, — я проповедую вам святые истины, а вы потчуете меня баснями и сказками». Индейцы обиделись. «Любезный брат, — отвечали они, — по-видимому, твоя достопочтенная мать недостаточно хорошо тебя воспитала и не научила вежливости и терпимости. Мы верили твоим рассказам. Почему же ты не веришь нашим?»
— Великолепно, — сказал принц Карл, все время тщетно искавший повода сострить, и прибавил: — Чья же правда была лучше, доктор Франклин, вашего друга миссионера или индейцев?
— У каждой стороны была своя хорошая полуправда, — отвечал Франклин.
Туанетта почувствовала, что это сказано для нее. Ей льстил тон, которым говорил с ней мятежник, но все-таки она была не вполне довольна. Всячески показывая, что видит в ней красивую, привлекательную женщину, он, однако, немного потешался над ней. А этого она не могла потерпеть. Она не позволит обращаться с собой как с девчонкой. Она докажет, что ни в чем ему не уступает.
— Ну, а вы сами, доктор Франклин, — спросила она лукаво и снисходительно, — вы сами, конечно, считаете свою правду полной?
Старик поглядел на нее отечески ласково; он был доволен достигнутым. Но, может быть, ему удастся извлечь из этой встречи еще кое-что. Может быть, ему удастся спровоцировать эту недалекую, но силящуюся казаться умной женщину на высказывания, которые пойдут на пользу правому делу. Она так красива, что прямо-таки жаль доставлять ей неприятности.
— Было время, — ответил он миролюбиво, — когда я считал свои суждения единственно правильными. Но чем старше я становлюсь, тем дальше я отхожу от такой точки зрения, и теперь я уже очень далек от взглядов одной дамы, которая некогда мне пожаловалась: «Не знаю, как это получается, но до сих пор, кроме себя самой, я ни разу не встречала человека, который был бы всегда прав».
Окружающие слушали с величайшим вниманием. Водрейль и Диана Полиньяк, Пьер и Дезире — каждый воображал, что это он, и никто другой, затеял такую интересную и волнующую игру. Водрейль, как истинный гурман, смаковал каждый поворот в кокетливом диспуте между старым, полным любезности мятежником и молодой, запальчивой королевой. Габриэль Полиньяк с неудовольствием отметила про себя, что Туанетте не по силам тягаться с этим могучим, любезным стариком. «Кроток, как голубь, мудр, как змея», — мелькнуло у нее в голове. Некрасивая Диана, напротив, радовалась, видя, как прекрасная и самоуверенная королева, которой всегда все все облегчают, сама ставит себя в трудное положение. Принц Карл также испытывал удовольствие: пускай Луи расхлебывает кашу, которую заваривает Туанетта.
С интересом знатока наблюдал Пьер, с какой точностью Франклин подводит Туанетту к нужному повороту. Он играл с ней ласково, как огромный сенбернар с ребенком, но игра его была вовсе не безобидна, а Туанетта ничего не подозревала и думала, что это она с ним играет. Пьер испытывал глубокое удовлетворение. Это он собрал их всех здесь, и все они, сами того не зная, пляшут под его музыку.
С еще большим злорадством следила за игрой, которую придумали она и ее милый друг Пьер, Дезире Менар. В ее глазах участниками игры были не только Франклин и королева; Туанетта олицетворяла для нее всю надменную, привилегированную знать, а Франклин — всех остальных, непривилегированных, бесправных. Чтобы жить достойно, она и Пьер пролезли в круг аристократии. Чтобы сохранить свое положение, им приходилось снова и снова изворачиваться и унижаться. Но она презирала важных господ, милости которых они добивались. Как они глупы и слепы в своей надменности, эти важные господа! Вот сидят они, одураченные Пьером и ею самой, они жаждут все новых и новых сенсаций, они улыбаются, наперебой порываясь вложить оружие в руки врагу, который не оставит от них мокрого места. Дерзкая, молодая, живая, красивая, все еще в костюме мальчика, она сидела в самом конце большого полукруга, образовавшегося вокруг Туанетты и Франклина, наслаждаясь изящным остроумием старого доктора и радуясь, что эта гордая, не знающая жизни королева играет сейчас такую дурацкую роль.
Самой Туанетте тоже казалось, что перевес покамест на стороне Франклина. Она искала какой-нибудь смелой, обескураживающей фразы, чтобы поставить его в тупик.
— Если вы считаете свою правду только полуправдой, доктор Франклин, — спросила она с вызывающей улыбкой, — то, может быть, вы считаете и себя всего-навсего полумятежником?
С самым приветливым, удивленным и заинтересованным видом Франклин всем корпусом повернулся к ней и сказал:
— Мятежником? Себя? Да разве я похож на мятежника? Кто бы мог вам такое сказать? — И без всякого перехода он продолжал: — Вам поразительно идет эта прическа. Она подчеркивает ясность вашего лба. Будьте добры, просветите несведущего иностранца, как она называется.
Все облегченно вздохнули, когда старик погасил готовую вспыхнуть искру, и с признательностью оценили его такт. Опередив Туанетту, ему ответила Габриэль:
— Эта прическа называется «Coiffure Ques-a-co», доктор Франклин, — сказала она. Туанетта и в самом деле носила прическу, за которую на нее нападали памфлетисты.
Дезире пояснила:
— «Ques-a-co» значит «что это такое, как это понять?». Этот оборот употребил в одном из памфлетов мосье де Бомарше, чтобы посмеяться над провансальским диалектом своего незадачливого противника.
— Благодарю вас, мадемуазель, — ответил Франклин и, сделав поклон в сторону Пьера, прибавил: — Я вижу, что во Франции литература пользуется большим уважением.
«Нет, так дешево он от меня не отделается», — подумала Туанетта и, лукаво погрозив пальчиком, спросила тихим, вкрадчивым голосом:
— Но все-таки вы немножко бунтовали против своего короля? Или, может быть, у меня неверные сведения?
Франклин ответил спокойно и очень вежливо:
— По-видимому, у вас не вполне верная информация, мадам Ques-a-co. Многие полагают, что король Англии восстал против нас, а не мы против него.
Теперь дело принимало не на шутку опасный оборот. Водрейль приготовился вмешаться. Но его опередила Габриэль.
— Вы были так милы с мадам Ques-a-co, доктор Франклин, — сказала она. — Поведайте же и нам, какого вы мнения о наших костюмах и наших шляпах.
Но это не помогло. Туанетта вошла в азарт. Она совершенно забыла, что она королева, а сидящий перед ней старик — мятежник. Теперь она была только красивой женщиной, заметившей, что мужчина восхищается ее фигурой, ее лицом, ее руками, но недостаточно высокого мнения об ее уме.
— Вы ученый человек, доктор Франклин, — сказала она по-прежнему тихо, — и, конечно, сумеете отстоять любой свой тезис, справедливый или несправедливый, лучше, чем необразованная женщина. Но разве в глубине души вы не признаете, что в конце концов король Англии обладает божественным правом распоряжаться своими колониями?
Все видели, что она говорит это совершенно искренне.
К такому обороту разговора Франклин не стремился. Он не собирался провоцировать даму в синей маске на компрометирующие ее высказывания. Это было бы неблагодарностью, пожалуй, даже глупостью, способной только восстановить эту даму и ее супруга против дела, за которое борется Америка. Он снова отступил.
— Мадам, — отвечал он, — неужели вы в самом деле полагаете, что человек с моей внешностью может быть мятежником?
— В тихом омуте черти водятся, — сказала Туанетта. — Почему вы уклоняетесь от ответа?
Оба, и доктор, и дама в маске, говорили спокойным, непринужденным тоном. И все-таки наступила глубокая тишина. Глуповато усмехнувшись, принц Карл сказал:
— Вот когда интересно послушать. — Он наклонился вперед, так что его арбалет со звоном упал на пол.
— Мадам, — сказал Франклин, когда звон затих и тишина водворилась, — я бы не хотел в такой прекрасный вечер и перед такой красивой женщиной выступать с какими-либо политическими поучениями. Но так как вы настаиваете на ответе, позвольте сказать вам следующее. Мы, американцы, не являемся принципиальными противниками королевской власти. Правда, мы не разделяем чрезмерного увлечения монархизмом. Вот, например, один немецкий профессор написал своему князю: «Если бы не было бога, им по справедливости были бы вы, ваша светлость». Мы, живущие по ту сторону океана, считаем, что это чересчур, мадам. Мы исходим из того, что между королем и народом существует своего рода договор. Нас научили этому ваши философы, мадам. Мы считаем, что король Англии нарушил такой договор. Мы ссылаемся на то, что он ограбил наши моря, опустошил наши берега, сжег наши города и многих из нас убил. Мы полагаем, что это противоречит договору.
Когда он говорил, его массивное стариковское лицо дышало покоряющей энергией, слова известной Декларации слетали с его губ легко, без ожесточения. Именно поэтому они прозвучали во всю свою силу.
Наступила тишина. Граф Жюль Полиньяк, важно восседавший в костюме убитого наместника Геслера, сказал небрежно и громко:
— Если это философия, — значит, философия — сплошное бунтарство.
— Другого мнения, — вежливо отозвался Пьер, — от мертвого наместника Геслера не приходится ждать.
Пока Франклин говорил, Туанетта видела только его лицо, большие глаза, высокие брови, громадный лоб. Она обращала внимание не столько на смысл его слов, сколько на их звучание, на его тяжеловесно-обстоятельную и все-таки не лишенную очарования манеру говорить. Она умела чувствовать красивое и вполне оценила необычную, особую, неповторимо привлекательную силу доктора.
— Нет, милый мой Жюль, — возразила она, — все далеко не так просто. Конечно, то, что рассказал доктор Франклин, весьма опасно, и, собственно, нам не следовало бы слушать такие речи. Но, глядя на него и думая, как много музыки в его речах, никак нельзя представить себе такого человека мятежником, мятежником в душе.
Принц Карл и старик Ленорман посмотрели на нее с удивлением. Странно было слышать подобное признание от королевы Франции, дочери Марии-Терезии.
Зато Франклин бросил на нее приветливый взгляд; он не скрывал своей большой к ней симпатии. Смущенная, непосредственная, только теперь задумавшаяся над своими словами, она была в самом деле очень красива и очень мила.
— Для меня это великая честь, мадам, — сказал он, — что вы не думаете обо мне дурно и что вы не глухи к музыке нашей американской речи.
Возвращаясь ночью домой, он размышлял о достигнутом. Королева сказала, что она слышит музыку в Декларации независимости и уважает американских вождей. Не так уж плохо. Это заставит многих осторожных людей выразить свое сочувствие делу американцев. Одно ясно: святой Георгий съехал с картинки, конь и всадник начали двигаться.
Он поглядел на своего внука Вильяма, уснувшего в углу кареты. У мальчика сегодня был тоже хороший вечер. Франклин подумал о своем мирном Пасси, о том, что завтра ему никого не нужно видеть, о том, что послезавтра он будет ужинать с мадам Брийон. Он откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и задремал.
3. Победа в сражении
Луи просматривал рисунки моделей, которые должна была изготовить к зимнему сезону фарфоровая мануфактура в Севре. Он сидел в библиотеке, напротив него сидели художественный руководитель мануфактуры, мосье Пура, и интендант казначейства, мосье де Лаборд. Луи принимал живейшее участие в делах своей мануфактуры, он радовался, что она дает прибыль. Севрские изделия, год от году все более искусные и разнообразные, хорошо раскупались, особенно в качестве новогодних подарков. На рождество Луи обычно устраивал в Версальском дворце большие выставки фарфора, завершавшиеся аукционом. В прошлом году выставка принесла двести шестьдесят тысяч ливров дохода.
— Двести шестьдесят одну тысячу пятьсот тридцать четыре ливра, — констатировал он с удовлетворением, одинаково гордый и такой выручкой, и своей отличной памятью; эту цифру он упоминал уже несколько раз. — В этом году, — продолжал он, — результаты будут, конечно, еще лучше. Деньги нам пригодятся, господа, — заключил он, широко ухмыляясь.
С довольным видом разглядывал Луи изящные группы, набросанные мосье Пура; тут были охотничьи сцены, пастушка и лесничий, литератор, читающий что-то своему приятелю. Луи предложил изготовить побольше фигурок такого рода, например, человека, уткнувшегося в огромную книгу, или кузнеца, кующего подкову, — словом, жанровых сценок; это будет иметь успех, черт побери!
Увлекательную беседу прервал мосье де Кампан. Библиотекарь тихонько сообщил королю, что в приемной сидит граф Морена, который просит немедленной аудиенции. Луи помрачнел. Как только он соберется провести часок-другой в свое удовольствие, ему непременно помешают. Он со вздохом отпустил мосье Пура и мосье де Лаборда.
Морепа, как всегда, явился в полном параде. О невероятно глупой выходке Туанетты ему сообщили рано утром. Сначала он решил предоставить королю узнать об этом от шефа полиции, мосье Ленуара. Потом, однако, он пришел к заключению, что лучше не полагаться на волю случая, а использовать прекрасную возможность для удара по австриячке по собственному почину и сразу же. И вот, несмотря на усталость и на жестокий приступ подагры, случившийся как раз в это утро, он предстал перед королем с лицом скорее озабоченным, чем огорченным.
— Неужели сообщение, которое вы собираетесь сделать, в самом деле так важно? — угрюмо спросил Луи.
— К сожалению, да, сир, — отвечал Морепа. Но потом он дал Луи маленькую передышку и заговорил о пустяках. Луи не стал его расспрашивать, а принялся рассказывать о Севре, о декабрьской выставке, которая на этот раз обещает быть особенно разнообразной и богатой. Он показал своему ментору наброски мосье Пура, и Морепа разглядывал их с хорошо разыгранным интересом.
Затем, сожалея, что вынужден посягать на кратковременный отдых и без того обремененного заботами монарха, он перешел к цели своего визита и доложил о встрече королевы с вождем мятежников. Он отнюдь не скрыл смягчающих обстоятельств, но воспользовался ими только для того, чтобы почтительнейше выставить напоказ беспримерную глупость мадам. Конечно, с доктором Франклином беседовала не королева, а некая дама в синей маске; к сожалению, однако, дама эта присутствовала перед тем на представлении запрещенной пьесы, так что недоброжелатели могут усмотреть в ее поведении какую-то нарочитость. Конечно, высказывания, сделанные этой дамой, сами по себе совершенно невинны; однако они могут быть истолкованы политически и, несомненно, будут истолкованы именно так.
Луи не пытался скрыть своего волнения. Во время доклада министра он шумно втягивал и выталкивал воздух через толстые ноздри большого, с горбинкой носа, его жирное лицо вздрагивало, словно он готов был вот-вот заплакать, и когда Морена кончил, Луи долго понуро молчал. Затем неожиданно он закричал высоким, визгливым голосом:
— Я с самого начала говорил вам и Вержену: нельзя пускать к нам эту старую лису. Вот вам результат. Теперь в нашей стране живет худший из наших врагов. У меня плохие советчики. Мне дают плохие советы. Скажите же что-нибудь, — прикрикнул он на старика, сидевшего с самым невозмутимым видом.
— Причины, — подчеркнуто спокойно отвечал Морена, — по которым мы в свое время впустили доктора Франклина и которые мы с графом Верженом имели честь изложить вам, сохраняют свою силу и сегодня. Отказать в визе на въезд великому ученому, члену нашей Академии, значило бы вмешаться в конфликт между Англией и Америкой; в Филадельфии это было бы истолковано как враждебное действие и вызвало бы недовольство в Париже и во всем мире. Кстати сказать, доктор Франклин педантично следует нашим указаниям, он тихо и мирно живет себе в своем Пасси и тщательно старается не доставлять нам хлопот. Не он виновен в неприятном инциденте, имевшем место вчера вечером.
Луи со злостью о чем-то размышлял.
— Пусть ваш Франклин ученый, мудрый, какой угодно, — заговорил он наконец, — все равно он мятежник, и я совершил грех, с ним связавшись.
Его одолевали смутные, печальные мысли. Теперь мятежник совратил и его жену. Туанетта виновна в тяжком грехе: она говорила с погрязшим в пороке, теперь бог ее не благословит, теперь она, конечно, не забеременеет.
Тем временем Морепа сказал:
— При всей своей почтенности он, конечно, негодяй, с этим я согласен. — Формулировка ему понравилась, и он повторил: — Да, да, почтенный негодяй. Но можете не сомневаться, — продолжал он, — я человек менее почтенный, но я ему не уступлю.
Луи сидел молча, он был подавлен гораздо больше, чем ожидал Морепа. Старик стал его утешать. Рассказал, какими мерами он предотвратит попытки использовать этот казус в политических целях. Процитировав высказывания Туанетты, — слетая с его дряхлых губ, эти легкомысленные слова казались поразительно бескровными и сухими, — он принялся их анализировать. Хотя мадам и заявила, что доктор Франклин не мятежник, к счастью, она умно ограничила свое утверждение, сказав, что он не мятежник в душе. Следовательно, мадам судила не о действиях доктора Франклина, а только о его душе. Такое суждение, естественно, не может служить руководством, ибо в человеческую душу ни политик, ни журналист и вообще никто, кроме бога, заглянуть не в силах. Далее, мадам услышала музыку в сентенциях американца. На первый взгляд такое высказывание представляется опасным; но если как следует вдуматься в эти слова, они оказываются совершенно безобидными. Они явно относятся только к форме, в которой выражены американские принципы, и, следовательно, содержат эстетическую, а не политическую оценку.
Пояснения своего ментора Луи пропустил мимо ушей. Пусть старик, чтобы утешить его, толкует слова Туанетты и так и этак. Едва услыхав эти слова, он, Луи, сразу понял: это слова скверные. В глубине души он сетовал на свою участь. Похоже, что в Версале он единственный, у кого есть глаза, чтобы видеть. Разве все остальные не впали в греховное ослепление? Неужели они не понимают, куда ведет эта дерзкая болтовня? Живут благодаря монархии, — монархия — их почва, их воздух, — и делают все возможное, чтобы ее уничтожить.
Он был потрясен, его маленький двойной подбородок дрожал; неожиданно, резким, пронзительным голосом, он воскликнул:
— Поднимающаяся волна революции смоет миро с головы помазанника!
Морепа растерялся.
— Ах, сир, — сказал он, — сир, можно ли так заблуждаться? Ничто ничего не смоет. Все гораздо проще. Вы навестите мадам. Вы соблаговолите заметить мадам, чтобы впредь она заранее осведомлялась, кто приглашен на вечер, который она намерена удостоить своим присутствием. Вот и все. — Он говорил, вопреки своему обыкновению, чрезвычайно ясно и решительно.
Полуустало-полунасмешливо Луи отвечал:
— Вот и все! Легко сказать. Не так это все просто, как вы себе представляете. — Он знал, что разговор, которого добивался от него старик, неизбежен. Выслушав доклад Морепа, он сразу понял, что тот потребует от него такого разговора. С самого начала этот разговор маячил перед ним неприступной горой.
Морепа продолжал:
— Ваше предостережение будет не единственным, сир. Несомненно, Вена также не преминет убедительно объяснить мадам, что ее поступок противоречит интересам семейного пакта. Внушение, которое получит мадам из Вены, прозвучит резче любых ваших слов. Да, Вена разразится ужасной бурей. — Представив себе эту бурю, он развеселился, и, так как болезнь и усталость лишили его сегодня обычной выдержки, с языка у него слетело:
— Клянусь душой, если она у меня есть.
Он страшно испугался. Но, кажется, Луи ничего не заметил, он отвлекся рисунками мосье Пура. Машинально, с отсутствующим видом, он брал их один за другим со стола и так же машинально складывал на прежнее место. Кощунственное замечание ментора не вызвало у него никакой реакции.
Морепа успокоился. Он нашел, что достаточно хорошо просветил Луи насчет преступного легкомыслия австриячки. Он попросил разрешения удалиться. Ушел. Занялся своей подагрой.
Между тем Луи отлично слышал досадное замечание своего ментора. Он давно знал, что с религией у его советчика дело обстоит неблагополучно. Старику следовало бы дать отставку. Но лучшего кандидата на его место не было. Луи мрачно глядел в одну точку.
Потом в нем снова закипела злость на Туанетту. Он поднялся. Он хотел объясниться с ней сейчас, сию же минуту, пока ярость его не остыла.
Но, не успев дойти до двери, он представил себе, как будет слушать его Туанетта, — с дрожащим от гнева лицом, не понимая, чего он, собственно, от нее хочет. Можно заранее сказать, что она не уступит, не сдастся. У нее сильная воля, в ней есть та габсбургская твердолобость, которую он терпеть не может и которая все-таки его восхищает.
Нет никакого смысла идти к ней сейчас, не подготовившись. Надо сначала точно установить, какие доводы могут на нее подействовать и в каком порядке их излагать. Разумнее отложить разговор до завтра. Сегодня он поедет на охоту, как уже было настроился, потом немного почитает и поразмыслит.
Не менее настойчиво, чем Морепа у Луи, требовали немедленной аудиенции у Туанетты граф Мерси и аббат Вермон. Редко случалось обоим представителям Габсбургов появляться у Туанетты одновременно. Она, конечно, знала причину их прихода, она их ждала, она подготовилась к этому разговору.
В первые мгновения после встречи с Франклином она испытывала некоторую неловкость, которая, однако, быстро улетучилась от похвал Сиреневой лиги, бурно превозносившей ее храбрость. Теперь она не только чувствовала себя правой, она считала, что совершила великое дело.
Оба господина явились с кислыми минами. Аббату, благодаря его большим, желтым, кривым зубам, принять угрюмый вид было довольно легко. Учтивому Мерси это давалось гораздо труднее, и Туанетта втихомолку забавлялась, наблюдая, скольких усилий стоит ему напускная мрачность.
Впрочем, хотя и с серьезным лицом, Мерси поначалу говорил о приятных вещах. В те дни Туанетта чрезвычайно деятельно занималась перестройкой своего Трианона; как-то она сказала Мерси, что с удовольствием повесила бы у себя в спальне несколько картин, запомнившихся ей со времен Шенбрунна и изображавших сцены из ее детства. Мерси понял намек и написал в Вену. Теперь он мог передать ей письмо Марии-Терезии и сообщить, что по имеющимся у него сведениям, картины, о которых шла речь, точнее говоря, две картины, прибудут в самое ближайшее время. Туанетта, искренне обрадованная, горячо его поблагодарила.
Затем, однако, посланник заговорил о празднике в Женвилье. Там, сказал он, произошел казус, породивший множество неприятных, хотя, наверно, и преувеличенных слухов. Лицо Туанетты тотчас же стало непроницаемым, необычайно надменным. Но прежде чем она успела ответить, аббат раскрыл свой огромный, безобразный рот и сказал:
— Мы в самом деле не знаем, мадам, как нам сообщить об этом невероятном событии их величествам в Вену.
Туанетта, возмущенная таким бесцеремонным нагоняем, еще выше вскинула и без того высокие брови. Но Мерси поспешил вставить слово.
— Будьте настолько милостивы, мадам, — попросил он, — и позвольте нам узнать об этом инциденте в вашем освещении.
Туанетта, по усвоенной ею в последнее время привычке, покачала туфелькой, выглядывавшей из-под очень широкой юбки.
— Инцидент? — сказала она. — Какой инцидент? Я в самом деле не понимаю, месье, что вы, собственно, имеете в виду. Вы говорите о небольшом празднестве у моего интенданта Водрейля? — И так как ни один из них не ответил, а лицо аббата стало еще мрачнее и строже, она продолжала кротким, чуть насмешливым голоском: — Уж не взволнованы ли вы тем, что я — инкогнито, господа, в синей маске — немного побеседовала с доктором Франклином? Сомневаюсь, догадался ли он сегодня, с кем ему пришлось говорить. Вчера он об этом явно не догадывался. — И так как оба господина все еще молча поглядывали друг на друга, она продолжала: — Насколько мне известно, месье, даже мой брат, римский император, собирался встретиться с доктором. И без маски, месье. Он договорился о встрече с ним, но, к сожалению, не пришел вовремя, потому что ведь и он не может быть всегда точным. Так почему же мне нельзя поговорить с этим милым стариком на маскараде? Между прочим, я справилась с ним шутя. Если бы я не знала, кто он такой, я никогда бы не подумала, что этот охотник до анекдотов — мятежник. Это никак не пришло бы мне в голову. Да и вам самим это не пришло бы в голову, — сказала она Мерси, — и вам тоже, — более резко заметила она мрачному аббату.
Мерси нашел, что сегодня она особенно привлекательна и прелестна и что, пожалуй, существует только один способ наставить на путь истинный эту столь же недалекую, сколь и красивую женщину: нужно добыть ей умного любовника, которым можно будет руководить. Аббат, напротив, предавался злым и печальным мыслям, он думал, что все его многолетние, стоившие ему великого самоограничения усилия пошли прахом. Он ничего не достиг. Его, его одного будут обвинять в том, что эта тщеславная и легкомысленная женщина не только не приносит Габсбургам пользы, но доставляет им одни неприятности. Потом он сообразил, что ее бесстыдство и безрассудство дают ему сейчас, по крайней мере, хороший повод как следует ее отчитать. Не обращая внимания на вздор, который она плела, он напомнил ей самым строгим тоном:
— Вы обещали мне, мадам, вести себя разумно при условии, что я не буду вмешиваться в ваши развлечения. Вы должны признать, что, с великим сожалением наблюдая за вашими увеселениями, я все же не делал вам никаких упреков. А увеселений этих было достаточно, — взвизгнул он, обнажив свои страшные, желтые зубы.
Оба заранее договорились, что, если аббат выйдет из себя, в разговор тотчас же вмешается Мерси. Это он и сделал.
— Аббат не хочет упрекать вас, мадам, — сказал он быстро, успокаивающим тоном. — Так же, как я, он думает только об огорчении, которое, должно быть, вызовет в Шенбрунне известие об этом инциденте. — И, видя, что она сидит с надменно-безучастным лицом, тихонько покачивая туфелькой, он принялся ее поучать: — Именно после того, как император намеренно избежал встречи с мятежником, ваши сочувственные высказывания о франклиновских принципах могут быть восприняты как изменение политики Габсбургов и Бурбонов.
— Мои сочувственные высказывания об его принципах? — возмутилась Туанетта. — Кто осмелится это утверждать?
— Все, — грубо ответил аббат.
— И вы тоже так думаете? — вскипела Туанетта. — Вы в самом деле думаете, что я предала Габсбургов бунтовщикам?
— Извольте, мадам, не уклоняться от темы, — осадил ее аббат. — Вы сделали заявления, которые мятежники могут истолковать по-своему. Вот что огорчает меня и графа.
Мерси прибавил:
— Мы знаем, что у ее величества, вашей престарелой матушки, много тяжких забот. Нам больно доставлять ей новые огорчения, а мы поневоле их доставим, послав в Вену даже самый мягкий отчет о случившемся. Мы смиренно просим вас, мадам, иметь это в виду.
Лицо Туанетты стало задумчивым; одно мгновение казалось, что она вот-вот заплачет.
— Я знаю, месье, — сказала она, — что вы преданны дому Габсбургов, — и тотчас же стала прежней Туанеттой. — Не могу представить себе, — сказала она, — чтобы мои слова могли возыметь дурные последствия. И покамест эти дурные последствия не дадут о себе знать, позвольте мне считать себя правой, совершенно правой.
Обоим господам нечего было больше сказать, и они удалились. Мерси другого и не ждал, аббат же был разочарован.
Оставшись одна, Туанетта некоторое время отрешенно глядела в одну точку. Она думала о грубых, презрительных нотациях, которые ей придется выслушать от Иосифа, и заранее злилась.
Потом она взяла письмо матери и распечатала его. «Граф Мерси, — писала Мария-Терезия, — доложил мне о вашем желании получить картины из времен вашего детства, запомнившиеся вам со дней Шенбрунна; он сообщил мне, каких они должны быть размеров, где их собираются повесить и как осветить. Я от души рада, дорогая, доставить вам удовольствие и не заставлю вас ждать семь лет, как заставили меня вы. Я говорю о вашем портрете, которого по сей день жду с великим нетерпением. Я незлопамятна и тотчас забуду об этих семи годах ожидания, едва увижу ваши милые черты, запечатленные на полотне».
Смутная грусть овладевала Туанеттой, когда она думала о своей старой матери. Однажды Дюплесси уже написал ее портрет для Марии-Терезии, и все нашли его очень хорошим и верным, но матери он не понравился, а у Туанетты не было никакого желания позировать снова, ей всегда не хватало времени, и поэтому, несмотря на напоминания Мерси, просьба матери оставалась невыполненной. Но если это так важно для мамы, она закажет еще один свой портрет. Во всяком случае, очень трогательно внимание мамы, пославшей картины безотлагательно. В детстве Туанетта часто стояла перед этими картинами, изображавшими ее десятилетней девочкой, танцующей и играющей со своими братьями, и, становясь старше, она всегда с интересом сравнивала себя с изображенной на картинах Марией-Антонией. Ей было любопытно, какие картины отобрала мама, и не терпелось узнать, произведут ли они на нее такое же сильное впечатление, как прежде. Это ее отвлекло, и неприятные мысли рассеялись.
Она рассказала своим друзьям о предостережениях австрийцев. Водрейль и Полиньяк посмеялись. Конечно, креатуры Иосифа злятся, что Туанетта беседовала о человеком, встретиться с которым у него ле хватило мужества.
Туанетта улыбалась, представляя себе, как явится к ней Луи и какие хорошие, острые ответы у нее для него найдутся.
И все-таки, казалось ей, программу 23 августа лучше, пожалуй, немного изменить. В этот день, день рождения Луи, в числе других торжеств должно было состояться открытие небольшого нового театра в Трианоне. Предполагалось дать «Севильского цирюльника» мосье де Бомарше. Луи, не любившему автора и его пьесы, пришлось бы чуть-чуть поступиться своими антипатиями, и эта щепотка перца только придала бы празднеству особый вкус. Однако теперь, после встречи с Франклином, Туанетту стали одолевать сомнения.
— Стоит ли, — спросила она, — давать двадцать третьего числа «Цирюльника»?
Вопрос этот она задала в шутку, не всерьез. Но лицо Водрейля сразу приняло необычайно мрачное выражение. У него были веские основания предложить поставить именно «Цирюльника». Свою интендантскую деятельность, к которой он официально приступал как раз 23 августа, ему не хотелось начинать с банальностей. Кроме того, он полагал, что если «Цирюльник» будет показан в присутствии короля и вдобавок еще по такому поводу, то добиться постановки «Фигаро» будет гораздо легче. Он резко ответил, что актеры уже уведомлены о намерении ставить «Цирюльника» и что, снова вдруг струсив, Туанетта, да и он сам окажутся в смешном положении. Туанетта поспешно с ним согласилась.
Но от Водрейля было не так-то просто отделаться. Именно сейчас, заявил он, важно, чтобы Туанетта ни на шаг не отступала. Более того, она обязана наступать. Если она этого не сделает, ее смелая встреча с доктором Франклином окажется пустой забавой, ничего не значащим жестом. Наоборот, если вслед за первым храбрым поступком она совершит и второй, ее разговор с Франклином предстанет перед всеми как сознательное начало самостоятельной политики.
Это произвело на Туанетту впечатление. В последнее время она приобрела вкус к политике. Иосиф был прав: политическая игра еще азартнее, чем фараон или ландскнехт. Она охотно согласилась с Франсуа и заверила его, что отныне будет вести целеустремленную политику.
— Целеустремленную политику? Мы? — с обычной беззастенчивостью рассмеялся Жюль Полиньяк. — Наши враги, эти лисицы Морена, Вержен, Неккер, — они действительно занимаются политикой. Они действуют. Они забирают у нас деньги. А мы?
И так как присутствующие только переглянулись, забавляясь этой неожиданной вспышкой, он продолжал:
— Сколько раз мы метали молнии по адресу Сен-Жермена! И что же? Мы говорили, а он действовал. Теперь всякий сброд, всякая чернь, всякая сволочь получает мундиры. Они становятся полковниками и генералами, а мы сидим себе голенькие и без жалованья.
Все были поражены; давно уже от Жюля Полиньяка никто не слыхал таких связных речей.
— Хорошее было время, — мечтательно проговорила Габриэль, — когда мы прогнали Тюрго.
Туанетта сидела задумчивая, взволнованная. Имя Сен-Жермена было названо вовремя. Она вспомнила, сколько зла причинил этот человек ее друзьям. Она вспомнила о своем твердом решении обезвредить этого строптивого, противного старика, — решении, принятом ею на семейном ужине в честь Иосифа.
Ее маленький рот с полной нижней губой застыл в красивой, решительной и злой улыбке. Она нашла себе прекрасное поле деятельности. Пусть только попробует Луи прийти и начать ныть из-за того, что она сказала милому доктору Франклину несколько добрых слов. Она покажет ему, что это всего лишь первый шаг на длинном пути.
На следующее утро в своей «маленькой приемной» Туанетта рассматривала окончательный макет нового Трианона. Чтобы поместить макет, из зала пришлось вынести часть мебели.
Туанетту обступили люди, руководившие перестройкой дворца и разбивкой сада. Здесь были архитекторы Мик и Антуан Ришар. Здесь был живописец Юбер Робер, придавший некоторым трианонским постройкам естественный и обжитой вид, подвергнув их небольшим искусственным разрушениям. Здесь были садовники-декораторы Бонфуа дю План и Морель. И, конечно же, здесь был маркиз де Караван, дилетант, заложивший у себя в усадьбе на улице Сен-Доминик красивейший в Париже сад — сад, который и дал Туанетте идею трианонских парков.
Туанетта стояла перед макетом, восемнадцатым по счету, но зато окончательным. Он был выполнен с величайшей тщательностью и мастерством. Озеро и ручей были воспроизведены зеркалами, лужайки и деревья — с помощью дерна и красок, постройки — с помощью гипса и дерева. О каждой мелочи можно было получить ясное представление.
Вооружившись схемами, набросками, раскрашенными рисунками, Туанетта увлеченно сравнивала их с макетом. Наконец она добилась своего; все вышло так, как она задумала, — величайшая простота в сочетании с величайшим искусством. Ее красивое, белое лицо светилось ребяческой радостью. Эти люди часто проклинали свою должность, часто и очень много раз; когда Туанетта бывала недовольна и требовала переделать то одно, то другое, то все целиком, им хотелось отказаться от высокооплачиваемых постов. Но сейчас, стоя перед завершенным макетом, они чувствовали: их нелегкий труд не пропал даром. Туанетта точно знала, чего она хочет, и работа была выполнена хорошо.
— Вы сделали это великолепно, месье, — сказала Туанетта. — Наш Трианон будет гордостью Франции. Благодарю вас. Поздравляю вас и себя. — Она взглянула на каждого из них в отдельности, сияющая, счастливая. — Значит, я могу рассчитывать, — сказала она небрежно, — что к двадцать третьему все будет готово?
Посетители переглянулись, поглядели на Туанетту, поглядели на архитектора Мика, руководителя работ.
— Двадцать третьего числа, мадам, — сказал наконец архитектор, — во дворце можно будет жить, а по парку гулять. Но Трианон еще не станет таким, каким мы желали бы показать его вам и гостям.
Туанетта вскинула брови.
— Вы же мне обещали, — возмутилась она.
— Мадам, — отвечал архитектор, — вы для нас не только королева Франции, но и горячо любимая королева. Мы делали и будем делать все, что в человеческих силах. Но срок завершения работ в Трианоне — это не только вопрос нашего усердия и нашего мастерства, это, к сожалению, также вопрос денег.
Садовник-декоратор Морель пояснил:
— Мы составили очень скупую смету, мадам, и все-таки стоило больших трудов получить у мосье д'Анживилье нужную сумму. Больше он определенно не даст.
Не дожидаясь ее просьб, Луи недавно оплатил новые немалые долги Туанетты; однако она опасалась, что после инцидента с Франклином Луи изменит свое поведение. Но она была горда своим Трианоном, она радовалась, что сможет показать друзьям плоды своих усилий, и лучшего повода, чем 23 августа, для этого не было.
— Я решила, — сказала она небрежно и очень надменно, — отпраздновать день рождения короля в своем Трианоне. Я не намерена портить праздник себе и королю из-за того, что интендант королевских построек хочет сберечь несколько ливров. Я поговорю с мосье д'Анживилье. Но довольно толковать об этих мелочах, — прервала она себя, — вернемся к работе, — и с большим знанием дела и обаянием она принялась обсуждать с каждым в отдельности детали, которые его касались.
Вдруг дверь резко отворилась. Неуклюжей походкой в комнату вошел Луи; его молодое жирное лицо было искажено гневом.
Ему посчастливилось рассвирепеть и в этот день. Шагая подземным ходом в ее покои, он еще раз перебрал в уме все причины, дававшие ему основание гневаться. Разве он не вправе был ожидать, что после их физического сближения Туанетта повзрослеет и проникнется чувством долга? Он уже столько раз прощал ей ее экстравагантные выходки. Неужели не пора научиться избегать безрассудств, по крайней мере таких, как это последнее, граничащее с преступлением? Полный ярости, он жестом велел оставаться на месте фрейлине, собиравшейся доложить о его приходе, и ворвался прямо на совещание, чтобы застать провинившуюся врасплох.
Он и в самом деле застал ее врасплох. Именно сейчас Туанетта действительно его не ждала, все ее мысли были заняты Трианоном и предстоявшим празднеством. «Что ж, тем лучше», — подумала она, и мысль, что он грубо вторгся сюда как раз в тот момент, когда она готовилась к празднеству в его честь, только усилила в ней чувство превосходства.
Она всегда рада его видеть, сказала она с улыбкой, немного удивленно. Но так ли уж неотложно то, что он собирается ей сообщить? Она сейчас очень занята делами — делами, которые, она надеется, окажутся для пего приятным сюрпризом.
Присутствующие отвесили Луи низкий поклон; они почтительно стояли у стен и про себя усмехались. С мрачным упрямством Луи ответил:
— Безусловно, мадам. То, что я намерен вам сообщить, по-моему, важно.
Туанетта обвела глазами комнату, поглядела на Луи, на макет и опять на Луи. Сказала:
— Сир, подготовка сюрприза, которой заняты сейчас эти господа и я, отнимает все наше время и требует от нас полной сосредоточенности. Поэтому, если ваше сообщение не очень важно… — Она подчеркнула слово «очень» и, ласково заглянув ему в лицо, не окончила фразы.
С хмурым упрямством он повторил:
— Очень важно, мадам.
Она пожала плечами. Архитекторы и художники стали откланиваться.
— Пожалуйста, месье, — сказала Туанетта, слегка подняв руку, — не расходитесь, подождите. Надеюсь, что я задержусь ненадолго.
Они еще раз поклонились и вышли.
Уставившись на нее широко расставленными карими глазами, Луи шумно вздохнул и сказал:
— Итак… итак… Это же…
— Что «итак»? Что «это же»? — спросила Туанетта и покачала ножкой.
— Что вы наделали? — вырвалось у него наконец.
— Что я наделала? — презрительно передразнила она его. — Я вступила в разговор с великим ученым, я обменялась с ним несколькими невинными фразами, как с любым другим.
Раздраженный таким лицемерным упрямством, Луи снова пришел в ярость.
— Не лгите! — закричал он пронзительно. — Не думайте, что вам удастся меня обмануть. У меня точные сведения. Вы говорили с ним о политике. Вы одобрили его политику.
— Не волнуйтесь, — медленно ответила Туанетта. — То, что вам донесли, — вздор. Я говорила с доктором Франклином о музыке. Я сказала, что слышу музыку в его словах. И это действительно так и было.
Луи почувствовал себя беспомощным перед таким полным отсутствием логики. Он ощущал, как ярость его остывает. Он сел; рыхлой грудой мяса опустился он на изящный золоченый стул.
— Неужели вы никогда не поймете, мадам, — сказал он уныло, — что вы уже не ребенок? Вы не должны давать волю любому капризу. Вы…
— Я знаю, — насмешливо отпарировала Туанетта, — я королева.
Ей стало почти жаль этого человека, сидевшего перед ней с таким грустным видом, как будто она его обидела. Она подошла к нему, тронула его за плечо.
— Будьте благоразумны, Луи, — попросила она кротко. — Лучше поглядите на мой Трианон. — И она подвела его к макету.
Обладая технической смекалкой, он не мог не заинтересоваться этой искуснейше изготовленной, стоившей большого труда игрушкой.
— Разве не чудесно? — спросила Туанетта.
— Да, мадам, — ответил Луи, — получилось необычайно красиво. — И он ощупал некоторые детали макета своими толстыми, но осторожными пальцами.
Однако ему не хотелось отвлекаться от цели своего прихода.
— Обещайте мне, по крайней мере, — вернулся он к прерванному разговору, — что подобные безрассудства не повторятся.
Выразительно пожав плечами, она отошла от него, села на диван, надулась, покачала ножкой.
— Поймите же наконец, мадам, — убеждал ее Луи, — что эти люди — заклятые враги монархии. Вы говорите — безобидный ученый. Вы говорите — музыка. Тем хуже. — Он снова пришел в ярость. — Этот человек, — крикнул он фистулой, — живет на наш счет! Он втерся к нам в доверие, он самый страшный вредитель. Он злейший наш враг — ваш враг и мой. Да, да, он, а не король Англии. С нашим родственником в Сент-Джеймском дворце мы можем договориться, а с этим мятежником — никогда.
Туанетта молча глядела на этот приступ бессильного гнева. Жалость ее прошла, осталось только презрение. Преждевременным хвастовством оказалось на поверку письмо, где она сообщала матери, что теперь она настоящая королева и родит наследника, который навеки соединит Габсбургов и Бурбонов; Луи и теперь, после операции, не в состоянии сделать ей дофина. О да, ей и в самом деле пора уже заняться политикой.
— Я считаю вашу позицию в американском вопросе принципиально неверной, — сказала она тоном наставницы. Она старалась выложить все, что запомнила из разговоров Сиреневой лиги. — Конечно, до поры до времени мы будем сохранять нейтралитет, иначе покамест нельзя. Конечно, мы не станем открыто заявлять о своем сочувствии мятежникам. Но наша цель — ослабление Англии. Меня всегда возмущает, что англичане до сих пор сидят в Дюнкерке. Неужели в ваших жилах течет вода, а не кровь, сир? Я не могу уснуть по ночам, когда об этом думаю. Право же, вам следовало бы больше со мной считаться.
Луи был обескуражен. Что можно возразить человеку, настолько чуждому логике?
— Да знаете ли вы вообще, где находится Дюнкерк? — спросил он. И прежде чем она успела ответить, он продолжал: — До сих пор не было принято, чтобы королева Франции вмешивалась в государственные дела. — Он был обижен, он защищался с убежденностью в своей правоте. — Поверьте мне, — сказал он, — я знаю, что делаю. Я согласую свои действия всесторонне — и с моими министрами, и с моими книгами, и с самим собой, и в беседах с богом.
Туанетта не унималась.
— Если уж наша официальная политика должна оставаться нейтральной, — продолжала она его поучать, — нужно, по крайней мере, показать американцам человеческое сочувствие, как это сделала я.
Луи попытался разъяснить ей свою политику. Ни он, ни король Георг не хотят войны. Но народы, науськиваемые друг на друга безответственными подстрекателями, чрезмерно возбуждены, дело идет о престиже, и любая неосторожность может привести к неразрешимому конфликту.
— Англии, — объяснил он, — война не нужна, у нее и без того достаточно хлопот с восставшими колониями. Но и нам война не нужна. Наши финансы не позволяют нам воевать. Наше перевооружение не завершено, и это тоже не позволяет нам воевать.
Из всего этого логичного, терпеливого объяснения она услышала только то слово, которое ей хотелось услышать.
— Если мы до сих пор не вооружены, — прервала она Луи, — то кто в этом виноват? Кто, как не ваш военный министр? Вы столько раз твердили мне о реформах этого упрямого старого осла. Его реформы причинили моим друзьям величайшие неприятности, я сама чуть не заболела от огорчения, и вот теперь, сир, вы приходите и заявляете, что мы не вооружены. Стало быть, после всех реформ, ради которых он требует от страны и от нас таких жертв, мы не можем даже спокойно встретить войну? Не находите ли вы, сир, что тут может быть только один вывод? Прогнать этого человека, немедленно прогнать.
Луи выпрямился. Его полное лицо застыло в мрачном напряжении. Она поняла, что зашла слишком далеко.
— Таково мое мнение, — поспешила она прибавить, — но, может быть, я недостаточно ознакомилась с делом.
С еле сдерживаемой злостью Луи сказал:
— Вооружить армию для войны с Англией — это, мадам, не детская игра. Это гораздо труднее, чем построить замок Багатель или даже замок Трианон. — Он с радостью констатировал, что задел ее за живое. — С американской армией, — продолжал он, — далеко не уедешь. Это недисциплинированная, очень скверно экипированная милиция. Если мы ввяжемся в войну с Англией, то можно считать, что воевать будем мы одни. А воевать придется не столько в Европе, сколько в далеких странах. У англичан есть в Америке армии и базы, у них есть флот, способный перевозить крупные войсковые соединения. Нам же, — поймите это, мадам, — пришлось бы и наших солдат, и все наше снаряжение, и припасы переправлять через бурное море, в котором, кстати, господствует сильный противник. Неужели я настолько легкомыслен, что дам себя вовлечь в такую войну? Нет, мадам, этого я не допущу. Никогда. И никому, даже вам, я не позволю толкать себя на этот путь.
Видя, что разговор об отставке Сен-Жермена придется отложить до более благоприятного случая, Туанетта решила добиться от Луи другой уступки.
— Вы обращаетесь со мной, — заупрямилась она, — как с малым ребенком, которому можно внушить что угодно. Но я информирована лучше, чем вы предполагаете. Неверно, что армия американцев ни на что не годится. Мятежники — люди храбрые, и они одержали уже несколько побед. Не помню названий сражений, но знаю это доподлинно.
— Да, в известной мере, — со свойственной ему объективностью согласился Луи. — При Трентоне и Принстауне. Но это были не настоящие сражения, — настаивал он, — а стычки, перестрелки. К тому же все это произошло довольно давно, и с тех пор мы получили надежные сведения о том, что армии генерала Вашингтона приходится туго. Если бы мы не оказывали американцам тайной помощи, они не продержались бы и дня.
Теперь наступил тот момент, которого Туанетта ждала. Сейчас она добьется от него уступки, великой уступки. Теперь она сумеет похвастаться перед своими друзьями победой, куда более важной, чем отставка Сен-Жермена. Осторожно приближаясь к цели, она спросила:
— Следовательно, плохое военное положение мятежников — главная причина, по которой вы отказываетесь воспользоваться слабостью Англии?
— Да, — неохотно согласился Луи, — это одна из главных причин.
И тут Туанетта размахнулась, чтобы нанести решающий удар.
— Вот что я вам скажу, Луи, — начала она. — Обещаю вам впредь относиться к мятежным колониям не менее нейтрально, чем вы и Иосиф вместе взятые. Но за это обещайте мне, что, если американцы одержат военную победу, вы заключите с ними договор о союзе и выступите против Англии.
Луи потел, он чувствовал себя неловко.
— Мне нужно подумать, — отвечал он, — нельзя же так сразу…
Но Туанетта, победоносно и зло, продолжала натиск.
— Вы же сами сказали, — наседала она, — что только плохое военное положение американцев мешает вам открыто оказывать им помощь. А теперь вы от этого отпираетесь.
— Да нет же, — с несчастным видом пробормотал Луи. — Вы не поняли меня, Туанетта.
— Я прекрасно поняла одно, — ответила Туанетта, — вы умеете отказываться от собственных слов.
— Если американцы, — нехотя уступил Луи, — добьются военного успеха, я имею в виду настоящий военный успех, — то он, конечно, мог бы многое изменить.
— Значит ли это, — подхватила Туанетта, — что тогда вы заключите договор о союзе?
— Ну, что ж, — замялся Луи, — тогда еще куда ни шло.
— Итак, договорились, сир, — подвела итог Туанетта. — А теперь, уладив политические дела, давайте спокойно рассмотрим мой макет.
Двадцать третьего августа был жаркий день, и немногочисленным гостям, собравшимся в Трианоне на празднование дня рождения Луи, оставалось только тяжело вздохнуть, когда Туанетта предложила им обойти парк.
Вскоре, однако, красота парка заставила их забыть о неудобствах прогулки по залитым солнцем дорожкам. Здесь не было и следа затейливой роскоши версальских садов, все более и более выходившей из моды; с большим вкусом и искусством здесь был создан бесхитростный ландшафт, полюбившийся всем этим господам по книгам Руссо, и сейчас он привел их в мечтательное настроение.
В простом белом полотняном платье водила Туанетта гостей по парку. Своей удивительно легкой походкой скользила она по аллеям, из-под флорентийской соломенной шляпы выбивались ее прекрасные, пепельно-золотистые волосы, ослепительно-белыми и изящными на фоне нежнейших кружев казались ее шея, плечи и руки. Сопровождаемая толпой архитекторов и художников, она восторженно хвасталась своим созданием. С неподдельной, детской радостью показывала она гостям все, что считала наиболее красивым, требуя от своих специалистов подробного объяснения каждой мелочи. В парке было восемьсот видов деревьев и кустов, привезенных сюда со всего мира. Здесь были неизвестные дотоле во Франции красные буки из Германии, кипарисы с острова Крита, пихты из Армении, лавровишни с Пиренеев и лавровишни из Китая, тисы из Луизианы, белые акации из Виргинии. Двести тридцать девять видов кустов и деревьев, сказал ботаник Морель, поступило из одной только Северной Америки. Длинными холеными пальцами Туанетта гладила ливанский кедр и с гордостью показывала принцу Карлу, насколько красивее ее туберозы, чем те, что он посадил у себя, в замке Багатель.
Наивная, бьющая через край радость Туанетты заразила этих насмешливых, злых на язык дам и мужчин. Принцу Карлу изменила его наглость, толстому желчному принцу Ксавье — его ехидство, Водрейлю — его властность и высокомерие. Луи был доволен донельзя. Трианон удался на славу. Чего стоят все знаменитые сады, парки Горэйса Уолпола, принца де Линя, герцога Орлеанского, в сравнении с шедевром, созданным его красавицей женой? Он радовался, видя, что и другие думают так же. Отчасти это был и его успех: платил-то кто?
Предметом особой гордости Туанетты была ее новая оранжерея. Торжествуя, королева подсчитывала, сколько выручит денег. Одна только продажа флердоранжа даст от трехсот до четырехсот ливров, а в удачный год и до тысячи. Луи задумался.
— В самом деле, дорогая? — спросил он с сомнением.
— Ну конечно, — отвечала Туанетта. — Ведь так записано в бюджете. Разве не так, мосье? — обратилась она к д'Анживилье.
Почтительно сказав: «Не совсем так, мадам», — тот пошептался с одним из своих чиновников и доложил:
— Мы рассчитываем на доход в пятнадцать ливров, который, может быть, в благоприятные годы возрастет ливров до сорока.
— Ну, что ж, это лучше, чем ничего, — добродушно сказал Луи и решил, что из выставки и аукциона севрского фарфора нужно будет выжать не менее трехсот пятидесяти тысяч.
Гости восхищались естественно и приятно извивавшимся ручьем; вода в него подавалась по трубам издалека. Ласково журча, ручеек впадал в искусственное озеро, посредине которого возвышался искусственный остров; по озеру, то вытягивая шеи, то окуная их в воду, плавали лебеди. На другом берегу видна была гористая местность, искусственные скалы, искусственный мох.
— Все выглядит так, — признал принц Ксавье, — словно стоит здесь со времен четвертого фараона.
Луи подхватил:
— В самом деле, такую близость к природе, как здесь, чувствуешь разве лишь на охоте.
Чего только не было на этом небольшом пространстве — мостики, часовенки, беседки, гроты, не говоря уже о романтических развалинах, которые с величайшим вкусом соорудил художник Юбер Робер.
— Вас будут отныне называть Робер-разоритель, — похвалил его Водрейль, и польщенный художник согнулся в низком поклоне.
Гости подошли к Китайскому павильону. Здесь тоже все было основательно обновлено. Невидимый механизм приводил в движение карусель с сиденьями в виде драконов и павлинов, изготовленных по эскизам скульптора Боччарди. Туанетта, с очаровательным озорством, вскочила на деревянного дракона. Остальные последовали ее примеру и закружились под тихую, серебристую музыку. Сам Луи, потный, довольный, уселся на павлина, который тут же сломался под его тяжестью. Лун смеялся громко и весело.
Водрейль в отчаянно смелой позе стоял возле Туанетты, зацепившись за канат одной рукой и ногой. Он был силен во всех видах спорта и лучше всех в Париже играл в jeu de paume, в теннис. Опасно кружась вместе с драконом Туанетты, он неслышно ей говорил:
— Сегодня удачный день. Все устраивается великолепно. Вы, Туанетта, сегодня красивы и соблазнительны, как никогда. У него такое хорошее настроение. Сегодня вы должны этого от него добиться.
— Чего? — прошептала Туанетта с бездумной и счастливой улыбкой.
— Отставки старика Сон-Жермена, — тихо и пылко отвечал Водрейль.
Смотреть можно было еще много, очень много, все утомились. Но прежде чем возвращаться в дом, Туанетта пожелала показать гостям еще один аттракцион — «деревушку», свою чудесную, милую, близкую к природе и вполне натуральную деревушку. Строя ее, она представляла себе пасторальный ландшафт, послуживший в «Алине» шевалье де Буфлера убежищем героине, королеве Голконды. И когда начитанный принц Ксавье воскликнул: «Бог мой, да это же пейзаж Алины!» — Туанетта покраснела от удовольствия.
При каждом из восьми домиков был садик, огородик и какое-нибудь фруктовое деревце. Были здесь также амбары, деревянные скамейки, гумна, курятник, мельница, домик стражника, небольшая рыночная площадь, овчарни и коровники.
Из коровника вывели коров, необычайно чистых и гладких. Они жили в сверкавшем чистотой помещении, где пол был выложен плитами белого мрамора, но зато на стенах виднелись вполне правдоподобные трещины, сделанные по рисункам художника Юбера Робера. Туанетта принялась доить свою любимицу, корову Брюнетку; подойник из благороднейшего фарфора был изготовлен в Севре по эскизу мастера Пура. Все смотрели, как быстро и ловко снуют у вымени ее пальцы.
— Мило, очень мило, — сказал принц Карл, а образованный принц Ксавье процитировал «Эклоги» Вергилия.[64]
Луи пришла в голову великолепная мысль. Он предложил продать молоко с аукциона. Начался торг, и в конце концов молоко досталось самому Луи, заплатившему за него двадцать пять луидоров.
— Да здравствует королева! — воскликнул он с хохотом и, отвесив ей неуклюжий поклон, стал пить молоко.
Тем временем мосье д'Анживилье рассказывал желавшим его слушать о расходах, связанных с «деревушкой». Не столько стоили сами постройки, сколько их обитатели. Мадам, со свойственной ей любовью к благотворительности, пожелала поселить в своей деревушке бедных крестьян. Однако набрать подходящих крестьян оказалось не так-то просто. Если, например, удавалось найти поселянина, голова которого устраивала художника Робера, то архитектор Мик находил, что его руки выпадают из стиля; ничего не оставалось, как расплатиться с крестьянином и отправить его восвояси; в другом крестьянине обнаруживались другие недостатки, и даже если художники сходились во мнении, это еще отнюдь не значило, что с ними согласится мадам.
Туанетта демонстрировала своих крестьян. Особенно гордилась она крестьянином Вали, деревенским старостой из дома номер три. А разве стражник Вереи не вылитый настоящий стражник? Всеобщее признание снискал также учитель Лепен; его поселили в деревушке потому, что он поразительно походил на «Деревенского учителя» Греза, картину, наделавшую много шума в Салоне. Вызвал также интерес и маленький питомец Туанетты, Пьер Машар. С мальчика сняли блестящее придворное платье и нарядили его в крестьянскую одежду; ему было явно нелегко привыкнуть к длинному тяжелому кафтану и грубым деревянным башмакам. Туанетта рассказывала, что велела учителю уделять особое внимание милому малышу. Его воспитывают по последней моде, на лоне природы, в полном соответствии с принципами, изложенными в «Эмпле» Руссо. Луи взял мальчика на руки. При этом один деревянный башмак слетел. У ребенка был несчастный вид. Луи дал ему сластей.
— А где же наш славный Ульрих Шецли? — спросила Туанетта, и все насторожились.
История этого Ульриха Шецли занимала все королевство. Ульрих Шецли из Уцнаха служил в швейцарской гвардии и считался хорошим, дисциплинированным солдатом. Но швейцарцы более чем кто-либо любили свою родину — недаром «Энциклопедия» определяла «патриотизм» как швейцарскую национальную болезнь. И однажды вечером, получив увольнительную и напившись без собутыльников в трактире «Капризница Катрин», гвардеец Ульрих Шецли вышел на площадь Людовика Великого и, к удовольствию прохожих, исполнил несколько песен своей родины, в том числе под конец грустную песню «На страсбургском валу». Между тем швейцарской лейб-гвардии христианнейшего короля было строжайше запрещено петь свои родные песни, особенно эту, которую в Париже называли «ranz des vaches»:[65] власти боялись, что звуки этих песен усилят у швейцарцев тоску по родине и побудят их к дезертирству. Более того, согласно старому, все еще не отмененному приказу, пение «ranz des vaches» каралось смертной казнью.
Луи, конечно, не собирался казнить швейцарца Ульриха Шецли. Но как с ним поступить, он не знал; военный министр Сен-Жермен обычно не терпел никаких нарушений дисциплины. Пребывавший в нерешительности Луи, пожалуй, даже обрадовался, когда Туанетта попросила его отдать ей гвардейца и поселила Ульриха Шецли в своей деревушке. Швейцарец был с позором уволен из гвардии и с почетом водворен в Трианон.
Сегодня, в день рождения короля, Ульриху было совестно попадаться кому-либо на глаза; никакие уговоры деревенского старосты не помогали. Но сейчас его безжалостно вытащили из домика. Он вышел, сгорая от стыда за свой ужасный проступок. На нем был швейцарский костюм, длинный кафтан серого сукна и очень короткие панталоны; художник Юбер Робер сделал эскиз костюма по описаниям, содержавшимся в альпийских романах знаменитого романиста Клари де Флориана. Рослый, по-военному осанистый Ульрих смирно стоял перед господами и дамами, а они его обозревали. Принц Карл даже обошел его кругом. Луи поглядел на него своими близорукими, мигающими глазами, взглянул на его каменно-неподвижное лицо и сказал:
— Ну вот, стало быть, эта проблема решена. — Он подчеркнул слово «эта». Компания удалилась, а швейцарец Ульрих Шецли все еще стоял навытяжку.
Гости Туанетты приступили к осмотру внутреннего убранства дома. Вестибюль, лестница, передняя, столовая, маленький и большой салоны, крошечная библиотека и просторная гардеробная, будуар и спальня были украшены общими усилиями лучших живописцев и скульпторов Франции.
Наибольший интерес вызвала спальня. Внимание гостей привлекли не изысканная, обитая голубым шелком мебель, не камин с великолепными часами, не полотна Патера и Ватто, а три картины, присланные Туанетте из Шенбрунна. Кроме картин, обещанных дочери Марией-Терезией, прибыла еще одна, третья, которую пожелал подарить Туанетте Иосиф.
Обе картины, подаренные Марией-Терезией, превзошли ожидания Туанетты: в ее памяти они оставались не такими красивыми. Они были написаны художником Вертмюллером и изображали Туанетту девочкой. Ей было тогда десять лет; по случаю свадьбы брата Иосифа маленькие эрцгерцогини устроили оперно-балетное представление. На одной из картин Туанетта танцевала со своими братьями Фердинандом и Максимилианом; в красном корсаже и юбке из белого, в цветах, атласа у нее был очень детский вид. Гораздо своеобразнее и, пожалуй, привлекательнее была она на другой картине; здесь, вместе с сестрой и братом, на фоне нежного, не то античного, не то английского пейзажа, она старательно и серьезно исполняла танец из какого-то мифологического балета. Она очень нравилась себе на этом строгом, но полном изящества полотне и чувствовала, что нравится здесь и другим.
Самой замечательной была, однако, третья картина. Она изображала дядю Карла с двоюродным дедом Максимилианом и старым эрцгерцогом Иосифом Марией в монашеских одеждах, роющими себе могилу. Туанетта не помнила, чтобы она когда-либо видела эту картину в Вене, похоже было на то, что брат Иосиф прислал ее из какого-то злобного озорства. Первые две картины преподнес Туанетте Мерси, а эту она получила из рук аббата Вермона. Сначала мрачная шутка Иосифа ее рассердила, но потом она стала над ней смеяться, тем более что и Водрейлю странная картина показалась очень забавной. Вопреки совету своих живописцев, находивших это произведение недостаточно художественным, Туанетта решила повесить картину у себя в спальне. Здесь это полотно теперь и висело. Веселые, элегантные гости Туанетты разглядывали его с любопытством и некоторой неловкостью.
Ранний ужин прошел весьма оживленно. С помощью особого приспособления стол опускался и поднимался. Поднимался он, уставленный блюдами, а об остальном заботились безмолвные служители, так что лакеев не требовалось. Туанетта объяснила, что решила экономить и поэтому сохранила это устройство, оставшееся от блаженной памяти деда, Людовика Пятнадцатого. И вообще в целях экономии она старалась по возможности использовать старую мебель; даже кровать ее была уже в употреблении. Она шепотом поведала Габриэль, что кровать некогда принадлежала «шлюхе» Дюбарри. Когда эта история распространилась среди гостей, мосье д'Анживилье, в свою очередь, не мог не шепнуть соседям, что эта, сохраненная в целях экономии кровать, пожалуй, самая дорогая во всем королевстве; одни только новые ножки, приделанные к ней по приказу мадам, стоили ни много ни мало две тысячи ливров. Кстати, кровать эта принадлежала не «шлюхе», а блаженной памяти деду Луи, из чего, конечно, не следует, что мадам Дюбарри не случалось на ней спать.
Луи ел с невероятным аппетитом и неустанно потчевал остальных.
— Здесь мы не аристократы, месье и медам, — повторял он, — здесь мы всего-навсего люди, даже, если угодно, крестьяне, так что давайте есть в свое удовольствие.
Водрейля осенила прекрасная мысль. Пользуясь хорошим настроением Луи, он предложил удалить музыкантов оперы, игравших во время ужина, и вызвать швейцарца Ульриха Шецли.
— Как интендант мадам, — сказал он, — я обязан сделать сегодняшний праздник не похожим ни на какой другой, неповторимым. Ибо сегодня день рождения его величества.
Луи, которого такая дерзость поначалу озадачила, решил отнестись к ней благосклонно.
— Ну, что ж, — сказал он.
Привели швейцарца.
— Теперь, любезный, вы уже не служите в гвардии, — сказал ему Водрейль. — Не споете ли вы нам свою знаменитую песенку?
Ульрих Шецли, ничего не понимая, стоял навытяжку.
— Чего изволят сударь? — спросил он. — Чего господин желают?
— Господин желают, — отвечал Водрейль, — чтобы вы спели свой «ranz des vaches», свой знаменитый коровий танец.
— Это запрещено, — ответил Ульрих Шецли.
— Глупости, дорогой, — сказал Водрейль.
Он достал монету.
— Погляди на эту голову, — сказал он, — и погляди на эту, он указал на Луи. — Вот перед тобой человек, который запрещает и дозволяет. Спроси его!
Обливаясь потом, швейцарец продолжал стоять неподвижно.
— Разве это не запрещено, сир, мой генерал? — спросил он Луи.
— Это было запрещено прежде, но теперь это не запрещено, — со свойственной ему обстоятельностью ответил Луи. Ему самому не терпелось услышать знаменитую песню, а к тому же ему было любопытно, поймет ли он немецкий текст. — Итак, спой, сын мой, — сказал он долговязому швейцарцу.
Ульрих Шецли стоял перед собравшимися в своем сером, обшитом красной тесьмой суконном кафтане. Он стоял в очень напряженной позе, широко расставив ноги, вытянувшись, длинный, прямой, неуклюже держа на весу руку со шляпой. Но он был явно взволнован, тяжело дышал, в каменном лице его что-то дрогнуло, и вдруг, очень громко, он отчеканил:
— Слушаюсь, сир, мой генерал.
И зычным, гортанным голосом, на крестьянский манер, он запел. «На страсбургском», — пел он, —
На страсбургском валу Пришла ко мне беда. Я услыхал альпийский рог родимый И через реку в отчий край любимый Пустился вплавь.И он спел всю эту бесхитростную, печальную песню о том, как беглеца вытащили из реки, вернули в полк и приговорили к смерти. «О, братья», — пел он, —
О, братья, вот он я, Ах, жизнь кончается моя. Всему виной мальчишка-пастушок. Ведь погубил меня его рожок. Я устоять не мог. А вас, друзья, прошу: Меня убейте вы сейчас И не тужите обо мне На чужедальней стороне, Прошу я вас. А ты, небесный царь, Ты душу бедную мою Прими и успокой в раю. Хочу я вечно быть с тобой, — О, сжалься надо мной!

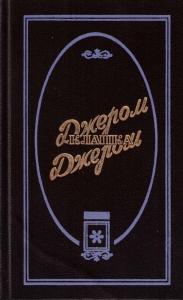
Комментарии к книге «Лисы в винограднике», Лион Фейхтвангер
Всего 0 комментариев