Александр Барков Денис Давыдов
Вместо предисловия
Год от года Россия всенародно и торжественно отмечает памятную и страдную дату, посвященную Великой Победе над фашистскими полчищами. И в этой жесточайшей по зверству и урону, причиненному нашей стране, бойне-войне на самых опасных участках, в самых рискованных операциях отличились партизаны. Они – и минеры, и саперы, и охотники «за языками», и разрушители коварных планов противника – словом, грозная, неразгаданная, смертоносная сила.
Недаром в первые дни Великой Отечественной поэт Михаил Спиров вдохновенно помянул подвиги знаменитого партизана Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова:
Он видит спаленные крыши, Замерзшей реки берега, Здесь в каждом сугробе отыщешь Казацкою пикой врага... Гусар и не думал, беспечный, Мечтая всю ночь, до утра, Что он оставляет на вечность След сабли И след от пера...Денис Давыдов был знаменит и разносторонне талантлив: он прославился как видный поэт и первый партизан Отечественной войны 1812 года, бравый, не ведавший страха гусар и опытный стратег, авторитетный военный историк и прозаик, и вместе с тем страстный охотник, дамский угодник и острый на язык «председатель бесед» за шумным застольем.
В его друзьях и покровителях состояли Пушкин и Жуковский, Вяземский и Языков, Баратынский и Федор Глинка, а также видные полководцы – Багратион и Платов, Кульнев и Ермолов, Милорадович и Блюхер... Словом, его светлый образ бережно хранится в русском национальном сознании, а книги и ратные подвиги стали легендой нашей литературы и военной истории.
Жизнь и судьба Дениса Давыдова благодатны, привлекательны, но вместе с тем и очень трудны для воплощения в оригинальное художественное произведение. Трудны уже тем, что он сам как в стихах, так и в прозе, создал свой, неповторимый образ.
Для Александра Баркова жизнь и творчество Дениса Давыдова тема не новая. Им выпущены три книги рассказов о ратных подвигах поэта-гусара в центральных издательствах страны. Писатель владеет богатым материалом, который собирал в архивах и исторических изданиях исподволь, годами.
Роман построен таким образом, что в основе его оказались лишь главные, узловые эпизоды, где наиболее полно и ярко раскрывается характер Давыдова. Здесь наряду с военно-историческими документами: приказами командования, донесениями, рапортами и воспоминаниями современников, участников битв и сражений нашлось место и юмористическим сценкам, описаниям охот и уникальных, памятных уголков Москвы...
Как читатель, могу свидетельствовать, что роман читается легко, с нарастающим интересом, ибо в нем глазами художника слова достоверно отражена эпоха 1812 года, подвиги русских солдат, офицеров и великих полководцев.
Светлая память об этом замечательном времени будет переходить в России из рода в род, из века в век. И это весьма важно в наше смутное, напряженное, во многом американизированное время, когда на прилавках книжных магазинов продолжает преобладать «сырковая масса» зарубежного и отечественного детектива, порнуха и всевозможные популярные сборники, рассчитанные в первую очередь на обывателя.
Личность пламенного патриота и героя своего времени Дениса Давыдова в полную меру раскрылась в тяжелую и тревожную для России пору, когда на чашу весов легли судьбы народа и Родины, – в Отечественную войну 1812 года. Здесь как бы невольно попадаешь в Зимний дворец – Военную галерею 1812 года, – где роковые события столкнули Дениса Давыдова со знаменитыми сподвижниками: Кутузовым, Багратионом, Кульневым, Ермоловым, Платовым... Но обилие портретов полководцев и густота батального «фона» не заслоняют и не «растворяют» образа пламенного партизана, а как бы освещают его с разных сторон. На документальной основе воссозданы в романе характеры Суворова и Наполеона, Кульнева и Каменского... Это, несомненно, дало возможность Александру Баркову создать достоверное произведение. Сличая документы с текстом романа, убеждаешься, что автор не очередной компилятор-копиист, а исторический писатель, верно чувствующий и живо передающий былую эпоху.
На мой взгляд, удачно подобраны и стихотворные эпиграфы, помещенные в начале глав. Они вводят читателя в атмосферу Москвы, Петербурга, Парижа и как бы приоткрывают занавес на театре военных действий.
Другая линия романа, крепко переплетенная с ратной службой, – поэтическая. Почти все видные поэты первой трети XIX века горячо и вдохновенно воспевали партизанские подвиги, независимость и твердость характера певца-героя.
Прося своих друзей-литераторов написать (естественно, после смерти) правдивую «некрологию», Денис Давыдов обращается в письме к Н.М. Языкову: «Шутки в сторону, и не в похвальбу себе сказать, а я этого стою не как воин и поэт исключительно, но как один из самых поэтических лиц русской армии. Непристойно о себе так говорить, но это правда...»
В заключительных главах и в эпилоге романа Александр Барков подводит итоги ратной и литературной судьбы пламенного гусара: «Глядя прямо в глаза смерти на полях кровопролитных сражений и в дерзких партизанских налетах на врага, стойко перенося невзгоды судьбы, Давыдов не унижался и никогда не льстил начальству, свято и нерушимо веря до последних дней в Россию и в русский народ». Не потому ли столь провидчески звучат и по сей день пламенные слова партизана-героя об Отечественной войне: «Не разрушится ли, не развеется ли, не снесется ли прахом, с лица земли все, что ни повстречается, живого и неживого, на широком пути урагана, направленного в тыл неприятельской армии, первою в мире по своей храбрости, дисциплине и устройству! Еще Россия не поднималась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь поднимется».
Песни Дениса Давыдова заучивались в армии наизусть, пелись и звали солдат на доблестные ратные подвиги. В них – широта, удаль и непосредственность русской натуры. Шлифуя год от года мастерство стиха, он стал одним из первых создателей русской военной песни. Здесь у Давыдова не было «ни поддельников, ни подражателей».
Бурцов, ёра, забияка, Собутыльник дорогой! Ради Бога и... арака Посети домишко мой! В нем нет нищих у порогу, В нем нет зеркал, ваз, картин, И хозяин, слава Богу, Не великий господин. Он – гусар и не пускает Мишурою пыль в глаза, У него, брат, заменяет Все диваны куль овса. Нет курильниц, может статься, Зато трубка с табаком, Нет картин, да заменятся Ташкой с царским вензелем!Роман Александра Баркова адресован в первую очередь молодежи, а также всем тем, кому дорога русская история.
Николай Старшинов, лауреат Государственной премии России и премии имени А. Твардовского «Василий Теркин»
Часть ПЕРВАЯ
Удалой
Славы звучной и прекрасной Два венка ты заслужил! Знать, Суворов не напрасно Грудь твою перекрестил. Николай ЯзыковПервопрестольная златоглавая столица поразила юного Дениса Давыдова музыкой и цветами, звоном бокалов и ослепительным сиянием жемчугов, буйством застолий и протяжным, надрывным воем метели за окнами.
Денис полюбил Москву. В особенности зимнюю, морозную, народную. Москву с ее рождественскими запахами снега, апельсинов и мокрых валенок. Москву праздничную, нарядную, с лихим бегом коней по укатанной обледенелой дороге.
В солнечные январские дни белоснежная скатерть на улицах столицы переливалась и сверкала камнями-самоцветами.
У подъездов – ковровые сани-розвальни, дуги с разудалыми бубенцами.
Как дивные колокольные перезвоны услаждали слух, поднимали наши взоры от суеты весной к небесам, так и картины далекого московского детства, от которого так и веяло счастьем и родиной, возвышали Дениса над буднями и запечатлелись в его памяти на долгие годы.
Все в Москве в ту пору было для него значительным, новым и дорогим. И буйно-зеленый с голубыми незабудками и бело-розовым клевером пустырь за забором, соединяющий редкую незатоптанную городскую землю с майским небом. И алый кумач рябин у крыльца, вспыхивающий под лучами закатного сентябрьского солнца подобно праздничному иконостасу. И особый винный запах осени, когда из сада веяло палым сухим листом и сизым горьковатым дымом костра. Долгим, полным восхищения взглядом провожал Денис клин журавлей в бездонном серо-синем московском небе. Птицы улетали и на своих могучих крыльях уносили в жаркие края былое тепло знойного лета. Их протяжные и печальные крики «курлы, курлы, курлы», оброненные на землю, запали в его чуткую душу на всю жизнь.
Впоследствии Денис не раз вспоминал и писал об этой радостной и столь быстротечной поре светло и восторженно:
О юности моей гостеприимный кров! О колыбель надежд и грез честолюбивых! О кто, кто из твоих сынов Зрел без восторгов горделивых Красу реки твоей, волшебных берегов, Твоих палат, твоих садов, Твоих холмов красноречивых!Усадьба Давыдовых – двухэтажный светло-розовый дом с обширным двором, садом, жилыми и хозяйственными постройками – располагалась в Москве на углу 3-го и 1-го Неопалимовских переулков.
В этом просторном доме, возле которого парят белые облака душистого отцветающего жасмина, нынче праздник. У хозяина – полковника Василия Денисовича Давыдова – родился сын. А назвали первенца Денисом в честь деда Дениса Васильевича Давыдова, просвещенного и знатного дворянина елизаветинских времен.
Сияет и приплясывает по блестящей паркетной зале, торжественно освещенной восковыми свечами, не скрывая переполнившей душу радости и гордости, Василий Денисович. Есть наследник! Значит, будет кому продолжить ратные дела и славные традиции рода Давыдовых.
Среди метрик церкви «Неопалимой Купины» записано в книге от 16 июля 1784 года[1]: «Московского карабинерского полку у подполковника Василия Денисовича Давыдова родился сын Денисей, а окрещен того ж месяца 23 числа. Восприемник был бригадир (генерал-майор) Лев Денисович Давыдов, а восприемница генеральша вдова Александра Осиповна Щербинина». Итак, восприемниками Дениса были: дядя Л.Д. Давыдов – опаленный в жарких баталиях генерал – и бабушка со стороны матери.
Узы родства связывали Давыдовых со старинными дворянскими династиями Раевских, Каховских, Ермоловых...
Брата Дениса Евдокима, родившегося два года спустя после него, нарекли в честь другого, не менее знаменитого деда по материнской линии – генерал-аншефа Е.А. Щербинина. Далее появились на свет брат Лев и сестра Сашенька.
Неподалеку от Пречистенки, в Неопалимовских переулках, где располагалось Дворянское собрание, Денис прожил шесть лет.
Строжайшим правилом для Давыдовых – людей старорусского быта и долга – считалось беречь платье снову, а честь смолоду. А в 1790 году их родовитая семья, известная в первопрестольной столице гостеприимством и широким русским хлебосольством, перебралась на патриархально аристократическую Пречистенку, в дом № 13. В ту пору Пречистенка славилась величественными особняками екатерининских вельмож. Причем каждый особняк пленял своей красотой и неповторимой архитектурой. Здесь стояло здание Генерального штаба с высокими белыми колоннами, тут находились Институт благородных девиц, учрежденный императрицей Екатериной, а на Девичьем поле – палаты университетских клиник. Среди деревянных домов выделялось красно-оранжевое строение пожарной части с высокой каланчой.
Улица эта, заложенная в XVI веке, вела к знаменитому Новодевичьему монастырю. Громадный позолоченный купол монастырского собора (во имя Смоленской иконы Божьей Матери) и зубчатые угловые башни просматривались издалека.
В 1791 году полковник Василий Денисович Давыдов получил назначение командовать Полтавским легкоконным полком. Вскорости Давыдовы с домочадцами заложили лошадей, простились с Белокаменной и покатили в Екатеринославскую губернию, туда, где стоял на квартирах полк. Тряслись несколько суток в повозке с малыми детьми, с бородатым кучером Пантелеем на козлах, с поваром, прислугой и целой горой домашнего скарба по пыльным и грязным дорогам под звон валдайских колокольчиков.
Денис не раз слышал из уст отца загадочные и таинственные слова: «днепровские кручи», «брега могучего Днепра» и перед взором впечатлительного мальчика батюшка-Днепр мчал свои бурные воды с безоглядной стремительностью. Вода отливала тусклым серебром, вскипала бурунами, широкие гривастые волны шумно бились о крутые берега, над которыми вставали глыбины скал, темнели страшные пропасти и пещеры. Однако романтические грезы Дениса развеялись, как дым от потухшего костра, когда он увидел тихую и покойную ширь Днепра, разливы на песчаных плесах да степь без конца и без края. А среди степи – села. Вдоль пологих берегов заросли ивняка, а по воде – зеленые кружева кувшинок. Выше, на холмах, на косогорах, лепились хатки под соломенными крышами, тонущие в белоснежной кипени вишневых садов.
В этих уникальных по своей дивной красе местах довелось впоследствии побывать великому Пушкину, вдоволь полюбоваться, как блещут долы, холмы, нивы, и запечатлеть все это в героической поэме «Полтава»:
Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут. Своей дремоты превозмочь Не хочет воздух. Чуть трепещут Сребристых тополей листы. Луна спокойно с высоты Над Белой Церковью сияет И пышных гетманов сады, И старый замок озаряет. И тихо, тихо все кругом...Ветер колышет кроны деревьев, шепчется в листве, поднимает в небо стаи легкокрылых белых лепестков: видно, потому он и зовется в здешних местах вишнивый. Взвихрившись, закружась метелицей, лепестки опускаются на зеркальную гладь воды, на дорогу, на крышу высокого деревянного дома. В нем-то и поселились Давыдовы.
Дом этот возвели по приказу князя Потемкина на днепровском холме с присущим подобным постройкам величием и размахом. Однако мастера торопились и делали работу на скорую руку, стараясь закончить ее ко времени путешествия Екатерины II. Государыня останавливалась в здешних местах несколько лет назад, по пути в Крым.
С виду дом выглядел большим и важным. Летом в нем витали запахи лака, столярного клея и пропеченной солнцем смолы, однако зимой и осенью здесь становилось холодно, сыро и неуютно. К тому же при ходьбе скрипели полы, повсюду гулко хлопали двери. Полковник Василий Денисович Давыдов прозвал дом театром. «Сплошной декорум! – ворчал он, зябко потирая руки. – Куда ни глянь – повсюду дыры, ветхость. Многое надобно обновить да перестроить». Однако его сыну Дениске дом-театр нравился: в нем легко прятаться от взрослых по углам, шкафам и комнатам, играть в разбойников, скакать на метле и носиться по скрипучему паркету сломя голову. Полюбилось ему и живописное, затерянное в цветущих фруктовых садах украинское село Грушевка, близ которой разместился полковой кавалерийский лагерь.
Отец Дениса по долгу службы переезжал с места на место, с ним отправлялась и вся семья. Правда, мать, Елена Евдокимовна, частенько печалилась от столь непоседливой и беспокойной жизни, но Денису по душе было кочевье. Сколько вокруг удивительного и необычного: огни солдатских биваков, зов полковых труб, быстрые марши!..
А тут кавалерийский лагерь нежданно-негаданно облетело радостное известие: командующим войсками Екатеринославского корпуса назначен генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов! Новость эту полтавцы встретили с ликованием. Полковник Давыдов приосанился и сказал торжествуя: «Велика честь!» – ведь имя Суворова было овеяно легендами.
Василий Денисович почитал прославленного на весь мир непобедимого полководца и сыновей своих старался воспитать в суворовском духе: спали они на жесткой постели, вставали с первыми петухами, обливались холодной водой. Пуще всего на свете он опасался в детях лености и изнеженности, ибо эти недостатки, по его разумению, подобно ядовитым испарениям, прежде всего разрушают душу и тело. «Чем в жизни больше удобств и соблазнов, тем меньше силы и доблести», – говаривал полковник Давыдов.
Следуя моде, Елена Евдокимовна пригласила для воспитания детей француза Шарля Фремона. Однако Василий Денисович не больно-то доверял гувернеру: ему не раз приходилось видеть у себя в полку плоды подобного воспитания. Из дворянских детей вырастали русские французы, англичане, немцы. А полковник хотел, чтобы сыновья его стали истинными сынами Отечества, и потому приставил к ним дядькою могучего донского казака Филиппа Михайловича Ежова.
Казак Ежов, выслуживший к пятидесяти годам чин сотника (младшего офицера), участвовал во многих жарких и кровопролитных баталиях. За храбрость и доблесть он был награжден золотой Очаковской медалью.
Бывалый воин обучал детей верховой езде, обращению с саблей, ружьем, пикой. По праздникам он надевал парадный мундир и, заложив тройку резвых лошадей, возил барчуков в Херсон слушать музыку полкового оркестра. Он в подробностях рассказывал им про походы Румянцева и Потемкина, Репнина и Салтыкова, про битвы непобедимого Суворова. Картины былых сражений оживали перед глазами мальчиков.
Правда, характерами и вкусами братья мало походили друг на друга. Толстый, медлительный Евдоким предпочитал скачкам на лошади и фехтованию танцы и уроки французского языка. Денис же, напротив, был горяч и деятелен, метко стрелял из лука, доплывал на спор до середины Днепра. А с каким наслаждением слушал он рассказы Филиппа Михайловича Ежова о подвигах былинных русских богатырей Ильи Муромца и Добрыни Никитича! Дениса увлекали военные игры: отчаянные засады в тылу врага, внезапная яростная перестрелка, ночлеги в палатках у прибрежных костров. Сколько раз он по-пластунски подползал на животе к становищу неприятеля, кричал оглушительным «звериным» голосом, наводя на врага страх и обращал его в бегство.
Порой Денис становился невидимкой, проникал в лагерь противника, выведывал секреты или передавал другу пакет с ценными документами. Спасаясь от преследования, он с ловкостью кошки залезал на высокие корявые дубы, нырял с мостков в днепровские волны, проплывая под водой несколько саженей. А в самых опасных случаях засовывал два пальца в рот и оглушительным свистом подзывал своего верного друга – быстроногого донского скакуна. Кони, сабли, бой барабанов, звуки боевых труб, воинские команды: «Строй! Смир-но!» или «Сабли – в небо! Пики – вперевес!» – были на слуху Дениса с малых лет. Все это и заронило в его душу любовь к Отечеству. Зато светские манеры: поклоны, шарканье ножкой, учтивость, которые старался привить гувернер мсье Шарль Фремон, – ну, хоть убей! – никак не давались ему.
«С семилетнего возраста, – вспоминал впоследствии Давыдов, – я жил под солдатской палаткой. Забавы детства моего состояли в метании ружьем и в маршировке, а верх блаженства – в езде на казачьей лошади...»
Иной раз после жаркой схватки в овраге с другом и постоянным соперником Андрейкой, разгоряченный, перемазанный с ног до головы глиной Денис шумно вбегал в гостиную и кидался отцу на шею. Василий Денисович горячо любил своего первенца и поощрял его «воинские склонности».
Елена Евдокимовна в ужасе вздыхала, а Шарль Фремон безнадежно и печально разводил руками:
– О, этот мсье Ешофф! Он-таки уморит ребенка!
– Помилуйте, да какой он ребенок – ведь ему уже семь лет! Это треть мужчины! – возражал Фремону казак.
– Треть мужчины? Что такое треть мужчины? Да это же еще дитя, мсье Ешофф! А оно уже гарцует на лошади и прыгает на ней через... как это по-русски... ров... через забор!
– Просто резвый мальчик учится преодолевать преграды, коих немало он повстречает в жизни. Ведь Дениса, когда он подрастет, зачислят в состав кавалерийского полка, которым командует Василий Денисович. Он примет участие в учениях.
– Зачем полк?! Какие учения?! Мальчик очень может, как говорят у вас, в России, ломать собственный шея... если он будет и дальше слушать мсье Ешофф...
– Вы же знаете, такова воля Василия Денисовича! – сказала мать.
– Полковник желает, чтобы из Дениса вышел не недоросль, а настоящий воин. Как Суворов... – поддержал Елену Евдокимовну казак.
– Суфорофф не воин, мсье Ешофф. Суфорофф – знаменитый человек! – и Шарль Фремон поднял глаза к небу.
– Но знаменитым-то он стал не сразу, – резонно возразил французу донской казак. – Все началось с детства.
Однажды ночью Денис проснулся от свиста и топота копыт. Он распахнул настежь окно и увидел скачущих во весь опор всадников, смятые, опрокинутые палатки, спешащих куда-то с криками лакеев, кучеров, повара.
Денис бросился к своему дядьке Филиппу Михайловичу:
– Что там?
– Сказывают, – степенно отвечал казак, – батюшка наш Александр Васильевич только что приехали из Херсона.
– Неужто Суворов? – Денис несказанно обрадовался и чуть не полетел с подоконника – Где он? Где? Я так хочу его видеть!
– Горяч больно! – казак поддержал мальчика за локоть. – Охолонись! Этак и разбиться немудрено. В десяти верстах от нас остановились, в Стародубском лагере.
Денис хлопнул в ладоши:
– Да здравствует Суворов! Слава Суворову! – знаменитый полководец был его кумиром.
– Цыц! – Ежов нахмурил брови и погрозил ему пальцем. – Чумовой! Евдокима подымешь!
– Ну и что? Он тоже обрадуется!
– Цыц!
– А маневры когда?
– На утро смотр кавалерийским полкам назначен!
– Так уже скоро утро!
Денис снова громко ударил в ладоши, гикнул и собрался бежать вслед за конницей. Но крепкая рука казака подбросила его вверх и водворила в постель:
– Скоро, да не совсем. Так что поспи еще малость, неслух. Вот ужо достанется тебе от отца на орехи!
Денис покорно укрылся с головой одеялом, поворочался с боку на бок, но все же не выдержал, вскочил и щелкнул спящего Евдокима по носу. Не разобрав, в чем дело, брат захныкал и спрятал лицо в подушку.
– Евдошка, ты спишь?
– Дремлю. А что?
– Наш разговор слыхал?
– Слыхал, да в разум не взял.
– Как в разум не взял? Сам Суворов будет на маневрах. При слове «Суворов» Евдоким оживился, ему тоже страх как захотелось взглянуть на прославленного полководца:
– Ну да?
– Вот те да!
– Знаешь что? – Евдоким сел на корточки и прошептал в самое ухо Денису: – Мсье Шарль сказывал, что Суворов с большой чудйной.
– Ну?! Да этот мсье Фремон сам того – большой фантазер.
– Вот те и ну! Недаром о Суворове ходя разные слухи. Он не выносит зеркал, не кланяется знатным вельможам, кукарекает.
– Ку-ка-ре-ка-ет? – удивился Денис. – Скажешь тоже. Зачем?
– А вот послушай. – Евдоким полуприкрыл глаза и таинственно произнес. – В полночь он выбежит из своей палатки нагой. Ударит в ладоши. Прокричит петухом «Ку-ка-ре-ку!» три раза.
– К чему это? Да еще петухом?
– Как к чему? Сигнал! Трубачи затрубят генерал-марш. Войско примется седлать коней. Начнутся маневры!
– Врет он все, твой Шарль, – прервал его Денис. – Отец сказывал, что Суворов не терпит лености. Он встает с первыми петухами.
– С первыми петухами? – усомнился Евдоким. – Давай поспорим!
– Давай! Только на что?
– На сладкое за обедом.
– Давай, – согласился Денис. – По рукам!
– По рукам!
Братья порешили не смыкать глаз, ждать рассвета, но вскорости не выдержали и незаметно для себя один за другим крепко уснули.
Спору этому так и не суждено было окончиться, потому что Суворов нередко чудил, шутковал, однако подобного никогда не проделывал. Очевидно, то была одна из выдумок его многочисленных завистников и недоброжелателей из придворною круга. Слава Суворова не давала им покоя. На такую вот «удочку» и клюнул легковерный француз.
Поутру дядька Ежов с трудом разбудил братьев:
– Па-а-адъем! Аники-воины!
– А который час? – спросил Денис.
– Девять утра.
– Неужели маневры начались?
– Давно начались. Проспали Суворова! Он в шесть утра прискакал.
– Вот те на! Да как же теперь?
– Надобно с вечера ложиться спать, – усмехнулся Евдоким.
– Дело говоришь, милок, – поддержал его казак. – А то шушукались-шушукались допоздна, вот рассвет-то и проворонили. Впредь неповадно будет! А впрочем, пожалуй, еще можете поспеть.
Меж тем кавалерийский полк Давыдова до рассвета выступил из лагеря. Наскоро перекусив, Денис и Евдоким вместе с матерью, которой тоже не терпелось посмотреть на знаменитого полководца, сели в коляску и пустились вслед за войском к Стародубскому лагерю, где проходили маневры. Но шутка ли поспеть за конницей, ведомой самим Суворовым. Издали, из-за широких покатых холмов, то и дело доносились свист и грохот. В облаках густой пыли бешено неслись эскадроны – попробуй здесь кого-либо разглядеть! Лишь порой в толпе любопытных, когда меж эскадронами, в гуле, свисте и топоте копыт скакал всадник в белой рубашке, раздавались крики: «Вот он! Вот он! Наш батюшка, граф Александр Васильевич!»
Однако братья так и не увидели своего кумира. Огорченные, попросив разрешения у матери, они пошли назад, к своему дому-театру.
Меж тем солнце уже поднялось высоко и палило нестерпимо. День выдался знойный. Мальчики обогнули густо поросшее рогозом озеро, спустились на дно оврага испить студеной воды из ключа и, наслаждаясь прохладой, забрели в лесок. Под ногами шелестит густая трава, на тугих стволах сосен шелушится в лучах солнца тонкая, румяная кожица, а над головами порхают и мелодично посвистывают, словно считают капель, пеночки.
В тенистом овраге без умолку кукует кукушка, мешает Денису сосредоточиться и выбрать укрытие для предстоящего сражения. Он остановился возле небольшой ямы у расщепленного молнией старого дуба, призадумался и вспомнил картинку, недавно виденную в военном журнале отца: на редут похоже.
– Глянь-ка, Евдоким! Здесь можно пушку ставить! – Денис прыгнул в яму, залег под дерево и приложил к плечу суковатую палку. – И видимость хороша, и укрытие есть!
– Где укрытие?
– Да вот же, яма глубокая.
– А пушка?
– Разве не видишь?
– Не-е-ет.
– Эх ты, Евдошка-картошка! Да вот же она, пушка, – разбитая телега. Оглобли – стволы. Колеса – лафеты.
– Куда ж ее ставить?
– Как куда? В укрытие, в яму.
– Пойдем-ка домой, Дениска.
– Зачем?
– Жарко больно. Уморился я.
– Разнюнился! «Жарко, уморился». А Суворову каково?
– Так я ж не Суворов.
– Знамо дело, что не Суворов. Но Суворов никогда бы не посмел унывать! Хочешь быть на него похожим?
– Зачем мне. Жаль только, что я из-за Суворова сладкое у тебя не выспорил!
– Да что там сладкое. Сладкое я тебе и так отдам. Только, чур, игра еще не окончена. Защищай-ка редут! Я нападаю!
– Эй, Дениска! Глянь-ка, всадники!
По опушке вилась одинокая тропа. И вдруг впереди, словно сквозь туман, Денис увидел всадников на конях. Вскорости казак пробежал, крича: «Скачет! Скачет!»
Сердце Дениса забилось часто, казалось, оно готово было выпрыгнуть из груди.
В нескольких саженях от него скакал худощавый и стройный всадник на гнедом калмыцком коне. Из-под копыт легким дымком вздымалась пыль.
Белая, с расстегнутым воротом рубаха, солдатская каска, шпага, блестящая на солнце, светло-голубые глаза – все это показалось Денису знакомым.
Сухое, обветренное, запыленное лицо было мужественно и вдохновенно. Денис не заметил на полководце ни ленты, ни крестов, ни других знаков отличия. А когда взмыленный калмыцкий конь поравнялся с мальчиками и чуть было не проскакал мимо, держа путь к командирской палатке, тут адъютант и бессменный ординарец Суворова Тищенко, человек весьма сметливый и зоркий, ехавший следом, крикнул:
– Граф! Больно лихо вы скачете! Посмотрите вот дети полкового командира Василия Денисовича Давыдова!
Александр Васильевич резко осадил коня и повернулся к мальчикам:
– Хороши молодцы!
Тем временем полководца окружили приотставшие офицеры и адъютанты.
Суворов приветливо кивнул мальчикам и спросил хрипловатым голосом:
– А нуте-ка, братцы, покажите, как бравый солдат честь отдает!
Евдоким съежился от испуга, опустил глаза и застыл на месте.
Коренастый, подтянутый Денис смело шагнул навстречу Суворову, вытянулся во фрунт, руки по швам, грудь колесом, подбородок приподнят, глаза сверкают. На миг замер, приложив ладонь к черным вьющимся волосам.
Александр Васильевич улыбнулся, вскинув тонкие брови.
– Хвалю за отвагу. Как же тебя зовут?
– Денис Давыдов.
– Ого! Слыхали? – Полководец многозначительно обвел свиту глазами. – Денис Давыдов! Только раз и навсегда запомни, Денис: к пустой голове не надлежит руку прикладывать! Ну а в остальном – все правильно. Где ж твоя шапка? Денис покраснел, смутился:
– В бою утеряна.
– О, видно, жаркая баталия была! А ты, друг мой, любишь солдат?
– Я люблю графа Суворова! – не помня себя от счастья, одним духом выпалил Денис. – В нем все: и солдаты, и победа, и слава!
– О, помилуй Бог, какой удалой! – Суворов легко спрыгнул с коня. – Весь в отца! – И, как бы продолжая свою мысль, добавил: – Этот будет истинно военный человек. Помяните слово, я, чай, еще не умру, а Денис, глядишь, три сражения выиграет! А это кто? – Суворов указал на толстяка.
– Мой брат, Евдоким.
– Вижу, вижу. Уж больно Евдоким пухлый да розовощекий, прямо кровь с молоком. Что ж ты такой робкий, Евдоким? Бери пример с Дениса. Слыхал пословицу «Без смелости сила попадает на вилы»?
– Я другую знаю, – стесняясь, ответил Евдоким.
– Нуте-ка, какую же? Сказывай!
– Сам не дерусь, а семерых не боюсь.
– Ого, брат, да ты, как погляжу, за словом в карман не лезешь! – усмехнулся Суворов. – По гражданской службе, считай, далеко пойдешь.
– Ваше сиятельство, а по утрам вы, по утрам, – Евдоким немного приободрился. – Как по утрам вы поднимаете войска?
– Как поднимаю? Да обыкновенно.
– Кукарекаете?
– Ну зачем мне кукарекать? – рассмеялся Суворов. – Я ведь не петух! Кстати, Евдоким, коль ты такой острый на язычок, скажи-ка, почему петух, когда поет, глаза закатывает?
– Н-н-не знаю...
– Да потому, что он все ноты наизусть выучил. Свита полководца дружно рассмеялась.
– А про кукареканье-то кто тебе сказывал? – поинтересовался Александр Васильевич.
– Наш гувернер, мсье Шарль Фремон.
– И ты небось поверил французу и поспорил с Денисом, что я и вправду по утрам кукарекаю?
– Ага, поспорил. Откуда вы знаете?
– По глазам вижу. Небось на сладкое спорил...
– И это правда...
– Не горюй, получишь сладкое. В древние времена воины, уходя в дальние походы, наряду с оружием брали с собой не медовые пряники, а горький лук. Так вот я – воин. И Денис – будущий воин! Правильно я говорю?
– В точности так, ваше сиятельство.
– А что касается мсье Фремона, то я ему еще прокукарекаю!
На прощание Суворов протянул братьям руку для поцелуя, наклонился к Денису, слегка обнял его за плечи и перекрестил:
– Благословляю тебя на ратные подвиги! А теперь беги к своей матушке. Передай ей от меня поклон! – Александр Васильевич сел в седло, приосанился и крикнул: «Вперед!» – показав, как надо увлекать за собою солдат. С этими словами он пришпорил коня и поскакал дальше, сопровождаемый свитой.
– Ура! – Денис побежал вслед за Суворовым, но, вспомнив о матушке, замедлил шаг, свернул на боковую тропу и помчался вместе с братом к дому.
На крыльце сидел друг Дениса Андрейка, сын полкового егеря, сопя, вытаскивал из ноги занозу.
Возбужденный, запыхавшийся Денис выпалил:
– Послушай-ка, что я тебе расскажу...
Андрейка с недоверием глянул на него:
– Чего вздумал?
– Суворов! – крикнул Денис. – Мы с Евдокимом только что видели Суворова!
– Врешь! – ошеломленный Андрей мигом слетел с крыльца, позабыв про занозу. – Когда? Где?
– Там! – Денис махнул рукой на ближний лесок. – Он говорил со мной... Назвал удалым!
Встречу с великим Суворовым, которая произошла в раннем детстве, Давыдов считал счастливейшей в жизни и помнил до самой смерти.
На званом обеде с графом Александром Васильевичем Суворовым
Я каюсь! Я гусар давно, всегда гусар, И с проседью усов – все раб младой привычки. Люблю разгульный шум, умов, речей пожар И громогласные шампанского оттычки. Денис ДавыдовПосле утреннего смотра войск Полтавского кавалерийского полка радостная весть облетела лагерь в Грушевке.
– Завтра, – торжественно объявил братьям за ужином дядька Филипп Михайлович Ежов, – пожалует к нам на обед сам батюшка граф Александр Васильевич!
Розовощекий Евдоким разинул от удивления рот, выронил ложку и словно прирос к стулу.
– Не может быть! – вскрикнул Денис.
– А вот еще как пожалует! – с твердостью в голосе повторил казак. – Управляйтесь-ка с творогом живо! Утро вечера мудренее!
И правда, сразу же после ужина весь огромный дом Давыдовых, стоявший неподалеку от села, наполнился невообразимым шумом и предпраздничной суетой. В комнатах чистили, скребли, подметали. На кухне разделывали рыбу. Спать не ложились до поздней ночи – готовились к приему высокого гостя. В доме знали, что Суворов был скромен во всем, он не терпел роскоши и пышных приемов. Давыдовы же привыкли жить широко, как было принято в те годы во многих дворянских семьях. Поэтому прислуга, не теряя времени даром, стала выносить из комнат расписные ковры, мягкие пуховые кресла, дорогие картины в позолоченных рамах, зеркала.
К восьми вечера все было устроено как надлежало. В просторной гостиной установили большой круглый стол с постными закусками, с рюмками «благородного» размера и графином водки.
В столовой накрыли другой стол – длинный, на двадцать два прибора, опять-таки без малейших украшений, без фарфоровых кукол, столь модных в то время, без ваз с фруктами и вареньем. На белоснежной скатерти не ставили даже суповых чаш. Кушанья должны были подавать «с пылу, с жару», с кухонного огня. Хозяева знали, что так заведено у Суворова.
В отдельной горнице приготовили для полководца ванну – несколько ушатов с холодной водой, чистые простыни и одежду, которую накануне привез его расторопный ординарец Тищенко.
Маневры закончились в семь утра. Суворов в сопровождении одного из своих адъютантов первым прискакал в Грушевку. Без труда отыскал приметный издалека высокий и большой дом Давыдовых и быстрым шагом прошел вслед за Ежовым в специально отведенную для него горницу. Здесь полководец мог привести себя после бурных стремительных маневров и долгой езды по клубящейся пылью дороге в надлежащий порядок.
К крыльцу тем временем стали собираться званые гости: генералы, полковники, офицеры Полтавского полка, чиновники корпусного штаба... Все при полном параде.
Василий Денисович в полковничьем мундире и Елена Евдокимовна, одетая строго, со вкусом, держа маленькую дочку Сашеньку на руках, радушно приветствовали гостей и сопровождали их в гостиную. Возле хозяев стояли нарядно одетые дети – Денис, Евдоким и Лев, прифранченный по сему случаю мсье Фремон.
Гости приумолкли в ожидании полководца, который долго не выходил из горницы. Наконец двери распахнулись. Из крохотной горницы на залитый солнцем простор гостиной вышел улыбающийся Суворов. На нем был генерал-аншефский темно-синий, расшитый серебром мундир нараспашку. На груди сияли три алмазные звезды. По белому жилету – лента ордена святого Георгия 1-й степени.
Василий Денисович шагнул навстречу знатному гостю, представил ему жену, детей.
– Экую красавицу выбрал! – Суворов лукаво подмигнул Давыдову и расцеловал чуть покрасневшую и оттого необычайно похорошевшую Елену Евдокимовну в обе щеки. – Помнится, сударыня, с покойным батюшкой твоим, генералом Щербининым, дружбу водили. В жарких битвах не раз довелось нам вкусить пир штыков...
Суворов подошел к братьям, перекрестил их и дал им поцеловать руку.
– Ба! Да мы уж знакомы... – он по-отечески потрепал кудрявую голову Дениса и многозначительно повторил: – О, этот будет военным человеком! Чай, в отца.
Тут Василий Денисович взял у матери на руки трехлетнюю дочь:
– Вот наша кроха, Сашенька!
Суворов улыбнулся, легонько пожал ей тонкую ручку и поинтересовался:
– Что с тобою приключилось, моя голубушка? Отчего ты так худа и бледна?
– Лихорадка дочку замучила, – ответила Елена Евдокимовна.
– Вот как нехорошо! – Александр Васильевич покачал головой и нахмурился. – Помилуй Бог, как нехорошо! Надобно эту лихорадку хорошенько высечь розгами. Пусть-ка она уходит поскорей да и не возвращается к нам более... А Сашеньке теперь паче всего надобен свежий воздух... Поболее свежего воздуха, радости да веселия.
Сашенька, видно, не поняла слов знатного гостя, надула губки и громко, на весь дом, разрыдалась.
Мать поспешила забрать ее у мужа и отнесла в детскую.
А Суворов меж тем подошел к круглому столу в гостиной, налил рюмку водки, выпил ее единым духом и принялся плотно закусывать. Он ел так сладко и аппетитно, что смотреть было любо-дорого. Все заулыбались и последовали его примеру.
– А караси в сметане, голубушка Елена Евдокимовна, просто прелесть, – похвалил кушанья Александр Васильевич. – Как, мсье Фремон, нравятся вам русские караси в русской сметане?
– Русский карась, русский сметана – ко-ро-шо! – согласно закивал француз.
– Так-то, милостивый государь.
После чинной трапезы Александр Васильевич вновь завел речь о маневрах, а затем, хитро прищурившись, обратился к хозяину дома.
Нуте-ка, скажите мне, полковник Давыдов, отчего вы так тихо вели вторую линию во время атаки? Ведь вы же не Сашенька, у вас лихорадки нету? Так я полагаю?
– Нету, ваше сиятельство.
– Так что же мешкали, коль нету лихорадки? Я посылал к вам приказание прибавить скоку, а вы продолжали подвигаться не торопясь?
Василий Денисович Давыдов нимало не смутился внезапным вопросом полководца:
– Оттого, ваше сиятельство, что я не видел в том нужды.
– А почему так? – переспросил Суворов.
– От доброго обеда и к ужину останется...
– Ценю вашу находчивость, полковник! А ежели по-военному?
– Успех первой линии этого не требовал, она не переставала гнать неприятеля, – спокойно, с достоинством пояснил полковник Давыдов. – Вторая линия нужна была только для смены первой, когда та устанет от погони. Вот почему я берег лошадей, которым надлежало заменить выбившихся из сил.
– Резонно! А ежели бы неприятель ободрился и опрокинул первую линию? – спросил генерал-аншеф, и в глазах его вспыхнул дерзкий огонек. – Как действовал бы ваш полк?
– Такого быть не могло, – не растерявшись, смело парировал Давыдов, – ваше сиятельство были с нею!
– Ну и остер, полковник! Сметка в сражении – первое дело! – Суворов улыбнулся, слегка поморщился и перевел разговор на другую тему.
Отойдя к окну, он заговорил о саврасой калмыцкой лошади, любезно предоставленной ему на время маневров полковником Давыдовым.
– Взгляните, господа! Право, до чего хороша Стрела! Полководец хвалил коня за легкость, резвость, смекалку, уверял, что никогда на подобном не ездил.
– Разве что... – тут Александр Васильевич на минуту смолк, призадумался. – Пожалуй, один только раз. Давненько то было. В сражении под Кослуджи.
– Как же, как же, – кивнул высокий статный генерал с глубоким шрамом поперек щеки, шагнув вперед. – Помнится, жаркая сеча была.
– Я ведь не всегда наступал, как думают иные. Всякое бывало. Так в сем сражении, – продолжал рассказ Суворов, время от времени посматривая на гостей, – я был охвачен и преследуем турками долго. Немного зная турецкий язык, я слышал в криках за спиной, как янычары уговаривались меж собою не стрелять по мне, не рубить меня, а взять живым. Полоним, мол, Суворова! Видно, узнали меня. С тем намерением турки несколько раз настигали меня так близко, что почти руками хватали за куртку. Однако при каждом наскоке добрый конь меня выручал – пулей летел вперед. А гнавшиеся за мною турки отставали разом на несколько саженей. Наконец, чувствую, конь мой начал сдавать, устав от горячей погони, хотя и оторвался от янычар. Прискакал я в лесок ни жив ни мертв, с коня спрыгнул да и стеганул его хорошенько. Ужо прости меня за такую жестокость, мой верный конь! А сам под кустом схоронился. Конь же мой скрылся в чаще, сгинув с глаз янычар. Потом, вскорости, назад вернулся. И меня спас! Имя того верного коня век буду помнить! Орлик звали его. – Оглядев притихших гостей, Суворов обратился к завороженному его рассказом пылкому Денису: – Не правда ли, хорош был у меня конь?
– Очень даже хорош! Я ведь тоже люблю лошадей, Александр Васильевич!
– Молодец, Денис! – похвалил Суворов. – Еще пуще матушку свою люби. Отца чти. Отечество обороняй как зеницу ока ото всех недругов... Елена Евдокимовна, а что такое подали тому генералу?
– Перепелов, зажаренных в тесте, ваше сиятельство.
– Королевская еда! – усмехнувшись, воскликнул Суворов. – Но я ведь не король, голубушка, а простой русский солдат! Хоть и в чине генерала. В такой еде я проку не вижу. А вот мсье Фремону перепела в самый раз. Он ведь гурман. Верно я говорю, мсье Фремон?
– О, не знаю. Перепел кушаль наш славный король...
– Вот именно! Король! Пе-ре-пел! Каково звучит! Все дружно рассмеялись.
После обеда Суворов пробыл в гостеприимном доме Давыдовых около часа. На прощание он отдал приказ по итогам смотра кавалерийских маневров:
– Первый полк отличный! Второй полк хорош! Про третий умолчу. Четвертый же никуда не годится.
Здесь надлежит заметить, что первый номер принадлежал Полтавскому легкоконному полку, которым командовал Василий Денисович.
– Тищенко, коня! – распорядился Суворов.
– Конь готов, ваше сиятельство!
– Елена Евдокимовна, позвольте расцеловать вас, голубушка. Обед удался на славу! Полковника Давыдова поздравляю. Мсье Фремону – поклон за компанию и наше русское – ку-ка-ре-кууу! Евдоким, забирай-ка сладкое – я до него не охотник! А ты, Денис, служи Родине с честью, не посрами славной воинской династии Давыдовых. Люби солдата, а уж солдат тебя в бою не выдаст! Помяни мое слово...
В веселом расположении духа Суворов сел в коляску и отправился в лагерь, где находился полковой штаб, а затем далее в свою главную квартиру – в Херсон.
С того часа настроение солдат и офицеров Полтавского легкоконного полка сильно поднялось, ибо они преисполнились гордостью от столь высокой похвалы знаменитого полководца.
Мудрые изречения Суворова о ратном труде горячо полюбились юному Давыдову и стали путеводной звездой, которая помогала ему в самые трудные, роковые минуты жизни. Денис записал эти изречения в свой дневник и неоднократно поминал их при уместных случаях:
Мне солдат дороже себя.
Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови.
С пленниками поступать человеколюбиво и стыдиться варварства.
Черты истинного героя:
смел без запальчивости,
скор без опрометчивости,
деятелен без легкомыслия,
подчинен без униженности,
победитель без тщеславия,
честолюбив без кичливости,
благороден без гордости,
непринужден без упрямства,
скромен без притворства,
целен без примеси,
услужлив без корыстолюбия.
В торжественный день званого обеда полковник Давыдов оставил себе на память о Суворове забытую им в Грушевке легкую курьерскую тележку. На ней Александр Васильевич пожаловал в полк из Стародубского лагеря.
Тележку Суворова Давыдов возил с собой с места на место повсюду и хранил долгие годы, словно священную реликвию. К сожалению, той знаменитой тележке полководца впоследствии была уготована печальная участь. Она сгорела в Бородине, подмосковном поместье Давыдовых, вместе с усадьбой, в огне и пылу одного из главных сражений двенадцатого года. Однако речь о Бородине впереди... А меж тем вещие слова и доброе расположение Суворова на всю жизнь запали в сердце юного Дениса и он с еще большим нетерпением стал горячо и страстно мечтать о военной службе.
Руки вверх!
Давно ли, речка голубая, Давно ли, ласковой волной Мой челн привольно колыхая, Владела ты, источник рая, Моей блуждающей судьбой! Денис ДавыдовИщи! – крикнул Денис, и в ответ из ближнего леска донеслось протяжное:
– И-щи-и-и...
Голос плывет над кудрявыми серебристыми вязами, над шелковистым прибрежным лужком, над озерной ширью, теряясь далеко вдали. Дневной жар еще курится над соломенными крышами хат, над пожелтевшей, мягкой от пыли дорогой.
Денис спрятался в кустах у дороги и замаскировался: попробуй теперь найди!
Всматриваясь в ряды стройных пирамидальных тополей, выстроившихся вдоль дороги, Денис представил себе шеренгу воинов-великанов, готовых ринуться в бой по первому его приказу. Пусть только покажется враг!
Тем часом сын полкового егеря Андрейка, пригибаясь к земле и оглядываясь, осторожно пробирался к опушке леса. Его рыжая голова то и дело мелькала в кустах, словно солнечный одуванчик.
По уговору достаточно было подкрасться и дотронуться до плеча противника, чтобы тот считался побежденным.
Андрейка полз по траве, прислушиваясь, замирая и чутко ловя звуки и малейшие шорохи. У дороги он решил залезть на тополь, чтобы получше разглядеть с высоты опушку леса: не спрятался ли там Дениска? С трудом дотянулся до вершинной ветки дерева, осмотрелся кругом: не покажется ли где белая рубашка?
Вдалеке змейкой вился дымок над крохотными белоснежными хатами. По пыльной дороге спокойно и грузно ступал могучий вол. Зеленовато-голубым цветом отливала вода в озере, по которому плыли малые островки, словно куличи пасхальные, все в горящих свечах – золоте цветущих купан. Заглядевшись на эту красу земную, Андрейка на миг позабыл про Дениса. Его внимание привлекли круги, внезапно возникшие на середине озера.
«Что там? – удивился Андрейка. – Неужто резвятся рыбы?» Он соскользнул с дерева и, на беду, разорвал о сухой острый сук штанину. «Семь бед – один ответ! – махнул рукой Андрейка. – У Дениски и вовсе рукав оторван». И, пригибаясь к земле, побежал к озеру.
Едва голые пятки мальчика коснулись воды, как кто-то хлопнул его по плечу.
– Стой! – раздался звонкий голос Дениса, появившегося внезапно, будто выросшего из-под земли. – Теперь ты мой пленник! Руки вверх!
– А ты... ты от... ку... да? – заикаясь от неожиданности, спросил Андрейка. – Там... на воде круги какие-то чудные. Сплаваем, поглядим...
– Круги? – рассмеялся Денис. Он размахнулся и далеко бросил плоский камень-голыш вдоль озера, глядя, как он, проносясь пулей, скользнул и несколько раз вынырнул из воды, оставив на безмятежной глади круги. Лукаво подмигнул другу: – Военная хитрость!
«Хитрость!» – Андрей шмыгнул носом, поскреб с досады в затылке и, для острастки погрозив Денису кулаком, медленно поднял руки вверх...
А еще любил Денис разные загадки загадывать. Великое множество слышал он их от донского казака, своего мудрого дядьки Филиппа Михайловича Ежова.
– Сказывайте, что это за чудо-юдо? – спрашивал Денис.
Выпуча глаза, садит, По-французски говорит, По-блошьи прыгает, По-человечьи плавает?– Кто? Кто? – первым вскрикивает, догадавшись, Андрей. – Да это же наш гусь Тега!
– А вот и угодил пальцем в небо, – смеется Денис. – Разве Тега по-человечьи плавает? Да по-французски лопочет?
– Тогда кто ж еще?
– Думать надо. Это ж лягушка!
– А теперь ты сказывай! – грозит ему пальцем Андрей. – В озере по ночам ревом ревет, а из озера нейдет?
– Ясное дело, – лукаво усмехается Денис. – Выпь... Ее водным быком кличут.
– Верно, – кивает Андрей.
– А теперь отгадайте-ка: что за птица? – прикрывает глаза Денис.
Шило – впереди,
Клубок – середи,
А ножницы – сзади?
– Небось воробей, – отвечает за всех Егорка.
– А вот и нет! – теребит его за густой вихор Денис. – Да это ж ласточка-касатка! Гляньте на ее хвост. Вилку увидите.
В ту пору Денис крепко увлекся верховой ездой. Он не чаял души в поджаром саврасом калмыцком коне с черной растрепанной гривой, том самом коне, на котором скакал на маневрах Александр Васильевич Суворов и коего он так горячо хвалил на званом обеде. Теперь же, когда полковая жизнь пошла своим будничным чередом, отец счел возможным уважить просьбу сына и отдал на его попечение своего любимца-коня. Денис ухаживал за Стрелой: расчесывал ей гриву, кормил отборным овсом, купал ее в озере. И не было для него радости слаще, чем мчаться на резвой Стреле по неоглядной ковыльной степи и слушать, как вдалеке казаки поют старые русские песни:
Ни травушка-ковылушка к земле клонится, Государева армеюшка Богу молится, Помолившись, наша армеюшка на конь садилася, Закричали, загичали, сами на удар пошли, На тую-то они на орду, на орду турецкую... Они билися, рубились день до вечеру, Осеннюю темную ночушку до белой зари...Про великого полководца батюшку-свет Суворова:
Ой, звезда она, звездочка вечерняя, Да звезда она высоко поднималася, Ой, да светила она, эта звездочка, Да, осветила она поле чистое, Ой, да во этом поле чистом Да стоит она, вся белая палатка. Ой, да во этой она белой палатке, Да горит она, свечушка восковая, Ой, да перед свечушкой он сидит, Да садит-то сам он, батюшка Суворов. Ой, да лебединым пером он все пишет, Да все по белой бумаге он пишет, Ой да думает, братцы, он думушку, Да думает он свою думушку, Ой, да как на заре-то ему, на зорюшке Да на зорюшке-то утренней, Ой, да как вести свою армеюшку, Да все ту ли армеюшку русскую, Ой, да вести ему на крепость турецкую... Да про широкую степь дороженьку: Ой, да не пролегивала Вот и степь-дороженька, она не широкая, Она не широкая – Шириною она, Эта степь-дороженька, она конца-краю нет. Да никто-то, никто По этой дорожуньке, никто пеш не хаживал. Никто пеш не хаживал – Только бегла по ней, По той по дорожуньке, вот конь-лошадь добрая, Вот конь-лошадь добрая, Да и вся-то она, Эта лошадь добрая, вот вся украшонная...Эти вольные удалые песни, звучащие среди необъятной, духмяной и благодатной сельской тиши, горячо полюбились Денису и запали в его чуткую душу на долгие годы. Не раз впоследствии он видел во сне утопающее в кипени белоснежных садов песенное село Грушевку, где поверху, на покатых холмах, в белых мазанках под соломенными крышами жили чубатые казаки.
Лица они смуглого да румяного. Волосы у них черные и темно-русые. Взгляда они острого. Смелы, хитры, остроумны, храбры, горды, самолюбивы, пронырливы и насмешливы.
Оружие их – ружья, пистолеты, копья, шашки и сабли.
Болезней казаки мало знают, большей частью смерть их настигает в бою с неприятелем да от старости.
Платье они носят парчовое, штофное и суконное, кафтан и полукафтан или бешмет. Штаны у них широкие, сапоги и шапки черкесские, опоясываются кушаками.
Волосы на голове вокруг постригают, ходят с бородами. А некоторые из них оставляют только усы, бороды бреют.
Жены у казаков лица круглого и румяного. Глаза у них темные, большие, собою они плотные и по большей части черноволосые. С чужестранцами неприветливы...
В опрятных горницах казаков висели на стенах острые сабли в ножнах с затейливыми узорами на потускневшем серебре. Не раз виделись ему и спокойные могучие волы с крепкими рогами, степенно бредущие по степи с водопоя...
Краса белокаменной и приволье Бородина
Как будто Диоген, с зажженным фонарем Я по свету бродил, искавши человека, И, сильно утвердясь в намеренье моем, В столицах потерял я лучшую часть века. Денис ДавыдовПолковник Василий Денисович Давыдов с семьей покинул в 1797 году благодатную, утопающую в зелени садов, звонкоголосую украинскую Грушевку и вернулся в Москву белокаменную, Москву, лепившуюся на холмах: посад к посаду, то вкривь, то вкось, Москву, росшую медленно и степенно, а не строившуюся по плану, разумно и помпезно, как гранитный, строгий, холодный Петербург, Москву шумную и хлебосольную, наполненную головокружительной сутолокой, надеждами, успехами и неудачами, весельем и грустью, роскошью и нищетой...
Денису в ту пору исполнилось тринадцать лет. Он бродил по ближним и дальним улицам, бульварам и площадям. Бегал по узким глухим закоулкам, где в иных местах не разъехаться встречным каретам, с палисадниками возле деревянных домов, с неожиданными тупиками, ветхими сараями и нескончаемыми заборами.
А сколько радости и восторга вызывали прогулки по кривым переулкам через Арбатскую площадь к рынку! Там он наблюдал простой люд. Мужики расхаживали в овчинных тулупах, с рукавицами, заткнутыми за пояс, в мохнатых шапках. Бабы повязывали головы длинными пестрыми шалями. Названия многих переулков казались Денису удивительными – Сивцев Вражек, Кисловский, Столовый, Хлебный, Скатертный, Староконюшенный...
Из окон просторного двухэтажного дома Давьщовых была видна дорога. По ней тянулись обозы, мчались тройки с ямщиками-песенниками. Кони разных мастей, гривастые, в нарядной сбруе с медным набором, телеги и сани со всяческими балясинами, расписные дуги... Ржанье лошадей и цокот копыт, запах дегтя, скрип телег, широкоплечие бородатые ямщики на козлах полюбились Денису и приводили его дух в сладостное и возвышенное состояние.
Что ни день, он открывал для себя чудесные уголки Белокаменной! Глядел и не мог наглядеться, налюбоваться на башни древнего Кремля, на золоченые маковки церквей, слушал прославленные на весь мир колокольные звоны...
В сереньком добротном пальтеце молодым проворным скворчонком, легок, прозорлив и памятен, шагал он вдоль по Москве-матушке. В особенности манил Дениса центр столицы с Неглинной. Поражали его разнообразие и пестрота Охотного ряда, где в лавках пузатые купцы, величественно приосаниваясь, оглаживая усы и сивые окладистые бороды на груди, с шутками да прибаутками предлагали почтенной публике диковинные товары заморские – от кокосовых орехов до желтых африканских бананов, ароматные ананасы и тающие на языке фрукты в сахаре, расхваливали телятину, боровую и степную дичь, рыбу, мед, овощи...
– Гей-гой, выбирай народ честной!
– А вот вам орехи – девичьи потехи!
– Помните, господа хорошие! Лучше один рябчик в тарелке, чем десять на ветке!
– Глухарем можно досыта наесться, а от зайца еще и останется...
– Эй, теща дорогая, для потехи – грызи орехи!
– Ягода винная – еда дивная!
– Где пироги с грибами, там и кум с руками!
– Ох и хороша клюква с проборцем!
– Кулик не велик, а все-таки птица. Да еще какая сладкая!
– Тетерев бормочет, сойка сокочет, журавль курлычит, сорока, словно баба на базаре, тарандычит, а выпь, как пьяный мужик, ухает... берите дичь боровую, господа!
Заглядывал Денис и в распахнутые двери магазинов игрушек, где на полках красовались голубоглазые розовощекие куклы с льняными волосами, плюшевые медведи, лисы, серые в яблоках красавцы-кони, забавные фигурки из дерева... А на прилавках – прямо чудеса! Стоило крутнуть ручку шарманки, как миниатюрные дамы и кавалеры оживали, начинали двигаться, танцуя менуэт.
«Эй-гей! Держи влево!» или «Сто-ро-нись, задавлю!» – кричали ямщики в морозной дымке, восседая на козлах.
С разудалым посвистом неслись кареты по Большой Никитской – пар валил из ноздрей лошадей, поземка клубилась под копытами.
Манили Дениса румяные калачи над вывесками булочных и корзины со всевозможными яствами в витринах. Блестели в лучах полуденного зимнего солнца золотые купола церквей. По праздникам столицу оглашали глубокие, перехватывающие дух, ранящие душу звоны больших колоколов.
Стоит Денис неподалеку от Новодевичьего монастыря, смотрит на громадный позолоченный купол монастырского собора и, затаив дыхание, слушает, как стонут колокола, как они гудят и радуются. Плачут колокола по усопшим, скорбят о вождях и воинах, убиенных на поле лютой брани, в чужедальней стороне. Что за сладкая, не передаваемая никакими словами мука, что за дивное трепетное томление слушать те волшебные, очищающие и возносящие душу к небесам малиновые звоны!
Ухают, гудят, ширятся звоны больших колоколов, постепенно вливаясь в единый, чарующий хор мелких звонниц всех сорока сороков знаменитых московских храмов.
На просторной набережной Москвы-реки собирались охотники до рысистого бега. Скачки начинались от Неглинного моста и заканчивались у Москворецкого, либо в селе Покровском, либо подалее – на Шаболовке. Потому что улицы Покровского, Старой Басманной и Шаболовки просторны и без ухабов. Резвых рысаков величали козырями.
Купцы ездили на козырках – легких козырных санках с русской упряжью.
По праздникам дебелые замужние дамы плавно, как павы, выходили на улицы в кокошниках, убранных драгоценными камнями, шеи украшали жемчужные нити. Старые усаживались на скамьях возле домов и неспешно беседовали. «На молодых любо-дорого смотреть, – не раз говаривал Василий Денисович. – У них кровь горячая». Молодые катались на качелях и досках, на коньках по зеркальному льду реки и на салазках с высоких гор, водили хороводы да пели песни.
Вальяжно расхаживали по дощатым тротуарам знатные господа и одетые по последней моде столичные барышни.
Поразило Дениса и Замоскворечье с бокастыми купеческими лабазами, с резными затейливыми наличниками на окнах приземистых домов. Натужно скрипели кованные железом ворота, глухо-наглухо захлопывались к ночи дубовые ставни, и взлаивали с неистребимой яростью цепные псы во дворах.
Полюбились Денису раздольные московские гулянья! На площадях ставились шатры, именуемые в простонародье колоколами, и строились театры-балаганы, где разыгрывались комедии и тешили почтенную публику скоморохи. Запомнилось ему безудержное веселье, разноцветье и молодецкая удаль ярмарок Белокаменной: шумные и азартные лошадиные торги, танцы медведя с лисою, виртуозная игра на рожках тверских ямщиков, зов весны-красны соловьиным свистом, вихревая карусель под музыку, горы всевозможных товаров и яств, от которых ломились прилавки. Серебром и золотом отливает живая рыба в садках. Чернеют краснобровые тетерева-косачи. Снежно белеют куропатки. С переборами, удало звенит гармонь.
Цыгане снуют в толпах народа, стреляют острым вороньим глазом: где что плохо лежит. Держи крепче карманы! Кликуши, юродивые, странники... Под музыку старой надтреснутой скрипучей шарманки поют, причитают и пляшут нищие и слепцы.
Разноцветные афиши на столбах извещали о том, что дает представление бродячий цирк с косолапыми медведями, огненным фейерверком до небес, гремучими змеями и шпагоглотателями.
На масленицу народ толпами валил на Москву-реку, к Красным воротам и особенно на Неглинную. Широкие масленичные потехи шумели перед Кремлевским садом и на Трубе. На белоснежном просторе возводились неприступные крепости и горы, кипели удалые кулачные бои. Да и что за праздник в старину без кулачного боя! Кулачный бой – одна из любимых забав народных. Под старым Каменным или Троицким мостом на льду заснеженной Неглинной бились один на один. Прежде чем начать единоборство, кулачные бойцы выстраивались друг перед другом, обнимались и троекратно целовались.
Заслышав переливчатый свист, соперники, изготовившись, бросались в бой. И бились неистово, с криками. С первого разу уложить противника наземь, «снять с чистоты», случалось редко.
Крепкий мороз обжигал щеки и нос, вышибая слезу из глаз. Но Денису все было нипочем! Он любил лихо, так чтоб ветром сдувало с головы шапку, летать на салазках с крутых гор и до упаду хохотал над забавами ребятишек, которые с гиком и визгом скользили вниз на ледяшках, устраивая возле дороги кучу-малу.
Повсюду, будь то Тверская-Ямская или Арбат, Воздвиженка или Мясницкая, Охотный ряд или Поварская, Патриаршие пруды или же родная Пречистенка, – везде Дениса окружали радушные и лукавые, грешные, трогательные и святые, грустные и веселые, истинно московские нравы и обычаи. Повсюду слышалась особая московская речь, говор, выговор. На долгие годы запомнилось: «Москву, как Россию-матушку, не расскажешь, не объяснишь, а полюбишь...»
Примерно такой спустя годы увидел столицу великий, озаренный и восхищенный Пушкин и описал ее в одном из своих шутливых стихотворений – барскую столицу, удивительно падкую до всяческих перемен:
Разнообразной и живой Москва пленяет красотой, Старинной роскошью, пирами, Невестами, колоколами, Забавной, легкой суетой, Невинной прозой и стихами. Ты там на шумных вечерах Увидишь важное безделье, Жеманство в тонких кружевах, И глупость в золотых очках, И тяжкой знатности веселье, И скуку, с картами в руках.В Москве Денис продолжал занятия французским языком, танцами и рисованием с гувернерами из иностранцев. Среди залетных столичных учителей нередко обнаруживались случайные, а то и вовсе непригодные для занятий серьезными науками люди – бывшие лакеи, кучера, промотавшиеся картежные игроки и даже мелкие жулики. Недаром французский посол вынужден был чистосердечно признаться, что в Россию приезжало множество негодных французов, развратных женщин, искателей приключений, лакеев, которые ловким обращением и умением изъясняться скрывали свое звание и невежество. Любопытно и забавно было видеть, каких странных людей назначали учителями и наставниками детей в иных домах в столице и особенно внутри России. С горькой иронией помянет Давыдов впоследствии о плодах подобного воспитания в автобиографии: «Но как тогда учили! Натирали ребят наружным блеском, готовя их для удовольствий, а не для пользы общества: учили лепетать по-французски, танцевать, рисовать и музыке, тому же учился и Давыдов до тринадцатилетнего возраста».
В столице Денис познакомился и подружился с воспитанниками Благородного пансиона братьями Андреем и Александром Тургеневыми. Пансион был основан при Московском университете в 1779 году писателем Михаилом Матвеевичем Херасковым, как закрытое учебное заведение. Курс обучения продолжался в нем шесть лет. После успешного окончания пансиона многие его воспитанники поступали в университет.
Братья Тургеневы писали и печатали стихи в журналах, в том числе и в изданиях под редакцией Николая Михайловича Карамзина. Имя писателя Карамзина, будущего автора знаменитой «Истории государства Российского», в ту пору уже было известно в Москве.
Тургеневы указали Денису дорогу в первый русский альманах «Аониды», где сотрудничали видные писатели: Державин, Херасков, Капнист, Дмитриев, и ввели его в литературное общество, имевшее свой устав и библиотеку. При этом обществе издавался альманах «Утренняя заря». В нем публиковались стихи, рассказы и критические рецензии наиболее одаренных студентов университета и воспитанников пансиона.
На одном из вечеров «Дружеского литературного общества» (так именовали юные дарования свое собрание), Денис встретился с семнадцатилетним поэтом Василием Жуковским.
Стихи Жуковского пользовались успехом в столице. Знатоки и ценители словесности прочили ему славу одного из первых поэтов России.
Кипучая литературная Москва произвела сильное впечатление на юношу. Он стал взахлеб читать книги, журналы, увлекся изящной словесностью и даже сам вздумал сочинять стихи. Но занятие сие оказалось не из легких: сколько Денис ни бился, сколько ни грыз перьев и ни рвал листов бумаги, но так и не смог придать своим быстротечным мыслям и словам строгую форму.
Тогда он решил взяться за переводы.
Вот образец одного из первых стихотворных опытов Давыдова – переложения французской пасторали на русский лад:
Пастушка Лиза, потеряв Вчера свою овечку, Грустила и эху говорила Свою печаль, что эхо повторило: «О, милая овечка! Когда я думала, что ты меня Завсегда будешь любить, Увы, по сердцу моему судя, Я не думала, что другу можно изменить!»Хотя поэтические пробы пера Дениса оказались слабы и подражательны, впоследствии он приобрел широкую известность, как поэт-партизан, воспевавший в своих стихах и песнях походную жизнь, доблестные воинские подвиги и крепкую гусарскую дружбу. Недаром Пушкин, горячо любивший Давыдова, считавший его «отцом и командиром», «певцом и героем», посвятил ему такие пламенные строки:
Певец-гусар, ты пел биваки, Раздолье ухарских пиров, И грозную потеху драки, И завитки своих усов... Я слушаю тебя – и сердцем молодею, Мне сладок жар твоих речей, Поверь, я снова пламенею Воспоминаньем прежних дней...Однако ничто не вечно под луной: через год над безмятежной и хлебосольной московской жизнью Давыдовых внезапно грянул гром средь ясного неба. По негласному указанию царя Павла I была учреждена строгая внеочередная ревизия Полтавскому легкоконному полку. Причем, как выяснилось позднее, ревизоры действовали весьма пристрастно, они обнаружили крупную недостачу казенных денег – сто тысяч рублей. Василий Денисович, будучи уже в чине бригадира, вынужден был подать в отставку. Для погашения долга ему пришлось заложить и распродать почти все свои родовые имения.
Уволившись из армии, отец Дениса купил поблизости от Москвы, в двенадцати верстах к западу от Можайска, небольшое село Бородино, где на холме высился крепкий, пятистенный, пахнущий хвоей и смолой барский дом.
Когда студеной зимой растапливали печи и из труб показывался легкий дымок, дом оживал среди пушистых, искрящихся снегов. А если налетал с полей стылый гулевой ветер, то заметенный по самые окна сугробами, притихший барский дом пускал в небо из труб кудрявые дымы и, как бы отчалив от вечной пристани, плыл встречь ветру, точно белый пароход по широкой заснеженной реке...
Среди полей, лугов и холмов, которые пересекали речки и ручьи, в живописном, окруженном семеновским леском Бородине Денису жилось привольно и счастливо. Здесь он впервые страстно увлекся ружейной охотой: со стаей гончих рыскал по полям и болотам, порская – поощряя собак искать следы зверя, подбадривая их голосом: «Ах, давай!», «Ах, буди, буди!», хлопая арапником, он преследовал зайцев.
Однажды пастух Емельян, завидев издали барчука, лихо скачущего на донском коне, громко хлопнул кнутом и поманил его к себе:
– Здравия желаем, Денис Васильевич!
– День добрый! Есть ли новости?
– Неужто не слыхали, Денис Васильевич?
– Что?
– А то, что в нашей округе волки объявились.
– И давно?
– Сосед мой, Пашка Лукичев, сказывал: на прошлой неделе с десяток овец порезали...
– Откуда ж они пожаловали?
– Да, видать, с можайских лесов прибегли.
– Значит, говоришь, волки? – удивился Денис. Меж тем большие глаза его сверкнули дерзостью и отвагой. – А логово где?
– Знамо дело, – степенно ответил пастух и закурил цигарку. – Логово у них с давних пор в Гурьевом овраге. Давеча моя Аграфена туда по грибы ходила да серого супостата ненароком у сосны повстречала. Заголосила – и тикать. Чуть не померла со страху!
– В Гурьевом овраге, говоришь?.. – Денис спрыгнул с лошади, призадумался: «А что, если предпринять облаву да и разыскать логово?!»
Вскорости он зашел в избу к бывалому волчатнику, пасечнику Тимохе, поведал ему о волках и подбил его на охоту.
Тимоха посоветовал Денису взять с собой стаю гончих, а также прихватить крестьян и ребятишек. Ибо и для кричан-облавщиков дело найдется. Рассказал ему об облавных охотах, обратил его внимание к осторожности, предостерег от беспорядочной и дальней стрельбы.
Еще с вечера в день осенней охоты в доме Давыдовых на «мужицкой половине», где размещалась молодецкая компания – пасечник Тимоха, крестьяне и их ребятишки, – царило оживление.
Бывалый волчатник Тимоха разбудил Дениса и его брата Евдокима потемну. Все собрались у крыльца. При зыбком свете свечей начали спешно снаряжаться на охоту.
Тимоха долго натягивал задубелые сапоги. Денис разыскивал куда-то запропастившийся в последний момент дробовик. Он перетянулся ременным поясом, подвесил к нему острый охотничий нож. Тут же, на ходу, они пили из крынок молоко и закусывали ржаным хлебом с сыром.
Снарядившись, честная охотничья компания сбежала с крыльца и, вооружившись палками и вилами, направилась к заросшему лещиной, ольхой и малинником оврагу.
День за днем убывал август. Погода стояла отменная. Ясно и зябко было кругом, лист не шелохнет. Солнце еще не исходило. От реки медленно поднимался и стлался по земле густой туман. В воздухе витали еле уловимые запахи мяты и потаенной свежести.
У Тимохи на плече висело ружье. Денис с дробовиком брел чуть поодаль.
Облавщики шли лугами, а затем поднялись на пригорок, откуда начинался лес. Невдалеке темнел Гурьев овраг.
Рыжий, поджарый, с рваным ухом гончак Соловей, принюхавшись к траве, попетлял по кустам, взял след волка и дал знать голосом охотникам.
– Улю-лю-лю, о-го-го! Бери его! – подзадорил кобеля Тимоха и затрубил в рог.
За Соловьем бросилась вся стая. Пискляво заголосила Скрипка, почуяв красного зверя. Густым басом заревел Буран. Валом повалили гончаки.
Громко и зычно порскал и подбадривал собак бывалый волчатник.
Сонный утренний лес пробудился, застонал, завыл, заулюлюкал.
Гонцы стаей пошли по волчьей тропе, петлявшей по сырым местам. Тропа увела их в чащу. Собаки бежали далеко, отбив от выводка и неотлучно преследуя матерых.
У кромки леса, возле пастушьего шалаша, где остановился пасечник Тимоха, уже сидели и стояли крестьяне, взрослые и ребятишки, все с дубинками, с колотушками.
Честная охотничья компания направилась к месту первого загона. По мере того как она продвигалась вперед, говор стихал, а когда подошли к густой, чуть тронутой желтизной лощине, шум разом смолк. Ребятишки изредка переговаривались шепотком. Облавщики, разделившись на два крыла, разошлись в разные стороны и скрылись в лесу.
Линия стрелков, поставленная Тимофеем на лазах, вытянулась вдоль опушки. Каждый выбрал и занял здесь свое укромное место.
Разгоряченный Денис зорко поглядывал из-за ствола березы. Трудно передать словами то волнение и азарт, которые охватывают охотника, в особенности столь молодого и горячего, как Денис, да еще при первых призывных звуках начавшегося гона. Сердце Дениса забилось часто-часто, по телу пробежала неудержимая дрожь, и он, затаив дыхание, напряг слух и зрение, ожидая, что вот-вот из-за ближнего дерева или куста покажется голова лютого зверя. Меж тем на правом крыле загонщиков что-то стряслось, их голоса потонули в тиши. Денис смекнул: значит, они спустились в низину. Вдруг гул в стороне загона поднялся вдвое сильнее прежнего, крики и стукотня дубинками звучали все громче, яростнее. То были уже не слабые покрикивания, а густой, нарастающий рев. Порой среди гона выделялся резкий крик: «У-лю-лю! Вот он! Вот! Бей его! Бей!», «Ух, добери, добери его!»
Облава приближалась. Волнение охотников, притаившихся в кустах, за стволами, за валежинами вдоль опушки усиливалось с каждой минутой. Длиннохвостые лесные сплетницы-сороки, треща и покрикивая, перелетали с ветки на ветку. Но вот наступила тревожная перемолчка. Денису сначала показалось, что загонщики приустали, и даже подумалось: небось волки ушли. И тут внезапно он обомлел: справа от него прямо к тому месту, где схоронился за пнем Евдоким, бежали, перепрыгивая через мшистые кочки и кусты, два матерых зверя.
Сколь ни ждал Денис волков, но все же поразился спокойствию и внезапности их появления. Не мешкая, он тотчас же вскинул дробовик, прицелился и выстрелил в голову по ближнему от него зверю. Серый широколобый, со стоячими, чуть направленными вперед ушами, матерый волчище взвизгнул и крутнулся на месте. Затем дрогнул и ткнулся остроносой мордой в высокую пожухлую траву. А другой хищник сиганул в кусты.
Денис от несказанной радости затрубил в рог.
Меж тем его брат Евдоким побледнел, дрожащей рукой выстрелил неловко вслед уходящему зверю и – промахнулся.
Вдогон волку один за другим прогремели выстрелы. Но было уже поздно. Зверь, целый и невредимый, скрылся из глаз.
– С полем, Денис Васильевич! – поздравили его охотники. Удалой стрелок спустился в низину, побрел к ручью и приметил на краю оврага возле вывернутой с корнями громадной ели обглоданную кость и куриные перья. И тут два большеголовых волчонка мелькнули в кустах и скрылись под выворотнем.
Денис во весь дух пустился к Тимохе и горячо поведал ему и ребятишкам о логове.
Захватив с собой вилы и палки, они вскорости окружили волчий «дом». Пасечник прикрыл вход под выворотнем сермяжным мешком. А потом, сноровисто работая вилами, выкатил оттуда одного за другим пять волчат.
– Ну что, барин, порешим чертово племя? – спросил он Дениса, а сам тем временем крепко-накрепко завязал мешок, чтобы волчата не убежали.
– Нет, Тимофей, мне их жаль. Пускай до поры у нас в сараюхе поживут. Отец их в Москву свезет. Сказывают, там нынче волки в цене.
С той памятной охоты Денис с егерями, крестьянами и ребятишками не раз участвовал в облавах на волков. Вихревая скачка на коне, смекалка и меткая стрельба из дробовика – все эти охотничьи навыки, позволявшие чувствовать себя храбрым и сильным, словом, победителем, ой как пригодились ему потом в ратном деле.
Вечерами при свечах он допоздна зачитывался книгами из библиотеки отца по военной истории. Знаменитый Итальянский поход Суворова и неслыханный по смелости и отваге переход через Альпы в Швейцарию прославили русского полководца на всю Европу. Денно и нощно Денис грезил о военной службе.
Часть ВТОРАЯ
Дерзкие творения юного кавалергарда
Ужасен меч его Отечества врагам – Ужаснее перо надменным дуракам! Федор ТолстойСловно стайка быстрокрылых голубых стрекоз над рекой, пронеслись солнечные, резвые и беспечные детские годы Дениса. Настала юность. Следуя заветам Суворова, он избрал себе военное поприще. Семнадцати лет от роду, в 1801 году, Денис простился с отчим кровом в Москве. Отец и матушка благословили сына на прощанье и снарядили кибитку с тройкою гнедых коней и бородатым кучером Пантелеем на козлах. Родители дали Денису с собой четыреста рублей ассигнациями и отправили в Петербург на военную службу. Там он намеревался поступить в самый блестящий придворный полк конной гвардии – кавалергардский.
На всю жизнь запомнились Денису кони: гордые, вихревые, сильные, с бурыми подпалами в паху, маха широкого. Норовисто храпят, метят укусить – держи ухо востро! А у одного коня, Ястреба, черный, налитой кровью глаз навыкате.
Песни дорожные, известно, долгие, заунывные, ветровые. Затягивал их Пантелей в пути не торопясь, вполголоса. В особенности мила была ему протяжная ямщицкая «Лучинушка»:
– Лучинушка, лучинушка березовая! Что же ты, лучинушка, не ясно горишь, Не ясно горишь, не вспыхиваешь? Али ты, лучинушка, в печи не была? – Я была в печи вчерашней ночи, Лихая свекровушка воду пролила, Воду пролила, меня залила...Начиналась «Лучинушка» грустью да сердечной тоской, а заканчивалась удалым разгульем да радостью от встречи с любимым.
Из-за малого роста зачисление в гвардию в северной столице прошло с трудностями. Родственникам пришлось пообивать пороги, похлопотать. Но, несмотря на преграды и огорчения, столь желанная военная служба забрезжила на горизонте в розовой дымке.
Бросившееся в глаза в утренней газете сообщение в траурной рамке о внезапной смерти после апоплексического удара известного всему городу шумными кутежами графа, погасило было на мгновение доброе настроение Дениса. И все же пылкому юному воображению рисовалась быстрая военная карьера, воистину головокружительная, полная волнующих обольщений и встреч, балов, восторгов, надежд. Полюбовавшись игрой солнечных лучей на заснеженной набережной Невы, ликующий Денис, в новеньком, с иголочки, мундире гвардейца, решил проведать своих петербургских родственников.
Первый визит новоиспеченный кавалергард нанес двоюродному брату и покровителю Александру Михайловичу Каховскому. С крепкой воинской закалкой, широко образованный офицер служил прежде в адъютантах у Суворова и проживал на Галерной. Однако вместо горячего поздравления с поступлением на действительную службу эстандарт-юнкером восторженный юноша, ценивший брата за «необыкновенно острый ум», услышал от него такие слова:
– Что за солдат, брат Денис, – говорил, едко посмеиваясь, Каховский, – который не надеется быть фельдмаршалом! А как тебе снести звание это, когда ты не знаешь даже того, что необходимо знать штаб-офицеру?
Сперва Денис вспыхнул, обиделся, но с покорностью выслушал справедливые суждения брата о трудностях ратной службы. Расстались родственники прохладно.
Слова Каховского больно задели самолюбие юноши, однако вскоре он осознал, что и впрямь недостаточно образован для высокого звания офицера. И сразу же принялся восполнять сей пробел: накупил уйму книг, особое внимание обращая на любимую им военную историю, а также фортификацию и картографию. Денис продолжил заниматься французским языком, которому в детстве обучал его незабвенный мсье Шарль Фремон. Увлекшись литературой, с интересом читал Ломоносова, Державина, Мольера, Шекспира, Буало... С тех пор книги сделались его верными друзьями, а чтение – насущной потребностью и страстью на всю жизнь.
Поначалу Денису нелегко пришлось в армии. По его собственному признанию, частенько надо было потуже затягивать ремень, хлебать пресные щи да жевать картошку. Ежедневная муштра и аресты выбивали его, как говорится, из седла, но ненадолго.
Шутливо и с горькой иронией вспоминал он в автобиографии первый и такой знаменательный день своей воинской службы в придворной кавалергардии среди сынков знатных и богатых вельмож, означенный 28 сентября 1801 года.
В этот день «...привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и треугольною шляпою...»
Промыкав год юнкером, Давыдов получил звание корнета. Жалование ему начислили весьма скромное – около трехсот рублей в год. Ни о какой парадной одежде и богатых пирушках с друзьями Денис и мечтать не мог. Впоследствии Давыдов писал своему закадычному другу, поэту Петру Вяземскому, что с юности он «ненавидел этот гранитный северный град», ибо в нем подавлялись любые пламенные порывы. Недаром сложилась пословица: в строгом холодном Петербурге – съежишься, а в утробной Москве – размякнешь! Но как бы круто ни приходилось, свою воинскую службу он нес с честью, исправно дежурил в карауле близ императорских покоев Зимнего дворца и неизменно пользовался у офицеров доброй репутацией.
В кавалергардском полку Давыдов выкраивал свободные минуты для «бесед с музами». На нарах ли солдатских, на столике у окна, в эскадронной конюшне, да и где придется, «писывал он сатиры и эпиграммы, коими начал словесное поприще свое». Широкую известность получили его басни. «Река и Зеркало», «Голова и Ноги», «Сон», «Орлица, Турухтан и Тетерев». Они отличались злободневностью и необычайной смелостью, передавались в списках из рук в руки, зачитывались.
В басне «Голова и Ноги» под уставшими, натруженными Ногами разумелось служивое дворянство, а под сумасбродной Головой царь:
Уставши бегать ежедневно По грязи, по песку, по жесткой мостовой, Однажды Ноги очень гневно Разговорились с Головой: «За что мы у тебя под властию такой, Что целый век должны тебе одной повиноваться...»Столь внезапный выпад «невольников» разгневал Голову, и она тут же пресекла «дерзких»:
«Молчите, дерзкие, – им Голова сказала, – Иль силою я вас заставлю замолчать!.. Как смеете вы бунтовать, Когда природой нам дано повелевать?»В конце басни Ноги «деликатно» предупреждают Голову:
«Да, между нами ведь признаться, Коль ты имеешь право управлять, Так мы имеем право спотыкаться И можем иногда, споткнувшись, – как же быть, – Твое Величество об корень расшибить...»Иными словами, если царь будет «управлять» по своему произволу, то дворяне могут его в любой момент низвергнуть.
В 1801 году заговорщики-офицеры ночью проникли в Михайловский замок в Петербурге и задушили Павла I, страстного поборника прусских порядков.
С молниеносной быстротой басня распространилась в списках по Петербургу и наделала там много шума. Офицеры ожидали реформ от нового монарха и надеялись на возврат суворовских порядков в армии...
Юный кавалергард развенчивал и клеймил в баснях и эпиграммах спесь и самодурство, ложь и лицемерие, воспевал истинных героев Отечества, добывавших славу кровью и потом на поле брани. «Все пьесы его в этом роде замечательны особенным характером, какою-то бойкостью, живостью и резвостью краткой речи, меткостью насмешки, ничем не подслащенной. Сатирические приемы его не разводятся даже в аттической соли, а даются пополам с перцем или посылаются, как ружейные выстрелы, с порохом и дробью: они жгут и бьют. От них глупость краснеет. Эпиграммы его имеют по тону своему сходство с эпиграммами Пушкина, который, так же, как и Давыдов, оставлял в стороне деликатность там, где надобно было поразить глупость или подлость», – писал в «Отечественных записках» литературный критик Галахов.
Поводом к созданию басни «Орлица, Турухтан и Тетерев» послужила немилость Александра I к мудрому и дальновидному полководцу, соратнику и другу Суворова, Михаилу Илларионовичу Кутузову. Царь не замедлил дать ему отставку от всех должностей, сославшись на необходимость поправки сильно пошатнувшегося здоровья фельдмаршала.
Действие своих разительных «стрел» Давыдов перенес в мир пернатых. Под Орлицей разумелась справедливая и просвещенная Екатерина II.
Орлица Царица Над стадом птиц была, Любила истину, щедроты изливала, Неправду, клевету с престола презирала. За то премудрою из птиц она слыла...Екатерина II противопоставлялась восшедшему после ее кончины на престол «птичьего царства» Турухтану – Павлу I.
А он – Лишь шаг на трон, То хищной тварью всей себя и окружил: Сычей, сорок, ворон – в павлины нарядил, И с сею сволочью он тем лишь забавлялся, Что доброй дичью всей без милости ругался: Кого велит до смерти заклевать, Кого в леса дальнейшие сослать, Кого велит терзать сорокопуту – И всякую минуту Несчастья каждый ждал...В басне все происходило в соответствии с недавним дворцовым переворотом. После убийства Турухтана на «птичий трон» взлетел глуховатый Тетерев – Александр I.
И все согласно захотели, Чтоб Тетерев был царь. Хоть он глухая тварь, Хоть он разиня бестолковый, Хоть всякому стрелку подарок он готовый, – Но все в надежде той, Что Тетерев глухой Пойдет стезей Орлицы... Ошиблись бедны птицы! Глухарь безумный их – Скупяга из скупых, Не царствует – корпит над скопленной добычью И управлять другим несчастной отдал дичью.Неспроста за царем Александром I припечаталась кличка – «Глухой Тетерев». Заканчивалась басня весьма недвусмысленно:
Ведь выбор без ума урок вам дал таков: Не выбирать в цари ни злых, ни добрых петухов.Один из списков этой басни, сделанный А.Т. Болотовым, был сопровожден таким весьма резким примечанием: «Сие хотя ловко сочиненное, но дерзкое и ядом и злостью дышащее и сожжения достойное стихосплетение пошло в народе в начале 1805 года. О сочинителе всеобщая молва носилась, что был он некто г. Давыдов, человек острый, молодой, но привыкнувший к таковым злословиям».
В сатире «Сон» «воспеты» люди, в поступках и делах которых внезапно проявились невиданные дотоле добродетели. К сожалению, сия разительная и «счастливая перемена» оказалась всего-навсего сном.
Во всем счастливая явилась перемена, Исчезло воровство, грабительство, измена, Не видно более ни жалоб, ни обид, Ну, словом, город взял совсем противный вид И все, что видел я, чем столько веселился – Все видел я во сне, всего со сном лишился.Сатиры и басни Давыдова, ходившие в списках, наделали неслыханный шум не только в Петербурге, но и далеко за его пределами.
Высшее начальство, ознакомившись с «дерзкими творениями» поэта-кавалергарда, тотчас же воспылало гневом: «Сочинитель – волнодумец! Подстрекатель к бунту!». 13 сентября 1804 года «за оскорбление почтенных особ» Давыдова исключили по строжайшему приказу царя из гвардии. Из Петербурга его перевели в армейский Белорусский гусарский полк. Полк этот располагался в захолустном местечке Звенигородки Киевской губернии. В те годы подобная ссылка давалась офицерам за весьма серьезные проступки.
С тревогой и грустью прощался он с Петербургом, со своим мятежным и вольнодумным братом Александром Каховским, с друзьями-кавалергардами и отправлялся в дальний путь, чтобы продолжить службу в провинции. Но, как говорится, нет худа без добра. Вопреки тяжким предчувствиям гусары встретили молодого смутьяна весьма радушно.
Первым делом по приезде Давыдов представился полковому начальству, а затем решил написать письмо матушке в Москву. Внезапно в дверь громко постучали и в комнату вбежал гусарский поручик. Одет он был небрежно: кивер задран на макушку, ментик чудом держался на плече. Зато пшеничные усы – краса гусара – были лихо закручены вверх. Голубоглазый офицер шагнул к столу, за которым сидел Давыдов, подмигнул ему как старому другу и непринужденно спросил:
– Стихи пописываешь? – и тут же протянул ему руку. – Будет дуться... Давай знакомиться. Поручик Алексей Бурцов!
Денису еще в Петербурге довелось слышать от офицера Шинкарева о гусаре Бурцове, как об одном из самых лихих, бравирующих своей удалью людей.
– Постой-постой, да я о твоих «подвигах» наслышан, – припомнил и широко улыбнулся Давыдов.
– Да и мы ведь не лыком шиты. Мы тоже о тебе кое-что знаем, – в свою очередь признался Бурцов. – Гусарам в нашем полку пришлись по душе твои песни да басни. Ведь тебя и «прикомандировали-то» к нам неспроста.
Тут Бурцов отошел к двери, преобразился и начал громко декламировать первые пришедшие на память строки из басни «Река и Зеркало»:
За правду колкую, за истину святую, За сих врагов царей, – деспот Вельможу осудил: главу его седую Велел снести на эшафот...– Ну да будет! – Давыдов резко оборвал гусара. – Помни и знай наперед: отныне я зарекся писать стихи. Не до них мне...
– Не больно-то горюй! – стал успокаивать его Бурцов. – У нас тут дух вольный, не то что у ваших, подпирающих потолки кавалергардов. Мазурку на балах пляшем, веселимся через край, голубой пламень пунша рекой катится...
– Да ты, как я погляжу, и впрямь буйный!
Вскорости Денис с головой окунулся в разудалую гусарскую жизнь и так поминал в автобиографии о сих веселых беспечных деньках: «...Молодой гусарский ротмистр закрутил усы, покачнул кивер на ухо, затянулся, натянулся и пустился плясать мазурку до упаду».
Давыдов крепко сдружился с отчаянным рубакой, кутилой, острословом и полковым донжуаном Алексеем Бурцевым.
Длинная трубка в зубах, ментик, чудом держащийся на макушке, закрученные колечками усы, цветастая своевольная речь и непредсказуемые, полные риска поступки Алексея прямо-таки очаровали Давыдова. Бурцов на скаку срезал саблей цветок с земли, мог вызвать на дуэль любого зарвавшегося хвастуна, выпить на спор две бутылки доброй горилки или переманить от увальня-жениха раскрасавицу-невесту. В честь гусарского поручика он сочинил разудалые «залетные послания»:
Бурцов, ты – гусар гусаров! Ты на ухарском коне Жесточайший из угаров И наездник на войне!..Послания эти пелись повсюду под гитару и пользовались у офицеров громадным успехом. Они-то, пожалуй, одарили гусара-поэта славой не меньшей, чем его хлесткие басни и эпиграммы. «Каждый молодой офицер воображал себя Бурцовым, – вспоминал позднее современник Давыдова. – И стремился во всем подражать гусарскому поручику...» Не прекращая крепкой дружбы с музами, ротмистр Давыдов писал стихи и песни, прославлявшие вольную жизнь и подвиги гусар.
Весел, буен и беспечен гусар лишь в мирные дни, а завтра, если грянет война, ему будет не до вина, не до гульбы:
Стукнем чашу с чашей дружно! Нынче пить еще досужно, Завтра трубы затрубят, Завтра громы загремят...Поэт призывает воина на «иной пир»:
...Но чу! Гулять не время! К коням, брат, и ногу в стремя, Саблю вон – и в сечу! Вот Пир иной нам Бог дает, Пир задорней, удалее, И шумней, и веселее... Ну-ка, кивер набекрень, И – ура! Счастливый день!Для стихов и песен Давыдова характерна внезапная, решительная перемена настроения, резкий поворот от безудержного разгула да веселья к вихревой, яростной, громовой сечи – лишь там в полную силу проявлялась доблесть гусара. Поэтический слог его легок, звонок, раскован.
Бурцов, ёра, забияка, Собутыльник дорогой! Ради Бога и... арака Посети домишко мой! В нем нет нищих у порогу, В нем нет зеркал, ваз, картин, И хозяин, слава Богу, Не великий господин. Он – гусар, и не пускает Мишурою пыль в глаза, У него, брат, заменяет Все диваны куль овса. Нет курильниц, может статься, Зато трубка с табаком, Нет картин, да заменятся Ташкой с царским вензелем!«Лихой гусар» Бурцов у Давыдова прежде всего «молодец» – приверженец Бахуса, острослов, бретер, но отнюдь не пошляк и пропойца. Когда же затрагивались честь и достоинство офицера, в особенности по отношению к слабому полу, безудержный повеса и острослов тотчас становился рыцарем. Кутежи в молодости Давыдова были столь же привычны, как и дуэли, на которых многие офицеры сложили свои буйные головы.
В стихах и песнях «поэта-храбреца» видна вся широта, удаль и непосредственность русской натуры, олицетворением которой являлся сам автор:
Нет, братцы, нет: полусолдат Тот, у кого есть печь с лежанкой, Жена, полдюжины ребят, Да щи, да чарка с запеканкой! Вы видели: я не боюсь Ни пуль, ни дротика куртинца, Лечу стремглав, не дуя в ус, На нож на дротик кабардинца...Год от года совершенствуя свой стих, пламенный гусар, в сердце которого неустанно колотился «никогда не дремлющий бес», то бишь поэтическое вдохновение, стал одним из первых талантливых создателей русской военной песни. Здесь у него не было «ни поддельников, ни подражателей». Возмужав и приобретя боевой опыт, Давыдов с летами почувствовал себя в поэзии столь же легко и свободно, как в седле любимого коня. Он умел в стихах и грустить, и едко иронизировать, и смеяться в полный голос, и шутить, и мечтать...
Пусть не сабельным ударом Пресечется жизнь моя! Пусть я буду генералом, Каких много видел я! Пусть среди кровавых боев Буду бледен, боязлив, А в собрании героев Остр, отважен, говорлив! Пусть мой ус, краса природы, Черно-бурый, в завитках, Иссечется в юны годы И исчезнет, яко прах!Разудалые гусарские песни и стихи Давыдова рождались из самой жизни, словно буйное, пенистое, искристое вино из гроздей винограда.
«Набег» на фельдмаршала Каменского
Мы оба в дальний путь летим, товарищ мой, Туда, где бой кипит, где русский штык бушует... Денис ДавыдовДень ото дня распаляясь, кровавая заря полыхнула над Западной Европой – французская армия во главе с Наполеоном Бонапартом покоряла одну страну за другой. На авансцену вышел новый повелитель мира – Бонапарт. Упоенный чредой громких побед, дерзкий и сумасбродный корсиканец приказал отчеканить медаль с изображением Вседержателя Бога и вокруг нее выбить слова: «Тебе небо, а мне земля!»
В один год рухнули плоды блистательных побед Суворова в Италии, прославившие на весь мир непобедимость и бесстрашие солдат русских.
Французы разгромили австрийцев под командованием генералов Мака и Вернека и заняли Вену. Голову триумфатора-Наполеона увенчала императорская корона, которую он торжественно возложил на себя в 1804 году. И честолюбивый корсиканец со своей армией двинулся далее, к русской границе.
Александр I не замедлил прийти на помощь австрийским союзникам. Он решил возглавить войска и нанести французам сокрушительный удар. План войны с Бонапартом разрабатывался австрийским штабным генералом Вейротером и заключался в перекрытии дорог, ведущих на Вену и Дунай, дабы посадить зарвавшихся французов в «мешок». Однако штабист не учел главного: Наполеон вовсе не робкого десятка, он не бежит от превосходящего численностью противника, а искусно лавирует и наносит сокрушительные удары в самые уязвимые места. А таковых немало оказалось на линии дислокации австро-русских войск. Главнокомандующий же русскими войсками М.И. Кутузов фактически был устранен.
Перед решительным сражением Наполеон еще раз продемонстрировал Европе свое великолепное актерское мастерство. Он прикинулся слабым и немощным перед русским царем Александром I. В подтверждение этого Бонапарт послал своего генерал-адъютанта Савари с предложением о перемирии. Савари должен был также передать Александру I пожелание своего императора о личной встрече. Если царь не сможет повидаться с Бонапартом, то пусть он не сочтет за труд прислать к нему доверенное лицо для переговоров. Узнав о таком повороте дела, русский штаб возликовал, а легковерный Александр меж тем уже в тайне праздновал победу! Мудрые суждения любимца солдат Кутузова, который вовсе не советовал доверять сильному и коварному врагу, при дворе осмеяли. Словом, царь просто-напросто пренебрег предостережениями опытного и мудрого полководца.
2 января 1805 года, ровно через год после коронации Наполеона, на холмистом заснеженном поле вокруг Праценских высот, западнее деревни Аустерлиц в стадвадцати верстах к северу от Вены, произошло генеральное сражение. Одно из самых значительных по своему ожесточению, жару и кровопролитию во всемирной истории. Наполеон подоспел к месту битвы раньше своих противников, тщательно изучил местность и заранее предусмотрел многие грядущие перипетии. Ночь перед боем император провел с солдатами у костров, вселяя в их души спокойствие и уверенность в победе. Гвардейцы любили своего Маленького Капрала, беззаветно верили ему.
Наполеон, руководящий битвой с ее начала и до самого конца, устроил для русских генералов коварную ловушку. Он заранее предвидел, что войска под руководством Александра I в союзе с австрийцами будут во чтобы то ни стало стремиться отрезать движение его армии от дороги к водам Дуная, намереваясь окружить французов и уничтожить их или отогнать к северу, в горы. Как только русские войска двинулись, дабы сокрушить левый фланг армии Наполеона, последовал мощный внезапный удар французов на Праценские высоты. Русские воины были опрокинуты и прижаты к полузамерзшим прудам. Праценские высоты захватил неприятель. Сотни солдат утонули в прудах, многих посекла картечь. Лишь части кавалергардов удалось вступить в неравный бой с конными гренадерами французской армии. Кавалергарды проявили чудеса героизма на поле кровавой битвы.
Наполеон восхищался храбростью русских солдат и был удивлен тем, сколь растеряно и бездарно вели себя генералы, в особенности командующий левым крылом русских войск генерал Буксгевден. В довершение трагедии австрийский император Франц и русский царь Александр I бежали с кровавого поля сражения задолго до его позорного завершения. Пышная свита монархов мгновенно рассыпалась в разные стороны, бросив своих господ на произвол судьбы.
Под Аустерлицем австрийцы были разбиты наголову. А для Наполеона вновь взошло нестерпимо яркое «солнце победы». По сему торжественному поводу он обратился к своим солдатам с горячим воззванием: «Воины! Вам достаточно будет упомянуть: я участвовал в битве под Аустерлицем, и сразу же воскликнут: вот храбрец!».
Однако не следует забывать (и сами французы неоднократно упоминали это): в той яростной битве, в столь тяжкий для русских солдат день особенно отличились кавалергарды. Все как один они полегли на поле брани, но своей удалью и беспримерным геройством спасли честь русской гвардии.
Под сумрачным, казалось бы насквозь пронизанным мраком и холодом, небом Аустерлица Россия горько расплачивалась за отсталую, заимствованную у Пруссии палочную военную систему.
В это время поступил приказ о переводе Давыдова из Белорусского армейского гусарского полка в лейб-гвардейский гусарский полк, стоявший в Павловске, близ Петербурга.
Жизнь новоиспеченного лейб-гусарского поручика текла там ладно и весело: «...у нас было более дружбы, чем службы, более рассказов, чем дела, более золота на ташках[2], чем в ташках, более шампанского (разумеется, в долг), чем печали...»
Весть о поражении под Аустерлицем мгновенно долетела до Петербурга. Павловские гусары бурно и горячо обсуждали события в Европе. Денис Давыдов получил горестное известие о том, что брат Евдоким, сменивший статскую службу на военную, тяжело ранен: пять сабельных ударов, одно пулевое и одно штыковое. Потеряв сознание на Праценских высотах, он попал в плен к французам. И лейб-гусарский поручик стремглав понесся из Павловска в северную столицу, страстно желая во что бы то ни стало поступить в действующую армию. Однако повсюду он получал отказ за отказом. И Денис решился на поступок неслыханной дерзости: в четыре часа пополуночи он надел парадный мундир, набросил шинель на плечи и помчался разыскивать Офицерскую улицу. Там в гостинице «Северной» остановился главнокомандующий армией фельдмаршал граф Каменский. Столь неурочный час Давыдов выбрал неспроста: дни напролет, с утра до позднего вечера, Каменского атаковали толпы знакомых и незнакомых людей. Одни хлопотали о своих родственниках, другие просили высочайшего разрешения перевести их из штабов ближе к действующей армии, третьи страстно мечтали как можно скорее «порубать саблей да понюхать пороху».
С великим трудом поручик пробрался по темной, скудно освещенной ночниками лестнице на третий этаж и замер в коридоре гостиницы, у дверей 9-го номера, который занимал фельдмаршал.
От друзей Давыдов был наслышан о строптивом нраве Каменского, но несмотря ни на что решил ждать здесь до утра, дабы стать его первым посетителем.
Внезапно дверь распахнулась, и перед неподвижно застывшим поручиком возник ветхий, сухонький старичок в халате. Голова его была повязана белой тряпкой, в руках он держал потухший огарок свечи. То был сам фельдмаршал.
Увидев офицера, замершего у дверей, Каменский в нерешительности остановился и строго спросил хриплым голосом:
– Кто вы таковы?
Поздний гость назвал себя.
– К кому вы пожаловали?
– К вашему сиятельству.
– Так, так...
Каменский окинул подозрительного незнакомца с ног до головы жестким, презрительным взглядом. Невысокий стройный гусар был в голубых рейтузах и шитом золотом красном ментике.
– Виноват, ваше сиятельство, но у меня не было иного выхода. К вам на прием невозможно пробиться. Трижды пробовал – не получилось!
– И вы решили штурмовать меня в четыре утра... Как такое могло прийти вам в голову?! Как вам удалось миновать охрану?
– Виноват. Прошмыгнул старым казацким способом. Дозволите ли мне, ваше сиятельство, изложить просьбу?
– Следуйте за мною!
Давыдов из уважения к главнокомандующему хотел было остановиться, но тот грозно приказал:
– Нет уж, пожалуйте сюда!
Каменский воткнул свечу в подсвечник и напрямую спросил гусарского поручика:
– Что вам надобно?
– Ваше сиятельство, прошу немедля отправить меня в действующую армию!
– Да что за напасть такая! – граф Каменский вскипел, поднял глаза к потолку и стал расхаживать по спальне. – Все просятся сей же час в действующую армию! Всякий молокосос! Вконец замучили меня бесконечными просьбами! Да еще штурмуют мой номер в четыре утра!
– Я – гусар!
– Ну, конечно, гусар... Как же иначе! Да кто же вы таковы, наконец? Ваше имя?
Непрошеный гость еще раз повторил свое имя:
– Денис Давыдов.
– Какой Давыдов? Ба! Постойте, постойте... Неужто вы сын Василия Денисовича?
Поручик утвердительно кивнул.
– Как же! Как же! Знавал Василия Денисовича. Легкоконным полком командовал в Полтаве...
– Так точно, ваше сиятельство. Но я по собственной воле.
– О, какой горячий! Весь в отца... Кстати, где нынче Василий Денисович?
– Он бригадир в отставке. Живет в имении Бородино.
– Бородино! Это, кажется, где-то под Москвой?
– Точно так, ваше сиятельство. В ста верстах от Первопрестольной.
Фельдмаршал смягчился, начал говорить с участием, поименно перечисляя родственников Давыдова:
– Василий Денисович храбрый генерал. Да и покойного деда твоего, Дениса Васильевича Давыдова, тоже знавать довелось. Знатный был вельможа. Богатую библиотеку имел. И с другим твоим дедом, по материнской линии, генерал-аншефом Евдокимом Алексеевичем Щербининым, тоже довелось быть накоротке...
– Вот видите, ваше сиятельство! – воскликнул с радостью Давыдов.
– Ну хорошо, любезный! – одобрил главнокомандующий. – Нынче же буду просить тебя с собою. Расскажу государю все: и как ты ночью умудрился тайком прошмыгнуть ко мне в гостиницу, и как караулил у дверей моего номера, и как я тебя принял... – уж прости меня, старика! – за неблагонамеренного человека... За сущего разбойника!
– Простите, ваше сиятельство, меня великодушно, что побеспокоил вас в столь неурочный час.
– Нет, нет, не винись, юный Давыдов! – возразил Каменский. – Напротив, это мне приятно. Это я люблю. Вот что значит ревность неограниченная, горячая. Тут душа, тут сердце. Я это чувствую, ценю... Прощай!
В обратную дорогу Давыдов пустился, словно на крыльях, он считал себя уже командующим эскадроном, чуть ли не победителем Наполеона, и с нетерпением стал ждать решения государя.
На другой день Петербург прослышал о смелом набеге поручика на главнокомандующего. В доме фаворитки императора, красавицы Нарышкиной, только и разговоров было, что о дерзком наскоке юного гусара на строптивого старика. Чрезвычайный поступок Давыдова очень возвысил его в глазах этой всевластной женщины. Друзья дивились его неслыханной отваге и пророчили ему успех. Однако к великому прискорбию Давыдова, государь (видимо, припомнив крамольные басни юного кавалергарда) не счел возможным уважить просьбу фельдмаршала.
Узнав от Каменского о категорическом отказе государя, Давыдов помрачнел и совсем было отчаялся. Но вскорости по горячему ходатайству родственников и друзей (особенно подействовали на царя радушные и настоятельные рекомендации Нарышкиной) сбылась заветная мечта гусара: попасть на войну. Он получил назначение адъютантом к любимцу солдат князю Петру Ивановичу Багратиону, который отправлялся в действующую армию. От счастья «не кровь, а огонь пробежал по его жилам», а голова «оборотилась вверх дном».
Один из самых верных и преданных учеников Суворова, командовавший авангардом русской армии и прославившийся в знаменитом Итальянском походе, генерал Багратион крепко усвоил заветы великого полководца. Того же он требовал от своих солдат и офицеров. Недаром Суворов ставил Багратиона на самые трудные участки боевых действий, туда, где требовались храбрость, смекалка и выдержка. Темное грозовое облако, нависшее было над буйной головой Дениса Давыдова, рассеялось, поручик воспрянул духом – о лучшем в ту пору он и мечтать не мог.
Боевое крещение
Мне бой знаком – люблю я звук мечей, От первых лет поклонник бранной славы, Люблю войны кровавые забавы, И смерти мысль мила душе моей. А.С. ПушкинПо прибытии из Петербурга в Восточную Пруссию, в штаб действующей армии, Давыдов направился к генералу от кавалерии Беннигсену, самодовольному кабинетному начальнику из немцев, и вручил ему пакеты. Беннигсен возглавлял в ту пору русские войска. В штабе Денис Васильевич повстречал многих петербургских знакомых. Они плотным кольцом окружили новоиспеченного адъютанта Багратиона и забросали его вопросами: что нового в северной столице?
– Глупый ты человек, – выслушав Давыдова, сказал ему знакомый по Петербургу офицер Шинкарев. – Ну и занесло же тебя, в самое пекло! Дорого бы я дал, чтобы сей же час возвратиться домой. Ты еще не испытал, что такое война, потому и лезешь на рожон. Вот погоди немного, скоро понюхаешь пороха, попляшешь на сыром ознобном ветру, поголодаешь неделю-другую, – каково-то тогда запоешь?
Давыдов горячо возразил:
– Я наперед знал, куда и зачем еду. Ведь там, где воюют, нельзя и искать удовольствий. Война – не похлебка на стерляжьем бульоне.
– Да видал ли ты, поручик, как казака в бою саблей надвое разрубают?!
– Черт не попутает, свинья не съест! – отшутился Давыдов. – За Отечество и голову сложить почетно.
– Все это сущая блажь, поручик: слава, ордена, почести... А я вот в рукопашной не раз дрался да по кровавому, дымному полю средь мертвых и калек ползал. Быстро протрезвел. Запомни: не все то золото, что блестит...
– Знамо дело, – кивнул Давыдов и пропел:
То ли дело средь мечей! Там о славе лишь мечтаешь, Смерти в когти попадешь, И не думая о ней!– Что верно, то верно, Давыдов. А ну, спой-ка еще что-нибудь! Лихо у тебя получается... Кто знает, может, завтра и встретиться боле не доведется...
– Что ж, послушай:
Завтра трубы затрубят, Завтра громы загремят...Или лучше вот эту:
Станем, братцы, вечно жить Вкруг огней, под шалашами, Днем – рубиться молодцами, Вечером – горилку пить. Станем, братцы, вечно жить Вкруг огней, под шалашами! -вполголоса затянул Давыдов.
На другой день он купил себе доброго коня и отправился догонять передовые части армии под командованием генерала Багратиона.
Молодого офицера волновало все, что он видел вокруг себя и строящиеся полки пехоты, и нетерпеливый топот копыт, и ржанье коней, и артиллерия, готовая к бою, и стук пушечных колес, и зов полковых труб, и бой барабанов...
Накануне выступления армии в поход он несказанно обрадовался: «Наконец-то я попал в родную стихию!» Но когда взору Давыдова представилась картина настоящей войны, которую он увидел на равнине недавно остывшей Морунгенской битвы, где русские войска под командованием генерала Маркова понесли урон, его пыл и восторг заметно поубавились.
Пред ним предстала равнина смерти, с посеченной картечью конницей, с горами мертвецов... Неподвижные тела солдат отверстыми, тусклыми очами глядели в небо. Однако им не суждено уже было ничего увидеть вокруг себя. Тела воинов были разбросаны и обезображены в пылу страшного и грозного пира. Мрачный вечер наводил синеватую бледность на недавно еще столь пылкие лица. Поутру, перед битвой, тут еще бушевали страсти, играли надежды, сияли ясные очи, не ведающие горечи поражения.
– Ну что, бравый гусар, ты по-прежнему столь же неколебим и тверд духом? – спросил Давыдова Шинкарев.
– Не до веселья мне...
– Выходит, сознание твое помутилось... Ты спасовал, Денис?
– Никоим разом! Я верен присяге, я слуга Отечества! Буду с честью воевать до победы.
– Ну что ж, – усмехнулся Шинкарев. – Юн – с игрушками, а стар – с подушками...
– Не понимаю тебя, Яков? Поясни!
– Поймешь, когда повоюешь с мое, когда вдоволь понюхаешь пороха!
Впоследствии Давыдов не раз вспоминал этот разговор с Шинкаревым после кровавой Морунгенской битвы.
Багратион, квартировавший в просторном доме немецкого поселянина, радушно принял Давыдова. На голове генерала возвышался картуз из смушки, он кутался в бурку, из-под которой выглядывала шпага. Шпагу эту, дар Суворова за доблесть, проявленную в Итальянском походе, Багратион хранил как зеницу ока и не расставался с ней до конца жизни.
Свита князя одевалась тепло, но вовсе не нарядно. Поначалу это удивило Давыдова, а спустя несколько часов он и сам из-за жгучих крещенских морозов, свирепствовавших на дворе, тоже облачился в полушубок.
Страдные январские дни 1807 года русская армия, части которой были растянуты и ослаблены, под непрерывным натиском войск Наполеона медленно отступала к прусскому городу Прейсиш-Эйлау. За время службы военной Давыдову пришлось быть свидетелем многих бед и беспорядочных отступлений, но никогда и нигде не довелось видеть ничего подобного. Кавалерийские и пехотные колонны постоянно сталкивались с обозами и артиллерией – это затрудняло движение войск.
Вместо того чтобы разрядить гнетущую обстановку четкими приказами, генералы ругали друг друга и стремились поскорее проскочить со своими частями наиболее опасные места. Солдаты падали наземь от голода и усталости. Орудия и повозки застревали, цепляясь в пути за корни деревьев, и канониры с бранью рубили их, чтобы без препятствий следовать далее. На людей это производило гнетущее впечатление: «...ночь, лес, снег по колено. Неприятель на фланге!» Наконец передовые цепи казаков, улан и гусар объединились и сосредоточились неподалеку от деревеньки Вольфсдорф. 24 января – день, который до самой смерти запомнится новоиспеченному адъютанту Багратиона полными риска, погони и драматизма сшибками с французами. Давыдов принял здесь боевое крещение.
На рассвете неприятель стал атаковать полки Багратиона, стоявшие в арьергарде и прикрьшавшие главные силы армии.
Страстно желая поскорее расстрелять заряды своих пистолетов, Давыдов попросил дозволения у Багратиона объехать передовые цепи казаков: «Хочу вести наблюдение за продвижением врага».
Князь не замедлил дать согласие, и его адъютант на рысях поскакал туда, где клубился дым и гремели выстрелы.
Выстроившись полукольцом, казаки вели неторопливую перестрелку с фланкерами[3].
Пылкий адъютант на рысях поскакал вперед, решив нанести урон авангардной цепи неприятеля и во что бы то ни стало отличиться в бою. Минут через десять Давыдов был уже вблизи фланкеров. Приметив в стороне офицера в синем плаще и высокой медвежьей шапке, он задумал пленить его и начал подбивать на это казаков:
– А что, братцы, чем черт не шутит! Если навалимся разом всем скопом, ей-богу, возьмем француза!
Однако охотников на столь рискованный поступок среди казаков не нашлось. Тогда Давыдов, охваченный безрассудной лихостью, один поскакал к офицеру и выстрелил в него из пистолета. Неприятель ответил ему тем же. Над буйной головой адъютанта Багратиона просвистел рой пуль, выпущенных фланкерами из карабинов. Тут Давыдов почувствовал себя «окуренным порохом», выхватил саблю из ножен, отчаянно взмахнул ею над головой и стал вызывать офицера на поединок перед цепью, крича и ругая его. Но тот, усмехаясь, не трогался с места. Хладнокровный француз не решался связываться с молодым запальчивым русским.
В этот момент к горячему адъютанту подскакал могучий, косая сажень в плечах, казачий урядник и малость охладил его пыл:
– Что вы бранитесь, ваше благородие? Грех! Сражение – святое дело, ругаться в нем – то же, что ругаться в церкви. Пропадете в бою ни за грош. Ступайте-ка лучше туда, откуда приехали!
Как ни странно, но эти простые и верные слова бывалого казака образумили Давыдова, он повернул коня вспять и поскакал в штаб к Багратиону.
Вскорости князь послал его с поручением по линии огня к егерскому полку, который занимал недальний лесок:
– Передай мой приказ егерям. Пусть немедля оставляют позиции и отступают к Дитрихсдорфу. Там для арьергарда вторая позиция. Спеши! Не то француз окружит их и сомнет!
Давыдов вновь очутился на передовой линии, отыскал егерей и с честью выполнил приказ Багратиона.
На обратном пути к штабу он глянул возле леска по сторонам и приметил того самого могучего казачьего урядника, который своими разумными суждениями удержал его от легкомысленного поступка. По-прежнему стремясь как можно скорее поразить неприятеля, он подъехал к уряднику и указал на горстку французов:
– А что, брат, если б ударить?
Казачий урядник посмотрел на французских стрелков, прикинул и, оценив сложившуюся обстановку как весьма благоприятную, поддержал на сей раз Давыдова:
– Отчего же нет, ваше благородие! Их здесь немного. С ними теперь можно справиться. Давеча мы были далеко от пехоты, ну а теперь близко. Значит, есть кому поддержать нас.
– Ну так веди своих казаков! – крикнул ему разгоряченный Давыдов. Он рванул саблю из ножен и, припав к встрепанной, дымящейся гриве лошади, дал шпоры. Конь всхрапнул, оскалил зубы, нервно и отчаянно пошел в галоп. – А я примусь подбивать гусар и улан!
Собралась порядочная партия храбрецов и с криками «Ура-а-а!» устремилась на врага. Впереди с саблей наголо скакал Давыдов. Выгнув спину, напружинившись, привстав на стременах и припадая разгоряченным лицом к холке коня, он несся на врага. Французы засуетились и скучились, увидев, как быстро и напористо скачет впереди всадник с блещущей в руке саблей. Давыдов всем сердцем чувствовал, что расчет его теперь верен: неприятель будет смят и разбит. Когда подоспели казаки, завязалась жаркая сеча, посыпались сабельные удары – словом, пошла потеха!
Французы не ожидали столь яростной рукопашной атаки русских, дрогнули и начали отступать.
Преследуя по пятам фланкеров, казаки, уланы и гусары в азарте погони не заметили, как из леса выдвинулись резервы неприятеля и ударили по атакующим.
Теперь французы застали партию врасплох – то были драгуны с конскими хвостами, трепещущими на гребнях шлемов. Грянула пальба, засвистели пули над головами – завязалась горячая перестрелка. Однако силы были неравны, и на сей раз русские вынуждены были повернуть назад, к Дитрихсдорфу.
Когда Давыдов скакал один лощиною (как ему казалось, в полной безопасности, ибо драгуны отстали), внезапно впереди показались французские конные егеря. Увидев их, Денис дрогнул и стремглав пустился прочь.
Шесть егерей устремились в погоню за ним. Один, намереваясь пленить лихого гусара, на скаку ухватился рукой за полу его шинели и чуть не стащил всадника с седла. К счастью, шинель, оказавшаяся застегнутой лишь на одну пуговицу у горла, распахнулась и осталась в руках француза. Давыдов пошатнулся, но чудом удержался в седле.
Далее новая беда – лошадь его получила ранение, пала на колено, однако тут же вскочила и захромала. Меж тем адъютант дал ей шпоры и во весь опор продолжал скакать к своим. Скакал он до тех пор, пока взмыленный конь с пеной у рта не подвернул ногу о коварную кочку, пока не дрогнул всем телом и не рухнул со всего маху замертво, провалившись по брюхо в топкое заснеженное болото. Давыдов перелетел через голову коня, сжавшись на лету, точно рысь, в тугой комок, и грохнулся оземь. Перевернулся на бок, вскочил и, мигом собравшись духом, выхватил саблю из ножен, изготовился к бою. Французы, чувствуя за собой силу, нагло и выжидательно посматривали на пылкого молодого гусара. Еще секунда-другая – и смерть или плен были бы неминуемы. Боевое крещение Давыдова могло завершиться весьма печально. Но, на его счастье, в эти критические минуты из-за ближнего холма с криками «Ура-а-а!» и громким посвистом выскочили двадцать доброконных казаков. Обнажив сабли, казаки набросились на егерей и погнали их прочь. Адъютант Багратиона был чудом спасен от верной гибели.
Четверо французских конных егерей полегли в той жаркой сече.
Подавив дрожь от смертельной опасности, Давыдов вздохнул с облегчением и преклонил голову перед спасителями.
– Жарковато пришлось, ваше благородие? – спросил его казачий урядник.
– Куда как горячо! Ненароком чуть в плен не угодил.
– Бывает... Горячность – в бою помеха! Здесь завсегда твердый расчет нужен...
– Ну, спасибо тебе, братец! Век не забуду.
– Не стоит благодарности, ваше благородие. Все мы тут под Богом ходим.
Давыдов глянул в сторону дремучего леса. Старый бор был по-прежнему темен и тих, свято хранил тайны и, казалось, вовсе не заметил жаркой сечи, разыгравшейся только что в нескольких саженях от него.
«Дым, пальба, гибель людей, кровь, падение коня, внезапное громовое «Ура-а-а!», стоны раненых и этот замшелый глухой бор, живущий своей зеленой, сторонней и тайной жизнью», – все это еще раз пронеслось в сознании гусара и потрясло его до глубины души.
Давыдов пересел на лошадь из-под убитого егеря. Весь в снегу, болотной грязи и кровавых подтеках, сияющий прискакал в штаб.
Багратион соколиным взглядом окинул с ног до головы своего бравого адъютанта и со вниманием выслушал рапорт.
– Потерять в бою коня для гусара небольшой грех, – сказал князь. – Куда страшнее потерять оружие и честь. Но с этим, адъютант, я вижу, у вас все, слава Богу, обстоит благополучно. Хвалю за службу!
– Благодарю вас, князь, хотя вряд ли я достоин похвалы... Француз, бестия, шинель на скаку сорвал.
– Ничего-ничего, – ободрил Давыдова Багратион. – Шинель – дело наживное. С самим Суворовым случилось однажды подобное. В сражении с турками под Кослуджи.
– Александр Васильевич рассказывал нам.
– Как?! Вы были знакомы с Суворовым, адъютант? Позвольте! Вы же еще столь молоды?! Каким образом?
– Однажды полководец побывал в нашем доме после смотра маневров войск Екатеринославского корпуса... На званом обеде... Дело было в Полтавской губернии, в селе Грушевка. Мой отец командовал там первым легкоконным полком. И знаете, князь, Суворов тогда предсказал, что я выиграю три сражения...
– Ну что ж? – добродушно рассмеялся Багратион. – Первое, будем считать, уже за вами...
– За мной?.. Только вот вопрос: кто выиграл?
– Не беда, адъютант, – улыбнулся Багратион. – За одного битого двух небитых дают – так, кажется, любил говорить Суворов? Вместо сорванной неприятелем в бою шинели дарую вам свою бурку. Бурка эта со мною во многих походах побывала. Дымом окурена, порохом опалена... Она не раз спасала меня от жестоких морозов в Альпах.
– Благодарю вас, князь! Век буду служить вам верой и правдой.
– Не мне – Отечеству служим, гусар!
В пучине жарких сражений, в пылу яростных атак
Жизни бурно-величавой Полюбил ты шум и труд: Ты ходил с войной кровавой На Дунай, на Буг и Прут... Николай ЯзыковПосле боевого крещения под Вольфсдорфом Денис Давыдов постоянно находился на переднем крае. Русская армия вынуждена была отступать, избегая крупных столкновений с французами, то и дело атаковавшими наш арьергард, которым командовал Багратион. Князь искусно маневрировал, сдерживая натиск неприятеля и давая тем самым возможность подтянуться и соединиться главным силам армии, разбросанным по ухабистым зимним дорогам.
«Арьергардные бои тяжелы, полны лишений. Солдаты и офицеры наши терпели постоянную нужду в самом необходимом, – вспоминал один из боевых друзей Давыдова, служивший вместе с ним в те страдные дни. – Для Давыдова да и всех нас было привычным делом впроголодь ночевать в лесу или же на берегу реки, часто под дождем или снегом. Нередко мы коротали ночь в опустевшей избе, рухнув поздним вечером от усталости на пол, не раздеваясь. Не хватало соломы для биваков и дров для разжигания костров. Необходимо было довольствоваться тем малым, что Бог послал, дабы переносить все тяготы и лишения».
Видя неуклонное падение воинского духа в армии, барон Беннигсен решился наконец дать генеральное сражение французам при Прейсиш-Эйлау. На подмогу русским поспешил корпус прусского генерала Лестока. Сражение началось в полдень 26 января 1807 года и продолжалось до одиннадцати часов вечера 27-го, с коротким перерывом на ночь.
Небо над городом было хмурое. Порывистый стылый ветер крутил поземку. Наполеон поднялся на холм в центре большого кладбища и оттуда руководил боем. Сюда, в самое логово врага, Беннигсен направил свои отборные полки. Русские войска ошеломили французов и заставили их отойти назад. Бонапарт, презирая смертельную опасность, пристально следил за ходом боя и не раз восхищался мужеством русских воинов: «Вот это отвага! Что за храбрецы!» А заснеженная земля сплошь была завалена трупами. И над всей этой гибельной битвой, в вихревой бешеной пляске гуляла неусыпная пурга.
Наполеон намеревался, удерживая главные силы русской армии с фронта, корпусами войск маршалов Нея и Даву обойти их с флангов, окружить и уничтожить. Однако замысел императора не удался. В сражении при Эйлау обе стороны несли урон беспримерный.
...В одну из стремительных атак неприятеля русская пехота была оттеснена с занимаемых позиций. Видя это, Багратион приказал Давыдову: «Скачи-ка, братец, немедля к главнокомандующему! Проси подкрепления кавалерией!»
Давыдов застал Беннигсена в штабе. Генерал от кавалерии сидел в кресле и спокойно обозревал разложенную на столе карту. Адъютант Багратиона четко доложил ему обстановку. Выслушав недовольное брюзжание барона и получив наконец дозволение, Давыдов увлек за собой первый же попавшийся на глаза кавалерийский полк и помчался к своему арьергарду. Тем временем неприятель уже вошел в Эйлау и на улицах города закипел жаркий бой, то и дело переходя в рукопашный. Давыдов разыскал Багратиона в опаснейшем месте. Князь наблюдал за ходом баталии и хладнокровно отдавал приказы.
Адъютант оставался при князе на протяжении всего сражения, однако повсюду – в седле ли, на коротком привале при свете бивачного огня – улучал минуты, чтобы кратко, беглыми словами заносить в свою памятную книжицу достойные внимания перипетии боев.
Французы дважды овладевали городом и дважды вынуждены были отступать. В самый критический момент, когда кавалерия неприятеля пробилась через боевые укрепления русских, барон Сакен струсил и приказал войскам отходить.
Но князь Багратион обнажил саблю и, взяв на себя командование войсками центра, увлек солдат за собой. Завязался рукопашный бой, тот лихой, жестокий и полный азарта бой, в котором нет равных солдату русскому!
Неожиданной контратакой французы были смяты и отброшены. Корпус маршала Ожеро понес большие потери.
Давыдову надолго запомнилось то морозное январское утро... Заснеженное кровавое поле. Повсюду – трупы солдат. К спасительному темнеющему вдали лесу в панике бежали французы в голубых мундирах. Казаки внезапно врывались в расположение неприятеля, крушили его саблями и столь же внезапно, как появились, исчезали.
В яростном кровопролитном сражении при Прейсиш-Эйлау ураганный натиск противника разбился о стойкость, отвагу и беспримерное мужество наших солдат под командованием не ведавшего страха князя Багратиона.
Необычайно малый нос Давыдова дал в те жаркие дни князю Багратиону повод к добродушной шутке. А дело обстояло так... Как-то гусар Давыдов явился в авангард к князю с рапортом: «Главнокомандующий приказал доложить вашему сиятельству, что неприятель у нас на носу, и просит вас немедленно отступить». На сие Багратион усмехнулся и преспокойно отвечал: «Неприятель у нас на носу? На чьем? Если на твоем, так он близко, а если на моем, то мы успеем еще отобедать».
На другой день, едва город окутала темень, сражение прекратилось. На улицах горели дома. Отблески пожаров освещали серые от усталости лица солдат.
Солдаты русские находились по-прежнему в боевой готовности и ожидали приказов. Но командование обеих сторон пребывало в нерешительности: возобновлять ли поутру бой на том же месте или отступить и дать воинам передышку?
Узнав об огромных потерях своих войск, Наполеон счел сражение поигранным и решил отступить. Миф о непобедимости великого корсиканца был развеян. Его храбрые маршалы захотели мира. Брат Наполеона Жозеф просил его в своем слезном письме смилостивиться. Однако барон Беннигсен упредил Бонапарта: струсил и отдал приказ об отходе русской армии к Кенигсбергу.
Беннигсену говорили, что нельзя упускать победу, завоеванную столь дорогой ценой. Однако надменный барон оставался непреклонен. Он предоставил французам весьма важную и спасительную возможность собраться с духом и оправиться от крепкого потрясения.
Два года спустя император Франции в беседе с русским послом графом Чернышевым заявил: «Я был назван победителем под Эйлау потому только, что вам угодно было отступить».
За доблесть, проявленную в этом сражении, Дениса Давыдова представили к ордену Святого Георгия с белою по обеим сторонам финифтью, учрежденному императрицей Екатериной II для «награждения отличных военных подвигов и в поощрение в военном искусстве».
Наполеон не предпринимал до поры решительных действий, выжидая, когда его армия залечит тяжелые раны, полученные под Эйлау и когда ее ряды пополнят свежие резервы. Продовольствием и фуражом его войска снабжали пруссаки, подписавшие недавно выгодную для французов капитуляцию крепости Данциг.
2 июня 1807 года, спустя четыре месяца после Эйлау, у Фридлянда, в Восточной Пруссии, грянула новая битва. Накануне Беннигсен избрал для русской армии неудачную оборонительную позицию в форме дуги. Дуга эта лежала в пойменной долине, огибая город. Тылы русских ограждали берега реки Алле, это ограничивало маневренность войск.
Давыдов следил за перестрелкой, завязавшейся на заре. Под прикрытием густого тумана русские гренадеры забрались на колокольню и первыми доложили о приближении французов.
По правую сторону дуги расположились войска князя Горчакова, а по левую – Багратиона. Готовясь к битве, князь предвидел, что и на этот раз его полкам придется принять на себя главный удар, поэтому заранее просил у Беннигсена подкрепления.
Но вот гренадеры заметили с колокольни Наполеона. В треуголке и парадном мундире он скакал на белом коне в окружении пышной свиты, останавливался, обозревал в подзорную трубу окрестности и говорил, улыбаясь:
– О, сегодня счастливый день! Сегодня годовщина победы при Маренго!
Французы открыли по нашему левому флангу орудийный огонь. Русские воины рассредоточились и двинулись вперед.
Наполеон величественно поднял руку и, указав маршалу Нею на скопление войск Багратиона и на Фридлянд, приказал:
– Вот ваша цель! Ступайте туда немедленно. Ворвитесь в самую гущу во что бы то ни стало! Войдите в город, берите мосты и не беспокойтесь о том, что будет происходить кругом вас. Я и армия моя здесь, чтобы бодрствовать над вами!
Воины Нея выстроились в шеренги и по сигнальным выстрелам лавиной выкатились из-за леса.
Пушкари встретили французов ураганом картечи.
Неся большие потери, неприятель отступил. Воспользовавшись замешательством в стане врага, Багратион послал вперед кавалерию. Всадники с саблями наголо врезались в колонны французов, смяли их и обратили в бегство. Вслед за кавалерией двинулась пехота.
Расстроенные на первых порах колонны неприятеля были усилены свежей гвардией, возглавляемой закаленными в боях ветеранами. Французы оправились от потрясения.
Маршал Ней приказал артиллерии открыть огонь – и на русскую пехоту обрушилась картечь из тридцати шести орудий.
Наши пушкари, растянутые в боевую линию, не могли ответить неприятелю должным образом. Пехотинцы дрогнули и стали отступать. Лишь полки под командованием Багратиона стойко удерживали свои позиции. Сюда, на левый фланг, Ней направил шквальный огонь всех своих батарей. Ничто – ни грозные приказы командования, ни дерзкие вылазки в стан неприятеля отчаянных храбрецов – не могло удержать отступавшего и таявшего с каждой минутой русского войска. Тогда Багратион обнажил саблю и воскликнул:
– Ребята, вспомните Суворова! Не выдайте! Умрем, как умирали наши братья в Италии! Вперед!
Генерал прошел перед солдатами и двинулся на врага. Батальоны московцев бросились вслед за ним. Воины сгрудились вокруг любимого полководца, заменяя тех, кто падал замертво под градом картечи. Однако никому из них так и не суждено было дойти до неприятельской батареи. Арьергард наш поредел и оказался прижатым к стенке. В досаде и гневе Багратион приказал:
– К реке!
Доблестно и бесстрашно защищали солдаты ворота города. То была последняя, отчаянная и смертельная сшибка русских с французами на этом фланге.
Остатки корпуса гренадер отходили через шаткий мост на другую сторону Алле. Пехотинцы запалили дома города, дабы затруднить неприятелю преследование. Потрясенный и раненный Беннигсен думал теперь только о спасительном бегстве. Наши войска отступали поспешно, гибли от пуль, тонули в реке...
Оценив обстановку как весьма благоприятную, Наполеон отдал приказ о начале общего наступления – и на улицах Фриндлянда закипела жестокая сеча.
Для русских солдат оставался один удел: либо штыками пробить себе путь, либо сложить голову. В жаркой рукопашной схватке они задержали французов, а сами тем временем начали стягиваться к реке. Однако ближние мосты оказались разрушены. Пока солдаты Багратиона из последних сил сдерживали натиск неприятеля, во все концы были посланы офицеры на поиски брода. Вода в Алле вскипала от сотен бросавшихся в нее и плывущих солдат. И тут адъютант генерала Уварова объявил: «Брод найден!» Войска устремились к переправе.
Наступила долгожданная передышка.
Давыдов, не успев остыть от боя, решил взглянуть на дымящийся и пылающий город. Поблизости от него упала и с грохотом разорвалась граната. Засвистели осколки. Лошадь одного гусара, словно ужаленная осой, в бешенстве скакнула в сторону. Оглушенный и осыпанный землею с головы до ног, офицер чудом удержался в седле. Когда пальба утихла, Давыдов увидел его бледное окровавленное лицо: от ран гусар едва держался на коне.
– Какого эскадрона? – спросил Давыдов. Гусар чуть слышно пробормотал:
– Шестой эскадрон. Николай Пегов.
Видя страдальца на грани смерти, Давыдов живо вспомнил свое боевое крещение под Вольфсдорфом, когда казаки в самый опасный момент выскочили из ближнего леса и спасли ему жизнь. Не раздумывая, он спрыгнул на землю, привязал повод коня гусара к шее своего Цыгана и двинулся к реке.
На берегу Алле гусар в беспамятстве повалился к ногам лошади. В дыму пороховом адъютант Багратиона отстал от своего полка. Нагнувшись с пологого берега, он зачерпнул в пригоршни холодной воды и омыл ею окровавленное лицо раненого. Гусар вздрогнул, приоткрыл глаза.
– Будьте столь милостивы, не бросайте меня, – взмолился несчастный. – Конь у меня добрый и кроткий. Отведите меня к своим.
Меж тем жители Фридлянда выскакивали из охваченных огнем домов с криками о помощи, а русские войска отступали.
– Садись-ка, молодец, на коня! – решил ободрить страдальца Давыдов. – Я помогу тебе!
Гусар с трудом поднялся на ноги. Одной рукой взяв поводья, другой помогая раненому просунуть ногу в стремя, Давыдов едва не упал наземь от одного его неловкого движения.
– Спасайтесь! – крикнул пробегавший мимо солдат. – Француз близко!
Направляясь к переправе через Алле, артиллеристы везли на конях пушки. Давыдов спросил у раненого:
– Как, Николай? Может, останешься при артиллерийском обозе? – и прибавил с участием: – Ведь на пушечном лафете куда покойнее, чем в седле.
Пегов несказанно обрадовался предложению своего спасителя. Давыдов тотчас же остановил артиллериста и горячо попросил:
– Будь милостив, братец! Возьми под свою опеку раненого офицера и его лошадь!
Бравый усач-артиллерист согласно кивнул в ответ и помог Давыдову снять гусара с коня. Они постелили попону на лафет и положили на нее Пегова.
– В случае если гусару потребуется какая-либо помощь, – сказал Давыдов артиллеристу на прощание, – пусть разыщет адъютанта Багратиона Дениса Давыдова.
Свой долг перед страдальцем он выполнил с честью и помчался на рысях догонять полк.
В сумерках все смолкло. Пробирающий до самых костей ветер нагнал темные тучи, хлынул дождь. Солдаты в овраге решили запалить бивачные костры, которые шипели от мокроты и отчаянно дымили. Трудно было заснуть в ту промозглую ночь. Стужа ломила кости. Гусары кутались в шинели, сушили обувь и обогревались у тощего пламени. Разговоры не вязались, каждый думал свою нелегкую думу.
По вине бездарного и медлительного барона Беннигсена войскам Наполеона при поддержке «густой массы чугуна и свинца» удалось одержать при Фридлянде победу.
Русская армия, потеряв более двадцати пяти тысяч убитыми и ранеными, вынуждена была отступить к Неману. Однако, несмотря на тяжелый исход битвы, стойкость и доблесть наших солдат восхищали даже иностранцев.
Английский посол, лорд Гутчистоп, донес о сей жесточайшей баталии своему правительству следующее: «Мне недостает слов описать храбрость русских войск. Они победили бы, если бы одно мужество могло доставить победу. Офицеры и солдаты исполняли свой долг самым благородным образом. В полной мере заслужили они похвалу и удивление каждого, кто видел Фридляндское сражение».
«Русский солдат привычен ко всем переменам погоды и нуждам, к самой худой и скудной пище, к походам днем и ночью, к трудным работам и тяготам. Солдаты храбры и возбуждаются к славным подвигам, преданы своему государю, начальнику и Отечеству, набожны, но не омрачены суеверием и терпеливы. Природа одарила их самыми лучшими способностями для военных действий, штык есть истинное оружие русских, храбрость их беспримерна», – писал о Фриндлянде другой англичанин, Вильсон.
За доблесть, проявленную в битвах с французами на земле Восточной Пруссии, Денис Давыдов удостоился золотой сабли с надписью «За храбрость». За боевые заслуги в заграничном походе командование представило его к почетному прусскому ордену «За достоинство».
О майн либе!
Бывали ль вы в стране чудес, Где, жертвой грозного веленья, В глуши земного заточенья Живет изгнанница небес? Денис ДавыдовРусская армия под начальством барона Беннигсена, насчитывавшая около восьмидесяти тысяч человек, отступала с боями по прусской земле. Близ малого селения Шлотен французы атаковали наши войска. Земля содрогалась от звона сечи. В решительные минуты боя князь Багратион выдвинулся вперед, дабы смять и опрокинуть неприятеля. Давыдов скакал рядом с храбрым полководцем. Упругий и статный, он справно сидел в седле на молодом дончаке и, гусарской саблею сверкая, разил улан. Яростная сеча длилась около часа. Внезапно французы дрогнули и попятились назад. Но тут разорвалось ядро и убило под Давыдовым лошадь, а сам он был легко ранен в ногу и контужен.
Удалого адъютанта Багратиона отправили на излечение в сельскую больницу, под опеку доктора Рольфа Винера. В молодости Винер жил и обучался в Москве и довольно сносно изъяснялся по-русски.
На дворе стояли солнечные майские дни. За окнами больницы шелестели ветвями цветущие вишни и яблони, а на клумбе подрагивали от порывов ветра белые ароматные нарциссы.
Взращенный среди лесов, лугов и полей Бородина, Давыдов более всего на свете любил простор и раздолье. Он часами смотрел на плывущие по небу перистые облака, на потолок и белые стены палаты, вел душеспасительные беседы с доктором Винером и, несмотря на все это, томился от скуки и мечтал как можно скорее подняться на ноги и снова стать в строй.
В то лучезарное утро гусар проснулся раньше обычного, сел к окну и принялся читать свои новые стихи:
Я на чердак переместился: Жаль, выше, кажется, нельзя! С швейцаром, с кучером простился И повара лишился я. Толпе заимодавцев знаю И без швейцарца дать ответ, Я сам дверь важно отворяю И говорю им: «Дома нет!» В дни праздничные для катанья Готов извозчик площадной, И будуар мой, зала, спальня – Вместились в горнице одной. Гостей искусно принимаю: Глупцам – показываю дверь. На стул один – друзей сажаю, А миленькую ... на постель.– Гутен морген, куссар Давыдофф! – в палату тихо вошла миловидная, с пышной русой косой за плечами, дочь доктора Винера Эльза и поставила на стол букет белоснежных нарциссов.
– Гутен морген... – проронил приятно удивленный гусар. – Благодарю вас за цветы!
– Как вы себя чувствует?
– Благодарю вас, хорошо, милая Эльза! Того же и вам желаю. А где же?.. Где доктор Рольф?
– Мейн фатер, папа, он есть доктор, сегодня немного нездороф...
– Как странно! Не правда ли? – рассудил Давыдов. – Прежде я думал, что доктора никогда не болеют, а гувернеры знают все на свете.
– Это очень хорошо, куссар Давыдофф...
– Что хорошо?
– А то, что у вас возникло чувство юмор.
– О да! – улыбнулся гусар.
– Мой фатер, доктор... Он говорит мне, когда у больной возникает юмор, – это очень хорошо! Зер гут! Значит, дело идет на поправку!
– Да я и сам это чувствую... С каждым часом и каждым днем...
– Зер гут!
– Знаете, Эльза, меня словно распирает сегодня от любви и юмора. Послушайте-ка:
И что ей наш земной восторг, Слова любви? Пустые звуки! Она чужда сердечной муки, Чужда томительных тревог. Из-под ресниц ее густых Горит и гаснет взор стыдливый... Но отчего души порывы И вздохи персей молодых? Был миг: пролетная черта Скользнула по челу прекрасной, И вспыхнули, ланиты страстью, И загорелися уста. Но этот миг – игра одна Каких-то дум... воспоминанье О том небесном обитанье, Откуда изгнана она...– Это плохо! – сказал Эльза. – Зер шлехт, куссар Давыдофф!
– Что – плохо?
– Мне нельзя слушать такие стихи, – девушка заткнула уши. – Мне только шестнадцать!
– Помилуйте! Да когда ж их еще и слушать?! – возразил Давыдов. – Шестнадцать лет – самое время! Прекрасное безоблачное время!
– Что прекрасно, куссар Давыдофф?
– Что ваш фатер, то есть доктор, как вы изволили выразиться, сегодня нездороф!
– Ваши слова несправедлив...
– Почему же? Ведь я просто хотел сказать, как хорошо, что доктор сегодня «немножко нездорофф». И вместо него ко мне пришли вы...
– Отец сделал вам вчера перевязку? Как ваша нога?
Давыдов с большим трудом поднялся с кровати, попытался шагнуть, опираясь на больную ногу, но тут же громко вскрикнул и упал на пол:
– Ой! Ой! Ой! Бо-бо-лит!
– Насколько мне помнится, мейн фатер делал вам перевязку на правой нога, а здесь – левый...
– Неужто? Левая! Ах да, я, право, запамятовал... – тут же согласился с Эльзой Давыдов.
– Все нормально, – осмотрев раненую ногу, сказала Эльза. – Зер гут! Я должна вас порадовать, господин Давыдофф. Скоро вас выпишут...
– Странно... Довольно странно, Эльза! Какая-то метаморфоза! Пять минут назад мне хотелось выскочить из окна и убежать поскорей из этой белой и опрятной тюрьмы-больницы в свой полк, к гусарам:
Я люблю кровавый бой, Я рожден для службы царской! Сабля, водка, конь гусарский, С вами век мне золотой!– А сейчас такой желаний пропал? – испытующе посмотрела на него Эльза.
– Признаться, есть еще. Но мое желание становится все меньше и меньше. Тает, как глыба льда в жаркий день. Ведь вам всего лишь шестнадцать. А мне уже двадцать два... Я старик!
– Ничего, ничего... »Молодость – единственный недостаток, который с годами проходит», – так говорит мой фатер.
Внезапно Давыдов схватился за голову:
– Да я не об этом...
– Что такой?
– Что-то голова кругом идет...
– Это от запах цветов на столе, – забеспокоилась Эльза. – Хотите, я сейчас же выброшу за окно этот букет?
– Нет-нет, пусть цветы стоят в вазе. Это так приятно. Пусть голова идет кругом! Это очень хорошо!
– Хорошо, что голова идет вокруг шея? – пожимает в недоумении плечами Эльза. – Как это? Я не так вас поняла, куссар Давыдоф?
– Да почти что так. А знаете, Эльза, я ведь, кажется, сегодня влюблен...
– Когда кажется, то крестятся, – так говорят у вас в Россия.
Денис Давыдов встал с постели и троекратно перекрестился:
Я часто говорю, печальный, сам с собою: О, сбудется ль когда мечтаемое мною? Иль я определен в мятежной жизни сей Не слышать отзывы нигде душе моей?– Ничего-ничего, это быстро проходит, – Эльза кокетливо взмахнула руками. – Вы же поэт! А у поэтов все быстро проходит – грусть, рана, любов...
– Вы смеетесь надо мной?
– Ничуть. Все проходит. И любов – тоже. Как это вы изволили сказать по-русски: «Как глыба льда в жаркий день».
– Да ведь это всего лишь сравнение...
– Сравнение... Хорошо – плохо, горячо – холодно... Давыдов печально качает головой:
– Плохи мои дела: у вас, Эльза, философский склад ума. Поэтам с такими девушками весьма трудно.
– Трудно? Ничего подобного, как говорит мой фатер, на поэтов оказывает расслабляющее влияние запах цветов, а на меня – стихи...
Давыдов рассмеялся и оживился:
– Правда?! Да вы, Эльза, – сказка! Нет, я хотел сказать – загадка!
– От стихов я таю... – Эльза потупила большие серые глаза. – Да-да, как та глыба льда... И очень даже могу совершить, как это... необдуманный легкомысленный поступок!
– Серьезно?! Вот уж чего бы я никогда не подумал. Я всегда считал, что на такое способны ветреные барышни только в Москве.
– В Москве? – улыбнулась Эльза. – Москва – это очень далеко от нас.
– Да, не близко...
– Поэт Давыдов – это не география. Поэт – это чувство.
– О Эльза! Эльза! – воскликнул Давыдов и вполголоса запел:
Не пробуждай, не пробуждай Моих безумств и иступлений И мимолетных сновидений, Не возвращай, не возвращай! Не повторяй мне имя той, Которой память – мука жизни, Как на чужбине песнь отчизны Изгнаннику земли родной...Давыдов так увлекся, что совсем забыл про больную ногу. Он встал на табуретку. Эльза прижалась к нему и тоже забралась на табуретку. Внезапно лица их оказались рядом... Гусар обнял и крепко поцеловал девушку. Но в этот миг дверь распахнулась и быстрой походкой в палату вошел доктор Рольф Винер в белом халате.
От неожиданности Эльза присела и вскрикнула: «Майн фатер! О ужас!»
Давыдов едва не упал с табуретки... и опустил глаза.
Доктор печально качнул головой.
– Фатер... Ну зачем вы явились, доктор Рольф, так не вовремя?!
– Позвольте узнать, гусар Давыдоф! Но ведь вы... вы же у нас немножко болен?
– Мне сегодня гораздо лучше!
– Я вижу, гусар Давыдоф, наше лечение пошло вам на пользу, улыбнулся доктор. – В далекой молодости я имел практику в Москве...
– Фатер! – вскрикнула Эльза – Представьте себе. И мы тоже только что вспоминали о Москве...
– Вижу, вижу... – усмехнулся отец. – И на эта табуретка забрались, наверное, чтобы поглядеть на далекая русская столица?
– Конечно, но не только это... – вставил словцо Давыдов.
– Мне понятно: гусар Давыдоф взбирался на высоту, чтобы испытать больная нога. Но ты? Ты, Эльза, каким образом оказалась там?
– Сама не знаю...
– Сестра милосердия, юная девиц, оказывается на табурете рядом с раненым гусар, которому вчера сделали перевязку. Дочь не знает, что отвечать своему фатер?!
– Знает, доктор Винер, – заступился за Эльзу Давыдов. – Просто она робеет...
– Что такое за слово – ро-бе-ет? Я не знаю. Но тем более. Тут, на табуретка, даже сестра милосердия не может объяснить свой необъяснимый поступок?!
– Но, фатер... вы же сам изволил сказать, что он необъясним...
– Но тем хуже, – все более распаляясь, вопрошал доктор. – Каким образом сестра милосердия попал на табурет в объятия горячий гусар? Доннер веттер!
– О фатер! – как бы спохватившись, отвечала Эльза. – Просто мы... хотел проверить, сможет ли завтра куссар Давыдов сесть на коня.
– Ну и как? Как, по-твоему? – рассмеялся отец. – На мой взгляд, испытания имел успех!
– Вы правы, как всегда, доктор! – радушно улыбнулся гусар. – Весьма удачно!
И тут доктор, сменив гнев на милость, по-настоящему развеселился.
– Вот и хорошо! Вот и прекрасно! Ладушки-оладушки! Так, кажется, говорят у вас в России?
При этих словах Винер несколько раз хлопнул в ладоши. Дверь отворилась, и в палату вошла дородная немка средних лет с лошадиным лицом.
– Вот, гусар Давыдов, ваша новая сиделка, фрау Брунгильда! – представил вошедшую даму доктор. – Прошу, как говорится, любить и жаловать!
Оглядев с ног до головы раненого гусара, фрау Брунгильда изрекла громким грудным голосом:
– О майн либе!
От столь неожиданного приветствия Давыдов смутился и опустил голову.
– Но ведь это же... Это же, доктор... – с негодованием искричал Давыдов. – Гренадер в юбке!
– Гренадер? – лукаво усмехнулся доктор. – Это то, что вам сейчас необходимо. Фрау Брунгильда – вдова. И, кстати, тоже очень любит поэзия!
– О майн либе! – Воскликнула фрау.
От этих слов Давыдов вздрогнул и с мольбой в голосе обратился к доктору:
– У меня к вам, Рольф Карлович, одна маленькая просьба.
– Просьба?! Что за просьба?
– Не разрешите ли вы мне остаться в одиночестве, без сиделки?
– Ни в коем случае. Вы не просто раненый или больной. Вы – поэт! А у поэтов всегда... как это по-русски теплый? Нет, очень горячий голова!
– О майн либе! – вновь подала голос фрау Брунгильда. Не на шутку испугавшись возгласов сиделки, Давыдов покорно лег в постель, накрылся одеялом и поинтересовался:
– А эта милейшая фрау еще что-нибудь знает, кроме этого несносного «О майн либе!»?
– По-русски она не знает, – пояснил доктор. – Но фрау Брунгильда знает много другого... весьма полезного. Скажем, военных эпизод из практика ее покойного мужа. Он был смел и решителен: пух-пух! Настоящий артиллерист!
– О, нет-нет! – взмолился Давыдов и тотчас же вскочил с постели. – Премного благодарен фрау Брунгильде! И вам, доктор Винер, за заботу о бедном гусаре... Я вполне здоров и чувствую себя превосходно!
– Ну что вы, гусар Давыдоф! Не стоит благодарности. Это мой долг. Долг врача и... несчастный отец этой ветреной юный созданий!
Давыдов, напевая, стал танцевать с Эльзой вокруг злополучной табуретки шуточный семейный танец с пением – гросфатер.
На прощание все обнялись.
Зыбкий Тильзитский мир. Предсказание судьбы Бонапарта. Близость военной грозы
О храбрые враги, куда стремитесь вы? Отвага, говорят, ничто без головы... Денис ДавыдовПосле Фридлянда русские войска прикрывали отход армии к Тильзиту и защищали переправу через Неман. Князь Багратион послал Давыдова к Беннигсену с донесением о расстановке корпусов неприятеля и приказал также передать главнокомандующему важный пакет. В дороге Давыдов случайно повстречал майора Эрнеста Шепинга, служившего при главном штабе.
Адъютанту Багратиона довелось знавать майора прежде, еще по Петербургу, и посему он поинтересовался:
– Что нового, Шепинг?
– Новое то, – насупившись, отвечал важный щеголеватый майор, – что я везу письмо от Беннигсена Багратиону. Главнокомандующий предписывает князю выйти через меня на связь с французами и предложить им перемирие. Приступаем к переговорам о мире. Прощай!
Эта весть потрясла Давыдова, как гром средь ясного неба. Ему горько было слышать, что главнокомандующий русской армией просит у французов мира, так и не отомстив им за недавнее поражение.
Прибыв на главную квартиру, адъютант Багратиона увидел там панику и замешательство, коих не встречал даже среди отступающих, смертельно усталых и голодных солдат. Ему показалось, что у Беннигсена сложилось неверное представление об упадке воинского духа в армии, в особенности ее арьергарда.
Давыдов хотел лично доложить главнокомандующему об истинном положении дел в войсках, сказать, что атаки французов день ото дня слабеют и настает самая благоприятная пора для того, чтобы перейти в наступление и свести счеты с неприятелем.
Молодой гусар застал в главном штабе весьма разнообразное общество: тут были военные и гражданские чиновники, а также англичане, шведы, пруссаки... Ему сказали, что Беннигсен отдыхает, но через час-другой его превосходительство соизволит пожаловать в залу. Чтобы скоротать время, Давыдов вышел на улицу взглянуть на переправу войск через Неман и на приготовление к поджогу моста. Здесь он увидел знакомого штабного офицера и решил посоветоваться с ним о своем намерении доложить главнокомандующему об истинном положении дел в армии. Но щуплый офицер из немцев тотчас же резко изменился в лице и замахал руками: «Нечего тебе соваться не в свое дело». Однако это ничуть не охладило пыл гусара.
Вскоре Давыдов со свойственной ему решительностью и горячностью прорвался к Беннигсену, передал ему пакет от князя и сказал об удовлетворительном состоянии арьергарда.
Главнокомандующий выслушал адъютанта Багратиона со вниманием и даже с некоторым удивлением. Задал ему ряд вопросов. Многое оказалось для Беннигсена неожиданностью. Вскоре аудиенция закончилась, и надменный барон молча отпустил Давыдова.
После ряда поражений русские войска продолжали отступать к Неману. Наша пехота, артиллерия и конница с трудом преграждали путь полчищ Наполеона к границам России.
За это время в русский арьергард прибыло «подкрепление» – несколько полков башкир, вооруженных луками и стрелами.
Русские и те из французов, которые впервые узрели «грозных» башкир, встретили их улыбками.
Вскорости Давыдов стал очевидцем довольно забавного случая.
После одной ожесточенной перестрелки был пленен французский подполковник. Причем матушка-природа одарила его носом громадной величины. Превратности войны «пронзили этот нос стрелой насквозь, но не на вылет». Словом, стрела застряла в носу.
Подполковнику помогли слезть с лошади и усадили его на землю, дабы избавить от опасного «украшения».
Лекарь вынул из своего чемоданчика пилку с намерением поскорее перепилить стрелу и облегчить муки страдальца.
Несколько солдат и стрелков-башкир обступили лекаря.
И надо же такому случиться: в тот момент, когда лекарь приступил к делу, один лысый башкир с узкими карими глазами признал свою стрелу и мертвой хваткой вцепился в руки медика.
– Нет-нет, бачка! – вскричал башкир. – Я не дам резать стрелу мою...
– Как это твою? – возмутился лекарь.
– Не обижай, бачка, не обижай! Я лучше тебя знаю свою стрелу...
– Так что же ты хочешь? – пуще прежнего гневался лекарь.
– Это моя стрела, я сам ее выну...
– Что ты задумал? – накинулись на него солдаты. – Каким образом ты вынешь стрелу?
– Да, бачка, очень просто! Возьму за один конец и вырву вон. Стрела будет цела!
– А нос? – спросил лекарь.
– А ног? Что нос? Черт возьми этот нос!
Солдаты, давясь от смеха, тотчас же силой отогнали сумасбродного и настырного башкира.
Меж тем плененный француз, не зная русского языка, все же догадался, о чем идет речь, и с мольбой обратился к лекарю за помощью.
Вскоре грозное орудие смерти благополучно перепилили, и громадный нос подполковника восторжествовал!
Через несколько дней после встречи с Беннигсеном Денис Васильевич с прискорбием наблюдал, стоя среди офицеров в главной квартире, за визитом французского парламентера Луи Перигора. Перигор пожаловал из приграничного городка Тильзита с миссией о перемирии.
В торжественной обстановке парламентер вручил главнокомандующему письмо от маршала Бертье. Причем за время этой тягостной для русского командования церемонии француз держал себя весьма надменно, «нос кверху», не пожелав даже снять с головы пышной медвежьей шапки, сославшись на воинский устав. Сам же барон Беннигсен и генералы его свиты учтиво улыбались, обнажив и почтительно склонив головы перед наглым молодым французом. Все это вызвало бурю негодования в душе патриотически настроенных офицеров, ибо, по их единодушному мнению, не могло идти речи о мире между императором Бонапартом, преступно обагрившим руки в крови многих европейских народов, и законным русским государем. «Если бы мы сбили тогда шапку с головы Перигора, – с горькой иронией вспоминал об этом визите Давыдов, – из головы Наполеона вылетело бы несколько статей мирного трактата. Дело было в шапке».
13 июня 1807 года наступил достопамятный день встречи в Тильзите двух императоров. По сему случаю на середине Немана построили на плотах с вензелями два четырехугольных павильона, обтянутых белым полотном. Причем один павильон выглядел наряднее другого и был значительно больше, он предназначался для императоров, а меньший – для свиты. По обеим берегам реки стояли две барки с гребцами. Они должны были доставить монархов к месту их встречи.
Александр I со своей свитой находился в некогда богатой крестьянской усадьбе на берегу Немана. Время от времени он выходил из избы, в глубокой задумчивости стоял у реки и ожидал своего часа, чтобы сесть в барку и отправиться на встречу с овеянным громкой славой французским полководцем. Наполеон в течение двух лет одержал ряд блестящих побед и покорил почти все европейские державы.
Багратиона в свите государя не было, он не пожелал ехать в Тильзит, сказавшись больным. Зато Денис Давыдов имел туда допуск как адъютант доблестного, не ведающего страха генерала. Ему довелось стать свидетелем важных событий...
Стоя при полном параде в кругу офицеров, Давыдов наблюдал за встречей императоров в подзорную трубу.
Наполеон со сложенными на груди руками находился в окружении государственных сановников. На французском императоре блистал мундир старой гвардии с лентой Почетного легиона через плечо, а его голову украшала неизменная шляпа-треуголка.
Денису Васильевичу запомнились строки из романса, сочиненного по сему торжественному случаю в честь встречи великих монархов придворным стихотворцем:
На одном плоту я видел двух повелителей мира,
на одном плоту я видел
и Мир, и Войну,
и судьбу целой Европы –
все на одном плоту.
Лодка, на которой находился Наполеон, первой причалила к плоту. Он быстро прошел вперед и приветливо протянул руку Александру I, когда тот сходил с барки.
– По какой причине мы сделались с вами врагами, государь? – быстро и непринужденно спросил Бонапарт. – Из-за чего вся эта баталия?
– Мне не по душе эти чопорные англичане. Я им не доверяю так же, как и вы, – с добродушной улыбкой на устах отвечал Александр. – Я буду содействовать вашему величеству во всех замыслах, которые вы будете противу них осуществлять.
– Если таково ваше мнение, государь, то я весьма рад, – Наполеон пожал руку Александру. – Будем считать, что мир заключен!
Монархи прошли и скрылись в большом нарядном павильоне. Они проговорили там с глазу на глаз около двух часов. Затем туда пожаловала свита.
С детства Давыдов имел обыкновение со вниманием примечать все, что происходило вокруг него. Многие события и детали встречи двух императоров запомнились ему на всю жизнь. Он предчувствовал, что Тильзит будет иметь важное историческое значение. Вечерами адъютант садился за стол и при свечах кратко записывал свои впечатления.
С той первой знаменательной встречи прошло несколько дней, и судьба вновь свела Давыдова с Бонапартом, причем самым неожиданным образом. Наполеон остановился в нескольких шагах от него, и Денис Васильевич поразился тому, сколь не схожи все виденные им дотоле изображения великого императора Франции на портретах современных художников. До сего часа он представлял себе властного и величественного монарха суровым, с резкими чертами лица и большим горбатым носом, с черными глазами навыкате, нахмуренными бровями и слегка вьющимися волосами – словом, человека с южным, итальянским типом лица. Однако в жизни все обстояло иначе.
Давыдов лицезрел, казалось, совершенно другого человека. В отношении Наполеона в его душе кипело негодование, смешанное с растерянностью и даже неким благоговением. А франтоватые, напыщенные французские офицеры столь скоропалительно превратились из лютых врагов в пылких друзей... Острое перо гусара так живописало Бонапарта: «Я увидел человека малого роста, ровно двух аршин шести вершков, довольно тучного, хотя ему было тогда только тридцать семь лет от роду и хотя образ жизни, который он вел, не должен бы, казалось, допускать его до этой тучности. Я видел человека, держащегося прямо, без малейшего напряжения, что, впрочем, есть принадлежность всех почти людей малого роста. Но вот что было его особенностью, это – какая-то сановитость благородно-божественная и, без сомнения, происходившая от привычки господствовать над людьми... Не менее замечателен он был непринужденностью и свободою в обращении, так и безыскусственною и натуральною ловкостью в самых пылких и быстрых приемах и ухватках своих, на ходу и стоя на месте. Я увидел человека лица чистого, слегка смугловатого, с чертами весьма регулярными. Нос его был небольшой и прямой, на переносице которого едва приметна была весьма легкая горбинка. Волосы на голове его были не черны, но темно-русые, брови же и ресницы ближе к черному, чем к цвету головных волос, и глаза голубые, – что, от его почти черных ресниц, придавало взору его чрезвычайную приятность».
А теперь давайте перенесемся из Тильзита лет на пятнадцать назад... Перенесемся в Париж начала девяностых годов XVIII века. Думается, будет нелишним приоткрыть завесу над главным виновником мировой смуты и кровавых бедствий человечества и все же великим и бесстрашным полководцем – Наполеоном. В ту пору о нем рассказывали много былей и небылиц, но случай из молодости Бонапарта кажется нам весьма примечательным.
В осенних сумерках шумел мглистый дождь. На узкой, окраинной улочке столицы, заселенной ремесленниками и торговцами, в мансарде невысокого каменного дома влачил свои бренные годы некий старец. По всей округе он слыл за колдуна и звездочета. Ходили слухи, что по профессии старец астролог и по каким-то странным чертежам, планетам и книгам может предсказывать судьбы людей. Однако редко кто из страждущих решался прийти к нему в дом за помощью и советом.
На вид колдун был сух, жилист, сутул, с задумчивым и холодным взглядом из-под густых темных бровей. С утра до ночи он по обыкновению своему сидел в небольшой убогой каморке в мягком продавленном кресле за столом, сплошь заваленном чертежами, книгами, рукописями. Кутаясь в черный плед, он производил сложные математические расчеты.
Однажды вечером в дверь громко постучали, и она тут же широко распахнулась. Старец оторвался от своих привычных занятий, с удивлением глянул на незваного гостя, нагрянувшего в столь поздний час.
На пороге стоял молодой человек небольшого роста в военной форме, с пылкими голубыми глазами и пышно, но небрежно взбитыми волосами.
– Говорят, почтенный, вы обладаете редким даром – предсказывать судьбы людей, – негромко, но с твердостью в голосе промолвил пришелец и без приглашения опустился на скрипучий деревянный табурет. – Попробуйте-ка предсказать мою!
Старец привстал с кресла, еще раз пристально глянул на самоуверенного незнакомца.
– Будь по-вашему, милостивый государь, – согласно кивнул он в ответ, пряча в устах лукавую ухмылку. – Попытаюсь для вас сделать это...
Достав с полки лист чистой бумаги, старец разложил его перед собой на столе.
– А теперь будьте столь милостивы и сообщите мне год, месяц, место и день вашего рождения, – с хрипотцой молвил он, держа в пальцах карандаш.
– Я родился 15 августа 1769 года в городе Аяччо на Корсике, – ответил пришелец.
Предсказатель порылся в картотеке, снял с полки толстые книги и долго листал их, наводя какие-то справки. Затем он быстро начертил на бумаге круг, по которому раскидал точки планет и соединил их фигурками, похожими на геометрические. Некоторое время при полном молчании он задумчиво взирал на свою работу, а затем выпрямился и, стряхнув дрожащей рукой седую прядь со лба, обронил:
– Однако все это довольно странно...
– Что странно? – не выдержал гость.
– Итак, милостивый государь, внимайте! Вас ждет редкая и удивительная судьба. – Старец откашлялся и тяжело перевел дыхание. – Вам дано свершить великие дела. Я вижу на вашей горячей голове корону императора. Вы прольете целые реки крови и одержите много блестящих побед. Однако конец вашей жизни будет печален. Вы будете посрамлены, разгромлены и умрете в горьком изгнании и одиночестве.
При последних словах военный, пылая гневом, вскочил с табурета, который с грохотом рухнул на пол, и истерически рассмеялся.
– О, мой Бог! Меня ждет корона! – воскликнул он и, качнув головой, театрально вознес руки к небу. – Меня, артиллерийского поручика, которому недавно предложили выйти в отставку! Поберегите ваши бредни, дряхлый безумец, для легковерных девиц!
При этих словах незваный гость повернулся и, не попрощавшись, вышел, громко хлопнув дверью.
Астролог усмехнулся и пробормотал: «Какой гордый слепец!» Но, как ни странно, предсказания колдуна сбылись. Спустя пятнадцать лет самоуверенный артиллерийский поручик по имени Наполеон Бонапарт торжественно надел на свою голову корону императора Франции.
...25 июня 1807 года был подписан Тильзитский мир, коим закончилась война 1806–1807 годов. Давыдов лицезрел пышную церемонию, в которой приняли участие французская гвардия и батальон русских преображенцев. При полном параде войска стояли на площади, строй против строя, поодаль друг от друга.
Верхом на конях выехали навстречу Александр и Наполеон. Первый – на молодом игривом вороном жеребце, второй – на рыжей арабской чистокровке.
Давыдову казалось, что наш государь несколько подавлен величием и славой французского императора и заискивает перед ним... Подобные же чувства испытали и стоявшие подле него офицеры.
Условия Тильзита оказались тяжкими для России: разрыв дипломатических отношений с Австрией, причем войска русские должны были незамедлительно возвратиться в пределы своей страны. Эта горькая весть больно отозвалась в сердцах патриотов.
В Тильзите Наполеон, затаив в душе вражду и недоверие, с радушной актерской улыбкой на устах протянул руку Александру. А наш государь со вздохом глубочайшего облегчения и радостью приветствовал окончание столь изнурительной и тяжелой для России кампании. Наглядное свидетельство тому – рескрипт царя на имя тогдашнего главнокомандующего Москвы, генерала от инфантерии Тимофея Ивановича Тутолмина:
«Тимофей Иванович!
Упорная и кровопролитная война между Россиею и Франциею, в которой каждый шаг, каждое действие ознаменованы неустрашимою храбростью и мужеством войск российских, заключенным 27 дня сего месяца (июня 1807 г.) миром, Богу благодарение, прекращена: восстановлено блаженное спокойствие, неприкосновенность и безопасность границ российских охранена новым приращением, и Россия тем обязана единственно геройским подвигам, неутомимым трудам и рвению, с которым храбрые ее сыны на все бедствия и самую смерть бесстрашно стремились. Я спешу о сем благополучном происшествии вас уведомить, для извещения во всем начальства вашего».
Раскаты грома сокрушительных наполеоновских войн, год от года все сильнее и коварнее сотрясавшие Европу, безусловно имели горький отзвук и у нас, в России.
В 1808 году Бонапарт покорил Рим. За это наглое вторжение Папа всенародно в церкви Святой Марии предал его анафеме. Однако Божья кара не охладила пыл грозного завоевателя. Вскорости он расширил свои границы за счет Италии и Германии.
Александр I с волнением и тревогой следил за действиями Наполеона, но до поры хранил молчание.
В сентябре 1808 года государь в письме к своей матери, императрице Марии Феодоровне, признался: «Тильзит – это временная передышка для того, чтобы иметь возможность некоторое время дышать свободно и увеличить в течение этого столь драгоценного времени средства и силы... Мы должны действовать в глубочайшей тайне и не кричать о наших вооружениях и приготовлениях публично, не высказываться открыто против того, к кому мы питаем недоверие».
1810 год ознаменован тем, что Бонапарт не пощадил владения своего брата Людовика, короля голландского, присоединил их к Франции. Он переступил ту запретную черту – реку Рейн, – за которую прежде обязывался не заходить. Помимо того Наполеон прихватил еще и вольные города Любек, Бремен и Гамбург.
Завоевания эти были оскорбительны для России, ибо поглощали земли герцога Ольденбургского, являвшегося зятем императора Александра. Правда, имеются сведения, будто бы Наполеон предлагал герцогу взамен другие владения, на что тот с достоинством возразил: «Мои подданые – дети мои, а детьми торговать и менять их на других я не согласен».
Государь наш не замедлил выразить свое неудовольствие походами Бонапарта. Но его негромкий голос, подобно приглушенному ропоту других европейских государей, потонул в победоносных громах оружия французов. Тогда Александр предпринял против надвигающейся опасности свои меры. По его приказу русские войска рассредоточенно начали продвигаться к западным границам. Это не на шутку встревожило Бонапарта, которому позарез нужно было выиграть время для окончания грандиозных приготовлений к тщательно вынашиваемой большой войне. Он вновь стал искусно притворствовать и уверять наш двор в полном расположении к царю Александру, к России и в неизменном упрочении с нами мира и дружества.
Меж тем с шумными зимними радостями, забавами и празднествами надвигался роковой двенадцатый год. Давненько не бывало в наших столицах столь блестящих гуляний, пышных маскарадов, ярких театрализованных зрелищ и всевозможных увеселений, как в ту памятную морозную зиму. Предчувствуя грозные события, россияне свято верили в свои силы и были готовы, подобно славным предкам, не на живот, а на смерть стоять за родное Отечество.
Причуды Кульнева и гром его побед...
Где Кульнев наш, рушитель сил, Свирепый пламень брани? Он пал – главу на щит склонил И стиснул меч во длани... В.А. ЖуковскийВ 1804 году в городе Сумы, где стоял в ту пору гусарский полк, Денис Давыдов познакомился с майором громадного роста Яковом Петровичем Кульневым.
Вместе с ним Давыдов участвовал в военных походах по Восточной Пруссии. А в 1808–1809 годах эта приязнь переросла в задушевную дружбу, теперь уже с генералом Кульневым, храбрым и отважным полководцем, которому прежде, в пору юности, довелось воевать в армии под командованием великого Суворова.
В великосветском обществе генерал гляделся чужаком, был молчалив и стеснителен. В кругу же друзей или на поле брани он преображался, становился быстрым, решительным, презирал свист пуль над головой и даже острил...
Финская земля сотрясалась под копытами быстрых коней, когда могучий, не ведавший страха, седовласый Кульнев широким взмахом палаша увлекал за собой в атаку полк гусар летучих. В азарте погони он походил на громадного разъяренного медведя. Он всегда был в авангарде, скакал на Роне, преодолевая на своем пути лесные завалы, реки и болотные топи...
Турки трепетали при одном упоминании имени Кульнева. Плененный им раненый французский генерал Сен-Жение был растроган до слез, когда грозный победитель достал белый платок и перевязал его кровоточащую рану.
Сумрачно и диковато гляделось порою лицо Кульнева, заросшее густыми, нечесаными волосами, обрамленное широкими бакенбардами и усами. Острым соколиным взором генерал обводил своих кавалеристов, прежде чем свершить дерзкие вылазки по тылам врага. Он вселял в души воинов нерушимую веру в победу. Успешные боевые операции в стане французов зародили в душе лихого гусара Давыдова пламя будущей партизанской войны. Благодаря сметке и выдержке Кульнев часто выводил своих солдат из рискованных, отчаянных положений.
Был век бурный, дивный век, Громкий, величавый, Был огромный человек – Расточитель славы... –с гордостью поминал Давыдов Кульнева – старшего боевого товарища, наставника. Поминал он и своих славных товарищей, с коими был неразлучен и с коими с высоким патриотическим порывом летел «на пули бесстрашных стрелков неприятельских», в Финляндии.
Неизменно находясь в авангарде, Давыдов сражался при Лаппо, Перхо, Кухоламби, Куортани, Сальмо. В особенности он отличился 12 апреля 1808 года. С эскадроном драгун и сотней казаков выбил с острова отряд неприятеля. Бой продолжался недолго: часть всадников полегла наземь. Остальные сдались в плен или бежали.
Давыдов считал Кульнева «воином, последним чисто русского семейства, как Брута – последним римлянином».
С кровавых полей Финляндии Кульнев писал своему брату: «Я надеюсь, что ты не покинешь бедную мать нашу, и уверяю тебя, с моей стороны, что, где бы я ни был, она будет получать определенную мною ей треть. Ежели же меня убьют, то коней и рухляди моей останется ей на три года, ибо все стоит более тысячи рублей. Вот все мое имение, которое нажил я в продолжение двадцатилетней моей службы. Прощай. Благослови на одоление врагов. Заклинаю тебя не покидать любезную мать...»
У Кульнева все было на редкость просто. Приглашая гостей к обеду, он не раз приговаривал: «Горшок щей и горшок каши готовы, а серебряные ложки берите с собой». Питейным делом он не увлекался. Поутру довольствовался стаканом чая, вечерами добавлял в чай ром, изредка чарка водки перед обедом. Для лакомства – рюмка наливки. Жажду утолял водой или квасом. Вот, пожалуй, и все питейное, что употреблял боевой генерал.
Причуды Кульнева исходили прежде всего из самобытности его характера и широты души. Казалось, генерал никогда не унывал. Все это возвышало Кульнева над людьми богатыми, обуреваемыми сластолюбием и жадностью. Как бы тяжело ему не приходилось, он всегда помогал неимущим.
Давыдов с Кульневым частенько жили «то в одной горнице, то в одном балагане, то под крышею неба, ели из одного котла, пили из одной кружки...»
Где друзья минувших лет, Где гусары коренные, Председатели бесед, Собутыльники седые?.. -горько сокрушался Денис Давыдов.
На затылке кивера, Доломаны до колена, Сабли, ташки – у бедра, И диваном – кипа сена...Дружба с Кульневым, благородным и сильным духом великаном, продолжалась у Дениса Васильевича до «самой блистательной и завидной смерти» Якова Петровича в пылу горячих баталий двенадцатого года.
Словно предчувствуя близость смерти, он писал своему брату: «Ежели я паду от меча неприятельского, то паду славно. Я почитаю счастьем пожертвовать последнюю каплю крови моей, защищая Отечество».
Спустя несколько дней после отправления этого письма в бою у села Якубово Кульнев со своими солдатами наголову разбил корпус французов под командованием маршала Удино. То была одна из первых блистательных побед над врагом нашей армии.
У деревни Боярщина гусары Кульнева чуть было не угодили в западню, где их внезапно атаковала пехота. Мужественно отбиваясь от превосходящего числом врага, Кульнев вынужден был отступить в ожидании подкрепления.
Под Клястицами при переправе через Дриссу пушечное ядро оторвало ему обе ноги выше колен. Прославленный генерал принял смерть, как подобает герою и солдату неустрашимой и могучей русской армии. Теряя сознание, он собрал остаток сил и, презрев боль, обратился с проникновенными словами к своим боевым соратникам: «Друзья! Спасайте наше Отечество! Не уступайте врагу ни шага родной земли! Победа вас ожидает!»
Кульнев умер 20 июля 1812 года у деревни Сивошино, в тридцати верстах от местечка Люцина, где недавно похоронили его старую мать. В тех благословенных местах, среди полей, озер и лесов, прошло его детство.
Придорожную могилу, в которой покоился прах героя, венчал камень. На том огромном, как и сам генерал, глыбистом камне были начертаны такие слова:
НА СЕМ МЕСТЕ ПАЛ, УВЕНЧАН ПОБЕДОЙ,
ХРАБРЫЙ КУЛЬНЕВ, КАК ВЕРНЫЙ СЫН,
ЗА ЛЮБЕЗНОЕ ЕМУ ОТЕЧЕСТВО СРАЖАЯСЬ.
СЛАВНЫЙ КОНЕЦ ЕГО ПОДОБЕН И СЛАВНОЙ ЖИЗНИ.
ОТТОМАН, ГАЛЛ, ГЕРМАНЕЦ И ШВЕД
ЗРЕЛИ ЕГО МУЖЕСТВО И НЕУСТРАШИМОСТЬ НА ПОЛЕ ЧЕСТИ.
СТОЙ, ПРОХОЖИЙ, КТО БЫ ТЫ НИ БЫЛ,
ГРАЖДАНИН ИЛИ ВОИН, НО ПОЧТИ ЕГО ПАМЯТЬ СЛЕЗОЮ.
Тяжкая весть о геройской смерти легендарного Кульнева быстро разнеслась по городам и весям необъятной России. Один из москвичей так вспоминал о том незабвенном дне: «...В Большом театре давали оперу «Старинные Святки». Среди действия Сандунова – знаменитая тогда артистка, – подойдя к рампе, неожиданно для наполнившей зал публики дрожащим голосом запела: «Слава, слава генералу Кульневу, положившему живот свой за Отечество...» Дальше продолжать она не смогла от слез. Весь театр поднялся и плакал вместе с ней».
Спустя два десятилетия, в 1832 году, братья перевезли прах Якова Петровича в свое поместье Илзенберг. Там они поставили часовенку, где и до сей поры находится его гробница. Под портретом Кульнева выбиты проникновенные слова: «От клястинцев-гродненцев и почитателей незабвенному герою 1812 года».
Любящий острые шутки и каламбуры Давыдов не раз поминал меткие изречения и мудрые приказы своего старшего друга и прославленного боевого командира Кульнева: «Люблю Россию! Хороша она, матушка, еще и тем, что в каком-нибудь углу ее все-таки да непременно дерутся». Или, скажем, приказ в Белорусский гусарский полк, коего Кульнев назначен был шефом: «Обучать солдат, как предписано было от главнокомандующего, отнюдь не более трех часов в сутки, но знать, чему обучать, на что должно испытывать самих господ офицеров, достаточно ли они знают свое дело, без чего ученье не есть ученье, а мученье». Приказ 1809 года, при выступлении на завоевание Аландских островов: «С нами Бог! Я пред вами. Князь Багратион за нами!» Или другой приказ: «На марше быть бодру и веселу, уныние свойственно одним старым бабам. По прибытии на Кумлинген – чарка водки, кашица с мясом, щит и ложе из ельнику. Покойная ночь!»
Давыдов посвятил Кульневу вдохновенные и пламенные стоки:
Поведай подвиги усатого героя, О муза, расскажи, как Кульнев воевал, Как он среди снегов в рубашке кочевал И в финском колпаке являлся среди боя. Пускай услышит свет Причуды Кульнева и гром его побед! Наш Кульнев до зари, как сокол, встрепенулся, Он воинов своих ко славе торопил: «Вставайте, – говорил, вставайте, я проснулся! С охотниками в бой! Бог храбрости и сил!»Итак, в 1806–1807 годах Денис Давыдов сражался на полях Австрии и Пруссии, в 1808-м – в Швеции, где готовился с армией брать приступом крепость Свеаборг. Однако вскорости дело обошлось миром. Крепость сдалась без боя. И пылкий Давыдов скачет на север. Там он успешно сокрушал неприятеля в Финляндии под началом легендарного генерала-рыцаря Кульнева, плечо к плечу с которым штурмовал по льду Ботнический залив, покорил Алландские острова. В 1809–1810 годах он прославил знамена русские в Молдавии и Турции, громя врага с Дунайской армией.
Кампании эти явились для Давыдова «колыбелью военного поприща», они дали ему возможность верно оценить тактику и стратегию талантливых, не ведавших страха полководцев.
Подвигами на поле брани, стихами и песнями он снискал к себе горячую любовь.
Часть ТРЕТЬЯ
Роковой двенадцатый год
Много в этот год кровавый В эту смертную борьбу, У врагов ты отнял славы, Ты, боец чернокудрявый С белым локоном на лбу! Николай ЯзыковВеликий и незабвенный для России год. Грянул, накатил как смерч.
Победное шествие по Европе вскружило голову Бонапарту, лелеявшему мечту стать повелителем мира. Однако на пути к мировой короне пред ним предстала громадная, своевольная Россия, и он решил сокрушить и ее: «...Мы раздробим Россию на прежние удельные княжества и погрузим ее обратно во тьму феодальной Московии, чтоб Европа впредь брезгливо смотрела в сторону Востока».
Своей пышной и угодливой свите дерзкий властелин мира заявил: «Успех моей кампании обеспечен. Я пойду на Россию во главе могучих сил. Я соединю под своими знаменами не только большие армии Италии, Германии, Польши, Рейнского Союза, но даже Турции и Швеции. После Суворова в России не осталось талантливых полководцев, кроме одного, это князь Багратион. Захватив Москву и сделав Россию вассальным государством, я прогоню Англию с морей и подчиню себе Испанию и Португалию. Помимо всего прочего, этот дальний путь в дикую, медвежью страну будет и путем в Индию. Александр Великий хотел пройти не большее расстояние, как до Москвы, а очутился на Ганге. Я должен отнять у Азии край Европы, чтобы оттуда напасть на Англию с тыла. Покорив Россию, я стану властелином Востока. Моя великая и непобедимая армия может достигнуть Ганга, а там, стоит только сверкнуть шпагой, чтобы мигом сорвать с Индии легкий флер торгашества. Это будет самый гигантский поход, когда-либо задуманный человеком, самое смелое предприятие, но вполне осуществимое в нашем бурном столетии».
Бонапарт не предполагал, что за этой необъятной загадочной и безмолвной страной стоит сильная и верная своему долгу армия. Армия, которой покорились Кагул, Рымник, Измаил, Прага, турецкие степи, равнины Италии, Швейцарские Альпы. Армия, овеянная победами Петра Великого, Румянцева и Суворова. Солдата русского мало было подавить своею массою и положить на лопатки, необходимо было еще сломить его на редкость крепкий дух. Да к тому же у этой армии, ведомой мудрыми полководцами, есть надежная поддержка и опора – великий и могучий русский народ.
Намереваясь закончить поход одним неожиданным и сокрушительным ударом и предвкушая скорую победу, Наполеон заранее поделил свои будущие владения: прусскому королю он сулил Прибалтику, турецкому султану – Крым и Грузию, польским панам – украинские и белорусские земли, а своему родственнику, австрийскому императору, – Западную Украину. Маршалам он хвастливо обещал, что Москва и Петербург будут им достойной наградой. Здесь они найдут теплые квартиры, пышные балы, золото, жемчуга... и с несметными богатствами возвратятся в родное отечество.
...По весне 1812 года в России бурно разлились реки, затопив на десятки верст берега, пашни, селения, в небесах частенько грохотали бури, прокатились землетрясения в Дубоссарах, в Балте, в Очакове, предвещая недоброе. В Москве завывали в печных трубах свирепые ветры, небо от них заволакивало пылью, рушились, трещали заборы и сараи. Порою с домов ураганом срывало крыши.
«С необычайными явлениями природы сопряжены бывают и необычные политические события, тайна эта известна Тому, Кто управляет природою и судьбою человечества», – мудро высказался прусский король Фридрих II.
В простонародье о Наполеоне по дальним городам и весям ходили слухи, будто появился в миру тот самый Аполион, о котором писано в 9-й главе Апокалипсиса (Откровении) Иоанна Богослова: что он и есть натуральный антихрист. При помощи сатаны он собрал великие силы. А бессчетное воинство его – со львиными зубами и со скорпионьими хвостами.
Профессор Дерптского университета Гецель писал военному министру Барклаю-де-Толли, что в числе 666 (число зверя – Апок. Глава 13, стих 18) содержится имя Наполеона. При этом послании профессор приложил и французский алфавит.
К тому времени в России от основания Москвы прошло уже 665 лет – старожилы почитали это весьма знаменательным.
Ко всем прочим бедам на нашей западной границе в начале 1812 года стали объявляться французские эмиссары (шпионы). Это были фокусники, комедианты, странствующие монахи, землемеры, снимающие планы с разных мест.
Прославленный «несгораемый» французский фокусник Жени Летур объездил со своими представителями всю Европу, побывал он и в России. Помимо своих цирковых представлений он с успехом исполнял и роль шпиона. Коронный номер его заключался в том, что Летур входил в раскаленную печь, где жар достигал ста двадцати пяти градусов, и преспокойно садился там за трапезу.
В Северной и Белокаменной столицах и в провинциальных городах в ту пору вообще было много иностранцев, в основном французов. Они с успехом торговали непозволительными товарами, а также воспитывали в дворянских семьях юношество.
Неизбежность войны день ото дня становилась очевидной. Войны, подобной бурному снежному обвалу в горах. И обвал этот вот-вот должен был двинуться и обрушиться на страну, имя которой – Россия.
Опаленный в жарких сражениях в Австрии, Пруссии, Финляндии и Турции, Денис Давыдов, которому исполнилось двадцать восемь лет, по-прежнему состоял адъютантом князя Багратиона. «Тучи бедствий, – тревожился он, – сгущаются над дорогим Отечеством нашим. А посему каждый сын его обязан платить ему всеми своими силами и способностями».
Думая о судьбе Родины, он твердо решил оставить службу в штабе и обратился к князю с просьбой о переводе его в ряды действующей армии, в гусарский полк.
Багратион одобрил горячее стремление своего адъютанта и направил военному министру, генералу от инфантерии М.Б. Барклаю-де-Толли, рапорт:
«Адъютант мой, лейб-гвардии гусарского полка ротмистр Давыдов, желает предстоящую кампанию служить во фронте, просит о переводе в Ахтырский гусарский полк. Уважая желание его, основанное на только похвальном намерении и готовности оправдать его самим делом, покорнейше прошу Вашего Высокопревосходительства испросить на перемещение Давыдова в Ахтырский гусарский полк высочайшее сопозволение.
При сем случае, вменяя в обязанность свидетельствовать о достоинствах офицера сего, служившего несколько кампаний при мне и при других начальниках с отменною честию, я покорнейше прошу Вашего Высокопревосходительства довести до сведения его Императорского Величества признательность мою к отличным заслугам Давыдова и, исходатайствовав высокомонаршее воззрение на службу его при перемещении в полк, испросить старшинства настоящего чина.
Генерал от инфантерии Багратион!»
В скором времени просьба Давыдова и ходатайство за него Багратиона были удовлетворены. Ему присвоили чин подполковника с назначением командиром первого батальона Ахтырскго гусарского полка. Полк этот входил в армию князя Багратиона, располагался вблизи города Луцка и вскорости должен был выступить к Брест-Литовску и далее – к Белостоку. В окрестностях Белостока, в Заблудове, Давыдов узнал о нашествии французов.
Жребий брошен! В ночь на 23 июня темная наволочная туча войны двинулась. Огромная, более чем 600-тысячная великая армия при 1372 орудиях под командованием Бонапарта состояла из десяти корпусов, резервной кавалерии и императорской гвардии. В кромешной тьме французы стали сосредоточиваться на лесистом возвышенном берегу Немана.
В авангарде, под начальством неаполитанского короля маршала Мюрата, скакала резервная кавалерия. Старую гвардию вел герцог Франсуа Лефевр, молодую – маршал Мортье, конную гвардию – маршал Бессьер, герцог Истрийский. Из бригадных, корпусных и полковых командиров здесь собрался весь цвет героев Бонапарта – львов Египта, Италии, Фридлянда, Иены и Аустерлица.
Кроме основного ядра – французов в великой армии состояло на службе множество иностранцев, что значительно ухудшало положение дел в походе. На основании союзного договора император Австрии Франц II выставил тридцать тысяч воинов под началом фельдмаршала князя Шварценберга, того самого Шварценберга, который позднее, в 1813–1814 годах возглавил союзную армию против Наполеона. Прусский король Фридрих-Вильгельм III снарядил двадцать тысяч солдат, кроме того, под ружье стали еще пятьдесят тысяч поляков, двадцать тысяч итальянцев, десять тысяч швейцарцев, сто тридцать тысяч баварцев, саксонцев, вюртсембержцев, вестфальцев, кроатов, голландцев, испанцев и португальцев.
Большинство иноплеменных полков роптали и были весьма ненадежны, за исключением поляков, видевших в успехе похода Наполеона надежду на восстановление былого Царства Польского, а также швейцарцев, верность которых раз данному слову считалась неколебимой.
Возле города Ковно, соблюдая полнейшую тишину, без огней, Наполеон начал переправу своих войск через реку на плотах и лодках. В сумерках понтонеры сноровисто и быстро навели через Неман мосты. Первыми ступили на русскую землю вольтижеры 13-го пехотного полка. Однако они были замечены и обстреляны казаками.
После короткой схватки с французами казаки отступили. Вестовые донесли командованию, что неприятель, вопреки правам народным, без объявления войны, форсировал Неман и вторгся в пределы России.
Адъютант Наполеона Филипп-Поль Сепор, ставший затем генералом французской армии и военным писателем, запечатлел столь знаменательный первый день кампании:
«...До рассвета императорская колонна достигла Немана, не видя его. Опушка большого прусского Пильвицкого леса и холмы, тянущиеся по берегу реки, скрывали готовую к переправе великую армию.
Наполеон, ехавший до тех пор в экипаже, сел на лошадь. Он обозревал русскую реку, чтобы перейти эту границу, которую пять месяцев спустя он мог перейти только благодаря темноте. Когда Наполеон подъезжал к берегу, его лошадь вдруг упала и сбросила его на песок. Кто-то воскликнул: «Плохое предзнаменование, римлянин отступил бы!»
Осмотревшись, Наполеон приказал в сумерки перекинуть через реку... три моста, потом удалился на свою стоянку, где провел весь день – то в своей палатке, то в одном польском доме неподвижно и бессильно простертый, ища напрасно отдыха среди удушливого зноя.
С наступлением ночи Наполеон приблизился к реке. Первыми переправились несколько саперов в челноке...
В трехстах шагах от реки, на высоком холме, виднелась палатка императора. Вокруг нее все холмы, их склоны и долины были покрыты людьми и лошадьми. Как только солнце осветило эту движущуюся массу, бряцающую оружием, дан был сигнал, и тотчас же вся эта могучая армада развернулась и тремя колоннами направилась к трем мостам. Видно было, как колонны извиваются, спускаясь по поляне, отделявшей их от Немана, приближаются к реке, доходят до трех мостов, вытягиваются, сужаются, чтобы перейти их и наконец попасть на эту чужую землю, которую они шли опустошать и которую они должны были покрыть своими трупами».
Александр I находился в это время в Вильно. Поздно вечером царю, безмятежно танцевавшему на балу у Беннигсена, доложили о вторжении французской армии. Столь внезапное известие поразило и страшно перепугало его. Покидая Вильно, Александр тотчас же направил министра полиции генерал-адъютанта Балашова с личным письмом к императору Франции.
Вступив в Вильно, Наполеон принял Балашова весьма любезно. Причем кабинетом Бонапарта оказалась та же самая комната, где недавно располагался русский император и где он собственноручно вручил генерал-адъютанту столь важное письмо.
Представившись Наполеону, Балашов доложил:
– Государь предлагает начать мирные переговоры, но при одном непременном условии: французы немедля должны отступить за наши границы. В противном случае, пока хоть один ваш солдат будет находиться в России, царь не выслушает ни единого слова о мире.
– Неужели вы думаете, что я пришел в Россию только затем, чтобы любоваться на воды Немана?.. – прогневался Бонапарт. – Ваши надежды на крепость солдат своих несостоятельны. До Аустерлица они считали себя непобедимыми. Теперь вовсе не то, что было прежде. Русские трепещут при одном моем имени. Они знают, что армия моя разобьет их в прах.
– Смею вас заверить, ваше величество, – возразил Балашов, – войска русские с нетерпением ожидают боя. В особенности теперь, когда наши границы нарушены. Поверьте, война будет ужасна. Трудно представить себе ее последствия, ибо вы станете сражаться не только с войсками, но и со всем народом.
– Любезный генерал, русские никогда не начинали военных действий при столь невыгодных для них обстоятельствах...
– Однако мы не теряем надежды окончить дело с успехом, – смело парировал Балашов.
– Если мне не изменяет память, то вы проиграли сражение вместе с Австриею, – усмехнувшись, продолжал Наполеон. – Теперь же иное дело. Теперь под моим флагом идет вся Европа. На что вы надеетесь?
– Мы соберем силы и сделаем все, что можем, – с твердостью в голосе отвечал Балашов.
– По сему случаю прошу вас, генерал, не отказать мне в любезности отобедать у меня...
За трапезой, как бы между прочим, император поинтересовался:
– Есть ли у вас киргизские полки, генерал?
– Нет, ваше величество, киргизских у нас нет. Но у нас есть один или два полка башкир и татар, которые похожи на киргизов.
– Я слышал об этом. Скажите, генерал, теперь у вас другой губернатор в Москве?
– Да, ваше величество. Маршал граф Гудович попросил отставки по причине своих пожилых лет.
– Не правда ли, император Александр изгоняет всех, кто хорошо расположен к французам?
– Ваше величество, не знаю и потому не беру на себя смелость судить об этом.
– Скажите мне, генерал, это правда, что Штейн[4] обедал с императором Александром?
– Ваше величество! Что тут удивительного?! Все знатные особы приглашаются к столу его величества.
– Позвольте, генерал. Но как можно Штейна посадить за один стол с русским императором? Если даже Александр решил выслушать его советы, он не должен был видеть его у себя за столом. Разве можно представить себе, чтобы Штейн был предан ему? Ангел и дьявол не должны быть вместе! Коленкур![5] Вы ведь бывали в Москве?
– Да, ваше величество.
– Что она собой представляет?
– Ваше величество! Это скопление больших и прекрасных домов наряду с маленькими лачужками.
– Генерал, много ль жителей в Москве?
– Тысяч триста.
– А домов?
– Тысяч десять...
– Сколько церквей, если не секрет?
– Более двухсот сорока...
– Ба! К чему такое множество?
– Дело в том, что русский народ очень набожен...
– Оставьте это кокетство для легковерных девиц и немощных старцев! Какая теперь набожность?
– Извините меня, ваше величество, – возразил Балашов. – Тут я с вами вновь не согласен. Возможно, во Франции, Германии и Италии мало верующих. Зато их много в Испании, а тем паче в России...
Наполеон помрачнел: уж больно не по душе пришлась ему пресловутая Испания! Опустив глаза, он минуту-другую сидел молча.
В конце трапезы Бонапарт задал Балашову весьма коварный вопрос:
– Скажите, генерал, по какой дороге лучше всего пройти к Москве?
– Признаться, ваше величество, вы поставили меня в большое затруднение, – вскинув брови, усмехнулся Балашов. – Вы ведь знаете, что русские, как и французы, говорят: «Все дороги ведут в Рим!». К Москве также множество путей. Скажем, Карл XII шел туда через Полтаву...
При этих словах Наполеон резко поднялся из-за стола и, заложив руки за спину, прошелся по зале. Он испытующе глянул на адъютанта, стоящего у дверей и смиренно ждущего приказаний своего императора.
– Готовы ли лошади для генерала? Если нет, то предоставьте ему моих. Ему надлежит скоро ехать...
В письме на имя Александра Наполеон уведомлял царя, что ныне даже сам Бог не в силах ничего изменить, чтобы не было того, что уже свершилось...
Военные действия для России начались в очень неблагоприятной обстановке. Войска русские были разбросаны на громадном пространстве, изолированы друг от друга и разделены на три армии. Поступило высочайшее предписание отходить от границы, ибо единственное средство к соединению армий наших состояло в неуклонном отступлении арьергардных частей русского войска.
1-й Западной русской армией командовал военный министр Михаил Богданович Барклай-де-Толли. Ее полки численностью 110 – 127 тысяч человек при 558 орудиях растянулось от Балтийского моря до Гродно более чем на 200 километров и должны были прикрывать Смоленское направление.
2-я Западная русская армия, возглавляемая князем Петром Ивановичем Багратионом, стояла у Белостока. Она насчитывала в своих рядах 45 – 48 тысяч воинов при 216 орудиях и охраняла юго-запад страны, общей протяженностью около 100 километров. В ее задачу входило атаковать фланги неприятеля и наносить удары по его тылам.
3-я Западная, так называемая «обсервационная», резервная русская армия под предводительством генерала от инфантерии Александра Петровича Тормасова стояла в окрестностях Луцка на Волыни и защищала Украину и Киев. Под ружьем здесь было 46 тысяч солдат и офицеров при 170 орудиях.
И, наконец, Дунайская армия адмирала П.В. Чичагова состояла из четырех пехотных корпусов и нескольких отрядов. Располагалась она в Молдавии.
Французы почти в два раза превосходили числом русских. Великая армия развернулась на фронте в триста верст, а русская – более чем на шестьсот. Такое расположение давало Бонапарту значительное преимущество.
Александр I безгранично доверял своему главному военному советнику, прусскому генералу Пфулю, который и разработал столь неудачный план построения войска.
Чванливые, высокомерные и по большей части бездарные советники царя, так называемые «военные теоретики прусской выучки» типа надменного Пфуля, к сожалению, задавали тон в те времена в русской армии. Они являлись авторами громоздких математически рассчитанных диспозиций, согласно которым войска действуют по строгому ранжиру «Одна колонна идет вперед, вторая колонна – назад».
Военачальники суворовской выучки Багратион, Ермолов Раевский, Дохтуров презирали прусских штабных теоретиков и предлагали в противовес им русскую смекалку и находчивость, успешную, не раз проверенную ими на деле тактику рукопашного боя, личную отвагу и мужество.
Наполеон же хотел превосходящими силами окружить и уничтожить русские армии поодиночке в самый короткий срок, не дав им возможности сблизиться и объединиться. С победой и великой славой он намеревался вступить в Москву.
Декабрист А.П. Муравьев в автобиографических записках метко охарактеризовал обстановку накануне кампании 1812 года: «...умы во всей России, особенно же в обеих столицах, были в высшей степени взволнованы и возбуждены. Сердца военных пламенели встретиться и сразиться с неприятелем. Дух патриотизма без всяких особых правительственных воззрений сам собою воспылал...».
Страдное лето двенадцатого года выдалось переменчивым, солнечные дни постоянно смеялись пасмурными холодными.
От границы русские войска стали отступать в глубь страны. Следом за ними снимались с обжитых мест и жители. Вооружившись ружьями, топорами, вилами, одни пробирались в леса, ставили в глухомани шалаши, рыли землянки, другие шли в ополчение...
Покидая родимые очаги, крестьяне поджигали избы, амбары, мельницы, опустошая все на пути неприятеля. На чужой стороне французов встречали обезлюдевшие селения, потравленные хлеба, угарный дым да пепелища. Артиллерийские обозы с боевыми припасами и фуры с провиантом отставали от передовых частей. Солдаты Наполеона прочесывали села, отбирали у крестьян хлеб, скотину, одежду – мародерствовали.
По дороге из Витебска французский офицер кликнул солдата-поляка и послал его с небольшой партией в ближайшее село за провиантом. В сумерках посыльный вернулся и с дрожью в голосе доложил своему командиру: «Здесь наступает конец местам, где население понимает нас. Дальше люди иные. Все против нас. Смотрят исподлобья, пылают неистребимым гневом. Никто ничего не хотел давать. Нам приходилось брать силой, рискуя жизнью. Вдогонку нам летели проклятия. Мужики вооружены пиками, причем многие на конях...»
Нередко в «великой армии» голодные солдаты нападали на своих же товарищей, возвращавшихся с награбленной добычей, и силой отбирали ее. Видя, как день ото дня падают нравы в войсках, Бонапарт страшно гневался и обвинял начальника штаба: «Ваш главный штаб вовсе бесполезен. Ни жандармы, ни офицеры – никто должным образом не исполняет своих обязанностей. Хуже теперешнего порядка не может быть. Мы теряем множество людей от беспутной посылки за припасами, от междоусобиц, теряем гораздо больше, нежели потеряли бы, ежедневно сражаясь. Все это грозит армии крахом...»
Ахтырский полк состоял в то время в арьергарде армии Багратиона, отходившей к Минску. Гусары Давыдова, находясь в передовом отряде генерал-майора Васильчикова, участвовали в боях под Миром, под Романовом, под Дашковкой.
Давыдов командовал ночной экспедицией под Катынью, сражался под Дорогобужем, Максимовым, Поповкой и Покровом, участвовал во всех кровопролитных сшибках с авангардом неприятеля вплоть до Гжатска.
Сокрушительные удары по французам наносил атаман войска Донского Матвей Иванович Платов. Его поддерживали батальоны ахтырцев. Разгромив под Миром кавалерийскую бригаду генерала Турно, Платов докладывал командующему армией князю Багратиону: «...пленных взято так много, что за спешкой не успел их даже хорошенько пересчитать. Есть среди них штаб-офицеры и унтер-офицеры. С сим имею честь ваше сиятельство поздравить...» Багратион радовался и отдавал приказы, поднимающие боевой дух солдат и офицеров: «Наконец неприятельские войска с нами встретились. Генерал от кавалерии Платов гонит их и бьет нещадно... Войска неприятельские не иначе как сволочь со всего света... Они храбро драться не могут, особливо боятся нашего штыка. Наступайте на француза. Пуля мимо. Подойди к нему – он побежит. Пехота коли! Кавалерия руби и топчи!»
...Бой под Миром закончился поражением французов. В сумерках Денис Давыдов в парадном мундире, при орденах, вышел из своей палатки и направился к атаману Донского казачьего войска Платову. Проходя мимо лазаретных палаток, он свернул вправо, и перед ним предстала горестная и торжественная картина прощания с павшими.
У большого шалаша, сооруженного из елового лапника, стояли полукругом казаки и гусары с горящими свечами в руках. Среди множества военных выделялся маленький согбенный священник в траурной ризе. Чуть позади в забрызганном грязью подряснике прохаживался высокий, длинноволосый дьячок. Он держал в руке дымящееся кадило и слегка помахивал им. У входа в шалаш выстроился сводный полуэскадрон рослых бородачей-казаков, чуть левее – трубачи. Впереди возвышался атаман Матвей Иванович Платов с низко опущенной головой. Лица людей, присутствовавших при погребении, были преисполнены глубокой скорби.
Денис Давыдов остановился шагах в пятнадцати от шалаша и услышал команду: «На кра-ул!»
Вслед за тем при горестных звуках погребального марша атаман приказал вынести из шалаша на носилках тела казаков, павших на поле брани, и положить их рядом друг с другом.
Казаки и гусары, осеняя себя крестным знамением, прошептали: «Упокой, Господи!»
Покойники одеты были в парадные мундиры, на коих поблескивали боевые ордена и медали.
Когда трубачи закончили играть траурный марш, офицер подал команду: «На пле-чо!»
Священник служил панихиду с кроткой торжественностью, преисполненный важности своей миссии. Слаженно пел хор певчих-казаков.
Лица воинов были суровы и мужественны. В толпе слышался шепот и вздохи молящихся.
Когда же священник, став на колени, дрогнувшим голосом произнес:
– Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, на жестокой и смертельной брани убиенных, и сотвори им вс-е-чную па-а-мять! – то даже среди стойких солдат прокатились глухие рыдания.
– Вечная память! Вечная намять! – пропели певчие.
В скорбном молчании соратники прикрыли шинелями тела двадцати трех рядовых казаков и сотника, взялись за носилки и двинулись под звуки погребального марша за священником. Подле глубокой ямы стояли бородатые казаки с лопатами в руках.
Длинною вереницей потянулась печальная воинская процессия: рядовые и офицеры медленно шли с непокрытыми головами и горящими свечами в руках. За носилками с прахом храброго сотника Дягилева шагал атаман Донского казачьего войска Матвей Платов.
Возле холма свежевырытой земли тела павших сняли с носилок и переложили на шинели.
По окончании молитвы казаки стали подносить покойников к могиле и осторожно опускать их в нее. Священник первым бросил в могилу горсть земли сырой. И вдруг среди глубокого траура прогремел пушечный выстрел. Прогремел в той стороне, где остановился на ночлег поверженный неприятель. Следом послышался треск ружей.
Воины тревожно переглянулись.
– Не робей, робята! – хладнокровно успокоил их Платов. – Не суетись. Ибо суета – мать всех бед и несчастий. Успеем сделать все как положено. Однако должен заметить, что господа французы оказались весьма любезны. – Тут атаман казаков обратился к Денису Давыдову и стоявшим рядом с ним офицерам: – Слышите? Враги отдают почесть нашим павшим героям. Они изволили открыть огонь в тот момент, когда это должны были сделать мы, да не успели. А теперь, братцы, настало наше время. Пали! Пали, братцы! – приказал он казакам.
Прогремели три оглушительных залпа.
Меж тем выстрелы со стороны неприятеля продолжались.
Раздались сигналы тревоги. По разным сторонам поскакали вестовые.
Когда на могиле водрузили крест, Денис Давыдов выдвинулся вперед и обратился к стоящим рядом:
– Скажем, друга, последнее «прости» и помолимся за наших боевых товарищей, братьев наших, за всех казаков, стяжавших доблесть и славу в грозной сече под Миром!
За сим последовала минута скорбного молчания.
– По местам! – отдал приказ Платов и быстрым шагом прошел к своей палатке.
Там, где были погребены казаки, остались лишь смятые кусты, высокий холм земли с крестом поверху да зыбкие языки пламени догоравшего в ночи костра.
Несмотря на победные вылазки казаков, положение во 2-й армии день ото дня ухудшалось. В непрерывных схватках и перестрелках с французами она преодолела более шестисот верст с обозами, ранеными и пленными, буквально неся на своих плечах неприятеля. Движение войска постоянно затруднялось, полки и эскадроны растягивались на значительные расстояния. Не хватало провизии. Лошади пухли и падали на ходу от изнеможения. Однако солдаты русские держались из последних сил. На коротких ночных привалах, голодные и усталые, они засыпали мертвецким сном, чтобы на заре вновь стойко отражать атаки неприятеля.
Маневрируя, Багратион разгадывал замыслы врага и выводил полки из окружения. Однако доблестный генерал суворовской выучки не привык пятиться, он воодушевлял солдат, готовил войска к сражению. «При виде Багратиона всем делалось веселее на душе, – вспоминал преданный князю Денис Давыдов, – каждый горел нетерпением сразиться, удостоверить французов, что мы уходили от них непобежденные. Представляя себе опасность, которой подвергалось Отечество, никто не думал о собственной жизни, но каждый желал умереть или омыть в крови врагов унижение, нанесенное русскому оружию бесконечною ретирадою».
По 2-й Западной армии зачитали строгий приказ князя Багратиона, который гласил, что за малейший проступок против дисциплины, за уклонение от сражения или если кто-либо из воинов осмелится воскликнуть в панике: «Мы окружены врагами!» – грозил расстрел.
Солдаты наточили палаши и штыки, зарядили ружья. Артиллерия двигалась с зажженными фитилями. Ставили пикеты, назначали сторожевые посты...
Зная местность, крестьяне следили за неприятелем, за численностью его сил, смекали, по какой дороге он намеревается идти, и обо всем этом немедля доносили командованию.
22 июля 1812 года 1-я Западная армия во главе с Барклаем-де-Толли и 2-я под командованием Багратиона, преодолев на пути своем многие преграды, соединились под древним Смоленском. Рухнул генеральный стратегический план Наполеона разбить и уничтожить их поодиночке.
Осада Ключ-города
...И, хитрый воин, Он скликнул вдруг своих орлов И грянул на Смоленск... Достоин Похвал и песней этот бой: Мы застояли тут собой Порог Москвы – в Россию двери Федор ГлинкаНескончаемые колонны «великой армии» подступали к окрестностям Смоленска, нареченного народом Ключ-городом, ибо через него проходила старая дорога на Москву. Тысячу лет стоял Смоленск на берегу Днепра как верный страж западных границ России, принимая на себя удары грозных завоевателей.
Генерал Николай Николаевич Раевский подбадривал солдат и готовил их к обороне. После полудня 3 августа на горизонте показались отступавшие после жестокой битвы под Красным пехотинцы генерала Дмитрия Петровича Неверовского.
«Я помню, – писал Денис Давыдов, – какими глазами мы увидели Неверовского и дивизию его, подходившую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую потом трудов и кровью чести! Каждый штык горел лучом бессмертия».
Велика была радость Раевского, ибо подкрепление прибыло в самый раз. Неверовский горячо поддержал намерение Раевского стоять здесь до конца. Но силы оказались неравные, и Раевский немедля послал гонцов к Багратиону и Барклаю-де-Толли с просьбой о новом подкреплении. Но быстрого ответа не ждал, надеясь прежде всего на боевой дух своего корпуса.
Тем временем войска маршала Даву, Нея и Мюрата уже подошли к городу и готовились к его штурму. Наполеон приказал им: «Сокрушить Смоленск!»
Артиллерия неприятеля обрушила на город шквальный огонь. При несмолкающем грохоте пушек французы в бешеном исступлении лезли по лестницам на кирпичные стены, ломились в ворота, штурмовали бастионы. Однако солдаты русские не дрогнули.
Земля гудела под копытами коней! Эскадроны неприятеля устремились на наших улан. Не выдержав натиска кавалерии маршала Груши, уланы отступили в предместье Никольское. И тут по французам открыла шквальный огонь пехота. Косматые кирасиры стали падать с коней. Враг был потрясен, круто повернул назад и ускакал за спасительные холмы.
Первый день осады Ключ-города совпал с днем рождения Бонапарта. Сочтя это добрым предзнаменованием, свита ликовала: «Да здравствует император!» Французы не сомневались в успешном исходе боя: ведь до сей поры их полководца баловало воинское счастье.
Наблюдая за ходом боя в подзорную трубу, Раевский стоял под перекрестным огнем на площадке надворотной башни. На просьбу офицеров поберечь себя генерал с достоинством отвечал:
– Смею ли я думать о своей безопасности в те роковые часы, когда решается судьба не только армии нашей, но и судьба народа нашего, а быть может, и судьба всей России. Тут каждый солдат обязан исполнять свой долг до конца!
В жарких рукопашных схватках русские пехотинцы крушили и сбрасывали французов штыками в глубокий ров.
С наступлением темноты бой начал стихать. К Раевскому на взмыленной лошади с черным от копоти лицом прискакал адъютант Багратиона. Великим чудом он сумел проникнуть в осажденный город и вручил генералу столь желанный пакет. «Друг мой! – писал князь Багратион. – Я не иду, а бегу. Желал бы иметь крылья, чтобы поскорее соединиться с тобою. Держись! Бог тебе помощник!»
Доблестные воины генерала Раевского с честью выдержали ураганный натиск французов до подхода двух русских армий, стоявших за Днепром. Под покровом ночи в Смоленск форсированным маршем вошли солдаты Багратиона, а затем и войска Барклая-де-Толли.
Корпус генерала Раевского, стоявший на каменном Королевском бастионе, отразил все атаки врага и не пропустил его в ворота города. Героические русские солдаты одержали здесь верх над превосходящими силами неприятеля.
Истекавших кровью, но не ведавших горечи поражения пехотинцев Раевского сменили ночью полки генерала Дохтурова.
– Желаю победы, Дмитрий Сергеевич! – напутствовал Дохтурова Николай Николаевич Раевский. – Мои соколы сражались с твердой решимостью погибнуть у ворот древнего города, но не пропустить врага. И одолели французов. Успех обороны Смоленска и сравнительно малые потери солдат моих я предписываю прежде всего милости Божией и слабости атак французов.
– Хороша слабость! Враг многочислен и силен, как никогда! – усмехнувшись, возразил Дохтуров и зябко поежился. Его трясла лихорадка. – Я видел ров. Он доверху завален синими мундирами, меховыми шапками гренадер и оружием. Славный «подарок» вы поднесли Бонапарту на день рождения!
– Да вы, кажется, больны, Дмитрий Сергеевич? – забеспокоился Раевский, глянув при свечах в желтое, с темными пятнами у глаз, лицо генерала. – Помяните слово, дело предстоит крутое, жаркое. Наполеон подтянул к стенам свежие силы. Поутру готовится штурм.
– Лучше умереть на поле чести, нежели в постели, так сказал я штабному лекарю, – ответил Дохтуров. – Будем драться, Николай Николаевич!
– Выходит, Дохтурову не надо «дохтура», – пошутил Раевский, и боевые друзья крепко обнялись.
Отмечая успех обороны Смоленска, Денис Давыдов писал: «Без сего великого дня... не было бы ни Бородинского сражения, ни Тарутинской позиции, ни спасения России».
Подвиг солдат генерала Раевского у стен древнего города на сутки задержал победоносное шествие врага к первопрестольной столице, решительно изменил дальнейший ход военных действий и лишил Бонапарта дорогого подарка в день его сорокатрехлетия. Краше всего об этом свидетельствует признание самого Наполеона: «Я обошел левое крыло русской армии, переправился через Днепр и устремился на Смоленск, куда прибыл 24 часами прежде русской армии. Отряд из 15 000 человек (то есть корпус Раевского), нечаянно оказавшийся в Смоленске, имел счастье оборонять город целый день и дал Барклаю-де-Толли время, чтобы поспеть на следующие сутки с подкреплением. Если б мы застали Смоленск врасплох, то, перешли Днепр, атаковали бы в тыл русскую армию, в то время разделенную и шедшую в беспорядке. Такого решительного удара совершить не удалось... Видно, этот русский генерал сделан из того материала, из которого делаются маршалы!»
Теперь ли нам дремать в покос, России верные сыны?! Пойдем, сомкнёмся в ратном строе, Пойдем – и в ужасах войны Друзьям, Отечеству, народу Отыщем славу и свободу Иль все падем в родных полях!писал в «Военной песне» видный поэт и прозаик, участник Отечественной войны 1812 года и обороны Смоленска Федор Глинка.
...С рассветом 17 августа сражение закипело с еще большей яростью. Свыше трехсот орудий сокрушало древний Смоленск. Тучи бомб, гранат, чиненых ядер обрушились на башни, дома, церкви... Вскоре все, что могло гореть, было объято пламенем. Солдат обдавало градом пуль и картечи. Со стонами падали наземь раненые. Толпы жителей в страхе и смятении метались по охваченным пожаром улицам.
Едва утихла пушечная канонада, как на штурм двинулись корпуса маршалов Нея, Даву, Мюрата. Польская дивизия под командованием князя Поняговского устремилась к предместьям города.
«Виват!» – кричали поляки, бросаясь в атаку.
Застучали барабаны, засверкали штыки, разгорелся жаркий бой. И здесь солдаты русские еще раз доказали врагу, что нет им равных в рукопашной схватке. В ход пошло не только оружие, но и кулаки, и щетки для чистки стволов пушек – банники. Солдаты дрались ими как палками.
Не выдержав стремительного удара, неприятель отступил.
Распаляясь час от часу, сражение кипело уже и у центральных ворот, и на бастионах, и на окраинных улицах...
Однако и второй день осады Смоленска не принес французам успеха. Враг был отброшен храбрыми ратниками Дохтурова при поддержке дивизий генерал-лейтенанта Коновницына.
До позднего вечера не смолкала пушечная канонада над осажденным городом, подернутым черно-багровым заревом пожарищ.
В кромешной тьме из храма вынесли икону Смоленской Божией Матери. Шествие сопровождал унылый звон колоколов.
Угарный дым, восходя к небу, расстилался под самыми облаками. Бушевало все охватывающее и сметающее на своем пути пламя, трещали и рушились строения.
Ночью французы прекратили штурм города, расположившись на прежних позициях.
Солдаты русские принялись тушить пламя.
За день пылающий Смоленск опустел, в нем остались лишь женщины с малолетними детьми да старики. Большинство жителей побросали дома свои, имущество и бежали из пылающего ада.
Удостоверившись, что в лоб его армии не взять город, не сломить дух смолян, не порушить его каменные бастионы, Наполеон решил обойти его и охватить в кольцо.
Барклай-де-Толли и Багратион разгадали маневр неприятеля. Сберегая силы армии, главнокомандующий отдал секретный приказ войскам об отступлении. В ночи были сняты охранные посты. Входы на крепостной стене солдаты загородили камнями и бревнами. Мосты же через Днепр подожгли. И по освещенным пламенем улицам ночного Смоленска, мимо разрушенных крепостей, церквей и горящих домов потянулись мужественные защитники древнего города.
Оставив арьергард в четырех верстах от места сражения, русская армия отходила проселочными дорогами, держа путь к столбовой Московской.
Солдаты жаждали решительного боя, и мало кто из них понимал тогда, сколь важную цель, отступая, преследовал их осторожный, умудренный боевым опытом главнокомандующий. Предвидя, что он дает своим недоброжелателям новый повод заподозрить его не только в нерешительности боевых действий, но и в равнодушии к судьбе Отечества и даже в измене, сам Барклай-де-Толли так объяснял сложность создавшегося положения: «Цель наша при защищении развалин смоленских стен состояла в том, чтобы, занимая там неприятеля, приостановить исполнение намерения его достигнуть Ельни и Дорогобужа и тем предоставить князю Багратиону нужное время прибыть беспрепятственно в Дорогобуж. Дальнейшее удержание Смоленска никакой не может иметь пользы, напротив того, могло бы повлечь за собою напрасное жертвование храбрых солдат. Посему решил я, после удачного отражения приступа неприятельского, ночью оставить Смоленск, удерживая только Петербургский форштадт, и со всею армией взять позицию на высотах против Смоленска, давая вид, что ожидаю его атаки».
Стоны раненых, плач женщин и сирот сопровождали отступающие войска. Много смолян уходило вместе с армией. Однако старики, раненые да малые дети не могли оставить город. Толпою двинулись они в собор, ища защиты в его стенах.
На другой день Наполеон въехал в Смоленск. Любуясь зловещей картиной пожара, он не проронил ни слова. Войдя в собор, император оглядел немощных, истомленных осадою смолян, сдавшихся на милость победителя. Генералы и маршалы его свиты услышали единственную сорвавшуюся с уст их повелителя и ставшую вскоре широко известной фразу:
– Вот зрелище, подобное извержению Везувия!
Несмотря на падение Ключ-города, французы ощутили на плечах своих при его осаде сокрушительную силу русских штыков. Потери неприятеля оказались весьма велики, и офицеры наши по сему поводу шутили: «Потерпев победу под Смоленском, Бонапарт решил более не рисковать!»
Воспользовавшись пленением генерала Тучкова при Валутиной горе, французский император предложил Александру I перемирие. Однако желанного ответа так и не дождался.
«Тем хуже для русских, – разгневался Наполеон. – Я подпишу им мир на развалинах Москвы!»
А верстах в десяти от порушенного, охваченного пламенем города на Московской дороге пришпорил коня статный всадник с кудрявыми волосами и густыми усами вразлет. То был Денис Давыдов. Губы пламенного гусара что-то тихо шептали. И в шепоте том улавливались слова: «Пал древний Смоленск! Однако, клянусь честью русского офицера, французам сие не пройдет даром!»
Из огня да в полымя
Мужайся, бодрствуй, князь Кутузов! Коль над тобой был зрим орел, Ты, верно, победишь французов... Г.Р. ДержавинДо коих пор отступать будем? Ведь позади Белокаменная!» – все громче роптали солдаты.
Барклая-де-Толли встречали в армии гробовым молчанием, словно изменника Родины.
По сему поводу Пушкин писал в «Полководце»:
...О вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой: Все в жертву ты принес земле тебе чужой. Непроницаемый для взгляда черни дикой, В молчанье шел один ты с мыслию великой, И, в имени твоем звук чуждый невзлюбя, Своими криками преследуя тебя, Народ, таинственно спасаемый тобою, Ругался над твоей священной сединою...Меж тем войска русские, сохранив главные силы и резервы армии, продолжали медленно, с боями отходить к Москве.
Гвардейский капитан Сеславин, ставший вслед за Давыдовым командиром партизанской партии, вспоминал те страдные дни: «С первого шага отступления нашей армии близорукие требовали генерального сражения, но Барклай был непреклонен. Армия возроптала, в особенности после Смоленска. Главнокомандующий подвергнут был ежедневным насмешкам и ругательствам от подчиненных, а у двора – клевете. Как гранитная скала с презрением смотрит на ярость волн, разбивающихся о ее подошву, так и Барклай, презирая не заслуженный им ропот, был, как и скала, неколебим».
Видя повсюду возмущение и недовольство военным министром, царь вопреки своему желанию назначил главнокомандующим армией испытанного маршала суворовской школы Михаила Илларионовича Кутузова. При встрече Александр I напутствовал его высокими, полными надежд словами: «Идите спасать Россию!»
Назначение Кутузова народ принял с великой радостью. Михаила Илларионовича встречали криками: «Сла-а-ва! Ура-а-а! Приехал Кутузов бить французов!»
17 августа Кутузов прибыл в Царево-Займище, где находилась русская армия. Поздоровавшись с выставленным по сему случаю почетным караулом, он глянул в лица солдат и сказал с гордостью:
– Можно ли отступать с этакими-то молодцами!
На другой день фельдмаршал произвел смотр войскам.
Польщенные вниманием светлейшего князя, солдаты начали тянуться и чиститься. Заметив волнение, Кутузов успокоил их: «Не надо! Ничего этого не надо! Я ведь приехал только посмотреть, здоровы ли вы, дети мои! Солдату в походе не о щегольстве думать: ему надобно отдыхать после трудов и готовиться к победе».
Во время смотра произошел один случай, на первый взгляд весьма курьезный, однако именно он повлиял на то, что солдаты и офицеры воспрянули духом.
С восточной стороны в небе неожиданно появился орел. Похожий издалека на распростертую темную рубашку, он стал парить над войсками и над семидесятилетним полководцем, объезжавшим полки на белом коне. Приметив орла, Кутузов поднял над головой кавалерийскую фуражку, обнажил седовласую голову и приветствовал царя птиц победоносным:
– Ура! Ур-а-а-а!
Войска воодушевились и дружно подхватили кутузовское «Ура-а-а!». Долго, с перекатами гремело «Ура-а-а!» над полками и эскадронами. Все признали за счастливое предзнаменование появление орла над Светлейшим, ибо Кутузов считался одним из ближайших сподвижников великого Суворова.
В тот же день главнокомандующий велел во всех полках служить молебны Смоленской Божией Матери, а для иконы Ее, вынесенной из объятого пожаром города и находившейся при армии, он распорядился сделать новый створчатый киот.
Добрую весть о назначении Кутузова Денис Давыдов услышал в кругу ординарцев, толпившихся у вечернего огня. К костру подошел статный дивизионный гусарский генерал Дорохов, с гордостью сообщил:
– После графа Николая Михайловича Каменского я имел честь послужить в Турции с Михаилом Илларионовичем. Могу сказать по-гусарски: дай-то Бог, чтоб наш кривой[6] старик поскорее сюда прибыл. А раз он, батюшка, здесь, – мы перестанем бежать под гору во все лопатки на немецкий лад. Он нас остановит и поведет не спинами, а лицами к неприятелю. Ну, тогда поговорим-с!
«Кутузов в главной квартире!» – ликовали солдаты и офицеры. Спокойствие и уверенность в своих силах заступили место былым горестям и тревогам. Войска и народ поздравляли друг друга словно со Светлым праздником, обнимались посреди улиц, считая себя спасенными.
Декабрист П.С. Пущин провел кампанию двенадцатого года в составе лейб-гвардии Семеновского полка. О прибытии в армию нового главнокомандующего он записал в своем дневнике: «Князь Кутузов посетил наш лагерь. Нам доставило большое удовольствие это посещение. Призванный командовать действующей армией народа почти против желания государя, он пользовался всеобщим доверием».
Известная французская писательница, госпожа Сталь, стоявшая в оппозиции к Наполеону и выдворенная в 1802 году из Парижа за резкие и смелые высказывания в адрес императора, жила во время войны в Петербурге. Как только она узнала о назначении Кутузова во главе русского войска, радость ее была безгранична.
Госпожа Сталь тотчас же явилась на прием к Светлейшему, «преклонила пред ним чело и возгласила своим высоким и торжественным голосом: «Приветствую ту почтенную голову, от которой зависит судьба Европы».
Кутузов возглавил армию в самый опасный для Родины момент, когда Наполеон уже овладел Смоленском и его войска двигались к Москве.
Князь Багратион отметил, что Смоленская губерния весьма хорошо показывает свой патриотизм, мужики здешние бьют французов, где те только попадаются в малых командах. Мужики страх как злы на неприятеля из-за того, что церкви грабит и деревни жжет.
Крестьяне защищали дома свои от неприятеля, закапывали в землю мешки с зерном, жгли избы, резали и угоняли в глухие леса скот. А отдельные храбрецы вооружались топорами, вилами и насмерть забивали супостатов. День за днем ширилась в тылу врага народная война.
Отходя во главе отряда ахтырских гусар 2-й армии Багратиона, Давыдов хмурился и повторял в пути навязчивую и самоуничижительную фразу: «Не вижу себя полезным Отечеству более рядового гусара».
А за несколько дней до знаменитого Бородинского сражения кавалергардский поручик Орлов, как говорится, подлил масла в огонь.
Орлов рассказал Давыдову:
– В бою под Лубиным при Валутиной горе попал в плен наш славный генерал Павел Тучков.
– Неужто Тучкова взяли? – удивился Давыдов.
– Да, представь себе, Павла Тучкова. Как всегда, он скакал во главе колонны, как вдруг пуля ударила в шею его коня. Конь генерала поднялся на дыбы, отчаянно заржал – и упал замертво.
– Хорош был дончак...
Видя, что генерал на земле, полк остановился...
– Так, так... А дальше?
– Тучков тотчас же поднялся на ноги. И, чтобы ободрить солдат, крикнул: «Ура-а-а! За мной!» Возглавляя правый фланг первого взвода колонны, он повел солдат на неприятеля, все ускоряя и ускоряя шаг... Видя приближение наших, французы остановились в ожидании и изготовились к бою. С криками «ура-а-а!» солдаты кинулись на врага. Неприятели встретили нас штыками. Однако французов оказалось значительно больше. Они сумели сдержать наш натиск и опрокинули авангардную колонну. При этой жарком сшибке Тучков, стоявший в первых рядах, получил удар штыком в бок. Теряя сознание, он рухнул наземь. Французы тут же окружили и пленили храбреца.
– Жаль Павла Тучкова...
– А вообще-то, сколь мог я увидеть, французы разобщены и пребывают в дурном настроении. Они походят на Ксерксовы толпы[7], – добавил поручик Орлов в конце своего рассказа. – С сотнею-другою казаков да гусар можно нанести им много бед.
Воспламененный услышанным, Денис Васильевич долго не мог сомкнуть глаз и успокоиться, припоминая дерзкие вылазки по тылам неприятеля своего бесстрашного, старшего по возрасту боевого друга, генерала Кульнева. Денно и нощно он стал обдумывать план партизанских действий в тылу французов. «Буду просить себе отдельную команду, – размышлял пламенный гусар. – Ибо в ремесле нашем тот только выполняет долг свой, кто преступает за черту свою, не равняется духом, как плечами, в шеренге с товарищами, на все напрашивается и ни от чего не отказывается».
Давыдов решил создать из казаков и гусар небольшие отряды и при поддержке крестьян наносить по «больным» местам неприятеля удар за ударом, устраивая засады в опустошенных врагом селах и деревнях, нападать и отбивать у французов обозы с продовольствием, брать в плен отставшие от основных частей резервные отряды мародеров-грабителей, двигавшихся к Москве.
Когда план окончательно созрел, Денис Васильевич написал письмо Багратиону с просьбой об исходатайствовании ему дозволения на самостоятельные партизанские действия в тылу неприятельской армии.
«Ваше сиятельство!
Вам известно, что я, оставя место адъютанта Вашего, столь лестное для моего самолюбия, и вступая в гусарский полк, имел предметом партизанскую службу и по силам лет моих, и по опытности. А, если смею сказать, – и по отваге Обстоятельства ведут меня по сие время в рядах моих товарищей, где я своей воли не имею и, следовательно, не могу ни предпринять, ни исполнить ничего отличного.
Князь! Вы мой единственный благодетель позвольте мне предстать к Вам для объяснения моих намерений, а если они будут Вам угодны, употребите меня по желанию моему и будьте надежны, что тот, который носит звание адъютанта Багратиона пять лет сряду, тот поддержит честь сию со всею ревностью, какой бедственное положение любезного нашего Отечества требует.
Денис Давыдов».
Недаром великий Лев Толстой сказал, что Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение той страшной дубины, которая, не спрашивая правил военного искусства, уничтожала французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны.
Багратион раз и другой со вниманием перечитал послание Давыдова. Здравые суждения гусара показались князю достойными внимания, и он пригласил Давыдова к себе.
Встреча произошла 21 августа у Колоцкого монастыря в крестьянском овине. Подполковник предстал перед Багратионом с воспаленными от бессонных ночей глазами и стал горячо излагать князю план боевых партизанских действии.
– Положим так, – рассуждал Давыдов, – неприятель пошел одним путем. Причем путь этот своим протяжением весьма велик. Транспорты боевого продовольствия французов растянулись и покрывают пространство от Гжати до Смоленска и далее. Меж тем обширность России на юге московского пути способствует изворотам не только партий, но и всей нашей армии. Партии наши проникнут по тылам лесами и болотами в войска неприятеля и начнут истреблять источник их силы и жизни. Откуда возьмут французы заряды и пропитание?
– Так, так, – оживился Багратион, сверкнув черными очами. Он со вниманием слушал разумные доводы подполковника.
– Ведь земля наша не столь изобильна, чтобы придорожная часть ее могла пропитать двести тысяч войска. – Вдохновленный похвалой князя, Давыдов продолжал говорить с еще большим жаром. – Оружейные и пороховые заводы – не на Смоленской дороге. К тому же появление наших солдат посреди рассеянных войной поселян ободрит их дух и обратит войсковую войну в народную.
– Дельно! Весьма дельно! – одобрил Багратион предложение подполковника, ему пришлись по душе дерзкие боевые операции в тылу врага. Князь пожал руку Давыдова и заверил его: – Нынче же пойду к Светлейшему и изложу ему суть дела.
Однако Кутузов был очень занят, обдумывая предстоящее генеральное сражение, и строго-настрого наказал никого к нему не пускать. Давыдову пришлось ожидать решения до той поры, когда Михаил Илларионович освободится и примет князя Багратиона.
А русская армия меж тем подошла к Бородину. Ахтырский гусарский полк разместился недалеко от села Семеновского. И пред Денисом Васильевичем предстали столь близкие и дорогие его сердцу места, где проскакала на лихом дончаке его светлая юность. В беседке возле ручья он некогда горячо мечтал о военной службе, с интересом читал журналы, на страницах которых рассказывалось о беспримерном Итальянском походе Суворова, о славе и победных громах русского оружия.
На том холме, где прежде Денис охотился с гончими на зайцев и лис, играл в военные игры, закладывался ныне редут генерала Раевского. В низине покойно текла и позванивала на перекатах родниковая Колоча. За нею, на противоположном берегу, колосились несжатые нивы, а среди них грозно сверкали ряды штыков. Белым парусом выглядывала из-за холмов церковь. Памятный, чуть позолоченный осенью лес за пригорком превращался в засаду. Толпы солдат с грохотом ломали избы и заборы Бородина, Семеновского, Горок для постройки биваков и разжигания костров. Дом отеческий был порушен, курился дымком.
Денис Васильевич лежал с полчаса, заложив руки под голову. Горькие его раздумья прервал окрик вестового:
– Где Давыдов? Его требует к себе князь Багратион! – Взволнованный подполковник поднялся на ноги.
– Ваше благородие требует к себе князь! – повторил вестовой.
Вскоре Давыдов предстал пред князем, штаб которого находился в Семеновском.
Поутру Багратион беседовал с Кутузовым и имел честь доложить ему о перспективах партизанской войны.
Главнокомандующий отмахнулся было от предложения Багратиона, ведь предстоящее сражение у Бородина, к которому он тщательно готовился, было, по существу, битвой за Москву, битвой за Россию! «И каков бы ни был исход этой битвы, – рассуждал Кутузов, – она должна поднять упавший воинский дух и восстановить любовь народа к армии». Седовласый полководец призадумался над рискованным предприятием о действиях партизанской партии в тылу врага.
– Ну что ж, – он медленно прошелся по избе из угла в угол и, глухо кашлянув, молвил: – Уж ежели ты, Петр Иванович, считаешь это дело необходимым и полезным, пусть Давыдов возьмет пятьдесят гусар и полторы сотни казаков. Только опасная это затея. На верную гибель обрекает он себя, бесшабашная головушка. Из огня да в полымя!
Давыдов со вниманием выслушал от Багратиона мнение Кутузова.
– Верьте, князь, – горячо поклялся он. – Ручаюсь честью, отряд будет цел. За это я берусь...
– И больно хорошо!
– Только людей мало. Дайте мне тысячу казаков, и вы увидите, что будет!
– Я бы дал тебе с первого разу три тысячи, ибо не люблю ощупью дела делать, но... – пожал плечами Багратион и, помолчав, добавил: – Светлейший сам назначил силу партии. Надобно повиноваться.
– Ежели так, иду и с этим числом... Берусь! – воскликнул подполковник. – Авось открою путь большим отрядам!
– Иного я от тебя и не ожидал, – похвалил Давыдова Багратион и поинтересовался: – Имеется ли у тебя карта Смоленской губернии?
– Нет.
– Ну, с Богом! Я на тебя надеюсь!
На прощание князь снабдил Давыдова картой Смоленской губернии.
Эта карта сохранилась в архиве пламенного гусара. На полях ее помета: «Несчастная карта, по коей я партизанил в 1812 году. Денис Давыдов».
Багратион наклонился и стал быстро писать записки генерал-майору Васильчикову и генералу Карпову с распоряжением о выделении для партизанской партии лучших гусар и казаков.
Князь вручил Давыдову собственноручно написанную инструкцию о партизанских действиях, пристально глянул ему в глаза и крепко обнял его на прощанье.
Подлинник этой инструкции Давыдов хранил в целости и сохранности как священную реликвию до последних дней жизни. Вот текст послания князя П.И. Багратиона, написанный им незадолго до смерти после тяжелого ранения в битве на поле Бородина:
«Ахтырского гусарского полка подполковнику Давыдову
По получении сего извольте взять сто пятьдесят казаков от генерал-майора Карпова и пятьдесят гусар Ахтырского гусарского полка. Предписываю вам употребить все меры, дабы беспокоить неприятеля со стороны нашего левого фланга и стараться забирать их фуражиров не с фланга его, а в середине и в тылу, расстреливать обозы и парки, ломать переправы... Словом сказать, я уверен, что, сделав вам такую важную доверенность, вы потщитесь доказать вашу расторопность и усердие, и тем оправдаете мой выбор. Впрочем, как и на словах я вам делал мои приказания, вам должно только мне обо всем рапортовать и более никому. Рапорты же ваши посылать ко мне тогда, когда будете удобный иметь случай, о движениях ваших никому не должно ведать, и старайтесь иметь их в самой непроницаемой тайности. Что же касается до продовольствия команды вашей, вы должны сами иметь о том попечение.
22 августа На позиции
Генерал от инфантерии князь Багратион».
Тщательно взвесив все «за» и «против», Кутузов расценил опорную позицию у Бородина наиболее выгодной для расположения войск на плоских местностях. Русская армия прикрывала здесь Новую и Старую Смоленскую дороги. Дороги эти имели важное стратегическое значение, ибо обе вели к Москве.
Уязвимым участком грядущего сражения фельдмаршал считал левый фланг. Но сей пробел он решил «исправить искусством», доверив его «исполнение» солдатам 2-й Западной армии под водительством опытнейшего и бесстрашного полководца князя П.И. Багратиона.
В верховьях ручья Чубаровского, в двух верстах от Семеновских флешей, лежала деревня Шевардино. Вблизи ее, на одном из высоких холмов, главнокомандующий приказал соорудить крепкое земляное артиллерийское укрепление, чтобы затруднить продвижение войск неприятеля. Тем самым полкам Багратиона представлялось время лучше подготовиться к бою на левом фланге.
Вал этого укрепления имел пятиугольную форму. Опоясанный глубоким рвом, он был рассчитан на двенадцать пушек и предназначался для круговой обороны.
Французская армия направилась к Шевардину в том же порядке, в каком она вышла из Смоленска. В правой колонне по Старой Смоленской дороге двигался корпус Понятовского.
Мюрат с четырьмя резервными кавалерийскими корпусами составил авангард колонны, следовавший по Новой Смоленской дороге.
Левой колонной двигался корпус вице-короля Итальянского.
Как только неприятель, преследуя арьергард русских после боя при Колоцком монастыре, приблизился к Валуеву, цепь стрелков, рассыпанная в оврагах и кустах правого берега Колочи, открыла огонь во фланг наступавшим колоннам.
Убедившись в крепости правого крыла нашей позиции, Наполеон приказал срочно переправить через Колочу кавалерийские корпуса Нансути, Монтебля и три пехотные дивизии Даву. Бонапарт стремился как можно скорее выбить русских из прикрытий и овладеть редутом. На Старой Смоленской дороге французов поддерживал корпус Понятовского. Дивизия Компана, следовавшая за кавалерией, свернула с большой дороги и, не доходя Валуева, переправилась через Колочу.
После ураганной канонады неприятель атаковал Доронино и близлежащие рощи. Картечь причинила большой урон нашему редуту. Утром Компан овладел Дорониным, рощею и повел свои полки на штурм левого крыла войск Неверовского. Тем часом генерал Дюпелен атаковал правое крыло.
Редут примолк. Орудия его были нацелены, ружья наклонены, и дула наставлены на врага.
Французы наступали...
Прогремел залп орудий, блеснул огонь молний – наступающие полегли. Следом – вторая, еще более мощная атака французов. Неприятель ворвался в укрепления.
Но солдаты русские не дрогнули, бросились в штыки. Завязался жестокий, кровопролитный бой. Редут несколько раз переходил из рук в руки. Однако французы взяли верх: Компан овладел-таки редутом, а Моран к восьми часам вечера занял Шевардино.
На смену изрядно поредевшим войскам Неверовского прибыли гренадеры принца Карла Мекленбургского и сводная дивизия графа Воронцова. Сам князь Багратион в огне и дыму пороховом повел в атаку своих гренадер.
В центре позиции русские войска опрокинули французов и овладели батареей, стоявшей впереди Доронина. А на правом крыле Харьковский и Черниговский драгунские полки разбили французов и захватили две пушки. Оборона редута продолжалась более десятка часов кряду.
Ночью французы предприняли ряд дерзких атак на редут. Но русские богатыри не дрогнули, они опрокинули пехоту неприятеля в ров.
На помощь терпящим урон пехотинцам поспешил с отрядом кавалерии король неаполитанский Мюрат. Однако и кавалерия не изменила ход боя. Русские храбрецы успешно обороняли редут.
Меж тем войска Понятовского обошли Шевардино с левого фланга. Генерал Карпов, стоявший с казачьим отрядом на старой Смоленской дороге, сообщил в главный штаб: «Со стороны Колочи неприятель множится и значительно усиливается».
По приказу Кутузова русские войска на рассвете оставили свои разрушенные укрепления и отошли за Семеновский овраг, на главную позицию.
Задержав на сутки французов, солдаты с честью выполнили поставленную перед ними задачу.
Жаркий бой в верховьях ручья Чуборовского, у деревни Шевардино, вошел в историю как бой за Шевардинский редут. То была прелюдия Бородина.
За Шевардинский редут стояли насмерть и гусары Дениса Давыдова. «Бой ужасный! – вспоминал он впоследствии в дневнике партизанских действий. – Нас обдавало градом пуль и картечей, ядра рыли колонны наши по всем направлениям... Кости трещали».
В приказе Кутузова по армии после оставления редута особо отмечалось: «Горячее дело, происходившее вчерашнего числа на левом фланге, кончилось ко славе российского войска».
Утром французы заняли порушенное укрепление. С донесением о том, что непокорный редут наконец пал, в палатку к Наполеону вошел сияющий генерал Коленкур.
Глянув исподлобья на своего друга, служившего прежде пять лет кряду послом в Петербурге, император поинтересовался:
– Сколько пленных?
Лицо генерала передернулось от этого внезапного вопроса, словно от зубной боли.
– Ни единого человека, ваше величество, – печально раз вел он руками.
– Ни одного?! – поразился Наполеон. – С ума посходили русские! Неужели они решили победить или умереть?
Коленкур пожал плечами и, преданно глядя в глаза своему императору, обронил с печалью:
– О, эти русские фанатики! Они предпочли смерть пленению!
Наполеон просчитался. Он пренебрег духом народа, который виделся ему дремавшим в бездействии. Теперь французы вели войну с народом, сплоченным в единую великую православную Россию. Ибо все в России – от мала до велика – готовы были пролить свою кровь для спасения Отечества, его святых алтарей и престолов.
«Русский солдат – спартанец, – довольно точно подметил граф Ланжерон, – он воздержанием в пище и питье походит на испанца, терпением – на чеха, гордостью – на англичанина, мужеством – на шведа, предприимчивостью и энтузиазмом – на француза или на венгерца. В нем нет жестокости. Никогда не слышен ропот в среде русских солдат, во имя России и царя они всегда готовы на геройские подвиги».
После Шевардина наступило короткое затишье, затишье перед надвигающейся грозной бурей.
25 августа отряд Давыдова в составе пятидесяти гусар и восьмидесяти казаков, вместо ста пятидесяти обещанных, при трех офицерах Ахтырского полка и двух хорунжих казачьего войска, вступил на рискованное, многотрудное и славное поприще.
Кто-то из штабных офицеров, ненароком прослышавший о партии партизан, с насмешкой крикнул вслед Давыдову:
– Вот ужо погоди! Заберут тебя французы, кланяйся тогда нашим пленным! Передай привет и генералу Павлу Тучкову. Пусть-ка он накажет тебе в другой раз не партизанить!
Давыдов резко осадил норовистого коня и, по привычке крутнув черный гусарский ус, с достоинством ответил насмешнику:
– Сам погоди! Смейтесь, маменькины сынки! Вам известен лишь огонь восковых свеч да запах пороха при фейерверках. Дайте срок, я вам самого Наполеона приведу, как бычка на веревочке! – и, не оглядываясь более, подполковник вместе с казаками и гусарами на рысях поскакал по широкой, клубящейся пылью проселочной дороге и вскорости скрылся из виду. Темными, дремучими борами и глухими тропами отряд пробрался в тыл французов. Так началась полная риска, опасностей, смелых вылазок, засад и нападений на врага, партизанская жизнь Дениса Давыдова.
К Наполеону в гости
...Идет за шумными французскими полками И ловит их, как рыб, без невода, руками. Его постель – земля, а лес дремучий – дом! И часто он с толпой башкир и с казаками, И с кучей мужиков, и конных русских баб, В мужицком армяке, хотя душой не раб, Как вихорь, как пожар, на пушки, на обозы, И в ночь, как домовой, тревожит вражий стан... Федор ГлинкаНе переставая моросил дождь, казалось, будто влажные облака опускаются с неба на землю. Миновав села Сивково, Борис-Городок, Егорьевское, партизаны двинулись на Медынь.
Давыдов долго искал подходящее место для стоянки отряда и облюбовал наконец Скугорево. Сельцо это располагалось на холме, невдалеке от столбовой Смоленской дороги. В ясные сентябрьские дни отсюда просматривались окрестности на семь-восемь верст в округе. С востока к селу примыкал бор протяжением почти до самой Медыни. В случае опасности партизаны могли схорониться в лесных дебрях.
В Скугореве Давыдов поставил свой первый «притон» – так в шутку, с разбойной лихостью, партизаны окрестили свою стоянку.
А французская армия тем временем устремилась к Москве. Обозы, парки, конвои следовали на ней по обеим сторонам дороги, растянувшись на тридцать-сорок верст.
1 сентября 1812 года Наполеон вступил в Москву, а Денис Давыдов, ничего не ведая о том, 2 сентября на рассвете напал со своим отрядом на шайку мародеров, расположившихся в селе Токареве. Операция закончилась успешно: партизаны пленили девяносто французов и отбили у неприятеля обоз с награбленным у селян имуществом и провиантом.
Не успели крестьяне разобрать свои вещи, похищенные недругами, как разведка донесла: «Снова мародеры!»
Давыдов велел казакам седлать коней, прятаться за избами и ждать команды.
Видя, что грабители плетутся по дороге, не выставив охраны, вожак партизан впустил их в село. Как только французы расположились на ночлег, последовал приказ: «В атаку!»
Гусары и казаки бросились на мародеров и обезоружили их. Застигнутая врасплох шайка грабителей сдалась на милость победителя.
Вожак велел партизанам созвать сход крестьян Токарева.
– Слушайте, православные, со вниманием и запоминайте, – повел речь Давыдов. – Ежели нежданно-негаданно француз явится к вам в гости, то перво-наперво примите его дружелюбно, с поклонами.
– Неужто с поклонами?
– Да, с поклонами. Ибо поклоны неприятель понимает куда лучше слов. Не стреляйте зазря, а не то он шибко разгневается и запалит деревню, перебьет вас всех до единого. Ведь числом француз может оказаться куда более вас, да еще при пушках. Потому пойдите на хитрость, ибо француз не лыком шит, поднесите ему все, что у вас есть съестного, в особенности питейного. Уж больно он до вина охоч! А как солдаты да офицеры к ночи-то перепьются, то уложите их спать пьяными. И только приметите, что они крепко заснули, бросайтесь к оружию их. Оружие у врага обычно лежит кучею в углу избы либо на улице поставлено. Не робея свершите то, что Бог повелел свершать с врагами церкви Христовой. Истребив неприятеля, закопайте тела в хлеву, в бору либо в другом глухом месте. А добычу военную – мундиры, каски, ремни – все сожгите. Костры заройте. Осторожность в нашем деле – первейшая статья. Сие необходимо для того, чтобы шайки других басурманов, наведавшись к вам, не наткнулись бы на след ваш и не прознали про ваши дела. Иначе не поздоровится. Все то, о чем я толковал тут с вами, украдкой перескажите соседям. Ясно?..
– Знамо дело! Чего уж тут не понять... – отвечали мужики.
– А ты, брат староста, – Денис Васильевич обратился к пожилому крестьянину в лаптях, с окладистой седой бородой, – имей строгий надзор над всем тем, о чем я тут толковал. Да запомни хорошенько, что на дворе твоем должны быть два-три парня в полной готовности. Едва завидят они французов, пусть седлают коней и немедля скачут порознь искать меня. Мы тотчас придем к вам на помощь. Ясно?
– Ясно, ваше благородие, – ответствовал староста, кланяясь Давыдову в пояс.
Вожак партизан велел казакам раздать крестьянам Токарева взятые у неприятеля ружья и патроны, а пленных французов приказал переправить под конвоем в ближний уездный город Юхнов. Юхнов находился в стороне от столбовой Смоленской дороги, по которой денно и нощно двигались полчища неприятеля. Город этот был удобен для партизан как опорный пункт по связи с тылом, ибо французы туда еще не наведывались. В Юхнове стояло под ружьем местное ополчение.
На первых порах перед отрядом возникли два главных препятствия: с одной стороны, повсюду рыскали мародеры, грабящие дома и поджигающие деревни, с другой – свои же крестьяне. В каждом селении, где еще не появлялся враг, ворота были заперты на засовы, а при них стояли стар и млад с вилами, кольями, топорами, а то и с ружьями.
Не раз партизаны вступали в переговоры с крестьянами:
– Здравствуйте, православные! Пред вами не французы, а русские. А пришли мы защищать родное Отечество и православные церкви...
В ответ на эти слова казаки и гусары нередко получали выстрел в спину, а над их головами пролетал брошенный с размаху топор.
Гневаясь, Давыдов спрашивал селян:
– Ну, скажите мне на милость, православные, почему вы приняли нас за недругов?
– Да вишь, родимый, – степенно отвечал староста, указывая на пышные мундиры гусар и на их погоны, – это, бают, с одежей франца схоже.
– Разве я не на русском языке с тобой говорю? – кипятился Давыдов.
– Да ведь и у них, поди, всякого сброда люди, – уклончиво отвечал староста. – А ну перекрестись, ежели русский.
Давыдов смиренно крестился. Оглаживая пушные усы и похохатывая, он грозил для острастки партизанам кулаком.
А однажды с самим Давыдовым произошел весьма курьезный случай. Партизаны миновали в тот день несколько деревень, спаленных французами. Позади остались обугленные избы, закоптелые порушенные печи, груды бревен да кладбищенские кресты. И вдруг за лесом разведчики набрели на нетронутую неприятелем деревеньку. Поодаль, на взгорке, стоял барский дом. Вестовой донес:
– Усадьба пуста. В ней можно остановиться и передохнуть.
– Добро, – согласился порядком уставший после ночного налета Давыдов, но, призадумавшись, решил сам проверить, все ли там обстоит так, как ему доложили. Пришпорив коня, он рысцой поскакал к усадьбе. Постояв возле глухого забора и прислушавшись, привязал коня у столба, вошел во двор и прикрыл за собой ворота.
Сочтя обстановку благополучной, Денис Васильевич никак не предполагал, что чьи-то зоркие глаза неотлучно следили за ним: сначала из-за шторы в одном окне, затем – в другом.
Давыдов ступил на крыльцо – и только перешагнул порог барского дома, как мужик, косая сажень в плечах, одним ударом повалил его наземь. Двое других заткнули ему рот мокрой тряпкой, накинули на голову сермяжный мешок из-под муки и крепко-накрепко связали веревками по рукам и ногам.
– Ну, чаво, порешим муродера? – предложил молодой мужик. – Не то француз помешает...
– Порешить-то завсегда успеем, – рассудил верзила, – дело это нехитрое. А может, еще и нашим сгодится. Чин-то на нем, вишь, не простой – офицерский. Пущай охолонется да посидит покуда под замком...
Он взвалил мешок с Давыдовым на плечи и понес к сараю.
Тем часом партизаны не на шутку обеспокоились задержкой своего командира в барском доме. Подъехав к забору, они отвязали коня Давыдова и грозно постучали прикладами в ворота. Ворота оказались запертыми на щеколду изнутри. Тогда урядник Федор Крючков перемахнул через высокий глухой забор и, приземляясь, едва не сшиб могучего мужика с мешком на плечах, – мужик топтался возле сарая.
– Здорово!
– Здорово, кум, коль не шутишь, – ответил плечистый мужик. – Проходь, садись на лавку.
– Откуда, любезный, ты здесь взялся? – поинтересовался Федор, не двигаясь с места.
– Откудова? – передразнил его мужик. – Аль не видишь, что мы здешние?
– А куда подевался наш человек?
– Какой ваш? – грозно надвинулся на него плечистый мужик. – Мурадер? Счас и наши и ваши – все перепутались.
– А я, по-твоему, кто? – напрямую спросил казачий урядник.
– Дак ить как поглядеть. С какой стороны...
– Вот, к примеру, – вступил в разговор другой мужик, значительно уступавший в росте первому, – с какой стороны баба садится корову доить? Ежели считать от рогов, то с одной стороны, а ежели смотреть от хвоста, то с другой...
– Вы мне тут зубы-то не больно заговаривайте! – осерчал Федор. – Что у тебя в мешке?
– Да вот куму ржицы малость нагреб...
– А скажи-ка, любезный, почему у тебя ржица шевелится?
– Шевелится? Ржица-то? – усмехнулся мужик. – А там ешшо поросенок.
– Я вот покажу тебе поросенка, – сдавленным голосом прохрипел из мешка Давыдов: с великим трудом ему удалось выплюнуть тряпку. – Да я тебя, сукина сына, плетьми. Да по этапу.
– А ну, скидавай мешок! Развязывай веревки! Живо! – налетел на оробевшего мужика казак. – Тоже мне, герой!
– Братцы! – опешил мужик. – Да неужто вы свои? Откудова вы здесь взялись, благодетели?
– Откуда-откуда! – в сердцах оборвал его Крючков, а сам меж тем сноровисто обрезал веревки. – Откуда Егор? Да с могучих гор!
– Верно наш, раз по-русски чешешь.
Из мешка показалась встрепанная убеленная мукой голова, из-под густых бровей с гневом, пылко и чуть усмешливо глядели карие глаза.
На помощь попавшему в беду Давыдову подоспели партизаны. Они со всех сторон окружили барский дом.
Дюжий мужик, видя, что угодил впросак, взмолился, упал на колени:
– Простите, Христа ради...
Рядом с ним опустились на колени еще двое:
– Кабы знать... Кабы ведать... А мы уж думали – француз-лиходей.
Денис Васильевич смекнул, куда дело клонится, улыбнулся и дружески похлопал оробевшего «героя» по плечу:
– Молодцы, мужики! Лихо воюете! Так с французом впредь и поступайте! Ловко мешками орудуете! Хоть и задали же вы мне трепку, а все равно молодцы! Я на вас не в обиде!
– Ну и хваты! – засмеялись, поддержав командира, партизаны.
– А теперь, барин, – в один голос обратились мужики к Давыдову, – милости просим в дом. Потолкуем по душам да и перекусим чем Бог послал. Поди, проголодались с дороги-то?
– Как не проголодаться? Проголодались! – Давыдов повернулся к партизанам. – И вправду – хваты! Видали, как неприятеля крушить надобно! Раз – и в мешок!
Все дружно рассмеялись.
– Жаль, мешков на всех не хватит! – с облегчением вздохнул плечистый мужик, радуясь в душе, что беда его миновала. – Эвон, сколь их в Расею наползло, как тараканов за печь.
– Чего-чего, а мешковины найдем, – с этими словами командир вбежал на крыльцо и распахнул настежь двери барского дома. – Я вот вам покажу, как забижать народ честной! – для острастки он грозно нахмурил брови. – Урядник Федор Крючков, не хочешь ли ты попросить прощения у мужиков?
– Какого такого прощения? – возмутился Крючков. – За вас ведь, Денис Васильевич, обида взяла! Вожака партизан в мешок упрятали, пластуны! Да еще поросенком назвали!
– Так не свиньей же, – усмехнулся плечистый мужик, – а с нежностью – поросенком...
– Вижу, Федор, тебе повиниться, что переломиться. Так я заместо тебя у мужиков прощения прошу. За хлеб-соль их благодарю! И урок их к сведению принимаю. Одежду нашу воинскую велю заменить на мужицкую – кафтаны да армяки...
Сей случай лишний раз убедил Давыдова в том, что в народной войне необходимо не только уметь говорить на простонародном языке, но и приноровиться к ней в одежде и повадках.
Денис Васильевич облачился в мужицкий кафтан, отпустил густую окладистую бороду, а вместо ордена Святой Анны повесил на грудь образ Николая Чудотворца. Примеру командира последовали подчиненные. Они тоже надели крестьянскую одежду.
День за днем слава о дерзких налетах партизан широко разнеслась по ближним селам и городам. Народ видел теперь в них своих защитников, стал помогать «налетам» (так крестьяне нарекли партизан) – снабжал продовольствием, выслеживал и обезоруживал французов, доставлял с вестовыми ценные сведения.
Казаки и гусары во главе с Денисом Давыдовым обрушивались на врага нежданно-негаданно. Партизаны жгли мосты, лишали неприятеля провизии, выводили из строя отставшие гарнизоны.
Нередко отряд дневал в лесу близ своего первого «притона» – села Скугорева. Партизаны держались скрытно, не расседлывая коней. Ведь каждую минуту французы могли подкараулить их и перестрелять.
В сумерках партизаны раскладывали костры в разных местах, а сами прятались в бору, коротая ночь без огня. Если же дозорные встречали прохожего, то сопровождали его к командиру. Давыдов допрашивал «чужака» и велел содержать его под надзором до той поры, пока отряд не выступал в поход. В случае если чужаку удавалось бежать, партизаны немедля меняли место стоянки.
После каждого налета на французов они возвращались на свою базу кружными путями.
Проводя бессонные ночи в засадах и схватках с неприятелем, партия Дениса Давыдова появлялась вдоль Смоленской дороги в самых неожиданных местах.
У Царева-Займища разведка донесла «В селе остановился обоз. Но сколько солдат в охране, неизвестно».
Вечер выдался на редкость ясным, холодным Накануне дождь прибил палый лист к земле. Казаки ехали по глухой, едва приметной лесной тропе молча. Внезапно урядник Крючков, скакавший впереди, взмахом руки остановил всадников, заметив разъезд неприятеля. Французы не спеша спускались в овраг и направлялись к селу.
«Как быть? – держа руку на поводьях чуткой гнедой лошади, прикидывал вожак партизан – Знать бы, что Царево-Займище занято французами и какой силы неприятель, можно бы пропустить этот разъезд без нападения. Но я этого не ведаю. Решать же надо в считанные секунды, иначе будет поздно».
– Взять языка! – распорядился Давыдов. – Кто пойдет?
Первым вызвался смелый и удалой казак Крючков.
– Будь осторожен, Федор, – предупредил командир. – В случае погони дай знать свистом.
Двадцать казаков во главе с урядником Крючковым тихо спустились в лощину, готовя удар по неприятелю с тыла, а десять поскакали наперехват, дабы остановить его ударом в лоб.
Вскоре разъезд был окружен. Французы вначале пытались оказать сопротивление, но, видя безвыходность своего положения, сложили оружие и сдались.
Разъезд неприятеля состоял из десяти кавалеристов во главе с унтер-офицером.
Пленные рассказали Давыдову на допросе:
– В селе находится обоз, причем прикрытие у него солидное – двести пятьдесят сабель, польские уланы и вестфальские гусары.
– Значит, неприятеля вдвое больше, чем нас, – прикинул в уме Денис Васильевич и обратился к партизанам: – Едем тихо, опушкой. Ночью врываемся в село скопом и крушим сонного врага. Да так, чтоб небу жарко стало!
Поздним вечером отряд спустился в овраг и тихо перешел реку вброд. При выходе из топи на чистое место партизаны заметили конных французских фуражиров числом в сорок человек с награбленным у крестьян хлебом. Действовать надо было быстро, решительно.
«В сабли!» – отдал приказ Давыдов.
Завидев казаков, французы побросали провиант и поскакали во всю прыть к Цареву-Займищу.
Давыдов оставил при пленных тридцать человек охраны (при необходимости охранники могли служить резервом), а сам с двадцатью гусарами и семьюдесятью казаками пустился в погоню. Партизаны вихрем ворвались вслед за фуражирами в ночное село, где безмятежно спали французы. Неприятель был застигнут врасплох. В панике французы начали перебегать от избы к избе. Впотьмах кавалеристы не могли найти оружия, выскакивали во дворы в одном белье. Многие из них сдались на милость победителям.
Лишь небольшая команда сосредоточилась на краю села и вздумала обороняться.
Перестрелка длилась около часа. По приказу Давыдова партизаны окружили горстку французов, защищавшихся с большим упорством. Лишь нескольким солдатам прикрытия удалось бежать и скрыться в лесу.
Штурм Царева-Займища закончился победой партизан. В плен сдались сто девятнадцать рядовых при двух офицерах.
Казаки захватили десять телег с провиантом и одну фуру с патронами и ружьями.
Теперь следовало как можно скорее, без шума покинуть Царево-Займище.
Казаки построили пленных и немедля отправились в обратный путь через деревни Климово и Кожино к селу Скугореву. Уходили быстро, в пути дорога была каждая минута. С рассветом партизаны благополучно вернулись на свою стоянку.
К вечеру погода испортилась: небо густо заволокло тучами, и зарядил нужный осенний дождь. Отряд продвигался узкой раскисшей от сырости лесной дорогой к селу Федоровскому. Кое-кто из казаков хмурился: «Уж больно мало нас, всего горсточка, а французов-то тьма-тьмущая, не перечтешь. Окружат враз да и раздавят, как семечко». Однако, глянув на своего бравого командира, скачущего рядом, гнал прочь страх и мрачные мысли.
Внезапно из лесу навстречу всадникам выбежал солдат с перевязанной головой.
– Стой-ка, служивый! – окликнул его Давыдов. – Далеко ль путь держишь?
– От супостата, из плена спасаюсь, – отвечал солдат на бегу. – Вон оттель... – махнул он рукой в сторону села.
– А что там? – поинтересовался командир.
– Француз-лиходей вчерась перегнал туда пехотинцев Московского полка.
– Да много ль наших-то?
– Человек двести, а французов в конвое не более тридцати.
– Так-то, – кивнул Давыдов и подозрительно оглядел беглеца. Сквозь повязку на голове солдата проступили пятна крови. – Сказывай, как к недругам угодил?
– В бою осколок чиркнул меня по голове. Вот я и потерял сознание. Тут вскорости меня и поволокли. Когда очнулся, то уразумел, что редут наш захвачен. Кругом французы судачат меж собой.
– Долго ль в плену пребывал?
– Долгонько! – нимало не смутился солдат. – Цельную ночь. Переночевал, значит, а наутро обратно к своим.
– А дальше что делать собираешься? – Денис Васильевич хитро прищурил карие глаза.
– Как что? – не сплоховал солдат. – Отблагодарить надо бы супостата за ночлег!
Давыдов хохотнул. У него мигом созрел дерзкий план освобождения пехотинцев из плена. Выдвинувшись вперед, он выдернул из ножен саблю и, повернувшись к партизанам, крикнул:
– За мной! Отблагодарим-ка, братцы, француза за солдатский ночлег!
– Рады стараться! – дружно раздалось в ответ. – От-благо-дарим!
Казаки вихрем помчались к селу. Не успели они на рысях ворваться в Федоровское, как в стане врага поднялся невообразимый переполох.
Заслышав издали победное «Ура!», пленные бросились на конвоиров и обезоружили их. В считанные минуты обстановка круто переменилась: теперь уже в плену оказались французы.
Партизаны славно «отблагодарили» неприятеля за солдатский ночлег. Освобожденные из плена солдаты наперебой стали просить зачислить их в отряд. Но вожак партизан не мог да и не имел права брать всех подряд.
Давыдов велел построить пленных пехотинцев Московского полка. После осмотра и беседы с ними он оставил в отряде только шестьдесят солдат, тех, что показались ему наиболее сильными и выносливыми. А остальных велел переправить в Юхнов для пополнения гарнизона города и для охраны пленных французов.
Партия насчитывала теперь не сто тридцать казаков и гусар, а сто девяносто человек. Под знамена Давыдова, кроме кавалеристов, пришли и пехотинцы, которые безусловно увеличивали боевые возможности отряда.
«Кто не выручал своих пленных из-под ига неприятеля, тот не ведал и не чувствовал истинной радости», – горячо сказал по этому поводу Давыдов.
Не успел отряд расположиться в леске близ столбовой дороги, как крестьяне из ближней деревни донесли, что в сельце Семлеве остановился на ночлег большой обоз неприятеля с какими-то бочками. И обоз этот будто бы продвигается к самой Москве.
До ночи оставалось часа три, и Денис Давыдов, закурив трубку, решил побеседовать с партизанами.
– Без смекалки да хитрости, братцы, в нашем деле часа не проживешь! Ну-ка, Кузьма, – обратился он к степенному казаку Жолудю, – держи ответ! Вдоль опушки идет батальон пехоты. А у тебя всего десяток солдат. Как бы ты поступил?
– Поступил? – Жолудь потупил взгляд, призадумался. – Значит, так... Перво-наперво я бы робят на елки посадил. Оттель и палил бы по супостату.
– На елки, говоришь, посадил? – Давыдов выпустил из усов облако густого едкого дыму, недовольно передернул плечом. – А я тебя под арест!
– Смилуйтеся! – взмолился казак. – За какие такие грехи?
– Тебе что казаки? Скворечники? Как они там, на елках, карабины заряжать будут? Французы их всех по очереди перестреляют, как галок. Ну а ты, ротмистр Чеченский, что бы предпринял? – обратился Давыдов к чернявому казаку, известному в отряде отчаянной храбростью и запальчивым характером.
Состоявший по кавалерии ротмистр был чеченом. Его вывезли из Чечни младенцем, родины он почти не помнил, ибо вырос в России.
– Сабли – в небо! И вперед! – выпалил сухощавый, горбоносый Чеченский. Орлиные черные глаза его вспыхнули дерзким огнем. – На врага-а-а! Раз-два...
– «Раз-два», – горько усмехнувшись, оборвал его командир. – То, что ты смел и полезешь к черту на рога, знают все. Да велика ль будет польза для общего дела, ежели ты по горячности своей сломишь себе голову? Раз-два – и нет десятка казаков. А у нас в партии, сам знаешь, каждый воин на вес золота!
– Как не знать...
– Раз и навсегда запомните, братцы, – продолжал Давыдов. – Главное достоинство нашего отряда – подвижность. Только она делает нас неуловимыми. А неуловимость отряда есть его первейшая, самая грозная для врага статья. – Денис Васильевич помолчал, раскурив погасшую было трубку: – В том месте, где проскакал всадник, должна пройти незамеченной вся партия. Где бы ни пришлось действовать партизану: в бору ли, в поле, у реки – повсюду должен он держать ориентир на местности. Взять верное направление и идти кратчайшим путем к цели, а не блуждать вокруг да около. Партизан, ежели довелось ему хоть разок побывать в незнакомых местах, обязан запомнить их по ориентирам. А потом без промаха опознать днем иль ночью. От соколиного взгляда казака не укрыться ни конному, ни пешему неприятелю. Ухо его ловит малейший шорох, а чутье подсказывает, где надобно остановиться и осмотреться.
В конце беседы Кузьма воспрянул духом и задал вопрос командиру:
– Ну а вы, Денис Васильевич, как бы распорядились в таком случае?
– А вот, гляди в оба! – Давыдов кивнул партизанам. – Хитрость в нашем деле – первейшая статья!
Давыдов велел принести мешки с мундирами французских кавалеристов. Скинул с себя крестьянский тулуп и через пять минут был в полном наряде французского офицера.
– Должен вам доложить, господа, – с важностью оглядел он партизан. – Его величество император Наполеон Бонапарт пригласил нас сегодня ночью в гости. На бал!
– Ясно! – удалой казак Крючков, смекнув в чем дело, хлопнул Жолудя по плечу. – Значит, маскарад выйдет!
– Какой такой маскарад? – удивился Жолудь.
– Погодь, скоро увидишь... – уклончиво ответил урядник. Партизаны, усмехаясь, стали поспешно облачаться в мундиры, недавно захваченные у неприятеля.
– Сейчас ты, Федор, – Давыдов оглядел казака с ног до головы, – настоящий мусье!
– Чего? Чего? – в недоумении переспросил Крючков.
– Мусье и есть! – подтвердил Жолудь, поправляя саблю.
– Теперь не грешно и самого Наполеона заставить камаринскую плясать! – Давыдов обратился к казакам: – Времени даром терять не будем. На конь!
Один за другим партизаны выехали на столбовую дорогу и помчались вслед за командиром. Вечер выдался темный, сырой. Кони скакали лихо. Спустя час впереди показались французы, стоявшие в дозоре.
Давыдов смело поскакал им навстречу.
– Караул! Куда вы смотрите, черт побери! – сердито крикнул он по-французски. – Только что у моста я видел русских. Будьте начеку!
Дозорные виновато переглянулись, отдали честь сердитому офицеру и один за другим попрятались в укрытие. В темноте они приняли партизан за своих.
Казаки двинулись дальше и скрылись во тьме.
Внезапно вдали, у церкви, послышалось мычание коров, раздались чужие голоса.
Давыдов велел партизанам укрыться в овраге, а сам послал казака в разведку. Вскоре тот вернулся и доложил:
– Отряд фуражиров численностью более пятисот человек с награбленным у крестьян скотом располагается на ночлег.
– Так! Так! – Давыдов призадумался, велел выждать с часок, пока враг успокоится, а затем приказал партии двигаться вперед.
Французы спали себе и не заметили приближающихся всадников.
«В атаку!» – крикнул Давыдов, поравнявшись с неприятелем.
С оглушительным «Ура-а-а!» казаки и гусары ринулись в бой.
Французы так изумились внезапному превращению «своих кавалеристов» в русских партизан, что несколько мгновений не могли понять, в чем дело, а затем повели беспорядочную пальбу. Одни в панике бежали куда глаза глядят, другие седлали лошадей. Казаки немедля преграждали им путь к отступлению и обезоруживали.
– Будут теперь знать, каково наших забижать! – крикнул Крючков Жолудю, преследуя неприятеля. – Вишь, как шустро бегут...
– Пардону просят, – в тон ему отвечал Жолудь – Видать, плохо к «балу» приготовились!
В ту ненастную сентябрьскую ночь партизаны заняли Семлево. Только смелый французский поручик с горсткой солдат защищался до тех пор, пока не был тяжело ранен в грудь и не рухнул с коня наземь. Солдаты его тут же пали на колени и сдались в плен.
Порывшись в сумке поручика, Давыдов обнаружил там важную бумагу. В ней говорилось, что в бочках находится обмундирование и обувь для Вестфальского полка. Партизаны взяли 496 солдат и пять офицеров. Всех пленных отправили в Юхнов. Лошадей из-под конвойных Давыдов приказал раздать пешим казакам и местным крестьянам.
Вестовой доставил в ставку Кутузова ценные бумаги и личную просьбу Давыдова о награждении отличившихся в бою.
На привалах вожак партизан не раз вспоминал эту удачную боевую операцию возле Семлева и, с нарочитой важностью покручивая черный ус, говаривал: «А что, братцы? Чем черт не шутит! Не наведаться ли нам еще разок к Наполеону в гости?!»
Знай наших!
В лесу дремучем, на поляне, Отряд наездников сидит, Окрестность вся в седом тумане, Кругом осенний ветр шумит, На тусклый месяц набегают Порой густые облака, Надулась черная река, И молнии вдали сверкают. К.Ф. РылеевВзвод под командованием ротмистра Чеченского скакал вдоль ухабистой столбовой дороги. Нудные, затяжные осенние дожди размочили землю. Свирепый ветер голодным волком выл по лесу. Невдалеке, в селении, послышались крики. Казаки спешились с коней, притаились в лощине.
Дозорные французов увидели издали казаков и подняли тревогу. Неприятель начал спешно готовиться к бою, поставив обоз полукругом.
Следуя главной заповеди партизан: быстрота и внезапность нападения решают успех налета, Чеченский отдал приказ: «В атаку!»
Казаки с ходу овладели транспортом, однако прикрывавшие обоз пехотинцы отошли к лесу и открыли из-за деревьев сильный огонь. Ротмистр Чеченский спешил казаков и повел их в обход врага. Рукопашная схватка в лесу завершила поражение французов. Но победа досталась партизанам дорогой ценой – пятнадцать казаков были тяжело ранены.
...На рассвете майор Степан Храповицкий с партией гусар возвращался с добычей к селу Назарьеву. Его ночная «операция» закончилась успешно. По пути партизан атаковала шайка французов, засевших в лесу. Видя, что неприятель расположился на высоте и сквозь его ряды пробиться невозможно, майор обскакал опасное место дальней стороной и благополучно прибыл в Назарьево. Там партия Храповицкого соединилась со взводами казаков Попова 13-го и Чеченского.
В тот же день Давыдов отправил курьера в главную квартиру Кутузова с рапортом на имя дежурного генерала штаба Коновницына. Наряду с рапортом вожак партизан в особом письме доносил, что его отряд, усилившись пехотой и казаками, весьма нуждается в продовольствии. А потому он с благодарностью доводит до сведения командования патриотические деяния предводителя дворянства Юхновского уезда Семена Яковлевича Храповицкого «со всею ревностью истинного сына Отечества», который не раз оказывал партии важную помощь в снабжении продовольствием. Более того, «сей почтенный старец» на собственные средства открыл в городе госпиталь.
Храповицкий не только показал лично пример дворянству, оставшись с семейством на аванпостах Калужской губернии, но и проявил «неусыпную строгость в надзоре к подъятию оружия жителями Юхновского уезда». А сын его, майор Степан Храповицкий, прославился удалью и отвагой в крутых сшибках с карателями. Далее командир отряда перечислил и особо отметил имена лучших офицеров, а также отважных казаков и гусар, отличившихся в ночных налетах.
Давыдов получил от генерала П.П. Коновницына из главной квартиры пакет. Наряду с официальными бумагами здесь находилось и столь дорогое для вожака партизан письмо на его имя от Кутузова. Фельдмаршал горячо поздравлял доблестных воинов с победами:
«Милостивый государь мой, Денис Васильевич!
Дежурный генерал доводил до сведения моего рапорт Ваш о последних одержанных Вами успехах над неприятельскими отрядами между Вязьмою и Семлевым, а также письмо Ваше, в коем, между прочим, с удовольствием видел я, какое усердие оказывает юхновский предводитель дворянства господин Храповицкий к пользе общей. Желая изъяснить перед всеми мою к нему признательность, я по мере власти, всемилостивейше мне предоставленной, препровождаю к Вам назначенный для него орден Святой Анны 2-го класса, который и прошу Вас доставить к нему, при особом моем отношении на его имя. Буде же он прежними заслугами приобрел уже таковый знак сего ордена, то возвратите мне оный для украшения его другою наградою, в воздаяние похвальных деяний, им чинимых, о коих не оставлю я сделать и всеподданнейшее донесение мое государю императору. Волынского уланского полка майора Храповицкого поздравляю подполковником. О удостоении военным орденом командующего 1-м Бугским полком ротмистра Чеченского сообщил я учрежденному из кавалеристов онаго ордена Совету, прочие рекомендуемые Вами господа офицеры не останутся без наград, соразмерно их заслугам. Отличившимся нижним чинам, по представленным от Вас спискам, назначаю орденские серебряные знаки, а за сим остаюсь в полном уверении, что Вы, продолжая действовать к вящему вреду неприятеля, истребляя его конвои, сделаете себе прочную репутацию отменного партизана... Между тем примите совершенную признательность.
С истинным к Вам почтением имею честь быть.
Октября 10-го дня, 1812 года.
Д. Леташево.
Князь М. Кутузов».
Дерзкие и по большей части успешные налеты на неприятельские гарнизоны гусар и казаков во главе с Денисом Давыдовым рассеяли былые сомнения фельдмаршала Кутузова и укрепили его веру в плодотворность «малой войны». И главнокомандующий русской армией узаконил действия партизан.
Соратник великого Суворова, генерал Ермолов, отметил, что храбрый офицер Давыдов, известный остротою ума и весьма хорошими стихотворениями, первый в сию войну употреблен был партизаном, что впоследствии послужило примером для многих...
По приказу Кутузова в тыл неприятеля были отправлены партии добровольцев, а также казачьи полки и отряды кавалерии с пехотой и пушками под начальством отважных, закаленных в битвах офицеров.
Успешно завершались многие боевые операции партизанского отряда под командованием генерала Дорохова на Смоленской дороге. Его партию составили драгуны, елисаветградские гусары и три казачьих полка при двух пушках.
Полковник князь Вадбольский во главе мариупольских гусар и нескольких казачьих полков провел дерзкие рейды в окрестностях Можайска.
Атаман Платов со своими казаками «опекал» неприятеля возле Семлева.
Генерал-лейтенант Шепелев с калужским ополчением, шестью орудиями и тремя казачьими полками действовал в окрестностях Рославля.
Капитан артиллерии Фигнер с отрядом, куда входили ахтырские гусары, польские и литовские уланы, харьковские драгуны, а также казаки 2-го Бугского полка, пробрался в самую середину войск неприятеля. Его удалые молодцы орудовали в окрестностях Москвы и в самой Белокаменной.
Полковник князь Кудашев, зять М.И. Кутузова, со своим отрядом преследовал неприятеля на Серпуховской дороге.
Полковник Ефремов с казаками «сторожил» врага в предместьях Рязанской губернии.
Спешенные казаки и егеря при четырех орудиях артиллерии капитана Сеславина и поручик Фонвизин с казачьей партией громили французов между Боровском и Москвою.
Генерал-майор Орлов-Денисов успешно покушался на врага вдоль Смоленской дороги, его отряд составили казаки и нежинские драгуны.
Казачьи сходки «неусыпно дежурили» на Дмитровской и Ярославской дорогах.
Базами для партизан служили Тарутинский лагерь и Клин. Туда они «сдавали» пленных и военную добычу.
Наполеон оказался окружен в полыхающей заревом пожаров Москве плотным кольцом летучих или партизанских отрядов. Французы не нашли в Белокаменной ни желанных почестей, ни веселья и отдохновения.
Размах «малой войны» не давал неприятелю покоя ни днем, ни ночью. Фуражировка наполеоновской армии также не имела успеха, ибо на всех направлениях встречала отпор народа. Добровольные народные ополчения составили второе кольцо, державшее завоевателей в тесной блокаде.
Тверское ополчение стояло на Петербургской дороге, Рязанское – на Касимовской и Рязанской, Тульское – по правому берегу Оки от Алексина до Каширы, Калужское – в Калуге.
Дружины народных мстителей формировались повсюду, где появлялся враг. А предводительствовали ополчениями, как правило, дворяне. Старшины, крестьяне, священники, даже наиболее отважные женщины возглавляли небольшие партии – к примеру, старостиха Василиса.
Давыдов формировал отряды и присваивал им почетные наименования: «Геройский полувзвод», «Почетная полурота», «Храбрый гусар», «Знай наших!». Отряды эти пополнялись только за счет храбрых, отличившихся в боевых операциях солдат и офицеров. Все это повышало воинский дух и дисциплину партизанских партий.
Под знамена Давыдова шли добровольцы, покидая дома и семейства, и каждому из них Денис Васильевич давал достойное назначение. Отряд пополнили: отставной мичман Николай Храповицкий, брат отважного майора Степана Храповицкого, титулярный советник Татаринов, шестидесятилетний землемер Макаревич, крестьяне из многих захваченных, спаленных и порушенных врагом деревень.
По сему случаю Денис Давыдов сделал в дневнике своем такую запись: «Сердце радовалось при обзоре вытягивавшихся полков моих. Со ста тридцатью всадниками я взял триста семьдесят человек и двух офицеров, отбил своих двести и получил в добычу одну фуру с патронами и десять провиантских фур... Тут же я командовал тремястами всадниками, какая разница! Какая надежда!»
Теперь крестьяне видели в партизанах своих избавителей, давали клятву не щадить жизни в боях за Русь-матушку, вооружались ружьями, топорами и вместе с казаками и гусарами наносили сокрушительные удары по разрозненным частям великой армии.
...Как-то отряд Давыдова остановился на ночлег в селении Теплуха, вблизи Смоленска.
Около часа ночи стража внезапно подняла шум:
– Стой! Кто идет? Последовало молчание.
– Пароль?
– Свои, – глухо ответил здоровенный бородатый мужик в сером кафтане. Он одним махом отбросил пикетчиков в сторону. – Мне бы к начальнику!
– Какому еще начальнику?
– Известно какому – Давыдову.
– Да кто ты есть такой? – допытывались изумленные дерзостью мужика казаки.
– Свои ж, говорю, из Царева-Займища.
На крики в ночи тихо подошел Давыдов и спросил:
– Кто там буянит?
– Неужто не узнаешь, Денис Васильевич? – несказанно обрадовался мужик, степенно поклонился командиру в пояс и снял перед ним шапку. – Да я ж Федор. Помогал давеча партизанам зорителей из села выкурить...
– Как же ты отыскал нас? – удивился Давыдов.
– Проще простого, – не моргнув глазом, держал ответ Федор. – Я ж охотник. Сызмальства в лесу зверя, птицу промышляю. А тут люди! Да еще в родном смоленском бору, где я, почитай, всякую тропку наперечет знаю.
– Выкладывай, Федор, зачем пожаловал?
– Значит, так. Жену с ребятишками я в надежное место определил, в глухую балку. Пущай там ждут до поры. А сам решил к тебе прибиться. В партизаны! Силенкой меня, сам видишь, Бог не обидел. Одним ударом быка наземь валю да и на медведя с рогатиной не раз хаживал. Бери меня, Денис Васильевич, авось не пожалеешь...
– Хорошо, будь по-твоему, беру, – согласился Давыдов. – Только знай, у нас одной силой-матушкой не обойдешься. Главное у партизан – смекалка. Да дисциплина строгая! Понял?
– Знамо дело, – кивнул Федор, – не впервой супостата бить...
– Раз дело так круто пошло – будешь проводником! – распорядился Давыдов.
Так Федор стал партизаном. Вначале он исправно исполнял тяжелую походную работу: заготовлял сушняк для костров, таскал из деревень мешки с провизией, помогал вытягивать застрявшие в трясине телеги и лошадей, охотился. Затем стал помогать разведчикам: доставлял «языков», забирался в тыл неприятеля, наводя там неописуемый ужас. А однажды даже привел шесть французских солдат и важного офицера из штаба Наполеона.
Провоевал Федор в отряде Давыдова до полного освобождения Смоленской губернии от французов, действуя в основном пикой и топором, а потом вернулся на родное пепелище.
Вожак партизан высоко ценил и почитал русских крестьянских богатырей, восхищался их героизмом и мужеством: «...Сколь много возвышаются они над потомками древних бояр, которые, порыскав два месяца по московскому бульвару с гремучими шпорами и с густыми усами, бежали из Москвы в отдаленные губернии! Пока достойные и незабвенные их сородичи подставляли грудь свою штыку врагов Отчизны, они опрыскивались духами... и спокойно ожидали известия о исходе войны».
...На рассвете конные разъезды известили:
– По дороге тянется много повозок. Покрыты они белыми покрывалами. Чудно!
Давыдов велел партизанам не спускать глаз с неприятеля, а сам проскакал несколько саженей и увидел вдали удивительную картину. Ему показалось, будто белопарусная флотилия огибает опушку и двигается ему навстречу.
«И впрямь чудеса!» – поразился Денис Васильевич и отдал приказ ротмистру Чеченскому:
– Бери пятьдесят казаков и скачи наперерез французам! А казачьему уряднику Кузьме Жолудю велел с гусарами и пехотой заходить с тыла.
Прикрытие неприятеля было невелико. Партизаны внезапно обрушились на обоз. В смятении французы побросали повозки и пустились бежать в разные стороны, но казаки и гусары взяли их в кольцо.
Важные трофеи достались отряду и на сей раз. Повозки – до верху груженные продовольствием, причем под белым холстом оказались столь необходимые партизанам соль и мука.
Был и таковой дерзкий рейд в логово врага.
В сумерках на стоянку явились два проводника с донесением. Давыдов, попыхивая своей неизменной короткой трубкой, со вниманием выслушал их и наказал Степану Зуеву с Федором Крючковым: «Не отлучайтесь. Скоро приду!»
Когда Давыдов вернулся, он велел казакам немедля переодеться во французские мундиры, оглядел их с ног до головы и приказал: «Едем со мною!»
Проводник вывел партизан на край леса, но тут Денис Васильевич шепнул ему что-то на ухо и поворотил назад.
На дворе погожее осеннее утро. Тонко, с хрустальными звонами посвистывали в оголенных кустах лещины синицы. Партизаны меж тем проскакали лес и пред ними открылись убранные поля. На пологом холме возвышалось селение с каменной белой церковью. Вкруг села, на расстоянии не более полуверсты, лагерем расположились французы.
Давыдов указал партизанам на лагерь: «Попытаем счастья. Наведаемся к недругам». Степан Зуев опустил голову, а Крючков, глядя командиру в глаза, согласно кивнул: «Что ж, можно спытать...»
– Идем пешие, – приказал Давыдов, спрыгнул с коня и привязал его к дереву. – Ты, Федя, не знаешь по-французски, так молчи, будто воды в рот набрал. А ты, Степан, его выручай. Но тоже не больно говори. Положитесь на меня...»
Партизаны подошли к лагерю неприятеля. Кони французов стояли расседланными у плетней, мирно жевали овес. Солдаты дремали возле костра. В козлах блестели ружья. Караульные заметили незваных гостей, о чем-то перемолвились друг с другом.
Давыдов прошел вперед, остановился среди кирасиров и, улыбаясь, приветствовал их по-французски. Зуев и Крючков шагнули вслед за командиром и стали чуть позади него. Уши Кючкова побагровели, Зуев опустил глаза.
Французские караульные офицеры разговаривали с Денисом Васильевичем по-отечески, улыбаясь. Один из них то и дело поглядывал на костер, возле которого сгрудились с жестяными мисками в руках солдаты. Запах стоял густой, аппетитный: жарилось на углях мясо, кипела в котле похлебка.
Кирасир с пышными черными бакенбардами подошел к Зуеву и поинтересовался:
– Какого вы будете регимента?
– Мы поляки, – четко ответил по-французски Зуев, кивнув на своего командира.
В это время из избы вышли три офицера, подошли к Давыдову. Он переговорил с ними о чем-то и распрощался.
Партизаны с облегчением вздохнули и направились к тому месту, где были привязаны их кони. Они сели в седла, не торопясь отъехали немного от лагеря неприятеля, взяв несколько левее, и поскакали на рысях к спасительному лесу. Давыдов бросил на ходу: «То были вчерашние кирасиры. Они прибыли сюда недавно...»
Миновав поредевшую багряно-золотую рощу, партизаны свернули на знакомую тропу и благополучно добрались на свою стоянку. Об этом рискованном рейде в отряде узнали лишь спустя несколько дней...
Десять раз отмерь, а один отрежь!
Вкушает враг беспечный сон, Но мы не спим, мы надзираем – И вдруг на стан со всех сторон, Как снег внезапный, налетаем. В одно мгновенье враг разбит, Врасплох застигнут удальцами, И вслед за ними страх летит С неутомимыми донцами. К.Ф. РылеевБонапарт назначил губернатором Смоленска генерала Луи Бараге-Дильера. До войны он несколько лет прожил в России и неплохо изъяснялся по-русски. Генералу был вручен циркуляр с указанием подробных примет дерзкого налетчика – вожака партизан Дениса Давыдова. Циркуляр этот кончался грозным приказом самого императора: «При задержании – расстрелять на месте».
От захваченного в плен офицера Давыдов узнал, что Бараге-Дильер собрал конные команды и образовал из них могучий отряд в две тысячи сабель при восьми офицерах и одном штаб-офицере. Французам был дан строжайший приказ: «Очистить от партизан все пространство между Вязьмою и Гжатью. А их начальника, подполковника Дениса Давыдова, живого или мертвого, доставить в Вязьму».
За голову отчаянного храбреца было назначено крупное вознаграждение.
Противник сразу же приступил к «очистительной миссии». Вызнав норов врага, Давыдов стал избегать с ним прямых встреч. Он поставил перед отрядом цель – разбить карателей по частям.
С того дня партизаны стали действовать еще более взвешенно и осторожно: со столбовой Смоленской дороги они немедля свернули в леса. Казаки продолжали громить по ночам шайки мародеров и крушить транспорты наполеоновской армии.
«...Казаки то и дело рыщут на наших флангах, – доносил Бараге-Дильер в главный штаб. – Разъезд, состоявший из 150 гвардейских драгун под командой майора, попал в засаду казаков между Московской и Калужской дорогами...»
«Будьте начеку!.. Казаки орудуют на Смоленской дороге, – сообщал начальник генерального штаба великой армии Бертье маршалам Мюрату и Бессьеру. – В числе 30 человек они напали на подвоз артиллерийских снарядов, состоявший из 15 ящиков, и сожгли их... Они учинили нам очень много вреда... подорвали 15 артиллерийских повозок и взяли в плен два резервных эскадрона, шедших на подмогу к армии, то есть 200 конных солдат...»
Однажды утром конвой французов остановил на опушке прихрамывающего на одну ногу человека, показавшегося ему весьма подозрительным. Его тут же доставили в ставку к генералу.
– Итак, отвечайте, кто вы? – обратился к нему Бараге-Дильер. – Только предупреждаю: не вздумайте лгать и отпираться.
Последовало молчание.
– Что вы стоите, как пень, и боитесь проронить слово? – строго спросил генерал.
– Я крестьянин из деревни Теплуха.
– Где ваша Теплуха?
– Тут недалече, рядом со столбовой дорогой.
– Кто ваш барин?
– Виктор Артемьевич Громов. Дабы избежать плена, они с семьей и прислугой подались в Петербург.
– Сбежали, значит?
– Усадьба пуста.
– Имя? Николай Назаров я, сын Ивана.
– Партизан?
– Никак нет.
– Ходил в разведку?
– Нет, за дровами...
– Так кто же вы, в конце концов? – резко возвысил старческий, дребезжащий голос генерал.
– После отступления нашей армии я остался в деревне при больной матери, малой дочери и жене, – продолжил Назаров. – Нынче утром пошел в бор за дровами, да, как на грех, подвернул ногу о треклятую валежину. Мы все-то в Теплухе ждали, что вскорости война окончится и наступит желанный мир.
– Что за бредовая фантазия?! Какой может быть мир? – раздраженно оборвал его Бараге-Дильер. – Да как вы смеете морочить мне голову? Какое там, к черту, перемирие, если в двухстах верстах отсюда, в занятой нами Москве, день и ночь бушуют пожары. А из подъездов и окон нам в затылок то и дело гремят выстрелы? И зарубите себе на носу – с сего дня вы взяты в плен. И будете содержаться у нас под стражей до тех пор, пока разбойничьи налеты не прекратятся.
– Погодите, ваша светлость, но на сей раз вы ошиблись, – возразил Назаров. – Я не партизан. И потом я не могу брать на свои плечи вину за других.
– Рассказывайте эти небылицы своей жене, – генерал едко усмехнулся. – Но я, увы, не таков.
– Побойтесь Бога, генерал! Да у меня же семья. Дитя малое, – взмолился Назаров. – Они закоченеют без хвороста. Мне надобно домой.
– Довольно! – Бараге-Дильер вскочил с кресла и презрительным взглядом с головы до ног окинул подозреваемого. – Итак, ваша жизнь на волоске!
– Позвольте мне, генерал! – сказал по-французски адъютант Бараге-Дильера Жан Ризо, стоявший рядом. Припоминая что-то важное, он от удовольствия даже чмокнул губами. – Стойте! Стойте! Да я наконец, кажется, вспомнил, где последний раз видел этого человека.
– Где? – с гневом спросил генерал.
Его ранило в ногу под Бородиным. По окончании той дьявольской битвы он оставался у нас. А затем, после оказания ему помощи доктором, он отлучился у караульного по нужде, нырнул в кромешную тьму и бежал к своим. Его брал в плен, если мне не изменяет память, ваш адъютант Армантье. Он должен опознать лазутчика в лицо.
Назаров пристально посмотрел в злые, цепкие глаза Жана Ризо, а затем перевел взгляд на холеное лицо старого генерала. Его карие глаза почти без бровей были неподвижны и подозрительны. А широкий, с залысинами лоб Бараге-Дильера то и дело покрывался каплями пота.
– Извините, ваша светлость, – стараясь быть как можно покойнее и вежливее, молвил Назаров. – Ваш адъютант ошибается. Я впервые в жизни вижу его...
– Не выйдет, теперь уж не улизнете, – процедил сквозь зубы Бараге-Дильер. – Итак, вас пленили под Бородиным. Теперь-то уж вам не отвертеться. Ваше имя?
– Да я уж говорил вам, генерал: Назаров Николай я, сын Ивана.
– Полюбуйтесь, Назаров, вот портрет вашего главного разбойника – Дениса Давыдова, – генерал протянул ему лист бумаги. На нем был нарисован столь близкий и дорогой сердцу партизана человек с окладистой черной бородой, усами и белым локоном на лбу. – Узнаете этого мерзавца с иконой на груди? Говорят, он щеголяет так же, как и вы, в одежде крестьянина. Однажды при Бородине мы поверили вам и освободили вас из-под стражи. Но разве можно хоть на миг доверять лазутчику? Выведав наши силы, вы тотчас же воспользовались нашей оплошностью и подло бежали. А теперь я вижу, что вы вновь принялись за привычное дело...
– Говорю вам чистосердечно, – Назаров смотрел прямо в глаза генералу. – Я был задержан вашими солдатами на опушке леса с вязанкой хвороста на салазках. Спросите у них. Солдаты подтвердят...
Бараге-Дильер нервно передернул плечами и быстрыми шагами прошелся из угла в угол:
– Довольно! Мне надоело слушать ваши бредни! Для такого мошенника, как вы, Назаров, есть одно великолепное средство: кляп в зубы и пулю в лоб...
Генерал подошел к столу и позвонил в колокольчик.
– Пора кончать эту комедию! Фельдфебеля и солдат! – приказал он Жану Ризо, взял со стола портрет Давыдова и стал его со вниманием разглядывать.
– Побойтесь Бога, генерал, – Назаров воздел руки к небу. – Чем я вам насолил? Вы погубите невинного отца семейства. Это же произвол...
– Ха-ха! Вот это мило с вашей стороны! Так вы хотите суда? – изумленно качнул головой Бараге-Дильер. – Только имейте в виду – суд будет короток. Вас помнит в лицо мой адъютант Армантье. Он пощадил вас при Бородине. Трепещите!
– Где ваш адъютант? Пускай он меня опознает! – в отчаянии крикнул Назаров, прикидывая про себя: наверняка этот прихвостень захочет выслужиться перед своим палачом-генералом и, как пить дать, признает во мне лазутчика. В столь крутом обороте дела никто, кроме господа Бога, не в силах мне помочь...
Бараге-Дильер тяжело опустился в кресло, положил руки на стол и самодовольно улыбнулся. Глубокие морщины разгладились на его широком и потном лбу.
– Итак, вы желаете очной ставки? – спросил он елейным голосом. – Хорошо, я удовлетворю вашу просьбу. Только зарубите себе на носу: если подозрения Жана Ризо подтвердятся, то вам конец!
Генерал вновь позвонил в колокольчик и приказал шагнувшему из-за дверей ординарцу:
– Немедля позвать Армантье!
Меж тем пленник, ощутив весь трагизм своего положения, едва держался на ногах.
– Ваш возраст? – как бы между прочим поинтересовался генерал.
– Двадцать два минуло, – с дрожью в голосе ответил Назаров.
– Надеюсь, окрестности Смоленской губернии вам хорошо известны? – генерал повернулся к Николаю и указал на висящую на стене карту.
– Я не учен грамоте, – развел руками Назаров.
– Вот в этих местах орудует шайка лесных разбойников, – генерал провел гусиным пером по карте. – День ото дня их набеги становятся все более дерзкими. Они пленили много наших солдат и офицеров. Они грабят обозы с провизией, жгут амбары с зерном... Словом, бесчинствуют... Да и вы тоже, верно, остались здесь неспроста?
Пленный со вниманием слушал генерала, низко склонив голову.
– Скажите мне, Назаров: с какой стати вы и подобные вам вандалы бесчинствуют и жгут дома?
– Ваши солдаты сами во хмелю палят леса и селения.
– Клевета! Если вы и вправду крестьянин, за кого себя выдаете, то объясните мне без лукавства, почему крестьяне за щедрую плату не дают нам провизии? Мы впроголодь прошли тысячи верст, но к нам добровольно никто не явился!
– Крестьяне сами бедны. Пуще всего они боятся грабежей.
– Что я слышу? Где это видано! Грабежи у великой армии, во главе которой стоит непобедимый полководец и гениальный стратег?! Вам же говорят: мы не скупимся на деньги. Ваши нелепые слова – это наветы клеветников. Где ваш предводитель Давыдов? Кто позволил ему разбойничать? Почему его вандалы нападают на сонных французов ночами? Разве это не варварство? Разве не подло – избегать честного поединка в бою?
– Повторяю, никакого Давыдова я не знаю... Слыхом не слыхивал. Меня задержали в бору с вязанкой хвороста на салазках.
– Я нутром чувствую, что вы лазутчик. Вы вовсе не крестьянин, за которого себя выдаете. Вы казак, партизан. А мы сурово караем лазутчиков!
Бараге-Дильер вновь лихорадочно позвонил в колокольчик:
– Куда же провалился этот шут Армантье?
– Его ищут, генерал.
– Вечно у него какие-то фокусы! Ординарец пожал плечами.
– Как он смел уйти, не доложив мне? Ординарец молча опустил голову.
Бараге-Дильер в гневе забарабанил пальцами по столу и процедил сквозь зубы самому себе: «Мне ясна картина. Сколько можно еще церемониться с этим отъявленным негодяем?»
– Сего лазутчика отведите к Досталю. Да еще вручите ему вот эту бумагу за моей подписью! – приказал генерал ординарцу.
И Назарова тотчас же повели и передали из рук в руки высокому носатому офицеру. Офицер, по-птичьи склонив голову, снисходительно выслушал слова юного ординарца, прочел послание генерала и отпустил юношу, не проронив ни слова.
К Назарову подошли караульные, явился и Жан Ризо. Жестом офицер приказал ему следовать вперед.
Пленник едва передвигал ноги, он никак не мог уразуметь, что вскорости, через какие-нибудь сотню-другую шагов, оборвется его молодая жизнь. Два солдата шли впереди него, два сзади, а Ризо сбоку. Назарова повели к оврагу. Возле сухой одинокой сосны, где обычно привязывают коней, офицер остановился. Караульные взяли лопаты и нехотя принялись рыть яму.
«Вот и конец, – словно иглой, кольнуло сердце партизана. – Неужто все в этой жизни омерзительно просто?» Горестным прощальным взглядом он окинул ближний лес, темнеющее вдали село, где в барской усадьбе с нетерпением поджидали его возвращения казаки, белеющую на холме церковь. Словно под волшебной магией, его глаза затуманились, и сквозь зыбкую пелену пред ним предстало морщинистое лицо седовласой матери, склонившейся в углу избы под образами.
И вдруг за спиной приговоренного к расстрелу Назарова издалека послышался тревожный окрик. Караульные вздохнули с облегчением и воткнули лопаты в землю. К ним спешил, размахивая руками и тяжело дыша, какой-то человек.
– Какого дьявола сюда несет? – недовольно проворчал, оглянувшись назад, Жан Ризо.
Запыхавшийся посланец что-то горячо прошептал ему на ухо по-французски.
– Отставить! – с досадой махнул рукой Ризо. – Отсрочка! Уж я-то знаю непредсказуемый нрав нашего генерала.
Назарова, к великому его удивлению, повернули назад. Ему приказали следовать обратно: по всей видимости, Бараге-Дильер за это время успел сменить гнев на милость.
И тут внезапно с разных сторон над головами французов один за другим прогремели выстрелы. Караульные, словно подкошенные, упали на землю. А растерявшийся с перепугу Ризо был оглушен ударом в затылок. Его мгновенно скрутил дюжий казак. Положение круто переменилось: теперь французы оказались в окружении партизан. Караульные имели весьма жалкий вид, стоя с поднятыми кверху руками.
Еще больший страх охватил французов, когда их привели в барский дом. Там они предстали пред вожаком партизан Денисом Давыдовым, за голову которого им было обещано богатое вознаграждение.
– Выкладывай, Николай, каким образом французы пленили тебя? – спросил партизана Давыдов.
И Николай в подробностях рассказал все, что с ним произошло поутру на опушке и на допросе в штабе губернатора Смоленска Бараге-Дильера.
– Так-то, – согласно кивнул ему вожак партизан. – А ведь мы, Николай, не дремали, пока ты «гостил у губернатора». Мы приготовили для тебя сюрприз. Адъютант Бараге-Дильера штаб-офицер Виктор Армантье со вчерашнего вечера находится у нас. И поджидает тебя!
– Не может быть?! – несказанно поразился Назаров.
– Введите француза! – приказал Давыдов.
Дверь в комнату распахнулась, и на ее середину быстро вышел стройный, щеголевато одетый офицер с пышными, слегка вьющимися волосами и рыжими тараканьими усами вразлет, в сопровождении двух солдат.
– Ну как, господин Армантье? Вы узнаете этого подлого лазутчика, которому удалось бежать из плена после беседы с вами при Бородине? – строго спросил щеголя Давыдов по-французски.
Николай вновь оробел: пред ним стоял Армантье. Из-под самого носа этого офицера ему удалось недавно чудом бежать.
– Что-то не при-пом-ню, – растягивая по слогам каждое слово, отвечал Армантье, служивший адъютантом у грозного генерала.
– Гляньте-ка на меня хорошенько, – воспрянувши духом, молвил партизан. – Помните, чем закончилась та страшная битва? Я был ранен в ногу, а вы милосердно распорядились прислать ко мне доктора. Доктор перевязал мне рану, дал испить из фляги глоток рому для бодрости и опекал нас, калек, еще сутки... А ночью, отпросившись у патруля по нужде, я нырнул во тьму и бежал к своим. Вы говорили со мной последним...
– Возможно, – медленно проронил Армантье. – Вполне возможно, и был такой эпизод при Бородине. Но, поверьте мне на слово, в то тяжелое время я был до глубины души потрясен сражением, я ни за что на свете не опознал бы вас при генерале. С раннего детства у меня случались провалы в памяти. Зато до конца своих дней я не забуду скупую слезу русского офицера, скончавшегося прямо на моих руках от ранения в грудь. Глаза его были печальны и черны, как вишни. А вдоль щеки змеился рубец от давнего сабельного удара. Словом, если вы мне не верите, – печально развел руками Армантье, глядя в глаза Давыдову, – я готов разделить тяжкую участь вашего партизана.
– Хорошенько запомните, адъютант Армантье, – как бы взвешивая на весах каждое слово, произнес Давыдов, – партизаны вовсе не изверги, каковыми их представляет себе ваш генерал. Партизаны мстят врагу за грабежи, насилие и вероломное вторжение на нашу священную землю. Но мы христиане, и души у нас сердобольные. Мы умеем платить добром за добро. А теперь поклонитесь нашему казаку. Он дважды попадал в плен и дважды был на вершок от смерти. Армантье низко склонил голову перед Николаем.
– После Бородина вы не унизились до мести и оказались на высоте. Облегчали страдания наших искалеченных солдат. За это я дарую вам свободу!
– Право, не знаю, как благодарить вас, – растроганно произнес француз.
– Под утро партизаны отведут вас в безопасное место. А вашего соратника Жана Ризо мы допросим по всей строгости. Да, вот вам мой совет на прощанье! Непременно передайте Бараге-Дильеру: пусть его люди не грабят наши селения, не истязают крестьян и не попадаются на нашем пути. Прощайте!
Спустя две недели после освобождения Армантье Бонапарт выразил свое неудовлетворение нерешительными действиями губернатора Смоленска. Бараге-Дильер был извещен о движении русских войск, но не сумел мобилизовать отряд для отпора им и не очистил местность от постоянных набегов партизан. Разгневанный император лишил небоеспособного генерала команды его и сослал в Берлин. Там он должен был предстать перед судом.
Партизаны продолжали успешно действовать вдоль Смоленской дороги. Красноречивое свидетельство тому – рапорт Давыдова, поданный на имя атамана Донского казачьего войска Платова в конце сентября 1812 года: «От выступления моего из армии с отрядом, мне вверенным... в месяц я успел взять в плен 1539 человек, положил на месте почти вдвое неприятеля, отбил обозы, сжег и доставил начальству несколько палубов со снарядами, фур с патронами, одеждою и разным продовольствием. Во всех сих успехах особенно мне спомоществовал отряд Донского войска, коего об отличной отважности и неусыпной деятельности я не могу умолчать перед вашим высокопревосходительством». При этом он просил атамана войска Донского наградить особо отличившихся казаков и гусар.
Платов вскорости ответил Денису Давыдову на его рапорт горячим, дружеским письмом. Он от души радовался победным действиям партизан, а в конце послания сделал такую приписку: «Бей и воюй, достойный Денис Васильевич, и умножай славу оружия российского и своего собственного!»
Однако партизанская война проходила далеко не всегда так победоносно и гладко, как может показаться на первый взгляд, случались отступления, бывали и поражения.
...Луга и опушку окутал зыбкий, сырой туман. В полутьме лошади в седлах покойно жевали пожухлую, схваченную ночными морозцами траву. Партизаны расположились в глухом овраге. Казаки и гусары точили сабли, грелись у огня, сушили мокрую одежду и обувь.
Из ближней деревни прибежал встрепанный, оробевший мужик и сообщил дозорному:
– Недалече, версты за три отсюда, француз-лиходей ведет отряд пленных солдат в Юренево.
Давыдов со вниманием выслушал крестьянина и поинтересовался:
– Какова сила неприятеля?
– В охране около трех человек, – отвечал мужик. – Одних пленных французы заперли в церкви, других разместили по избам.
– Благодарствую!
Давыдов похлопал мужика по плечу, велел его накормить, а сам призадумался: «Едва ли подвернется другой такой случай, как нынче. Правда, люди устали, промерзли до костей. Да и выдержат ли?! Нападать одним, без поддержки, слишком рискованно. А с другой стороны, ежели отложить налет до другого часа, то можно и вовсе прозевать. Надо выручать своих из беды!».
Затем Давыдов созвал партизан к костру и отдал приказ:
– Едем тихо! Коней ставим в надежное место, а сами врываемся в избы...
Казаки и гусары под прикрытием тумана спустились в лощину. А когда они скрытно подобрались к Юреневу, транспорт неприятеля с пленными русскими солдатами снялся и покидал ночлег. Телеги тянулись по дороге, а к селу подошли еще три батальона французов, направлявшихся из Смоленска к Москве. Но обо всем этом вожак партизан ничего не знал.
Тем временем шестьдесят партизан уже ворвались в село и вступили в бой. Их встретил плотный заградительный огонь трех батальонов пехоты. Французы попрятались в избах и палили из окон по всей улице. Казакам пришлось спешно отходить к лесу. Там их ждало подкрепление. Из шестидесяти человек пало и было тяжело ранено тринадцать.
Несмотря на потери, ротмистр Чеченский вновь атаковал французов. Однако неприятель усилил огонь пуще прежнего. Много казаков полегло в том кровавом бою. И тогда Давыдов приказал партизанам поджечь избы, где засели враги. Французы в ужасе начали выбегать из укрытий.
Чеченский воспользовался паникой в рядах неприятеля и пленил двадцать рядовых и одного капитана. Ночной налет на пылающее село складывался явно не в пользу партизан. Не желая более рисковать людьми, Давыдов приказал немедля отступить.
«В «малой войне» разведке надлежит зорко и неотлучно следить за продвижением войск неприятеля», – не раз говаривал вожак партизан. После неудачи в Юреневе Денис Васильевич сделал для себя вывод раз и навсегда: не горячиться с принятием тех или иных решений, в особенности при действиях в тылу врага. «Десять раз отмерь, а один отрежь!» – стало его неизменной партизанской заповедью.
Чтоб стремя не заговорило...
Усач. Умом, пером остер он, как француз, Но саблею французам страшен: Он не дает топтать врагам нежатых пашен И, закрутив гусарский ус, Вот потонул в густых лесах с отрядом – И след простыл!.. Федор ГлинкаМы рождены не для прогулок по паркам и не для сидения на мягких диванных подушках. Нашей священной миссией всегда были сражения за родную землю в бескрайних степях, в лесах и болотах, под палящим солнцем и под проливным дождем. Нашим приютом чаще всего были горящие костры и наспех построенные шалаши... Таков наш удел, таковым ему оставаться и вовеки...
Матвей Платов, граф, атаман Донского казачьего войскаОправившись после ран, гусар Николай Пегов вернулся в строй и начал уже забывать о горестях Фридленда и о своем спасителе, если бы не случайная встреча с другом, казаком Василием Азовским. Однако все по порядку. А дело было так...
Проснулся гусар затемно у бивачного огня, тряхнул головой, стараясь прогнать остатки дурного сна, глянул по сторонам. Вдали, на горизонте, разлились багровые полосы. Вначале он не мог взять в толк: «Разве заря может быть такой? Да и не заря это вовсе! Пожарище! Горит отчий край! Пылает Россия! Вот до чего мы доотступались...» В эти минуты у Пегова сердце рвалось на части. А ведь ему многое уже пришлось испытать на войне: участвовать в Морунгенской битве, в сражении при Эйлау, в жесточайшей сече у Фридленда, где он находился на вершок от смерти. Хотя и там тоже были горечь поражения, отступление и сознание собственного бессилия что-либо изменить. Однако там бои велись на чужой стороне, и это круто меняло дело. Ныне иное, ныне непрестанное тягостное отступление по родной земле, да еще на фоне этого зловещего багрового зарева. И гусар понял: надо, надо мстить врагу!
На проселочной дороге возле леса Пегов повстречал друга, казака Василия Азовского, обозревавшего местность, и несказанно обрадовался этой встрече.
– Ах, Николай, Николай! Разбросала нас война-лиходейка по разным сторонам, но встретиться все ж таки довелось. Полюбуйся, как полыхает вдали, – сказал Азовский.
– Куда как хорошо! – грустно ответил Пегов.
– Вишь, как француз лютует...
От этих слов у гусара вконец испортилось настроение.
– Верно ли мне сказывали, что ты, Василий, подался в партизаны?
– Верно. Пристал недавно вместе с донцами генерала Карпова.
– Значит, вместе с Давыдовым?
– А как же! Денис Васильевич у нас голова. Он завсегда с нами. Да ты, Коля, знаешь? – Азовский смолк и таинственно приложил палец к губам. – Мы сегодня в ночь того... в секрет идем.
И у гусара словно камень упал от сердца, он поделился с другом своим заветным желанием участвовать вместе с ним в налете. Азовский согласно кивнул в ответ и посоветовал ему просить разрешения у эскадронного командира. И Пегов ушел. На пути к эскадрону он видел, как партизаны возились у коновязи, чинили седла, курили...
Пегов сбавил шаги и поразился: уж больно трогательно седовласый казак беседовал с собакой:
– Цыц, ты, подлая! Ни Боже мой! Я тебя сей момент на цепь. Мы ночью того, в секрет. Ты ж, дура, не утерпишь, гавкнешь! А франц хитер, он лая не любит... – увещевал четвероногого друга степенный казак.
Эскадронный командир Федоров, которому Пегов заявил о своем намерении принять участие в ночном налете, тут же принялся его отговаривать:
– Погоди немного, Николай. Не кипятись! Ведь ты еще не окреп, не все раны зажили...
– Заживут в бою!
Командир живо представил ему картину столь рискованного предприятия. Но перечисление опасностей еще более раззадорило Пегова. И тут Федоров стал доказывать ему незаконность с военной точки зрения стихийного казацкого способа ведения войны. Даже протянул с горечью: «регулярным войска заниматься подобным «промыслом» неприлично».
– Не-при-лич-но, господин ротмистр! – горячо возразил Пегов. – А что прилично? – Тут он повернулся в сторону зарева и указал на него рукой. – Да разве военная наука сие одобряет?
– Партизанить – значит злоупотреблять законами войны! – твердо стоял на своем ротмистр.
– Законы войны! Война имеет свои законы – палить села и города, убивать и лишать крова детей и старцев! – вошел в раж гусар. – Да разве сама война не есть нарушение всех на свете законов!
Тут ротмистр Федоров молча потупил взгляд. Он смекнул, что дальнейшие уговоры бесполезны и смилостивился.
– Хорошо, Пегов! Только чтоб завтра в полдень быть в эскадроне. Ну с Богом!
– С Богом! – несказанно обрадовался гусар. Азовский тем временем доложил вожаку о своем друге и получил от него дозволение на участие Пегова в налете.
– Под твою личную ответственность, – строго наказал Давыдов. – Чтоб потом не роптал!
Азовский уведомил Пегова: «Партизаны действуют большей частью в рассыпном строю. Иной раз случается и «рассыпное отступление» при столкновении с грозным противником. Словом, по первому сигналу вожака отряд рассыпается по полю. Партизаны во весь опор скачут кто куда, лишь бы поскорее уйти от преследования. Однако каждый, миновав несколько верст, должен пробраться незамеченным к означенному сборному пункту».
В потемках партизаны перешли реку вброд. Впереди скакал Давыдов, пригнувшись к шее гнедого коня и сидя глубоко в седле. Пегов видел перед собой теперь совершенно иного Давыдова. В темноте вожак партизан казался солиднее. Ловкий в движениях, с сильными руками, в шапке курчавых волос. Голова поднята, взор устремлен вперед.
Пегов глянул на партизан. Они были подтянуты, напряжены. Только пожилой сухощавый казак Чугреев, что так трогательно говорил с собакой, которого все здесь величали «батькой», строго поглядывал из-под седых бровей на молодых партизан да на Пегова, допущенного в налет впервые.
Чугреев следил за тем, ровно ли скачут под казаками кони, не зарывается ли который в пути, не звенят ли стремена.
...Час-другой пария провела в седле. Партизаны то лесом проскачут, то в глухую балку нырнут, то по узкой витой тропе цепью протянутся.
Зарево пожара все ближе, а тьма все гуще. В пути никто не проронил ни слова.
Давыдов первым пришпорил коня.
– Ухо востро, братцы! – распорядился он. – Подобрать поводья. Сабли к седлу, чтоб звуку не было. Друг с дружкой не сближаться, чтоб стремя не заговорило... Глядеть в оба!
– Слушаюсь! – ответил за всех Чугреев.
Давыдов разделил партизан на три взвода: одних оставил при себе, других отдал под надзор Степану Храповицкому. Ну а прочих – Чеченскому.
Пегов, Азовский и Чугреев остались при вожаке партизан.
Взводу Чеченского с казаками приказано было заходить с правого боку, Храповицкому со своими людьми – с левого. Сам же Денис Васильевич шел прямо, во фронт.
Партизаны скакали лесной тропой, в струнку, поводья подобраны. Впереди вилось на ветру пламя: догорала спаленная французами деревенька Матвеевка.
Давыдов легко спрыгнул с коня. Передав поводья Федьке Шухову, он подозвал к себе Кузьму Жолудя и Чугреева.
– Пойдете в разведку! – последовал приказ.
Ночь выдалась тихая, правда, издалека доносились порой какие-то странные звуки: то ли лай собаки, то ли плач ребенка, то ли крик совы...
Пегов взглянул на небо. Ясные прежде звезды начинали бледнеть и мигать – близился рассвет. И вдруг будто зазвенел колокольчик, зазвенел тонко, надрывно. Нет, это не колокольчик, а таинственные звуки и шорохи уходящей ночи: они рождались не то на реке, не то в небе, не то на земле... и так же незаметно смолкали.
Конь Пегова навострил уши, нервно вздрогнул всем телом: какой-то серый клубок запыхтел у него под копытами и, шурша палым листом, покатился в сторону. Конь не вытерпел, всхрапнул и встал на дыбы... Оказалось, это пробежал полуночник-еж. Гусар спрыгнул наземь и с трудом успокоил норовистого коня.
Давыдов переговорил о чем-то с вернувшимися из разведки казаками, подошел к партизанам:
– Французы спят как убитые. Даже дозорные. Ворвемся скопом и как мокрым рядном их накроем. На конь!
Вожак партизан скакал впереди. Пегов, обнажив саблю, едва поспевал за ним. В горячке налета гусару запомнились топот копыт, ржанье коней да звон стремян, а еще – крики сонных французов, стоны и чей-то глухой рев. Сабля гусара ударила в чье-то упругое тело, он с трудом выдернул ее и повернул коня. Началась погоня за растерянным, застигнутым врасплох неприятелем под победное «Ура-а-а!», гремевшее с разных сторон.
Конь Пегова вихрем пронесся меж фурами. Ударом сабли гусар сразил на скаку французского офицера. В ту же минуту он услыхал за спиной знакомый басок Василия Азовского:
– Ай да Николай!
Невдалеке Пегов узрел «батьку» Чугреева на взмыленном, брызжущем пеной коне. На скаку он придерживал впереди себя смертельно раненного казака, окровавленная голова которого безжизненно свесилась вниз.
Неожиданно «батька» повернулся к Пегову и крикнул:
– Назад, ваше благородие! Кончено дело!
Партизаны держали путь к лесной стоянке: погромыхивали отбитые у неприятеля фуры с награбленной у крестьян провизией. А позади фур плелись связанные веревками пленные французы в синих и зеленых мундирах.
Николай дышал тяжело. По-настоящему он пришел в себя, когда туман рассеялся и немного развиднелось.
Азовский громко, заливисто смеялся, указывая Давыдову на Пегова:
– Истинно гусар, Николай!. Чертом дрался! А теперь, видать, сник, – скаля белые зубы, казак похлопал друга по плечу.
Холодное, предзимнее солнце позолотило сухой поредевший березняк. Давыдов восседал на гнедом красавце-коне. Конь нетерпеливо рыл копытами землю. Словно шелк, лоснилась его шерсть. Несмотря на жестокую сечу, конь выглядел исправно. Грива приглажена. Копыта подмазаны. Черные навыкате глаза, шоколадный корпус, небольшая узколобая голова и кроваво-красные ноздри придавали ему боевой вид. Конь был под стать бравому седоку.
Давыдов радовался успеху налета и, поглаживая усы, силился вспомнить: где же доводилось ему встречать прежде этого гусара?
Меж тем Пегов стоял, опустив голову. Гусар оробел от похвалы Азовского. Он хотел горячо поблагодарить своего храброго спасителя и попрощаться как подобает с верным другом Василием Азовским, но по-прежнему не мог двинуться с места и замер будто вкопанный, не промолвив ни слова. Партизаны тем часом спустились в низину и скрылись из глаз.
Геройский полувзвод
...И мчится тайною тропой Воспрянувший с долины битвы Наездников веселый рой На отдаленные ловитвы... Начальник, в бурке на плечах, В косматой шапке кабардинской, Горит в передовых рядах Особой яростью воинской. Денис ДавыдовЗима в двенадцатом году рано проявила свои норов. Похолодало уже в октябре. Проселочная дорога к лесу подсохла и смерзлась. Студеный ветер донес легкий посвист дозорного, сидящего в белом халате на заснеженной сосне.
Давыдов погасил трубку и велел всем быть начеку.
Вскоре явился связной, бойкий вихрастый паренек из местных крестьян, с усмешкой донес:
– По тропе идет зоритель с ружьем. Впереди его бежит собака. Сразу видать – охотник. Мундир на нем расписной.
Давыдов приказал казакам седлать коней и пленить француза
Партизаны тотчас же поскакали опушкой, увидели офицера и окружили его. К великому их удивлению, француз даже не попытался защищаться, а лишь нахмурился и безнадежно махнул рукой.
Казаки отобрали у него ружье и привели к командиру.
Денис Васильевич допросил пленного:
– Кто вы и как попали сюда? Француз, заикаясь от волнения, отвечал:
– Я полковник 4-го Иллирийского полка Гётальс. Страстный охотник по дичи.
– Вижу, страстный, – согласно кивнул Давыдов, указав на ягдташ. – А что в сумке?
– Тетерев, – прохрипел француз, кутаясь в теплый шарф. Он раскрыл ягдташ и вынул оттуда краснобровую черную птицу с лирообразным хвостом и белоснежной выпушкой.
– Где же ваш батальон, полковник? – строго спросил вожак партизан. – Неужто вы бросили солдат своих?
– Солдат не бросал. – Француз опустил глаза и печально качнул головой. – Правда, батальон мой вконец расстроен. Он не спеша движется для формирования в Смоленск. Воспользовавшись задержкой голодных солдат своих, я крикнул собаку и решил поохотиться.
– И поохотились на славу. – Давыдов хитро улыбнулся. – С полем, полковник! Признаться, я и сам люблю охоту!
– Покорнейше благодарю, – промычал в ответ француз. – Начало охоты удалось, но такого конца я не ожидал...
При последних словах полковник, будто пробудясь от кошмарного сна, начал большими шагами ходить взад и вперед. Наткнулся на легавого пса, прихваченного им по случаю в опустевшей барской усадьбе. А пес меж тем преспокойно растянулся на казачьей бурке. Полковник схватился руками за голову и, подобно трагедийному актеру, воскликнул:
– Ах, эта ужасная, пагубная страсть!
Партизаны дружно рассмеялись, хотя и не поняли слов взволнованного и растерянного француза.
Здоровенный бородатый казак тем временен взял с земли тетерева, водрузил его на пику и поднял над головой, а молоденький Федька Шухов приложил ружье к плечу и стал целиться в краснобрового лесного петуха. Но Давыдов нахмурил брови и строго приказал:
– Убрать птицу! Прекратить комедию! Полковника увести!
Вскоре дозорный снова подал сигнал тревоги – впереди показался неприятель.
Наступила решающая минута...
Партизаны сели на коней, отъехали в сторону и затаились.
Французы шли понуря головы, кутались в платки и шарфы.
Как только батальон приблизился, Давыдов подал команду: «В сабли!»
Нападение оказалось столь неожиданным и на таком коротком расстоянии, что со стороны французов раздалось лишь несколько лихорадочных выстрелов.
Поверженный батальон был обезоружен партизанами. В плен сдались два офицера и около двухсот солдат. Лишь десятку «счастливцев» удалось скрыться в чаще заснеженного бора, однако там их ожидали морозы и голод.
Давыдов построил батальон в колонну во главе с незадачливым командиром. Партизаны в шутку окрестили его «французским тетеревом». В пути нервы окончательно расшатались у полковника Гётальса, он не раз останавливался, хватался руками за голову и повторял: «Ах, эта ужасная, пагубная страсть!» Под конвоем пленных доставили в село Покровское, а затем переправили в Юхнов.
Кроме храбрости, лихости да смекалки была у Давыдова особая черта: как никто иной умел он отличить в бою достойного.
Как-то велел Денис Васильевич позвать удалого и сметливого урядника Крючкова. Шепнул ему два слова на ухо, а через полчаса по приказу командира урядник во главе казачьего разъезда уже скакал к селу Лаптеву. Там расположились французы.
Вблизи села партизаны остановились. Крючков приказал всем достать пистолеты.
«Чудно! – удивился казачок Федька Шухов. – Никак, с пистолетом на супостата вздумал?» – и слегка задержал руку на кобуре.
Крючков приметил его нерешительность и спросил:
– Ты, браток, на перепелов охотился?
– Бывало. А шо?
Трах-ба-бах! Трах-ба-бах! – Казаки один за другим выстрелили в воздух и двинулись в обход села.
Федька видел, как из домов выбегают французы, строятся в колонну и выходят из Лаптева.
«Ловко мы их выкурили! – смекнул казак. – Пошутковали – трах-ба-бах! А француз, видно, подумал: казаки наступают – и решил, не принимая боя, отойти. То-то будет ему на орехи. Впереди-то наш взвод Чеченского...»
Враг клюнул на партизанскую «удочку» и отступил, но сломить его оказалось не так-то просто. Французы защищались отважно.
Вскорости к взводу Чеченского пришла подмога – Крючков с казаками, обойдя Лаптево, с ходу вступил в бой.
Молоденький Федька Шухов, приметив занесенную над своей головой саблю, по-детски испуганно ахнул: «Мамочки!» – ловко увернулся от удара французского кавалериста, сделал отчаянный выпад и достал его клинком.
Когда кавалерист падал на землю, Федька с облегчением вздохнул и вновь прошептал: «Эх, мама! Мамочки!» И хоть не до шуток было в те решающие минуты боя, но бившиеся рядом казаки услышали Федьку и дружно подхватили: «Эх, мама! Мамочки!» С этой удалой прибауткой партизаны одолели неприятеля.
Сотня солдат во главе с офицером сдалась в плен. Оказалось, что захваченный обоз принадлежал карательному отряду, который вторую неделю безуспешно гонялся за партизанами.
На другой день после схватки у Лаптева пленный французский офицер, которого допрашивал сам Давыдов, внезапно задал ему странный вопрос:
– Скажите, а что значит по-русски это страшное: «Мама! Мамочки!»?
Тут Денис Васильевич прервал допрос и приказал отличившимся в бою казакам построиться в одну шеренгу. Затем он велел сделать шаг вперед Шухову и всем тем, кто пугал французов этим «страшным» словом – «Мамочки!»
Поначалу партизанам стало не по себе: «Мало ли что? Поди, не положено так кричать в бою!».
Меж тем Давыдов насупил брови и спросил с напускной строгостью в голосе:
– Не боитесь ли вы, братцы, что завтра вас изловят господа французы, – тут он кивнул на пленного офицера, обвязанного пуховым платком и имевшего весьма жалкий вид, – и перевешают всех до единого на первой придорожной осине?
Партизаны дружно рассмеялись в ответ.
– То-то, братцы! – продолжал Давыдов. – Разве понять господину полковнику наше страшное: «Мама! Мамочки!?» – и, похлопав оробевшего было Федьку Шухова по плечу, распорядился: – За доблесть, проявленную в бою, объявляю вам благодарность и представляю каждого к знакам отличия. За отвагу и спайку образую из вас... – командир помолчал, улыбнулся, – геройский полувзвод!
– Геройский полувзвод! – с гордостью повторили казаки. А удалой Федька Шухов вытянулся во фрунт и восторженно прошептал:
– Эх, мамочки!
В рапорте Дениса Давыдова, поданном в главный штаб на имя Кутузова, про эту дерзкую боевую операцию сказано так: «Первое отделение ротмистра Чеченского в виду деревни Лаптево рассеяло неприятельский отряд, который дерзнул было выйти к нему навстречу. Удачные нападения и искусно расположенные засады, а вместе храбрость всякого из низших чинов уничтожили отважные замыслы неприятеля, и он, обратясь в бегство, претерпел жестокое поражение».
Нет пощады изменникам!
Нет, нет! Судьба нам меч вручила, Чтобы покой отцов хранить. Мила за Родину могила, Без Родины поносно жить! В.Ф. РаевскийНедалеко от города Дорогобужа казачий пост задержал человека в потрепанном мужицком кафтане и лаптях. Эту подозрительную личность с холеным лицом и тройным подбородком партизаны привели к Давыдову.
– Кто ты такой? – поинтересовался Денис Васильевич. – И далеко ль путь держишь?
– Я местный помещик, – отвечал незнакомец. – Отставной подполковник Масленников. Мародеры ограбили и вчистую разорили меня. С большим трудом спас я последнее имущество свое. Да и то скажу, выручил меня охранный лист, взятый у коменданта в Вязьме.
– А ну покажи! – приказал вожак партизан, наперед зная бесполезность охранных листов.
Помещик долго рылся в карманах, а затем с неохотой вытащил бумагу, приговаривая:
– С риском для жизни приобрел я свидетельство сие у французов.
– Давай-ка сюда. Глянем! – повысил голос Давыдов и с удивлением прочел, что господин Масленников освобождается от всякого постоя и реквизиции имущества «в уважении обязанности, добровольно принятой им на себя продовольствовать находившиеся в Вязьме и проходившие через город сей французские войска». – Выходит, снабжал продовольствием неприятеля? – сурово заключил вожак партизан.
– Никак нет! – поспешно начал оправдываться Масленников. – Никогда и ничем не потворствовал я извергам. Деревенька моя Пеньковка здесь поблизости, всего в трех верстах. Да, право, господа, будьте друзьями... Приезжайте-ка в гости! Да заодно и перекусите у меня чем Бог послал.
На другой день Давыдов в сопровождении вестового и десятка казаков отправился в Пеньковку. Каково же было его удивление, когда все в деревне – и помещичья усадьба, и церковь, и избы мужиков – оказалось в полном порядке. Денис Васильевич с тремя казаками и вестовым пошел к дому Масленникова.
– Милости прошу дорогих гостей! – рассыпался в любезностях перед партизанами отставной подполковник. – Чем богаты, тем и рады...
Обходительный хозяин провел гостей в одну из комнат, где все было порушено: стол перевернут вверх ногами, посуда разбита, рамы в окнах выломаны...
– Полюбуйтесь-ка, что натворили варвары! – Масленников даже прослезился от переполнившей его душу обиды, картинно приложил к глазам носовой платок и дрожащим голосом вымолвил: – Но обед вас ждет отменный!
– Благодарствуем! Благодарствуем! – отвечал Давыдов, у которого сразу, как только он переступил порог барского дома, закралось подозрение, что помещик сам сотворил сей погром на скорую руку.
Когда сытная трапеза подходила к концу, Денис Васильевич невзначай бросил взгляд в окно и заметил толпу мужиков.
– Ну-ка, Кузьма, ступай, узнай, зачем народ собрался? – приказал Давыдов вестовому. – Коли что, зови всех сюда!
Крестьяне вошли в дом скопом, с причитанием: «Просим допустить! Дениса Васильевича нам надобно! Пеньковские мы...»
– Здравствуйте, мужики! С чем пожаловали?
– Челом тебе бьем, Денис Васильевич, – заголосили мужики.
– Кто из вас старшой?
Вперед вышел старец с жидкой, трясущейся бородой. Поклонился Давыдову в пояс.
– Говори, говори, православный. Не стесняйся! Как зовут-то тебя?
– Кондрат Пахомов я... Как на духу тебе скажу, батюшка Денис Васильевич! – Мужик исподлобья покосился на помещика. – Глянь-кось окрест, родимый! У него, лиходея, и барские хоромы, и мужицкие избы все целы-целехоньки. Ни один француз до них пальцем не дотронулся. А потому не тронул, что он вместе с французом грабил нас. Дочиста разорил, злодей. Все добро наше на возы да в Вязьму, к ихнему коменданту. У нас ни синь-пороха не осталось по его милости! Постращай его, родимый, а нет – мы его своим судом.
– Как же так получается, Масленников? – Давыдов гневно сверкнул карими очами.
– Врут они, нехристи! – стал оправдываться помещик. – Лентяи все, трусы. Им доброго человека оклеветать, что блин сглотнуть. Вот ужо погодите, вы уедете, задам я им перца. Я им покажу барские хоромы и дружбу с францем. Ступайте-ка отсюда вон, иуды проклятые!
– Стой! – резко прервал угрозы помещика Давыдов. – Я им больше верю, нежели тебе, Масленников. Голос народа – голос Божий! Ну-ка, Кузьма! – приказал он вестовому. – Сей же час спусти с этого мерзавца штаны. Разложи его на крыльце, чтобы все видели. Да всыпь нагайками двести горячих. Дабы другим неповадно было!
Масленников, словно подкошенный, рухнул на землю:
– Смилуйтесь! Не губите, православные!
– Запоздал с помилованием. Прежде следовало о своей чести заботиться. – Денис Васильевич брезгливо поморщился и отвернулся от изменника. – Скажи спасибо, что я не велел повесить тебя на первой придорожной осине.
В дневнике своем Давыдов отметил, что некоторые корыстные помещики остались в своих владениях, дабы избежать разорения. Они потакали неприятелю, открывали ему свои амбары, а затем проливали неискренние крокодиловы слезы.
Спустя неделю после случая в Пеньковке партизаны пленили семь мародеров, нагло и безжалостно грабивших крестьян. Причем один из них вовсе не походил на француза. Пленного допросили с пристрастием. Как же удивился Давыдов, когда узнал, что столь жестоким карателем оказался бывший русский гренадер. По собственной воле он продался французам и служил унтер-офицером в армии Наполеона.
– Как? – ужаснулся Давыдов. – Ты – русский и проливаешь кровь своих же братьев?
– Виноват, – запоздало спохватился и рухнул на колени предатель, – помилуйте, помилосердствуйте...
Давыдов велел партизанам собрать всех жителей ближних деревень – старых и малых! – и привести их сюда.
Когда крестьяне собрались, Денис Васильевич рассказал им об измене Родине русского гренадера.
– Что будем делать с преступником, нарушившим воинскую присягу? – спросил вожак партизан.
– Засечь до смерти! Повесить! Расстрелять! – кричали из толпы.
– Расстрелять! – приказал Давыдов.
Тут же, при народе, приговор над изменником был приведен в исполнение.
– Щадить предателей столь же опасно, – сказал Давыдов крестьянам, – как истреблять карантины в чумное время!
Зарево над Москвой
Умолкнул бой. Ночная темь Москвы окрестность покрывает, Вдали Кутузова курень Один, как звездочка, сверкает. Громада войск во тьме кипит, И над пылающей Москвою Багрово зарево лежит Необозримой полосою. Денис ДавыдовСпасаясь от стылых октябрьских ветров, партизаны грелись у костров и тихо беседовали меж собой.
Денис Давыдов восседал на толстом еловом кряже. Плечи его укрывала теплая, окуренная дымом бивачных костров бурка, памятный подарок князя Багратиона, а на голове возвышалась мохнатая медвежья шапка. Напротив него расположился на бревнах майор Волынского уланского полка Степан Храповицкий, сын юхновского предводителя дворянства, недавно примкнувший к отряду. Давыдов знал Храповицкого как отважного офицера еще по войне с пруссаками, когда тот служил в Павлоградском полку. А теперь, в суровое предзимье двенадцатого года, друзьям вновь довелось встретиться на полной опасностей и риска партизанской стезе. Подле них на заиндевелой траве стояли жестяные кружки-манерки с крепкой заваркой чая, а на холсте лежала крупно нарезанная колбаса да ломти ржаного хлеба.
– Ну-ка, Степан, поведай мне поподробнее, как зорители входили в Москву-матушку, – попросил Давыдов, усаживаясь поудобнее и закуривая короткую трубку в предвкушении услышать от друга интересные подробности. – Мы ведь все больше по лесам да болотам, только слухами пробавляемся. А что там, в Первопрестольной, не знаем, не ведаем.
И Храповицкий начал, не торопясь:
– Армия наша покидала Москву, а посему весь город пребывал в тягостном движении. В скорбном молчании шла пехота. Глухо скакала кавалерия. Беднота и ребятишки малые сновали по узким проулкам взад-вперед. Калачи да булки летели в повозки. Под ноги пехоте пригоршнями сыпались монеты – возвращайтесь, мол, сынки родимые, назад поскорее. Женщины подносили солдатам кувшины с квасом и бутыли с вином. «Эй, соколики! Бери, что любо-дорого!» – кричали бородатые купцы, распахивали двери лавок и магазинов, любезно предлагая воинам товары лучшие. Дабы не достались супостату.
– Вишь как расщедрились! – усмехнулся Давыдов.
Над Москвою-рекой стоял удушливый дым! До сей поры кажется, что в носу щиплет. Граф Растопчин приказал поджечь караван барж с хлебом.
– Поди ж ты, мы тут каждое зернышко бережем, как зеницу ока... А там целый караван барж!
– Что поделаешь! Не оставлять же добро недругам?! К Филям и на Поклонную гору стекался народ глазеть на пленных французов, взятых при Бородине.
– При Бородине, – тяжко перевел дыхание Давыдов, и пред глазами его ожили счастливые безмятежные дни юности, проведенные в имении отца. Вихревые скачки на коне вдоль опушки Семеновского бора, дальние походы по грибы и ягоды, шумные волчьи облавы, азартные зимние охоты с гончими на зайцев и лис.
– Следует отдать должное пленникам: держались они с достоинством, как посланцы великой армии. Ведь им выпала доля первыми ступить в Москву.
– Не то как же? Ступить?! – усмехнулся Давыдов. – Правда, гордости французам не занимать! Есть тут у нас в отряде один пленный французский барабанщик. Так не поверишь: по утрам клянется в верности Бонапарту. После обеда напевает французские песни. А в ночь идет с нами в секрет – бить своих мародеров.
– Да ну?
– Так мальчишка же! Пятнадцать лет... В голове – полная мешанина...
– Полная мешанина... А в Москве в те страдные дни творилось прямо вавилонское столпотворение!
– Столпотворение? Так, так...
– По Тверской тянулся длинный, в несколько рядов обоз. То везли раненых с поля Бородина. Следом тарахтели экипажи и возы, груженные сундуками, ящиками, корзинами, перинами, – обстоятельно вел рассказ Храповицкий. – У городских застав подводы скучивались, мешая проехать друг другу. Воздух сотрясали вопли стиснутых в давке женщин и детей, ржанье лошадей да хлопки бичей.
– Значит, вавилонское столпотворение... – качнул в раздумье головой Денис Васильевич, попыхивая короткой трубкой. – Так, так... А скажи-ка мне, Степан, что более всего ранило сердце твое при отступлении войска нашего?
– Более всего? – Майор призадумался. – Пожалуй, глаза одной матери, залитые горючими слезами. Все бежала и бежала она из последних сил за телегой, на которой лежали раненые. Молилась и расспрашивала, не довелось ли кому, случаем, повстречать ее Петюню, бившегося при Бородине? Осьмнадцати лет Петюня, рыженький...
– Ну и как?
– Сам разумеешь... Бородино! – Храповицкий развел руками и продолжал далее: – Тем временем с башен Кремля уже просматривались вдали темные тучи наполеоновской армии. Враг медленно подвигался к Дорогомиловской, Калужской и Тверской заставам.
– Кто стоял в арьергарде?
– Задержать неприятеля приказано было генералу Милорадовичу. Хотя он и понимал, что сил у него слишком мало, чтобы совладать с такой армией. Но...
– А каков авангард неприятеля?
– Авангард французов составляла испытанная в боях кавалерия Мюрата. И Милорадович решил напоследок пощекотать нервы завоевателей. Он приказал адъютанту:
– Езжай немедля к Мюрату и передай ему от моего имени. Ежели французы хотят занять Москву в целости и сохранности, то пусть дадут нам время спокойно покинуть город. Иначе мы будем драться как львы, до последнего солдата. И оставим им одни развалины!
– Что же Мюрат?
– Маршал разлюбезно принял офицера и тут же велел замедлить продвижение войск. Однако выставил непременное условие: пусть наши не увозят с собой всю провизию.
– Проголодались, супостаты!
– Вскорости кавалерия Мюрата вновь придвинулась к задним рядам конницы Милорадовича. Воины наши, потупя взоры, отступали с тяжелым сердцем. В три часа пополуночи великая армия облегла Москву с запада несчетной стаей зловещих воронов. Французы пребывали в веселом настроении, пели бравые песни... Они надеялись попировать здесь всласть! Однако Бонапарт...
– Так, так... Что же Бонапарт?
– Он въехал на коне на Поклонную гору и долго любовался оттуда Москвой. Глядел в подзорную трубу на маковки церквей златоглавых да на стены древнего Кремля, восклицая: «Вот каков этот знаменитый город! Давно пора нам здесь пребывать!»
– Что же доложили ему маршалы?
– Маршалы тоже готовились праздновать победу. С захватом столицы они считали войну оконченной.
– Не то как же! Оконченной! – не на шутку разгневался Давыдов. – Держи карман шире!
– Меж тем день клонился к вечеру. Мюрат послал адъютанта к императору, дабы уведомить его, что с русскими заключено перемирие до утра. Однако Наполеон приказал выстрелом из пушки подать сигнал: «Пусть войска немедля входят в город!» И лавина с трех сторон хлынула на Белокаменную.
В волнении Давыдов вынул кисет и вновь набил табаком свою короткую трубку.
– Мюрат шел на Дорогомиловскую заставу, Понятовский – на Калужскую, а вице-король Богарне – на Тверскую. Кавалерия неслась во весь опор. Пустилась бегом пехота. Вслед за ней поспешала артиллерия. Воздух сотрясали бряцание оружия, ржанье коней, бой барабанов... «Виват император!» – кричали французы.
– Куда же направился победитель?
– Спустившись с Поклонной горы, Бонапарт остановился у Дорогомиловской заставы. Сошел с коня и стал ожидать депутацию бояр с ключами от города. Надо признать: время тянулось медленно, а депутация все не приходила. Сгорая от нетерпения, император принялся ходить взад-вперед, заложив руки за спину. Однако людей ни с ключами, ни без оных, все нет и нет. Адъютант доложил Бонапарту: «Москва пуста, ваше величество. Жители покинули дома свои...» Наполеон разгневался: «Это невероятно! – и приказал адъютантам: – Приведите мне бояр. Немедленно!»
– Неужто бояре остались в столице?
– Слушайте-ка, Денис Васильевич, далее. Спустя час посланцы вернулись и привели с собой несколько иностранцев. Наполеон обратился к одному из них: «Кто вы, сударь?» – «Я житель Москвы, – отвечал пришелец. – Француз по происхождению, типографщик Ламер». – «Выходит, мой подданный, – лицо императора озарила улыбка. – Отвечай: где сенат?» – «Выехал». – «Как выехал? – изумился император. – Куда выехал?» – «Очень испугались, когда услышали, что ваше величество идет на Москву». – «А губернатор, граф Растопчин?» – «Тоже уехал». – «Где же народ?» – «Разбежался, кто куда...» – «Кто же остался в Москве?» – «Одна чернь. Повсюду пустота и молчание». – «Быть того не может! – пуще прежнего разгневался император. – Болван! Неужели все вымерло?» – с этими словами он повернулся спиной к свите, вскочил на лошадь и крикнул: «Вперед!» Свита стояла молча, не шелохнувшись.
– Поди ж ты, как разобрало повелителя!
– Раздосадованный Наполеон прискакал на Дорогомиловскую заставу. Здесь, в пустом доме, он пробыл до тех пор, пока в Кремле шли приготовления для его пышного приема.
– Когда же супостат пожаловал в Кремль?
– Утром третьего сентября Наполеон важно прогарцевал на арабской лошади по опустевшему Арбату, направляясь в Кремль. За ним следовала пышная свита. На улицах в небо взвились зловещие клубы черного дыма. Наполеон понюхал воздух, слегка поморщился и приказал:
– Отрядить три отряда! Пусть немедля приступят к тушению!
Тем часом ветер раздувал пожар московский...
– Кто же устроил пожар?
– Постойте! Постойте! Когда Бонапарт въехал в Кремль, пламенем занялся Гостиный двор, – рассказывал Храповицкий. – Огонь рвал крыши с домов, рушил купола церквей... Запылали Остоженка, Балчуг, Каретный ряд, Китай-город...
– Жарко-парко пришлось зорителям!
– Еще как! Да ведь мы их в гости не приглашали! Пожар не давал Наполеону покоя и крепко испортил ему настроение. Он вышел на балкон. С отчаянием взирая на пылающие особняки, на грозную стихию, император чуть слышно проговорил: «Москва погибла! Неужели я потерял возможность наградить мою армию? Русские сами уничтожают город. О, какие дикие люди! Это скифы!»
Майор перевел дыхание и с еще большим азартом продолжал рассказ:
– Однако затяжные дожди помешали огню превратить улицы в груды развалин.
– Груды развалин... Скажи-ка, Степан, достойно ли держали себя пред завоевателем узники московские?
– Страдальцы Белокаменной укрывались в темных дворах да в глубоких рвах. В домах не смели отапливать печи. Средь осеннего хлада в ночи завязывалась перестрелка то у Троицкой заставы, то у ворот Сретенских... По окраинам рассыпались тайные сходки казаков. Их дерзкие налеты поддерживали узники плена московского.
– Выходит, не было покоя французам!
– Ну, так я о том и толкую. Да, постойте-ка, довелось мне слышать любопытнейшую историю про одного старика.
– Ну-ка, ну-ка, Степан?
– От пожара в Москве каким-то чудом уцелел театр Позднякова. Театр этот славился роскошью и зимним садом. Сам хозяин на спектаклях да на балах-маскарадах разгуливал, вырядившись не то персиянцем, не то китайцем. А садовник-бородач, прячась за занавесом, щелкал и заливался соловьем.
– Неужто и вправду соловьем?
– Тем и знаменит театр Позднякова. Вечером у ворот Никитских, в особняке княжеском, французская труппа давала представление. В театре присутствовала почти вся Европа в малом объеме. В доме супротив театра веселились гвардейские офицеры. Под звуки расстроенного пианино они вальсировали. Но вот двери распахнулись – и счастливец шумно вбежал в комнаты с двумя бутылками отысканного невесть где шампанского. Загремело: «Браво! Бра-вис-симо!» Ударили в потолок пробки. Зазвенели пенящиеся бокалы. Раздались слова военной песни французской.
– Выходит, пировали зорители!
– Пировали! Едва только ликующие голоса смолкли, офицеры уселись. Стали вслушиваться в новые для себя звуки. Откуда-то издалека доносилась мелодия старой русской песни. Французы закричали:
– Что за дивные звуки?! Откуда взялась эта великолепная грусть? Кто там музицирует?»
– Кто же музицировал? – заинтересовался Давыдов.
– Гвардейцы перебежали улицу, постучали в дверь и, не дождавшись ответа, ввалились в дом. Оказалось, горестный старец изливал скорбь душевную в игре на фортепьяно да в пении старинных русских песен у постели малолетних внуков своих. Французы попросили:
– Любезный, сыграй нам что-нибудь веселенькое. Вальс, что ли?
На сие предложение старец отвечал так:
– У меня отныне одна скорбь на душе!
– Мы заплатим! – стали уговаривать его офицеры.
– Я беру деньги за уроки, но не продаю себя, – старец раскланялся и печально развел руками, подчеркнув тем самым, что разговор окончен.
– Браво! – воскликнули офицеры. – Какой благородный ответ! Браво!
Так горестный старец отстоял в плену московском достоинство свое и защитил славу русских песен.
– Значит, новый Атилла ошибся в расчете! Не нашел он в Златоглавой роскошного приема и богатств несметных.
Москва встретила завоевателя Европы скорбной тишиной да пожарами. Ударил отныне час возмездия!
Не успел Давыдов закончить речь, как на прогалину выбежали из лесу два бородача. Мужики с опаской подошли к партизанам. Один из них прошептал что-то казачьему уряднику на ухо и махнул рукой в ту сторону, откуда пожаловал.
Русская банька с ледяной купелью
За тебя на черта рад, Наша матушка Россия! Пусть французишки гнилые К нам пожалуют назад! Денис Давыдов– Щеглов! – Давыдов подозвал к себе казака. – Что за люди!?
От кучки партизан отделился приземистый казак с рыжей окладистой бородой и пшеничными усами, доложил командиру:
– Мужики прибегли, Денис Васильевич, из Никольского. Жалятся. Нагрянули басурманы к ним затемно да и принялись грабить. Ни синь-пороха в селе не оставили!
– Веди их сюда!
Щеглов скрылся с глаз и тотчас вернулся с мужиками. А те, как увидели грозного с виду, бородатого командира, сразу повалились перед ним на колени.
– Вставайте-ка живо, ежели ждете от нас помощи! – приказал Давыдов. А теперь отвечайте по всей строгости: где супостаты?
– На постое.
– Где на постое?
– У нас в Никольском.
– Далече отсюда?
– Верст семь, глядишь, а то и поболе будет, – отвечал низкорослый худощавый мужик.
– Лютуют?
– Страх как лютуют! Третьего дни объявились треклятые. Кто из селян проворен был, тот в бор убег, там и схоронился. А кто поболе нас годами, тот не успел, тех схватили, приволокли в барский дом. На полу разложили, начали бить. Подавай, мол, им, нехристям, хлеб, сало, яиц. Не то грозились пострелять всех до единого. Избы с детьми малыми спалить. И такой разбой учинили злодеи! Все сараи, погреба да амбары обшарили. Дочиста обобрали. Всю убоинку угнали. В одних портках нас оставили...
– В одних портках, говоришь? – Давыдов усмехнулся и хитро прищурил левый глаз. – Много ль французов?
– Несть им числа. В нашем селе, глядишь, более пятисот будет. И в соседнюю Шепелевку нагрянули. Две пушки с собой на лошадях привезли.
– Вы-то как уцелели?
– Вишь, родимый, дело какое. Наши-то избы с краю. Мы, значит, первыми франца издаля приметили. Крик подняли да и убегли.
– Ну а ваших-то много спаслось?
– Много. Наши и вдоль дорог бродят, и в глуши хоронятся. Душ двести убегло.
– Самая пора обуздать зорителей! – Денис Васильевич повернулся к Степану Храповицкому. – Однако наперед следует твердо знать численность и силу врага. А не то угодим пальцем в небо! – Давыдов окликнул партизан. – Кто из вас, братцы, желает в разведку?
Казаки повскакивали с мест.
– Я! Я! Мы! – закричали они наперебой.
– Погодите. Так дело не пойдет. Всем сразу не годится. – Давыдов обвел пристальным взглядом партизан и отобрал из их числа семь дюжих казаков. – Вот ваши проводники. – Он указал на мужиков и велел молодцам седлать коней. – Авось не заплутают.
– Не то как же! Не заплутаем, – согласно закивали в ответ мужики. – Пути-дороги здешние нам сызмальства ведомы.
– В добрый путь! – Денис Васильевич помахал разведчикам рукой. – Да возвращайтесь скорее!
Мужики взнуздали коней и выехали на торную тропу, ведущую в дремучий бор.
– Так-то будет ближе. Клин срежем, – сказал проводник, поскакав по тропе в глубь чащи.
– Стой, ребята! – Старшой группы Василий Федотов остановил казаков. – Дале на лошадях не проехать. Слезай! Пешие пойдем...
– А другого пути нема? – проворчал Нестеренко, которому ветка больно хлестанула по глазам.
– Нет, – ответил мужик. – Дале прямиком. А там вскорости выйдем на просеку. Версты три проскочим и, считай, у моста.
Когда миновали мост, Федотов приказал всем спешиться. Смеркалось. Оставив трех казаков при лошадях в надежном месте, он направился с остальными к Никольскому. Возле перекрестка проводники остановились, прислушались. Издалека донеслось пение, незнакомый говор.
– Тсс! Франц близко! – Федотов велел казакам проползти немного вперед и схорониться под елями. Меж тем шум и говор нарастали.
– Всем оставаться на местах! – велел Федотов, а сам пополз.
Казак спрятался за валежиной: отсюда ему удалось разглядеть фуражиров, которые располагались в низине. Лошади их были расседланы. У часовни прохаживались вооруженные стражники. Далее полукругом стояли возы, груженные мешками с добром, награбленным у крестьян да в господских усадьбах. Четверо солдат сидели на ящиках возле костра и жарили барана. Другие щипали кур. Офицеры переговаривались меж собой, тихонько пели да потягивали из бочонка вино.
К полуночи в низине все смолкло, лишь дремлющие на ходу стражники, ежась от холода, прохаживались возле часовни. Затем они накрыли головы зипунами, улеглись и заснули мертвецким сном.
Разведчики вскорости вернулись на стоянку. Федотов в подробностях доложил Давыдову обстановку.
– На конь! – приказал командир и обратился к партизанам: – Братцы! Фуражиры дрыхнут близ Никольского и видят райские сны. Давайте-ка грянем на них, как буран на степь. Плевать нам на то, что их поболе нас. Сами знаете, дело не в числе, а в молодечестве. Отомстим, соколики, недругам за разбой да за Русь-матушку!
– Позволь, Денис Васильевич! – обратился к Давыдову майор Храповицкий. Он был чуть менее среднего роста, крепок, смугл лицом, волосом черен, борода клином.
– Говори, Степан Семенович!
– Раз уж желательно вам задать басурманам крепкого жару-пару, так не худо бы отведать им нашей русской баньки.
Давыдов имел привычку выслушивать партизан перед налетом всех до единого, а тут, зная Храповицкого как сметливого офицера, спросил напрямую:
– Сказывай, как, по-твоему, лучше угостить недруга банькой?
– А вот так, Денис Васильевич! Французы, значит, почивают сейчас в Никольском и видят райские сны. Спереди у них лес, как доложила разведка, а позади река. Надобно немедля прискакать в тот лес да и запалить его. Ветер гулевой да свирепый – наш давний пособник. Раздует огонь на славу. Как только пожар разбушуется, наши молодцы займут позицию в засаде у реки. Когда неприятель спросонья возьмет беду в толк, всполошится да побежит, в тот миг мы и обрушимся на него. Ни один грабитель не должен уйти: кто пардону попросит, кто рухнет под пулями да штыками, а кто поджарится на костре не хуже рождественского порося.
– Рождественского порося! – Давыдов усмехнулся в усы, перекинулся несколькими словами с Федотовым и обратился к Храповицкому: – Дело, Степан Семенович, говоришь. Задумка твоя недурна. Попытать можно. Ну а теперь, сам знаешь, в ночи у нас каждая минута на вес золота. Забирай-ка с собой полсотни казаков да мужика в провожатые – и в лес. А я с гусарами да пехотой буду поджидать супостата у реки. Как завидим огонь – будем начеку! Ну, ну, уж это мое дело, а ты свое исполняй. Успешно распалится твоя «банька», положись на меня!
– Гусары, пехота, за мною! К реке! – приказал Давыдов. – Проводник впереди!
Храповицкий прискакал с казаками к лесу и распорядился:
– Братцы! Собирайте-ка живо валежник! Да поболее!
Партизаны рассыпались вдоль опушки и стали носить охапками сушняк. Подполковник велел разложить в нескольких местах кучи хвороста и присыпать их сверху порохом.
Тем часом Давыдов со своей партией стороной обошел спящего неприятеля, по зыбкому мосту благополучно миновал реку и занял оборону по берегу. Партизаны разобрали мост и попрятались в зарослях камыша.
В небе начали сгущаться тучи: вот-вот запуржит. Когда костры поднялись выше роста человеческого, Храповицкий приказал:
– Зажигай!
Подложенные к сушняку горящие фитили запылали, а вслед за ними воспламенился и затрещал хворост. Буйный ветер взвихрил пламя и рассыпал в ночи искрами. Огонь перекинулся на смолистые стволы сосен да елей – и занялась, полыхнула, охваченная страшным пожарищем, хвойная чаща. Шип, треск, вой. Полнеба в дыму. Переполошились вороны, закружили с криками в дымном воздухе.
Прежде, завидя лесной пожар, крестьяне окрестных сел ударили бы в колокола, кликнули бы сход, затужили бы о великой беде-погибели и кинулись бы всем скопом к реке. Принялись ведрами да ушатами тушить пламя. Теперь же с боевым задором поглядывали партизаны на страшное дело рук своих, приговаривая:
– Вишь, как шибко забрало! Ну-ка, мусье-грабитель, спытай-ка вволю нашей парной баньки!
Меж тем в логове неприятеля поднялась тревога. Сонные, полуодетые, вскакивали французы с лежанок, судорожно хватались за оружие.
Раздались во тьме команды унтер-офицеров. Но их грозные слова не произвели должного воздействия на перепуганных до смерти солдат. Солдаты начали метаться по сторонам, крича: «Спасайтесь!»
Огненный смерч окутал низину густыми, черными, как вороново крыло, облаками дыма, все сметая на пути своем, оставляя лишь выворотни да головни, пепел да золу.
Солдаты сбились в кучу, слушая последние наставления офицеров. Затем бросились к коням и без разбора оседлали первых же попавшихся под руки. Возы с награбленным добром остались на месте. Никто в те роковые минуты не помышлял о добыче!
Дым становился все гуще, удушливее. И вот среди объятых ужасом людей раздался повелительный крик офицера: «К реке!»
Пешие и конные фуражиры бросились за офицером, который, поднимая фонтаны брызг, первым вбежал в ледяную воду. На счастье французов, ширина ее оказалась невелика – впереди маячил спасительный берег. Проплыв несколько саженей, фуражиры стали карабкаться на него. И тут Давыдов отдал приказ: «Огонь!»
Из камыша грянули для острастки поверх вражеских голов ружейные выстрелы. Сполна испытав русской «баньки» с ледяной купелью, продрогшие горе-завоеватели один за другим подняли руки вверх.
Объезжая на коне пленных французов, Денис Васильевич подозвал Храповицкого:
– Спасибо, Степан Семенович, за русскую баньку! – Командир обнял друга. – Помяни слово, выхлопочу тебе у Светлейшего достойную награду! А теперь, соколики, построите да пересчитайте-ка зорителей всех до единого. Офицеров ведите ко мне на допрос. А остальных под конвоем – в Юхнов!
Пленный офицер, прихрамывая, подошел к Давыдову и представился:
– Поручик Вестфальского гусарского полка Тилинг! С кем честь имею?
– Чести уже не имеете, – ответил ему Денис Васильевич по-французски. – Скоро предстанете на допросе в качестве пленного. Пред вами подполковник Давыдов.
– Подполковник?! В этаком странном наряде? Подполковник – воинское звание в регулярных войсках. А тут... какая-то толпа...
– Пред вами, поручик, не толпа, а партизаны и их командир, подполковник Давыдов.
– Боже мой, какой позор! – воздел руки к небу Тилинг. – Оказаться в плену – у кого? У лесных грабителей!
– Грабителей?! – разгневался Давыдов. – Ну-ка, ну-ка, поясните толком, поручик?!
– Конечно, я понимаю, вы – победители, я бесправен. Часы, деньги, драгоценности – вот мое достояние. Я все готов отдать казакам. Но только не это! Они отобрали кольцо моей любимой Анет! – он поиграл пальцем, который прежде украшало кольцо. – Анет – божество, она будет любить меня всю жизнь. Кольцо – единственная память о ней...
– Что вы такое говорите, поручик? – Чувства узника горячо отозвались в душе Давыдова. – Я переговорю с казаками и постараюсь удовлетворить вашу просьбу. Даю вам слово!
– Я воевал честно против русской армии. Меня ранили в бою! Но этот ночной погром...
– Не волнуйтесь, поручик! Никто вас убивать не собирается... Мы дорожим своей честью! Отправим вас нынче же на надежную стоянку. Там и будете пребывать в плену...
– Но войска императора в Москве?
– Слышали ли вы, Тилинг, такую пословицу: «Не кажи гоп, пока не перепрыгнешь...» Прощайте!
На другой же день Давыдов переговорил с казаками, пленившими Тилинга. Нашлось не только кольцо любимой женщины француза, но и ее портрет и письма. Вожак партизан немедленно приказал отослать их поручику в Юхнов вместе с запиской, которую написал собственноручно:
«Примите, государь мой, вещи, столь для вас драгоценные. Пусть они, напоминая о милом предмете, вместе с тем докажут вам, что храбрость и добродетель так же уважаемы в России, как и в других землях.
Денис Давыдов, партизан».
К вышесказанному остается добавить, что сей Тилинг жил до 1814 года в Орле. Он всегда с благодарностью и удивлением вспоминал о сем злосчастном приключении в ночи. Только в одном Тилинг был непреклонен: так и не мог он признать отряд дерзких партизан за воинскую часть... Уж больно коварна оказалась для него «русская банька с ледяной купелью»!
Вскорости Давыдов получил письмо от Калужского гражданского губернатора. «Все свершилось! – сообщал губернатор. – Москва не наша, она горит! Я... из Подольска, от Светлейшего имею уверение, что он, прикрывая Калужскую дорогу, будет действовать на Смоленскую. Ты не шути, любезный Денис Васильевич, твоя обязанность велика! Прикрывай Юхнов и тем спасешь середину нашей губернии, но не залетай далеко, а держись Медыни и Мосальска, мне бы хотелось, чтобы ты действовал таким образом, чтобы не навлечь на себя неприятеля».
Однако Денис Васильевич действовал со своим летучим отрядом сообразно обстоятельствам: заставляя грозного врага отступать с занимаемых позиций, а порой круто менять намеченные планы.
Пленение корпуса Ожеро
Друзья, залетные гусары! Шумит военная гроза! Готовьте меткие удары, Посмотрим смерти мы в глаза! Федор ГлинкаДвухтысячный корпус генерала Ожеро расположился меж Ельней и Смоленском, в селе Ляхово. И Давыдов решил провести дерзкую боевую операцию: объединить партизанские отряды под командованием Сеславина и Фигнера и действовать сообща.
Денис Васильевич позвал Сеславина и Фигнера на совет к себе в Дубовищи, подробно изложил им свой план захвата корпуса неприятеля. Обсудив в деталях предстоящее сражение, Сеславин и Фигнер поддержали своего соратника. Все пришли к единодушному выводу: объединенные партии представляют теперь грозную силу для неприятеля. Но людей под ружьем все же мало, немногим более тысячи двухсот человек. Для страховки операции решено было позвать отряд Орлова-Денисова.
В ту же ночь корпус Ожеро был окружен.
Едва забрезжил рассвет, как началось сражение. Жаркие схватки сменялись одна другой. Давыдов действовал на Смоленской дороге. Партизаны преграждали отступление Ожеро к селу Долгомостью: там стояла резервная колонна французов.
Неприятель вел отчаянную стрельбу.
В разгар боя ротмистр Чеченский обратился к Давыдову:
– Что прикажете делать, Денис Васильевич? Враг не сдается!
– Жги! – приказал командир.
Казаки с горящими факелами поскакали к ближним избам и на глазах у неприятеля подожгли их. Ляхово занялось огнем. Однако стрельба продолжалась...
Вестовой генерала Орлова-Денисова сообщил, что двухтысячная колонна французов вышла из Долгомостья и намеревается нанести удар в тыл партизанам. И тут на выручку пришли пушкари. Появилась артиллерийская упряжка. Партизаны сноровисто развернули пушку, вложили в дуло картечный заряд.
– Огонь! – подал команду офицер.
Прогремел выстрел. За ним второй, третий... Французы попятились назад. Да не тут-то было. Сбоку их встретили пули пеших казаков Сеславина, подоспевших, как говорится, в самый раз.
– Огонь! – кричал артиллерист в разгар боя. – Огонь! Знай наших!
Пушка ожила, окуталась дымом. Картечь то и дело поднимала снежные вихри в стане дрогнувшего врага.
Меж тем со стороны большака к селу шло подкрепление – отряд некогда несокрупшмой старой наполеоновской гвардии. В высоких медвежьих шапках, в полушубках, опоясанных белыми ремнями, с красными султанами, французы кумачом полыхали средь белоснежного поля.
Смелой и неожиданной для французов явилась атака ахтырских гусар под командой Давыдова. Гусары на рысях вклинились с тыла, смяли и рассеяли пехоту неприятеля.
Французы отступили и скрылись в лесу.
Смеркалось. Ляхово пылало. Звучал набат. Небо почернело от дыма. Французы метались из стороны в сторону, пытаясь вырваться из окружения.
Корпус Ожеро понес большие потери. Здраво оценив обстановку, генерал приказал: «Выкинуть белый флаг!»
Разом смолкла артиллерия. Забили барабаны. Отделившись от стрелковой линии, к Ожеро парламентером для переговоров поскакал на белом коне командир партизанского отряда Александр Фигнер. Он заявил решительно:
– Сдавайтесь, генерал! Вас держат в кольце пятнадцать тысяч солдат. При малейшем сопротивлении корпус ваш будет сметен!
В отчаянии Ожеро без колебаний принял все условия парламентера.
Сражение у Ляхова окончилось победой. В плен сдалось две тысячи рядовых и шестьдесят офицеров во главе с генералом. Далее отряд Давыдова вел поиск между Ельнинской и Мстиславской дорогами, подвигаясь к Смоленску. В пути Денису Васильевичу довелось еще раз повстречаться с Фигнером.
– Наслышан я, любезный Денис Васильевич, что вчера ночью пленил ты порядочное число французов? – войдя в избу, обратился к Давыдову Фигнер.
– Было дело, – кивнул в ответ Давыдов. – А с чем ты-то пожаловал, Александр Самойлович?
– С просьбой к тебе. Дозволь, Денис Васильевич, растерзать плененных тобою недругов моим еще ненатравленным казакам.
Тяжко вздохнув, Давыдов опустил голову. Его до глубины души поразила столь неожиданная просьба – растерзать беззащитных людей... Он пристально глянул на своего боевого соратника: правильные черты лица и добродушное выражение глаз Фигнера, казалось, совершенно не вязались с его словами. Денис Васильевич вспомнил, что недавно слышал от кого-то, будто Фигнер жестоко пытал и расстреливал пленных поляков.
– Смилуйся, Александр Самойлович, не выводи меня из заблуждения, – возразил ему Давыдов. – Оставь мне право думать, что героизм и великодушие есть душа твоих боевых дарований. Без них, по моему суждению, подвиги мертвы. Я желал бы, чтобы у нас было поболее добросердечных солдат, а тем паче офицеров.
– Неужто ты не расстреливаешь? – нахмурился Фигнер.
– Да, я расстреливаю. Недавно приказал я порешить изменника Родины, который умудрился даже служить в армии Бонапарта.
– И ты никогда не расстреливал пленных?
– Боже меня сохрани! Никогда и нигде не уподоблялся я извергам. Вели сей же час спросить либо тайком разузнать о сем варварстве моих казаков.
– Ну так невелика беда. Походим вместе, – предложил Фигнер. – Смею надеяться, ты быстро расстанешься с предрассудками.
– Ежели честь солдатская и сострадание к несчастью поверженных в бою суть предрассудки, – резко парировал Давыдов, – то я с ними умру. Я предпочитаю их твоему рассудку. Запомни раз и навсегда, Александр Самойлович, я глубоко презираю убийство по расчету либо по склонности к разрушению и жестокости.
Соратники замолчали.
Закурив трубку, Денис Васильевич попрощался с Фигнером и вышел из избы, якобы для отдачи приказов. Он велел партизанам немедля удвоить стражу при узниках, а уряднику Крючкову поручил лично нести за ними особый надзор. Засим Давыдов поспешил отправить пленных французских офицеров для дачи показаний в главную квартиру.
В своих воспоминаниях Денис Васильевич писал, что Сеславина он ставил несравненно выше Фигнера и как воина, и как человека. Наряду с безграничной храбростью Фигнера Сеславин воплощал в себе «строжайшую нравственность и изящное благородство чувств и мыслей».
Ключи от старого Кремля
Напрасно ждал Наполеон, Последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненной С ключами старого Кремля: Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою. А.С. ПушкинДоблестные и сокрушительные действия партизан радовали Кутузова. Восхищаясь размахом «малой войны», фельдмаршал отдал приказ: «Направить Давыдову 500 казаков с Дона».
С надеждой и гордостью глядел Денис Васильевич на бравых донцов, подоспевших в самый раз. Теперь под его началом образовалась значительная команда – более восьмисот человек. С нею можно было дать достойный отпор гарнизону карателей из Вязьмы. Более трех недель каратели безуспешно преследовали партизан.
По дороге к городу Красному Давыдов повстречал части русской армии под командованием своего боевого друга генерала Раевского. Раевский поздравил его с блестящей победой над французами у Ляхова и пленением Ожеро.
Узнав об успехе совместных действий партизан и о разгроме корпуса Ожеро, Кутузов собственноручно написал на донесении: «Победа сия тем более знаменита, что в первый раз, в продолжении нынешней кампании, неприятельский корпус положил пред нами оружие».
Главнокомандующий русской армией пожелал лицезреть пламенного партизана и вызвал его в Ставку. Надлежало спешить, и Давыдов прямо в походном кафтане поскакал на коне в главный штаб.
Кутузов остановился в просторной крестьянской избе в окрестностях Красного. Увидев в дверях бородатого партизана, фельдмаршал подозвал его к себе, долго молча рассматривал, а затем сказал:
– Я еще лично не знаком с тобою, но прежде знакомства хочу от души поблагодарить тебя за молодецкую твою службу. – При этом Кутузов крепко обнял Давыдова и прибавил: – Удачные опыты твои рассеяли мои былые опасения и доказали пользу партизанской войны. Столь много вреда она нанесла и нанесет еще неприятелю.
– Извините, ваша светлость, что осмелился предстать пред вами в мужицком кафтане.
Услышав эти слова, Михаил Илларионович отечески замахал руками:
– Полно, полно, Давыдов! Я понимаю, что так надобно в народной войне. Действуй, как ты действуешь – головою и сердцем. Мне нужды нет, что голова твоя покрыта шапкой, а не кивером, да и сердце твое бьется под армяком, а не под мундиром. Всему свое время. Скоро и ты будешь в башмаках на придворных балах!
И Денис Васильевич, польщенный радушным приемом главнокомандующего, принялся горячо рассказывать ему о деяниях партизан:
– Соратники мои не наносят прямые удары главным силам неприятельской армии, а берут под прицел ее отдельные гарнизоны. Поражая врага в слабейшие места, они обрекают его войска на голод, на нехватку оружия и фуража, затрудняют продвижение. Тем самым они подрывают изнутри наполеоновскую армию.
– В чем же видится тебе суть партизанского поприща?
– Поприще наше, ваша светлость, требует пламенной страсти к смелым предприятиям. Но одной предприимчивости недостаточно, – вдохновившись, добавил Давыдов. – Гибкий ум и настойчивость в достижении цели – вот что необходимо партизану. Кроме того, должен он уметь сочетать в себе неустрашимость и бодрость юноши с опытностью старца. Словом, партизан – тот же лихой гусар или казак, волею судьбы оказавшийся в тылу неприятеля, но наотрез отказавшийся от легкомысленного молодечества.
– Чем же потчуешь ты своих молодцев?
– А чем Бог пошлет. Ежели есть под рукой ржаной хлеб с солью да водица из ручья, и то благодать. Про горячую пищу нередко приходится забывать, ибо для нее необходим огонь. А его-то и нельзя порой разводить. Не то неприятель заподозрит близость партии...
– Где ж ночуете?
– О теплом ночлеге тоже не помышляем. По большей части партизан ночует в седле. Покров для него – небесный свод, а земля – постель.
– Как, по твоему разумению, для какого рода воинской службы в особенности хороши партизаны?
– По-моему, Михаил Илларионович, нет им равных в несении сторожевой и разведочной службы. Ведь партизаны действуют более искусством, нежели силою... Лучшая позиция есть непрестанное движение. Наряду со всем этим неусыпная чуткость и осторожность часовых и разъездных, охраняющих партию... Разбить, пленить и уйти незамеченными – такова тактика партизан.
– А какова роль добровольных партизан?
– Наряду с присяжными партизанами – гусарами да казаками, как в моей партии, несть числа добровольным!
Скажем, предводитель уездного дворянства Семен Яковлевич Храповицкий, о коем я упоминал прежде в письме своем на ваше имя. Сей почтенный старец развернул неусыпную деятельность в Юхновском районе. Или, к примеру, в Богородском уезде крестьянин Герасим Курин. Тот сплотил вокруг себя отряд в пять тысяч пеших и пятьсот конных. Действуя скопом, богородцы нанесли ощутимый урон врагу. А старостиха Василиса Кожина объединила в свою партию баб и подростков. Вооружив их косами да вилами, она учинила внезапные облавы на мародеров. Словом, много в народе нашем героев, кои передадут потомству свои добрые дела и имена.
– Да, не обеднела Русь-матушка на героев! Вечная память славным солдатам войны в крестьянских кафтанах, кои сложили головы свои за Родину в годину тяжких испытаний!
По окончании беседы Михаил Илларионович похвалил стихи Давыдова и пригласил гостя к обеденному столу.
За трапезой Денис Васильевич попросил у главнокомандующего представить своих соратников к наградам.
– Бог меня забудет, если я вас забуду! – ответил ему на эту просьбу Михаил Илларионович и велел подать записку об отличившихся.
Давыдов протянул Кутузову заранее приготовленную бумагу. В ней были упомянуты поименно все доблестные партизаны.
Взволнованный от встречи с фельдмаршалом, Денис Васильевич возвратился в свой отряд, где его ждал еще один сюрприз. Среди казаков он увидел брата Евдокима, который освободился из плена, подлечил раны и служил теперь в кавалергардском полку.
Разлученные войной братья крепко обнялись и троекратно расцеловались. Евдоким Васильевич воскликнул:
– Слава о твоих налетах, Денис, гремит по всей армии! Вот и теперь, разыскивая твою партию, не раз слышал от мужиков весьма лестные отзывы о тебе.
Далее брат поведал Денису Васильевичу:
– Матушка и сестра Сашенька покинули Москву незадолго до прихода туда французов. Они направились в Курскую губернию, в имение покойного батюшки, деревню Денисовку. Да, знаешь ли, что наш Левушка отличился при Бородине? Он мечтает пойти по твоим стопам...
– Неужто по моим?
– А как же! У многих на устах доблесть твоя партизанская! Знаешь, Денис, недалеко от деревни, где стояла в ту пору наша дивизия, – с грустью вспомнил Евдоким Васильевич, – верст за шесть от нас, горела Москва. Сумевший бежать от страшного пожара узник столицы рассказал мне, как на его глазах занялась огнем Пречистенка. Пострадал и наш отчий дом. В целости остались лишь три строения...
– Погоди, вскорости за все рассчитаемся с недругом, за все ему сполна воздадим – и за Москву-матушку, и за грабежи-погромы, и за отчий дом, – с твердой решимостью молвил старший брат.
Внезапно Евдокима Васильевича окликнули. Время встречи окончилось.
Братья крепко обнялись на прощанье.
День ото дня партизанская война ширилась, нанося французам все больший урон.
Начальник главного штаба наполеоновской армии маршал Бертье, напуганный внезапными и опустошительными налетами партизан, послал Кутузову жалобу, где сетовал на то, что русские употребляют незаконные, «варварские» способы ведения войны. На послание одного из ближайших сподвижников Бонапарта фельдмаршал ответил неколебимо: «Народ наш разумеет сию войну нашествием татар и, следовательно, считает всякое средство к избавлению себя от врагов не только не предосудительным, но похвальным и священным... Трудно обуздать народ, оскорбленный всем тем, что перед ним происходит, народ, который в продолжение 200 лет не видел войны в недрах своего Отечества, народ, готовый за него погибнуть и не умеющий различать принятые обычаи от тех, кои отвергаемы в обыкновенных войнах».
Меж тем пожар московский продолжал свирепствовать. Вначале в столице вспыхнули предместья, потом запылал город, наконец пламя добрались до Кремля.
Очевидец опустошительного бедствия древнего города, французский подданный Луи-Арманд Домерг, свидетельствовал:
«...Небо исчезло за красноватым сводом, прорезываемым во всех направлениях искрящимися головнями. Над нашими головами, под ногами – всюду, кругом – ужасно ревущее пламя. Сила ветра, разряженность воздуха, происходящие от жара, производили ужасный вихрь... Пожар приближался к Кремлю. В полдень огонь показался в дворцовых конюшнях и в башне, прилегавшей к Арсеналу. Несколько искр упало на двор Арсенала... Опасность велика. Бросились предупредить императора, который явился на место происшествия. Ему представили одного поджигателя, схваченного под окнами на месте преступления. Пылая гневом, Наполеон обратился к нему:
– Вы безумец! Что вы делаете?
– Мы исполняем священный долг, – ответил русский фанатик».
Тридцать пять дней Бонапарт пробыл в пылающей Москве, но так и не дождался желанных ключей от города. День за днем он наблюдал резкое падение дисциплины в армии: солдаты и офицеры занялись грабежом. Заподозрив, что попал в столице России в западню, император решил: дальнейшее промедление грозит его войску гибелью. Посему он немедля начал вести переговоры о мире с русским царем. Однако все его предложения остались без ответа.
7 октября Бонапарт покинул Москву, зловеще процедив сквозь зубы:
– Я ухожу, но горе тем, кто станет на пути моем...
Разгневанный император приказал маршалу Мортье взорвать Кремль и с десятитысячным гарнизоном двигаться вслед за армией в Калуге.
Темной ночью 10 октября в Белокаменной прогремело несколько оглушительных взрывов, от которых содрогалась земля. Французские минеры подорвали Арсенал, часть кремлевской стены, а также Петровскую, Водовзводную, Никольскую и Боровицкую башни.
В Грановитой палате и златоглавых соборах вспыхнули пожары. И тут-то по поджигателям внезапно ударили донские казаки, ведомые генералом Иловайским.
Опасаясь плена, Мортье поспешил поскорее унести ноги из Первопрестольной, так и не успев выполнить приказа грозного императора – подорвать все башни Кремля.
С риском для жизни казаки обезвредили заложенные под кремлевские стены мины. А дождь, хлеставший всю ночь напролет, намочил тлеющие фитили, подведенные к пороховым бочкам.
Французы в Москве, можно сказать, попали в блокаду к партизанам. Партизаны перекрывали дороги в столицу и тем самым затрудняли подвоз туда боеприпасов, продовольствия и фуража. Не раз им удавалось перехватить посыльных с полевой почтой и ценными бумагами. День за днем партизаны громили отряды пополнения для великой армии, двигавшиеся от западных границ России к столице.
Генерал от кавалерии Моран докладывал в Ставку императора, что в начале кампании он не придавал серьезного значения действиям партизан. Скорее даже презирал их, но затем резко изменил свое мнение. «Этим диким всадникам совершенно неизвестны наши подразделения, правильное равнение, сомкнутость строя, которым мы придаем столько значения, – сетовал Моран. – Они крепко держат лошадь ногами и упираются в широкие стремена, которые служат им точкой опоры при действии оружием. Они умеют мчаться с места карьером и на карьере круто останавливаться. Лошади кажутся одним телом с ними. Они – бдительны, поворотливы, нетребовательны и исполнены воинского честолюбия...»
Опираясь на Тарутинский лагерь, М.И. Кутузов стал широко вести «малую войну» партизанскими способами. Отсюда главнокомандующий руководил партизанским движением, усиливая его подвижными отрядами из конницы с артиллерией под командованием армейских офицеров. «Поскольку ныне наступает осеннее время, – говорил Кутузов, – через то движения большою армиею делаются совершенно затруднительными, тем более с многочисленною артилле-риею. Потому и решился я, избегая генерального боя, вести «малую войну», ибо раздельные силы неприятеля и оплошность его подают мне более способов к его истреблению. Находясь в пятидесяти верстах от Москвы с главными силами, отделяю от себя немаловажные части в направлении к Можайску, Вязьме и Смоленску. Кроме сего, вооружены ополчения Калужское, Рязанское, Владимирское и Ярославское. Все они имеют свои приказы к поражению неприятеля».
И большой Тарутинский лагерь, словно потревоженный муравейник, загудел, окутался облаками пыли и дыма. Казаки под водительством легендарного, не знавшего себе равных по отваге Донского атамана Платова, прославленные в боях под Смоленском пехотные корпуса генералов Раевского и Дохтурова направились к Малоярославцу. Туда же двинулись и французы. Вокруг города сосредоточились силы обеих армий. И грянуло яростное, кровопролитное сражение. Пылающий город неоднократно переходил из рук в руки...
Кутузов зорко следил за ходом боя, стоя то на одном, то на другом возвышении. Подле него с грохотом рвались ядра, чуть не у висков свистели пули. Но седовласый полководец неколебимо стоял, не склонив головы. Он не внимал настоятельным просьбам генералов об укрытии. Михаил Илларионович хотел лично удостовериться в поражении войска Наполеона. Теперь наступил коренной поворот в ходе войны, началось всеобщее наступление на врага, то есть начало нашей великой победы.
В бою у Малоярославца русские нанесли французам сокрушительное поражение. Сильно поредевшая великая армия вынуждена была отступать по выжженной и опустошенной Старой Смоленской дороге к Можайску: тем самым Кутузов порушил коварный замысел Наполеона – прорваться на хлебный Юг России.
Участник тех тяжких испытаний, выпавших на долю французов, генерал Сегюр писал впоследствии о том, что Малоярославец явился тем злосчастным полем битвы, где остановилось завоевание мира, где двадцать лет непрерывных побед рассыпались в прах и где началось крушение нашего счастья...
Дабы поскорее миновать разоренную войной страну, Бонапарт разделил некогда великую армию на четыре корпуса. Со старой гвардией он открывал марш. За императором двигались корпуса Нея, вице-короля Богарне, а в арьергарде – маршала Даву. Французские войска опустошали покидаемые ими села и города. В небо взлетали столбы едкого дыма, да алые знамена огня полыхали вдоль дорог. Дабы ободрить и поднять дух солдат, гвардейцы императора запели старую, горячо любимую песню: «Что может быть лучше, чем находиться у себя дома, в своем семействе!» Однако трогающая до слез тоска этой песни ухудшила и без того мрачное настроение солдат.
Французы отступали в суете и поспешности: повозки, обгонявшие одна другую, тянулись в несколько рядов, загромождали и преграждали путь друг другу... Отчаянно скрипели, дребезжали и отваливались колеса, громыхали телеги, кузова, лафеты...
По краям дорог – павшие лошади, сломанные телеги, на спусках и подъездах – жалкие толпы солдат и возничих.
Оставив в стороне Можайск, Наполеон провел ночь на 16 октября близ Бородина в страхе и смятении. Поутру он поспешно миновал это роковое памятное место. Тяжелым взглядом обвел он знакомые холмы, реки, равнины. Повсюду следы былой битвы, смертей и разгрома: полусгнившие и расклеванные воронами трупы людей и коней, обломки орудий, выжженная, обездоленная земля. Лишь вдали кое-где мелькали деревянные кресты над могилами погребенных, геройски павших в бою русских солдат...
Меж тем наши войска перешли в контрнаступление, наносили удары завоевателям с тыла и с флангов.
Партизаны держали отступающие гарнизоны неприятеля в плотном кольце. Оказывая армии добрые услуги, они «истомляли, раздробляли и громили по частям исполинскую войну нашествия».
Уряднику Крючкову с казаками удалось однажды пленить вестового, несшего весьма важное донесение на имя императора, где французский генерал свидетельствовал в частности: «Казаки, которых наши солдаты до сих пор презирали, внушали им теперь ужас партизанскою войною, кою они вели с невероятным ожесточением и непостижимою деятельностью... Эти нападения, совершаемые во всякий час дня и ночи воинственными и дикими полчищами, за которыми следует признать, что они превосходно понимали, как вести партизанскую войну, имели самое пагубное влияние на нравственное состояние наших несчастных солдат, подавленных лишениями и коченеющих от холода».
Обдумав «тайну бокового движения», Кутузов говорил: «Теперь дело идет не о том, чтобы успокоить Отечество, но чтобы спасти его. Для этого необходимо неустанно преследовать бегущего в страхе и панике врага».
25 октября под Малоярославцем на пути отступления французской армии казаки внезапно напали на неприятеля и едва не пленили или даже не оборвали жизнь самого Бонапарта, находившегося со своей свитой в тех местах.
Этот примечательный случай Денис Давыдов описывает в «Разборе трех статей, помещенных в записках Наполеона». Для уточнения фактов и обстоятельств той достопамятной операции казаков знаменитый партизан приводит выдержку из мемуаров французского генерала Раппа, бывшего рядом с императором.
«Наполеон ночевал в полумиле от Малоярославца, – вспоминает Рапп. – На другой день мы сели на коней в 7 часов 30 минут, чтобы осмотреть место, на котором накануне сражались. Император находился между герцогом Коленкуром, принцем Бертье и мною. Едва мы успели оставить шалаши, где провели ночь, как появились тучи казаков. Они выезжали из леса... Так как они были построены довольно правильно, то мы приняли их за французскую кавалерию.
Коленкур первый догадался:
– Государь! Это казаки!
– Не может быть, – отвечал Наполеон.
Они уже скакали на нас, оглашая воздух ужасными криками. Я схватил его лошадь за узду и быстро поворотил ее.
– Да это наши, – повторил император.
– Это казаки, не медлите!
– Точно они, – сказал Бертье.
– Тут нет ни малейшего сомнения, – прибавил Мутон.
Наполеон дал несколько приказаний и отъехал. Я двинулся вперед с конвойным эскадроном, нас опрокинули. Лошадь моя, получив удар пикою в шесть пальцев глубины, повалилась на меня, мы были затоптаны варварами.
К счастью, приметив артиллерийский парк в некотором расстоянии от нас, казаки бросились на него. Маршал Бессьер успел меж тем прибыть на помощь с конногвардейскими гренадерами...»
Значит, Бонапарт находился в тылу и был атакован казаками. Генерал Рапп пожертвовал собою и конвоем, чтобы отвлечь внимание донцов от императора и его свиты. Жизнь Бонапарта висела на волоске, но он «отъехал», как изящно-лукаво изволил выразиться генерал. Меж тем эскадрон был опрокинут и смят, и, если бы не злополучная артиллерия, на коею позарились казаки, завоевателю Европы вряд ли удалось бы, как говорится, отделаться легким испугом.
А случилось это на другой день после сражения под Малоярославцем. В великой армии сие «дело» звалось «Императорское ура».
Малоярославец, занятый войсками генерала Милорадовича, предстал пред глазами партизан разрушенным и опустошенным.
Улицы были усеяны обезображенными трупами. Сотни раненых, умирающих французов, многие из которых были раздавлены колесами собственных орудий. Церкви ограблены и порушены. На одной из них было написано углем «конюшня генерала Гильен».
Атаман Платов отрядил часть корпуса «летучих» донцов во главе с генералом Иловайским за реку Лужу.
Донцы действовали в тылу у неприятеля. Главный удар они нанесли по артиллерийскому парку, состоявшему из сорока орудий... В это время Наполеон скакал из Городни. Город в спешке и смятении был оставлен войсками Мюрата.
Казаки захватили несколько пушек и крепко прочесали конвой Наполеона.
«Если бы они знали, за кого они, так сказать, рукой хватались, – печально сетовал, уточняя детали «дела», Давыдов, – то, конечно, не променяли бы этой добычи на 11 орудий, отбитых ими из парка, и которые, невзирая на слова Раппа и 27-го бюллетеня французской армии, остались в их (казаков) власти и никогда не были взяты французской кавалерией. Поистине эта кавалерия преследовала казаков, но уже в то время, как казаки сами сочли нужным возвратиться к главным силам».
Разбив наголову гарнизон неприятеля под Красным, отряд Дениса Давыдова перешел к более решительным действиям.
4 ноября 1812 года запомнилось вожаку партизан на всю жизнь. В этот достопамятный день, когда французы отступали по дороге к Орше, его партии впервые пришлось ощутить крепость и бесстрашие прославленной старой наполеоновской гвардии.
Под скупым и холодным солнцем сверкали снега. Посреди идущих сомкнутым строем колонн скакал император. Меткие выстрелы гвардейцев рассеивали казаков, появлявшихся из лесу вдоль дороги.
Партизаны заваливали дорогу бревнами, ломали мосты, то и дело перемещались с места на место, старались устрашить французов и расстроить их ряды. Однако все их усилия, в том числе яростная атака казаков под водительством Чеченского, оказались тщетными. Стройные колонны гвардейцев неколебимо продолжали путь в боевом порядке.
С горечью Давыдов записывал в своем «Дневнике»: «В течение этого дня мы еще взяли одного генерала (Мартушевича), множество обозов и до 700 пленных, но гвардия с Наполеоном прошла посреди толпы казаков наших, как стопушечный корабль меж рыбачьими лодками». Денис Васильевич почитал доблесть неприятеля и ставил ее в пример партизанам. «Недаром, – говаривал он, – у французов поговорка сложилась: гвардия умирает, но не сдается!»
Казаки Давыдова захватили в тот день карету господина Фена с картами топографического кабинета Наполеона, с рукописями и бумагами. Денис Васильевич узнал о столь ценном трофее вечером, когда он подошел к бивачному огню и увидел «эти сокровища пылающими на костре». Ему удалось спасти от сожжения лишь карту России господина Сансона и кипу белой веленевой бумаги... Да еще несколько визитных карточек, с коими господин Фен намеревался разъезжать по Москве.
Генерал Милорадович доносил Кутузову из авангарда: «Враг отступает с усиленною поспешностью, освещая себе путь в ночных маршах фонарями. Фонари он прихватил в пылающей Москве. Французы бегут в беспорядке, кормятся кониной, селения жгут...»
Партизаны брали в плен теперь уже не воинов, а живые привидения, в грязных, прожженных рубищах. На головах у иных – кивера, каски с поредевшими конскими хвостами, у других – женские платки, ермолки... Ноги тряпками и рогожей обмотаны. В столь жалком виде не одни нижние чины пленились, но и офицеры.
Под Красным и Оршей русские войска окончательно переломили хребет некогда великой и непобедимой армии. Разрозненные полчища французов устремились к Березине.
Под прикрытием артиллерии войскам Удино и старой императорской гвардии удалось избежать окружения и по понтонным мостам переправиться через Березину.
Поведение Наполеона при переправе через Березину заслуживает глубокого уважения... Окруженный со всех сторон, он обманул наших генералов искусными демонстрациями и совершил переправу у них под носом. Плохое состояние мостов было единственною причиною тех потерь, какие понесли по этому случаю французы...
Часть ЧЕТВЕРТАЯ
Гродно, Дрезден, Бриенн...
Лихой гусар, любил он струнность Строфы с горчинкой табака, И, волей муз, такая юность Ему досталась на века. Всеволод РождественскийХрабрые и победоносные войска! Наконец вы на границах империи, каждый из вас есть спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем...
Не останавливайтесь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее... Но не последуйте примеру врагов ваших... Будем великодушны, положим различие между врагом и мирным жителем....
Из приказа М.И. Кутузова по армии об окончании Отечественной войны 1812 годаСморгонах Наполеон покинул ставшую жалкой толпой былую великую армию. На прощанье он гордым театральным жестом надвинул на лоб треуголку и обратился к свите: «Сегодня ночью я отправляюсь с Дюроком, Коленкуром и Лобо в Париж. Мое присутствие там необходимо для Франции так же, как и для остатков несчастной армии. Только оттуда я смогу сдержать австрийцев и пруссаков. Несомненно, эти страны не решатся объявить мне войну, когда я буду во главе французской нации и новой армии в 1 200 000 человек!». Он заверил своих маршалов, что его прославленная гвардия остается при армии, ибо ей предстоит еще охладить пыл русских под Вильно.
Бонапарт лелеял надежду, что войска противника не форсируют Вислу до его возвращения. Пройдя через строй штабных офицеров, император подарил им на прощание свою очаровательную, грустную улыбку, сел в закрытую карету и стремглав поскакал к Вильно.
Спалив бумаги своей канцелярии, под чужим именем Наполеон пожелал как можно скорее вырваться за пределы этой недавно еще такой лакомой и заманчивой, а теперь ставшей ему столь ненавистной, безбрежной страны и там, за Рейном, вновь обрести былое величие и сан повелителя Европы.
На высоком берегу Немана император бросил последний горестный взгляд на бескрайние, щедро политые кровью солдат заснеженные просторы России, из которой ему чудом удалось вырваться. Вспомнил он и тот пологий холм, где стояла прежде его палатка и откуда пять месяцев назад несметная армада его войска сделала первый отчаянный шаг к своей гибели. Однако властолюбивый и коварный повелитель мира, в смятении покидая Россию, не собирался складывать оружие по своей воле. Проведя набор рекрутов в армию, он намеревался отомстить русским за поражение.
Вскоре Кутузов обратился к войскам с горячим призывом: «Итак, мы будем преследовать неприятеля неустанно. Настанет зима, вьюги и морозы. Вам ли бояться их, дети Севера? Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов. Она есть надежная стена Отечества, о которую все сокрушается. Пусть всякий помнит Суворова: он научил нас сносить и голод и холод, когда дело шло о победе и славе русского народа. Идем вперед, с нами Бог, перед нами разбитый неприятель! Да будут за нами тишина и спокойствие».
Отряд Давыдова в это время двигался в направлении Ковно.
В пути на имя Дениса Васильевича пришел вызов из главной квартиры с предписанием явиться в Вильно, к Кутузову. Доблестный партизан оставил партию на марше, заложил сани и немедля покатил по заметенной снегом вьюжной дороге.
На сей раз его поразила резкая перемена в главной квартире. Вместо порушенной деревушки и старой курной избы, как было в пору его первой встречи со Светлейшим, Давыдов увидел величественный дом, улицу и двор, где стояли великолепные кареты, коляски и сани. Толпы вельмож, генералов, штаб– и обер-офицеров теснились на крыльце в ожидании приема.
Как только Денис Васильевич вошел в просторную залу, присутствующие здесь статные генералы и офицеры в парадных мундирах сразу же обратили на него внимание. Однако на сей раз на нем был не крестьянский армяк, а темный казачий чекмень, красные шаровары, на бедре висела черкесская шашка, а загорелое, посеченное ветрами лицо обрамляла черная, как вороново крыло, курчавая борода. Поляки, вскинув в недоумении брови и переглянувшись, спросили шепотом:
– Кто таков?
– Партизан Давыдов! – гордо прозвучал ответ. Невзирая на множество посетителей, прохаживавшихся возле дверей и смиренно ожидавших своего часа, Кутузов быстро и радушно принял Давыдова. Он усадил его рядом с собой за стол, где была разложена карта.
– Милый наш партизан, – сказал Михаил Илларионович, – есть у меня до тебя одно серьезное и весьма деликатное дело. Граф Ожеровский идет на Лиду. – Он провел карандашом по карте. – Вот сюда и далее к Гродно. Однако Ожеровский, как мне ведомо, не больно-то силен в дипломатии.
– Так, так, – кивнул Давыдов.
– А Гродно следовало бы занять посредством дружелюбных переговоров, нежели путем применения оружия. По сему случаю, как только поступит рапорт от Ожеровского о его продвижении вперед, тебе с отрядом надлежит идти на Меречь и Олиту. А там прямиком к Гродно, дабы употребить всю твою партизанскую сметку и выдержку для занятия города без кровопролития. Ибо Австрия со дня на день станет вновь нашей союзницей. Но ежели этот способ взятия города отпадет, то не возбраняется покорить его штурмом.
В конце беседы Кутузов крепко пожал руку Давыдова и напутствовал его такими словами:
– Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее... Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата Порою они жгли дома наши, ругались святынею... Мы христиане и будем же великодушны, положим различие между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажут им ясно, что не порабощения их и не суетной славы желаем мы... Но ищем освободить от бедствия и угнетений даже те самые народы, которые вооружались против России...
Как только поступило донесение из штаба, Давыдов сразу же двинул отряд выполнять приказ фельдмаршала. В авангарде скакали казаки под водительством ставшего теперь майором Чеченского.
Столкнувшись под Гродно с австрийскими стражниками, казаки пленили двух гусар. По приказу Давыдова гусар освободили из-под стражи и отослали к коменданту Гродненского гарнизона генералу Фрейлиху.
Фрейлих немедленно прислал парламентера с благодарностью за проявленное великодушие. Чеченский не преминул воспользоваться этим предлогом и повел с австрийцами переговоры о мирной сдаче города.
После нескольких встреч с Давыдовым, где в полной мере проявились его обаяние, выдержка и светскость, надменный и расчетливый Фрейлих, предвидя близящийся крах Наполеона, пошел на уступки и согласился оставить город в неприкосновенности, со всеми запасами провизии.
Партизаны под бой барабанов вступили в Гродно, не обнажив сабель.
Позднее Давыдов узнал, что генерал-адъютант граф Ожеровский со своим войском, значительно превышавшим число отряда его партизан, первым подошел к Гродно и предложил австрийцам сдать город. Однако получил от коменданта гарнизона города решительный отказ. И граф немедля отступил в Лиду, намереваясь пополнить там запасы продовольствия и привести кавалерию в надлежащий порядок.
К Кутузову почти одновременно поступили два рапорта. Один – от Ожеровского с предостережением, что враг силен и не намерен добровольно оставить город. И другой – от полковника Давыдова, где сообщалось, что Гродно взят партизанами без единого выстрела и тем самым спасен от разрушения.
За занятие Гродно путем увенчавшихся успехом мирных переговоров с австрийским генералом Давыдов жалован был высоким отзывом фельдмаршала. Его наградили орденом Святого Владимира 3-й степени.
Затем был получен приказ командования: отряду Давыдова следовать далее в Тикочин. А в город вошли полки регулярной армии – кавалерия генерал-лейтенанта Корфа и пехота генерала от инфантерии Милорадовича.
Сколько помнил Давыдов жизнь свою партизанскую, он всегда скакал на коне, преследуя на рысях неприятеля, курил неизменную короткую трубку и постоянно испытывал страстное желание часок-другой крепко поспать... Однако такие часы выпадали очень редко.
Перед тем как следовать в Тикочин, Давыдов зашел в дом, где он квартировал, и зажег свечу. В задумчивости сел у стола и взял в руки перо. Привычные к сабле да ружью пальцы его огрубели за время длительного похода, а перо показалось ему таким легким и хрупким, словно соломинка, того и гляди переломится.
Писать на войне Давыдову приходилось урывками – на коротких привалах, на стоянке «в лихом притоне» да в палатках перед грядущим сном или на ранней заре. Иного времени не было.
Обмакнув перо в чернила, он мучительно долго раздумывал, опустив голову, с чего бы начать. Неотлучно глядел в таинственную темноту за окном, словно оттуда должно было прийти озарение...
На мглистом небе загорались одна задругой далекие звезды. Ветер шевелил оконную занавеску, силясь погасить трепещущее пламя свечи... И вдруг в его исстрадавшуюся, тоскующую душу ворвалось нечто трепетное, первозданное, вдохновенное, словно великая радость в предчувствии встречи с близким и дорогим человеком. Захлестнутый этим святым чувством, он бережно разгладил ладонью помятый лист бумаги, обмакнул перо в чернила и начал быстро писать. Писать о том, что переполняло за последние дни его душу, о своих боевых соратниках, о походах и сражениях, о нежной любви к матери, братьям, о тоске по родной Пречистенке, по книгам, о боли за порушенное, опустошенное Отечество. Ради этой немеркнувшей любви к родимым очагам он и его соратники ежечасно готовы были жертвовать жизнью. Он писал, не замечая времени и не чувствуя, как смертельная усталость, словно темень, слепит глаза и клонит голову...
1 января 1813 года войска русские, заступив на территорию неприятеля, получили новые назначения и размещения. Легкоконный поисковый отряд партизан под водительством полковника Давыдова бьш преобразован в один из дозоров авангардного корпуса главной армии и занял особое место. Корпусом этим командовал генерал-адъютант барон Винценгероде, «человек без Отечества», неоднократно переходивший с австрийской на русскую военную службу и отличавшийся педантичностью и лестью пред высшими чинами.
В октябре 1812 года Винценгероде, командуя кавалерийским корпусом, влетел на рысях в еще не оставленную французами, окутанную заревом пожарищ, дымящуюся Москву и, как говорится, с пылу с жару угодил в плен. После допроса «горячего» барона велено было под конвоем переправить во Францию. Однако в пути, по счастливой случайности, барона отбили у неприятеля партизаны полковника Чернышева.
Итак, казаки и гусары Давыдова поступили в подчинение Винценгероде, а посему им строжайше запрещалось тайно сниматься и переходить с места на место. Даже сшибаться с врагом без ведома барона или же генерал-майора Ланского, коему они также подчинялись, было не дозволено.
Примкнув со своим отрядом к регулярным войскам, Денис Давыдов, по существу, сошел с партизанской стези.
В конце февраля неприятель вынужден был оставить Берлин, его сильно потрепанные, разрозненные гарнизоны отходили к Эльбе. Миновав Польшу и Силезию, поисковый легкоконный отряд Давыдова вступил в Саксонию и расположился под Дрезденом, занятым французами.
8 марта поутру раздался сильный гул в направлении города, словно бы от орудийного залпа, но вскоре все стихло.
«Видать, что-нибудь взлетело на воздух, – подумал Давыдов. – Только надобно в точности знать, кто и что взорвал?»
От жителей ближней деревни он узнал, что французы накануне переправили свои госпитали и оружие с правого берега Эльбы на левый и по приказу маршала Даву взорвали каменный мост. И полковник смекнул: значит, половина Дрездена, находящаяся на правом берегу реки, или вовсе покинута неприятелем, или занята его небольшим гарнизоном. Побеседовав с флигель-адъютантом Орловым, Давыдов решил взять в кольцо войска маршала Даву.
Операция была в деталях продумана и обсуждена: Орлов со своей партией идет к Эльбе и, форсировав ее, подступает к Дрездену с другого берега, сам же Давыдов движется напрямки, во фронт. Словом, в доблестном партизане вновь вскипела удаль молодецкая, авось фортуна и на сей раз улыбнется ему, он первым постучится в ворота города и займет вторую после Берлина столицу Саксонии.
Для рекогносцировки к стенам Дрездена был послан 1-й Бугский полк казаков во главе с майором Чеченским.
Стремясь соблюсти воинскую дисциплину и субординацию (к счастью, Винценгероде со своим войском находился довольно далеко), Давыдов решил испросить разрешения на это предприятие у своего непосредственного начальника генерала Ланского, с коим он состоял в приятельских отношениях.
Вестовой немедля поскакал к генералу в Бауцен с запискою от полковника Давыдова: «Я не так далеко от Дрездена. Позвольте попытаться. Может быть, успех увенчает попытку. Я у вас под командой: моя слава – ваша слава».
По прошествии нескольких часов был получен ответ от Ланского: «...Разрешаю вам попытку на Дрезден. Ступайте с Богом!»
– Ура! – обрадовались офицеры, услышав эту весть из уст полковника.
Едва партия Давыдова выстроилась на дорогу, ведущую к городу, как прискакал вестовой с рапортом от Чеченского. Майор доносил командиру, что после перестрелки казаков у ворот Дрездена к нему неожиданно обратился бургомистр с просьбой пощадить город.
Чеченский дал согласие, но потребовал, чтобы в ту же ночь французы, занимающие Новый город, отступили на другую сторону Эльбы. Иначе никому пощады не будет!
Бургомистр попросил дать ему два часа сроку на раздумье и возвратился в Дрезден.
– Ну и страху наши нагнали на саксонцев! – усмехнулся Давыдов. – А ведь не велика сила: всего-навсего полторы сотни казаков... Правда, и у наших имеется урон: четверых ранило, а хорунжего Лукина – в голову, насмерть. Вечная ему память! Добрый был казак...
Чеченский остался на прежних высотах, в сосновом бору, ожидать ответа от коменданта города.
– А теперь, – приказал Давыдов, – на рысях вперед! Всего три-четрые версты оставалось до Дрездена, как от Чеченского прискакал третий гонец и вручил полковнику новый рапорт: комендант города одумался и наотрез отказался покориться малочисленному полку казаков.
– Черта с два! Мы и сами с усами! – вскипел Давыдов. На сей раз он решил прибегнуть к уже не раз испытанной им в походах партизанской хитрости. – Огорошим-ка недруга нашим будто бы несметным полчищем. Ведь у страха глаза велики! Займем биваками форштадты!
Сотне казаков Давыдов приказал немедля запалить как можно больше бивачных костров на окрестных холмах и поддерживать огонь всю ночь, дабы неприятель имел возможность лицезреть многочисленное подкрепление, идущее на помощь Чеченскому. Сам же полковник с четырьмя сотнями казаков и пятьюдесятью гусарами также принялся раздувать костры.
Вскоре костры разгорелись на славу. Денис Васильевич стал дожидаться рассвета, любуясь с пригорка пылающими в ночи огнями. Молодцы его и впрямь постарались! Издали казалось, что к Дрездену подошел громадный трехтысячный корпус. Но тут полковника внезапно настигло письмо от генерала Ланского.
Посоветовавшись с Винценгероде, Ланский велел Давыдову изменить маршрут на Дрезден, отступать из Кёнигсбрюка в Радсбург. Там надобно ему позаботиться о провианте и фураже для главного корпуса, а также собрать все суда, стоящие у берега Эльбы.
Письмо это весьма огорчило Дениса Васильевича.
– Отбой, господа?! – обратился он к своим офицерам. – Оказывается, не по чину бывалому партизану завладеть первому неприятельской столицей. А честь сия и награды должны непременно достаться нашему корпусному командиру барону Винценгероде!
– Неужто в столь решительные минуты нам надобно убираться! – вспыхнул майор Чеченский. – Ведь город готов нам покориться без боя!
– Как же! – усмехнулся Давыдов. – Ежели город будет в наших руках, то надменный барон лавров не пожнет. А будет, как у нас шуткуют: «Пить винцо в огороде...»
Однако несколько запоздалое приказание генерала Ланского не смогло поколебать твердого решения полковника, ибо не в его правилах было оставлять начатое дело незавершенным. И он решил действовать на свой страх и риск, тем более что полк его стоял уже у ворот столицы Саксонии.
Давыдов отправил в Дрезден офицера Левенштерна парламентером с требованием сдать город.
– Скажите коменданту, – напутствовал его Денис Васильевич, – город окружен русской пехотой и конницей. Положение безвыходное. В противном случае мы возьмем Дрезден приступом.
Поутру Левенштерн прискакал с ответом: комендант гарнизона города французский генерал Дюрют просит прислать уполномоченного штаб-офицера. И Давыдов направил к нему своего друга, подполковника Степана Храповицкого. Дабы придать сему предприятию больше важности, он прибавил к его наградам еще и некоторые свои. У подполковника вся грудь оказалась увешана орденами и медалями.
Завязав Храповицкому платком глаза, его переправили на лодке через Эльбу в Старый город. Там подполковника за руку повели в дом Дюрюта. Однако переговоры затянулись. С обеих сторон следовали бурные возражения, продолжавшиеся целый день. Лишь поздним вечером все окончилось: договор о сдаче города с соблюдением всех главных условий, выставленных Давыдовым и Дюрютом, был подписан.
– На сей раз наша взяла! – радовался, потирая руки, Денис Васильевич. – Завтра же занимаем город. Дело сделано чисто. Комар носу не подточит!
Ни свет ни заря Давыдов поднял своих молодцов на ноги, велев им прибрать коней, почиститься, принарядиться и готовиться к парадному вступлению в Дрезден во всем блеске и славе русского оружия. Негоже ударить лицом в грязь перед саксонцами!
Утром к Давыдову явилась депутация важных чиновников города. К великому их удивлению, вместо ожидаемого грубого казацкого приема, депутацию обходительно встретил и выслушал благородный с виду полковник. Ко всем прочим достоинствам, он прекрасно говорил по-французски.
По окончании этого, сыгравшего весьма важную роль, визита депутаты расшаркались ножками и откланялись.
На дворе весна. Полдень. В небесах – горячее мартовское солнце. Отряд партизан на конях гордо въехал в ворота Дрездена.
Впереди на красавце-дончаке, с черной, как смоль, окладистой бородой, – Денис Давыдов. На нем щегольской темный чекмень, красные шаровары. Гордо поднятую голову знаменитого партизана венчала алая шапка с коротким темным околышем, надетая набекрень. На бедре поблескивала черкесская шашка. На шее ордена Владимира, Анны с алмазами и прусский «За достоинство». А в петлице – Георгиевский крест. Следом за командиром скакали его боевые соратники – офицеры Храповицкий, Чеченский, Бекетов, Левеншгерн, Макаров, Алябьев, впоследствии – прославленный композитор. Далее – почетный конвой из ахтырских гусар. За гусарами в авангарде 1-го Бугского казачьего полка – песельники. Они дружно затянули-повели разудалую солдатскую песню «Растоскуйся, моя сударушка» и на все лады засвистали.
В воротах стоял под ружьем и встречал победителей поверженный французский гарнизон, делая на караул при громком барабанном бое.
Меж тем широкая, до краев заполненная народом улица шумит, бурлит, ликует. Из окон выглядывают любопытные саксонцы. Они почитают русских избавителями Европы, бросают с балконов шляпы в небо, крича: «Ура, Александр! Ура, Россия!» Нарядно одетые красотки засыпают путь воинов цветами.
Гусары и казаки расположились биваком на главной улице. Давыдов остановился в квартире одного знатного банкира и принял там именитых горожан, среди которых было много торговцев-евреев.
Вскорости Давыдов послал курьера к генералу Ланскому с рапортом, где сообщалось, что отряд вступил в Новый Дрезден. Завтра будет прекращено перемирие, заключенное с Дюрютом на сорок восемь часов. 13-го вечером можно будет свободно распоряжаться, как в Новом городе, так и в Старом...
Обо всем этом Давыдов покорнейше просит довести до сведения корпусного командира Винценгероде, ибо «замедление в прибытии пехоты и артиллерии в Новый город легко может лишить нас приобретенного».
В тот же день полковник получил письмо от Ланского. В нем генерал поздравлял Давыдова с занятием Нового Дрездена, но тут же корил: в бочку меда легла ложка дегтя – оказывается, самовольно заключать перемирие без разрешения начальства он не имел права, а также не выполнил важного распоряжения командования – не собрал лодки, плоты, паромы...
Французский корпус во главе с генералом Дюрютом, испугавшись перехода на левый берег Эльбы русских войск и готовящегося одновременно с этим наступления полка Давыдова, дабы избежать окружения, начал в спешке сниматься и покидать город. Казалось, воинское счастье вновь улыбнулось пламенному гусару, момент для овладения второй половиной столицы Саксонии представлялся ему, как нельзя лучше... Но вдруг на рассвете 13-го на Давыдова, как гром средь ясного неба, обрушился Винценгероде.
Тщеславный барон, мечтавший овладеть Дрезденом, узнав из донесения Ланского о решительных и победоносных действиях Давыдова, страшно разгневался. Он оставил войска на марше и, заложив почтовых лошадей, помчался во весь опор в Саксонию. Под утро барон собственной персоной прискакал в Дрезден. Разыскав «дерзкого и непокорного» полковника, он с ходу обвинил его в трех тяжких проступках: во-первых, почему он осмелился без его позволения подойти к Дрездену, тогда как ему приказано было идти на Майсен? Во-вторых, кто разрешил ему входить в переговоры с неприятелем – сие ведь законом строжайше воспрещено! И, в-третьих, какое он имел право заключать кратковременное перемирие с французами, когда сам генерал Блюхер делать того не вправе? Причем третий поступок барон расценивал как государственное преступление, достойное строжайшего наказания.
Взбешенный, не терпящий возражений Винценгероде резко прервал объяснения Давыдова: «Довольно! Более я не позволю вам партизанить! Ни для кого нет отговорок в незнании приказов, издаваемых по армии. Я не могу избавить вас от военного суда. Немедленно сдайте команду вашу подполковнику Пренделю, а сами отправляйтесь в Калиш. Там, на главной квартире, быть может, к вам будут снисходительнее! Прощайте!» Не подав руки, барон повернулся спиной, показав, что разговор окончен.
Незаслуженно оскорбленный, со слезами на глазах, прощался Давыдов со своими боевыми соратниками, с коими довелось ему пройти долгий и тяжкий путь от родного, ставшего столь знаменитым Бородина вплоть до покоренного Дрездена, разделяя «и голод, и холод, и радость, и горе, и труды, и опасности». Ибо теперь он не просто расставался с подчиненными, а оставлял в каждом гусаре сына, в каждом казаке друга и кровного брата.
В Калише Давыдова принял начальник штаба двух союзных армий Петр Михайлович Волконский, ибо Пруссия к этому времени уже вступила в военную коалицию против Франции. Со вниманием выслушав разумные доводы полковника, Волконский тотчас обратился с его бумагами прямо к фельдмаршалу князю Кутузову. А Светлейший князь вскоре сам предстал пред императором защитником Давыдова, рассказав о доблестной службе пламенного гусара в тяжкие для Отечества времена, не забыв упомянуть при этом о недавнем успешном и бескровном занятии его отрядом Гродно.
Александр заслушал донесение главнокомандующего, ознакомился с бумагами, привезенными от Винценгероде, и рассудил это дело великодушно: «Как бы то ни было – победителей не судят».
Бродя по улицам Калиша, Давыдов слышал благодарственные молебны в честь взятия Дрездена, сопровождаемые оглушительными пушечными выстрелами. О покорении столицы Саксонии было обнародовано: «Генерал Винценге-роде доносит из Бауцена, что часть Дрездена, по правую сторону Эльбы, заняли его войска». И более ничего!
Вскоре Кутузов прислал за Давыдовым своего адъютанта. Фельдмаршал тепло принял Дениса Васильевича, заверив в полнейшем к нему расположении, и направил обратно к барону с предписанием возвратить ему прежнюю команду.
Однако Давыдову не пришлось более служить с боевыми соратниками. Винценгероде ослушался повеления фельдмаршала, власть которого была уже ограничена царем, и не возвратил полковнику его прежнюю партию, сославшись на то, что люди эти рассеяны по разным местам.
Пожелав участвовать в битвах с французами «с саблей в руках, а не в свите кого бы то ни было», Давыдов попросил разрешения у командования вернуться в свой родной Ахтырский гусарский полк. Ахтырцы находились в ту пору под предводительством корпусного генерала Милорадовича, высоко ценившего заслуги храброго партизана.
Ахтырцы Давыдова участвовали во многих жарких баталиях 1813 года на полях Европы.
В особенности памятны Денису Васильевичу сражение под Бриенном 17 января 1814 года и битва при Ла-Ротьере. После ряда побед Давыдов был удостоен наконец чина генерал-майора.
Гусар в Париже
Пока с восторгом я умею Внимать рассказу славных дел, Любовью к чести пламенею И к песням муз не охладел, Покуда русский я душою, Забуду ль о счастливом дне, Когда приятельской рукою Пожал Давыдов руку мне! Евгений БаратынскийСражение за Париж началось 18 марта 1814 года. С севера во главе русской Силезской армии шел фельдмаршал Блюхер, а с востока наступали союзные войска под командованием австрийца Шварценберга.
На рассвете пушкари ударили по Бельвильским высотам, расположенным на восточной окраине города. Далее на Париж двинулся авангард русской армии. Фельдмаршал Блюхер, прозванный в войсках Форверц[8], повел штурмовую колонну с музыкой, барабанным боем и криками победного «Ура-а-а!» на крутизны Монмартра.
Ядра, гранаты, картечь и пули, осыпавшие колонны наши с вершины и уступов Монмартра, не смогли охладить пыл воинов русских. Могучий штурм – и вершина гиганта с тридцатью орудиями покорена. Один за другим выстрелы тонули в победном марше. Вот прогремел глухой, последний, прощальный выстрел той грозной, бедственной и тяжелой двухлетней войны. На вершине Монмартра воцарилась зыбкая тишина.
К семи часам вечера все было кончено. Возвышенности и удельные предместья правой стороны Сены, от Шарантона до Булонского леса, заняли союзные войска до самой каменной десятиаршинной ограды столицы Франции, на расстоянии упора штыка русского.
Легкие и батарейные орудия нацелились в каменные кварталы Парижа. Однако короткое перемирие, заключенное с французскими маршалами, круто изменило ход дальнейших событий и укоротило, казалось бы, неуемный пыл русских солдат, намеревавшихся с ходу ворваться в город.
В девять вечера пронеслись на конях по аванпостной линии адъютанты штабов корпусных с приказом от Барклая-де-Толли. Перемирие окончилось. А посему надо было держать ухо востро, следить за вылазками неприятеля из города, в особенности от Елисейских полей к Булонскому лесу, где, по предположению нашего командования, скрывался Наполеон.
Патрули были удвоены, засады усилены, резервы отводных постов приближены.
На утро готовился штурм Парижа, распростершегося пред войсками нашими на громадной равнине обеих берегов Сены.
С рассеяньем ночного тумана стали исчезать с горизонта следы затяжной кровопролитной войны. Первые лучи солнца озарили и как бы разгладили хмурые изнуренные тяготами похода лица солдат. Теплое дыхание животворной весны с хмельными запахами лопающихся клейких почек смягчило сердца царей, генералов, воинов... И доблестные солдаты наши узрели, к великой радости, на монмартрской башне телеграфной и на всех каланчах Парижа белые флаги, извещавшие о капитуляции города.
19 марта 1814 года – светлый и памятный день для народов Европы.
Война, развязанная Наполеоном в 1812 году, имела две наиболее горячие точки одну – на поле Бородина, другую – при Монмартре. При Бородине солдаты наши стояли не на жизнь, а на смерть, ибо здесь решалась судьба России. На Монмартре они штурмовали самую высокую точку Франции, и каждый воин наш пылал огнем мщения и жаждал подвига.
Гусар и казаков французы считали наиболее опасными завоевателями.
В предместье Парижа парикмахер, некий господин Леду, пожаловался Давыдову:
– Ваши казаки реквизировали у меня инструменты. И вот уже сутки, как я нахожусь без работы.
– Больно хо-ро-шо! – широко улыбнулся Денис Васильевич. – Значит, мои воины приводят себя в надлежащий порядок. Заплатите все, как положено, этому господину. Пусть он купит себе новые инструменты...
А спустя день-другой генерал разгневался на своих адъютантов, ибо они постоянно куда-то исчезали. В оправдание те виновато опустили головы. Лишь один из них не сплоховал:
– Посмотрите, ваше сиятельство, каковыми выставляют нас господа французы. Я тут прихватил с собой одну газетенку, – при этих словах он вынул из кармана помятый лист бумаги. – Извольте послушать, что пишут эти канальи! «Один очевидец констатирует. «И вот мы увидели громадных и угрюмых северных медведей с козлиными бородами. В шубах мехом навыворот. Пистолеты за поясами. Длинные пики в руках. А грязные и вонючие они, будто свиньи, которые изрядно вывалялись в навозе. Глаза смотрят дико и зло. Того и гляди ограбят или же изнасилуют...»
– Однако, очень похоже, – с горькой иронией молвил генерал. – К счастью, скоро парижане сами во всем убедятся воочию...
Денис Давыдов въехал в поверженный Париж вместе с бригадой гусар Ахтырского полка.
Французы были поражены. Недавно их уверяли, что в битвах чудом удалось уцелеть лишь нескольким полкам русских солдат. Теперь они лицезрели на улицах грозную армию великолепной выправки.
Торжественный марш совершался при громе барабанов, при бравурных звуках труб и флейт.
Впереди парада скакала кавалерия. Открывал шествие лейб-гвардии Донской казачий полк генерала Орлова-Денисова.
Всю ночь донцы не смыкали глаз, готовясь к торжеству победы: чистили коней, точили сабли и поправляли амуницию.
За донцами – Уланский полк цесаревича Константина Павловича на небольшом расстоянии – сотня лейб-запорожцев, составлявшая конвой нашего государя. Далее ехали верхами союзные монархи.
Толпы парижан волновались, кричали, ликовали... Смельчаки бросались чуть ли не под копыта лошадей государей, осыпая горячими поцелуями ноги и руки монархов.
Парижане словно на плечах внесли монархов на знаменитую площадь Людовика XV. Там, на углу бульвара, государи остановились, чтобы полюбоваться, как будут проходить громким парадным маршем их славные войска...
Спустя несколько дней после торжества победы Денис Васильевич обошел знаменитые Елисейские поля, где биваком расположились казаки.
Вместе с ними туда направились толпы парижан. Они пришли к казакам отпробовать их ароматного дымящегося кулеша в больших прокопченных котлах, послушать их грустные протяжные песни, полные тоски по Родине.
Парижане дивились: как лихо пьют казаки вино, почти не пьянея. Возникла даже мода «а-ля казак»: столичные модницы стали делать себе прически наподобие казачьих папах. Мгновенно полюбилось и привилось словечко «бистро». Им казаки торопили торговцев, которые щедрой рукой наливали им стаканы вина.
В парке Тюильри прямо на глазах парижан разыгрался своеобразный спектакль: казаки там упражнялись с саблями, падали со всего маху с коней и не разбивались, словом мастерски джигитовали...
Приметив знаменитого партизана, один бородач вышел ему навстречу:
– Здравия желаем, ваше сиятельство, Денис Васильевич!
– Неужто Назаров? Родная партизанская косточка! – обрадовался Давыдов, узнав казака из своей партии, и крепко обнял его. – Выходит, до Парижа дошел страж российской земли! Гроза Бонапарта! Небось помнишь губернатора Смоленска генерала Бараге-Дильера?
– Не то как же! На всю жизнь от того дня зарубка в сердце осталась... На волоске от смерти висел!
– Своих в обиду не дадим! – улыбнулся Давыдов.
– Дозвольте, ваше сиятельство, стихи на взятие Парижа прочитать?
– Неужто ты, Николай, еще и стихи сочиняешь? Ну, читай, читай!
Казак сразу посерьезнел да и начал, не спеша, декламировать нараспев:
Ура! Россияне в Париже! И с ними Вождь небесных сил, Ура! Уже погибель ближе Тому, кто их вооружил Против себя идти войною! Кто злобною виясь змеею, Хотел невинных уязвить! Хотел противу всех сражаться – Царем всемирным называться – Желал бессмертным смертный быть! Россия, Богом покровенна! Ликуй в сей день! Сынам твоим Врага столица покоренна, И – нет ни в чем препятствий им!Казаки притихли, слушая своего товарища. Ведь столь вдохновенно и складно никто из них сочинить не мог.
Едва Назаров кончил читать и опустил голову, как Денис Васильевич горячо обнял и ободрил его:
– Ну спасибо, Николай, уважил! Благодарю тебя, что восславил нашу победу. Ведь Париж ныне и вправду у наших ног. И давненько ты занимаешься сочинительством?
– Более года...
– И много сложил?
– Семь од.
– Смотри ж ты, какой плодовитый поэт!
– И все до единой в памяти держу.
– Истинно молодец, Николай! Скоро мы вернемся на Родину. Уж там-то, надеюсь, твои стихи по достоинству оценят и, возможно, даже пропечатают где-нибудь в журнале.
Давыдов квартировал в Париже на улице Бурбон. Из его широкого окна и с балкона открывалась величественная панорама города, была видна Сена, ее мосты, замок Тюильри, а рядом, на Вандомской площади, высилась знаменитая мраморная колонна со статуей Наполеона.
Однажды внимание боевого генерала привлек шум, доносящийся с улицы. Денис Васильевич глянул в окно и увидел пестрый людской поток.
– Сходи-ка разузнай, что там происходит? – приказал Давыдов своему адъютанту и с тревогой посмотрел на колонну.
От головы статуи Наполеона тянулось множество канатов, похожих издали на тонкие нити. Канаты закрепили на воротах.
Народ неустанно, сплошным потоком валил к площади Вандом.
«Однако что это все значит? – размышлял пламенный гусар. – Уж не помутился ли мой разум в конце кампании? Мне сдается, что статуя Наполеона Бонапарта накренилась и вот-вот рухнет на землю. Черт побери! Что же крушат эти вандалы?!»
– Ваше сиятельство, – доложил вернувшийся вскорости адъютант. – Французы рушат статую Наполеона...
– Как рушат? – удивился Давыдов.
– Временное правительство, уступив желанию народа, решило от греха подальше убрать статую императора.
– Но постой же, ради Бога, – разгневался Давыдов. – Как понять?! Ведь это же самое правительство на днях поставило караул возле Вандомской колонны и даже издало декрет об охране памятников. Как ведомо, Вандомскую колонну Наполеон велел соорудить после блистательной победы под Аустерлицем.
– Точно так, Денис Васильевич!
– Неужто в столице Франции дозволено действовать теми же средствами, которыми довольствуется чернь?
– Вполне справедливо, Денис Васильевич, – отвечал адъютант. – Вы, наверное, наслышаны, как наш император Александр, проезжая по площади, остановил коня возле колонны. Взглянул на статую своего врага и тихо промолвил: «У меня, пожалуй, закружилась бы голова на такой-то высоте...»
– Да-да, ты прав, Алексей, – согласился Денис Васильевич. – Французы люди сметливые. Они сразу поняли намек нашего государя. И сочли своим долгом, согласуясь с желанием народа...
Его последние слова заглушили крики: «Приготовиться! Опускай!»
Солдаты стали вращать вороты... Статуя стронулась с места, повисла на канатах и, раскачиваясь, начала медленно опускаться.
«Бра-а-во! Бра-а-во!» – прокатилось по затопленной народом широкой площади Вандом.
Итак, разгромленный наголову Бонапарт отрекся от престола, простился с остатками своей знаменитой старой гвардии и подписал мир в Фонтенбло. Тем самым французский император признал свое полное поражение и превосходство союзных армий во главе с Россией.
Пламенный гусар стал свидетелем пышных торжеств по случаю возвращения в столицу Людовика XVIII. Короля приветствовали толпы народа.
Дениса Васильевича удивила столь быстрая перемена в настроениях французов, свершившаяся всего за несколько дней. Вначале они слепо преклонялись и рукоплескали Наполеону, а теперь громогласно славили своего законного властителя – короля.
Многие французы думали, что русские жестоко покарают их за захват Москвы сожжением Парижа, виселицами и грабежами, но они заблуждались: вместо сурового отмщения последовало великодушие – празднования победы, молебны, гуляния...
Европа рукоплескала русскому воинству, а командование подвело итоги войны в памятном манифесте о мире, где было сказано: «...Тысяча восемьсот двенадцатый год, тяжкий ранами, принятыми на грудь Отечества Нашего для низложения коварных замыслов властолюбивого врага, вознес Россию на верх славы, явил пред лицом вселенныя и величия ее, положил основание свободы народов...» И далее по справедливости и великодушию провозглашалось: «Да водворятся на всем шаре земном спокойствие и тишина! Да будет каждое царство под единой собственного правительства своего властью и законами благополучно! Сие есть намерение наше, а не продолжение брани и разорения...»
А теперь давайте ненадолго перенесемся из столицы Франции на два года назад... в зимнюю морозную Россию, в смоленские леса двенадцатого года, чтобы, вспомнив былое, вновь возвратиться в поверженный Париж.
...На дворе в ту пору было студено и белым-бело. Поутру крестьяне привели к Давыдову шесть французских бродяг. Вожак партизан насторожился, ибо до сей поры никто из мужиков не доставлял к нему пленных: они сами чинили над басурманами самосуд.
Продрогшие французы наверняка бы замерзли где-нибудь в темном рву либо глухом заснеженном овраге. Но ржанье коней да отрывистый говор на родном языке оповестили крестьян, что поблизости стоят партизаны.
Допросив бродяг, Денис Васильевич распорядился: «Включить их в число пленных, состоявших при отряде, и с конвоем переправить в Юхнов». Осмотрев французов, вожак партизан внезапно остановил взгляд на одном жалком на вид юноше с большими карими воспаленными от голода и тягот длительного похода глазами. Он молча стоял, худой-прехудой, бледный, несколько поодаль от группы пленных, гревшихся у костра, прислонясь спиной к дереву, в рваном синем мундире, и боязливо озирался по сторонам.
«Еще одна жертва великого Бонапарта! Так молод, а уже воин», – подумал Давыдов и велел позвать юношу.
– Кто ты таков? – по-французски обратился к пленному Денис Васильевич, заглядывая в его широкие, испуганные глаза.
– Молодой гвардии... Императорского величества...
– Четче...
– Барабанщик молодой гвардии, Викентий Бод.
– Сколько годков?
– Пятнадцать минуло, – с робостью отвечал по-русски барабанщик.
– Откуда родом? Где обучался нашему языку?
– Из Парижа. Мой отец повар. Он жил в России. Учил меня говорить по-русски, водил меня гулять по Москве...
– Хорошо... Больно хорошо... Однако как же так получается, Викентий? Отец жил в России, любовался ее величием, а сын воюет против нее.
– Я никого не убивал. Я музыкант... – начал оправдываться Викентий.
– Хороший музыкант, мил друг, во время атаки доброго полка стоит.
– Меня ценили в полку. И надо же так глупо попасться... На переходе... И кому? Лесным казакам!
– Ничего, не больно-то переживай: не ты первый, не ты последний «в гостях» у «лесных казаков». Так ты изволил нас величать?
– Как же будет печален наш Оливье! Он так и не дождется меня.
– Кто этот, Оливье?
– Полковник, командир нашего полка. Он отпустил меня с фуражирами на двое суток. Мы должны были добыть провиант в деревнях. Но главное, конечно, из-за моего знания русского языка.
– Видно, теперь придется Оливье подыскивать нового барабанщика.
– Оливье будет весьма печален. Он любил меня как родного сына. Называл меня... как это по-русски?.. Золотой Викентий!
– Золотой Викентий, говоришь?.. Скоро мы твоему Оливье поможем, если он так горячо любит... русские деревни и русские пироги.
– Каким образом?
– Очень просто – пленим, да и все. А для тебя, Викентий, война, почитай, уже закончена.
– Как это понимать?
– А вот так и понимай! Для ясности добавлю – на стороне Бонапарта.
– Неужели вы думаете, что я предам Родину и буду у вас на службе?
– Партизаны, то бишь «лесные казаки», Золотой Викентий, в ночные рейды ходят не под барабанный бой. Мы вполне обойдемся без тебя. Так что отдыхай покуда... Небось голоден? – спросил Давыдов у казаков.
– Жуть как проголодался, – отвечал степенный Кузьма Жолудь, стоявший подле барабанщика. – Давеча мы уж накормили пленных остатками от обеда. А этот в особенности отощал, – казак подошел к юноше, легонько тронул его за плечо. – Гляньте сами – одна кожа да кости...
Давыдов узнал от Викентия, что он был с ранних лет оторван от родительского крова и его «захлестнула пучина грозной войны». Великая армия забросила его на чужие земли, за тысячи верст от Родины, под лезвия русских сабель, грохот картечи и свист пуль. Ко всем прочим лишениям барабанщик успел уже испытать на себе крепость трескучих морозов снежной России.
«При виде его сердце мое облилось кровью, – писал в своем дневнике Денис Васильевич, – я вспомнил и дом родительский, и отца моего, когда он меня, почти таких же лет, поручил судьбе военной!» Пламенный партизан сжалился над юношей, тем паче что под руками оказались все средства к спасению Викентия. Распорядившись оставить барабанщика в отряде, он приказал:
– Надеть на юношу казачий чекмень и шапку, дабы никто не отважился в походе ненароком пырнуть его штыком или дротиком!
Пройдя вместе с отрядом трудный путь «сквозь успехи и неудачи, через горы и долы, из края в край», Давыдов доставил Викентия до самой столицы Франции возмужавшим, целым и невредимым. И там благополучно передал его в руки престарелому отцу.
И вновь поверженный Париж! Спустя два дня после трогательной, полной слез и горячих объятий встречи отца с пропавшим без вести сыном Давыдов в парадном мундире с боевыми орденами и медалями проходил по парижскому бульвару. Ребятишки-газетчики, пробегая мимо него, громко выкрикивали:
– Последние новости! Новости! Бонапарт низвергнут! Песня французов о русских – один су!
– Давай-ка ее сюда! – поманил одного из крикунов Давыдов, протянув ему монету. Остановился и принялся с жадностью читать:
«Отрадно нам видеть в наших краях гордых сынов России! А ощущают ли среди нас эти дети Севера себя как бы на Родине?!
В бою гордые и грозные, храбрые и великодушные! Не являются ли они лучшими друзьями Франции?!»
«Ну как не расщедриться на су за такую прекрасную песню!», – подумал Денис Васильевич и невольно рассмеялся. Внезапно к Давыдову подошел молодцеватый юнкер Конкин:
– Здравия желаю, Денис Васильевич! Сказывают, вас с генеральскими эполетами поздравить можно?
– Да, Петр, поздравь. Удостоился-таки этой высокой чести после сражения под Бриенном и битве при Ла-Ротьере. Служу у Блюхера. Командую родным Ахтырским гусарским полком.
– Однако ж Париж у наших ног! Кампания кончена! – заметил с радостью юнкер. – И мы вскорости возвращаемся с победой домой!
– Кончилось, батенька, кончилось, слава Богу! – усмехнулся генерал. – Финита ля комедия! На Родину пора. Душа исстрадалась! А там – кто знает! – может, и умирать придется в постели. Сие для нашего брата, гусара, сам ведаешь, последнее дело! И он тихонько пропел:
Я люблю кровавый бой, Я рожден для службы царской! Сабля, водка, конь гусарский, С вами век мне золотой!– Да гусары, казаки! Душа горит! – воскликнул пылкий юнкер. – Иду я как-то вечор Елисейскими полями. Гляжу – под деревьями костры бивачные. А на кострах тех в котлах гречневая каша варится. Баранина жарится. Запах такой! Аж голова кругом идет! Гусары да казаки вкруг костров лежат, табак курят... Песню затянули про степь широкую да про буланого коня... И я будто снова очутился в родной матушке-России...
Мимо, чеканя шаг, прошел стройный драгунский офицер. Остановился и отдал честь генералу.
– Васильев? – окликнул его Давыдов. – Здравия желаю! Что нового?
– Признаться, Денис Васильевич, одна новость имеется. Слыхали про драгуна?
– А что такое?
– Отличились нынче поутру! Полковой командир наш, полковник Арсентьев, сами знаете, страх как гордится своими орлами. Вот и захотелось ему похвастать перед французами. Вчера отдал приказ: «Быть нынче к семи утра на смотре!» И вот ровно в семь полк строится. Эскадрон за эскадроном! А пред каждым одни только вахмистры да юнкера...
– А офицеры-орлы куда подевались?
– В том-то и беда. Офицеры, кроме дежурных, с вечера разбрелись по городу. Кто куда... Словом, загуляли. До утра мало кто из них на квартиры вернулся...
– То-то, я думаю, Арсентьев разгневался! Небось приказ отдал: «Всех провинившихся – на гауптвахту!» – рассмеялся Давыдов.
– В самую точку попали, Денис Васильевич.
– Уж кто-кто, а я-то норов Арсентьева знаю! Горяч, да отходчив. Вскорости сменит гнев на милость. Не немецкий барон! Сам ведь был молодым. А тут орлы-победители! Молодо-зелено, по Парижу драгунам погулять велено! – скаламбурил Давыдов. – Авось не малые дети – не заплутают! – при этих словах он похлопал Конкина по плечу. – Этакий молодец! Любо-дорого поглядеть!
Давыдов попрощался с офицером и юнкером и зашагал по бульвару далее... Вначале он не обратил внимания на стайку увязавшихся за ним любопытных мальчишек, которые вовсе не подозревали, что русский офицер понимает по-французски, и разбирали его, что называется, по косточкам.
– Денис Васильевич! Здравствуйте! – окликнул его вышедший из боковой аллеи невысокий, седой человек с брюшком.
Давыдов обернулся, крепко пожал руку седовласому Боду и тут же вскрикнул от удивления:
– Ба! Золотой Викентий! Ты ли это? В гражданском платье тебя сразу и не признаешь! Экий парижский франт! А куда девал чекмень? – генерал укоризненно покачал головой. – Где казацкая сабля?
– В шкаф спрятал...
– И правильно сделал, – Давыдов широко улыбнулся. – Война закончилась! Зачем нынче барабанщику военная форма?! К чему оружие!
– Не скучаете в Париже? – любезно поинтересовался седовласый Бод.
– Признаться, нет, – по-французски ответил Давыдов. – Да разве здесь можно соскучиться? Меня повсюду сопровождала эта шумная, озорная компания, – и Денис Васильевич повернулся к бойким столичным сорванцам. – Вот полюбуйтесь-ка сами!
Ребятишки, похожие на желторотых взъерошенных воробьев, недавно выпорхнувших из гнезда, услышав родную речь, обомлели и бросились врассыпную. А Давыдов удивился:
– Довольно странно. Парижане не могут привыкнуть к тому, что многие наши офицеры понимают их не хуже, чем соотечественники. Спасибо мсье Фремону.
– Это тоже кто-то из... ваших? Из московских? – поинтересовался Бод.
– Нет уж. Вот он-то как раз из ваших... настоящий француз. Шарль Фремон обучал нас с братом в детстве французскому языку, танцам и изысканным светским манерам. Правда, мы над ним иногда немного того... подшучивали, но учил он нас довольно усердно. Печальная весть недавно пришла из дома – скончался, сердешный. Ну а теперь скажите, – обратился Давыдов к Боду, – чем я могу быть вам полезен?
– Я с вами, уважаемый господин генерал, давно мечтал поговорить по сердцу, по душам... Вы мой... как это по-русски правильно говорить? – благожелатель, то есть благодетель. Вы сделали для меня самое, самое дорогое, – вы выручили, спасли, вновь подарили мне жизнь сына! У меня к вам прошение, большая просьба, – проговорил лукаво и просительно склонив голову, старый Бод.
– Пожалуйста, я к вашим услугам.
– Не откажите в любезности, аттестуйте, пожалуйста, Викентия по заслугам. Ведь он так предан вам, так привязался к вашим великодушным и храбрым воинам-казакам...
– С превеликой радостью, – Давыдов присел на скамейку, вынул из кармана лист бумаги и набросал на скорую руку карандашом несколько добрых слов: – Вот тебе, милый Викентий, держи аттестат о достойном твоем поведении на всем протяжении нашего тяжкого похода.
– Спасибо, Денис Васильевич! Ну вот, папа, все в полном порядке!
Старый Бод взял из рук сына листок, поднес его близко к подслеповатым глазам, со вниманием прочел аттестацию Викентия и горестно вздохнул:
– Нет, любезный господин генерал, здесь вовсе не то, что нам надобно. Вы мне спасли жизнь Викентия, а теперь будьте столь милостивы и довершите ваше благодеяние...
– Какое еще благодеяние? – растерялся Давыдов.
– Дайте моему сыну аттестацию в том, что он находился при вас всю кампанию и поражал неприятеля.
– Позвольте, любезнейший? – еще более изумился Денис Васильевич. – Но неприятели были... ваши соотечественники?
– Нужды нет, – возразил на это Бод.
– Как нужды нет? – Давыдов грозно нахмурил брови. – Через эту бумагу вы погубите сына. Его могут расстрелять... Впрочем, вы это понимаете не хуже меня.
– Не извольте гневаться, господин генерал. Не расстреляют. Ныне иные времена, – стараясь казаться спокойным, пояснил Бод. – По аттестации вашей сын мой Викентий загладит невольное служение свое, можно говорить, варвару, хищнику престола Бонапарту. Да еще получит награждение за ратоборство против людей, служивших в армии дерзкого, незаконного монарха.
– Да вы... вы... изволите шутить?!
– Нисколько. Мне Викентий рассказывал, как ваши партизаны бонапартистам «русские баньки» устраивали... Потому, видно, вы и вырвали победу.
– Победили мы, господин Бод, благодаря горячему патриотизму солдат и народа. А насчет правил... По правилам – сидеть бы французам в Париже да попивать легкое винцо. А вас ведь вон куда занесло – в бескрайнюю морозную Россию. Отведать «русской баньки» захотелось! Да на русские пироги! Верно, Викентий?
– Точно так, Денис Васильевич. У русских, папа, на этот счет есть хорошая пословица: «Ехала кума, да не ведала, куда».
– Будет тебе, Викентий, аттестация, какую требует отец твой... – раздосадованный партизан тут же изорвал в клочки только что написанный им лист бумаги, вновь опустился на скамейку и принялся «сочинять» все заново. Причем позволил себе при этом солгать не хуже начальника иной штабной канцелярии, составлявшего наспех реляцию о победе над врагом, в которой сам не участвовал. – Ну, ежели так, господин Бод! Отныне Бонапарт – варвар, хищник престола! Незаконный монарх! – Денис Васильевич язвительно улыбнулся, протягивая ему бумагу. – Жалка же мне ваша Франция!
– Франция велика своим благородством!
– Неужто так?
– Если не верите, встретимся с вами на этом бульваре через неделю. Оревуар, господин генерал!
– Оревуар, господин Бод! Честь имею, Золотой Викентий!
И вот день за днем, незаметно пролетела неделя. Давыдов почти забыл о происшедшем. Весь этот разговор он посчитал розыгрышем – ведь французы на подобные штуки великие мастера. В сквере возле тумбы с афишами Денис Васильевич оказался случайно. Бродил по бульвару и сочинял стихи...
В ужасах войны кровавой Я опасности искал, Я горел бессмертной славой, Разрушением дышал, И в безумстве упоенный Чадом славы бранных дел, Посреди грозы военной Счастие найти хотел!..– Здравствуйте, Денис Васильевич! – звонко проговорил юный Викентий Бод.
– Бонжур, месье Давыдов! – приветствовал прославленного генерала старый Бод.
– Мое почте... – растерянно пробормотал Давыдов и замер на полуслове. На груди Викентия сверкал орден Лилии. – Нет, это невероятно! Во сне или наяву. Нет не померк еще свет в глазах моих. Так и есть – орден Лилии.
– Поздравьте же скорее Викентия, господин генерал! Орден Лилии в петлицу! – с радостью вскричал старый Бод.
– Да, словно алмаз с неба, орден Лилии в петлице... – Давыдов в растерянности развел руками. – Как вам удалось это устроить, месье Бод?
– Я же говорил вам, господин генерал, что Франция – это Франция! Она непредсказуема! За то, за что в России отдают под суд, во Франции – награждают!
– Ничего не могу понять! Неужто помутился разум мой? Как так? Поясни, Викентий?
– Очень даже просто, Денис Васильевич! Я боролся вместе с русской армией против незаконного монарха и растлителя душ Бонапарта. Но папа все равно молодец. Выбил мне у властей такой орден!
– Да-а, это свойство далеко не каждому дано... – язвительно улыбнулся Давыдов.
– Я счастлив, что у меня такой папа! – воскликнул Викентий.
– Деловой отец! – показно захлопал в ладоши Давыдов.
– По сему случаю, в честь моего награждения, папа приглашает вас, любезный Денис Васильевич, отобедать в его ресторане.
– Вы разве не повар, месье Бод, а уже владелец ресторана?
– Да-да! Представьте себе! Мой ресторан называется теперь «Русские щи да каша». И я имел честь приготовить для вас, господин генерал, один маленький сюрприз. Мне много рассказывал о налетах ваших партизан Викентий.
– Непременно, непременно отведаю ваших щей да каши. Но не сей минут. А через час-другой.
– Через час? Другой? – Старый Бод застыл в недоумении, разинув рот.
– Да-да, мне необходимо закончить стихотворение, которое я задумал еще там в России, в смоленском бору.
– Так вы – поэт, господин генерал?
– Нет, я – солдат. Солдат, увлекающийся стихами.
– Ну, хорошо-хорошо! Не смею вам мешать! – раскланялся старый Бод. – Ждем вас у себя через час-другой, господин Давыдов! Виват, Россия!
– Виват, Франция!
– Любезный господин генерал, – сказал старый Бод, поднявшись со своего стула при встрече с Давыдовым в маленьком уютном ресторане «Русские щи да каша». – Судьба благодаря вашей доброте распорядилась счастливо и подарила мне нежданную встречу с потерянным, как мне казалось, безвозвратно сыном. Викентий родился для меня как бы заново. Воистину Золотой Викентий! Господин генерал, десять лет я служил в России поваром, я не приучен бросаться словами. И потому пью рюмку водки за вас, за ваше доброе сердце. За вашу заботу о моем единственном сыне! За вашу щедрость и искренность! Заканчиваю, ибо время, потраченное французами в бесконечных комплиментах друг другу при знакомстве, потеряно для истинной дружбы.
– Спасибо, господин Бод! Весьма тронут вашим радушным приемом и гостеприимством. Ибо, признаться, отвык от роскошеств за время тяжких походов и битв. Очень рад за Викентия!
– Вы знаете, господа, – многозначительно промолвил старый Бод, – что благородный император Александр предоставил французам счастливую возможность избрать себе такую форму правления, которая им самим более желанна. По сему случаю я надеюсь, что бедная моя Франция, наученная горьким и печальным опытом Бонапарта, не мудрствуя лукаво, внемлет голосу чести и разума. Наша страна наконец-то возвратится, как это говорится у вас, в России, на круги своя. Вернется к незаконно прерванному благоразумному правлении Бурбонов.
– Мне кажется, – продолжал Викентий, – настал тот час, когда в нашей истерзанной войнами стране необходимо как можно скорее навести спокойствие, порядок и упрочить благополучие граждан.
– Я слышал, – сказал Давыдов, – что наш император Александр благосклонно отнесся к возвращению на трон Людовика XVIII.
– Скажите мне на милость, господа, кто бы из вас мог предположить, – не утерпел, вновь наполняя рюмки вином, старый Бод, – что такое победоносное шествие по Европе и скорое вторжение в Россию непобедимого Бонапарта закончилось столь трагично? Что русские разобьют великую армию и победителями войдут в Париж?
– Мы с отцом поднимаем бокалы, – добавил Викентий, – за двойное торжество. Во-первых, за здравие и успехи наших русских друзей. И, во-вторых, за законное воцарение Бурбонов. Словом, господа, за Людовика XVIII и за долгожданный мир на земле!
Давыдов высоко поднял свой бокал, гордясь тем, что он русский, гордясь славою своего оружия, своим храбрым воинством, а также тем, что он воочию, так зримо и торжественно ощутил свою причастность к освобождению Европы.
– Горячо поддерживаю и одобряю ваши желания, господа. Пью за здравие Людовика! За установление мира и спокойствия в Европе!
– И дай-то Бог, чтобы Франции поскорее возвратилось ее былое величие, – добавил старый Бод.
– Только тот может по-настоящему понять чужие боль и горе, кто хоть раз в жизни испытал это сам, на собственном опыте. Недавно я остро почувствовал себя русским именно у вас, на чужбине, когда стоял на Вандомской площади перед знаменитой колонной со статуей Наполеона. Той самой статуей, которую на днях снесли... «О чем задумались, месье?» – спросила меня одна пожилая женщина. «О громкой славе вашего непобедимого императора, – ответил я ей, – и столь тяжком и горьком его бесславии...»
– Оказывается, вы не только поэт, господин генерал, но и философ! – воскликнул восхищенный его словами старый Бод. – Да здравствует наш русский гость!
– Скажите мне, господин Бод, кого вы более всего любите на свете? – поинтересовался Давыдов.
– Более всего? – призадумался на минуту седой Бод. – Пожалуй, более всего на свете я люблю женщин и вино. Одна красотка из предместья Парижа подарила мне Викентия. И через два года бежала из моего дома с офицером. Но я не растерялся и не пал духом. Я постарался достойно воспитать своего единственного сына. Он предан Родине и любит музыку. Впрочем, об этом вы можете судить сами. Итак, более всего я люблю Париж! Люблю женщин и вино! Люблю, когда публика в моем ресторане веселится от души и танцует, люблю несмотря на свой почтенный возраст...
– Разделяю ваши чувства, – ответил Давыдов. – Однако должен вам признаться, что с вином и женщинами мне не шибко везло в жизни...
– За любовь! – воскликнул сияющий Викентий.
Не по летам пылкий, предупредительный и энергичный господин Бод воодушевлял всех во время трапезы. Обед удался на славу. Официанты старались изо всех сил и были учтивы как никогда. Их взгляды полны доброты и признания. Тарелки они не ставили перед гостем по прямой линии, а подавали с подносов плавными элегантными движениями. Вилки и ножи опускали на скатерть с неизменной улыбкой. Официанты держали их в двух пальцах, а мизинец был аристократически оттопырен.
Боевому, утомленному войной, истосковавшемуся по родному крову генералу захотелось вкусить простого, любимого им с детства блюда, к тому же не шибко обременительного для хозяев. И он попросил гречневой каши с жареной телятиной.
– Не лучше ли будет, наш дорогой господин генерал, – добавил старый Бод, – предложить вам отведать еще соленых грибов, томатов и огурцов? И все это покрыть сверху петрушкой и укропом?
Давыдов в знак признательности развел руками:
– Покорно благодарю вас, господин Бод... Давненько не был дома и не едал ничего подобного.
– Да еще непременно, – заметил Викентий, – пусть нам подадут хрен, квас с изюмом и моченой брусники...
Все дружно рассмеялись и захлопали в ладоши.
Воистину то была непринужденная, застольная и столь трогательная, французская на русский манер, песня без слов.
Словом, кухня оказалась отменная. Оживленная беседа длилась более часа, то и дело звучали тосты, вино лилось рекой, но никто за столом не был пьян. Все были только навеселе. Викентий часто хохотал от души.
Русский генерал пленил сердце хозяина. Он был недурен собою, остроумен, рассудителен, превосходно воспитан. Лучшие годы молодости он провел в непрерывных войнах, из которых Отечественная оказалась самой тяжелой и долгой. Все это развило в Давыдове опытность, умение разбираться в людях, понимать их с полуслова и, главное, живо откликаться на чужую беду. Он закалился физически и не терял бодрости духа в самых сложных обстоятельствах. При расставании старый Бод выразил горячее желание познакомить генерала с достопримечательностями Парижа, а Золотой Викентий вызвался вкусить вместе с ним прелести громадного и шумного Вавилона.
На память о столице Франции и парижанах Давыдов купил в антикварном магазине у прославленной фирмы «Брегет» плоские золотые часы с серебряным циферблатом.
Поэта-гусара пленило высокое качество исполнения «недремлющего» брегета и его мелодичный малиновый бой. С великой радостью он приобрел эти замечательные часы и заказал граверу исполнить на крышке свой фамильный герб на серой эмали.
Теперь давайте перенесемся из поверженного Парижа на девять десятков лет вперед, в 1900-е годы. Удивительную историю дальнейшей судьбы «недремлющего» брегета поведал в своих «Воспоминаниях» внучатый племянник знаменитого партизана Александр Васильевич Давыдов.
Итак, Москва начала века. Москва нарядная, говорливая, белокаменная. Необъятное лазоревое небо над городом. Милый уют русской дворянской семьи. Жар от печки в стылые и короткие апрельские вечера. Мечты о военной карьере в Петербурге. Чтение захватывающих романов Тургенева. Театры. Свидания на Тверском бульваре, у Никитских ворот. Таинственные предчувствия... Сколько удивительного и чудесного в этой романтичной, еще ничем не омраченной молодости!
Многие в те лета увлекались коллекционированием антиквариата: русским фарфором, русской мебелью стиля ампир, хрусталем, старыми гравюрами...
Статный, красивый, одетый по последней моде, Александр Давыдов зашел во двор театра «Аквариум». Там недавно открылся антикварный магазин. Со вниманием осмотрев витрины и полки магазина, он как бы невзначай купил у антиквара чудесный Елизаветинский граненый хрустальный бокал и два роскошных золоченых стакана времен Екатерины. Расплатившись, Давыдов шагнул было к выходу, но тут старый антиквар остановил его внезапным вопросом:
– Не интересуетесь ли вы, молодой человек, старинными часами?
– Благодарю вас, но часы не мой идеал...
– Но все же, сударь, очень советую вам взглянуть. Прелестная, уникальная вещица...
Словно факир, антиквар ловким движением рук открыл потайной шкаф в стене, достал из него небольшую продолговатую коробку и подал ее Давыдову.
Тот взял в руки коробку и увидел на крышке тисненный золотом номер. Кажется, 2675-й. Внутри затейливой коробки было два гнезда. В одном лежали открытые плоские часы с цепочкой и ключиком, а в другом – запасное стекло и циферблат.
Посмотрев на мастерски сработанную цепочку, Давыдов смекнул, что перед ним старинный брегет. Он вынул часы из гнезда и слегка повернул их. Тут-то и произошло чудо! Да, да истинное чудо, которое, увы, столь редко выпадает на долю страстного коллекционера. На задней крышке часов красовался эмалевый герб рода Давыдовых! С великим трудом преодолев волнение, Давыдов как можно спокойнее поинтересовался у антиквара:
– Чей это герб?
– На часах – герб старинного дворянского рода Давыдовых.
– Не знаете ли вы, случайно, кому прежде принадлежали эти часы?
– Как не знать! Знаю. Принадлежал этот брегет знаменитому поэту-партизану Денису Давыдову. Герою войны 1812 года.
– А где вы заполучили, если не секрет, эту забавную вещицу?
– О! Это было два года тому назад. Я купил ее при распродаже Меньшиковского архива. В архиве имелось еще двенадцать писем Дениса Давыдова. Если мне не изменяет память, то их приобрел кто-то из свиты государя.
– Помните строки великого Пушкина?
– Какие?
– «Пока недремлющий брегет не позвонит ему обед...»
– Как же! Как же!
– Так сколько же стоит ваша вещица?
– Я прошу за часы тысячу рублей. Правда, известный коллекционер, богач, дает мне за них девятьсот рублей. Но я не согласен. Вы же прекрасно знаете, что богачи по большей части ужасные скряги.
– Да-да, – рассеянно кивнул в ответ Давыдов. – К счастью, при мне весь мой наличный капитал.
Дрожащими пальцами он отсчитал деньги и приобрел бесценную для себя вещь...
Будучи на седьмом небе от счастья, юноша поспешил взяться за ручку выходной двери, как антиквар внезапно спросил его:
– Позвольте полюбопытствовать и узнать вашу фамилию, сударь?
– Давыдов! – громко прозвучало в ответ, и дверь антикварного магазина захлопнулась.
Вернувшись домой, страстный коллекционер завел ключом часы и долго, затаив дыхание, с наслаждением слушал их чарующий мелодичный бой.
Спустя некоторое время после столь драгоценного приобретения Давыдов собрался ехать в Париж. Он решил взять с собой часы с намерением показать их фирме «Брегет». От знатоков он прослышал, что эта фирма хранит старые архивы.
Владелец фирмы первым делом пытливо взглянул на номер, тисненный на коробке, и велел подать ему книгу учета за 1804 год. Полистав книгу, он нашел нужное место и прочел молодому Давыдову: «Часы под номером 2675 были проданы в 1804 году князю Альдобрандиди, который не доплатил за них и вернул в 1810 году. В 1814 году, во время оккупации Парижа, генерал Денис Давыдов приобрел их. При этом он велел сделать на задней крышке свой герб из серой эмали». Ко всему прочему владелец фирмы добавил:
– Генерал Давыдов заплатил за часы три тысячи франков. Если вы согласны уступить их фирме, то мы дадим вам за них девять тысяч франков. (По тогдашнему курсу это составляло 3375 рублей).
Конечно же, Александр Васильевич Давыдов не продал фирме семейную реликвию. Однако спустя два десятилетия драгоценный брегет, вместе со многими антикварными вещами и ценностями, вместе с порушенной, обезглавленной Россией, унес с собой беспощадный, все сметающий на своем пути, восьмибалльный шторм Октябрьской революции.
Тоска по родине
День тихих грез, день серый и печальный, На небе туч ненастливая мгла, И в воздухе звон переливно-дальний, Московский звон во все колокола. К.К. ПавловаНесмотря на торжество победы и пышные приемы в столице Франции, Давыдов не раз печалился и горько тосковал по Москве, по древнему Кремлю с его башнями, по золотым куполам церквей, по перехватывающим дух, ранящим душу малиновым звонам колоколов, по родным и друзьям.
Когда надвигался вечер и сумерки над Парижем переходили в темень, а на улицах часто шумел нудный моросень, боевой генерал, закрывая ладонью глаза, видел перед собой бескрайние снежные поля России, слышал на просторах Бородина заливистый, басовитый голос поджарого гончака Соловья, взявшего след матерого волка. Его чаровал и манил блеск февральских звезд над крышей родимого дома, словно огонь неугасимой лампады, его несказанно радовали скрипы снега под копытами лихих коней, звоны бубенцов «Дар Валдая». В пылкой душе пламенного гусара поднималось волнующее, горестное и медвяно-сладкое, непередаваемое словами чувство, которое испытывают на белом свете лишь горячо влюбленные, томящиеся в долгой разлуке да истинные поэты на чужбине.
Бродя однажды по тихой окраинной улице Парижа, Давыдов вспомнил о матушке... Пред его глазами предстала неожиданная, курьезная и трогательная последняя встреча с ней на прусской земле...
Давайте вновь, вслед за прославленным генералом, перенесемся в грозный и мятежный 1807 год, когда русские войска в союзе с немцами вынуждены были отступать, избегая крупных сражений с французами.
– Здравствуй, сынок! – внезапно и взволнованно воскликнула Елена Евдокимовна.
Сын и мать крепко обнялись и троекратно расцеловались.
– Ба-а! Вот так встреча! Какими судьбами? – не успев прийти в себя, спросил Денис.
– Еду на воды... в Карлсбад.
– Ничего не скажешь... Жаркое времечко выбрала...
– Болезнь, как напасть, не спрашивает ни о времени, ни о войне, – пожала плечами мать. – Кучер мой Николя, ты его знаешь, страх какой любопытный. С одним солдатиком тут в дороге разговорился. А тот по простоте душевной возьми да и поведай ему, что войско князя Петра Ивановича Багратиона рядом стоит. Разговорчивый такой солдатик...
– Кучера за находчивость хвалю, а вот солдатика того, наказать надобно бы за болтливость. Каков он из себя?
– Бойкий такой. Небольшого росточка...
– Небольшого росточка? – призадумался Давыдов. – Право не знаю...
– Да, чуть было не запамятовала, – спохватилась Елена Евдокимовна. – А я ведь тебе, сынок, лука нашего из Бородина прихватила. Бог знает, думаю, а вдруг выпадет счастье да и повстречаю в дороге адъютанта князя Багратиона... Авось сгодится...
– Ну и ну! Вот так встреча... Нежданно-негаданно! Вот так сюрприз! Спасибо, маман!
– Помнишь Суворова? Его наказ... В прежние времена воины брали с собой в походы не медовые пряники, а горький лук. Так я тебе того и другого маленечко припасла.
С этими словами Елена Евдокимовна передала сыну небольшой сверток.
– Еще раз спасибо, маман!
Денис не выдержал, развернул бумагу и, вынув из пакета пряник, с аппетитом надкусил его.
Внезапно из-за спины гусара появился князь Багратион и увидел своего адъютанта жующим.
– Здравия желаю! – приветливо поздоровался князь. – Хлеб да соль!
Давыдов замер от неожиданности, отдал честь князю, но рапорта произнести не смог: мешал пряник. Багратион понимающе улыбнулся.
– Здравствуйте, Петр Иванович! Наверное, не узнаете меня? – сказала Елена Евдокимовна.
– Как не узнать? Матушка моего славного адъютанта...
– Совершенно справедливо...
– Ваше сиятельство, – справившись с пряником, четко отрапортовал Давыдов. – Третий пехотный полк сменил позицию...
– Уже слышал про третий пехотный...
– Петр Иванович, простите ради Христа за вторжение, – сказала Елена Евдокимовна. – Здоровье пошатнулось, доктора на воды съездить предписали... В пути случайно встретила старшего сына.
– Хорош у меня адъютант, Елена Евдокимовна. Грех жаловаться, – похвалил Дениса Багратион. – Сметлив и храбр. Дерется чертом! А как там в древней столице мой боевой друг, Василий Денисович, поживает? Наверное, тоже воюет?
– Как же ему не воевать – воюет! Он ведь теперь в отставке. Живет под Москвой, в Бородине. Воюет с волками да лисами... Коней по-прежнему горячо любит!
– Как в отставке?
– Так ведь годы, Петр Иванович. До чина бригадира дослужился, слава Богу. А старость не красит, сами ведаете...
– Что верно, то верно, Елена Евдокимовна. Защита Отечества – ох и трудна! Не так ли, мой адъютант?
– Истинная правда, ваше сиятельство!
В этот момент за их спинами раздался шум. Поручик Пухов силком и с угрозами толкал вперед молодого кряжистого парня. Парень изо всех сил упирался и не без успеха отбивался от него кулаками.
– Разрешите доложить, ваше сиятельство! – обратился к князю поручик.
– Что случилось?
– В распоряжении пятого гусарского полка задержан лазутчик! Он перед вами...
– Побойся Бога, поручик! – всплеснула руками Елена Евдокимовна. – Да какой же это, с позволения сказать, лазутчик? Это же мой кучер Николя!
Поручик, не моргнув глазом и не обращая внимания на ее слова, продолжал:
– Смею доложить, ваше сиятельство, замечен в деле. Пойман на месте, как лазутчик.
– Кто таков? Отвечай!
– Так кучера мы... господ Давыдовых. Истинная правда.
При последних словах Николай перекрестился.
– Что за фантазия, поручик?! Выходит, это ваш кучер, Елена Евдокимовна?
– Мой же – Николя! Как есть Николя!
– Около кухни все отирался, ваше сиятельство. Выглядывал да выпытывал... – вставил поручик.
– Ну, так что с того, что у кухни? – рассудил Багратион.
– Может, он проголодался? А ведь нынче я слышал у нас кулеш отменный... С бараниной...
– Кулеш?! – возмутился Пухов. – Вовсе не кулеш его интересовал...
– Ну-ка, сказывай начистоту, братец, что ты позабыл на кухне? – строго спросил кучера Багратион.
– Дык ничего. Запах уж больно вкусный. Скусно кормят пятый гусарский полк...
– Значит, все же узнал, что гусары...
– А кто ж еще?
– Каким образом?
– По форме, не то как же! – не сплоховал кучер. – Кивера у них походят на хохолки индюков.
– Хохолки индюков! Но почему полк? – с лукавством допытывался князь. – Кто тебе сказывал, что тут стоит полк? А не рота, к примеру, или не батальон?
– Проявил интерес. Я первым делом спросил у повара, «Сколько у вас солдат?» А он ответил: «Столько, сколько ложек в хозяйстве...» А я подсчитал, прикинул и мигом усек – полк!
– Почему же – пятый?
– Так я на знамя глянул. Читать-то я выучился. Елена Евдокимовна, благодетельница...
– Да уж как видите, Петр Иванович, выучила на свою голову. Ох, Николя-Николя! Что у тебя за такой острый да любопытный глаз?
– От вашего сынка, Дениса Васильевича, идет... Ведь мы с ним с детства, ребятишками, военные игры любили...
– Подтверждаю, было дело. И Николай не раз у меня выигрывал. Память у него отменная! Прикажите хоть сейчас ему зажмурить глаза, и он тотчас же перечтет все, что видел в штабе.
– Неужто? – удивился Багратион.
– Точно так, ваше сиятельство! – подтвердил Давыдов. – Николя, закрой-ка глаза. Нет, для верности я их тебе завяжу. Тут гусар подошел к матери, снял с ее головы платок и завязал глаза кучеру. – Итак, Николай перечтет сейчас все предметы. Причем укажет цвет и размер каждого...
– Стол дубовый, со щербинкой в правом углу, – начал перечислять кучер. – Карта большая с красными линиями – на столе. Четыре ореховых стула, причем один стул продавлен, нетверд на ногу и скрипит. Икона Богоматери в углу, в серебряном окладе.
– Неужто ты все это запомнил? – вскинул густые брови Багратион.
– Не то как же!
– Видите, ваше сиятельство? Ну как в нем не признать лазутчика? – вновь оживился поручик Пухов. – К тому же он намеревался наших гусар отравить...
– Отравить?! – поразился Багратион. – Каким образом?
– В руках у него была трава ядовитая... болиголов!
– Это правда? – спросил князь.
– Собрал маленько, – отвечал кучер.
– И что же ты намеревался делать с этой травой?
– Бросить в котел. Истинно так, ваше сиятельство. Все это было написано на его поганой роже в тот момент, когда я задержал его у котла...
– Скажи по чести, Николай, была у тебя такая гадкая задумка? – с укором спросил Багратион.
– Да что же я дурее тележного колеса – своих травить? Вот ежели это был котел неприятеля – тогда другое дело.
– Для какой же цели тогда рвал болиголов?
– Елене Евдокимовне хотел угодить.
– Маман, интересно: кому же твой верный кучер хотел подсыпать ядовитой травки? Тебе или пятому гусарскому полку?
Багратион и Давыдов, давясь от смеха, поглядели друг на друга.
– Да неужто мы станем своих травить? – не сплоховал Николай. – Неужто мы не знаем, что вы князь – Петр Иванович Багратион!? Вот ежели б рядом французский генерал – другое дело. А травка Елене Евдокимовне от меня в подарок. Болиголов с древних пор люди пользовали для красоты, для утоления болей и для успокоения. Лицо от него становится много белее и красивее... Я и раньше эту траву своей барыне из лесу приносил. Для излечения болезней разных...
– Что вы на это скажете, Елена Евдокимовна?
– Истинная правда, Петр Иванович.
– Ну вот, Пухов, все и прояснилось лучшим образом. А ты про кучера подумал – лазутчик. А теперь Николай, сказывай, по чести, где ты про болиголов-то узнал?
– Из календаря Елены Евдокимовны вычитал.
– Так-то вот, поручик! – дружелюбно пожурил Пухова князь. – Надобно чаще в календари заглядывать! А ты, Николай, мне по душе. Не лыком шит! Я бы тебя в разведку послал.
Внезапно поблизости запела труба... Гусар приглашали к обеду...
* * *
В мае Давыдов получил наконец долгожданный отпуск. Не раздумывая и не мешкая, он заложил лошадей и в канун Святой Троицы поскакал в первопрестольную столицу. «Что такое Отечество? – задумался уставший, опаленный войнами генерал и тут же сам себе отвечал: – Прежде всего это та священная земля, где ты появился на свет, та колыбель, которую неустанно качала по ночам твоя мать, тот дом, в котором ты рос, мужал и воспитывался. Это и неповторимый родной воздух, которым ты привык дышать с младых ногтей полной грудью, то заветное кладбище и те могилы, где покоятся твои предки и куда в свой срок тебя понесут в последний путь сыны и друзья... Лишь легковерная, предательская душа посмеет запамятовать все это! Какой варвар не пожалеет матери своей? Но Отечество разве не дороже нам, чем родная мать?!»
У русского человека дальний путь или дорога испокон веков вызывают тревожные, радостные и особо памятные чувства... А сколько всего довелось ему передумать в пути, подивиться увиденному, а порой заново пережить, перечувствовать...
Когда Денис Давыдов прочел стихотворение Пушкина «Дорожные хлопоты», то невольно подумал, что эти провидческие строки великий поэт написал и про него, своего старшего друга, и про его полную лишений, бродячую, неугомонную жизнь гусара и про его мечты и думы о счастливом семейном уюте:
Долго ль мне гулять на свете То в коляске, то верхом, То в кибитке, то в карете, То в телеге, то пешком? То ли дело рюмка рома, Ночью сон, поутру чай, То ли дело, братцы, дома!.. Ну, пошел же, погоняй!..Необъятные, теряющиеся за горизонтом, бескрайние, ковыльные степи и старые замшелые леса, светлые говорливые дубравы и бурные потоки, низвергающиеся с гор, утопающие в белопенной зелени цветущие сады и многолюдье городов с дивной музыкой колоколов, уютные гостиницы, постоялые дворы, трактиры...
Внезапно потянуло сладким дымком, пробудили аппетит запахи щей и свежевыпеченного хлеба.
Изрядно проголодавшийся Давыдов немедля остановил коней и поспешил войти в теплый придорожный трактир. Вкусив столь любимых им суточных щей с убоинкой, гречневой каши с бараниной и опрокинув с устатка рюмку рябиновой водки, он расположился в кресле для отдохновения и с большим интересом прочитал в журнале статью Геракова «Твердость духа русских». Многие суждения автора оказались созвучны его мыслям и чувствам. Боевой генерал вдохновился... и записал в тетради:
Гераков! Прочитал твое я сочиненье, Оно утешило мое уединенье, Я несколько часов им душу восхищал, Приятно видеть в нем, что сердцу благородно, Что пылкий дух любви к Отечеству внушал, – Ты чтишь Отечество, и русскому то сродно: Он его славу, честь, бессмертие достал...Москва встретила пламенного гусара с распростертыми объятиями... Приемы, театры, друзья... Столь редкие за многие годы тяжелых походов и невосполнимых потерь шумные, хмельные городские увеселения...
В апреле 1819 года Денис Давыдов женился в Москве на Софье Николаевне Чириковой. С этой обаятельной, кроткой и добродушной девушкой из дворянской семьи его познакомила сестра Сашенька в доме Бегичевых. По этому весьма важному поводу, должному круто изменить всю его прежнюю ухарскую и кочевую жизнь, Давыдов написал шутливое и озорное стихотворение, назвав его: «Решительный вечер».
Сегодня вечером увижусь я с тобою, Сегодня вечером, решится жребий мой. Сегодня получу желаемое мною – Иль абшид на покой! А завтра – черт возьми! – как зюзя натянуся, На тройке ухарской стрелою пролечу, Проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся, И пьяный в Петербург на пьянство поскачу!В приданое молодым было отдано село Верхняя Маза и винокуренный завод под Бузулуком в Оренбургской губернии.
Денис Васильевич сообщал Вяземскому: «...Так долго не писал, потому что долго женихался, потом свадьба, потом вояж в Кременчуг и в Екатеринослав на смотры. Но едва приехал домой, как бросился писать друзьям, из которых ты во главе колонны. Что тебе сказать про себя? Я счастлив! Люблю жену всякий день все более, продолжаю служить и буду служить век, несмотря на привязанность к жене милой и доброй, зарыт в бумагах и книгах, пишу, но стихи оставил! Нет поэзии в безмятежной и блаженной жизни».
В свою очередь Петр Вяземский метко живописал портрет пламенного гусара той поры: «Денис, и в зрелости лет, и когда уже вступил в семейную жизнь, сохранил до кончины изумительную молодость сердца и нрава. Веселость его была прилипчива и увлекательна. Он был душою и пламенем дружеских бесед: мастер был говорить и рассказывать. Особенно дивился я той неиссякаемой струе живости и веселости, когда он приезжал в Петербург и мы виделись с ним уже по миновании года, а когда и более. Мы все в Петербурге более или менее старообразны и однообразны. Он всем духом и складом ума был моложав».
Часть ПЯТАЯ
Верхняя Маза. Златая лира стойкого бойца. Дружба с поэтами: Пушкиным, Грибоедовым, Жуковским...
Нынче ты на доне мира: И любовь и тишину Нам поет златая лира, Гордо певшая войну. Николай ЯзыковДенис Давыдов... примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как вообще литератор, и как воин – не только по примерной храбрости и какому-то рыцарскому одушевлению, но и по таланту военачальника, и, наконец, он примечателен как человек, как характер. Он во всем этом знаменит, ибо во всем возвышается над уровнем посредственности и обыкновенности.
В.Г. БелинскийМятежный и тяжелый для России 1831 год, близкий по духу с 1812-м, вновь позвал лихого гусара на поле брани. «И какое русское сердце, чистое от заразы общемирного гражданства, – восклицает Давыдов, – не забилось сильнее при первом известии о восстании Польши?»
На брегах Вислы он возглавляет отряд, состоящий из трех казачьих полков и одного Финляндского драгунского. Искусными маневрами и внезапными контратаками генерал Давыдов разбивает ополчение польских мятежников. Смелыми и решительными действиями с тыла и флангов русские войска одерживают победу.
После успешного окончания Польской кампании Давыдов в чине генерал-лейтенанта окончательно вышел в отставку. Возвратившись на родину, в Москву, к мирной и безмятежной жизни, он поселился в доме на Смоленском бульваре.
По сему поводу он извещал своего друга Арсения Андреевича Закревского: «Как я счастлив, что дома, и как я счастлив, что всех моих нашел здоровыми! К постоянному блаженству привыкаешь – надо иногда отрываться от оного, чтобы чувствовать всю цену семейной жизни... Что тебе сказать про Москву? У нас балы следуют за балами, театры, концерты и все шумные удовольствия не прерываются. Я гляжу на них издали, ибо домашний мой спектакль, жена и дети, отвлекают меня от публичных спектаклей».
Когда Давыдов оставил военную службу, он решил расстаться со своей «боевой гусарской вывеской» – усами. В.А. Жуковский попросил у него на память левый ус, поскольку он ближе к сердцу. Охотно выполнив просьбу известного поэта, с коим его связывала дружба с юношеских лет, Денис Васильевич не преминул приложить к усу и свой весьма солидный «послужной список»:
«Войны:
1. В Пруссии, 1806 и 1807 гг.
2. В Финляндии, 1808 г.
3. В Турции, 1809 и 1810 гг.
4. Отечественная война, 1812 г.
5. В Германии, 1813 г.
6. Во Франции, 1814 г.
7. В Персии, 1826 г.
8. В Польше, 1831 г.».
С имением жены Верхняя Маза Сызранского уезда Симбирской губернии, «благословенным местом» в поволжских степных привольных краях, связаны последние восемь лет жизни Давыдова. Осенью и зимой Денис Васильевич выезжал в Москву, Петербург, Сызрань, Саратов, Пензу, где у него образовался большой круг друзей и знакомых.
В тихом и благодатном деревенском уединении прославленный партизан, «мешая дело с забавою», вдохновенно трудился на ниве литературы, воспитывал детей и охотился. Здесь он собрал солидную по тем летам библиотеку и страстно мечтал об издании собственного журнала с привлечением цвета русской словесности: Жуковского, Пушкина, Вяземского, Баратынского, Языкова... Тут он приводит в порядок свои военные записи, которые велись прежде от случая к случаю, «в седле да в куренях солдатских», заканчивает «Дневник партизанских действий 1812 года». Из-под его пера выходят статьи «О партизанской войне», «Воспоминания о цесаревиче Константине Павловиче», создаются военно-исторические очерки, где неизменно подчеркивается, что «нравственная сила народа в Отечественную войну вознеслась до героизма».
В Верхней Мазе пишутся едкие сатирические эпиграммы на чванливых великосветских вельмож и помещиков:
«О ты, убивший жизнь в учебном кабинете, Скажи мне: сколько чуд считается на свете?» – «Семь». – «Нет: осьмое – ты, педант мой дорогой, Девятое – твой нос, нос сизо-красноватый, Что, так спесиво приподнятый, Стоит, украшенный табачного ноздрей!»Злой эпиграммой Давыдов бичует пензенского помещика-самодура И.В. Сабурова, увлеченного разведением тонкорунных баранов-мериносов:
Меринос собакой стал, – Он нахальствует не к роже, Он сейчас народ прохожий Затолкал и забодал. Сторож, что ж ты оплошал? Подойди к барану прямо, Подцепи его на крюк И прижги ему курдюк Раскаленной эпиграммой!Появилась эта эпиграмма в связи с выходом пасквильной книжонки Сабурова «Четыре роберта жизни. Олицетворенная дума Мурзы Чета». В ней Сабуров изрядно поерничал, позлословил и «пощипал пензенских жителей обоего пола».
В дружеском послании Вяземскому Давыдов признается:
«Теперь я пустился в записи свои военные, пишу, пишу и пишу. Не дозволяют драться, я принялся описывать, как дрались».
«...Кочевье на соломе, под крышей неба, вседневная встреча со смертью, неугомонная жизнь партизанская! – восклицает отставной генерал, – вспоминаю вас и теперь с любовью, когда в кругу семьи своей пользуюсь полным спокойствием, наслаждаюсь всеми удовольствиями жизни и весьма счастлив... Но отчего по временам я тоскую о той эпохе, когда голова кипела отважными замыслами и грудь, полная надежды, трепетала честолюбием изящным и поэтическим...»
В деревне Давыдов вел деятельную жизнь помещика, скрашивая свой досуг охотой.
«Я здесь, как сыр в масле... – сообщал Денис Васильевич графу Ф.И. Толстому в Москву, живо описывая свое бытье. – Посуди: жена и полдюжины детей, соседи весьма отдаленные, занятия литературные, охота псовая и ястребиная, – другого завтрака нет, другого жаркова нет, как дупеля, облитые жиром... Потом свежие осетры и стерляди, потом ужасные величиной и жиром перепелки, коих сам травлю ястребами по двадцати в один час на каждого ястреба».
7 ноября 1833 года Давыдов писал А.М. и Н.М. Языковым: «...Причина замедления ответа моего есть рысканье мое по мхам и по болотам за всякого рода зверями. Сейчас только с коня и сейчас принялся за перо, чтобы писать к Вам победной рукою, поразившей огромного волка».
В Верхней Мазе «хлебопашец и любитель словесности» большую часть времени проводил в кабинете или в поле:
Где не стыжусь порою Поднять смиренный плуг солдатскою рукой, Иль, поселян в кругу, в день летний, золотой Взмахнуть среди лугов железною косой...Стараясь развеять свое затворничество в сельской глуши, прославленный партизан встречается и ведет переписку с московскими и петербургскими писателями: Жуковским, Пушкиным, Баратынским, Вяземским, Дельвигом, Языковым, графом Федором Толстым... следит за их творчеством, выписывает журналы...
«Если бы вы знали, – сетовал он однажды издателю своего первого поэтического сборника Силаеву, – что такое день прихода почты или привоза газет и журналов в деревню степную и удаленную от всего мыслящего, то вы бы поняли мое положение... Нестерпимо сидеть в пропасти, слышать над собою движение и жизнь и не брать в них участие. Это мой удел с тех пор, как не имею газет и журналов».
Вести от друзей и встречи с ними всегда были для Дениса Васильевича отрадой и источником вдохновения. «Я не могу забыть приятного вечера и утра, проведенного у тебя, и вообще краткого, но приятного пребывания моего в Петербурге, – писал он Жуковскому. – Я как будто снова отскочил в прошедшее, встретившись с тобой и Вяземским, товарищами лучших дней моей жизни. Бог приведет, скоро опять увижусь с вами, и не на короткий уже срок...»
Вскоре после Бородинского сражения Жуковский написал патриотическую песнь «Певец во стране русских воинов». Эта поэма прославила имя Жуковского по всей России. Двадцатилетний прапорщик Московского ополчения Иван Лажечников записал в своих «Походных записках» 20 декабря 1812 г.: «Часто в обществе военном читаем и разбираем «Певца во стане русских», новое произведение г. Жуковского. Почти все наши выучили уже сию поэму наизусть. Какая поэзия! Какой неизъяснимый дар увлекать с собой душу воинов!.. Довольно сказать, что «Певец во стане русских» сделал эпоху в русской словесности и – в сердцах воинов!» Поэма увековечила доблестных героев Отечества, полководцев, воздавала дань храбрости русскому солдату и русскому оружию.
Знаменитый поэт не обошел вниманием в своей оде и славные деяния партизан. Особо помянул и своего преданного друга, вожака партизан Дениса Давыдова.
Давыдов, пламенный боец, Он вихрем в бой кровавый, Он в мире счастливый певец Вина, любви и славы...Искрометный дружеский мадригал послал Давыдов Жуковскому из покоренного Парижа:
Жуковский, милый друг! Долг красен платежом: Я прочитал стихи, тобой мне посвященны, Теперь прочти мои, биваком окуренны И спрысканы вином! Давно я не болтал ни с музой, ни с тобою, До стоп ли было мне?.. Но и в грозах войны, еще на поле бранном, Когда погас российский стан, Тебя приветствовал с огромнейшим стаканом Кочующий в степях нахальный партизан!Василию Андреевичу Жуковскому Давыдов отважился послать свою элегию «Бородинское поле», напутствуя ее такими словами: «...Давно развела нас судьба, но судьба не властна сгладить с души моей прошедшего, следственно, и тебя, любезного друга. Бурная жизнь моя не давала мне времени переметывать весточки о себе друзьям моим, в пристанях живущим. Теперь, сойдя сам в пристань с разбитого баркаса моего странствования разгульного и безуспешного, – я напоминаю тебе о Денисе Давыдове и посылаю несколько стихов, вырвавшихся из-под пера моего в оставшиеся минуты забот семейных... Взгляни на сии стихи, исправь их, как ты делал в старину... тем ты докажешь солдату-хлебопашцу, что время тебя не изменило и что ты тот же друг, как и был, преданного тебе Дениса Давыдова».
Ознакомившись с элегией, Жуковский отвечал Денису Васильевичу: «Ты шутишь, требуя, чтобы я исправил стихи, это все равно что если б ты стал просить поправить в картине улыбку младенца, луч дня на волнах ручья... нет, голубчик, ты меня не проведешь».
Высокий отзыв знаменитого поэта обрадовал Давыдова, однако пламенный гусар пожурил старого друга за то, что тот не решился «заменить слитками золота некоторые пятна грязи, обезображивающие элегию...» и в конце письма заключил: «...Ты архипастырь наш, что определишь, то и будет».
У своего ближайшего приятеля Бегичева на Мясницкой Давыдов познакомился и сдружился с автором бессмертной комедии «Горе от ума» Грибоедовым. Несколько позднее Грибоедов писал Бегичеву из Петербурга: «Дениса Васильевича обнимай и души от моего имени. Нет, здесь нет этакой бурной и умной головы, я это всем твержу, все они, сонливые меланхолики, не стоят выкурки из его трубки!»
Давыдов, встречавшийся с Грибоедовым в Москве и на Кавказе, высоко ценил его талант и с присущим пламенному гусару юмором писал А.П. Ермолову: «...Сейчас я от вашего Грибоедова, с которым познакомился по приезде его сюда, и каждый день с ним вижусь. Мало людей мне более по сердцу, как этот уникум ума, чувства, познаний и дарования! Завтра я еду в деревню и если о ком сожалею, так это о нем, истинно могу сказать, что еще не довольно насладился его беседою!»
В заметках и анекдотах о разных лицах Давыдов упомянул о том, что Грибоедов долгое время служил при генерале А.П. Ермолове. Причем Ермолов любил его, как родного сына.
Почитая талант автора знаменитой комедии, но находя в нем недостаточные способности и рвение для несения военной службы, генерал много раз давал ему продолжительные отпуска для «творческих утех».
После знаменательного события 14 декабря Ермолов получил «высочайшее повеление арестовать Грибоедова». Генерал должен был захватить все его бумаги и срочно доставить их с курьером в Петербург.
Грозное повеление настигло Ермолова в пути следования его с отрядом. Во что бы то ни стало желая выручить Грибоедова из беды, генерал тотчас же предупредил его и тем самым предоставил ему возможность уничтожить многое, что могло бы повергнуть его к немилости властей.
Уведомленный обо всем случившемся адъютантом Ермолова Талызиным, Грибоедов немедля сжег «все бумаги подозрительного содержания».
А спустя несколько часов после предупреждения на квартиру Грибоедова нагрянул подполковник Мищенко, дабы произвести обыск и арестовать его.
При обыске подполковник обнаружил лишь груду золы. Зола свидетельствовала о том, что Грибоедов быстро принял все необходимые для своего спасения меры. Арестованный 22 января 1828 года в крепости Грозной и доставленный в Петербург, он смог оправдаться на следственной комиссии и был освобожден с «очистительным» аттестатом. Он вернулся на Кавказ, где в это время началась война с Персией.
Знакомство Дениса Давыдова с Пушкиным в Петербурге в 1818 году переросло в крепкую дружбу. Дружба эта продолжалась многие лета вплоть до кончины гениального поэта.
Еще учась в Лицее, Пушкин увлекся поэзией «Дениса-храбреца» и славил его гусарские подвиги. Впоследствии великий поэт признался, что в молодости он «старался подражать Давыдову в кручении стиха и усвоил его манеру навсегда».
Бывший поручик Чугуевского уланского полка М.В. Юзефович, повстречав Пушкина на Кавказе в 1829 году, спросил у него: «Как вам, Александр Сергеевич, удалось не поддаться тогдашнему обаянию Жуковского и Батюшкова и не попасть, даже на лицейской скамье, в их подражатели?» На что Пушкин без колебаний ответил: «Я этим обязан Денису Давыдову. Он дал мне почувствовать еще в Лицее возможность быть оригинальным».
Услышав о столь лестном отзыве о своем творчестве, исходящем из уст первого поэта на Руси, Давыдов с гордостью писал об этом Вяземскому: «Он (Пушкин), может быть, о том забыл, а я помню, и весьма помню!.. Ты знаешь, что я не цеховой стихотворец и не весьма ценю успехи мои, но при всем том слова эти отозвались во мне и по сие время меня радуют...»
В конце двадцатых – начале тридцатых годов Давыдов часто видится с Пушкиным в златоглавой столице. Они гостят у поэта Вяземского в его имении Остафьево под Москвой. Встречаются и в доме самого Дениса Васильевича на Большом Знаменском переулке, и на квартире у Вяземского, у Федора Толстого, у Нащокина, у Баратынского... Посещают Английский клуб. Давыдов навещает Пушкина в гостинице «Англия» в Глинищевском переулке, где не раз останавливался поэт, приезжая из Петербурга. «В бытность Пушкина у Нащокина в Москве, – вспоминает П.И. Бартенев те добрые времена, – к ним приезжал Денис Васильевич Давыдов. С живейшим любопытством, бывало, спрашивал он у Пушкина: «Ну что, Александр Сергеевич, нет ли чего новенького?» – «Есть, есть», – приветливо говаривал на это Пушкин и приносил тетрадку или читал ему что-нибудь наизусть. Но все это без всякой натяжки, с добродушною простотою».
Накануне свадьбы 17 февраля 1831 года Пушкин устроил «мальчишник» на арбатской квартире в доме Хитрово. На прощание с холостяцкой вольницей он пригласил близких друзей, среди которых помимо «Дениса-храбреца» были Нащокин, Вяземский, Баратынский, Языков, Иван Киреевский, брат Левушка и другие...
4 апреля 1835 года Давыдов писал Пушкину: «Помилуй, что у тебя за дьявольская память, я когда-то на лету поведал тебе разговор мой с М.А. Нарышкиной. «Vous preterez les suivantes»[9] – сказала она мне: «Parse guelles sont plus fraiches»[10] – был ответ мой, ты почти слово в слово поставил это эпиграфом в одном из отделений «Пиковой Дамы»[11]. Вообрази мое удивление и еще более восхищение жить так долго в памяти Пушкина, некогда любезнейшего собутыльника и всегда единственного родного моей душе поэта».
Давыдов и Пушкин любили песни цыган, ходили в «Грузины»[12] слушать знаменитый московский хор, во главе которого в те времена стоял немолодой уже Илья Соколов. У ворот ресторана всю ночь напролет бой неусыпных рассыпных бубенцов, скачут брички, кареты да тройки... Веселятся, шумят дворяне, купцы, офицеры... Всю-то ноченьку здесь – кутеж, хлопки пробок шампанского, бьются об пол, звеня, хрустальные бокалы, надрывно стонут гитары... Душой хора была цыганка Танюша, чаровавшая своими пылкими, сладкозвучными песнями и плясками весь цвет первопрестольной столицы, в особенности поэтов. Не потому ли «цыганские мотивы» так живо и картинно запечатлелись в их стихах!
Денис Васильевич прикрыл глаза и вновь представил себе на миг слаженный хор цыган. В центре его возвышался широкоплечий бородач Илья в белой рубахе навыпуск, перепоясанный ремнем с медной пряжкой, с гитарой и смоляными горящими очами. У Ильи присыпанные снегом кудри, смуглое лицо с невысоким лбом изрезано глубокими морщинами – следом необузданных страстей да немереных дорог, нос с горбинкой, как у ястреба, с косым шрамом на переносице. Во рту, слева, недостает зубов – то память о жестокой, кровавой драке из-за любимой Даши с заезжим красавцем, бравым усачом-кавалергардом.
Плавно, распашно, с азартом плясала и пела под аккомпанемент рыдающих скрипок, рассыпчатых гармоний и звенящих гитар Танюша. Красоты она была необычайной: матовая кожа, алые губы, тонкие брови то и дело взлетали вверх-вниз, большие черные с блеском глаза в обрамлении длинных ресниц. А в чарующих тех глазах полыхали то смех, то слезы, то горячая любовь... Порою Танюша махала платочком в воздухе, и все ее гибкое, статное тело начинало в такт песне и танцу вихриться, трепетать, содрогаться каждою жилкой.
Да и пела она так, что и не пересказать словами! В особенности свою любимую песню:
Ах, да не вечерняя, да заря, Ах, да заря, ах, за-а-ря, За-а-ря ведь как спо-о-ту-ха-ла-а-а, За-а-ря ведь как спо-ту-ха-ла-а-а.Хор неторопливо, потаенно, с рыданиями подхватывал, припеваючи:
Ах, да нэ, нэ, спо-ту-ха-а-ла Спо-ту-ха-ла-а-а...Степенные басы, стоящие позади хора, гудели, ребятишки заливисто, ямщицки посвистывали и били в ладоши...
Замерли очарованные и хмельные поэты. Стоят, крепко обнявшись возле дверей, затаив дыхание, слушают ямщицкую песню, думы думают, вспоминают о чем-то своем, заветном... У каждого праздник на душе, надежда в сердце. И по щеке опаленного битвами пламенного гусара невольно сползал, алмазом вспыхивала при свечах слеза радости и печали:
Ах, да вы подайте мне, ах, тройку, Тройку, ах, да серо-пегих лошадей...Денис Васильевич высоко почитал талант Пушкина и показывал «первому поэту на Руси» свои стихи в рукописи. Александр Сергеевич щедро давал ему добрые советы и правил отдельные строки. Доблестный партизан с благодарностью принимал замечания и пожелания своего поэтического кумира.
В начале тридцатых годов Пушкин прочел стихотворение Давыдова «Герою битв, биваков, трактиров...», живо припомнил былое: Грузины, хор цыган... – вдохновился и на обороте его рукописи написал такое четверостишие:
Так старый хрыч, цыган Илья, Глядит на удаль плясовую, Под лад плечами шевеля, Да чешет голову седую...Давыдову пришлись по душе пушкинские строки, он переделал их на свой лад и включил в стихотворение:
Киплю, любуясь на тебя, Глядя на прыть твою младую: Так старый хрыч, цыган Илья, Глядит на пляску удалую Под лад плечами шевеля...В широких и раздольных гусарских пиршествах, буйных цыганских плясках и песнях жила удивительная, звонкая, вихревая удаль и поэзия, к печальному сожалению, ныне забытая и потерянная. Эту поэзию вольной цыганской жизни воспели в своих стихах Давыдов и Пушкин. Не в том ли секрет, что не обветшала, не утратила своей свежести и злободневности темпераментная, образная, ранящая душу да-выдовская «Гусарская исповедь»?!
Я каюсь! Я гусар давно, всегда гусар, Я проседью усов, все раб младой привычки: Люблю разгульный шум, умов, речей пожар И громогласные шампанского оттычки. От юности моей враг чопорных утех, Мне душно на пирах без воли и распашки, Давай мне хор цыган! Давай мне спор и смех, И дым столбом от трубочной затяжки!В 1835 году прославленный партизан купил у Бибиковой большой особняк на родной Пречистенке, с любовью величал его «Пречистенский дворец».
Сюда, в «Пречистенский дворец», построенный в начале века, съезжался цвет литературной Москвы: Баратынский, Дмитриев, Языков, А.И. Тургенев и другие видные писатели. Пламенный гусар желал, чтобы в нем хотя бы раз побывал Пушкин по приезде из Петербурга. «Что это за дом наш, мой друг! – с восхищением писал он в одном из писем. – Всякий раз, как еду мимо него, любуюсь им, это Отель или дворец, а не дом...» Здесь написана известная статья «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году», где знаменитый партизан смело и доказательно вступает в спор с Бонапартом, как с вольным и лукавым историком Отечественной войны. Давыдов напрочь отметает его легенду о свирепых русских морозах, послуживших якобы основной причиной поражения великой армии. Сухая и умеренная стужа (четыре – десять градусов), сопровождавшая великую армию от Москвы до первого снега, была ей более полезна, нежели гибельна. Главные причины злополучия, постигшие «незваного гостя», были: во-первых, голод, далее – беспрерывные переходы и кочевья и наконец весьма кратковременная стужа (от 28 октября до 1 ноября на пути отступления между Дорогобужем и Смоленском), сопряженная со снегом. Что же касается до гибели лошадей, то сытыми они легко переносят даже самые жестокие морозы. Лошади падали прежде всего от голода и усталости.
Из-под пера Давыдова здесь вышел автобиографический рассказ «Встреча с великим Суворовым». Впервые он был опубликован в 1835 году в журнале «Библиотека для чтения». Пламенный гусар собирал материалы о знаменитом полководце в надежде опубликовать серьезное сочинение о нем. По сему поводу он уведомил в письме родственника Суворова графа Д.И. Хвостова: «...Я намерен был писать о великом Суворове, но не жизнь его – это мне не под силу, – а этюд или рассуждение о Суворове. Я его долго, то есть с юношества моего, изучал, вникал в намерения его, старался угадывать их и систему его действия, считаемую тогда мнимыми великими тактиками не системою, а каким-то безобразным действием, внушенным своенравными порывами бестолковой отважности, и потому тем еще более Суворову подручною и выгодною. Я, кажется, постиг ее, по крайней мере столько, сколько может постичь человек обыкновенный произведения ума человека необыкновенного. При всем том, к сожалению моему, я должен прекратить священный труд мой от недостатка в материалах... И я, невзирая на рвение мое, должен положить перо и не писать! А грустно! В кои-то веки наделил нас Бог гением самобытным, и мы от преступного равнодушия ко всему собственному лишаем отечественную историю блистательнейшего украшения».
Однако вскоре Давыдов понял, что ему не по карману содержать такой громадный дворец, и решился распрощаться с ним. Об этом событии он сочиняет «Челобитную», где в шутливых тонах бьет челом своему давнему приятелю сенатору А.А. Башилову, весельчаку и хлебосолу, возглавлявшему в ту пору Комиссию строений в Москве:
...Помоги в казну продать За сто тысяч дом богатый, Величавые палаты, Мой пречистенский дворец. Тесен он для партизана: Сотоварищ урагана, Я люблю, казак-боец, Дом без окон, без крылец. Без дверей и стен кирпичных, Дом разгулов безграничных И налетов удалых...Направляя «Челобитную» Пушкину в Петербург, Давыдов сопроводил ее небольшим пояснением: «Посылаю тебе, любезный друг, стихи, сейчас мною написанные. Я об них могу кричать: стихи горячие, как блинники кричат: блины горячие. Это челобитная Башилову... У меня есть каменный, огромный дом в Москве, окно в окно с пожарным депо. В Москве давно ищут купить дом для обер-полицейместера – я предлагаю мой – вот все, о чем идет дело в моей «Челобитной». Ты можешь напечатать ее в «Современнике». Только повремени немного, т.е. до 3-го номера. Главное дело в том, что «Челобитная» достигла своей позитивной, а не поэтической цели, чтобы прежде подействовала на Башилова и понудила бы его купить мой дом...»
Пушкин по достоинству оценил послание Давыдова и поместил «Челобитную» в третьем номере «Современника». 20 января 1836 года, приехав из симбирского имения в Петербург, Денис Давыдов посетил своих старых друзей Вяземского, Пушкина, Жуковского. Он написал об этом жене восторженное письмо: «...Обедал (24 января) у Вяземского по-семейному, а вечером был у Пушкина, жена которого действительно красоты необыкновенной! Пушкин подарил мне экземпляр Истории Пугачевского бунта и при нем стихи, вот они:
Тебе певцу, тебе Герою! Не удалось мне за тобою При громе пушечном, в огне Скакать на бешеном коне. Наездник смирного Пегаса, Носил я старого Парнаса Из моды вышедший мундир: Но и по этой службе трудной, И тут, о мой наездник чудный, Ты мой отец и командир.Растроганный до слез Давыдов, в бессчетный раз перечитывая посвящение Пушкина на титульном листе книги, воскликнул: «Это мой патент на бессмертие».
На следующий день, 25 января, Жуковский посвящает Денису Давыдову свой «субботник» в Шепелевском дворце, где в специально надстроенном четвертом этаже он проводил занятия с наследником престола – будущим императором Александром II, а по субботам собирал у себя цвет литературной столицы. Денис Давыдов сообщал близким об этом достопамятном вечере: «Сегодня я был в Академии художеств и смотрел картину знаменитого Брюллова «Последний день Помпеи». Это чудо! Истонное чудо! После этого я обедал у Меншикова с Вельяминовым, а вечер проводил у Жуковского, у которого собираются каждую субботу его приятели и литераторы. Там я нашел Крылова, Плетнева, Пушкина, Вяземского, Теплякова и множество. Он живет во дворце, и горницы у него прелестные и прекрасно убраны. Этот вечер был моим триумфом».
В письме от 10 августа того же года Давыдов делится с Пушкиным своими горячими впечатлениями о только что прочитанном им втором номере «Современника». Он польщен добрым отзывом Пушкина о неведомо когда сделанном им переводе стихотворения французского поэта и драматурга, академика Антуана Винсента Арно: «Ты по шерсти погладил самолюбие мое, отыскав Бог знает где и прозу и стихи Арно, о которых я и знать не знал. Жалею, что перевод мой недостоин благосклонности и мадригала покойного академика...»
Заметим, что перевод Давыдовым одноименного стихотворения Арно «Листок» пользовался у современников большой популярностью. «Листок» приобрел острую политическую окраску. Ведь образ сорванного бурей листка перекликался с тяжелой, драматичной судьбой самого поэта Арно. В 1816 году он был изгнан Бурбонами из Франции и пострадал как жертва произвола и тирании.
С великой радостью узнав о том, что Давыдов перевел его стихотворение, Арно посвятил ему мадригальное четверостишие. В переводе оно звучит так:
Тебе, певец, тебе, герой, Кто пьет взахлест вино на бреге Ипокрены И кто дубовый лист простой Преображает в лавр священный.Далее в письме Давыдов особо отмечает напечатанные там же записки «кавалерист-девицы», участницы Отечественной войны 1812 года Надежды Дуровой, имевшей псевдоним: Александр Александров. Отмечая отдельные неточности в ее ярких воспоминаниях, он рассказывает Пушкину о том, как ему самому довелось во время кампании повстречать ее: «Мне случилось однажды на привале войти в избу вместе с офицером того полка, в котором служил Александров, именно с Волковым... Там нашли мы молодого уланского офицера, который, только что меня увидел, встал, поклонился, взял кивер и вышел вон. Волков сказал мне: это Александров, который, говорят, женщина. Я бросился на крыльцо – но он уже скакал далеко. Впоследствии я ее видел во фронте, на ведетах, словом, во всей тяжкой того времени службе, но много ею не занимался, не до того было, чтобы различать мужского или женского она роду, эта грамматика была забыта тогда».
А 13 октября того же года Давыдов спешит сообщить Пушкину, что волею судьбы он уже совсем переселился в Москву и живет теперь на Пречистенке, в собственном доме: «...Слышу, что вышел 3 номер «Современника», в котором и Партизаны мои, и Башилов (т.е. «Челобитная». – А. Б.) – пожалуйста, присылай мне скорее этот номер, дай взглянуть на моих детищ, да не забудь прислать и пострадавшую в битве с цензурою (имеется в виду очерк «Занятие Дрездена». – А. Б.), ты давно мне это обещал, мне рукопись эта и потому нужна, что нет у меня черновой, черт знает куда делась». Заключает это письмо трогательная просьба Давыдова: «Поцелуй от меня Вяземского и Жуковского».
С великим трудом Пушкину удавалось вызволять сочинения «Дениса-храбреца» из пут «умогасительной цензуры» как гражданской, так и военной, и печатать их в «Современнике» и «Литературной газете».
О трагической смерти Пушкина после дуэли на Черной речке Давыдов услышал впервые от Баратынского. Весть эта прямо-таки сразила гусара: он почувствовал острые боли в груди, удушье... и слег в постель. Потрясенный до глубины души, Денис Васильевич писал Вяземскому в Петербург 3 февраля 1837 г.: «Милый Вяземский! Смерть Пушкина меня решительно поразила, я по сию пору не могу образумиться... Пожалуйста, не поленись и уведомь обо всем с начала до конца, и как можно скорее.
Какое ужасное происшествие! Какая потеря для всей России!.. Более писать, право, нет духа. Я много терял друзей подобною смертию на полях сражений, но тогда я сам разделял с ними ту же опасность. Тогда я сам ждал такой же смерти, что много облегчает, а это Бог знает какое несчастие! А Булгарины и Сенковские живы и будут жить, потому что пощечины и палочные удары не убивают до смерти».
Вяземский ответил потрясенному другу обстоятельным письмом, где рассказал в подробностях о дуэли Пушкина и тех настроениях, которые царят в Петербурге после кончины великого поэта: «...Смерть его произвела необыкновенное впечатление в городе, то есть не только смерть, но и болезнь и самое происшествие. Весь город, во всех званиях общества, только тем и был занят. Мужики на улицах говорили о нем. Я недавно спросил у своего извозчика, жаль ли ему Пушкина? «Как не жалеть, – ответил он мне, – все жалеют...»
В.А. Жуковский, так же, как и Вяземский, ближайший и преданнейший друг Пушкина, с глубокой скорбью поведал о его последних минутах, свидетелем которых ему довелось быть: «...Когда все ушли, я сел перед ним и долго, один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видел ничего подобного тому, что было в нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась, руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха, после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу, это не было также и выражение поэтическое. Нет! Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось спросить: что видишь, друг? И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну!.. Таков был конец нашего Пушкина». И добавим от себя: таковым явился Александр Сергеевич во врата вечности.
Спустя месяц Давыдов вновь изливает свою горькую душевную скорбь Вяземскому по поводу безвременной утраты: «Я все был не здоров, мой милый Вяземский. Веришь ли, что я по сию пору не могу опомниться, так эта смерть поразила меня. Пройдя сквозь весь пыл наполеоновских и других войн, многим подобного рода смертям я был и виновником и свидетелем, но ни одна не потрясла душу мою, подобно смерти Пушкина».
Горько скорбя вслед за Денисом Давыдовым о столь тяжкой потере «солнца нашей российской поэзии», Гоголь сказал в своем знаменитом Слове о том, что Пушкин есть единственное и чрезвычайное явление русского духа: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным, это право решительно принадлежит ему... это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.
Самая жизнь его – совершенно русская».
А вслед за Гоголем к «единственному и чрезвычайному явлению русского духа», заключенному в имени Пушкина, Достоевский провидчески добавил еще: и пророческое.
Сполна испив горькую чашу войны, Давыдов считал, что, прежде чем писать о грозной сече и жарких баталиях, поэту самому надобно понюхать пороху, окунуться в бурю и шторм, которые бы били и швыряли в пучину его «поэтическую лодку».
Деды, помню вас и я, Испивающих ковшами И сидящих вкруг огня С красно-сизыми носами! Но едва проглянет день, Каждый по полю порхает, Кивер зверски набекрень, Ментик с вихрями играет. Конь кипит под седоком, Сабля свищет, враг валится... Бой умолк, и вечерком Снова ковшик шевелится.Денис Давыдов не случайно подчеркивал, что «не принадлежал ни к какому литературному цеху». И тем не менее всю свою жизнь он был близок именно к «арзамасцам» – пушкинской поэтической плеяде и к пушкинскому окружению.
После Отечественной войны 1812 года в России родилась живая, полнокровная, доступная широкому кругу людей проза Карамзина, а стихи Дмитриева явились событием в русской поэзии. Подлинный переворот, свершенный в литературе и языке прежде всего Карамзиным, встретил яростных противников в лице фанатичных приверженцев старины во главе с небезызвестным адмиралом Шишковым, пользовавшимся большим влиянием в высшем свете. Для обуздания новшеств в литературе Шишков основал общество «Беседы любителей русского слова».
В оппозицию «Беседам» образовался кружок «Арзамас». В нем объединились литераторы, связанные меж собой узами дружбы и вступавшие в борьбу с устаревшими вкусами и традициями в литературе.
Любопытна история, которая положила начало объединению арзамасцев. Молодой поэт Блудов сочинил шутку: «Видение в арзамасском трактире, изданное обществом ученых людей». Местом действия шутки был город Арзамас. Творение Блудова восторженно приняли его приятели. Они решили назвать свой кружок «арзамасской академией» или проще «Арзамасом». Участники кружка наделялись забавными прозвищами, заимствованными из баллад Жуковского (Пушкин – Сверчок, Батюшков – Ахилл, Вяземский – Амодей, Жуковский – Светлана и т.д.). Словом, «Арзамас» являл собой школу взаимного литературного обучения и товарищества, на его заседания приходили люди разных возрастов и дарований, здесь звучали хлесткие пародии, едкие сатиры и эпиграммы на высокомерных «шишковистов».
В 1815 году Денис Давыдов избирается в члены «Арзамаса» с прозвищем «Армянин». Вместе с Пушкиным и Вяземским он представляет в Москве отделение арзамасского кружка. После распада «Бесед» полемика с шишковистами закончилась, и в 1818 году «Арзамас» распался.
Впоследствии Петр Андреевич Вяземский не раз тепло вспоминал «Арзамас»: «Мы уже были арзамасцами между собою, даже когда «Арзамаса» еще и не было».
В подмосковном имении Вяземского Остафьеве, заветном уголке духовности и литературы, «раю сердечных воспоминаний», бывали многие знаменитости тех лет: Пушкин, Баратынский, Языков, Трубецкой, Давыдов, Толстой-Американец, Муханов, Четвертинские... В письме Плетневу Вяземский с гордостью писал: «Пушкин был у меня два раза в деревне, все так же мил и все тот же жених...»
На Дениса Давыдова Остафьево произвело большое впечатление: «На пригорке при подъезде к селу возвышался громадный барский дом в несколько этажей. Его было видно за три версты. По низу, за луговиною, синело зеркало большого пруда. Чуть в стороне от пруда лебедушкой белела церковь, летом и осенью осененная густыми тенистыми липами.
На противоположной стороне от барского дома шелестел листвою необъятный сад, светилась березовая роща, где гулял Карамзин с думами об Истории».
Вяземский показал Денису Давыдову комнату Николая Михайловича Карамзина: «...В этом святилище Русской истории, в этом славном затворе, где двенадцать лет с утра до вечера сидел... знаменитый наш труженик над египетской работою, углубленный в мысли о великом своем предприятии, где он в тишине уединения читал, писал, тосковал, утешался своими открытиями, куда приносились к нему любезные тени – Нестеров, Сергиев, Сильвестров, Авраамиев, где он беседовал с ними, спрашивал о судьбах Отечества, слышал внутренним слухом вещий их голос и передавал откровения златыми устами своими...»
Атмосферу жизни и дружеских встреч в Остафьеве «красноречиво» описал один из гостей Петра Андреевича Вяземского, помещик из Швейцарии: «... Никогда не забуду я очаровательных вечеров колымажного двора... Еще незабвеннее мои два пребывания в Остафьеве, время самое счастливое в моей жизни. Чего бы ни дал я, чтобы еще раз увидеть и пожить в прекрасном дворце... Мне кажется, что я вижу его и вновь обегаю вокруг. Приближаясь, вижу слева церковь, где мы присутствовали на ночной свадьбе... повертываю вправо – и попадаю на площадку, где мы играли в городки... Вижу великолепную колоннаду... Вхожу в вестибюль, спешу в левый зал, где мы слушали чтение таких прекрасных отрывков «Истории» господина Карамзина, где мы собирались по утрам. Иду в столовую и вспоминаю тот очаровательный обед, когда господин Нелединский нас изумлял умом и веселостью... Прохожу в большой и благородный зал, где мы танцевали с графинями Пушкинами... бросаюсь в библиотеку, где находятся все утешения, которые ум может предложить сердцу... Захожу поздороваться в ваш кабинет – прохожу милю, не без того, чтобы не заглядеться на прилежных вышивальщиц, которые мне напоминают работы, воспетые греками и латинянами... тороплюсь спуститься в сад, быстро прохожу прекрасную аллею, которая ведет в небольшой лесок: там нахожу в сборе молодых деревенских девушек – мы принимаем участие в их танцах... Они уходят, а мы продолжаем нашу прогулку... Господин Карамзин, как обычно, идет впереди... Нет, мой милый Вяземский, никогда, никогда я не забуду Остафьева!»
Общество любителей Российской словесности при Московском университете во главе с профессором Прокоповичем-Антоновским единогласно избрало Давыдова своим почетным представителем, о чем сообщило ему в Киев. В то время Давыдов состоял там на службе. В послании говорилось: «...Отдавая должную справедливость талантам и знанию отечественного языка, приятным долгом постановляет препроводить диплом на звание Действительного Члена».
Давыдов тут же горячо поблагодарил «любителей Российской словесности» за честь, коей он удостоен. Столь дорогой сердцу поэта-гусара диплом вручил Давыдову его давний приятель граф Федор Иванович Толстой-Американец, известный своими авантюрными похождениями, дуэлями, шумными безудержными кутежами и карточной игрой...
С Денисом Васильевичем Толстого-Американца связывала дружба и служба еще с юности, их роднила любовь к приключениям, удальство, неистощимое остроумие, а также воспоминания о 1812 годе и Бородине...
А.Ф. Воейков заносит «поэта-храбреца» в свой знаменитый «Парнасский адрес-календарь»[13], охарактеризовав его весьма остроумно и метко: «Д.В. Давыдов – действительно поэт, генерал-адъютант Аполлона при переписке Вакха с Венерою». Писал Давыдов немного, еще менее печатал, он их тех поэтов, которые обходились более рукописною и карманною славою. Стихи пламенного гусара, по словам современников, появлялись в журналах «лихими наездниками, поодиночке, наскоком, очертя голову, день их – был век их». Благо военная служба щедро предоставляла для них темы и материал:
Я не поэт, я – партизан, казак. Я иногда бывал на Пинде, но наскоком, И беззаботно, кое-как, Раскидывал перед Кастальским током Мой независимой бивак. Нет, не наезднику пристало Петь, в креслах развалясь, лень, негу и покой... Пусть грянет Русь военного грозой – Я в этой песне запевало!Мастерски работая над словом, поэт-партизан никогда не стремился поскорее напечатать свои стихи, довольствуясь тем, что его басни, песни и эпиграммы и без печати рыскали повсюду, как его гусары и казаки. Однажды знакомый спросил Дениса Васильевича, почему он до сих пор (шел 1826 год) не собрал и не издал своих стихотворений. «Эх, братец, к чему? Ведь их и без того все знают наизусть, – шутливо ответил ему Давыдов и, помолчав немного, прибавил: – А издай их, – выйдет книжонка, да они врозь не так и приедаются».
Он, довольствуясь, как сам признавался «рукописною или карманною славой», добавляя: «Карманная слава, как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казенных осмотрщиков. Запрещенный товар – как запрещенный плод: цена его удваивается от запрещения». Лишь через тридцать с лишним лет после первых стихотворных опытов, он решился «на собрание рассеянной своей стихотворной вольницы». Осенью 1832 года, к великой радости друзей и почитателей поэзии Давыдова, в книжных лавках Москвы появился первый и единственный при его жизни сборник стихотворений, изданный в типографии Салаева в малом формате с виньеткой. В нем были помещены тридцать девять произведений, отобранных автором строго и взыскательно, о чем он не преминул написать другу Петру Вяземскому: «Вся Гусарщина моя хороша и некоторые стихи, как «Дашенька», «Бородинское поле», изрядны, но Элегии слишком пахнут старинной выделкой».
Открывался сборник биографией «Некоторые черты из жизни Дениса Васильевича Давыдова». В краткой заметке-аннотации издатель Салаев извещает читателей, что считает необходимым «поместить легкий очерк жизни, написанный одним из друзей-сослуживцев военного человека и оригинального поэта нашего...» И стихи, и полная остроумия и сарказма биография должны были послужить, по чаянию автора, вовсе не для погони за птицей-славой, коей он был достоин «не как воин и поэт исключительно, но как один из самых поэтических лиц русской армии».
Решившись, на свой страх и риск, составить собственную биографию, Давыдов приписал ее авторство своему другу, генерал-лейтенанту О.Д. Ольшевскому, умершему незадолго до выхода книги.
Бравый партизан всегда отличался скромностью, и, верно, поэтому он просил Вяземского, чтобы тот «уверял всех и каждого», что сей биографический очерк принадлежит не его перу. Денису Васильевичу было неловко, что там имеются лестные и снисходительные слова, характеризующие автора и язвительные для других. Но друзья и почитатели поэта, а также критики сразу распознали, кто истинный сочинитель по бойкому воинскому слогу, характерному для «пламенного певца биваков».
В первоначальной редакции биография оканчивалась весьма лукаво и потешно: «Он, как мы уже видели, писал стихи, любил вино и женщин – сего достаточно, чтобы заслужить имя неделового и даже неосновательного человека. Напротив того, большая часть офицеров армии почитают его умным, неустрашимым и предприимчивым воином. Мы оставляем другим решить, справедливо или нет сие мнение. Чтобы одною чертою выразить Давыдова, скажем, что в голове его эпиграмма, а в сердце элегия, что он соединяет в себе два редко соединяемые качества: доброго малого и острого малого. Вот весь Давыдов».
Книга Давыдова была издана небрежно, на плохой бумаге, с опечатками. По сему поводу автор сетовал Вяземскому: «Получил ли ты стихотворения мои? Я приказал Салаеву послать и тебе один экземпляр. 1 Пушкину, 1 Дашкову, 1 Блудову и 1 Жуковскому чрез тебя... Нет, как ни говори и как ни люби нашу матушку-Белокаменную, но она весьма отстала от Петербурга даже в красоте книгопечатания: вкусу нет!.. Впрочем, я сам виноват, такие дела не препоручают другим, а требуют надзору хозяина. Будь я в Москве, то издание было бы красивее и не было бы опечаток, которые мне глаза колют. Например: в новой моей пьесе «Гусарская исповедь» не видели бы «Где спесь до подлости». А было бы как в оригинале: «Где спесь да подлости».
В стихах Давыдова порою стоит многоточие, употреблены неприличные слова, ибо без крепкого словца в армии не обойтись. Гусар же и в поэзии и в жизни должен оставаться гусаром. Однако не будем ханжествовать и строго судить Давыдова за крепкие слова, тогда и Пушкина следовало бы упрекнуть за «Телегу жизни» и Лермонтова – за превосходную «Казначейшу», и многих других известных поэтов.
Первая, робкая поэтическая ласточка знаменитого партизана не пронеслась невидимкой в первопрестольной столице. Ее сразу заметили и радушно встретили современники. Многие почувствовали в стихах Давыдова нечто лихое, бивачное, гусарское, столь созвучное их душе, ибо они были «наточены на том самом камне, где точат штыки...» Критик Н.И. Надеждин писал в «Телескопе», что в этой маленькой книжице «плещет и разливается истинная жизнь... Ис-крометность сверкает молнийными струями ярких, сильных мыслей, стихи гусара «в заветных рукописных лоскутках переходили из рук в руки, утехою молодежи и соблазном степенников...»
Один князь на балу в кругу знакомых принялся рассказывать, с какой легкостью и быстротой он достигал в жизни высоких чинов и почестей на разных поприщах, верша головокружительную карьеру:
– Не прошло и пяти лет, господа, после окончания мною кадетского корпуса, как я уже стал генералом! Далее меня перевели во флот, где вскорости я был произведен в адмиралы. Позднее я перешел на дипломатическую службу. Там меня также заметили, и через год я получил высокое назначение – послом в Константинополь!
Знакомые с сахарными улыбками на устах согласно кивали князю. Казалось, его хвастовству не будет предела.
– Мне представляется, ваше сиятельство, что ваши великие таланты и способности пригодны в любой области, – кротко заметил оказавшийся поблизости Денис Давыдов. – Скажем, постригись вы завтра в монахи, как ровно через шесть недель у вас вырастут крылья и вы взлетите на небеса...
Свои стихи Давыдов читал не громко и лихо, а немного нараспев, задушевно. В какие-то мгновения он перевоплощался в своего героя. В нем кипела неустанная работа души, не позволявшая ему расслабиться и почить на лаврах. Поэзию Денис Васильевич любил страстно и, как говаривали в старину, горячо и свирепо.
Шумная и суетливая столица кружила голову и вскоре надоедала Давыдову. Повздыхав, он сетовал: «Страх как опять хочется в Мазу, в наши благословенные степи...» Старший сын партизана, Василий Денисович, поминал, что отец его в деревне вел размеренный и самый регулярный образ жизни. Поднимался он зимою и летом в четыре утра, с первыми петухами. Садился писать. Завтракал в девять часов при утреннем чае. Гулял, или, точнее сказать, производил усиленную ходьбу, неизменно столько-то верст по неоднократно проторенным им тропам. Обедал в три часа и засыпал в кресле на несколько минут, нередко даже в пылу самого живого разговора. Проснувшись, тотчас же продолжал прерванный разговор или давал ответы на разные вопросы. Потом снова письменные занятия за столом. И наконец беседы, воспоминания о былом и шутки за вечерним чаем. А в десять – покой. Такова его жизнь в последние годы. Повсюду Дениса Васильевича сопровождала его неизменная трубочка, которую он набивал сам и курил целый день, несмотря на свои недуги, кашель и удушье. Литератор М.А. Дмитриев, весьма почитавший пламенного гусара, поместил запоминающийся портрет его в книге «Мелочи из запаса моей памяти: «Давыдов был не хорош собою, но умная, живая физиономия и блестящие, выразительные глаза – с первого раза привлекали внимание в его пользу. Голос он имел писклявый, нос необыкновенно мал, росту был среднего, но сложен крепко и на коне, говорят, был как прикован к седлу. Наконец, он был черноволос и с белым клоком на одной стороне лба. Одно известное лицо, от которого могла зависеть судьба его, но которым он почитал себя вправе быть недовольным, спросил его однажды:
– Давыдов! Отчего у тебя этот седой тюк?
– То клок печали! – парировал Давыдов.
«Ты радуешься, что во мне червяк поэзии опять расшевелился, – писал Денис Давыдов Петру Вяземскому. – Выражение твое не точно: для меня поэзия не червяк... Мне необходима поэзия, хотя без рифм и без стоп, она величественна, роскошна на поле сражения, – изгнали меня оттуда, так пригнали к красоте женской, к воспоминаниям эпических наших войн, опасностей, славы, к злобе на гонителей или с гонителей с поля битв на пашню.
От всего этого сердце бьется сильнее, кровь быстрее течет, воображение воспламеняется – и я опять поэт».
Осенняя любовь гусара
О как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней... Сияй, сияй, прощальный свет Любви последней, зари вечерней! Ф.И. ТютчевДолгая, с буранами да метелями, морозная зима 1833 года. Глухое заснеженное село Алферьевка Пензенской губернии с затейливыми, искусно выточенными резными наличниками на окнах, «подзорами»... Причем «подзоры» у каждой избы были свои, неповторимые, словно плотники старались щегольнуть друг перед другом в мастерстве и выдумке... Здесь, в доме боевого соратника по партизанской войне, весельчака и хлебосольного хозяина, «весьма храброго и надежного в деле» Дмитрия Алексеевича Бекетова Давыдов познакомился с его пленительной племянницей, двадцатидвухлетней красавицей Евгенией Золотаревой.
Начитанная и музыкально одаренная девушка недавно окончила пансион в Пензе. Она любила поэзию и помнила наизусть много стихов, в том числе и знаменитого партизана, о ратных подвигах которого была наслышана от своего дяди.
С первого взгляда Евгения произвела на Давыдова сильное, неизгладимое впечатление, словно весенняя радость на душу. Девушка эта как бы светилась изнутри каким-то особым, таинственным, необычайно притягательным светом. Лицо ее озаряла кроткая очаровательная улыбка. «Ах, как ты хороша, – восхищалась чуткая душа отставного, но еще бравого генерала. – У тебя высокий лоб и алые губы бантиком. У тебя густые, каштановые, зачесанные в тугую косу волосы. У тебя большие карие радостно-восторженные глаза, обрамленные длинными ресницами. В твоем наряде нет ничего броского, лишнего... Все строго, со вкусом. Нет дорогих камней, украшений, золота... Ибо не в них краса русская! Ты знаешь это и, видно, потому изящна, скромна и неотразима! В твоем девичьем, поэтическом облике все прелестно!» Судьбе гусара было угодно, чтобы его страстная натура нежданно-негаданно открыла в глухой провинции, в лице Евгении Золотаревой, предмет глубокого восхищения и поклонения.
Евгении впервые в жизни встретился столь блестящий, опаленный войной и не опьяненный славой, образованный человек, на которого она, затаив дыхание, могла часами смотреть снизу вверх, благоговея перед ним. «Я знаю, ты умен и талантлив, – молча говорили потупленные карие, с потаенным блеском, глаза Евгении. – Мне нравится, как ты то и дело обжигаешь меня своим жарким взором. Возможно, ты не хотел сразу показать, что очарован мною, но ты не умеешь скрывать своих чувств. На твоем лице – и лихая гусарская удаль, и азарт страстного охотника, и глубокие морщины на челе – след тяжелых и дальних походов и седой клок мудрости и печали в кудрях».
С той поры они стали видеться у друзей, на ярмарках, в церкви на Рождество, в театрах и на балах в Пензе. Перед Давыдовым простиралась широкая городская площадь, освещенная фонарями. Богатый дворянский особняк с белыми колоннами находился от него по правую сторону. У парадного подъезда вечерами здесь собирались знатные господа. В особенности среди них почитались одаренные люди – музыканты, поэты, композиторы. Нынче все они были приглашены на бал. К воротам то и дело подъезжали кареты, запряженные шестеркой, в сопровождении двух-трех экипажей. Взор пламенного гусара неустанно и страстно искал кого-то среди гостей. И вот наконец-то Давыдов вздохнул с облегчением и смиренно потупил глаза. Ее стройный стан был схвачен длинным, в пол-аршина подолом, напереди застегнутым пуговицами. А назади – бористое платье, называемое ферязью... Рубашка тонкая, кисейная, с пышными рукавами и кружевными манжетами. Грудь подпоясана лентою, а голова украшена пышной высокой прической с длинной косой. Походка девушки была легкой и плавной. То пензенская красавица Екатерина Золотарева пожаловала на бал: «себя показать да и на других посмотреть». Восхищенный чудом красы и прелести, Денис Васильевич писал Н.М. Языкову: «...Пенза – моя вдохновительница. Холм, на коем лежит этот город, есть мой Парнас с давнего времени, здесь я опять принялся за поэзию...»
В стихах Давыдов воссоздал облик своей «провинциальной прелестницы»:
В тебе, в тебе одной природа, не искусство, Ум обольстительный с душевной простотой, Веселость резвая с мечтательной душой, И в каждом слове мысль, и в каждом взоре чувство!..«...Вы всегда говорили мне, что из романов любите всегда менее игривые, – заметил в письме Евгении Давыдов. (Он часто посылал ей новые интересные издания, ноты, романсы...) – Я писал так моему поставщику Беллизару, и он мне прислал один из знаменитых – А. Дюма. Я не знаю, достоин ли он быть Вам предложенным, я его не читал, так как получил только вчера, а сегодня посылаю вам. Также посылаю повести Пушкина, прочтите их, я уверен, что Вы их будете ставить гораздо выше Павлова. Особенно «Выстрел», который Пушкин сам мне читал много раз, и я перечитываю его с большим удовольствием...»
Евгении Золотаревой Давыдов посвятил великолепный цикл лирических стихов, полных свободного, легкого и счастливого дыхания, без которого все чувства и мысли не стоят, как говорится, ломаного гроша. Они помечены 1833 и 1834 годами: «NN», «Ей», «Романс», «И моя звездочка», «Записка, посланная на бале», «О, пощади», «О, кто, скажи ты мне, кто ты...»
В альбом «виновнице своей мучительной мечты» – Евгении Золотаревой – Давыдов пишет:
О, кто, скажи ты мне, кто ты, Виновница моей мучительной мечты? Скажи мне, кто же ты? – Мой ангел ли хранитель Иль злобный гений – разрушитель Всех радостей моих? – Не знаю, но я твой! Но только что во мне твой шорох отзовется, Я жизни чувствую прилив, я вижу свет И возвращается душа, и сердце бьется!..А сколь радостна, сколь нежданна после разлуки встреча с любимой:
Когда я повстречал красавицу мою, Которую любил, которую люблю, Чьей власти избежать я льстил себя обманом, – Я обомлел! Так, случаем нежданным, Гуляющий на воле удалец, – Встречается солдат-беглец С своим безбожным капиталом.При чтении этих строк, навеянных свиданием поэта с Евгенией, невольно вспоминается знаменитое тютчевское:
Я встретил вас – и все былое В отжившем сердце ожило...О стихотворении «Речка», опубликованном в журнале «Библиотека для чтения», Денис Давыдов писал летом 1834 года А.М. и Н.М. Языковым: «Мое мнение, что в нем нет единства: читатель не догадается, к кому больше страсти – к речке или к деве, которая в конце пьесы является, надо было бы менее огня вначале, а то нет оттенка, эта ошибка неизгладима. Но все же стихи, кажется, и звучны и хороши...»
Но где б я ни был, сердце дани – Тебе одной. Чрез даль морей Я на крылах воспоминаний Явлюсь к тебе, приют мечтаний, И мук, и благ души моей! Явлюсь, весь в душу превращенный На берега твоих зыбей...К этому звонкому, прелестному стихотворению один из пензенских композиторов написал музыку. И Давыдов сразу же передал ноты Евгении.
Стихотворение «Вальс» проникнуто трепетным и высоким чувством горячо влюбленного поэта:
Так бурей вальса не сокрыта, Так от толпы отличена, Летит, воздушна и стройна, Моя любовь, моя Харита, Виновница тоски моей, Моих мечтаний, вдохновений, И поэтических волнений, И поэтических страстей!Меж тем «пьеса» эта без ведома и разрешения автора и без его имени была напечатана в «Северной пчеле». Ходивший в Пензе в списках «Вальс» передал в редакцию журнала известный водевилист той поры П.Н. Арапов. Он снабдил это послание более чем прозрачным примечанием: «...Один из любимых наших поэтов, отдыхавший у нас от бурь военных – «в мире счастливый певец – Вина, Любви и Славы», – смотря на наших полувоздушных спутниц Терпсихоры, порхающих в вальсе, воспел одну из них...»
25 октября 1834 года Давыдов пишет в альбом своей «виновнице поэтических страстей»
Я не ропщу. Я вознесен судьбою Превыше всех! – Я счастлив, я любим! Приветливость даруется тобою Соперникам моим...Вскорости в журналах объявились первые страстные «песни любви» Давыдова, да еще с указанием города, где проживала «краса и прелесть» поэта. По сему поводу гусар гневался и добродушно корил Вяземского: «Злодей! Что ты со мною делаешь? Зачем же выставлять «Пенза» под моим «Вальсом»? Это уже не в бровь, а в глаз: ты забыл, что я женат и что стихи писаны не жене. Теперь другой какой-то шут напечатал «И моя звездочка...» – вспышку, которую я печатать не хотел от малого ее достоинства, а также поставил внизу Пенза. Что мне с вами делать? Видно, придется любить прозою и втихомолку. У меня есть много стихов, послал бы тебе, да боюсь, чтобы и они не попали в зеленый шкаф «Библиотеки для чтения». Вот что вы со мной наделали, или, лучше, – что я сам с собой наделал!
...Шутки в сторону, а я под старость чуть было не вспомнил молодые лета мои, этому причина – бродячий еще хмель юности и поэзии внутри человека и черная краска на ней снаружи, я вообразил, что мне еще по крайней мере тридцать лет от роду».
Порой, чтобы забыться и заглушить в себе внезапное и столь глубокое чувство, Давыдов с азартом предавался своим давнишним утехам: на ранней заре со стаей гончих ездил на охоты по волкам и зайцам или же долгие часы до самозабвенья просиживал за широким, обложенным бумагами и книгами письменным столом, воспоминая о былых походах.
Преданному другу Вяземскому, посвященному во все душевные страсти и муки, Денис Васильевич писал, сетуя, что «собачья охота и травля поляков, о коих пишу», увлекли немного в другую сторону, да жаль, что ненадолго... И пламенный гусар вновь повсюду искал встреч со своей «прелестницей» и «предвещательницей дня». Он слал ей любовные послания:
Я вас люблю без страха, опасенья Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, – Я мог бы вас любить глухим, лишенным зренья... Я вас люблю затем, что это – вы!Пришедший столь нежданно, трепетной и тревожной, осенней любви Давыдов отдал свои самые светлые душевные порывы, посвятил ей все свое поэтическое вдохновение:
Я люблю тебя, без ума люблю! О тебе одной думы думаю, При тебе одной сердце чувствую, Моя милая, моя душечка. Ты взгляни, молю, на тоску мою И улыбкою, взглядом ласковым Успокой меня, беспокойного, Осчастливь меня, несчастливого...В те годы не только в Москве и Петербурге, но и во многих провинциальных городах вошло в моду увлечение театром, благородными спектаклями. Конечно же, этим славилось высшее общество. «Партикулярные спектакли» давались два, а то и три раза в месяц в роскошных дворянских особняках, обычно в больших фамильных залах. Актерами состояли сами господа-любители и крепостные крестьяне.
«В означенный заранее день, к вечеру, внезапно заноет-засосет в груди, места себе не найдешь в доме, – вспоминает Денис Давыдов. – Захлопнешь страницу романа или же прервешь свои записи. Снимешь с вешалки парадный костюм и спешно отправляешься в театр. Едва коснувшись фигурной резной дверной ручки, чувствуешь, как кровь закипает в висках. В полутьме делаешь робкие шаги по залу и внезапно обнаруживаешь перед собой кумира. Евгения Золотарева сидит в кресле и смотрит не на сцену, а словно куда-то вдаль. Мне кажется, что она может служить превосходной моделью русской красавицы даже самому знаменитому живописцу. Однако более всего чарует меня ее голос, плавный и задушевный, будто Евгения произносит слова нараспев».
Однажды, повстречав Золотареву в театре, пламенный поэт умолял ее дать ему разрешение на переписку. Однако Евгения, боясь огласки, вначале отказала ему. Тогда Денис Васильевич заверил ее, что будет свято хранить тайну, прежде всего потому, что он женат, а кроме того, будучи вожаком партизан, он ни разу не выдал ни одного секрета куда более важного.
Так завязалась между ними короткая переписка на французском языке.
В каждое свое послание пламенный гусар вкладывал столько любви, что провинциальная красавица была вынуждена его предостеречь: «Язык Вашего письма очень пылок и страстен. Вы заставляете меня трепетать. Зачем Вы вкладываете столько чувства в ту полную шарма и романтики дружбу, которая меня так радует?»
«Вы осмелились предложить мне дружбу?! – отвечал Евгении глубоко опечаленный Денис Давыдов. – Но, помилуйте, мой жестокий друг! Любовь, раз возникнув в жизни, никогда потом не уничтожается, не превращается в ничто. Будьте серьезнее хоть раз в жизни! Умоляю Вас! Если хотите от меня избавиться, от меня, который удручает Вас и который надоедает Вам, лучше сразу убейте меня! Не моргнув глазом воткните в сердце кинжал! И скажите: «Я Вас не люблю! Я Вас никогда не любила! Все, что было с моей стороны, это просто-напросто обман, которым я забавляюсь...»
Умом понимая всю зыбкость и безнадежность своего внезапного увлечения, Давыдов тем не менее резко отвергает дружбу Золотаревой и заканчивает свое послание новым, горячим признанием в любви:
Что пользы мне в твоем совете, Когда я съединил и пламенно люблю Весь Божий мир в одном предмете, В едином чувстве – жизнь мою!Об этом замечательном цикле стихов Давыдова Белинский писал: «Страсть есть преобладающее чувство в песнях любви Давыдова, но как благородна эта страсть, какой поэзии и грации исполнена она в этих гармонических стихах. Боже мой, какие грациозно-пластические образы!»
Пламенный гусар поражал современников непредсказуемыми всплесками, буйством и широтой своей деятельной, пылкой и страстной, истинно русской натуры.
Меж тем встречи Давыдова с Евгенией становились все реже и реже, прекращалась переписка, роман заканчивался. С угасанием светлого и незабвенного, радостного и щемяще мучительного чувства к пензенской красавице Евгении Золотаревой обрывается и бурно всколыхнувшееся вновь поэтическое вдохновение стойкого бойца. Ушла, растворилась любовь, точно луч горячего закатного солнца в осенних сумерках, однако музыка от нее в душе осталась. Сохранилась до последних дней жизни гусара. Музыка хрустальная, поэтическая, подобная песне вольного полевого жаворонка по весне, что льется, не смолкает над полями и лугами до самого вечера где-то высоко-высоко под белоснежными облаками.
В «Выздоровлении» Давыдов прощается со своей «Харитой», узнав, что она, по настоянию родных, наперекор душе принимает предложение и выходит замуж за уже немолодого драгунского офицера в отставке, участника войны 1812 года, помещика В.О. Манцева:
Прошла борьба моих страстей, Болезнь души моей мятежной, И призрак пламенных ночей Неотразимый, неизбежный, И милые тревоги милых дней, И языка несвязный лепет, И сердца судорожный трепет, И смерть и жизнь при встрече с ней... Исчезло все!..Давыдов покидает свои «благословенные степи» и уезжает в Москву. Оттуда он с грустью пишет Вяземскому в Петербург: «...Итак, я оставил степи мои надолго... Однако не могу не обратить и мысли и взгляды мои туда, где провел я столько дней счастливых и где осталась вся моя поэзия!»
Питомец муз, питомец боя!
...Независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы.
А.С. Пушкин Три сотни побеждало – трое! Лишь мертвый не вставал с земли. Вы были дети и герои, Вы все могли! Что так же трогательно-юно, Как ваша бешеная рать? Вас златокудрая Фортуна Вела, как мать. Вы побеждали и любили Любовь и сабли острие – И весело переходили В небытие. Марина Цветаева Генералам двенадцатого годаВ первопрестольной столице здоровье отставного генерала ухудшилось, к тому же на него обрушилась здесь уйма семейных, литературных и хозяйственных дел. Приступы астмы, случавшиеся все чаще и чаще, Давыдов лечил гомеопатическими средствами. В Москве он повстречал людей новых веяний – либералов, поклонников западных мод и идей. Их высказывания и поступки разгневали пламенного гусара.
Истинный патриот Отечества дал им хлесткую и резкую отповедь в памфлете «Современная песня»:
Всякий маменькин сынок, Всякий обирала, Модных бредней дурачок, Корчит либерала. Томы Тьера и Рабо Он на память знает И, как ярый Мирабо, Старого Гаврило За измятое жабо Хлещет в ус да в рыло...В послании военному историку А.И. Михайловскому-Данилевскому Давыдов писал: «Ныне век болтунов, все болтают: и на кафедрах, и в газетах, и в гостиных, а что из того проку! Бороды вместо бакенбардов, длинные ногти и золотые очки на носу! Одной рукой хватаемся за Северный мыс, другой – за Арарат, а ступней в середине Европы, хоть бы нас задрали, да кому! Европа в халате, без порток, ест, пьет и сплетничает, ей тесен мундир и каска в тягость».
Денис Давыдов любил не без хвастовства вспоминать о своих татарских предках. Он собирал генеалогические сведения о своем роде. Считал, что родоначальник его династии – знаменитый мурза Минчак Касаевич, который, по преданию, в начале XV века выехал из Большой Золотой Орды и поступил на службу к великому князю Василию Дмитриевичу.
По сему поводу он написал стихи, обращенные своему давнему приятелю, графу П.А. Строганову, который в 1810 году, во время войны с Турцией, подарил ему чекмень.
Павел Александрович Строганов, генерал от инфантерии, состоял членом кружка «молодых друзей» Александра I.
Графу П.А. Строганову:
Блаженной памяти мой предок Чингисхан, Грабитель, озорник, с аршинными усами, На ухарском коне, как вихрь перед громами, В блестящем панцире влетел во вражий стан И мощно рассекал татарскою рукою Все, что противилось могущему герою.И далее, величая себя «пращуром Батыя», с гордостью восклицал: «Я тем же пламенем, как Чингисхан, горю!»
В августе 1837 года, в знаменательный день 25-летия Бородина, на поле великой битвы проходили большие маневры, парады и смотр войск в присутствии царя Николая I. Здесь, словно на театре, воспроизводился весь ход сражения с французами в грозном штурме неприятелем наших редутов и флешей, яростных атаках, сшибках и отступлениях.
Отставной генерал-лейтенант Давыдов принимал в торжествах деятельное участие.
Вскоре после бородинских празднеств он задумал перенести прах покойного князя Багратиона из далекого, мало кому ведомого имения Симы Владимирской губернии князей Голицыных в Александро-Невскую лавру в Петербурге или на Бородинское поле. «В первом случае, – говорил Денис Васильевич, – знаменитый питомец лег бы возле великого наставника, во втором – великая жертва сочеталась бы с великим событием».
23 октября Давыдов подал записку через военного министра графа А.Ф. Орлова на имя Николая I с ходатайством о перезахоронении праха Багратиона. Переписка с различными казенными ведомствами и влиятельными людьми тянулась мучительно долго, казалось, ей не будет конца. Но настойчивые хлопоты прославленного партизана увенчались успехом. Директор императорского департамента Военного министерства генерал Клейнмихель писал Давыдову в 1839 году: «Вследствие письма Вашего превосходительства... имею честь уведомить, что государь император, соизволяя на перенесение праха покойного генерала князя Багратиона на Бородинское поле, высочайше повелел: перевезти туда его, в сопровождении Вашем, под конвоем одного из кавалерийских полков, во Владимирской губернии расположенных, к 22 июля сего года, и погребсти подле Бородинского памятника, положив на этом месте мраморную или чугунную доску, с приличной надписью».
Получив это известие, Давыдов несказанно обрадовался и тотчас же горячо принялся за дело. Он стал рассылать письма и направлять официальные бумаги чиновникам, дабы поспеть к означенному сроку, когда должно было состояться возведение памятника героям Бородина на Курганной высоте.
В личном архиве прославленного партизана сохранился проект надгробной надписи-эпитафии Багратиону, у которого в течение пяти лет (1807–1812) он состоял в адъютантах и к которому всю жизнь питал «глубочайшее благоговение и самую искреннюю душевную признательность»:
«Багратион
Князь Петр Иванович На берегах Каспия, в Кизляре 1765-го года рождения. Воин-юноша, покрытый ранами, Из-под груды мертвых тел Горскими враждебными народами Изторгнут и возвращен к жизни. Закален в боевом огне на приступах Очакова и Праги. Око и десница Суворова.
В Италии. Щит чести русского оружия.
Под Галобрюном.
В Пруссии – пред стражею[14]. В Финляндии – корпусом, Во Фракии и в России армиями
Предводительствовал. Враг врагу противящемуся, Друг побежденному. Любовь и надежда русского солдата
Везде и всюду.
В роковой день священного Бородинского боя
Он пал...
Здесь покоится прах его. Благословите!
Денис Давыдов – Благодетелю от облагодетельствованного».
В связи с этим событием весьма примечательно письмо Дениса Васильевича к князю Александру Борисовичу Голицыну, племяннику Багратиона, участнику Отечественной войны 1812 года, давнему другу и соратнику, во владимирском имении которого 12 сентября 1812 года скончался от ран прославленный полководец, похороненный там же в церкви Святого Димитрия.
«...Что делать! Расставайся, любезный друг, князь Александр Борисович, с прахом князя Багратиона, – и что еще скажу тебе? Этой разлуки виновником человек истинно и от души тебя любящий, а именно: я.
Я, как и ты, как все в душе русские, скорбили, что наш герой или, лучше сказать, глава наших героев, всех наших армий, Багратион, заброшен в пустынное место, тогда как Бог знает кого хоронят в Александро-Невской лавре: все скорбили, никто не возвышал голоса! Конечно, тебя утешало то, что прах Багратиона у тебя в имении, и это простительно, – но прах этот, ты сам знаешь, есть принадлежность Отечеству, а не частного человека, и потому я никак не думаю, чтобы ты, зная, куда он теперь будет перенесен, огорчился этой для тебя потерей. Напротив, сколько я тебя знаю, ты верно радуешься, что Багратион ляжет на место, завоеванное им собственною кровью и жизнью. Славное место, возле памятника погибших за Отечество!..
Преданный тебе Денис Давыдов
18 апреля 1839 года,
Маза».
А теперь давайте вновь перенесемся в Симбирскую губернию, в село Верхняя Маза, где коротал долгие вечера и лета кавалерийский генерал-лейтенант в отставке Денис Давыдов.
Итак, 1839 год. Весна в Мазе выдалась на редкость затяжная, с метелями и внезапными ночными заморозками. Днем же нередко все круто менялось, с восходом горячего животворного солнца в апрельском воздухе пахло талой землей и клейкими почками. На малых и больших реках в поволжских привольных степных краях только что отшумел ледоход. Повсюду, куда ни глянь, чернела, бушуя по низам, прибылая вода, заливая прибрежные луга, овраги, старицы. По сему поводу почта часто задерживалась и Денис Васильевич нервничал. Беспрестанно попыхивая своей неизменной трубочкой, он шагал из угла в угол и с нетерпением поглядывал в окно на длинную, темную, так не ко времени раскисшую проселочную дорогу.
Ладное, крепкое и мускулистое прежде тело его с годами отяжелело, одрябло. При быстрой ходьбе появилась одышка. Участились приступы затяжной, удушливой астмы. Чело избороздили глубокие морщины. Седой, как у луня, клок над высоким лбом потонул в снежной кипени волос, однако память была еще свежа.
Денис Васильевич в деталях обдумывал грядущую церемонию захоронения праха князя Багратиона на поле Бородина, свою речь, вспоминал разудалые минувшие дни:
Ради Бога, трубку дай! Ставь бутылки перед нами, Всех наездников сзывай С закрученными усами! Чтобы хором здесь гремел Эскадрон гусар летучих, Чтоб до неба возлетел Я на их руках могучих, Чтобы стены от ура И тряслись и трепетали!..День за днем он рылся в ящиках письменного стола, тщательно подбирая свои дневниковые записи и материалы, набрасывал штрихи к боевому портрету горячо им любимого, бесстрашного князя Петра Ивановича Багратиона.
...У Дениса Васильевича было пять сыновей – Василий, Николай, Денис, Ахилл, Вадим и четыре дочери – Юлия, Екатерина, Софья, Евдокия. Любящий и заботливый отец старался с малых лет привить своим чадам правдивость, трудолюбие, патриотизм и тягу к знаниям.
Когда сыновья подросли, Давыдов повез их в северную столицу, где старший, Василий, стал юнкером гвардейской артиллерии, а Николай – воспитанником училища правоведения. Денис Васильевич давал им добрые советы и наставления. Об этом краше всего свидетельствует его обширная семейная переписка.
26 сентября 1837 года Давыдов писал старшему сыну Василию в Петербург: «Мой век уже прошел, мне приходится считать жизнь не годами, а месяцами. Твой век долог... Вспомним, что ты старший в семействе, так и приготавливай себя».
А 26 ноября 1837 года он шлет ему туда же новое письмо «Теперь пришло время подумать о будущности. Шестнадцать лет есть истинное время для размышления о ней. Употребляй на это ежедневно по получасу, вставая ото сна, и по получасу, отходя ко сну перед молитвой. Поутру определяй, что тебе делать в течение дня, а вечером дай отчет самому себе, что ты сделал, и если что было не так, то заметь, чтобы извлечь все то, в чем совесть упрекает тебя... Почва, на которой ты теперь будешь прокладывать путь, еще нова и чиста, поздно будет, как ее загадят страсти. Я был молод, как ты, но пламеннее тебя вдвое. Что я говорю – вдвое? Во сто раз, во мне играли страсти более, чем в других моих товарищах. Сверх того я имел несчастье жить часто и долго с людьми развратными, увлекающими меня к разврату, к коему вместе с ними увлекали меня и страсти мои, но я прошел, чист и неприкосновенен смрадом и грязью, сквозь этот поток смрада и грязи. Как я это сумел? С 16 лет моего возраста, именно с 16 лет (ибо я на 17-м году вступил в службу) я сделал себе правила, как вести себя во всю жизнь мою, и, держась за них, как утопающий за канат спасения, никогда не торгуясь с совестью, не усыплял ее пустыми рассуждениями и в мыслях и в душе моей всегда хранил отца моего – добродетельнейшего человека в мире, я хранил его даже и после смерти его и сам себе говаривал, как иногда увлекаем был соблазном: «Что батюшка сказал бы, что б почувствовал, если я это сделал при его жизни?» И все дурные помышления мои мигом улетали, и ничто уже не могло совратить меня с пути избранного...»
Другому своему сыну – Николаю, учившемуся в Петербургском училище правоведения, Денис Васильевич писал в конце 1838 года: «Очень рад, милый мой Коленька, что ты получил 12 баллов за прилежание, теперь жду 12 баллов за поведение. Надо, чтобы одно от другого не отставало и шло рядом. Как неуч с хорошим поведением, так и ученый дурного поведения не полные люди и мало к чему могут годиться. Смотри же, старайся, чтоб эти качества шли рядом, и радуй нас ими, как теперь». Когда же Николай надумал оставить училище правоведения и, по примеру старшего брата, стать военным, ибо его пленил блеск офицерского мундира, Денис Васильевич горячо советует ему: «Не платье и не род службы производят твердость характера и делают человеком, а природа и собственная воля. Много я знаю дряни, плакс и трусов в военных мундирах и даже в Георгиевских крестах, и много знаю во фраках и в штатской службе людей отличных по твердости их, духу и неустрашимости».
18 апреля 1839 года Давыдов извещает Василия и Николая в Петербурге:
«Милые друзья мои, Вася и Николинка! Я вам пишу в одном письме потому, что и нечего писать и некогда: почта отходит, и я спешу.
Что-то у вас делается, – а у нас все еще зима, несколько дней тому назад как начала на полях кой-где показываться земля, а то все было бело, как в глубокую зиму. Если еще такие дни, как теперь, постоят, то через неделю авось снег сойдет и тогда можно будет и на охоту ездить, и из дому выходить.
В половине мая я отсюда выеду – и пробуду несколько дней во Владимире, чтобы устроить все дела для перевоза в Бородино праха князя Багратиона. Я хотел непременно быть в Петербурге, но теперь наверное не знаю: это будет зависеть, как я устрою дела для перевозу праха. Я думаю, успею и то и другое сделать.
Ты тогда будешь, Вася, в лагере – уведоми меня, как бы мне проехать прямо к тебе в лагерь с последней станции Московского шоссе, из Ижоры?
Простите, милые друзья, – благословляю вас.
Отец ваш Денис Давыдов».
Планам этим не суждено было осуществиться.
На следующий день после отправки письма сыновьям вестовой доставил из Петербурга в Мазу важный пакет. Начальник штаба 6-го пехотного корпуса рапортом доносил Давыдову, что для конвоирования тела князя П.И. Багратиона назначен Киевский гусарский полк. На генерал-лейтенанта «высочайшим указом» возложена честь начальствования церемонией, он назначался командиром почетного эскорта для сопровождения гроба с прахом П.И. Багратиона. Полк выступал 6 июля 1839 года из города Юрьева-Польского и, с пятью дневками, прибывал в Можайск 23 июля, пройдя 311 верст маршем при 17 переходах, Давыдов должен прибыть в полк и принять командование им.
Через три дня после получения столь дорогой вести, поутру Денис Васильевич внезапно почувствовал острую сердечную боль, приступы сухого удушливого кашля, голова налилась тяжестью и стала словно чугунная. Облачившись в теплый халат, он набил табаком свою неизменную короткую трубку, долго раскуривал ее, с трудом опустился в кресло возле камина.
Просидев с десяток минут в глубокой задумчивости, Давыдов через силу поднялся и потянулся за пером, шепча строки о горячо любимом князе, написанные им давно, еще в 1810 годы:
Где, Клио, взять перо писать его дела? У Славы из крыла...Но тут внезапно в голове зашумело, застучало в висках, и перед глазами побежали странные багрово-фиолетовые круги. Вскоре круги исчезли, сознание помутилось, и навалилась глубокая, непроглядная темень. Медленно оседая, он упал на пол. Так когда-то давно упал он из седла любимого, смертельно раненного в бою коня. Правда, тогда, в романтической, полной риска и надежд юности, он тут же воспрянул духом и вскочил на ноги. Но теперь – увы! Все уже было иное, минули трудные годы, войны, лишения, шквал атак, темные от порохового дыма поднебесья, полегли в землю многие верные друзья. Иссушила, подорвала силы неустанная, изнурительная, всепоглощающая работа мысли. Свинцовая тяжесть приковала его к земле. Глухие надрывные хрипы и свисты вырвались из души, разлучаемой с телом. Рядом с ним в тот ранний роковой час никого не было. Денис Васильевич задышал часто, с натугой, а затем все прерывистее, медленнее... и вскорости затих. Затих навсегда.
Давыдову не суждено было сопровождать гроб с прахом горячо любимого им полководца на поле Бородина, он умер внезапно, от апоплексического удара, 22 апреля 1839 года, пятидесяти четырех лет от роду в Верхней Мазе. В склепе, под алтарем сельской церкви, шесть недель покоилось его тело. Затем гроб с прахом Давыдова перевезли в Москву, где захоронили на кладбище Новодевичьего монастыря, рядом с могилами родных.
Эпилог
О память сердца! Ты сильней Рассудка памяти печальной...
К. БатюшковМужество делает ничтожными удары судьбы» – этот мудрый афоризм древнегреческого философа Демокрита, переживший века, удивительно подходит к Денису Давыдову. Как многих честных, истинно верных Отечеству и талантливых русских людей, Давыдова нередко преследовали неприятности по службе. В письмах к князьям Вяземскому и Закревскому он сетовал: «Ход моей жизни одинаков – неудовольствие да притеснения за верную мою службу, вот все, что я получил и получаю...», «Я, который оставляю в покое и кресты, и ленты, и чины, совсем ничего не желаю, кроме команды и неприятеля, меня не только первых, но и последних лишают».
За несколько дней до Рождества Христова, в 1814 году, на Давыдова, как гром средь ясного неба, обрушился новый жестокий и внезапный удар судьбы. Поутру из военного ведомства курьер доставил ему на квартиру приказ. В том грозном приказе черным по белому указывалось, что чин генерал-майора он-де «получил по ошибке», а посему вновь переименован в полковники.
И разгневанный Давыдов, сколь долго ни мерил комнату шагами из угла в угол, стараясь в деталях припомнить былое, сколь ни ломал свою горячую голову: что за дьявольская напасть произошла в штабном руководстве, но так и не смог обнаружить ни малейшей оплошности в действиях ахтырских гусар, ни в своих лично.
Высокой чести он удостоился, как ведомо, не на придворных балах, а после крутого сражения под Бриенном и жесточайшей битвы при Ла-Ротьере, где участвовал в самых горячих сшибках с врагом Отечества. Представление на него подписал лично прусский фельдмаршал Блюхер, любимец царя, командовавший в то время объединенной русско-прусской армией.
Необходимо что-то предпринять. Как жить дальше? Как смотреть в глаза родным и знакомым? И Давыдов вспомнил друзей. Он пошел в дом к Вяземскому.
Как оказалось вскорости, друзья уже прослышали о злом роке, внезапно обрушившемся на его голову, из недавно объявленного по армии приказа.
А потому пламенному гусару-поэту был оказан самый теплый и сердечный прием. Друзья долго и горячо обсуждали случившееся и успокоили Давыдова тем, что воинская честь его и человеческое достоинство почитаются в армии и в обществе по-прежнему высоко. Да и превыше всяческих чинов, почестей и регалий – дружество. Все собравшиеся в один голос посоветовали Денису Васильевичу немедленно направить письмо императору Александру.
И тут перед боевым гусаром, облаченным на сей раз в серый статский костюм, выдвинулся хозяин дома, Петр Андреевич Вяземский. Он задорно, по-арзамасски поблескивая очками в золоченой оправе, стал читать на память сочиненные поутру стихи:
Пусть генеральских эполетов Не вижу на плечах твоих, От коих часто поневоле Вздымаются плеча других, Не все быть могут в равной доле, И жребий с жребием не схож! Иной, бесстрашный в ратном поле, Застенчив при дверях вельмож, Другой, застенчивый средь боя, С неколебимостью героя Вельможей осаждает дверь! Но не тужи о том теперь!Когда Вяземский закончил читать, Давыдов со слезами на глазах бросился к нему в объятия и горячо расцеловал истинного друга.
По сему печальному случаю хозяева дома велели прислуге накрыть стол и соорудили дружеский ужин с вином, всевозможными закусками и фруктами. На ужине присутствовали Василий Львович и Алексей Михайлович Пушкины, супруги Четвертинские, Федор Толстой-Американец и несколько хорошеньких дам.
Будучи в Москве, Денис Давыдов познакомился, стал встречаться и подружился с графом Федором Толстым, принадлежавшим к старинному дворянскому роду. Его дальний родственник (двоюродный племянник) великий писатель Лев Николаевич Толстой метко окрестил его впоследствии «необыкновенным, преступным и привлекательным человеком». И действительно, Федор Толстой прославился в Первопрестольной острым и оригинальным умом, кутежами, дуэлями, нечистой на руку игрой в карты, обжорством и озорными непредсказуемыми поступками. Да и прозвище свое, Американец, он получил неспроста. Экипировав кругосветную экспедицию, известный путешественник Крузенштерн заинтересовался образованным и пытливым молодым человеком и взял его с собой в плавание. Однако вскоре последовало горькое разочарование Крузенштерна. Федор Толстой не подчинялся командам и стал совершенно неуправляем: часто скандалил, устраивал потасовки, требовал остановки корабля... В результате всего этого капитан не выдержал и приказал высадить бузотера на один из Алеутских островов недалеко от Аляски.
С громадными трудностями Толстому удалось в конце концов добраться до Камчатки.
Далее он прошагал пешком всю Сибирь и явился-таки в белокаменную столицу, где и получил свое знаменитое прозвище.
С годами он остепенился и принимал участие в Бородинском сражении. Находясь в отставке, в чине подполковника, он поступил рядовым в Московское ополчение. В числе стрелков при 26-й дивизии Толстой получил ранение в ногу. Генерал Ермолов проезжал после битвы мимо раненых, коих везли на подводах, и внезапно услышал знакомый голос и свое имя. Обернувшись, среди груды искалеченных тел, он с трудом узнал графа Федора Толстого. Граф несказанно обрадовался встрече, сорвал бинты с ноги, откуда струей хлынула кровь. Ермолов обнял друга, выслушал его горячий рассказ и велел оказать ему неотложную помощь. Вскорости генерал исходатайствовал ему чин полковника.
Денис Давыдов посвятил Федору Толстому веселые стихи под названием «Другу-повесе»:
Болтун красноречивый, Повеса дорогой! Оставим свет шумливый С беспечной суетой. Пусть радости игривы, Амуры шаловливы, И важных муз синклит И троица Харит Украсят день счастливый!На следующий день после посещения Вяземского Давыдов проснулся по укоренившейся с детства привычке чуть свет и написал царю письмо:
«Государь!
Несправедливый рок обременяет в Вашей державе человека, которого судьба сохранила так долго на полях чести! Соблаговолите взглянуть взором снисходительным не на мои заслуги, а на горесть солдата, который не заслужил подобной участи. Я не позволю себе напомнить Вашему величеству дни сражений, в которых я участвовал: их число составляет их достоинство, знаю это, и потому блеск их оставил во мне одно воспоминание, что жизнь и совесть моя остались безупречны. Нет, государь, я не буду утруждать Вас подробностями моей службы, недостойной Вашего внимания, она выразится двумя словами: четырнадцать лет военного поприща, и ни одного упрека. В Пруссии, Турции, Швеции, России и Германии, везде, где у Вашего величества были враги, я сражался с ними, и чин генеральский был недавно наградой моей службы. Я смел думать, что Ваша воля, объявленная военными властями, непреложна и не поколеблется надеть на себя знаки моего нового достоинства, как вдруг, по произволу, которого я до сих пор не понимаю, я был лишен почестей, которым Ваше величество почтило самого усердного из Ваших солдат. Соблаговолите, государь, быть моим судьею, удостойте вспомнить, что не я ходатайствовал о награждении моих слабых заслуг, но, получивши награду, позвольте мне просить Вас оставить ее за мною, ибо Ваше величество могли неоднократно убедиться, что во мне живет одно достоинство солдата взамен высших талантов, эта беспредельная преданность и горячая любовь к славе Вашего оружия, эти чувства никогда не выходили из моего сердца, и я их всегда поддерживал деяниями если не славными, то всегда достойными!
Бывший генерал-майор Денис Давыдов».
Звание «генерал-майор» вопреки интригам придворных чиновников осталось за Денисом Давыдовым. Георгиевского креста его лишали до тех пор, пока, вконец раздосадованный, он сам не указал, что ему обязаны были дать его по статусу.
Старший сын Василий отзывался об отце как о человеке острого ума, с большими военными доблестями и знаниями, с блистательной храбростью, от души любимого товарищами, с прямым и открытым характером, поэтом в душе и поэтом во всех проявлениях жизни. «Отец мой не только не сделал карьеры, но даже каждый знак отличия должен был брать грудью... – писал Василий, – тому причиной общий порок семьи, дух свободы, не терпящий стеснения слова, действия без оглядки, русское удальство очертя голову и за все ответ – своей головой».
Стойко перенося невзгоды судьбы, Давыдов не унижался и не льстил начальству, свято и нерушимо веря до последних дней жизни в Россию и русский народ: «Не разрушится ли, не развеется ли, не снесется ли прахом с лица земли все, что ни повстречается, живого и неживого, на широком пути урагана, – писал Давыдов в одной из статей о партизанской войне, – направленного в тыл неприятельской армии, первою в мире по своей храбрости, дисциплине и устройству! Еще Россия не поднималась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь поднимется».
Стихи и песни Дениса Давыдова заучивались в армии наизусть, пелись и вдохновляли солдат на ратные подвиги. Его остроты и шутки повторялись при громе пушек, не умолкали при победном звоне заздравных чаш и торжественных звуках фанфар.
В воинской службе он неизменно следовал заветам своего благословителя, великого и бесстрашного полководца А.В. Суворова и потому по праву считается образцом среди офицеров Русской армии.
Видные поэты первой половины XIX века открывали для себя чудесный светлый дышащий свободой мир поэзии Дениса Давыдова – первым Жуковский, далее Вяземский и Батюшков, потом лицеист Пушкин и уже несколько позднее Баратынский и Языков. Они посвятили «Денису-храбрецу» «души прекрасные порывы», учась у него звонкости, лихости и распашности поэтического слога.
Знаменитый Василий Андреевич Жуковский сказал провидчески, что судьбы поэтов походят на улыбку златокудрой Фортуны. Едва только им улыбнется счастье, успех, засветился удача, ан глядь, а поэта уже и нет на свете. По поводу кончины прославленного партизана он со скорбью писал в «Бородинской годовщине»:
И боец – сын Аполлона, Мнил он гроб Багратиона Проводить в Бородино, – Той награды не дано: Вмиг Давыдова не стало! Сколько славных с ним пропало Боевых преданий нам! Как в нем друга жаль друзьям!..Петр Вяземский величал Давыдова «Бородинский бородач» и так охарактеризовал его жизненное кредо:
На барскую ты половину Ходить с поклоном не любил, И скромную свою судьбину Ты благородством золотил, Врагам был грозен не по чину, Друзьям ты не по чину мил!В своей «Записной книжке» Вяземский увековечил дружескую «песнь». В ней рассказывалось о том, как «празднует свои потехи семья пирующих друзей». «Бородинскому бородачу» в «песне» отведено особое, почетное место:
Денис! Тебе почет с поклоном, Первоприсутствующий наш. Командуй нашим эскадроном И батареей крупных чаш.Далее в песне прославлялись острый ум и красноречие гусара:
Ты – партизан не меньше бойкий В горячей стычке острых слов...Давыдов печатал свои стихи в альманахах «Полярная звезда» и «Мнемозина», издаваемых декабристами. С некоторыми из них он состоял в дружестве, скажем, с Ф.Н. Глинкой, М.Ф. Орловым, А.А. Бестужевым-Марлинским, А.И. Якубовичем, хотя и не входил ни в одно из тайных обществ.
А. Бестужев-Марлинский в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» заметил, что «амазонская муза Давыдова говорит откровенным наречием воинов, любит беседы вокруг пламени бивака и с улыбкой рыщет по полю смерти. Слог партизана-поэта быстр, капризен, внезапен. Пламень любви рыцарской и прямодушная веселость попеременно оживляют оный».
Денис Давыдов был сторонником конституции и уничтожения крепостного права. Лихого гусара возмущали жестокая муштра, шагистика, телесные наказания – словом «гатчинская система» в армии. Он поражался, как мог Александр I так быстро «забыть» подвиги, которые свершили армия и народ в столь страдную для нашего Отечества годину на поле брани и заменить участников войны 1812 года пустыми и надменными «гатчинцами».
В знаменитой Военной галерее Зимнего дворца среди трехсот тридцати двух портретов, посвященных героям войны 1812 года, почетное место отведено и Денису Давыдову.
В 1834–1836 годах Пушкин часто бывал в Зимнем дворце, любил посещать Военную галерею, со стен которой смотрит сам роковой 1812 год, и на века воспел ее в стихотворении «Полководец»:
У русского царя в чертогах есть палата: Она не золотом, не бархатом богата, Не в ней алмаз венца хранится за стеклом, Но сверху донизу, во всю длину, кругом, Своею кистею свободной и широкой Ее разрисовал художник быстроокий. Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн, Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен, Ни плясок, ни охот, – а все плащи, да шпаги, Да лица, полные воинственной отваги. Толпою тесною художник поместил Сюда начальников народных наших сил. Покрытых славою чудесного похода И вечной памятью двенадцатого года. Нередко медленно меж ними я брожу И на знакомые их образы гляжу, И, мнится, слышу их воинственные клики...Николай Языков, высоко почитавший талант стихотворца-гусара и принимавший близко к сердцу его радости и печали, пророчил его стихам бессмертие:
Не умрет твой стих могучий, Достопамятно-живой, Упоительный, кипучий И воинственно-летучий, И разгульно удалой.Однако сам поэт считал себя прежде всего воином: «Мир и спокойствие – и о Давыдове нет слуха, – писал он, – его как бы нет на свете, но повеет войною – и он уже тут, торчит среди битв, как казачья пика». О своей роли в Отечественной войне он говорил с присущей ему скромностью: «...я считаю себя рожденным единственно для рокового 1812 года, но рожденным подобно тому рядовому солдату, который в дыму и сумятице Бородинской битвы, стреляя наудачу, убил десяток французов. Как ни мало употребил он на то знания и дарования, при всем том судьба определила его уменьшить неприятельскую армию десятью человеками и содействовать общему ее истреблению своим товарищам».
В стихотворном послании Евгения Баратынского выражена дань глубокого уважения стихам и воинским подвигам старшего по возрасту друга:
...Не мне, Певцу, не знающему славы, Петь славу храбрых на войне. Питомец Муз, питомец боя, Тебе, Давыдов, петь ее.Художники – Доу, Лангер, Орловский, Афанасьев, Гампельн – запечатлели его доблестный воинский образ на своих полотнах.
Орловский изобразил вожака партизан верхом на добром коне, с черной окладистой бородой и черкесской шашкой на бедре, возле походного бивака на опушке леса – словом, «в бурке на плечах, в косматой шапке кабардинской». Доу воспел его «своею кистью свободной и широкой» лихим гусаром, в мундире, расшитом золотом, с огнем в больших умных глазах, с залихватски закрученными вверх усами, с седой, как у луня, прядью над широким лбом.
Глухонемой художник Гампельн написал его заслуженным боевым генералом в расстегнутом мундире с золотыми эполетами и саблей, на эфесе которой выгравировано «за храбрость». Афанасьев воплотил образ храброго партизана, как истинно народного героя, в крестьянском платье, с бородой и Георгием на груди. А портрет кисти Лангера являет собой молодое вдохновенное лицо поэта-гусара.
Изображение Давыдова, скачущего на коне, в крестьянском кафтане, с окладистой бородой и иконой Николая Чудотворца на груди встречалось в России повсюду. Им украшались как стены крестьянских изб, так и салоны знатных вельмож. Лицейский друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер опоэтизировал лубочную гравюру с тиснением изображения доблестного партизана:
...Софа, в углу комод, а над софою Не ты ль гордишься рамкой золотою, Не ты ль летишь на ухарском коне, В косматой бурке, в боевом огне, Летишь и сыплешь на врагов перуны, Поэт-наездник, ты, кому и струны Волшебные и меткий гром войны Равно любезны и равно даны.Знаменитый художник Илья Репин, как никто другой, сумел живописать на своих полотнах «глубокую страсть души» русского человека. Его мудрые суждения как нельзя лучше подходят к Денису Давыдову, всю жизнь до последнего дыхания отдавшего служению Родине: «В душе русского человека есть черта особого скрытного героизма. Это – внутрилежащая, глубокая страсть души, съедающая человека, его житейскую личность до самозабвения. Такого подвига никто не оценит: он лежит под спудом личности, он невидим. Но это – величайшая сила жизни, она двигает горами, она руководила Бородинским сражением, она пошла за Мининым, она сожгла Смоленск и Москву. И она же наполняла сердце престарелого Кутузова».
С летами имя истинного патриота Отечества Дениса Давыдова приобрело всенародную и всеевропейскую славу.
Крупнейшему английскому романисту Вальтеру Скотту не довелось лично познакомиться с Денисом Васильевичем. Он вел с ним переписку и повесил у себя в кабинете портрет доблестного предводителя партизан, написанный художником Д. Диглоном.
«...Я только что прочел письмо моего племянника Владимира Давыдова к его отцу, – писал Давыдов Вальтеру Скотту, – в котором он сообщает о чести, которую Вы ему оказали, приняв его с такой любезностью, и о разговоре, который он вел с Вами по поводу меня. Признаюсь, за всю мою военную службу, вообще за всю мою жизнь ничто не льстило так моей душе... Верьте солдату, который лучше умеет чувствовать, чем выражаться: если ему в будущем нужно будет чем-нибудь воодушевиться, достаточно будет ему перечесть Ваши магические строки, которые он списал и хранит тщательно вместе с письмами, которыми его почтил маршал Кутузов во время гибельной и славной кампании 1812 года...»
«Вы себе не можете представить, как сердца англичан и в особенности мое, – ответил в письме Вальтер Скотт Черному Капитану (ибо за рубежом Давыдов получил эту кличку), – сильно сочувствовали Вам, мы все с надеждой и страхом, вследствие событий решительных, мысленно перенеслись на Ваши биваки, покрытые снегом, и радовались от полноты сердца исходу Вашего победоносного поприща».
Давыдов послал в Англию, в дар Скотту, оружие кавказских горцев, взятое им с боя у неприятеля. В приложенном к посылке письме он упоминал: «Вы мне указываете в Вашем письме Ваше желание ознакомиться с основными чертами партизанской войны... Я с радостью почту долгом отправить Вам мои «Воспоминания о поисках 1812 года» и мой «Опыт партизанских действий»...» Все эти материалы были нужны английскому писателю для завершения романа «Жизнь Бонапарта».
Вальтер Скотт назвал Давыдова «знаменитым человеком, чьи подвиги в минуты величайшей опасности для его Отечества вполне достойны удивления, что имя его, украшая самую блестящую и вместе почетнейшую страницу русской истории, передастся в позднейшие века».
Лев Толстой увековечил Давыдова в романе «Война и мир» в образе беззаветного храбреца-партизана Василия Денисова: «Денисов был маленький человек с красным лицом, блестящими черными глазами, черными взлохмаченными усами и волосами. На нем был расстегнутый ментик, спущенные в складках широкие чикчиры и на затылке была надета смятая гусарская шапочка». Знаменитый романист находит для Давыдова (Денисова) емкие проникновенные слова, в то время как многих полководцев пишет широкими общими мазками:
«Денисов сидел перед столом и трещал пером по бумаге.
Он мрачно посмотрел в лицо Ростову.
– Чай, пишу, – сказал он. – Ты видишь ли, друг. Мы спим, пока не любим. Мы дети праха... а полюбил – и ты Бог, ты чист, как в первый день созданья».
Мудрый прозаик, талантливый поэт и авторитетный военный летописец-художник Давыдов оставил после себя большое наследие, как один из видных и самобытных русских писателей.
В 1941 году, в начале Великой Отечественной войны с фашистской Германией, поэт Михаил Спиров помянул в своих стихах подвиги знаменитого партизана Отечественной войны 1812 года:
Он смотрит вперед торопливо В холодный предутренний дым. Промерзшая конская грива Сугробом встает перед ним. Он видит спаленные крыши, Замерзший реки берега. Здесь в каждом сугробе отыщешь Казацкою пикой врага... Гусар и не думал, беспечный, Мечтая всю ночь до утра, Что он оставляет на вечность След сабли И след от пера...Недаром в суровые и роковые годы смертельной схватки с гитлеровскими палачами были переизданы «Военные записки» Дениса Давыдова. Эта книга, написанная острым пером по горячим следам партизанских рейдов, помогла нашим бойцам громить могучего и коварного врага и «побеждать его не числом, а умением».
В годовщину 150-летия Бородина, в 1962 году, на фасаде дома № 17 по Пречистенке была торжественно открыта мемориальная гранитная доска с изображением вдохновенного лица поэта и прославленного партизана. Под портретом высечено: «В этом доме в середине 30-х годов XIX века жил герой Отечественной войны 1812 года, поэт-партизан Денис Давыдов». Дабы особо выделить литературный дар храброго генерала, архитектор Котырев увенчал надпись гусиным пером.
В Москве, возле златоглавого Смоленского собора Новодевичьего монастыря, над его могилой установлен бюст из черного гранита. На постаменте начертано:
ДЕНИС ДАВЫДОВ
ГЕРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.
ИНИЦИАТОР ВОЙСКОВЫХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ
ВОЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ И ПОЭТ
Приложения
Словарь исторических, мифологических, литературных имен и названий
Абшид – свидетельство об увольнении, отставка.
Авангард – войсковой отряд, который находится впереди главных сил.
Аванпост – сторожевой отряд, который выставляют впереди войсковой части.
Авель (1757–1841) – монах (в миру крестьянин Василий Васильев), славился своими предсказаниями.
Адриан – христианский мученик IV в. Наталья, его жена, перенесла мощи Адриана в Византию.
Аи – марка знаменитого шампанского.
Александр I (1777–1825) – российский император с 1801 г. «Мне думалось, – писал молодой Александр своему воспитателю Лагарпу, – что если когда-либо придет мой черед царствовать, я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ей сделаться в будущем игрушкою в руках каких-нибудь безумцев. Это заставило меня подумать о многом, и мне кажется, что это было бы лучшим образом революции, так как она была бы произведена законной властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена и нация избрала бы своих представителей». Этим либеральным планам «революции сверху» не суждено было сбыться. «Дней Александровых прекрасное начало» обернулось десятилетием кровопролитнейших войн, которые вела Россия с 1805 по 1815 гг. в Пруссии, Швеции, Балканах, одержав победу в Отечественной войне 1812 г., совершив блистательный заграничный поход, окончательно разгромив Наполеона в 1815 г. при Ватерлоо. Александр I не обладал полководческим даром. «Могучий баловень побед», – это А.С. Пушкин сказал не о нем, а о Наполеоне, воспевая «Россию, бранную царицу». Денис Давыдов – участник всех антинаполеоновских войн царствования Александра I.
Анакреон (VI–V вв. до н.э.) – древнегреческий поэт, который воспевал любовь и пиршества.
Аполлон – бог солнечного света и поэтического вдохновения, предводитель муз.
Арак – крепкий спиртной напиток.
Арапник – охотничья плетка.
Аргамак – верховая породистая лошадь.
Аристофан (ок. 445–385 гг. до н.э.) – греческий поэт, выдающийся комедиограф.
Аренда – в старину применялась как форма награждения (доход с казенного поместья).
Арьергард – войсковой отряд, следующий позади главных сил, части, прикрывающий отступление.
Асессор – заседатель, младший чин в губернском правлении.
Багговут Карл Федорович (1761–1812) – генерал-майор, перешел на русскую службу в 1779 г. подпоручиком. Участник войны с Турцией 1781–1791 гг. командовал авангардом в бою при Прейсиш-Эйлау. Героически сражался под Смоленском, при Бородине. Погиб 6 октября 1812 г. в бою при Тарутине.
Багратион Петр Иванович (1765–1812) – князь из знатного грузинского княжеского рода, выдающийся русский полководец, генерал от инфантерии. Один из лучших и любимых учеников Суворова. Командовал авангардом русской армии в походах и почти во всех крупнейших сражениях 1805–1809 гг. – при Аустерлице, Прейсиш-Эйлау, Фридланде. Во время Бородинского сражения 2-я Западная армия Багратиона более шести часов удерживала Семеновские (Багратионовы) флеши, куда французы направили свой главный удар. Во время боя получил тяжелое ранение. Умер 12 сентября 1812 г. от гангрены в д. Симы Владимирской губ. По инициативе Дениса Давыдова прах Багратиона был перевезен на Бородинское поле и 24 июля 1839 г., в 27-ю годовщину Бородинского сражения, с почестями похоронен рядом с памятником героям Бородина на Курганной высоте. Командовать почетным конвоем высочайшим повелением предписано было Денису Давыдову.
Балаган – временный барак, шалаш.
Балашов Александр Александрович (1777–1847) – сенатор, ведал в Москве комиссией строений.
Балашов (иногда Балашев) Александр Дмитриевич (1770–1837) – государственный деятель, генерал-адъютант. В 1810–1819 гг. – министр юстиции (полиции). В начале войны 1812 г. направлялся Александром I для переговоров с Наполеоном о прекращении военных действий.
Баратынский Евгений Абрамович – (1800–1844) – поэт. Входил в дружеское поэтическое братство, о котором П.А. Вяземский писал:
«Дельвиг, Пушкин, Баратынский, Русской музы близнецы».Денис Давыдов совместно с В.А. Жуковским в 1824–1825 гг. принимал активное участие в его освобождении из «финляндского заточения». «Сделай милость, – писал он генерал-губернатору Финляндии А.А. Закревскому, – постарайся за Баратынского, разжалованного в солдаты, он у тебя в корпусе. Гнет этот он несет около восьми лет или более, неужели не умилосердятся?» Баратынский воспел Дениса Давыдова в эпилоге поэмы «Эда» (1824), посвятил ему стихотворение «Д. Давыдову» (1826).
Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1741–1818) – князь, генерал-фельдмаршал, выходец из старинного шотландского рода, участник всех антинаполеоновских войн 1805–1809 гг., с 1810 г. – военный министр, в 1812 г. – командующий 1-й русской Западной армией, в 1813–1814 гг. – соединенными русской и прусской армиями. Во время Бородинского сражения руководил действиями войск правого фланга и центра русской армии. Отличился, по словам Ф.Н. Глинки, «ледяным хладнокровием, которого не мог растопить и зной битвы Бородинской». А.С. Пушкин писал о нем: «Стоическое лицо Барклая есть одно из замечательнейших в нашей истории. Не знаю, можно ли вполне оправдать его в отношении военного искусства, но его характер остается вечно достоин удивления и поклонения». Барклаю-де-Толли посвящено пушкинское стихотворение «Полководец» (1835):
«О вождь несчастливый! Суров был жребий твой: Все в жертву ты принес земле тебе чужой».Лишь позднейшие историки, вслед за Пушкиным, смогли оценить значение «отступления» Барклая в спасении русской армии перед решающим сражением.
Бегичев Дмитрий Никитич (1786–1855) – офицер, впоследствии сенатор и писатель, был женат на сестре Д. Давыдова.
Беннигсен Леонтий Леонтиевич (1745–1826) – граф, генерал от кавалерии. С 1773 г. находился на службе в русской армии. В Отечественную войну 1812 г. в августе-ноябре исполнял обязанности начальника Главного штаба. За интриги против М.И. Кутузова отстранен от должности. В 1818 г. покинул Россию.
Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844) – граф, генерал от кавалерии, сенатор, член Государственного совета. Военную карьеру начал в 1803 г. на Кавказе. Участвовал во всех войнах 1805–1814 гг. С 1819 г. – начальник штаба Гвардейского корпуса. Вошел в круг ближайшего окружения Николая I после 14 декабря 1825 г. С особым «усердием и жаром» исполнял обязанности члена суда над декабристами. С 25 июня 1826 г. возглавил «высшую полицию» при императоре – III отделение и Корпус жандармов. В своей деятельности на этом посту руководствовался «благородными и благодетельными побуждениями», основанными на том, что «нравственность, прилежное служение и усердие» несовместимы с «неопытным, безнравственным и бесполезным» просвещением.
Березина – река в Белоруссии. Через нее в ноябре 1812 г. удалось переправиться остаткам «великой» армии Наполеона.
Блюхер Гебхард Леберехт (1742–1819) – прусский генерал-фельдмаршал, в 1813–1814 гг. командовал объединенной русско-прусской армией.
Богарне Эжен (1781–1824) – французский генерал, вице-король Италии. Участник всех наполеоновских войн. В начале кампании против России был командиром 4-го корпуса. После бегства Наполеона во Францию возглавил остатки французской армии.
Ботфорты – высокие сапоги с твердыми голенищами.
Брань – бой, сражение.
Бранная – военная, боевая.
Бриен-ле-Шато – город во Франции. Денис Давыдов особо отличился в сражении с французами под этим городом.
Бурцев Алексей Петрович (ум. в 1813 г.) – бравый гусарский офицер, широко известен своим лихим, бесшабашным, своевольным нравом.
Буффонство – шутовство, балагурство.
Вадбольский Иван Михайлович (1781–1861) – князь, офицер, в 1812 г. командовал партизанским отрядом.
Ватерлоо – в этой битве в 1815 г. Наполеон потерпел сокрушительное поражение.
Вилие Яков Васильевич (1768–1854) – шотландский врач на русской службе, в 1812 г. – главный военно-медицинский инспектор.
Вицмундир – форменный фрак, одно время был введен в военный быт наряду с мундиром.
Витгенштейн Петр Христофорович (1769–1843) – генерал-фельдмаршал, участвовал во всех войнах с Францией в 1805–1807 гг. В 1812 г. командовал 1-м пехотным корпусом на Петербургском направлении.
Военная Коллегия – главный орган управления русской армией в XVIII в.
Воронцов Михаил Семенович (1782–1856) – светлейший князь, генерал-фельдмаршал. При Бородине его гвардейская сводная дивизия обороняла Шевардинский редут и Семеновские флеши. После 1818 г. – генерал-губернатор Новороссийского края. «Полумилорд, полукупец», – так назвал его А.С. Пушкин, имея в виду широкий размах торговли в портах Южного берега Крыма и Одессы. С 1844 г. – наместник Кавказа, совершил знаменитый Даргинский поход, покорил Дагестан, стремясь не только к военному, но и к мирному покорению Кавказа.
Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) – поэт, критик, мемуарист. Потомок старинного княжеского рода. Вместе с Денисом Давыдовым, В.А. Жуковским, А.С. Пушкиным принадлежал к «арзамасскому братству». 25 июля 1812 г. вступил в Московское ополчение, участвовал в Бородинском сражении, награжден орденом Св. Станислава 4-й степени. Один из ближайших друзей Дениса Давыдова в литературной среде, к которому обращены многие его письма. «Ворочусь как можно скорее в Москву, к друзьям моим, между которыми ты из первых мест занимаешь», – писал он Вяземскому из северной столицы.
Гагарин Федор Федорович (1786–1863) – князь, офицер, в 1812 г. адъютант Багратиона, отличался храбростью.
Генерал-аншеф – один из высших генеральских чинов в русской армии XVIII века.
Ганнибал (ок.247–183 до н.э.) – карфагенский полководец. В ходе 2-й Пунической войны (218–201) совершил переход через Альпы. Одержал ряд блестящих побед.
Гаубица – орудие для навесной стрельбы, небольшая пушка.
Генерал-марш – сигнал к атаке.
Генерал-поручик – генеральский чин в русской армии XVIII в.
Георгий – «Георгиевский крест», «Георгиевская медаль», «Георгиевское оружие» самые почетные боевые награды в дореволюционной России. Боевой офицерский орден Святого Георгия четырех степеней учрежден в 1769 г. «Сей орден никогда не снимать, – значилось в его статусе, – ибо заслугами оный приобретается». Только четыре человека за всю историю русской армии и флота были полными кавалерами ордена Св. Георгия: М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, И.Ф. Паскевич и И.И. Дибич. Солдатский знак отличия ордена Св. Георгия (солдатский Георгиевский крест) был учрежден в 1807 г. «Он приобретается, – указывалось в правилах, – только в поле сражения, при обороне крепостей и в битвах морских». По положению 1856 г. о Георгиевском солдатском кресте награждение начиналось с нижней 4-й степени, а затем, как и при награждении офицерским орденом Св. Георгия, выдавались последовательно 3-я, 2-я и 1-я степень. Награды всех степеней полные георгиевские кавалеры носили на груди в один ряд. Денис Давыдов был среди 491 офицеров, награжденных в Отечественную войну 1812 г. орденом Св. Георгия 4-й степени.
Главная квартира – штаб главнокомандующего.
Гренадеры – особые отборные части пехоты, вооруженные гранатами.
Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829) – поэт, драматург, дипломат. 26 июля 1812 г. добровольно зачислился корнетом в Московский гусарский полк, после войны служил в Брест-Литовске адъютантом при генерале от кавалерии А.С. Кологривове. В феврале 1822 г. определен в штат А.П. Ермолова «по дипломатической части». На Кавказе им созданы два первых акта задуманной комедии «Горе от ума». Знакомство с Денисом Давыдовым произошло в 1824 г. «Дениса Васильевича обнимай и души от моего имени, – писал он из Петербурга в Москву в 1825 г. их общему приятелю Д.Н. Бегичеву, – нет здесь эдакой буйной и умной головы, я это всем твержу: все они сонливые меланхолики, не стоят выкурки из его трубки». Осенью 1826 г. Денис Давыдов путь из Москвы на Кавказ в действующую армию проделал вместе с Грибоедовым, возвращавшемся после оправдания по делу декабристов. «Мало людей более мне по сердцу, – писал он Ермолову о Грибоедове, – как этот урод ума, чувств, познаний и дарований».
Гусары – легкая кавалерия.
Депо – на военном языке: склад боеприпасов, оружия, продовольствия.
Дерпт (ныне Тарту) – город в Эстонии.
Дефиле – узкий проход, теснина.
Длань – рука.
Дирекция – направление.
Дневка – остановка воинской части на отдых, на целый день, во время похода.
Доломан – мундир гусара.
Драбант – солдат из личного конвоя командира.
Драгуны – в старое время воинские части, сражавшиеся и в конном и в пешем строю.
Дротик – короткое копье.
Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1756–1816) – генерал от инфантерии. Участник почти всех крупных сражений 1805–1809 гг. В августе 1812 г. героически защищал Смоленск, под Бородином командовал центром, а после ранения Багратиона – левым крылом. Решающее влияние на исход битвы имел подвиг корпуса Дохтурова под Малоярославцем, который в течение 36 часов выдерживал напор французов и заставил Наполеона вернуться на разоренную Смоленскую дорогу. Прославился своим фатализмом. «На каждом ядре, на каждой пуле написано, кому они предназначены, – они виноватого найдут», – был убежден он. А также – благотворительностью и щедростью. Беспредельно любил Россию и все русское, утверждая, что «самые недостатки русского народа выше достоинств иностранцев».
Дурова Надежда Андреевна (1783–1866) – первая в русской армии женщина-офицер, прозаик. Дочь гусарского ротмистра. Раннее детство провела в условиях походной жизни. В 1806 г., переодевшись в казачью форму, пристала к казачьему полку. В марте 1807 г. завербовалась рядовым в уланский полк под именем Александра Соколова. Участвовала в сражениях при Гутштадте, Гейльсберге, Фридланде. Награждена солдатским Георгиевским крестом № 6723.Тайна «русской амазонки» стала известна Александру I. После встречи с императором Дурова получила высочайшее разрешение на продолжение службы в армии и под именем корнета Александра Александрова зачислена в Мариупольский гусарский полк. Накануне Бородинского сражения получила «от ядра контузию в ногу», но осталась в строю. В августе 1812 г. произведена в поручики. Участвовала в заграничном походе. В 1816 в чине штабс-ротмистра вышла в отставку. Впервые выступила в печати в 1836 г., обратившись к А.С. Пушкину с предложением издать ее «Записки». Они были опубликованы с предисловием поэта во втором номере «Современника» и в том же, 1836 г., вышли отдельной книгой, принесшей Дуровой широкую известность. На журнальную публикацию Денис Давыдов откликнулся в письме к А.С. Пушкину от 10 августа 1836 г., вспомнив время отступления «от Немана до Бородина», когда Ахтырс-кий гусарский полк находился в арьергарде вместе с Литовским уланским полком, в котором служила Дурова. После публикации «Записок» Дурова издала несколько автобиографических и художественных книг, но самой значительной в историческом и литературном отношении остались «Записки кавалер-девицы».
Дюрют Дан-Франсуа (1767–1827) – граф, французский генерал.
Егеря – особые стрелковые полки.
Ера – озорной человек, гуляка.
Ермолов Алексей Петрович (1777–1861) – генерал-майор. С июля 1812 г. – начальник штаба 1-й Западной армии. В день Бородинского сражения возглавил контратаку на батарею Раевского, выполнял другие наиболее ответственные поручения М.И. Кутузова. 17 августа назначен начальником штаба объединенной армии. В 1813 г. – главнокомандующий всей артиллерией русской армии, участник сражений при Дрездене, Люцене, Бауцене, Лейпциге, Кульме. В марте 1814 г. – командир русской и прусской гвардий в последней битве с Наполеоном. В 1817–1827 гг. – «проконсул Кавказа», привел в подданство России многие горские народы. Двоюродный брат и кумир Дениса Давыдова, записавший рассказы о прославленном генерале. «Патриот, высокая душа, истинно русская, мудрая голова», – писал о нем А.С. Грибоедов, служивший при штабе Ермолова в Тифлисе «по дипломатической части». А.С. Пушкин посетил в орловском имении опального Ермолова осенью 1829 г. по дороге на Кавказ. «Был у меня Пушкин, – сообщал Ермолов в письме к Денису Давыдову, – я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я не нашел в себе чувство, кроме невольного уважения».
Жабо – кружевная или кисейная оборка на воротнике и на груди мужской сорочки.
Жженка – крепкий напиток, изготовляемый из зажженного коньяка или рома.
Жомини Анри (1779–1869) – барон, генерал французской армии, с 1813 г. – на русской службе, военный советник Наполеона. Один из учредителей русской Академии Генерального штаба. Военный писатель, историк.
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) – поэт, переводчик, критик. В автобиографии, помещенной в первом и единственном сборнике «Стихотворения Дениса Давыдова» (1832) поэт писал о себе в третьем лице: «Между порошами и брызгами, живя в Москве без занятий, он познакомился с некоторыми молодыми людьми, воспитывавшимися в университетском пансионе, они доставили ему случай: прочитать «Аониды», издаваемые тогда Н.М. Карамзиным, имена знакомых своих, напечатанные под некоторыми стансами и песенками, помещенными в «Аонидах», воспламенили его честолюбие. Он стал писать». Так в 1798–1802 гг. началась дружба Дениса Давыдова с В.А. Жуковским и другими «пансионными братьями». В 1815 г. Жуковский и Вяземский введут Дениса Давыдова в «Арзамас». В декабре 1816 г. Жуковский познакомил Дениса Давыдова с лицеистом Пушкиным. Своей славой и приближением ко двору Жуковский-поэт обязан героической поэме «Певец во стане русских воинов», которую он – участник Бородинского сражения, поручик 1-го пехотного полка Московского ополчения – начал писать в сентябре и завершил в ноябре 1812 г., увековечив образы наиболее прославленных героев Отечественной войны, и среди них «пламенного бойца», «певца вина, любви и славы» Дениса Давыдова. «Мой друг, усатый воин», – обратился он к Денису Давыдову в стихотворном послании 1835 г. В конце января 1836 г. Денис Давыдов после долгого перерыва девять дней провел в Петербурге. 25 января на своем «чердаке» в Шепелевском дворце Жуковский устроил вечер в честь прославленного поэта-гусара, на котором присутствовали Пушкин, Вяземский, Крылов, Плетнев, Владимир Одоевский, молодой Гоголь, Тепляков. «Поутру, – сообщал Денис Давыдов в письме к родным, – представлялся императору, а потом наследнику. Оттуда мы с Жуковским прошли весь Эрмитаж, смотрели картинную галерею и потом смотрели живописца Чернецкого (Г.Г. Чернецова. – Ред.), который, по приказанию императора, пишет две картины двух парадов на Марсовом поле. Он просил меня поставить и мою фигуру в своей картине и потому, пока я сидел у Жуковского и слушал Гоголя, читавшего свою бесподобную чудесную комедию „Ревизор“, Чернецкий нарисовал мой портрет во весь рост». Эта картина находилась в Зимнем дворце, ныне – в музее им. А.С. Пушкина в г. Пушкине под Петербургом. На смерть Дениса Давыдова Жуковский отозвался стихами «Вмиг Давыдова не стало!..»
Закревский Арсений Андреевич (1783–1865) – граф, генерал-лейтенант. Участник антинаполеоновских войн 1805–1807 гг., Отечественной войны 1812 г., заграничных походов 1813–1815 гг. С 1823 г. – финляндский генерал-губернатор. С 1826 г. – сенатор. В 1828–1831 гг. – министр внутренних дел. В 1846-1857 гг. – московский генерал-губернатор. Однополчанин и друг Дениса Давыдова.
Заказать – запретить.
Запеканка – ягодная наливка.
Зефир – обожествленный легкий западный ветер.
Ипокрена – источник на горе Геликон, где, по преданию, обитали музы.
Иностранная коллегия – министерство иностранных дел.
Инфантерия – пехота.
Кабинет (его величества) – личная канцелярия царя.
Кавалергарды – тяжелая артиллерия: в кавалергардский полк, как правило, зачисляли только рослых людей.
Кагул – речка, приток Дуная. Русская армия в 1770 г. одержала здесь крупную победу над превосходящими силами турок.
Каданс – ритм в стихе, в танце.
Каземат – крепостное защитное сооружение.
Казимир – сорт полушерстяной ткани.
Камены – то же, что и музы.
Кантонир – квартиры – временное расположение войск.
Карбонеры (карбонарии) – угольщики (и т а л.), члены тайного политического общества в Италии, в начале XIX в. – вольнодумцы, революционеры.
Карабинеры – легкая пехота, вооруженная карабинами.
Каре – боевой строй войска в виде прямоугольника для оказания отпора коннице.
Карл XII (1682–1718) – король Швеции, славившийся личной отвагой, доходившей до безрассудства.
Кастельский ключ или ток (миф.) – источник на горе Парнас, пробитый копытом крылатого коня Пегаса. Почитался как священный ключ Аполлона и муз, дарующий вдохновение поэтам. В переносном значении – источник поэтического вдохновения.
Квартирмейстер – офицер, ведающий в походе установлением маршрута.
Канкеты – старинные комнатные лампы.
Кивер – шапка гусара, головной убор из кожи, обтянутой сукном.
Кирасиры – воины тяжелой кавалерии, защищенные кирасой-нагрудником и наплечником из кож и медных пластинок.
Клия, Клио – муза истории.
Клоб – клуб (старинное).
Константин Павлович (1779–1831) – великий князь, цесаревич. Второй сын императора Павла I. Участвовал в легендарном Итальянском походе А.В. Суворова, в антинаполеоновских войнах 1805–1807 гг. В Отечественную войну 1812 г. участвовал в боях под Смоленском, в битвах под Бауценом, Лейпцигом, Кульмом и других сражениях 1814–1815 гг. С 1822 г. – главнокомандующий польской армией. Был женат на польке Жанетте Грудзинской, получившей титул княгини Лович, что послужило причиной его отречения от прав на престол. Правление цесаревича в Польше закончилось восстанием 17 ноября 1830 г., в подавлении которого принял участие Денис Давыдов. На восстание откликнулись стихами А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, Денис Давыдов, что свидетельствует об общности их взглядов на «спор славян между собою».
Корф Федор Карлович (1774–1823) – барон, генерал, в 1812 г. командовал кавалерийским корпусом.
Кукшина С.А. – симбирская помещица, которой был увлечен Д. Давыдов.
Кульнев Яков Петрович (1763–1812) – боевой генерал, прославившийся храбростью и отвагой в войнах со Швецией и Турцией 1806–1809 гг., проявивший чудеса героизма в «ледовом походе» через Ботнический залив. «Понесенные в том походе труды, – отмечал М.Б. Барклай-де-Толли, – единственно русскому преодолеть только можно». Таким русским богатырем был для современников почти двухметровый генерал Кульнев, ставший кумиром для двадцатилетнего поручика Дениса Давыдова. «Мы были неразлучны, – вспоминал он, – жили всегда вместе, как случалось, то в одной горнице, то в одном балагане, то у одного куреня под крышею неба, ели из одного котла, пили из одной фляжки». В армии славились его приказы, в которых он обращался к солдатам «товарищи». Гродненский гусарский полк Кульнева одним из первых вступил в бой с армией Наполеона 27 июня 1812 г. «Уведомляю тебя, – писал он брату, – что я, командуя авангардом, первый из русских, который имел счастье сражаться с французским маршалом Удино под Вилькомиром и, побеждая на каждом шагу, по данному мне наставлению мало-помало отступаю, дабы заманить сих вероломцев внутрь пределов наших». Он был смертельно ранен 20 июля в бою у д. Боярщина. Последними словами умирающего Кульнева были: «Друзья, спасайте Отечество! Не уступайте врагу ни шага родной земли! Победа нас ожидает!» В 1830 г. на его могиле был установлен гранитный памятник со стихами В.А. Жуковского из поэмы «Певец во стане русских воинов»:
«Где Кульнев наш, рушитель сил, Свирепый пламень брани? Он пал – главу на щит склонил и стиснул меч во длани».Образ Кульнева запечатлен в стихотворении Дениса Давыдова «Поведай подвиги усатого героя...» (1808).
Кудашев Николай Данилович (1784–1813) – князь, офицер, в 1812 г. вожак партизан, зять М.И. Кутузова. Погиб в 1813 г. в сражении под Лейпцигом.
Курень – шалаш.
Куртинец – курд.
Кутайсов Алексей Иванович (1784–1812) – генерал-майор. В начале Отечественной войны 1812 г. начальник артиллерии 1-й армии. При Бородине командовал артиллерией всей русской армии. Погиб на батарее Раевского. Воспет в поэме В. А Жуковского «Певец во стане русских воинов».
Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813) – великий русский полководец, светлейший князь, генерал-фельдмаршал. Вступил в военную службу капралом артиллерии. В 1759 г. участвовал в русско-турецких войнах конца XVIII в., в походах и боях в Крыму. В 1774 г. тяжело ранен в бою близ Алушты, в 1788 г. ранен при взятии Очакова, участвовал во взятии крепостей Аккерман и Бендеры, в штурме крепости Измаил. С 1795 г. – командующий сухопутными войсками, флотом и крепостями в Финляндии. В 1801 г. – генерал от инфантерии, военный губернатор Петербурга. В 1805 г. – командующий русскими войсками, действующими против Наполеона в Австрии. В 1811 г. – главнокомандующий русской армией в войне против Турции. В начале Отечественной войны 1812 г. – начальник Петербургского, а затем Московского ополчения. С 17 августа 1812 г. – главнокомандующий русской армии. В заграничном походе 1813 г. – главнокомандующий союзными войсками. А.С. Пушкин писал о нем: «Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титло: спаситель России, его памятник: скала святой Елены! Имя его не только священно для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком?.. Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение, один Кутузов мог отдать Москву неприятелю, один Кутузов мог оставаться в этом мудром деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!»
Ланита – щека.
Лефебр (Лефевр) Франсуа-Жозеф (1755–1820) – герцог Данцигский, маршал Франции. Участник всех наполеоновских войн.
Ловита – охота, погоня.
Ловчий – возглавляет псовую охоту.
Лядунка – патронташ у кавалеристов.
Магазин – склад боеприпасов.
Мазурка – польский танец.
Мадригал – комплиментарное стихотворение.
Мамелюк – беглый наемник правителей Египта, от арабского – мамлук, т.е. невольник, раб.
Манерка – походная фляга для воды.
Марин Сергей Никифорович (1776–1813) – в 1812 г. – дежурный офицер при Багратионе, широкой известностью среди современников пользовались его стихи на «злобу дня», ходившие в списках. Поэт-сатирик.
Марс (миф.) – бог войны. Марсовы поля – поля сражений.
Марков Ираклий Иванович (1753–1829) – граф, генерал-лейтенант. В 1812 г. командующий московским ополчением.
Ментик – гусарская куртка, ее носили внакидку на одном плече.
Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825) – граф, суворовский генерал, участник Итальянского похода, отличился при Аустерлице и во многих других сражениях 1805–1809 гг. В Бородинском сражении командовал центром, а при отступлении к Москве – арьергардом. Участвовал в сражениях при Тарутине, Малоярославце, Вязьме, Красном, в боях за Кульм, Лейпциг. С 1818 г. – военный генерал-губернатор С.-Петербурга. Уцелев в 52 сражениях, был смертельно ранен 25 декабря 1825 г. на Сенатской площади отставным поручиком П. А Каховским. Его уговаривали не выезжать на площадь, но он ответил: «Что же это за генерал-губернатор, если он боится пролить свою кровь, когда кровопролитие неизбежно?»
Мирабо (1749–1791) – один из главных деятелей французской революции XVIII в.
Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790–1848) – генерал, в 1812 г. адъютант М.И. Кутузова, военный историк.
Моэт – марка шампанского.
Муза (миф.) – девять богинь – покровительниц искусств и наук.
Мыза – усадьба с хозяйственными постройками, хутор.
Мюрат Иоахим (1761–1815) – маршал Франции, король Неаполитанский. В войне против России командовал кавалерийским корпусом. Потерпел поражение под Тарутиным. Когда Наполеон бросил свою армию, тайно уехав в Париж, Мюрат возглавил отступавших французов.
Наместник – в России XVIII в. начальник губернии или нескольких губерний.
Наполеон I Бонапарт (1769–1821) – первый консул Франции с 1799 г., император с 1804 по 1815. Накануне нашествия французов широкую известность в русской армии получила политическая эпиграмма Дениса Давыдова «К портрету Бонапарта». На смерть поверженного полководца А.С. Пушкин откликнулся стихами «Наполеон»:
«Чудесный жребий совершился: Угас великий человек...»Нара – река неподалеку от Москвы, на ее берегах было приостановлено в 1812 г. продвижение французов.
Нарышкина Мария Антоновна (1779–1854) – фаворитка Александра I.
Неверовский Дмитрий Петрович (1771–1813) – герой Отечественной войны 1812 г., генерал-лейтенант. Командовал дивизией, отличившейся в боях за Смоленск, при Бородине, под Тарутиным и Малоярославцем.
Ней Мишель, князь Московский (1769–1815) – герцог, маршал Франции.
Непременные квартиры – постоянное место расположения воинской части.
Николай I (1796–1855) – великий князь, с 1825 г. император. Третий сын императора Павла I, вступил на престол после кончины императора Александра I и отречения великого князя Константина Павловича. «Он чистосердечно и искренне верил, – отмечала А.Ф. Тютчева, – что в состоянии все видеть своими глазами, все слышать своими ушами, все регламентировать по своему разумению, все преобразовывать своею волею». Он лично руководил всеми делами, проводя за работой восемнадцать часов в сутки. Тридцатилетнее царствование Николая I завершилось поражением России в Крымской войне. Денис Давыдов был представлен императору и наследнику престола воспитателем наследника В.А. Жуковским 26 января 1836 г.
Орлов-Денисов Василий Васильевич (1775–1843) – граф, казачий генерал, в 1812 г. вожак партизан.
Очаков – турецкая крепость, осажденная русскими войсками в 1783 г.
Павел I (1754–1801) – великий князь, с 1796 г. – император. С первых дней царствования предпринял решительные меры по борьбе с коррупцией, инфляцией, обнищанием народа, что вызвало недовольство правящей элиты. Убит в результате дворцового переворота 11 марта 1801 г.
Палаш – прямая и широкая сабля, оружие тяжелой конницы.
Пален Петр Петрович (1778–1864) – граф, генерал от кавалерии, член Государственного совета. Боевой генерал, блестяще проявивший себя в сражениях за Прейсиш-Эйлау, за Париж. Участник турецкой войны 1829 г., польской кампании 1831 г. С 1835 г. – посол в Париже. С 1853 г. – председатель Комитета о раненых.
Палуб – платформа, на которой устанавливалось артиллерийское орудие.
Партизан – от латинского слова «парс» – партис, что значит часть, участок. Впервые в значении сторонник, участник войны употреблено при Петре I.
Паскевич Иван Федорович (1782–1856) – граф Эриванский, светлейший князь Варшавский. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. В 1827 г. сменил А.П. Ермолова на посту главнокомандующего Отдельным кавказским корпусом, пообещав вышибить из солдат «ермоловский дух». Денис Давыдов при нем под предлогом болезни покинул действующую армию, написав эпиграмму, обращенную к гонителям Ермолова:
«Терзайте клеветой его дела земные, Но не сорвать венка вам с славного чела, Но не стереть с груди вам раны боевые».Под командованием Паскевича Денис Давыдов вновь оказался в 1831 г., призванным в армию во время польской кампании. В своей походной тетради он записал: «Паскевич, при замечательном мужестве, не одарен ни прозорливостью, ни решительностью, ни самостоятельностью, свойственным лишь высоким характерам. Не отличаясь ни особой твердостью духа, ни даром слова, ни способностью хорошо излагать на бумаге свои мысли, ни умением привлекать к себе сердца ласковым обращением, ни сведениями по какой-либо отрасли наук, он не в состоянии постигнуть дух солдат и поэтому никогда не может владеть сердцами их». Во всем этом Денис Давыдов видел в Паскевиче антипод Ермолова, обладавшего и прозорливостью, и решительностью, и высоким характером, и твердостью духа, и умением постигать дух солдат, владеть их сердцами.
Пегас (миф.) – крылатый конь Аполлона, символ поэтического вдохновения.
Пери – ангел в восточной мифологии, в переносном значении – прекрасная женщина.
Перигор Луи – французский офицер, адъютант маршала Бертье.
Перун (миф.) – бог грома и молнии у древних славян, в русской мифологии Перун – верховное божество.
Перуны – громы и молнии.
Пикет – часть сторожевого расположения войск, соответствующая нынешней заставе.
Пинд (миф.) – горная цепь в Греции. В нее входили горы Геликон и Парнас, служащие местопребыванием Аполлона и муз.
Пиндар (ок. V в. до н.э.)– древнегреческий поэт.
Плато – поднос с украшениями или цветами, который ставили на парадном обеденном столе.
Платов Матвей Иванович (1753–1818) – граф, генерал от кавалерии, атаман Войска Донского, один из самых популярных в народе героев Отечественной войны 1812 г. Сын войскового старшины, начал службу с тринадцати лет в казачьем войске. Впервые прославился своей отчаянной храбростью в 1774 г. в бою с ханской конницей на реке Калнах, участвовал в штурмах Очакова, Измаила. При Павле I был оклеветан. При Александре I произведен в генерал-лейтенанты и назначен атаманом Войска Донского. В антинаполеоновских войнах 1805–1807 гг. казаки Платова били цвет французской кавалерии. В Отечественную войну 1812 г. летучий корпус Платова входил в состав 1-й Западной армии и до Бородина одержал три крупных победы. В Бородинском сражении казаки Платова совершили легендарный рейс в тыл французской армии. При бегстве Наполеона наносили удары по тылам. «Платов, – отмечал великий князь М.П. Романов, – будучи одаренным выдающимися военными дарованиями и неустрашимостью, не имел соперников в том деле, которое выпало на его долю: он умел воодушевлять казаков на изумительнейшие подвиги, он жил всегда единой жизнью с донцами и разделял с ними все тягости и лишения войны». Воспет в послании Г.Р. Державина в поэме «Певец во стане русских воинов» В.А. Жуковского, в казачьих песнях, лубочных картинках.
Плутонги – мелкие подразделения войск в строю.
Понтировка – термин карточной игры.
Понтоны – у Дениса Давыдова крепостные сооружения.
Пороша – охота по свежевыпавшему, рыхлому снегу.
Прага – предместье Варшавы.
Прёйсиш-Эйлау – селение в Восточной Пруссии, где в январе 1807 г. произошло ожесточенное сражение между русско-австрийскими и французскими войсками. С 1946 г. – Багратионовск Калининградской обл.
Прокурат – проказник.
Психея (миф.) – олицетворение человеческой души, в переносном значении – прекрасная женщина.
Пунш – горячий спиртной напиток.
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – великий русский поэт, драматург, прозаик. Познакомился с легендарным «бородинским бородачем» Денисом Давыдовым зимой 1818–1819 гг. в Петербурге на квартире В.А. Жуковского, уже будучи автором прославивших его имя стихотворения «Воспоминания о Царском Селе» и оды «Вольность». Позднее признавался, что Денис Давыдов «дал ему почувствовать еще в Лицее возможность быть оригинальным». В 1830 г. в письме к Вяземскому Денис Давыдов приводил пушкинские слова: «Он, хваля стихи мои, сказал, что в молодости своей от стихов моих стал писать круче и приноравливаться к оборотам моим, что потом вошло ему в привычку». В 1821–1822 гг. ссыльный Пушкин обратился к «удальцу-партизану» с двумя посланиями: «Певец-гусар, ты пел биваки» и «Недавно я в часы свободы». 17 февраля 1831 г. Денис Давыдов был среди ближайших друзей Пушкина на «мальчишнике», устроенном накануне свадьбы. Тогда ж, в начале 30-х годов, Пушкин вместе с Денисом Давыдовым неоднократно бывал в подмосковном имении Вяземского Остафьево. Пушкин читал Денису Давыдову свои новые произведения в доме Павла Нащокина. В 1836 г., посылая Денису Давыдову «Историю пугачевского бунта», Пушкин сопроводил ее стихами: «Тебе, певцу, тебе, герою!..» В январе-феврале они неоднократно встречались в Петербурге на квартире Вяземского, у боевого офицера В.И. Карлгофа, получившего известность в 30-е годы своей песней «Вот идут полки родные» и невыдуманными рассказами из армейского быта, а по субботам – на «олимпийском чердаке» в Шепелевском дворце у Жуковского. Пушкин публикует в «Современнике» стихи и статьи Дениса Давыдова. В августе 1836 г. Пушкин сообщал об «увечьях», нанесенных воспоминаниям «Занятие Дрездена» военной цензурой: «Ты думал, что твоя статья о партизанской войне пройдет сквозь цензуру цела и невредима. Ты ошибся: она не избежала красных чернил. Право, кажется, военные цензоры марают для того, чтоб доказать, что они читают...» Денис Давыдов ответил ему в духе военных реляций: «Эскадрон мой, как ты говоришь, опрокинутый, растрепанный и изрубленный саблей цензуры, прошу тебя привести в порядок: убитых похоронить, раненых отдать в лазарет, а с остальным числом всадников – ура! – и снова в атаку на военно-цензурный комитет». Смерть Пушкина стала одной из самых тяжких утрат для Дениса Давыдова. Об этом он пишет Вяземскому 3 февраля и через месяц, 6 марта 1837 г.
Рабо (1743–1793) – французский историк и политический деятель времен буржуазной революции.
Раевский Николай Николаевич (1771–1829) – один из самых прославленных генералов Отечественной войны 1812 г. Боевое крещение получил 15-летним офицером при осаде Бендер. Участвовал в Персидском походе. В войнах 1805–1809 гг. командовал авангардом князя Багратиона. В Отечественной войне 1812 г. увековечил свое имя и имена своих детей при осаде Смоленска. В Бородинском сражении занимал ключевую позицию – центральный редут, сохранившийся в истории как «редут Раевского». Участвовал в сражениях при Малоярославце, Красном, тяжело ранен картечью под Лейпцигом. Первым явился у стен Парижа. При Николае I – член Государственного совета. А.С. Пушкин писал о нем: «Свидетель екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привлекает к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества».
Рашук – турецкая крепость. Взята русскими войсками в 1810 г.
Регистратор (коллежский регистратор) – низкий гражданский чин в царской России.
Редут – земляное укрепление круговой обороны.
Реляция – письменное донесение.
Ретирада – отступление.
Робеспьер Максимильен (1788–1794) – глава революционного правительства якобинской диктатуры.
Ростопчин Федор Васильевич (1765–1826) – граф, генерал от инфантерии, писатель. Занимал ряд важных государственных постов при Павле I. При Александре I принадлежал к так называемой «русской партии», добивавшейся отставки М.М. Сперанского. Незадолго перед Отечественной войной 1812 г. был назначен генерал-губернатором и главнокомандующим Москвы. Один из организаторов московских ополчений. Прославился своими «афишами». С 1814 г. – член государственного совета. Даже противники отмечали, что Ростопчину «нельзя отказать ни в понимании своей родины и силы народного духа, ни в знании людей вообще».
Роялисты – сторонники короля во Франции.
Румянцев Николай Петрович (1754–1826) – граф, сенатор, министр иностранных дел и канцлер (1807–1814). Председатель Государственного совета. Объединил вокруг себя блестящую плеяду ученых, собиравших и изучавших русские древности. Собрание Румянцева положило начало Румянцевскому музею.
Сепор Филипп-Поль (1780–1873) – граф, французский генерал, военный историк и писатель.
Сенатор – в России член высшего судебно-административного учреждения – Сената.
Сен-При Эммунуил Францевич (1776–1814) – граф, генерал-майор русской службы, начальник штаба 2-й Западной армии П.И. Багратиона.
Сеславин Александр Никитич (1780–1858) – генерал-майор, отважный и неутомимый партизан Отечественной войны 1812 г. Получил 9 ранений в антинаполеоновских войнах 1805–1807 гг. Участник Бородинского сражения. После занятия французами Москвы – командир партизанского отряда, действовавшего на Боровской и Смоленской дорогах. Первым сообщил М.И. Кутузову о движении Наполеона на Калугу, что имело решающее значение в ходе дальнейших военных действий. В кампании 1814 г. ведет партизанские рейды во Франции. Благодаря лубочным картинкам, приобрел, как и Денис Давыдов, широкую популярность в народе.
Синклит – сборище.
Скрижали – в переносном значении завет, неколебимая основа.
Сопостат – старинная форма слова «супостат» (злодей).
Сорокопут – птица из породы воробьиных.
Спартанская жизнь – суровая жизнь, воспитывающая в человеке закалку и выносливость (по названию древнегреческой республики Спарта, где придавалось большое значение физической силе, храбрости и ловкости).
Сталь Анна Луиза Жермена де (1766–1817) – известная французская писательница. Была в оппозиции к Наполеону. В 1802 г. выслана из Парижа. В 1812 г. жила в России.
Стансы – стихотворение, в котором каждая строфа представляет собою законченное целое.
Степенные книги – свод исторических ценностей о России от древнейших времен до Ивана Грозного. Составлен в XVI в. Впервые был издан в 1775 г.
Стопы – ритмические единицы стихотворной речи, состоящие из определенного количества слогов и пауз.
Сцевола Гай Муций – по античному преданию, римский герой – юноша, пробравшийся в лагерь этрусков, чтобы убить царя Порсену. Был схвачен и, желая показать презрение к боли и смерти, опустил правую руку в огонь.
Талия – термин карточной игры.
Ташка – гусарская сумка из кожи и сукна.
Терпсихора (миф.) – муза танцев.
Тога – одежда древних римлян, в просторечии рядиться в тогу выдавать себя за героя или мудреца.
Тороки – решетки, которыми крепится к седлу поклажа.
Толь Карл Федорович (1777–1842) – граф, из древнейшего европейского дворянского рода. Боевое крещение получил в Итальянском походе Суворова. Отличился мужеством в отряде Милорадовича при переходе через Сен-Готард. Участник Аустерлицкого сражения и турецкой кампании. Участвовал в Бородинском сражении, совещании в Филях и в отступлении от Москвы. Назначен Кутузовым генерал-квартирмейстером главной армии. С 1815 г. – начальник Главного штаба. В турецкой войне 1829 г. – начальник штаба И.И. Дибича-Забалканского, который отдавал ему честь в блистательном переходе через Балканы и появлении русских войск у стен Царьграда. Начальник штаба при Дибиче и затем Паскевиче при усмирении польского мятежа 1829–1830 гг. При проведении военных операций был, как свидетельствовали современники, «холоден как лед», что помогало ему тактически переигрывать противника. Автор книги «Описание битвы при селе Бородине 24 и 26 августа 1812 года» (1839).
Толстой Федор Иванович (1782–1848) – граф. Начал службу в 1788 г. прапорщиком в Преображенском полку. Волонтером принял участие в кругосветном плавании И.Ф. Крузенштерна, но «со всеми перессорился и всех перессорил» и был высажен с корабля на Камчатке, до 1805 г. жил среди туземцев на Алеутских островах, после чего получил прозвище «Американец». Участник Шведской войны 1808 г. Дважды за дуэли разжалован в рядовые. Во время Отечественной войны 1812 г. – доброволец Московского ополчения. Тяжело ранен в Бородинском сражении и по представлении А.П. Ермолова произведен в полковники. Был в дружеских отношениях со многими поэтами пушкинского круга, но сам Пушкин в 1826 г., при возвращении из ссылки вызвал его на дуэль, которую усилиями друзей удалось предотвратить. Причиной вызова были слухи, порочащие честь поэта, исходившие от Толстого-Американца. Пушкинская хлесткая эпиграмма
«В жизни мрачной и презренной Был он долго погружен»тоже вызвана этими слухами. Но в 30-е годы они сблизились настолько, что Толстой-Американец был сватом Пушкина. Образ Толстого-Американца запечатлен в стихах П.А. Вяземского, А.С. Грибоедова. В дружбе с Денисом Давыдовым сказывалась общность литературных и гусарских пристрастий, культ «вина, любви и славы» и «сочетание противоположностей, редко сочетающихся».
Тормасов Александр Петрович (1752–1819) – граф, генерал от кавалерии, член Государственного совета. Избрал военное поприще еще при Потемкине. В 1782 г., командуя Далматским гусарским полком, усмирял восстание крымских татар. Участвовал почти во всех делах второй турецкой кампании, особенно отличившись в сражении при Мачине. С 1803 г. – киевский военный губернатор, с 1807 г. – рижский, в 1808–1810 гг. – главнокомандующий в Грузии. В Отечественную войну 1812 г. в полной мере проявились его способности как военного администратора. Кутузов поручал ему «управление армией в самое трудное и тревожное время». С 1814 г. – главнокомандующий Москвы после разорения ее французами. По свидетельствам современников, «сохраняя законы, был равно внимателен к богатому и бедному, сильному и слабому».
Трантельва – термин карточной игры.
Троянские герои – герои легендарной войны древних греков с Троей, воспетые в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера.
Турухтан – кулик, отличающийся драчливостью.
Тучков Павел Алексеевич (1776–1853) – генерал-майор. В 1812 г. командовал пехотной бригадой в 1-й Западной армии. Во время отхода русских войск от Смоленска, командуя авангардом, изменил направление движения своего трехтысячного отряда и выдвинулся к д. Валутина Гора, где в ожесточенном бою сдержал атаку 3-го французского корпуса маршала Нея. Перешел в контратаку и устремился навстречу противнику. Под ним пала лошадь. Тучков спешился и возглавил штыковую атаку пехотинцев. В этом героическом бою он был тяжело ранен и захвачен в плен.
Уваров Федор Петрович (1773–1824) – генерал от кавалерии, член Государственного совета, боевое крещение получил при Суворове, в отличился при Аустерлице. Участник бородинского сражения, с 1821 г. – командующий Гвардейским корпусом.
Угар – на гусарском жаргоне сорванец, кутила, лихой вояка.
Удино Никола Шарль (1767–1847) – маршал Франции. В 1812 г. был командиром корпуса, потерпел поражение под Клястицами. В 1814 г. перешел на сторону Бурбонов.
Уланы – легкая кавалерия, вооруженная пиками.
Урядник – унтер-офицер в казачьих войсках.
Фабра – косметическая мазь для усов.
Фашины – связки прутьев, применявшиеся при сооружении полевых укреплений.
Фиал – чаша, кубок.
Фигнер Александр Самойлович (1787–1813) – поручик. В 1810 г., будучи подпоручиком, был награжден Георгием 4-степени за героизм при штурме Рущука. В начале Отечественной войны 1812 г. – командир артиллерийской роты в 1-й Западной армии. С сентября – знаменитый партизан и разведчик, командир диверсионного отряда в занятой французами Москве. В 1813 г. – командир «Легиона мести», состоявший из казаков и бывших пленных итальянцев и испанцев. Погиб в бою при переправе через Эльбу. М.И. Кутузов писал о нем в письме к жене: «Погляди на него пристально, это – человек необыкновенный, я этакой высокой души не видал, он фанатик храбрости и патриотизма».
Фланкеры – конные застрельщики, высылавшиеся вперед для разведки или завязывания боя с противником. Фланкировка – действия кавалерии в рассыпном строю, направленные на прикрытие флангов.
Флеши – полевые укрепления в виде тупого угла.
Флюгера – флажки на пиках, которыми были вооружены уланы.
Форейтор – кучер, управляющий лошадьми в упряжке.
Форштадг – городское предместье.
Фортуна – богиня судьбы и счастья, в переносном значении – удача, успех.
Фура – армейская повозка.
Харита (миф.) – одна из трех спутниц богини любви Афродиты, в переносном значении – прекрасная женщина.
Херр (нем.) – господин.
Цевница – свирель.
Чекмень – мужская кавказская или казачья одежда (наподобие кафтана).
Челобитная – письменное прошение.
Чичагов Павел Васильевич (1767 -1819) – адмирал. В 1812 г. командовал Дунайской армией, которая действовала против южной группировки наполеоновских войск. Допустил ошибку при окружении остатков великой армии при Березине.
Шишков Александр Семенович (1754–1841) – адмирал, государственный секретарь, член Государственного совета, писатель. В1812–1814 гг. находился при Александре I в качестве государственного секретаря, составляя манифесты, приказы по армии, рескрипты.
Шлосс – замок, крепость (нем.).
Шлык – высокий головной убор, который носили старые женщины.
Шляхта – польское мелкопоместное дворянство.
Шнапс – по-немецки водка.
Штаб-офицер – офицер высшего чина (от майора до полковника).
Штаб-ротмистр – офицерский чин в кавалерии.
Эрцгерцог – титул наследника австрийского престола.
Эстафета – в старом военном языке приказ, посланный с нарочным.
Эссен Петр Кириллович (1772–1844) – граф, генерал от инфантерии, член Государственного совета, петербургский военный губернатор. В 1812 г. командовал корпусом.
Юнкер – в старину младший чин не только в военной, но и в иных случаях и в гражданской службе.
Юсупов Николай Борисович (1751–1831) – князь, член государственного совета, дипломат, главноуправляющий Кремлевской экспедицией и Московской оружейной палатой. Один из богатейших людей России, меценат, владелец и строитель знаменитой усадьбы Архангельское. К нему обращено стихотворение А.С. Пушкина «К вельможе».
Языков Николай Михайлович (1803–1846) – поэт, автор поэтического манифеста славянофилов «Не нашим», один из ярких представителей пушкинской плеяды.
«Клянусь Овидиевой тенью: Языков, близок я к тебе», –писал ему Пушкин в стихотворном послании 1824 г. С Денисом Давыдовым познакомился 17 февраля 1831 г. на «мальчишнике», на который накануне свадьбы Пушкин пригласил в снятую им квартиру в доме Хитрово на Арбате семерых самых близких своих друзей. Языков посвятил Денису Давыдову два стихотворных послания.
Якобинка – у Дениса Давыдова: революционерка.
Ямб – стихотворная двухсложная стопа с ударением на втором слоге.
Янычары – отборные войска в Турции.
Важнейшие события и даты Отечественной войны 1812 года
1812 год
12–14 (25–26) июня – переправа французской армии через Неман. Вторжение Наполеона в Россию.
Июнь–июль – отступление 1-й Западной армии под командованием Барклая-де-Толли.
13–14 (25–26) июля – Витебское сражение.
4–6 (16–18) августа – сражение у стен Смоленска.
6 (18) августа – назначение М.И. Кутузова главнокомандующим.
17 (29) августа – прибытие М.И. Кутузова к армии.
24–26 августа (5–7 сентября) – Бородинское сражение.
1 (13) сентября – военный совет в Филях.
2 (14) сентября – оставление русской армией Москвы.
Сентябрь–начало октября – тарутинский марш-маневр.
6 (18) октября – Тарутинское сражение.
7 (19) октября – французы покидают Москву. Взятие русскими Полоцка.
12 (24) октября – бой при Малоярославце.
22 октября (3 ноября) – сражение под Вязьмой.
26 октября (7 ноября) – освобождение Дорогобужа.
3–6 (15–18) ноября – битва под Красным.
14–16 (26–28 ноября) – переправа французов через Березину.
23 ноября (5 декабря)–2 (14) декабря – бегство Наполеона во Францию, переправа через Неман остатков французской армии.
25 декабря (6 января) – манифест об окончании Отечественной войны.
1813–1814 гг. Заграничные походы
1813 год
16 (28 апреля) – смерть М.И. Кутузова.
20 апреля (2 мая) – Люценское сражение.
8–9 (20–21) мая – Бауценское сражение.
4–7 (16–19) октября – Лейпцигская битва.
1814 год
19 (31) марта – вступление русской армии в Париж.
1815 год
8 (20) марта–10 (22) июня – «Сто дней». Возвращение Наполеона в Париж и новое воцарение у власти в течение ста дней. Битва при Ватерлоо. Победа союзных войск и поражение Бонапарта. Заточение Наполеона на остров Святой Елены. Смерть Наполеона (1821 г.)
Главные вехи в жизни и творчестве Дениса Васильевича Давыдова
16 июня 1784 г. – рождение в Москве.
23 июня того же года – крещение в церкви Неопалимой Купины.
Лето 1793 г. – памятная встреча с великим Суворовым в селе Грушевка.
1798–1801 гг. – учеба в белокаменной столице, участие в «Дружеском литературном обществе», первые пробы пера. Привольное и счастливое житье в живописном Бородине.
1801 г. Петербург – поступление на действительную военную службу эстандарт-юнкером в придворный полк конной гвардии – кавалергардский.
1803–1804 гг. – широкую известность получили острые сатиры и басни на политические темы: «Река и Зеркало», «Голова и Ноги», «Сон», «Орлица», «Турухтан и Тетерев». Они передавались в списках из рук в руки.
13 сентября 1804 г. «за оскорбление почтенных особ» Давыдова исключили по строжайшему приказу царя из гвардии и перевели из Петербурга в захолустный гусарский полк, в местечко Звенигородки, на окраину Киевской губернии.
1804–1806 гг. – крепкая дружба с отчаянным рубакой, кутилой и острословом гусарским поручиком Алексеем Бурцовым. В честь Бурцова Давыдов сочинил разудалые «залетные послания», которые одарили гусара-поэта славой не меньшей, чем его хлесткие басни и эпиграммы.
4 июля 1806 г. – перевод Давыдова из ротмистров гусарского полка в лейб-гвардейский гусарский полк, стоявший в Павловске, вблизи Петербурга.
16 ноября 1806 г. – неожиданная встреча с фельдмаршалом Каменским.
1807 г. – сбылась заветная мечта гусара попасть на войну: он получил назначение адъютанта князя Багратиона. «Боевое крещение» в схватках с французами на землях Восточной Пруссии.
26-27 января 1807 г. – сражение при Прейсиш-Эйлау.
1808–июнь 1809 гг. – участие в войнах против Швеции и Финляндии.
1809–1810 гг. – Давыдов прославил знамена русские в Молдавии и Турции, громя врага в Дунайской армии, под командованием князя Багратиона.
Апрель 1812 г. – присвоение чина подполковника и назначение командиром первого батальона Ахтырского гусарского полка.
Июнь–август 1812 г. – Ахтырский полк Давыдова бился под Миром, под Романовым, под Дашковкой. Ахтырцы участвовали во всех кровопролитных сшибках с авангардом неприятеля под Дорогобужем, Максимовым, Поповкой, Покровом вплоть до Гжатска.
21 августа 1812 г. – знаменательная встреча Багратиона и Давыдова у Колоцкого монастыря, где пламенный гусар горячо изложил князю план боевых партизанских действий.
24 августа – участие в бою при деревне Шевардино (начало знаменитого Бородинского сражения) под командованием князя Багратиона.
С 25 августа по декабрь 1812 г. – отряд Давыдова вступил на рискованное, многотрудное и славное поприще партизанской войны. Участие гусар Давыдова в составе регулярной русской армии в заграничных походах против войск Бонапарта.
1813 г. – в Германии.
1814 г. – во Франции.
1815 г. – Давыдов избирается в члены литературного кружка «Арзамас» с прозвищем «Армянин».
1816 г. – знакомство в Петербурге на квартире В.А. Жуковского с Пушкиным, которое с годами перешло в крепкую дружбу.
Апрель 1819 г. – женитьба на Софье Николаевне Чириковой.
1826 г. – участие в войне против персов на Кавказе.
1831 г. – лихой гусар вновь на поле брани, усмиряет восставших поляков.
Осень 1832 г. – в книжных лавках Москвы появился первый и единственный при жизни поэта сборник стихотворений Дениса Давыдова.
1833–1834 гг. – любовная лирика, посвященная пензенской красавице Евгении Золотаревой.
1833–1836 гг. – плодотворная литературная деятельность над «Дневником партизанских действий 1812 года», военно-историческими очерками, статьями и воспоминаниями.
Февраль 1837 г. – трагическая кончина Пушкина. Узнав о смерти «солнца русской поэзии», Давыдов тяжело заболевает.
Август 1837 г. – знаменательный день 25-летия Бородина. Отставной генерал-лейтенант Давыдов принимал в торжествах деятельное участие.
23 октября 1837 г. – Давыдов подал записку через военного министра графа А.Ф. Орлова на имя царя Николая I о перезахоронении праха князя П.И. Багратиона на поле Бородина.
22 апреля 1839 г. – 54-х лет от роду Давыдов умер от апоплексического удара в имении Верхняя Маза. Похоронен в Москве в Ново-Девичьем монастыре рядом с родовыми могилами предков.
Примечания
1
День рождения Дениса Давыдова и все остальные даты даются в романе по старому стилю.
(обратно)2
Гусарская ташка – кожаный карман на мундире гусара с золотым украшением.
(обратно)3
Фланкеры – передовые стрелки.
(обратно)4
Штейн – бывший прусский министр, получивший отставку по настоянию Наполеона и приехавший в 1812 году по приглашению Александра I в Россию.
(обратно)5
Коленкур – французский дипломат, несколько лет служивший посланником и Петербурге.
(обратно)6
Кривой – так ветераны звали с любовью и почтением князя М.И. Кутузова, лишившегося левого глаза еще во время турецкой кампании при Суворове.
(обратно)7
Ксеркс – царь (? – 465 г. до н.э.), возглавлял поход персов в Грецию, окончившийся их поражением. С той поры войска персов стали называть Ксерксовыми толпами.
(обратно)8
Форверц – вперед (нем.).
(обратно)9
«Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок?» (фр.)
(обратно)10
«Что делать, мадам, они свежее» (фр.).
(обратно)11
Имеется в виду эпиграф ко 2-й главе «Пиковой дамы».
(обратно)12
«Грузины» – известный в ту пору в Москве ресторан.
(обратно)13
«Парнасский адрес-календарь», или Роспись чиновных особ, служащих при дворе Феба и в нижних земских судах Геликона, с краткими замечаниями об их жизни и заслугах. Собрано из достоверных источников, для употребления в благошляхетском Арзамасском обществе.
(обратно)14
Предстража – полевой караул.
(обратно)
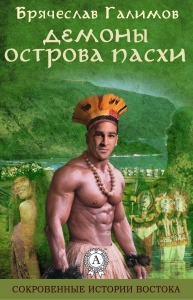

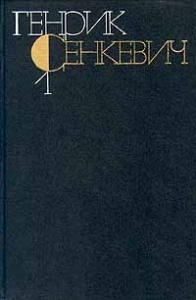
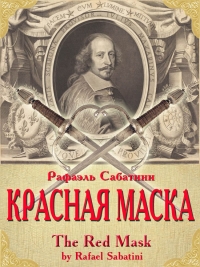
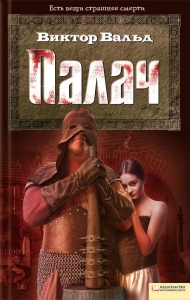
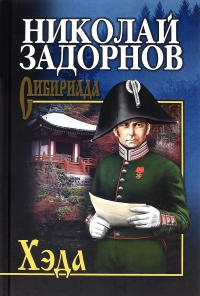


Комментарии к книге «Денис Давыдов», Александр Сергеевич Барков
Всего 0 комментариев