Стивен Прессфилд Врата огня Эпический роман о сражении при Фермопилах
Греческие меры длины и массы
Предметы и понятия, использованные для установления значений мер
Меры длины
Стадий 178,60 м.
Плетр 29,60 м.
Маховая сажень 1,79 м.
Двойной шаг 1,48 м.
Локоть 44,40 см.
Фут 29,62 см.
Ширина ладони 7,40 см.
Пядь 1,85 см.
Меры массы
Талант 36 000 г.
Мина 600 г.
Драхма 6 г.
Обол 1 г.
Историческая справка
В 480 году до н. э. войска Персидской державы под командованием царя Ксеркса численностью, согласно Геродоту, до двух миллионов (Геродот на самом деле называет цифру два миллиона, но, по мнению историков, это число преувеличено, по меньшей мере в десять раз. – здесь и далее примеч. переводчика) перешли Геллеспонт и вторглись в Грецию, чтобы поработить ее.
В отчаянной попытке задержать противника греки послали спартанский отряд из трехсот отборных воинов в Фермопильский проход. Горы там близко подходят к морю, так что огромное численное преимущество персов и их конница оказывались нейтрализованы, по крайней мере, частично. Греки надеялись, что отборные воины, готовые без колебания пожертвовать своей жизнью, смогут остановить персидские полчища хотя бы на несколько дней.
Триста спартанцев и их союзники семь дней удерживали захватчиков, пока мечи и копья греков не зазубрились и не сломались, но и тогда, как пишет Геродот, они продолжали сражаться «голыми руками и зубами», прежде чем были сломлены. Спартанцы со своими феспийскими союзниками погибли все до одного, но их героический пример вдохновил и сплотил греков. В ту осень и следующую весну они нанесли персам решающие поражения при Саламине и Платеях.
Сегодня при Фермопилах сохранилось два памятника. На современном, возведенном в честь павшего там спартанского царя Леонида, начертаны его слова, сказанные в ответ на требование Ксеркса сдать оружие: «Molon labe» – «Приди и возьми».
Второй монумент, древний, представляет собой простой камень с высеченными на нем стихами греческого поэта Симонида. – то, наверное, самая знаменитая из всех эпитафий воинам:
Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли. (пер. Г.А.Стратановского)«Из всех этих доблестных лакедемонян и феспийцев самым доблестным все же, говорят, был спартанец Диенек. По рассказам, еще до начала битвы с мидянами он услышал от одного человека из Трахина: если варвары разом выпустят свои стрелы, то от тучи стрел произойдет затмение солнца. Столь великое множество стрел было у персов! Диенек же, говорят, вовсе не устрашился численности варваров и беззаботно ответил: „Наш приятель из Трахина принес прекрасную весть: если мидяне затемнят солнце, то можно будет сражаться в тени“». Геродот. «История»(перевод с древнегреческого Г. А. Стратановского)
Лиса знает много хитростей.
Еж знает одну большую хитрость.
Архилох
КНИГА ПЕРВАЯ КСЕРКС
По велению Великого Царя Ксеркса, сына Дария, царя Персии и Мидии, Царя царей, Царя земель, владыки Ливии, Египта, Аравии, Эфиопии, Вавилонии, Халдеи, Финикии, Элама, Сирии, Ассирии и государств Палестины, правителя Ионии, Лидии, Фригии, Армении, Киликии, Каппадокии, Фракии, Македонии и 3акавказья, Кипра, Родоса, Самоса, Хиоса, Лесбоса и островов Эгейского моря, повелителя Парфии, Бактрии, Каспии, Сузианы, Пафлагонии и Индии, господина всех живущих на земле от восхода до заката солнца, Всесвятейшего, Праведнейшего и Высочайшего, Непобедимого, Неподкупного, Благословленного единым богом Ахурой-Маздой и Всемогущего среди смертных. Так повелел Великолепный, и так записано Гобартом, сыном Артабаза, его летописцем:
«После славной победы войск Великого Царя у Фермопильского прохода над боевыми порядками спартанцев с их союзниками, уничтожив врага до последнего человека и воздвигнув трофей в честь этой доблестной победы, Великий Царь в своей боговдохновенной мудрости пожелал побольше узнать как о некой тактике, примененной пехотой противника и оказавшейся довольно эффективной против войск Великого Царя, так и о самом неприятеле, чьи воины, не находящиеся под данью или в рабстве, встретившись с подавляющим численным превосходством неприятеля и предвидя неминуемую свою гибель, тем не менее предпочли остаться на своих позициях, где и погибли все до последнего человека.
Выраженное Великим Царем сожаление о недостатке знаний и понимания указанных вопросов услышал милостивый Ахура-Мазда. Под колесами боевой колесницы, заваленный трупами людей и упряжных животных, отыскался один израненный эллин (как называют себя греки), едва живой. Лекарям Великого Царя под угрозой мучительной смерти велено было привлечь все средства, дабы сохранить жизнь этого пленника. И бог исполнил пожелание Великого Царя. Грек пережил ночь и наступившее утро, а через десять дней к нему вернулись речь и сознание. Прикованный к ложу болезни и находясь под непосредственным наблюдением самого Царского лекаря, он наконец не только нашел в себе силы говорить, но и выразил жгучее желание к этому.
В одеянии пленника и его доспехах были замечены некоторые необычные особенности. Так, под боевым шлемом его оказался не традиционный войлочный подшлемник, какие носят спартанские гоплиты(гоплит – тяжеловооруженный пеший воин в древнегреческом городском ополчении. Он носил большой щит шлем и панцирь, а также поножи. Главным оружием были копье и меч), а кожаная шапочка, характерная для илотов, низшего лакедемонского класса крестьян. В то же время, необъяснимо для воинов Великого Царя, щит и доспехи пленника выкованы из превосходной бронзы, инкрустированы редким кавказским кобальтом, а шлем имел поперечный гребень – знак полноправного спартиата, начальника над простыми воинами.
На предварительных допросах было замечено, что язык пленника представляет собою странное смешение высокой литературной речи, свидетельствующей о глубоком знании эллинских эпических поэм и философии, и самого низкого и грубого жаргона, который в большой степени остался непереводимым даже для лучших толмачей Великого Царя. Однако пленный грек с охотой согласился перевести эти выражения сам, что и сделал, используя обрывки арамейского и персидского языков, с которыми, по его словам, он познакомился во время своих морских путешествий за пределы Эллады. Я, летописец Великого Царя, стремясь охранить уши Его Величества от непристойных и зачастую отвратительных выражений пленника, старался исключать оскорбительные слова, чтобы Великому Царю не пришлось терпеть их. Но Великий Царь в своей боговдохновенной мудрости повелел своему слуге передавать рассказ этого человека в точности, должным образом подбирая язык и соответствующие обороты персидского языка. Были приложены все усилия, чтобы в точности исполнить волю Его Величества. Молю богов, чтобы Великий Царь помнил возложенную Им же самим задачу и не разгневался на своего слугу за некоторые выражения нижеследующего перевода, которые, без сомнения, оскорбят всякого культурного слушателя.
Написано и представлено в шестнадцатый день месяца улулу в пятый год после Восшествия Великого Царя на престол».
Глава первая
В третий день месяца ташриту на пятый год царствования Великого Царя, перейдя лохрийскую границу, войско Великой Державы, не встречая сопротивления, продолжало свое продвижение на юг, в Центральную Грецию, и встало лагерем у восточного склона горы Парнас. Как и много раз прежде на марше из Азии, воды в местных ручьях не хватило, чтобы напоить войско и лошадей.
Нижеследующий предварительный допрос состоялся в походном шатре Великого Царя через три часа после захода солнца, когда завершился ужин и закончились все придворные церемонии. В присутствии полководцев, советников, телохранителей, магов и секретарей было велено привести грека. Пленника принесли на носилках, с завязанными глазами, чтобы он без позволения не мог взглянуть на Великого Царя. Маг произнес заклинание и выполнил обряд изгнания злых духов, чтобы позволить этому человеку говорить в присутствии Великого Царя. Пленника предупредили, чтобы он не обращался к царственной особе напрямую, а направлял свои речи Бессмертным (царским телохранителям), стоящим от Царя слева.
Командир Бессмертных Оронт велел греку назвать себя и тот ответил, что зовут его Ксеон, сын Скамандрида из Астака – города в Акарнании, и заявил, что прежде всего хочет поблагодарить Великого Царя за сохраненную жизнь а также выразить восхищение искусством царских лекарей. Этот человек, Ксеон, говорил, лежа на носилках и задыхаясь из-за нескольких незаживших ран на груди, задевших легкие. Он предупредил Великого Царя, что не обучен персидским правилам вести беседу и, к несчастью, обделен поэтическим и сказительским даром. Этот грек сказал что история, которую он поведает, будет не о полководцах и царях так как, по его словам, его положение не позволяло ему вблизи наблюдать политические интриги великих. Он может рассказать лишь о том, как жил он сам и что видел со своего места оруженосца в тяжелой пехоте и слуги в обозе. Возможно, заявил пленник, Великий Царь найдет мало интересного для себя в рассказе простого воина – «рядового», как он назвал это.
Великий же Царь через Оронта, командира Бессмертных отвечал, что, напротив, именно такой истории Ему и недоставало. Великий Царь уже более чем достаточно знает об интригах великих и потому желает теперь послушать «рассказ рядового пехотинца».
Что за люди эти спартанцы, которые за три дня на глазах Великого Царя убили не менее двадцати тысяч Его самых доблестных воинов? Что это за люди, которые, умирая; забрали с собой по десять, а по некоторым донесениям и до двадцати врагов? Каковы они были, эти люди? Кого любили? Над чем смеялись, о чем печалились? Великий Царь не. сомневается, что они подвержены страху смерти, как и все прочие из живущих на земле. Так какая же философия бросила их в ее объятия? А более всего, сказал Великий Царь, Ему бы хотелось постичь чувства самих этих людей, людей из плоти и крови, которых он видел сверху на поле битвы, но лишь смутно, издалека – как неясные существа в шлемах и доспехах, покрытых свежей и уже запекшейся кровью.
Под повязкой на глазах пленник потупил взор и вознес благодарственную молитву какому-то из своих богов. Поистине, история, которую он может и стремится рассказать, и есть та, что хочет услышать Великий Царь.
Хватит ли у Великого Царя терпения выслушать ее? К тому же рассказ не ограничится только битвой. Он начнется с предшествующих событий, поскольку только в их свете и в их перспективе жизнь и поступки тех воинов, которых Великий Царь видел при Фермопилах, приобретут свое истинное значение и смысл.
Великого Царя, полководцев, военачальников и советников удовлетворил такой ответ. Греку дали чашу вина с медом для утоления жажды и попросили начать оттуда, откуда хочет, и рассказывать так, как сочтет уместным.
Мне всегда было интересно: каково это – умирать?
В учебных лагерях, когда мы служили спартанским гоплитам болванами для битья, было одно упражнение. Оно называлось «дубки». Мы занимали позицию вдоль ряда дубов на краю Отонской равнины, на которой осенью и зимой спартиаты и благородные мужи упражнялись в военном искусстве. Мы выстраивались в десять рядов с длинными плетеными щитами, упирались ими в землю, а гоплиты били нас, наступая строем глубиной в восемь шеренг – сначала шагом, потом беглым шагом, потом легкой рысцой и наконец во всю прыть. Удар их сомкнутых щитов был рассчитан на то, чтобы выбить из нас дыхание. Так и происходило. Это напоминало столкновение с горой. Колени, как бы ты ни пытался удержать их, подгибались, словно тростинки под оползнем, а спустя миг мужество покидало наши сердца, и нас опрокидывало, точно былинки лемехом плуга.
Вот каково умирать. При Фермопилах копье пехотинца египтянина попало мне в солнечное сплетение. Но ощущение оказалось вовсе не таким, как можно было ожидать. Копье как будто не воткнулось, а с размаху ударило – чувство наподобие того, что мы испытывали под дубами.
Мне представлялось, что мертвые отстраняются от жизни,что они смотрят на жизнь издалека – полными отстраненной мудрости глазами. Но опыт доказал обратное. Умирающими правят чистые эмоции. Кажется, не остается ничего кроме эмоций. Мое сердце разорвалось и наполнилось болью, какой никогда в жизни не знало. Смерть охватила меня резким, всеподавляющим страданием. Я увидел мою жену и детей, мою дорогую Диомаху, которую я так любил. Я увидел Скамандрида, моего отца, и Эунику мою мать, Бруксия Дектона и Самоубийцу – эти имена ничего не говорят Великому Царю, но для меня они были дороже жизни и теперь, когда я умирал, они стали мне еще дороже.
Они улетели прочь от меня. Я улетел прочь от них.
Я ни на мгновение не забывал о моих товарищах по оружию, павших вместе со мной. Меня связывали с ними, узы, стократно усилившиеся тем, что я пережил. Умирая, я почувствовал невыразимое облегчение и понял, что больше смерти страшился разлуки с собратьями. Я предвидел жгучие мучения уцелевшего на войне, его невыносимое одиночество. Что испытывает тот, кто предал самого себя, кто предпочел в последний миг ухватиться за жизнь, когда его товарищи уже выпустили ее?
Состояние, которое мы называем жизнью, закончилось.
Я был мертв.
И все же… Каким бы титаническим ни было то испытанное мною чувство утраты, существовало еще более острое чувство. Я знал, что то же самое переживают вместе со мной и мои братья по оружию.
Я понял, что история нашей жизни погибнет вместе с нами.
Что никто никогда ее не узнает.
Я думал не о себе, не о своем эгоизме и честолюбивых планах, а только о них – о Леониде, об Александре и Полинике, об Арете, оставшейся одной у семейного очага, а больше всего – о Диэнеке. Меня тяготила мысль, что его доблесть, его ум, его тайные мысли, которые он доверил лишь мне,– все это просто исчезнет, улетит прочь, как дым от лесного пожара. Вот что было невыносимо.
Теперь мы добрались до реки Леты. Мы услышали ушами, которые больше не были ушами, шум воды; мы увидели глазами, которые больше не были глазами, течение Леты, и перед нами предстали сонмы долго страдавших мертвецов, чей срок мучений под землей наконец подходил к концу. Они возвращались к жизни, испив из этих вод, которые стирают из памяти все испытанное прежде.
Но для нас, погибших при Фермопилах, оставалась еще вечность до того часа, когда нам дозволено будет испить воды из Леты. Мы еще все помнили.
Плач, который был не плачем, а умноженной сердечной болью воинов, которые разделяли все мои чувства, придавал этой мрачной сцене невыразимый пафос.
Потом у меня из-за спины, сзади – если только в этом мире, где все направления слились в одно, у меня еще была спина и существовало понятие «сзади»,– разлилось сияние, такое возвышенное, что я понял (все мы вдруг поняли!): это может быть только кто-то из богов.
Стреловержец Феб, сам Аполлон в боевых доспехах, двигался среди спартиатов и феспийцев. Воцарилось полное безмолвие – да никакие слова и не были нужны. Стреловержец умел чувствовать муки людей, и люди без слов понимали, что он, воин и целитель, пришел сюда, чтобы спасти их. Внезапно – я даже не успел удивиться! – я ощутил, как его взгляд обратился ко мне. Ко мне, меньше всех достойному этого, тем более что рядом находился Диэнек, мой хозяин в жизни.
Я – избранник. Тот, кто вернется и обо всем расскажет людям. Меня охватила новая боль. Она оказалась еще страшнее, чем раньше. И даже сама прекрасная жизнь, даже отчаянно выискиваемый шанс поведать о нас людям – все это вдруг сделалось нестерпимым из-за боли, вызванной необходимостью покинуть тех, кого я полюбил.
Но перед величием божества невозможны никакие просьбы.
И я увидел иной свет – более блеклый, более грубый, более низкий – и понял, что это солнце. Я летел назад. 3вуки опять доходили до меня теперь через телесные уши. Это была речь воинов, египетская и персидская. Руки в кожаных ратных рукавицах вытягивали меня из груды мертвых тел.
Египетские пехотинцы позже сказали мне, что я произнес слово «локас» – на их языке оно означает грязное ругательство – и они хохотали, вытаскивая мое израненное тело на свет дня.
Они ошибались. Слово было «локсиас» – так греки почтительно титулуют Аполлона Лукавого, или Аполлона Уклончивого, чьи оракулы всегда уклончивы и неопределенны. О, я чуть ли не кричал на него я почти проклинал его за чудовищную ответственность, которую он возложил на меня – на меня, человека, не имеющего ни малейшего дара для выполнения подобной задачи.
Как все поэты взывают к Музам, чтобы говорить при их посредстве, так я прохрипел свой призыв к Разящему Издали.
Уж если ты действительно избрал меня, Лучник, так дай своим тонко оперенным стрелам вылететь из моего лука! Одолжи мне твой голос, Стреловержец! Помоги рассказать эту историю!
Глава вторая
Фермопилы славятся лечебными источниками. По-гречески слово «Фермопилы» означает « горячие ворота». Такое имя дали этому месту из-за бьющих там горячих ключей и потому что, как известно Великому Царю, это узкое ущелье с обрывистыми склонами, проникнуть в которое можно лишь с двух сторон: через Восточные и Западные ворота. По-гречески проход называют «пилэ» или «пилы».
Фокийскую стену, вокруг которой состоялось столь много отчаянных схваток, построили не спартанцы; она существовала еще задолго до сражения. В древние времена ее возвели жители Фокиды и Локриды для защиты от набегов со стороны северных соседей, фессалийцев и македонцев. Когда спартанцы пришли туда, чтобы занять проход, стена лежала в руинах. Спартанцы лишь восстановили ее.
Эллины не считают, что источники и сам проход принадлежат местным жителям, они доступны для всей Греции. Считается, что воды обладают целебным свойством, и летом туда стекается множество посетителей. Великий Царь наверняка заметил очарование тенистых рощ и купален, дубовых рощ, находящихся под защитой Амфиктионии (название союза греческих племен, живущих по соседству со святилищем общего высшего божества и объединяющихся для его защиты), и живописной извилистой тропы, вьющейся вдоль каменной Львиной стены, которую, по преданию, сложил сам Геракл. Обычно в мирное время у этой стены торговцы из Фракии, Антелы и Альпен разбивают свои весело расцвеченные шатры, чтобы обслуживать отважных путников, совершивших поход к горячим минеральным источникам.
Под самым обрывом близ Средних ворот есть двойной источник, посвященный Персефоне; его называют Скиллийский фонтан. В этом месте спартанцы и разбили свой лагерь – между Токийской стеной и пригорком, где потом состоялась последняя смертельная битва. Великий Царь знает как мало другой питьевой воды в окружающих горах. 3емля между воротами обычно так иссушена и пыльна, что нанимают специальных слуг поливать дорожки для удобства купающихся. 3десь сама земля тверда как камень.
Великий Царь видел, как быстро массы сражающихся воинов размесили в грязь эту мраморно-твердую глину. Никогда я не видел такой глубокой грязи, всю влагу которой составляли лишь кровь и моча сражавшихся на ней людей.
Когда перед сражением в Фермопилы прибыли передовые части спартанцев – за несколько часов до основных сил, двигавшихся ускоренным маршем,– они обнаружили,у целебных источников – невероятно! – две группы посетителей, из Тиринфа и из Халкиона, всего тридцать человек, мужчин и женщин; те собрались на своих отгороженных,участках, в разной степени обнаженные. Эти паломники обеспокоились, если не сказать больше, внезапным появлением скиритов (жители Скиритиды, области в Лаконии) в алых плащах и доспехах. Скиритов было числом до тридцати, их отобрали по резвости ног и умению сражаться в горах. Воины разогнали купальщиков и прислуживавших им торговцев благовониями, массажистов, продавцов инжира и хлеба, девушек для умащения кожи маслом, мальчиков для растирания тела и прочих. Все они прекрасно знали о наступлении персов, но думали, что недавняя буря в долине на время сделала северные подходы непроходимыми. Скириты также конфисковали всю провизию, мыло, холсты и медикаменты, а главное – шатры, которые впоследствии столь неуместно весело возвышались над кровавым побоищем. Спартанцы установили эти шатры в тылу, в своем лагере у Средних ворот, собираясь предоставить их Леониду и царским телохранителям.
Но спартанский царь по прибытии отказался укрываться в шатре, сочтя это недостойным. Тяжелая пехота спартиатов также отвергла эти удобства. По иронии, столь привычной для тех, кто знаком с войной, шатры достались спартанским илотам, феспийцам, фокийцам, рабам из опунтских локров и прочим бойцам вспомогательных частей, пострадавшим от стрел и дротиков. Эти люди после второго дня битвы также отказались укрываться в убежище. Клочья развеселых пестрых шатров из египетского холста, как видел Великий Царь, прикрывали морды обозных вьючных животных, мулов и ослов, которые так испугались вида и запаха сражения, что погонщики не могли их сдержать. В конце концов полотно шатров пошло на перевязку ран спартиатов и их союзников.
Говоря «спартиаты», я имею в виду официальный греческий термин «спартиатаи», который обозначает лакедемонский высший класс, полноправных спартанцев – гомеев, Равных. Никто из так называемых «благородных мужей», или периэков, вторичных спартанцев, не совсем полноправных граждан, и никто из завербованных в окружающих Лакедемон (древнегреческое государство Спарта на территории Лаконии. В качестве официального названия Спарты почти всегда употреблялся – Лакедемон) селениях при Горячих Воротах не сражался. Впрочем, к концу, когда спартиатов осталось так мало, что они уже не могли составить фалангу, освободившиеся места было позволено занять «разрыхляющим элементам», как выразился Диэнек,– из числа освобождённых рабов, носильщиков и оруженосцев.
Великий Царь может гордиться тем, что его войска разгромили цвет Эллады, сливки ее самых лучших, самых доблестных бойцов.
Что касается лично моего положения в спартанском войске, то объяснение этого может потребовать некоторого уклонения от темы, и я надеюсь, что Великий Царь проявит терпение.
В двенадцатилетнем возрасте я был захвачен лакедемонянами (или, точнее, сам сдался). Таких, как я, называлигелиокекауменос – это спартанское насмешливое прозвание буквально означает «обожжённый солнцем». Так называют полудиких подростков, загоревших дочерна, как эфиопы, под воздействием стихий. Таких водилось в избытке в горах до и после первой Персидской войны. Сначала меня бросили к спартанским илотам, в рабское сословие, которое лакедемоняне создали из жителей Мессении и Гелоса, покоренных и порабощенных много веков назад. Эти земледельцы, однако, отвергли меня из-за определенных физических недостатков, делавших меня непригодным к их работе. К тому же илоты ненавидели любых чужаков в своей среде и не доверяли им, опасаясь доносчиков. Почти год я вел собачью жизнь, пока судьба, удача или длань милосердного божества – уже не знаю, что – не привела меня на службу к Александру, спартанскому юноше, воспитаннику Диэнека. Это спасло мне жизнь. Я был признан, хотя и не без иронии, свободнорожденным, и, поскольку я выказывал некоторые качества дикого зверя, восхищавшие лакедемонян, меня повысили до статуса парастатес пэс – своего рода напарника для юношей, зачисленных в агоге. Агоге – это известный своей безжалостностью тринадцатилетний цикл тренировок, превращающий мальчиков в спартанских воинов.
Каждого тяжеловооруженного пехотинца-гоплита из класса спартиатов на войну сопровождает по меньшей мере один илот. Эномотархи, начальники эномотий (подразделение спартанской армии, часть фаланги, состояла из 36-64 гоплитов. В походах эмотия могла насчитывать меньшее количество гоплитов), берут по два. Таковым был и Диэнек. Командиры его ранга нередко выбирают себе в сопровождающие, в оруженосцы, свободнорожденного чужестранца или даже молодого мофакса – отпрыска неполноправных граждан, периэков, воспитанного и обученного в агоге. К добру ли, к несчастью ли, но мой господин выбрал для этой роли меня. Я надзирал в походе за его доспехами, следил за содержанием вещевого мешка, готовил пищу и постель, перевязывал раны – в общем, выполнял все необходимое, чтобы не отвлекать его самого от военных упражнений и собственно войны.
В детстве, до того, как судьба направила меня на этот путь, закончившийся у Горячих Ворот, я жил в Астаке, что в Акарнании, к северу от Пелопоннеса, где горы выходят на запад, к морю, откуда виден горизонт, за которым скрываются Сикелия (греческое название Сицилии) и Италия.
Через пролив там можно разглядеть остров Итака, родину хитроумного Одиссея, хотя самому мне никогда, ни в детстве, ни потом, не выпало чести ступит на священную землю великого героя: Мои тетя и дядя обещали меня свозить туда в подарок на мой десятый день рождения, но к тому времени наш город пал, всех моих родственников мужского пола перебили, а женщин продали в рабство. 3емлю наших предков захватили, и, говоря словами поэта, за три дня до того, как пошел мой десятый год под небесами, остался я, если не считать моей двоюродной сестры Диомахи, один-одинешенек, без семьи и крова.
Глава третья
Когда я был маленьким, у моего отца был раб по имени Бруксий. Впрочем, я не уверен, правильно ли называть его рабом, поскольку мой отец, похоже, куда больше зависел от Бруксия, нежели тот от него. Мы все находились в его власти, особенно моя мать. Как хозяйка дома она отказывалась принимать самые пустячные решения по хозяйству – а зачастую и не такие уж пустячные – без одобрения Бруксия. Мой отец обращался к нему за советом практически по всем вопросам, кроме городской политики. Сам же я был совершенно им околдован.
Бруксий был элейцем. Его взяли в плен аргосцы, когда ему было девятнадцать. Они ослепили его горящим дегтем, однако впоследствии познания элейца в целительных снадобьях вернули ему частицу прежнего зрения. На лбу у него было выжжено клеймо в виде бычьего рога – аргосский знак. Мой отец получил Бруксия, когда тому было уже за сорок,– в качестве компенсации за утопленный в море груз гиацинтового масла.
Насколько я мог судить, Бруксий умел все. Он мог вырвать больной зуб без гвоздики и олеандра. Мог в голых ладонях носить огонь. А самое важное, с точки зрения мальчишки,– он знал чары и заклинания, способные отвратить неудачу и сглаз.
Единственным слабым местом Бруксия, как я уже сказал, были его глаза. В десяти шагах от себя он почти ничего не видел. И это было для меня источником тайного удовольствия, так как слепота означала, что ему все время требовался мальчик, чтобы смотреть за него. Я неделями не расставался с нашим элейским рабом, находясь при нем даже ночью, поскольку он утверждал, что присматривает за мной, когда спит на овечьей шкуре в ногах у моей кроватки.
В те дни война, казалось, была всякое лето. Помню, по весне после посевной город проводил военные учения. Висевшие над очагом отцовские доспехи снимали, и Бруксий смазывал каждый ободок и сочленение, выправлял и налаживал, как он говаривал, «два копья и два запасных», заменял веревки и ремни на круглом дубово-бронзовом щите гоплита – гоплоне. Учения проводились на широкой равнине к западу от квартала гончаров, прямо под городскими стенами. Мы, мальчишки и девчонки, приносили навесы от солнца и фиговые лепешки, забирались куда-нибудь повыше, чтобы лучше видеть, и наблюдали, как наши отцы выполняют упражнения под сигналы трубача и удары боевого барабана.
В тот год, о котором я говорю, состоялся знаменитый спор насчет предложения, выдвинутого пританиархом – председателем городского собрания, землевладельцем по имени Онаксимандр. Он хотел, чтобы каждый мужчина стер со своего щита фамильный или личный знак и заменил его единообразной альфой по названию нашего города – Астак. Онаксимандр аргументировал это тем, что на всех спартанских щитах начертано гордое лямбда в честь их земли – Лакедемона. Так-то оно так, последовал насмешливый ответ, но мы же не лакедемоняне. Вспомнили историю про спартиата, на чьем щите была нарисована обычная домашняя муха в натуральную величину. Когда товарищи шутили над ним за это, он говорил, что в боевом строю подойдет к противнику так близко, что муха покажется тому величиной со льва.
Каждый год военные учения проходили по одной и той же схеме. Два дня царил энтузиазм. Каждый мужчина так радовался освобождению от земледельческих или мастеровых забот и воссоединению со своими товарищами, что учения приобретали привкус праздника. Утром и вечером устраивались жертвоприношения. Повсюду витал густой запах мяса, который жарили на вертеле, на каждой улице и площади поедались пшеничные булочки и медовые сласти, свежеиспеченные фиговые лепешки и чаши риса и ячменя, поджаренного на только что отжатом кунжутном масле.
На третий день у ополченцев появлялись волдыри. Щиты-гоплоны до крови натирали плечи. Наши воины в основном были крестьянами, якобы привычными к тяжелой сезонной работе. На самом деле большую часть времени, что эти труженики находились в поле, они проводили в холодке подсобных помещений, а не ходили за плугом. Теперь они уставали и обливались потом. В шлемах было жарко. К четвертому дню жизнерадостные вояки приводили серьезные оправдания, чтобы отлучиться: в крестьянском хозяйстве требуется сделать то-то, в мастерской нужно то-то, рабы потихоньку все разворовывают, а слуги только и знают, что развратничать.
– Смотрите, как прям строй сейчас, на учебном поле, – ухмылялся Бруксий, щурясь рядом со мной и другими мальчишками. – Под градом стрел и дротиков они не пойдут такими молодцами. Каждый будет тесниться вправо, прячась в тень товарища. – Имелось в виду, скрываясь за щит соседа по строю. – Когда они достигнут строя противника, правый фланг выдвинется на полстадия и его придется загонять на место собственной конницей!
Тем не менее наше гражданское ополчение (при полном призыве мы могли выставить до четырехсот тяжеловооруженных гоплитов), несмотря на некоторую пузатость и нетвердый шаг воинов, почитало себя более чем достойным. У того самого пританиарха Онаксимандра имелось две пары волов, захваченных у керионейцев, чьи земли наше войско в союзе с аргосцами и элеутрейцами безжалостно грабило три года подряд, спалив сотни хозяйств и убив более семидесяти мужчин. Мой дядя Тенагр в те годы завладел прекрасным мулом и полным комплектом доспехов. Почти каждому что-нибудь да досталось.
Но вернемся к учениям нашего ополчения. К пятому дню отцы города были уже в полном изнеможении, им все надоедало и вызывало отвращение. Жертвоприношения богам удваивались – в надежде, что милость бессмертных компенсирует недостаток полемике техне (военного искусства) или эмпирии (опыта) в нашем войске. Теперь в поле зияли огромные пробелы, и мы, мальчишки, спускались на землю со своими игрушечными щитами и копьями. Это служило сигналом прекратить маневры. Вызывая громкое ворчание у фанатиков ратного дела и огромное облегчение у основной массы тренирующихся, звучал сигнал к последнему параду.
Всех представителей союзников, которых имел город в тот год, когда мне должно было исполниться десять (Аргос прислал своего стратегоса автократора – верховного главнокомандующего этого великого города), весело проводили на зрительские места, и наши вновь воодушевленные граждане-воины, понимая, что их тяжкие испытания близки к завершению, взвалили на себя все оружие, какое имели, до последней драхмы, и промаршировали на славном смотре.
Это последнее событие было самым волнующим, с лучшими яствами и музыкой, не говоря уж о потоках неразбавленного вина, а закончилось все исходом множества крестьянских телег, среди ночи везущих домой по шестьдесят семь мин бронзовых доспехов и по три таланта громко храпящих воинов.
То судьбоносное для меня утро началось с яиц куропатки.
Среди многочисленных умений Бруксия первым считалось искусство в ловле птиц. Он был мастер ставить силки и ставил их именно на те ветки, где его добыча облюбовывала насест. И – хлоп! – хитрая ловушка срабатывала так нежно еле слышно с неименной осторожностью пленяя свою жертву в «башмаке», как называл это Бруксий.
Однажды вечером он украдкой позвал меня за хлев и драматическим жестом поднял свой плащ чтобы показать последнюю добычу – полного боевого задора самца дикой куропатки От возбуждения я потерял голову. У нас в курятнике было шесть домашних самок. Самец означал одно – яйца! А яйца были самым изысканным деликатесом, и я на городском рынке мог получить за них целое состояние.
Разумеется, через неделю наш маленький петушок, как господин, важно расхаживал среди курочек, и вскоре я уже ласкал в ладонях горку драгоценных куропаточьих яиц.
Мы идем и город! На рынок! Я разбудил свою двоюродную сестру Диомаху среди ночи – так мне хотелось добраться до нашей рыночной палатки и выставить на продажу всю мою кучу яиц. На рынке продавалась столь желанная мною флейта диавлос – двойная свирель, которой Бруксий обещал научить меня приманивать лысух и тетеревов. Продажа яиц сулила мне золотые горы, и уж теперь-то двойная свирель точно будет моей!
Мы вышли за два часа до рассвета, Диомаха и я, с двумя мешками зеленого лука и тремя кругами сыра в тряпке, нагруженными на хромую ослицу по имени Ковыляха Ее осленка мы оставили дома, привязав к стойлу,– таким образом в городе мы могли ее отпустить, когда разгрузим, и мама сама направится домой к своему малышу.
Я впервые шел на рынок без взрослых и впервые нес добычу на продажу. К тому же меня волновало присутствие Диомахи. Мне еще не было и десяти, а ей – уже тринадцать. Она мне казалась взрослой женщиной, самой милой и изящной во всей округе. Мне хотелось, чтобы все мои друзья выстроились вдоль дороги и увидели меня рядом с ней.
Мы только добрались до Акарнанийской дороги, когда увидели солнце. Еще скрываясь за горизонтом, оно пылало ярко-жёлтым цветом на фоне пурпурного неба. Только тут была одна странность: оно восходило на севере.
– Это не солнце,– сказала Диомаха, резко остановившись и дернув Ковыляху за недоуздок.– Это пожар.
Там находились земли Пиэриона, друга моего отца.
Дом и поля горели.
– Нужно помочь,– заявила Диомаха не терпящим возражений тоном, и, сжимая в руке тряпку с яйцами, я скорой рысью бросился за ней и потащил за собой ревущую хромоногую ослицу.
– Как это могло случиться до осени? – на бегу кричала мне Диомаха.– Ведь поля еще не иссушило! Посмотри на пламя – оно не должно быть таким большим!
Потом мы увидели второй пожар. К востоку от хозяйства Пиэриона. Еще одно поле. Мы замерли посреди дороги и тогда услышали топот лошадей.
3емля под нашими босыми ногами задрожала как при землетрясении. И мы увидели факелы. Всадники. Целый отряд. Тридцать шесть всадников неслись на нас. Мы увидели доспехи и шлемы с гребнями. Я бросился к ним, облегченно размахивая руками. Удача! Они нам помогут! С тридцатью шестью мужчинами мы быстро потушим огонь…
Но Диомаха с силой одернула меня:
– Это не наши люди.
Они пронеслись мимо галопом и показались мне огромными, мрачными и свирепыми. Их щиты были зачернены, все белые пятна на лошадях замазаны сажей а бронзовые поножи покрыты запекшейся кровью. В свете факелов я заметил что щиты под сажей белые. Аргосцы. Наши союзники. Три всадника натянули поводья перед нами, Ковыляха в страхе заревела и забила копытами, но Диомаха крепко держала повод.
– Что у тебя там, девочка? – спросил самый большой из всадников, сдерживая своего взмыленного, покрытого грязью коня перед мешками с луком и кругами сыра. Он был как башня, настоящий Аякс в беотийском шлеме с открытым лицом; под глазами у него виднелись намазанные чем-то белым полоски, чтобы лучше видеть в темноте. Ночные налетчики. Аргосец наклонился и попытался схватить Ковыляху. Диомаха со всей силы пнула его коня в брюхо, отчего тот заржал и понес.
– Вы жжете наши поля, предатели и ублюдки!
Она отпустила повод Ковыляхи и сильно хлопнула перепуганную ослицу рукой. Скотина бросилась бежать во всю прыть – и была такова.
Я бросался в бой под градом стрел и дротиков с тридцатью минами брони на плечах, и бессчётное число меня гоняли во всю прыть вверх по крутым изрытым склонам, доводя до смертельного изнеможения, но никогда мое сердце и легкие не работали так отчаянно, как в то жуткое утро. Мы поскорее оставили дорогу, опасаясь новых всадников, и что было сил пустились к дому по бездорожью. Теперь мы видели, что горят и многие другие поля и дома.
– Скорее! – орала на меня через плечо Диомаха.
Утром мы проделали больше двадцати стадиев от нашего дома по направлению к городу, и теперь нам предстояло пробежать это расстояние назад – по каменистым, заросшим кустарником склонам холмов. Ветки рвали нашу одежду, камни обдирали босые ноги, сердце было готово лопнуть в груди. Несясь через поле, я увидел то, от чего кровь застыла в жилах,– свиней. Три свиньи и их поросята единой вереницей поспешно двигались по полю, направляясь к лесу. Они не бежали и не проявляли никакой паники, это был просто чрезвычайно быстрый, хорошо организованный ускоренный марш. Мне подумалось тогда: эта свинина пережила нынешний день, а мы с Диомахой еще нет.
Мы снова увидели всадников. Еще один отряд, а за ним еще один, этолианцы из Плеврона и Калидона. Это было еще хуже, стало быть, наш город предал не один союзник, а вся коалиция. Я крикнул Диомахе, чтобы она остановилась,– мое сердце разрывалось от напряжения.
– Я брошу тебя, маленький говнюк!
Она потащила меня за собой. Вдруг из кустов возник человек. Это был мой дядя Тенагр, отец Диомахи, в одной ночной рубашке, с копьем в руке. Увидев Диомаху, он выронил оружие. Они сжали друг дружку в объятьях, задыхаясь. Но это только подстегнуло мой страх.
– Где мама? – услышал я вопрос Диомахи.
Глаза Тенагра обезумели от горя.
– А где моя мама? – закричал я.– А мой отец – где он, он с тобой?
– Мертвы… Все мертвы…
– Откуда тебе знать? Ты видел их?
– Видел, а тебе не надо этого видеть.
Тенагр поднял из грязи свое копье и зашелся плачем. Он обмарался, по его ногам стекало жидкое дерьмо. Тенагр всегда был моим любимым дядей, но теперь я так возненавидел его, что был готов убить.
– Ты убежал! – обвинил я его с детской бессердечностью.– Ты дал стрекача, трус!
Тенагр в ярости обернулся ко мне:
– Иди в город! Спрячься за стенами! – А что с Бруксием? Он жив?
Тенагр закатил мне такую оплеуху, что сшиб с ног:
– Глупый мальчишка! Ты больше печешься о слепом рабе, чем о собственных отце с матерью!
Диомаха подняла меня с земли, и я увидел в ее глазах ту же злобу и отчаяние.
– Что у тебя в руках? – закричала она на меня.
Я посмотрел на свои руки. Там были яйца, я все еще бережно сжимал в ладонях тряпку с яйцами!
Мозолистый кулак Тенагра разбил хрупкие скорлупки, и у моих ног растеклась тягучая жижа.
– Иди в город, наглый сопляк! Спрячься за стенами!
Глава четвертая
Великий Царь руководил разграблением бессчетного числа городов и не нуждается в подробном описании последующей недели. Я лишь добавлю одно наблюдение – наблюдение оцепеневшего от предчувствия мальчишки, сразу лишившегося матери и отца, семьи, рода, племени и родного города. Тогда впервые мои глаза заметили картины, обычные, как учит опыт, для всех битв и побоищ.
Тогда я понял: это всегда огонь.
В воздухе висит едкий дым, и от сернистого запаха закладывает нос. Солнце приобретает цвет золы, а на дороге, дымясь, валяются черные камни. Повсюду, куда ни взглянешь, что-нибудь да горит. Дерево, тела, сама земля. Горит даже вода. Безжалостность пламени усиливает ощущение гнева богов, судьбы, чувство кары, вечного наказания за совершенные поступки.
Все, что было раньше, теперь ты видишь с изнанки. Все вывернуто наизнанку.
То, что стояло прямо, падает. Что должно быть связано, освобождается, а что должно быть свободно – теперь связано. Что должно храниться в тайне, теперь выпячивается и вываливается наружу а те, кто должен был все это прятать, лишь смотрят пустыми глазами и ничего не предпринимают.
Мальчишки становятся мужчинами, а мужчины – мальчишками. Рабы становятся свободными, а свободные – рабами. Детство уходит. Известие о том, что отец и мать убиты, не так поразило меня горем и страхом за себя, как внезапным осознанием того, что с ними случилось. А где был я, когда их убивали? Я подвел их, я бегал по своим детским делам! Почему я не предвидел опасности? Почему не встал плечом к плечу с отцом, с оружием в руках, набравшись мужества и силы, чтобы защитить наш очаг или с честью пасть перед ним, как пали мои отец и мать?
На дороге лежали тела. В основном мужчины, но были и женщины, и дети, с теми же расплывшимися рядом темными пятнами. Кровь впитывалась в безжалостную грязь. Живые брели мимо них, пораженные горем. Все были в грязи, многие босы. Люди старались не попасть в рабские колонны и загоны, которые должны были вскоре появиться. Женщины несли детей, иные – уже мертвых. Убитые горем, они проплывали мимо как тени, унося какие-то жалкие бесполезные вещи – вроде лампы или свитка стихов. В мирное время городские замужние женщины выходили из дому в ожерельях, ножных браслетах, кольцах; теперь ни у кого ничего такого не было. Может быть, их драгоценности были где-то спрятаны, чтобы потом заплатить перевозчику или купить горбушку черствого хлеба. Мы встречали знакомых, но не узнавали их. И они не узнавали нас. Встречи друзей происходили на обочинах дороги или в кустах, где обменивались известиями об умерших и тех, кто скоро умрет:
Жальче всего было скотину. В то первое утро я увидел горящую собаку и подбежал потушить своим плащом ее дымящуюся шерсть. Пес, конечно, убежал, и я не смог его поймать, а Диомаха одернула меня, обругав за глупость. Этот пес был первым из многих. Лошади с перерезанными мечами сухожилиями, лежащие на боку с глазами, полными немого ужаса. Мулы с вывороченными кишками, волы с дротиками в боку, жалобно мычащие, но слишком перепуганные, чтобы подпустить к себе кого-либо. Они больше всего разрывали сердце, бедные тупые животные они вызывали еще большую жалость своей неспособностью осознать свою беду.
3ато для воронья настал истинный праздник. Первым делом они подлетали к глазам мертвецов. Птицы клевали мужчин в самую задницу – одному богу известно, почему. Живые сначала отгоняли их, возмущенно бегая за мирно обедающими любителями мертвечины, которые отлетали ровно настолько, насколько диктовала необходимость, а потом, как только опасность отступала, скакали обратно на пир. Почтительность требовала похоронить павших земляков, но страх перед вражеской конницей гнал нас прочь. Иногда трупы отволакивали в канаву и под жалкую молитву бросали на них несколько скупых горстей земли. Вороны так разжирели, что с трудом отрывались от земли.
Мы, Диомаха и я, не пошли в город.
Нас предали свои же, объясняла мне Диомаха. Она разговаривала со мной медленно, как с умственно отсталым, чтобы я понял ее наверняка. Нас продали собственные сограждане, несколько фракций, стремящихся к власти, а их самих перехитрили аргосцы. Астак был портом, пусть небольшим. Аргос так долго вожделел завладеть им. Теперь это случилось.
Утром следующего дня мы нашли Бруксия. Его спасло рабское клеймо. Клеймо и его слепота, над которой захватчики потешались, хотя он ругался и махал на них своим посохом.
– Ты свободен, старик!
Свободен – голодать или ради хлеба насущного самому проситься под ярмо победителя.
Вечером пошел дождь. И дождь тоже, кажется, был не временным финалом резни. То, что было золой, теперь превратилось в серую жидкую грязь, и раздетые тела, не забранные сыновьями и матерями, теперь блестели мертвенной белизной, вымытые не знающими сострадания богами.
Нашего города больше не было. Не осталось ничего – ни жителей, ни стен, ни хозяйств. Самый дух города, сам полис, эта коллективное сознание, называемое «Астаком», который был пусть меньше Афин, Коринфа или Фив, беднее Мегары, Эпидавра или Олимпии, но тем не менее СУЩЕСТВОВАЛ,– наш город, мой город был стерт с лица земли. Мы, называвшие себя астакиотами, оказались стерты вместе с ним. Кем мы стали без нашего города?
Это словно лишило всех последнего мужества. Никто не был в состоянии думать. Все сердца оцепенели. Жизнь напоминала спектакль, трагедию, какие можно увидеть на сцене: падение Илиона, разграбление Фив. Только теперь трагедия стала нашей жизнью и в ней играли реальные люди из плоти и крови – актерами стали мы сами.
К востоку от Поля Ареса (греческий бог войны), где хоронили павших в бою, мы наткнулись на человека, копавшего могилу ребенку. 3авернутый в плащ мертвый малыш лежал на краю ямы, как узелок торговца. Мужчина попросил меня подать ему тело. Он сказал, что боится, как бы ребенка не утащили волки, потому и закапывает так глубоко. Его имени он не знал. Ему дала его какая-то женщина, бежавшая из города. Мужчина носил ребенка два дня, а на третье утро младенец умер. Бруксий не позволил мне опустить мертвое тело. «Плохая примета,– сказал он,– молодой душе иметь дело с мертвыми». Он проделал это сам. Теперь мы узнали этого мужчину. Это был математикос, городской учитель арифметики и геометрии. Из кустов вышли его жена и дочь; мы поняли, что они скрывались там, пока не убедились, что мы не причиним им вреда. Все они были не в своем уме.
Бруксий научил нас распознавать признаки безумия. Оно заразно, и нам не следовало задерживаться.
– Нам были нужны спартанцы,– заявил учитель тихим голосом, уставившись в пустое пространство заплаканными глазами.– Всего полсотни спартанцев спасли бы город.
Бруксий подтолкнул нас – мол, пора идти.
– Видите, как мы оцепенели? – продолжал учитель. Мы блуждаем во мгле, потеряв рассудок. Спартанцев вы никогда не увидите в таком состоянии. Это,– он обвел рукой почерневший пейзаж, – их стихия. Они идут сквозь эти ужасы с открытыми глазами, неколебимо. И они ненавидят аргосцев. Это их злейшие враги.
Бруксий потянул нас прочь.
– Всего пятьдесят! – продолжал кричать безумец, в то время как жена пыталась затащить его под защиту кустов.– Пять! Да один-единственный мог бы спасти нас!
К вечеру второго дня мы нашли тело Диомахиной матери, а также тела обоих моих родителей: Отряд аргосской пехоты встал лагерем вокруг опустошенных развалин нашего хозяйства. Из поселений захватчиков уже прибыли землемеры и разметчики. Мы наблюдали из кустов, как назначенные люди с мерными аршинами нарезают землю и на белом заборе возделанного моей матерью огорода ставят какие-то закорючки и знак Аргоса, которому отныне принадлежала наша земля.
Какой-то аргосец вышел помочиться и заметил нас. Мы бросились бежать, но он звал нас. Что-то в его голосе убедило нас, что ни он, ни другие не замышляют никакого зла. На сегодня они насытились кровью. Аргосцы махали руками, призывая подойти, и выдали нам тела. Я стер грязь и кровь с тела матери рубашкой, которую она мне сшила к обещанной поездке на Итаку. Ее плоть напоминала мягкий воск. Я не плакал, когда заворачивал ее в саван, сотканный ее собственными руками и, как ни удивительно, не украденный из чулана аргосцами; не плакал и когда закапывал ее и отцовы кости под камнем с именем нашей семьи.
Я должен был исполнить погребальный обряд, но меня ему еще не обучили, ожидая, когда я достигну двенадцатилетнего возраста. Диомаха зажгла огонь, и аргосцы запели пэан – священную песню, единственную знакомую им:
3евс Спаситель, убереги нас, Идущих в твой огонь. Дай нам мужества встать Щит к щиту с нашими братьями. Под твоей могучей эгидой Мы наступаем, Повелитель громов, Наша надежда и защита.Допев гимн, аргосцы изнасиловали Диомаху. Сначала я не понял их намерений. Я думал, она нарушила какую-то часть обряда и они собираются побить ее за это. Один аргосец схватил меня одной мохнатой рукой за волосы, а другой обхватил шею, готовый сломать ее. Бруксию приставили к горлу копье и кончиком меча стали колоть в спину. Никто не произнес ни слова. Их было шестеро, без доспехов, в потемневших от пота хитонах, с мусором в густых бородах и мокрой от дождя, грубой, спутанной и грязной растительностью на груди. Они смотрели на Диомаху, на ее гладкие девичьи ноги и начинающие проступать под хитоном груди.
– Не трогайте их,– просто сказала Диомаха, имея в виду меня и Бруксия.
Двое отвели ее за забор огорода. Когда они закончили, Диомаху изнасиловали по очереди еще четверо. После этого меч убрали от спины Бруксия, и он пошел на огород, чтобы принести Диомаху. Но она не позволила. Она сама встала на ноги, хотя для этого пришлось опереться на забор; ее бедра потемнели от крови. Аргосцы дали нам четверть бурдюка вина, и мы взяли.
Было ясно, что Диомаха идти не может. Бруксий взял ее на руки. Один из аргосцев вложил в мою руку черствую горбушку хлеба.
– 3автра с юга подойдут еще два отряда. Идите в горы и двигайтесь на север. Не спускайтесь, пока не доберетесь до Акарнании.– Он говорил со мной ласково, как с собственным сыном.– Если наткнетесь на поселок, не берите туда девочку, а то снова получится так же.
Я повернулся и плюнул на его вонючий хитон – жест беспомощности и отчаяния. Когда я отвернулся, он схватил меня за руку:
– И избавьтесь от этого старика. От него никакого толку. Дойдет до того, что тебя и девчонку убьют из-за него.
Глава пятая
Говорят, иногда призраки, которые не могут разорвать своей связи с живыми, задерживаются в воздухе как бестелесные стервятники. Они отказываются подчиниться приказу Аида отправляться под землю и посещают те места, где жили под солнцем. Вот так же и мы – Бруксий, Диомаха и я – неделями кружили вокруг развалин нашего города. Больше месяца мы не могли покинуть наш опустошенный полис. Мы блуждали по диким местам над агротерой – окраинным пустырям вокруг пашен; днем, пока было тепло, спали, а ночами передвигались как тени,– да мы и были тенями. С гор мы наблюдали, как внизу копошатся аргосцы, занимая наши рощи и дома.
Диомаха больше не была такой, как раньше. Она в одиночестве уходила в темные чащи и проделывала невыразимые вещи со своим женским телом. Она пыталась разделаться с ребенком, который мог расти внутри нее.
– Она считает, что нанесла оскорбление богу Гименею,– объяснил мне Бруксий, когда я однажды застал ее и она прогнала меня проклятьями и градом камней,– и боится, что никогда не станет ничьей женой, а лишь рабыней или шлюхой. Я пытался сказать ей, как это глупо, но она не стала слушать слов мужчины.
В то время на холмах скрывалось немало таких, как мы. Мы натыкались на них у источников и пытались восстановить отношения с бывшими земляками-астакиотами. Но исчезновение нашего полиса навсегда разорвало прежние добрые отношения. Теперь каждый был сам по себе – каждый человек, каждая родственная группа.
Несколько моих знакомых мальчишек объединились в банду. Их было одиннадцать, все не больше чем на два года старше меня, и все отъявленные сорванцы. Они ходили с оружием и хвастали, что убивали взрослых мужчин. Однажды они поколотили меня, когда я отказался присоединиться к ним. Мне хотелось пойти с ними, но я не мог бросить Диомаху. Они бы взяли и ее, но я знал, что она никогда не приблизится к ним.
– Это наша территория,– предупредил меня вожак, двенадцатилетний звереныш, называвший себя Сфереем. Сферей означает «игрок в мяч», и он называл себя так, потому что набил травой череп собственноручно убитого аргосца и теперь вертел его в руке, как монарх свой скептрон (жезл, скипетр). Возвышенности над городом, недостижимые для аргосского оружия, он называл территорией своей банды.
– Если мы снова поймаем вас здесь – тебя, твою сестру или раба,– то вырежем вам печенку и скормим собакам. Наконец осенью мы покинули наш город. Это было в сентябре, когда подул Борей, северный ветер. Без Бруксия, разбиравшегося в корешках и умевшего ставить силки, нам бы пришлось голодать.
Раньше мы ловили диких птиц для забавы, или чтобы создать пару для несения яиц, или чтобы просто подержать птицу в руках, а потом выпустить на волю. Теперь мы их ели. Бруксий заставлял нас съедать все, кроме перьев. Мы хрустели маленькими, пустыми внутри косточками, ели глаза, съедали ноги до самых кончиков и выбрасывали только клюв и когти, которые было не разжевать. Мы глотали сырые яйца. Давились червями и слизнями. Мы поглощали личинок и жуков и дрались за последних ящериц и змей, пока те не уползли на зиму под землю. Мы съели тогда столько укропа, что до сих пор я затыкаю нос при запахе этой травки, если хоть щепотку добавляют к вареному мясу. Диомаха отощала, как тростинка.
– Почему ты больше не разговариваешь со мной? – спросил я ее как-то ночью, когда мы взбирались по каменистому склону.– Почему я не могу положить голову тебе на колени, как раньше?
Она заплакала и не ответила.
Я сделал себе пехотное копье из твердого ясеня и для прочности обжег острие на огне. Это была уже не детская игрушка, а оружие, предназначенное убивать. Мое сердце питалось картинами мести. Я буду жить среди спартанцев. Когда-нибудь я стану разить аргосцев. Я тренировался, повторяя виденные когда-то упражнения наших воинов, маршировал, как будто в строю, высоко выставляя перед собой воображаемый щит; мое копье, крепко сжатое над правым плечом, готовилось к броску. Как-то раз в сумерках я обернулся и увидел свою двоюродную сестру. Она холодно наблюдала за мной.
– Когда вырастешь, ты будешь как они,– сказала Диомаха, имея в виду аргосцев, надругавшихся над ней.
– Не буду!
– Ты будешь мужчиной. И не сможешь ничего с собой поделать.
Однажды ночью, когда мы шли уже несколько часов, Бруксий спросил у Диомахи, почему она так молчалива. Его беспокоили темные мысли, которые могли отравить ее душу. Сначала она отказалась говорить. Но потом в конце концов смягчилась и рассказала нам ласковым грустным голосом про свою свадьбу. Она всю ночь придумывала ее в голове – какое у нее будет платье, какой венок на голове, каким богиням принесет жертву. Диомаха призналась что часами думала о сандалиях. Обдумывала каждый ремешок, каждую бусинку. Как они будут красивы, эти брачные сандалии! Потом ее взор затуманился, и она отвела глаза.
– Вот и видно, какой дурочкой я стала. Никто на мне не женится.
– Я женюсь,– вдруг вызвался я.
Она рассмеялась:
– Ты? Да, у тебя много шансов!
Как ни глупо рассказывать об этом, но эти небрежные слова поразили мое мальчишеское сердце, как никакие другие за всю мою жизнь. Я поклялся, что когда-нибудь женюсь на Диомахе. И буду достойным мужчиной и воином, чтобы защитить ее.
Осенью мы пытались пожить на побережье, спали в пещерах и прочесывали низины и болотца. Там, по крайней мере можно было питаться. На берегу мы находили устриц и крабов, мидий и нотокантусов, которых разбивали камням и. Мы научились сетями на шестах ловить на лету чаек. Но с наступлением зимы жить без крова над головой стало невыносимо. Бруксий заболел. Он скрывал свою болезнь от меня и Диомахи, когда думал, что мы наблюдаем, но иногда когда он спал, я разглядывал его лицо. Элеец выглядел на семьдесят. В его годы тяжело было бороться со стихией, старые раны болели, но главное – он отдавал свою душу чтобы спасти наши, Диомахину и мою. Иногда я замечал, как он смотрит на меня, вглядываясь в выражение моего лица, прислушиваясь к тону моего голоса. Он хотел убедиться, что я не сошел с ума и не ожесточился.
Когда наступили холода, стало еще труднее добывать пищу Нам пришлось попрошайничать. Бруксий выбирал отдаленные хозяйства и один подходил к воротам. Шумной стаей собирались собаки, и из полей или из надворных построек настороженно появлялись люди – братья и отец, держа мозолистые руки на мотыгах и вилах, которыми в случае чего можно будет воспользоваться как оружием. На холмах в те дни было полно беженцев, и крестьяне никогда не знали, с какими коварными намерениями чужак может подойти к воротам. Бруксий снимал шапку и ждал хозяйку дома, чтобы она заметила его слепые глаза и изможденное состояние. Потом показывал на Диомаху и меня, жалко бредущих по дороге. Он не выпрашивал у женщины поесть – это превратило бы нас в глазах крестьян в попрошаек, на которых следует спустить собак,– нет, он просил какую-нибудь ненужную сломанную вещь. Грабли, цеп, изношенный плащ, которые мы могли бы починить, чтобы продать в следующем поселении. Для убедительности он спрашивал дорогу и изъявлял нетерпение двигаться дальше, давая понять, что доброта местных жителей не заставит нас задержаться. Почти всегда крестьянские женщины угощали нас обедом, иногда приглашали в дом, чтобы послушать новости из чужих мест и рассказать свои.
И вот во время одного из таких жалких обедов я впервые услышал слово «Сепия» Это место принадлежало Аргосу – лесистая местность близ Тиринфа, где произошло сражение между аргосцами и спартанцами. Мальчишка, принесший эту весть, приходился племянником принявшему нас крестьянину. Он был немым и объяснялся знаками, и даже собственная семья с трудом его понимала, но мы кое-как разобрали, что спартанцы под предводительством царя Клеомена добились замечательной победы. Мальчишка слышал, что погибло две тысячи аргосцев, хотя другие называли четыре тысячи и даже шесть. Мое сердце взорвалось радостью. Как бы я хотел оказаться там, со спартанцами! Быть взрослым мужчиной, наступать в боевом строю, обрушиться в справедливом гневе на аргосцев, за то что они вероломно зарезали мою мать и отца!
Спартанцы представлялись мне богами мщения. Я не мог наслушаться про героев, так сокрушительно разгромивших этих негодяев, которые убили моих родителей и надругались над моей невинной двоюродной сестрой. Ни один встречный не избежал моего горячего мальчишеского допроса. Расскажи мне про Спарту, Про ее двух царей. Про три сотни Всадников, охраняющих их. Про агоге, где обучают и воспитывают городских юношей. Про сисситию – трапезу воинов… Мы слышали легенду о Клеомене. Кто-то спросил его, почему он раз и навсегда до основания не разрушил Аргос, когда его войско стояло у ворот распростертого перед ними города. «Аргосцы нужны нам,– ответил Клеомен.– На кого же еще нам натаскивать наших юношей?»
На зимних холмах мы голодали. Бруксий слабел все больше и больше. Я принялся воровать. По ночам мы с Диомахой совершали набеги на овечьи загоны, палками отгоняли собак и, если удавалось, хватали какого-нибудь ягненка Большинство пастухов носили с собой луки, и в темноте вслед нам свистели стрелы. Мы останавливались подобрать их и вскоре набрали изрядный запас. Бруксию не нравилось, что мы стали ворами. Однажды мы раздобыли лук – стащили прямо из-под носа у заснувшего пастуха..`Это было оружие мужчины, лук фессалийского конника, такой тугой, что ни Диомаха, ни я не могли его натянуть. А потом случилось событие, которое изменило мою жизнь и направило ее по пути, закончившемуся у Горячих Ворот.
Меня поймали за кражей гусыни. Это была жирная добыча Видимо, ее откармливали для рынка, и ее крылья были колышками прибиты к земле. Когда я беззаботно перелез через забор, на меня набросились собаки. Меня заволокли в грязь на выгуле скотины и прибили к широкой доске размером с дверь, пронзив мне ладони ржавыми гвоздями. Я лежал на спине, крича от боли, а крестьяне привязали мои дрыгающиеся, пинающиеся ноги к доске и поклялись, что после обеда кастрируют меня, как барана, а мои яйца повесят на ворота в назидание другим ворам. Диомаха и Бруксий тайно прокрались ко мне по склону и могли слышать все это…
3десь пленник приостановил свое повествование. Усталость и незажившие раны взяли свою дань. А может быть, как представилось слушателям, он восстанавливал в памяти то мгновение. Великий Царь через командира Бессмертных Оронта спросил пленника, не нужно ли ему чего-нибудь. Тот человек отклонил предложение о помощи. 3аминка в повествовании, сказал он, возникла не из -за неспособности повествователя, но от вмешательства богов, под чьим внутренним водительством излагался порядок событий и которые теперь повелевают временно уклониться от темы. Этот человек, Ксеон, сменил позу и, получив разрешение смочить горло вином, возобновил свой рассказ.
На второе лето после этого происшествия, в Лакедемоне, я стал свидетелем другого тяжелого испытания: на моих глазах спартанского юношу забили насмерть его учителя по муштре.
Имя того парня было Териандр, ему было четырнадцать, и его прозвали Триподом – Треножником, потому что ни один из сверстников в агоге не мог повалить его в борьбе. В последующие годы в моем присутствии дюжины две других юношей погибли во время того же наказания. Все они, как и Трипод, сочли ниже своего достоинства застонать от боли, но тот парень был первым.
Порка – это ритуал в обучении юношей в Лакедемоне, не в наказание за кражу пищи (такими подвигами их поощряли развивать и совершенствовать свою изобретательность на войне), а за другое преступление – за то, что попались. Побои происходили у храма Артемиды Орфии на аллее, называемой 3вериная Тропа. При менее страшных обстоятельствах эта тенистая аллея под платанами была бы очень милым местечком.
Трипода пороли в тот день одиннадцатым. Двоих иренов, муштровщиков, руководивших поркой, сменила свежая пара – два парня, которым уже исполнился двадцать один год, только что вышедшие из агоге, крепко сколоченные, как и все юноши в городе. Дело происходило так: очередной юноша ложился на горизонтальный железный брус, укрепленный меж оснований двух деревьев (за десятки лет, а некоторые говорят – за века, брус был отполирован этим ритуалом), и, чтобы удержаться на нем, обхватывал его. Два ирена поочередно пороли юношу березовыми розгами толщиной с большой палец. У плеча истязаемого стояла жрица Артемиды, держа древнюю деревянную фигуру, которая, как диктовала традиция, должна была принимать на себя брызги человеческой крови.
Двое его товарищей по тренировочной группе стояли на коленях у плеч юноши, чтобы подхватывать наказуемого, когда он падал. В любое время он мог прекратить истязание, отпустив брус и упав в грязь. Теоретически истязаемый делал это, только потеряв сознание от побоев, но многие падали, просто когда больше не могли терпеть боль. В тот день на порку смотрело от ста до двухсот человек – юноши из других групп, отцы, братья и наставники и даже, скромно держась позади, некоторые матери.
Трипод терпел и терпел. Его спина уже была разодрана на дюжину частей – обнажились мясо и жилы, ребра и мышцы и даже позвоночник. Но он не падал.
– Брось! – уговаривали его между ударами два товарища, убеждая отпустить брус и упасть. Трипод отказывался. Даже ирены начали сквозь зубы уговаривать его. По одному взгляду на лицо юноши было видно, что он потерял рассудок и решил лучше умереть, чем приподнять руку, прося пощады. Ирены поступили так, как им было велено в таких случаях: они приготовились нанести ему подряд четыре сильнейших удара, чтобы вышибить из него сознание и тем самым спасти жизнь. Никогда не забуду звука тех четырех ударов по его спине. Трипод упал. Ирены тут же объявили, что истязание закончено, и вызвали следующего юношу.
Но Трипод умудрился подняться на четвереньки. Из его рта, носа и ушей текла кровь. Он ничего не видел и не мог говорить, но сумел повернуться и почти встал, однако потом осел, продержался мгновение в сидячем положении и тяжко рухнул в грязь. Было ясно, что ему уже никогда не встать.
Позже в тот вечер, когда порка закончилась (смерть Трипода не остановила ритуала, и он продолжался еще три часа), присутствовавший там Диэнек вместе со своим подопечным Александром, о котором я уже упоминал, отошел в сторону. В то время я прислуживал Александру. Ему было тогда двенадцать, но выглядел он не старше десяти, и хотя уже стал прекрасным бегуном, но оставался хрупким и чувствительным. К тому же он был привязан к Триподу – старший юноша был как бы его покровителем и защитником. Александра подавила его смерть.
Взяв с собой одного Александра, если не считать своего оруженосца и меня, Диэнек удалился на площадку перед храмом Афины, расположенную прямо у склона холма, на котором стояла статуя Фобоса, бога страха. В то время Диэнеку было, как могу судить, лет тридцать пять. Он уже получил две награды за доблесть – при Эрифрах против фиванцев и при Ахиллеоне против коринфян и их аркадских союзников.
Насколько помню, Диэнек, взрослый воин, так наставлял своего воспитанника. Сначала, ласковым и нежным тоном, он вспомнил свой первый случай, когда сам еще был мальчиком – младше, чем сейчас Александр,– и его товарища тоже запороли насмерть. Потом вспомнил несколько собственных испытаний под розгами на Звериной Тропе.
Затем начал череду вопросов и ответов, составлявшую традиционный лакедемонский план обучения:
– Ответь мне, Александр, когда наши соотечественники одерживают верх в сражении, что побеждает врага?
Мальчик ответил в немногословном спартанском стиле:
– Наша сталь и наша сноровка.
– Да, верно, но не только. А вот что,– ласково подсказал ему Диэнек. Он жестом указал вверх по склону на изображение Фобоса.
Страх.
Врага побеждает его собственный страх.
– А теперь ответь, что является источником страха?
Когда Александр замешкался с ответом, Диэнек руками провел по своей груди и плечам.
– Страх исходит отсюда, из тела. Тело,– объявил он, это мастерская страха.
Александр слушал с мрачным вниманием мальчика, знающего, что вся его жизнь будет войной, что законы Ликурга запрещают ему, как и любому другому спартанцу, заниматься чем-либо, кроме войны, что срок его повинности начинается в двадцать лет и заканчивается в шестьдесят и скоро, очень скоро, никакая сила на земле не сможет освободить его от места в строю и от столкновения с врагом – щит в щит, шлем в шлем.
– Теперь ответь снова, Александр. В выполнявших сегодня порку иренах заметил ли ты какие-нибудь признаки злобы?
Мальчик ответил:
– Нет.
– Ты бы назвал их поведение варварским? Они получали удовольствие от мучений Трипода?
– Нет.
– Их намерением было сокрушить волю Трипода и сломить его дух?
– Нет.
– Так каково же было их намерение?
– Укрепить его дух против боли.
Всю эту беседу старший воин вел ласковым, заботливым и любящим голосом. Что бы ни сделал Александр никогда голос наставника не становился менее любящим, никогда не выражал раздражения. Таков своеобразный дух спартанской системы обучения мальчиков – им подбирается ментор из чужих мужчин, не собственный отец. Ментор может сказать то, чего не скажет отец, а мальчик может признаться ментору в том, что постыдился бы открыть отцу.
– Сегодня получилось нехорошо, не так ли, мой юный друг?
Потом Диэнек спросил мальчика, как тот представляет себе сражение, настоящее сражение – сравнительно с тем, чему он стал свидетелем сегодня.
Ответа не требовалось и не ожидалось.
– Никогда не забывай, Александр: эта плоть, это тело принадлежат не тебе. И хваление богам за это. Если бы я думал, что это все мое, я бы не приблизился к врагу. Но это тело не наше, друг мой. Оно принадлежит богам и нашим детям, нашим отцам и матерям и тем лакедемонянам, которые родятся через сотни, тысячи лет. Оно принадлежит городу, который дает нам все, что у нас есть, и взамен требует не меньше.
Мужчина и мальчик продолжали спускаться по склону к реке Они шли по тропинке к роще с раздвоенной миртой, называемой Близнецами и посвященной сыновьям Тиндарея и семье, к которой принадлежал Александр. На это место он отправится в ночь своего последнего испытания – один, лишь с матерью и сестрами, чтобы получить благословение богов-покровителей и наставление на свой дальнейший жизненный путь.
Диэнек сел на землю под Близнецами и жестом велел Александру сесть рядом.
– Лично я считаю твоего друга Трипода дураком. В том, что он проявил сегодня, больше безрассудства, чем истинного мужества – андреи. Город лишился его жизни, которую можно было бы отдать в сражении с куда большей пользой.
Тем не менее не вызывало сомнений, что Диэнек питает к нему уважение.
– Но, к его чести, Трипод показал нам сегодня, что такое благородство. Он показал тебе и всем юношам, наблюдавшим за испытанием, каково это – отречься от собственного тела, превзойти боль, преодолеть страх смерти. Ты пришел в ужас, завидев его агонизму, но на самом деле на тебя сошло благоговение, не так ли? Благоговение перед этим юношей или вселившимся в него духом. Твой друг Трипод показал нам презрение к этому,– и снова Диэнек указал на тело.– Презрение, близкое к божественному.
С берега сверху я видел, что плечи мальчика задрожали и горе и ужас этого дня наконец стали покидать его сердце. Диэнек обнял и утешил его. Когда мальчик пришел в себя, ментор нежно его отпустил.
– Твои учителя объяснили тебе, почему спартанцы прощают и не накладывают никаких наказаний на воина, потерявшего в бою шлем и броню, но человека, утратившего щит, наказывают лишением гражданских прав?
– Объяснили,– ответил Александр.– Потому что воин надевает шлем и броню для защиты себя самого, а щит нужен для защиты всего строя.
Диэнек улыбнулся и положил руку на плечо своего воспитанника:
– Помни же это, мой юный друг. Есть сила за пределами страха. Более мощная, чем самосохранение, сегодня ты мельком увидел ее, пусть в грубой и неосознанной форме. Однако она присутствовала там, и она была истинной. Будем же помнить нашего друга Трипода и чтить его за этот урок.
Я кричал, прибитый к доске. Я слышал, как мои вопли отскакивают от стен загона и разносятся, усиленные, по склонам холмов. Я понимал всю постыдность своих воплей, но не мог остановиться.
Я умолял крестьян освободить меня, прекратить мои муки. Я был готов сделать для них что угодно и расписывал это во всю силу своих легких. Я взывал к богам, и мой позорный писклявый детский голос эхом отдавался в горах. Я знал, что Бруксий слышит меня. Вынудит ли его любовь ко мне броситься на помощь, чтобы и его прибили рядом? Я не думал об этом. Я лишь хотел окончания мучений. Я умолял убить меня. Я чувствовал раздробленные гвоздями кости в руках. Я больше никогда не смогу держать ни копья, ни огородной лопаты. Я буду калекой, колчеруким. Моя жизнь закончилась – и самым низким, позорным образом.
Кулак расквасил мне скулу.
– 3аткни свою дудку, сопливый говенный червяк! Крестьяне поставили доску стоймя и прислонили к ограде, а я корчился на ней под лучами солнца, еле ползущего по своему бесконечному небесному пути. На мои крики сбежались крестьянские мальчишки. Девочки содрали с меня мои лохмотья и тыкали пальцами и палками в мои гениталии, мальчишки мочились на меня. Собаки обнюхивали мои босые ступни, набираясь смелости мною пообедать. Я замолк, лишь когда мое горло было уже не в состоянии кричать. Я попытался вырвать с гвоздей прибитые ладони, но крестьяне, увидев это, крепко привязали мне руки к доске, так что я уже не мог двинуть ими.
– Как тебе это нравится, грязный вор? Посмотрим, как ты украдешь еще что-нибудь, ночной крысенок!
Когда наконец бурчание в животах погнало моих мучителей в дом, на ужин, Диомаха прокралась с холма и обрезала веревки. Шляпки гвоздей глубоко ушли в мои ладони, и ей пришлось кинжалом расковыривать доску. Когда меня сняли, ржавые гвозди так и остались в моих руках. Бруксий унес меня, как раньше Диомаху после изнасилования.
– О боги! – сказала она, увидев мои ладони.
Глава шестая
Та зима, по словам Бруксия, была самой холодной на его памяти. Овцы замерзали на высокогорных пастбищах. Снежные заносы загородили перевалы. Оленей преследовал такой отчаянный голод, что они, отощавшие, как скелеты, ослепнув от отсутствия пищи, спускались с гор, чтобы окончить свою жизнь в зимних овчарнях, где становились мишенями для пастушьего лука.
Мы оставались, высоко в горах, где мех у местных куниц и лис был белым как снег. Мы спали в покинутых пастухами землянках или ледяных пещерах, которые вырубали каменными топорами. Мы застилали пол сосновыми ветвями и, как щенки, прижимались друг к другу под сложенными вместе тремя плащами. Я просил Бруксия и Диомаху бросить меня и дать мне спокойно умереть от холода. А они уговаривали меня, чтобы я дал им отнести себя в поселок к врачу. Я категорически отказывался. Никогда больше я не появлюсь перед незнакомыми людьми, любыми незнакомыми людьми, без оружия в руке. Неужели Бруксий вообразил, что у врачей более высокое представление о чести, чем у других? Что можно взять с раба и покалеченного мальчишки? Какая польза от изголодавшейся тринадцатилетней девочки?
Была у меня и другая причина не появляться в городе, Я ненавидел себя за то, что в час испытаний так бесстыдно кричал, не в силах остановиться. Я познал собственное сердце, и это было сердце труса. Я питал к себе жгучее, безжалостное презрение. Легенды о спартанцах, что я лелеял в душе, только усиливали мое отвращение к самому себе. Никто из них не стал бы, как я, молить о пощаде, потеряв последние остатки достоинства. К тому же меня продолжала мучить позорная смерть моих родителей. Где находился я в час их отчаяния? Меня не было там, где они нуждались во мне. В мыслях я снова и снова представлял ту бойню, и каждый раз меня не оказывалось на месте. Я хотел умереть.
Единственно, что меня утешало, была уверенность в том, что я умру, умру уже скоро и таким образом покину этот ад своего постыдного существования.
Бруксий догадывался о моих мыслях и попытался обезоружить меня. Я же всего лишь ребенок, говорил он. Каких чудес доблести можно ожидать от десятилетнего мальчика?
– В Спарте десятилетние – уже мужчины,– заявил я.
Это был первый раз, когда я увидел Бруксия всерьез, не на шутку рассердившимся. Он схватил меня за плечи и неистово встряхнул, требуя смотреть на него.
– Послушай меня, мальчик. Только боги и герои способны на храбрость в одиночестве. Мужчина может призвать мужество только в строю с братьями по оружию, в строю со своим племенем и своим городом. Самое достойное жалости состояние под небом – это когда человек остается один, лишенный богов своего дома и своего полиса. Он становится тенью, оболочкой, шуткой и насмешкой. И вот таким стал теперь ты, мой бедный Ксео. Нельзя ожидать доблести от того, кто брошен в одиночестве и отрезан от богов своего дома.
Он выпрямился и в печали отвел глаза. Я видел рабское клеймо у него на лбу. И понял. В подобном состоянии он пребывал все эти годы – в доме моего отца.
– Но ты держался мужчиной, дядюшка,– сказал я, потребив самое нежное из известных мне слов для выражения любви.– Как тебе это удавалось?
– Он посмотрел на меня грустным, ласковым взором. Любовь, которую я мог бы отдать своим собственным детям, я отдал тебе, племянничек. Это – мой ответ на непостижимые пути богов. Но, похоже, аргосцы богам дороже, чем я Боги позволили им отобрать у меня не одну жизнь, а целых две.
Эти слова, предназначенные для утешения, только укрепили мою решимость умереть. Мои руки распухли и стали вдвое толще, из них сочились гной и сукровица, смерзавшиеся потом в отвратительную ледяную массу, которую я отковыривал каждое утро, чтобы добраться до искалеченной плоти Бруксий делал все возможное с мазями и припарками, но без толку. Обе средние кости в правой ладони были раздроблены. Я не мог ни согнуть палец, ни сжать кулак. Никогда мне не держать копье, не сжимать меч. Диомаха сравнивала мое горе со своим, но я лишь горько посмеялся над ней:
– Ты по-прежнему можешь быть женщиной. А что могу я?Как я смогу занять свое место в боевом строю?
Ночью приступы жара перемежались с припадками лютого озноба, когда не попадал зуб на зуб. Я метался в руках и Диомахи под телом Бруксия, накрывшего нас, чтобы согреть. Я снова и снова взывал к богам, но в ответ не получил ни звука. Боги покинули нас, это было ясно, и теперь мы не принадлежали ни себе, ни своему полису.
Однажды ночью, когда меня терзала лихорадка, дней через десять после случая в деревне, Диомаха и Бруксий завернули меня в шкуры и отправились поискать чего-нибудь съестного. Пошел снег, и они надеялись воспользоваться тишиной – возможно, если повезет, удастся застать врасплох зайца или спустившийся на землю тетеревиный выводок.
Мне выпал шанс. И я решил не упустить его. Выждав, когда Бруксий с Диомахой скроются за пределы видимости, я выполз из-под плаща, шкур и обмоток для ног и босой вышел под падающий снег.
Я карабкался, казалось, несколько часов, но на самом деле, наверное, не прошло и пяти минут. Лихорадка не отпускала меня. Я ослеп, как те олени, но меня вело безотказное чувство направления. Отыскав местечко среди сосновых стволов, я понял, что это и есть место для меня. Меня охватило глубокое чувство благоговения. Мне хотелось все сделать как следует, а главное – не обеспокоить Бруксия и Диомаху.
Я выбрал дерево и прижался к нему спиной, чтобы его дух, касающийся одновременно неба и земли, безопасно проводил меня из этого мира. Да, это было правильное дерево. Я чувствовал, как из кончиков ног распространяется Сон, брат Смерти. Ощущал слабость в чреслах и пояснице. Когда онемение достигнет сердца, представлялось мне, я умру. Но тут меня поразила страшная мысль.
А что, если это не то дерево? Может быть, мне следовало прислониться вон к тому? Или вон к тому, там? Меня охватила паника нерешительности. Я выбрал не то место! Мне было нужно встать, но я уже не владел своими членами и не мог двигаться. Я застонал. Даже в собственной смерти – неудача! Когда мое отчаяние достигло высшей точки, я с испугом заметил человека, стоявшего среди деревьев прямо передо мной!
Моей первой мыслью было, что он поможет мне сдвинуться с места. Он мог бы дать мне совет. Помочь принять решение. Вместе мы смогли бы выбрать правильное дерево, и он прижал бы к нему мою спину. Из какой-то части сознания возникла тупая мысль: а что этот человек делает здесь в этот час, в этот снегопад?
Я моргнул и изо всех своих уходящих сил попытался сосредоточиться. Нет, мне не приснилось. Кто бы это ни был, он действительно был здесь. Пронеслась смутная мысль что это, должно быть, Бог. Я спохватился, что веду себя непочтительно по отношению к нему. Оскорбляю его. Определенно, приличия требуют, чтобы я отнесся к нему со страхом и благоговением или распростерся 6ы ниц перед ним. Однако что-то в его осанке, не величественной, а странной и эксцентричной, словно говорило: оставь заботы. Я воспринял это. И ему это как будто бы понравилось. Я понял, что он собирается заговорить и какие бы слова ни вышли из его уст, они будут иметь для меня первостепенную важность – в этой земной жизни или в той, куда я собирался перейти. Я должен выслушать, приложив все усилия, и ничего не забыть.
Его ласковые, удивительно добрые глаза встретились с моими.
– Я всегда считал, что копье – не слишком изящное оружие, – проговорил он со спокойным величием в голосе, который мог быть только голосом Бога.
«Что за странное высказывание?» – подумал я.
И при чем тут – «изящное»? У меня появилось такое чувство, что слово это тщательно выбрано, что это точный термин, найденный Богом. Для него оно как будто бы под множеством покровов таило в себе глубокий смысл, но я не имел представления какой. Потом я заметил серебряный лук у него на плече.
Лучник.
Стреловержец Аполлон.
И вдруг, без молнии, без всякого озарения, а просто самым обыкновенным в мире образом я понял все, что означали его слова и само его присутствие. До меня дошло, что он имел в виду и что мне следует делать.
Моя правая рука. Ее разорванные сухожилия никогда не позволят мне сжать копье, как положено воину. Но ее средний и указательный пальцы могут зацепить и натянуть двойную жилу тетивы. Левая рука, даже лишенная силы держать ремень гоплона-щита, может удержать лук и согнуть его во всю силу.
Лук.
Лук спасет меня.
Глаза Лучника на мгновение нежно проникли в мои. Понял ли я? Его взгляд, казалось, не столько спрашивал у меня: «Теперь ты будешь служить мне?» – сколько подтверждал неизвестный мне раньше факт, что всю мою жизнь я находился на службе ему.
Я ощутил, как в мое тело возвращается тепло, а в ноги, в ступни, словно прилив, прибывает кровь. Снизу кто-то позвал меня по имени, и я понял, что это моя двоюродная сестра,– она и Бруксий, встревоженные, прочесывают склон в поисках меня.
Переползая через заснеженный гребень и пошатываясь среди сосен, до меня добралась Диомаха.
– Что ты тут делаешь один?
Я чувствовал, как она бьет меня по щекам – сильно, словно стараясь вывести из сна или транса. Она плакала, сжимая меня в объятиях, она сорвала с себя плащ, чтобы закутать меня. Потом позвала Бруксия, который в своей слепоте, как мог, взбирался по склону.
– Со мной все в порядке,– услышал я свой голос. Диомаха снова и снова била меня по щекам, плача и проклиная за глупость и за то, что до смерти напугал их обоих.
– Все хорошо, Дио,– повторил мой голос.– Со мной все в порядке.
Глава седьмая
Прошу у Великого Царя терпения выслушать повествование о событиях, последовавших за разграблением города, о котором он никогда не слышал,– неприметного полиса, ничем не славного, не породившего ни одного легендарного героя, не связанного с великими событиями нынешней войны и с битвой, в которой войско Великого Царя сражалось против спартанцев и их союзников в Фермопильском проходе.
Я хочу через ощущения двух подростков и раба выразить лишь малую долю того душевного страха и опустошения, которые покоренное население вынуждено терпеть в часы исчезновения с лица земли их государства. Хотя Великий Царь руководил разорением могущественных держав, все же, если говорить откровенно, он видел страдания тех народов лишь издали, с высоты пурпурного трона или покрытого чепраком жеребца, защищенный золочеными копьями своей царской стражи.
3а последующие десять лет между греческими городами случилось более десяти дюжин столкновений и войн. Были целиком или частично разрушены по меньшей мере сорок полисов, включая такие неприступные крепости, как Книд, Арефуза, Колоная, Амфисса и Метрополис. Было сожжено бессчетное число крестьянских хозяйств и храмов, потоплено множество военных кораблей, убиты сотни и тысячи воинов, угнаны в рабство десятки тысяч их жен и дочерей. Ни один эллин, как бы ни был могуч его город, не мог быть уверен, что через несколько месяцев еще будет по-прежнему пребывать на своей земле с головой на плечах, со спокойно живущими рядом женой и детьми. Такое состояние дел не было каким-то исключительным. Не хуже и не лучше, чем любая другая эпоха со времен Ахилла и Гектора, Тезея и Геракла, от рождения самих богов. Дела как дела, как говорят эмпоры, торговцы.
Каждый в Греции понимал, что означает поражение в войне, и каждый сознавал, что рано или поздно эта горькая чаша совершит свой круг по столу и в конце концов окажется перед ним.
И вдруг, с возвышением в Азии Великого Царя, показалось, что этот час наступит скоро.
Страх разорения распространился по всей Греции, когда начали приходить слухи о размахе военных приготовлений Великого Царя на Востоке и о его намерении предать огню всю Элладу, и эти слухи исходили из слишком многих уст, чтобы можно было им не поверить.
И таким всеобъемлющим был этот страх, что ему дали имя.
Фобос.
Не просто страх, а – Страх.
Страх перед тобой, Великий Царь. Ужас перед яростью Ксеркса, сына Дария, Великого Царя восточной державы, Повелителя всех людей от восхода до заката солнца. Вся Греция узнала, что несметные полчища под его знаменем уже выступили в поход, чтобы поработить нас.
Прошло десять лет после разорения моего родного города, но страх от тех дней неизгладимо продолжал жить во мне. Мне уже исполнилось девятнадцать. События, о которых я еще упомяну в свой черед, разлучили меня с моей двоюродной сестрой и Бруксием и привели, согласно моим желаниям, в Лакедемон, а через какое-то время я стал служить моему хозяину Диэнеку Спартанскому. Я и еще три оруженосца были отданы в распоряжение ему и троим другим посланникам Спарты – Олимпию, Полинику и Аристодему,– чтобы служить им на острове Родос, во владениях Великого Царя. Там эти воины и сам я впервые краем глаза увидели малую долю всей военной мощи Персии.
Сначала появились корабли. На вторую половину дня меня отпустили, и я воспользовался этим временем, чтобы узнать, сколько смогу, об острове. Подойдя к ватаге упражнявшихся в поле родосских пращников, я смотрел, как эти кипящие энергией парни с удивительной быстротой бросают свои свинцовые шары диаметром в три больших пальца Этими убийственными снарядами они со ста шагов могли пробить сосновую доску толщиной в пядь и три раза из четырех попадали в мишень размером с человеческий торс. Один из пращников, юноша моих лет, демонстрировал мне, как они на своих свинцовых снарядах вырезают кинжалами причудливые приветствия: «Слопай это» или: «Люби и, поцелуй». И вот тогда, пока мы болтали, все остальные смотрели на море и указывали на горизонт в направлении Египта. Мы увидели паруса, возможно, целой эскадры, примерно в часе ходу от нас. 3абыв про корабли, пращники вернулись к своему занятию, но, как показалось, всего лишь через мгновение вновь закричали – на сей раз почти в суеверном ужасе. Все поднялись и уставились в одну сторону к нам приближалась эскадра триер с парусами, забранными для скорости гитовами. Корабли уже меняли курс и быстро причаливали к волнолому. Никто никогда не видел таких больших весел, гребущих с такой скоростью.
Это были боевые корабли. Тирренские триеры, такие низкие что скамьи фаламитов (гребцы нижнего ряда весел на триере) возвышались над волнами не более чем на ладонь. Они гнались наперегонки под флагом Великого Царя. Упражнялись перед походом на Грецию. Перед войной. Готовились к тому дню, когда их обитые бронзой тараны отправят на дно моряков Эллады.
В тот вечер Диэнек и другие посланники прошли пешком до бухты в Линдосе. Боевые корабли были вытащены на берег, и их оцепила египетская пехота. Египтяне узнали спартанцев по их алым плащам и длинным волосам. Последовала забавная сцена. Командир египтян-пехотинцев жестом подозвал спартанцев, улыбаясь им из толпы зевак, собравшейся у кораблей. Нам устроили осмотр эскадры. Египтяне через переводчика спрашивали, как скоро, по нашему мнению, мы окажемся на войне друг против друга и не сведет ли нас судьба снова – уже на поле боя.
Египетские воины ростом превосходили всех людей, кого я встречал в жизни, и их кожу почти дочерна опалило солнце. Они были при оружии, в замшевых башмаках, в бронзовых чешуйчатых латах и инкрустированных золотом шлемах со страусовыми перьями. Оружием их были копья и кривые мечи. В приподнятом настроении эти воины сравнивали мышцы своих ягодиц и бедер со спартанскими и шутили на своем непонятном для остальных языке.
– Рад видеть вас, гиеноподобные ублюдки,– проговорил, осклабившись, Диэнек командиру египтян на дорийском диалекте и по-дружески хлопнул его по плечу.– Жду не дождусь вырезать твои яйца и в корзине послать их домой.
Тот рассмеялся, не поняв, и, сияя, ответил на своем языке каким-то оскорблением, без сомнения столь же угрожающим и грязным.
Диэнек спросил египтянина, как его зовут, на что тот ответил: Птаммитех. Диэнек спросил, сколько боевых кораблей Великий Царь насчитывает в своем флоте. «Шестьдесят»,– передал переводчик.
– Шестьдесят кораблей? – переспросил Аристодем.
Египтянин не удержался от ослепительной улыбки.
– Шестьдесят эскадр.
Египтяне шли рядом со спартанцами и позволили поближе осмотреть корабли, которые, вытащенные на песок, накренились набок, подставив днище для очистки и конопаченья. Этой нелегкой работой с энтузиазмом и занимались тирренские моряки. Я почуял запах воска. Мореходы натирали днище воском для лучшего скольжения по воде. Все доски были соединены встык, а шипы и пазы были подогнаны с такой точностью, что казалось, это делали не корабельные плотники, а столяры-краснодеревщики. Соединительные панели между тараном и корпусом были покрыты увеличивающей скорость керамикой и вымазаны какой-то смазкой, которую матросы разогревали и наносили лопатками. Рядом с этими быстроходами спартанская галера « Орфия» напоминала посудину для перевозки мусора. Но наибольшее наше внимание привлекли кое-какие вещи, не имевшие отношения к морю.
Это были кольчуги, которыми пехотинцы обернули бедра, чтобы защитить интимные части тела.
– Что это, узорчатая ткань? – спросил Диэнек, смеясь и дергая начальника египетских воинов за край кольчуги.
– Осторожнее, дружок,– ответил тот с театральным жестом.– 3наю я вас, греков! Слышал.
Египтяне стали расспрашивать спартанцев, почему у тех такие длинные волосы. Олимпий ответил, процитировав законодателя Ликурга:
– Потому что никакое другое украшение не делает красивого мужчину еще более красивым, а безобразного – еще более безобразным. И оно бесплатное.
Потом египтянин стал дразнить спартанцев за их удивительно короткие мечи – ксифосы. Он отказывался поверить что это настоящее оружие, которое лакедемоняне берут с собою в бой. Должно быть, это игрушки. Как могут эти крошечные ножички для чистки яблок причинить вред врагу?
– Хитрость в том,– продемонстрировал Диэнек, сойдясь грудь в грудь с египтянином,– чтобы удобно прильнуть. При расставании спартанцы подарили египтянам два меха фалерского вина – лучшего, какое имели, предназначавшегося для Родосского консульства. А египтяне дали каждому спартанцу по золотому дарику (месячное жалованье греческого гребца) и по мешку свежих нильских гранатов.
Миссия вернулась в Спарту ни с чем. Родосцы, как известно Великому Царю,– это дорийские эллины, они говорят на диалекте, сходном с лакедемонским, и зовут своих богов теми же именами. Но их остров еще до первой Персидской войны был протекторатом Великой Державы. А что еще оставалось родосцам, как не подчиниться,– ведь их государство лежит непосредственно в тени мачт персидского флота! Спартанская делегация лишь попробовала, сама не веря в успех, воспользоваться родственными связями, чтобы отговорить некоторую часть родосского флота от службы Великому Царю. Но никто на это не пошел.
Успеха не имели, как узнала наша делегация, вернувшись на материк, и сходные миссии, направленные на Крит, Кос, Хиос, Лесбос, Самос, Наксос, Имброс, Самофракию, Фасос, Скирос, Миконос, Парос, Тенос и Лемнос. Даже Делос, родина самого Аполлона, выказал знаки покорности персам.
Фобос.
Этот страх можно было вдохнуть вместе с воздухом Андроса, куда мы зашли по пути домой. На Хиосе и Гермионе он ощущался испариной на коже – там не было ни одной бухты или причала, где не нашлось бы шкиперов и гребцов с рассказами о готовности Востока к войне и донесениях очевидцев о несметных полчищах врага.
Фобос.
Этот попутчик сопровождал делегацию и когда она высадилась у Фиреи и начала двухдневный тяжёлый переход по пыли через Парнон в Лакедемон. Поднявшись на восточный горный массив, посланцы могли видеть, как прибрежные жители и горожане уносят свои пожитки в горы. Мальчишки погоняли ослов, нагруженных мешками с пшеницей и ячменем, их охраняли вооруженные члены семьи мужского пола. Вскоре за ними отправятся старики и дети. Высоко в горах семьи закапывали амфоры с вином и маслом, строили загоны для овец и высекали грубые пещеры в скалистых склонах.
Фобос.
У приграничной крепости Кари наша группа присоединилась к направлявшемуся в Спарту посольству из греческого города Платеи – дюжине человек, включая верховой эскорт. Посольство возглавлял герой Марафона Аримнест. Говорили, что этот благородный муж в той славной битве десять лет назад вошел в полном вооружении в полосу прибоя и рубил мечом весла персидских триер, когда персы, спасая свои жизни, отходили от берега. Спартанцы любили подобное. Они настояли, чтобы делегация Аримнеста разделила с нами ужин и сопроводила нас на остатке пути до самого города.
Платеец поделился с нами своими сведениями о противнике Персидское войско, сообщил он, насчитывало два миллиона человек, собранных со всех покоренных стран. Предыдущим летом оно сосредоточилось у Суз, столицы Великого Царя, после чего выступило в Сарды и перезимовало там. Из этого места, как мог безошибочно предугадать любой начинающий младший командир, полчища должны были направиться на север вдоль побережья Малой Азии, через Эолию и Троаду, затем по понтонному мосту или на множестве лодок форсировать Геллеспонт, двинуться на запад пересечь Фракию и Херсонес, потом на юго-запад пройти через Македонию, а потом и на юг, в Фессалию.
В саму Грецию.
Спартанцы рассказали то, что услышали на Родосе: персидское войско уже на марше из Сард. Основной корпус уже остановился в Абидосе, готовясь к переправе через Геллеспонт.
Через месяц они будут в Европе.
В Селассии моего господина ожидал посланец от спартанских эфоров с дипломатической почтой. Диэнеку надлежало покинуть делегацию и немедленно направиться в Олимпию. Он отделился от остальных на Пелланской дороге и, взяв с собой одного меня, пошел быстрым маршем, намереваясь за два дня одолеть почти пятьсот стадиев.
Нет ничего необычного в том, что в этих путешествиях к путнику пристраиваются стаи воодушевленных собак и даже полудикие местные мальчишки. Иногда подобные беспечные спутники сопровождают тебя весь день, с веселым шумом труся по пятам. Диэнек любил этих бродяг и никогда не упускал случая приветить их и развлечься в такой благообретенной компании. В тот день, однако, он сурово отгонял всех, кто ни попадался навстречу, собак и людей, решительно шагая вперед и не глядя по сторонам.
Никогда я не видел его таким озабоченным и таким мрачным.
На Родосе произошло одно событие которое, как я ощутил, определенно послужило причиной беспокойства моего хозяина. Это случилось в бухте сразу после того, как спартанцы и египтяне закончили обмен подарками и собрались расстаться. Возникла одна из тех пауз, когда противники часто отказываются от формальностей, с которыми общались до сих пор, и говорят друг с другом от души. Мой хозяин и полемарх Олимпий, отец Александра, явно завоевали доверие Птаммитеха, и он отозвал их в сторону, заявив, что хочет кое-что показать. Египтянин отвел их в возведенный на берегу шатер командующего эскадрой и с его позволения сотворил чудо, какого спартанцы, а я и подавно, никогда не видели.
Это была карта.
Графическое представление не только Эллады и островов Эгейского моря, но и всего остального мира.
Карта была шириной около шести локтей, с мельчайшими подробностями, тончайшей работы, начертанная на нильском папирусе – необычайном материале: если поднести его к свету, сквозь него можно было видеть, но даже руки сильнейшего мужчины не могли разорвать его, если не надрезать лезвием.
Египтянин развернул карту на столе командующего эскадрой. Он показал спартанцам их родину в сердце Пелопоннеса, Афины более чем в тысяче стадиев к северо-востоку, Фивы и Фессалию к северу оттуда и горы Осса и Олимп на самом севере Греции. К западу от Греции стилос картографа начертил Сикелию, Италию и всю сушу и море до Геркулесовых Столпов. Однако карта только начала разворачиваться.
– Я хочу лишь произвести на вас впечатление, господа, – для вашей же сохранности – протяжённостью державы Великого Царя. Посмотрите на ресурсы его владений, на силы, которые находятся под его властью и которые он двинет на вас,– через переводчика обратился к спартанцам Птаммитех.– Чтобы вы сами, основываясь на фактах, а не на домыслах, могли решить, стоит вам сопротивляться или нет.
Он развернул папирус дальше. Под светом лампы появились острова Эгейского моря, Македония, Иллирия, Фракия и Скифия, Геллеспонт, Лидия, Кария, Киликия, Финикия и ионические города Малой Азии.
– Всеми этими странами правит Великий Царь. Всех их он собрал себе на службу. Все они идут на вас. Но разве это Персия? Мы еще не добрались до самой Державы…
Он развернул карту еще больше. Рука египтянина обвела контуры Эфиопии, Ливии, Аравии, Египта, Ассирии Вавилонии, Шумерии, Каппадокии, Армении и 3акавказья. Он произнёс несколько слов о славе этик царств, упомянув число их воинов и оружие, которое они несли.
– Если двигаться быстро, путешественник может пересечь весь Пелопоннес за четыре дня. Посмотрите сюда, друзья мои. Только чтобы добраться от Тира до Суз, столицы Великого Царя, требуется трехмесячный поход. Вся эта земля, все ее люди и богатства принадлежат Ксерксу. Все эти народы не воюют между собой, как любите делать вы, эллины, и не распадаются на ненадежные союзы. Когда царь велит им собраться воедино, его войска собираются. Когда он приказывает идти в поход, они идут. И все же, сказал Птаммитех,– мы еще не добрались до Персеполиса и сердца Персии.
Он развернул карту дальше.
Перед нами возникли новые земли с еще более замысловатыми названиями. Египтянин представил нам новые цифры. Двести тысяч из этой сатрапии, триста тысяч из той. Греция на западе казалась все ничтожнее и ничтожнее. Она словно съеживалась на фоне бесконечной Персидской державы. Теперь египтянин говорил о диковинных зверях и химерах. О верблюдах и слонах, о диких ослах размером с ломовую лошадь. Он очертил земли самой Персии, потом Мидии, Бактрии, Парфии, Каспии, Арии, Согдианы и Индии – стран, о которых его слушатели никогда ничего не слышали.
– Из этих обширных земель Великий Царь призвал новые мириады воинов, людей, выросших под обжигающим солнцем востока, привыкших к трудностям, которые вам и не представить, вооружённых оружием, противостоять которому у вас нет опыта, и он платит им золотом и сокровищами, которые не имеют счета. Каждое изделие, каждый плод, зерно, свинья, овца, корова, лошадь, добыча каждого рудника, каждого поля, рощи и виноградника принадлежат Великому Царю. И все это он влил в укрепление своего войска, которое уже идет поработить вас. Послушайте меня, братья. Племя египтян – древнее племя, насчитывающее сотни поколений, и его корни уходят в древность. Мы видели, как приходят и уходят великие царства. Мы правили, и нами правили. Да и теперь мы считаемся покоренным народом – мы служим персам. Но выслушайте мои соображения, друзья. Похож ли я на бедняка? Веду ли я себя униженно? Загляните в мой кошелек. При всем уважении, братья, я могу купить и продать вас со всем вашим имуществом на одни только те деньги, что ношу при себе на расходы.
Тут Олимпий прервал египтянина и потребовал не отвлекаться от сути.
– Суть вот в чем, друзья: Великий Царь окажет вам, спартанцам, не меньшую честь, чем нам, египтянам, или любому другому воинственному народу, если вы проявите мудрость и добровольно пойдете на службу под его знамена. Мы на востоке постигли то, чего вы, греки, еще не поняли. Колесо вращается, и человек должен вращаться вместе с ним. Сопротивляться – не просто глупость, это безумие.
Я следил за глазами моего господина. Он, несомненно, понял, что намерения египтянина искренни и что его слова предполагают дружбу и уважение. И все же не смог сдержать гнева, выдав его прилившей к лицу кровью.
– Ты никогда не знал вкуса свободы, друг,– сказал Диэнек, – а то бы понял, что она приобретается не золотом, а сталью.
Он быстро обуздал свой гнев, по-дружески похлопал египтянина по плечу и с улыбкой взглянул ему в глаза.
– Что касается колёса, о котором ты сказал,– закончил мой господин,– как и всякое другое, оно вращается в обе стороны.
Мы прибыли в Олимпию после полудня на второй день после отбытия из Пеллены. Олимпийские игры в честь Зевса – у эллинов самый священный праздник. В недели их проведения ни один грек не смеет поднять оружие на другого грека и даже на иноземного захватчика. Игры должны были состояться в тот самый год, через несколько недель. Олимпийскую территорию и жилища уже заполняли атлеты со своими учителями из всех греческих городов; как предписывает небесный закон, атлеты готовились к состязаниям на месте. Как только прибыл мой хозяин, участники состязаний – атлеты в расцвете молодости и несравненные в резвости ног и доблести – окружили его, громко требуя рассказать новости о персидском наступлении. Не мне было спрашивать о миссии моего господина, однако я мог догадываться, что за этим последует просьба к жрецам снять пресловутый запрет.
Пока Диэнек был занят своими делами в помещении, я ожидал снаружи. Когда он закончил, до захода солнца оставалось несколько часов. Нашему отряду из двух человек, все так же без сопровождающих, предстояло немедленно пуститься в путь обратно в Спарту. Но мой хозяин был по-прежнему обеспокоен. Казалось, он что-то замышляет.
– Пошли,– сказал он, направляясь на Аллею Победителей, что лежит к западу от Олимпийского стадиона,– я покажу тебе кое-что для твоего образования.
Мы обогнули столбы почета, где были высечены имена победителей Игр и названия пославших их городов. Там мой глаз заметил имя Полиника, товарища моего хозяина по миссии в Родосе. Его имя было высечено дважды: за победу на двух подряд Олимпиадах в беге с полным вооружением. Диэнек показал мне имена победителей-лакедемонян, которым теперь было уже за тридцать или даже за сорок и которых я знал в лицо, а также других, которые пали в боях десятилетия или даже века назад. Потом он показал последнее имя – имя того, кто одержал победу в пентатлоне четыре Олимпиады назад:
ЯТРОКЛ
Сын Никодиада
Лакедемонянин
– Это мой брат,– сказал Диэнек.
В ту ночь мой хозяин заночевал в спартанском доме для участников Игр, ему освободили ложе внутри, а мне отвели место под портиком. Но его не оставляло беспокойство. Не успел я устроиться на холодных камнях, как он вышел, полностью одетый, и сделал мне знак следовать за ним Мы прошли по пустынным улицам к Олимпийскому стадиону, вошли в тоннель для участников состязаний и вышли на обширное и безмолвное пространство напротив арены в свете звезд казавшейся пурпурной и словно бы задумчивой. Диэнек поднялся выше места судей – сидений на траве, выделявшихся на время Игр для спартанцев, – выбрал на вершине склона укромный уголок под соснами и устроился там.
Я слышал, что для любовника времена отмечены воспоминаниями о тех женщинах, чья красота воспламеняла его сердце. Он вспоминает этот год как год, когда, помешанный, он преследовал по городу одну любимую, а тот – когда другая избранница сдалась наконец его чарам.
С другой стороны, для матери и отца времена исчисляются рождениями детей: тогда-то ребенок сделал первый шаг, тогда-то – произнес первое слово. Этими домашними вехами отмечен календарь жизни любящих родителей, и они занесены в книгу их памяти.
Но для воина времена отмечены не такими милыми мерами и не самими календарными годами, а сражениями, боевыми действиями и потерянными товарищами, смертельными испытаниями выживших. Стычки и конфликты того времени стирают все поверхностные воспоминания, оставляя лишь поля сражений и их названия. Эти воспоминания приобретены за священные монеты пролитой крови и оплачены жизнью любимых братьев по оружию. Они занимают в памяти бойца особое место за пределами других знаменательных событий. Подобно жрецу со своим графисом и вощеной дощечкой, пехотинец тоже ведет записи. Его история высечена стальным стилом в нем самом, и этот алфавит нестираемо выгравирован копьем и мечом на его теле.
Диэнек устроился на земле в тени деревьев над стадионом. Я приготовил подогретое масло, приправленное гвоздикой и окопником, и начал умащать им тело моего хозяина. Он потребовал этого, чтобы просто улечься на земле и заснуть,– так делают все спартиаты после тридцати. Диэнек был далеко не старик, ему едва исполнилось сорок два, но все его суставы хрустели, как у старика. Его бывший оруженосец, скиф по прозвищу Самоубийца, научил меня, как правильно разгонять узлы и отеки в ткани шрамов, оставленных на теле моего господина многочисленными ранами, и маленьким хитростям по облачению его в доспехи, чтобы эти дефекты не проявлялись. Левое плечо Диэнека не могло выдвигаться вперед дальше уха, а левый локоть не поднимался выше ключицы. Панцирь следовало надевать сначала на торс, чтобы господин поддерживал его за скрепы локтями, пока я прилаживаю плечевые ремни и закрепляю их в нужном положении. Его позвоночник не сгибался, и он не мог поднять щит, даже встав на колени. Бронзовый наруч мне следовало держать на весу и прилаживать на предплечье в стоячем положении. К тому же правая ступня Диэнека не сгибалась, если не помассировать сухожилие, пока не восстановится ток крови и не пройдет онемение.
Однако самой страшной раной моего господина был ужасающий рубец шириной в палец, который рваными зубцами опоясывал поперек лба всю его голову чуть ниже линии волос. Обычно его не было видно под длинными ниспадавшими на лоб волосами, но когда Диэнек забирал их, чтобы надеть шлем, или завязывал сзади на ночь, этот багровый шрам показывался. И теперь я видел его в свете звезд. Очевидно, любопытство на моем лице показалось моему хозяину забавным, поскольку он усмехнулся и поднял руку, чтобы провести ею по рубцу.
– Это подарок от коринфян, Ксео. Давний, полученный примерно в то время, когда ты родился. Кстати, его история связана с моим братом.
Мой господин посмотрел вниз по склону, в сторону Аллеи Победителей. Возможно, он чувствовал близость тени своего брата, или рядом витали обрывочные воспоминания о детстве, или о сражении, или об агоне Игр. Он дал мне знак, что можно налить в чашу вина и что я могу налить себе тоже.
– Тогда я никем не командовал,– не дожидаясь вопросов, начал Диэнек.– Я носил хохолок, а не скребок для шкур.– Это означало: шлем с идущим со лба до затылка гребнем, какие носят рядовые пехотинцы, а не с поперечным, выделяющим командира эномотии.– Хочешь выслушать эту историю, Ксео? В качестве сказки на ночь.
Я ответил, что хочу, очень. Мой хозяин задумался. Очевидно он сомневался, не содержит ли такой рассказ тщеславия и не будет ли он излишней откровенностью. В этом случае он бы сразу прервал себя. Однако, видимо, рассказ имел в себе элемент поучительности, поскольку еле заметным кивком Диэнек дал себе разрешение продолжать и поудобнее устроился на склоне.
– Это случилось при Ахиллеоне, в сражении против коринфян и их аркадских союзников. Я даже не помню, из-за чего началась та война, но за что бы она ни шла, те сыновья шлюхи нашли в себе мужество поднять против нас оружие. Они сломали наш строй и смяли первые четыре шеренги. По всему полю воины сошлись один на один. Мой брат был во главе эномотии, а я был третьим.– Это означало, что он, Диэнек, командовал третьим стихо – отрядом из девяти человек, шедшим в походной колонне на шестнадцать позиций сзади.– Поэтому когда мы перестроились в колонну по четыре, я оказался на своей третьей позиции рядом с братом, во главе моего стихо. Мы, Ятрокл и я, сражались как диас, мы с детства упражнялись в паре. Но теперь это было не упражнение, это было настоящее кровавое безумие.
Передо мной оказался чудовищный противник – шести с половиной футов ростом, он справился бы с двумя воинами, будь один даже на коне. у него не было копья, оно сломалось, и он кипел такой яростью, что ему не хватило самообладания вспомнить про меч. Тогда я сказал себе: приятель, тебе лучше поскорее вонзить клинок в этого ублюдка, пока он не схватил свой резак для маргариток.
Я бросился на него. Он встретил меня щитом, используя его вместо оружия и размахивая им, как топором. Его первый удар расколол мой щит. Я сжал копье, стараясь ударить противника снизу, но вторым ударом он разбил древко в щепки, так что я остался безоружным перед этим демоном. Он взмахнул своим щитом, как блюдом, и попал мне прямо сюда, по шлему, чуть выше прорезей для глаз.
Я почувствовал, как обод шлема рванулся вверх и назад, унося с собой половину моего черепа. Прорезь для глаз нижним краем ободрала бровь, и мой левый глаз залило кровью.
Я ощутил то беспомощное чувство, какое бывает, когда ты ранен и понимаешь, что серьезно, но не знаешь, насколько серьезно; когда кажется, что ты уже умер, но все же не до конца уверен в этом. Все происходит замедленно, как во сне. Я упал ничком и знал, что тот гигант стоит надо мной и следующим ударом отправит меня в мир иной.
И вдруг он оказался рядом. Мой брат. Я видел, как он шагнул и метнул свой ксифос, словно метательный нож и попал этой коринфской горгоне прямо под нос.
Клинок выбил коринфянину зубы, пробил челюсть и застрял в горле, оставив лишь торчащую перед лицом рукоять.
Диэнек покачал головой и мрачно усмехнулся, хорошо понимая, как близок был тогда к гибели. Я думаю, что он испытывал глубокое почтение перед богами за то, что как-то выжил.
– Но это даже не поколебало того рукоблуда. С голыми руками и штырем в челюсти он бросился на Ятрокла. Я обхватил его снизу, а мой брат сверху, и мы повалили его, как в борьбе. Обломок моего копья я вонзил прямо коринфянину в брюхо, потом поднял из грязи еще чье-то копье и, вложив весь свой вес, нанес такой удар, что оно прошло через пах и пригвоздило гиганта к земле. Мой брат выхватил меч того ублюдка и снес ему полголовы, прямо вместе с бронзой шлема. Но коринфянин снова встал. Ни когда раньше я не видел брата действительно испуганным, но на сей раз это было так. «Всемогущий Зевс!» – воскликнул он, и это было не проклятие, а молитва – молитва мочащегося себе под ноги.
Становилось холодно. Мой хозяин закутался в плащ и еще отхлебнул вина.
– У моего брата был оруженосец из Антавра, что в Скифии ты мог слышать о нем. Спартанцы прозвали его Самоубийцей.
Мое лицо выдало недоумение, но Дианек лишь усмехнулся в ответ. Этот парень, скиф, до меня служил оруженосцем Диэнека, а потом стал моим ментором и учителем. Для меня было внове, что до Диэнека он служил его брату.
– Этот нечестивец пришел в Спарту сам, как и ты, Ксео. Безумный ублюдок! Он бежал от возмездия за кровь: в каком-то раздоре горных племен из-за девчонки он убил то ли отца, то ли тестя – не помню, кого именно. Придя в Лакедемон, он попросил первого встречного прикончить его и еще несколько дней приставал с тем же к десяткам других но никто на такое не пошел, боясь осквернения. В конце концов мой брат взял его в сражение, пообещав, что там с ним расправятся.
Парень оказался истинным кошмаром. Он не держался в тылу как остальные оруженосцы, а сунулся в гущу сражения – безоружный, ища смерти и призывая ее. Его оружием был дротик. Он делал эти дротики сам – отпиливал не длиннее человеческой руки и называл «штопальными иглами». Этот скиф брал их с собой двенадцать в колчане, как стрелы, и выхватывал пучками по три. Первые два он метал подряд в одного и того же противника, а третий оставлял для ближнего боя.
Такое описание действительно характеризовало того человека. Даже теперь – наверное, лет через двадцать – он оставался бесстрашным до безумия и совершенно не заботился о своей жизни.
– Как бы то ни было, теперь он оказался рядом, этот скифский сумасшедший. Бац, бац, бац! – он метнул свои штопальные иглы в печень коринфского чудовища, так что они вышли из спины, и еще одну прямо ему в детородные органы. И это подействовало. Титан уставился на меня, взревел и упал, как мешок с воза. Позже я заметил, что с половины моего черепа содрана кожа, лицо превратилось в кровавую массу, а вся правая сторона бороды и подбородка содрана.
– И как же вы выбрались из битвы? – спросил я.
– Выбрались? Нам пришлось пробиваться еще десятки стадиев, прежде чем враг наконец повернул к нам задницу и все было кончено. Не могу описать, в каком состоянии я находился. Брат не позволял мне дотрагиваться до лица. «У тебя несколько царапин»,– сказал он. Я чувствовал, как ветер обвевает череп, и понимал, что рана серьезная. Помню только, как этот мерзкий лекарь, наш друг Самоубийца, сшивал меня морской бечевкой, а брат поддерживал мою голову и отпускал свои шуточки: «После этого ты уже не будешь таким красавчиком. Теперь я могу не опасаться, что ты уведешь мою жену».
Здесь Диэнек замолк, и его лицо вдруг приобрело спокойное и торжественное выражение. Он заявил, что с этого момента история становится личной и здесь следует поставить точку.
Я попросил его продолжить.
– Ты ведь знаешь,– насмешливо предупредил он, что случается с оруженосцами, выносящими рассказы за пределы школы? – Диэнек отхлебнул вина и, задумчиво помолчав, продолжил: – Тебе известно, что я не первый муж у моей жены. Сначала Арета была замужем за моим братом.
Я знал об этом, но никогда не слышал этого из уст самого хозяина.
– Это вызвало печальный раскол в моей семье, поскольку я обычно отказывался разделить трапезу в доме у брата, а всегда находил какую-нибудь отговорку. Моего брата это глубоко ранило – он думал, что я не уважаю его жену или и вижу за ней какую-то вину, которую не могу разгласить. Он взял ее из семьи совсем молодой, когда ей было всего семнадцать, и я знал, что эта поспешность беспокоила его. Он так хотел ее, что не мог ждать, боясь, что его опередит кто-то другой. Поэтому, когда я избегал бывать в его доме, он думал, что я осуждаю его за это.
Ятрокл ходил жаловаться нашему отцу и даже эфорам, стараясь заставить меня принять его приглашение. Однажды, борясь в палестре, месте для упражнений, он чуть не задушил меня (я никогда не мог сравниться с ним в борьбе) и велел в тот же вечер явиться к нему в дом в лучших одеждах и с наилучшими манерами. Он поклялся, что сломает мне хребет, если я еще раз оскорблю его.
Приближался вечер, когда я заметил, что брат снова идет ко мне. Я как раз заканчивал свои упражнения на Большом Круге. Ты знаешь Арету и ее язык. Так вот, она поговорила с мужем. «Ты слепец, Ятрокл,– сказала она.– Разве ты не видишь, что твой брат влюблен в меня? Потому он отклоняет твои приглашения прийти к нам. Ему стыдно за свои чувства к жене родного брата».
Мой брат прямо спросил, правда ли это. Я солгал, как собака, но он, как всегда, видел меня насквозь. Можешь сам понять его чувства. Но он оставался совершенно спокоен – как в детстве, когда что-то обдумывал. «Она будет твоей, когда я паду в бою»,– объявил он. Казалось, что для него проблема решена.
Но не для меня. Через неделю я нашел повод уехать из города, чтобы сопровождать одно заморское посольство. Мне удалось пробыть вдали всю зиму. Когда я вернулся, наше подразделение лох (самое большое соединение тяжеловооруженных воинов-пехотинцев (гоплитов) в спартанской армии) Геракла призвали, чтобы послать к Пеллене. Там мой брат погиб. Я не знал об этом, пока битва не была выиграна и нас не собрали для переклички. Мне было двадцать четыре года. Ему – тридцать один.
Лицо Диэнека стало еще серьезнее. Действие выпитого вина словно бы испарилось. Он долго колебался, обдумывая, продолжать ли свой рассказ или же закончить на этом. Потом внимательно посмотрел мне в лицо и, как будто удовлетворившись, что я слушаю с должным вниманием и почтением, опорожнил чашу и продолжил:
– Я чувствовал свою вину за смерть брата, как будто я желал ее и боги некоторым образом ответили на мою постыдную молитву. Это было мучительнее всего, что со мной случалось в жизни. Я чувствовал, что не могу жить дальше, но не знал, как достойно закончить жизнь. Мне пришлось вернуться домой – ради отца и матери, а также для игр после похорон. К Арете я не приближался. Я собирался снова покинуть Лакедемон, как только закончатся игры, но ко мне подошел ее отец:
«Разве ты не хочешь ни слова сказать моей дочери?» Он не догадывался о моих чувствах к ней. Он говорил просто об учтивости – я был обязан проследить, чтобы Арете достался достойный муж. Он сказал, что я сам должен стать ее мужем. Я был единственным братом Ятрокла, наши семьи уже были тесно связаны, а поскольку Арета еще не родила ни одного ребенка, мой ребенок от нее был бы как будто и ребенком брата.
Я отказался.
Этот достойный человек не мог догадаться о действительной причине – что я не могу принять такого позора: исполнения своих глубочайших желаний на костях собственного брата. Отец Ареты не мог этого понять и потому был глубоко задет и оскорблен. Ситуация сложилась невозможная, она плодила страдания со всех сторон, но я не имел никакого представления о том, как ее исправить. В тот день я боролся в Гимнасионе, отравленный внутренними муками, когда в его воротах раздался шум. Вошла какая то женщина. Как известно, женщинам не позволено вторгаться в Гимнасион. Послышался возмущенный ропот. Я встал,– как и все, гимнос, то есть голый,– чтобы вместе с другими вышвырнуть нарушительницу.
И тогда – увидел… Это была Арета.
Мужчины расступились перед ней, как колосья перед жнецами. Она остановилась прямо у линии овала, где обнаженные кулачные бойцы ожидали своего выхода.
«Кто из вас возьмет меня в жены?» – спросила она у всех собравшихся, которые разинули рты и онемели, как телята.
Арета и теперь прелестная женщина, даже после рождения четырех дочерей, но тогда, еще бездетная, когда ей едва исполнилось девятнадцать, она была ослепительна, как богиня. Не было мужчины, который бы не желал ее, но все были слишком ошеломлены чтобы издать хотя бы звук.
« Что ж, никто не подойдет, чтобы заявить свои права на меня?»
Она повернулась и пошла – прямо ко мне:
«Тогда ты должен сделать меня своей женой, Диэнек, иначе мой отец не вынесет такого позора».
Мое сердце перевернулось от этого – оно наполовину онемело от непомерного бесстыдства этой женщины, а наполовину было глубоко тронуто ее мужеством и сообразительностью.
– И что случилось дальше? – спросил я.
– Что мне оставалось? Я стал ее мужем.
Диэнек рассказал еще несколько историй о мастерстве своего брата на Играх и его доблести, выказанной в сражениях. Во всех областях: в быстроте, и сообразительности, и красоте, и добродетели и выдержке, даже в пении – во всем брат затмевал моего господина. Было ясно, что Диэнек глубоко почитал его – не просто как младший брат старшего, но как человек, трезво его оценивая и восхищаясь им.
– Какая это была пара – Ятрокл и Арета! Весь город ждал, какие будут у них сыновья. Какие воины и герои родились бы, слив воедино достоинства обоих!
Но у Ятрокла и Ареты не было детей, а от Диэнека она рожала только девочек.
Диэнек не говорил об этом, но можно было заметить печаль и сожаление на его лице. Почему боги даровали ему и Арете только дочерей? Чем это могло быть, как не проклятием, насланным богами возмездием за преступную любовь, выросшую в сердце моего хозяина? Диэнек вышел из задумчивости или из того состояния, что я принял за задумчивость, и указал вниз на Аллею Победителей.
– Теперь ты видишь, Ксео, что проявлять мужество перед врагом мне, может быть, легче, чем другим. Я держу перед собой пример брата и знаю, что какие бы чудеса доблести ни позволили мне совершить боги, я никогда не сравняюсь с ним. Это моя тайна. И она придает мне скромности. Он улыбнулся. Странной, печальной улыбкой.
– Теперь, Ксео, ты знаешь тайну моего сердца. А насколько я стал достойным человеком, судить тебе.
Я рассмеялся, как и хотел мой хозяин.
– А теперь я устал,– объявил Диэнек, поворачиваясь на земле. – Извини меня, но пора, как говорится, лишить девственности соломенную деву.
С этими словами он свернулся на своем тростниковом ложе и мгновенно заснул.
КНИГА ВТОРАЯ АЛЕКСАНДР
Глава восьмая
Предыдущие беседы записывались в течение нескольких вечеров, в то время как войско Великого Царя продолжало свое продвижение в Элладу. 3ащитники Фермопил были подавлены, а эллинский флот в это время понес большие потери в кораблях и живой силе в морском сражении при Артемизии. Все греческие и союзные им силы, сухопутные и морские, теперь покинули поле боя. Эллинские сухопутные войска отступили на юг, в направлении Коринфского перешейка, куда теперь стеклись силы из других греческих городов и где теперь возводили стену для обороны Пелопоннеса. Морские же силы обогнули Эвбею и мыс Каферея, чтобы соединиться с основными силами эллинского флота у Афин и Саламина в Саронийском заливе.
Войско Великого Царя предало огню всю Фокиду. Персидские войска сожгли до основания города Дримос, Хараду, Эрохос, Тефроний, Амфикею, Неон, Педиеи, Тритеи, Элатею, Гиламполис и Парапотамии. Все храмы и святилища эллинских богов, включая храм Аполлона в Абах, были разрушены, а их богатства разграблены.
Что касается самого Великого Царя, время Царственной Особы почти по двадцать часов в день занимали не терпящие отлагательств военные и дипломатические дела. Несмотря на занятость, желание Великого Царя услышать продолжение рассказа пленного Ксеона осталось неизменным. Он велел продолжить допрос в Свое отсутствие и вести письменный отчет, чтобы прочесть Великому Царю в Его свободные часы.
Грек отозвался на это повеление с рвением. Вид его родной Эллады, побежденной превосходящими силами персидского войска, вызвал у этого человека глубокие страдания и словно воспламенил его. Он жаждал записать как можно больше из своего рассказа и как можно скорее. Донесение о разгроме Дельфийского оракула Аполлона еще более усилило горе пленника. Втайне он выражал тревогу, что Великому Царю начнет надоедать рассказ о нем самом, Ксеоне, и других частных людях, и он стремился скорее перейти к более уместным темам, касающимся спартанской тактики, военной подготовки и философии войны. Грек умолял Великого Царя о терпении, утверждая, что его рассказ будто бы «рассказывается сам» по указанию Бога и что он, повествователь, может лишь следовать за ним.
Мы начали снова, в отсутствие Великого Царя, вечером девятого дня месяца ташриту в шатре Оронта, командира Бессмертных.
Великий Царь велел рассказать о военных упражнениях спартанцев, в частности о тех, которыми занимаются юноши, и об их воспитании согласно законам Ликурга.( Ликург – легендарный законодатель Спарты, создавший якобы по велению Дельфийского оракула политические институты спартанского общества. В Лакедемоне ему воздавались божественные почести).
Показательным может быть отдельный пример, не только несущий в себе некоторые подробности, но и передающий сам дух. Это событие отнюдь не явилось исключительным. Я расскажу о нем, так как оно несет много сведений, а так же потому, что в него оказались вовлечены некоторые люди чей героизм Великий Царь засвидетельствовал собственными глазами в сражении при Горячих Воротах.
Это случилось за шесть лет до битвы при Фермопилах. Мне в то время исполнилось четырнадцать, но я еще не был боевым оруженосцем у моего хозяина. В то время я не прожил в Лакедемоне и двух лет. Я служил в качестве парастатес пэс – напарника в упражнениях для одного юноши-спартиата моих лет по имени Александр. Раз или два я уже упоминал о нем. Александр был сыном полемарха (военачальника) Олимпия и в то время, в возрасте четырнадцати лет, находился под опекой Диэнека.
Этот юноша был отпрыском одной из благороднейших спартанских фамилий, его род по линии Еврипонтида восходил к самому Гераклу. Однако по своему телосложению он не подходил к роли воина. В менее суровом мире Александр мог бы стать поэтом или музыкантом. Среди ровесников он был самым лучшим флейтистом, хотя почти не упражнялся на инструменте. Его певческая одаренность была еще более выдающейся – как в юности, когда он пел альтом так и в более зрелом возрасте, когда его голос установился в чистый тенор.
Так случилось, если только тут не вмешалась рука богов, что нас, его и меня, когда нам было по тринадцать, одновременно секли за разные проступки по разные стороны поля для упражнений. Его наказывали за какое-то нарушение в его учебной группе, агоге бова; я же провинился в том, что неподобающим образом выбрил горло жертвенному козлу.
При нашей одновременной порке Александр упал раньше меня. Я упоминаю об этом не для того, чтобы похвастать,– просто я получал больше побоев и был более привычен к ним. Это различие, к несчастью для Александра, было воспринято как позор самого худшего сорта. Чтобы ткнуть его носом в это, учитель приставил к нему меня с наставлением, чтобы он постоянно дрался со мной, пока не сможет как следует отколотить. Мне, в свою очередь, было сказано, что, если возникнет хоть малейшее подозрение, будто я поддаюсь из страха последствий за нанесение вреда благородному спартанцу, меня будут сечь до тех пор, пока на моей спине не покажутся кости.
Лакедемоняне в высшей степени находчивы в подобных делах. Они знают, что никакие хитрые меры не свяжут двух подростков теснее. Я прекрасно понимал, что если сыграю свою роль удовлетворительно, то буду и дальше прислуживать Александру и стану его оруженосцем, когда ему исполнится двадцать и он займет свое место в боевом строю. А я только этого и хотел. За тем в первую очередь я и пришел в Спарту – чтобы как можно ближе оказаться к военной подготовке и пройти ее всю, насколько позволят лакедемоняне.
При Дубах, в Отонской долине, под обжигающим солнцем позднего лета войско выстроилось на восьминочник, как это называют в Лакедемоне – единственном городе, который практикует октониктию Обычно это упражнение для эномотии, хотя в данном случае участвовала целая мора (подразделение в составе лоха численностью 1000-1200 человек). Более тысячи двухсот человек в полном вооружении и вспомогательное войско из такого же числа оруженосцев и илотов выступили в высокогорную долину и в темноте выполняли маневры в течение четырех ночей. Спали днем в лагере, попеременно, в полной готовности и под открытым небом, а потом, в течение последующих трек суток, выполняли маневры и день и ночь. Условия преднамеренно придумывались так, чтобы приблизить их по суровости к настоящему походу, имитируя все, кроме убитых и раненых. Были тренировочные ночные атаки вверх по крутому склону, и каждый воин нес полный набор вооружения и паноплию – от пятидесяти до шестидесяти, мин доспехов со щитом. Потом атаки вниз по склону. Потом – вдоль склона. Территория выбиралась покаменистее, где росло множество узловатых дубов с низко нависающими ветвями. Искусство заключалось в том, чтобы обойти все препятствия, как вода сквозь камни, не сломав строя.
Никакой утвари с собой не бралось. Первые четыре дня вино отпускалось в половинной норме, потом два дня вина не полагалось, а остальные два дня – никакой жидкости вообще, даже воды. В рацион входили только буханки из льняного семени, которые Диэнек считал годными лишь для утепления хлевов, да фиги – ничего горячего. Подобные упражнения лишь отчасти являются подготовкой к ночным атакам; их главная задача – привить навык стремления к цели ориентирования на местности, чувство места в фаланге привычку действовать вслепую, особенно на пересеченной местности. Для лакедемонян это аксиома – войско должно уметь выравнивать линию и перестраиваться одинаково ловко как при хорошей видимости, так и вслепую, поскольку как известно Великому Царю, в пыли и ужасе офисмоса первого боевого столкновения, в результате которого возникает страшная толчея, никто ничего не видит далее пяти футов в любом направлении и не слышит в общем шуме даже собственного крика.
Среди других эллинов бытует заблуждение – и спартанцы специально культивируют его среди них,– что характер лакедемонской военной подготовки крайне жесток и сух. Ничто не может быть дальше от истины. Никогда в других обстоятельствах я не испытывал ничего подобного тому неослабевающему веселью, какое царило во время этих полевых маневров. Иначе они стали бы смертельно изнурительными. Шутки слышны с того момента, когда протрубит сарпинкс на побудку, и до последнего изнеможительного часа, когда воины заворачиваются в свои плащи и ложатся спать. И даже тогда еще несколько минут из разных углов, как удары молота, доносятся неудержимые приглушенные смешки.
Это тот особенный солдатский юмор, что происходит из перенесенных вместе лишений. Он непонятен для тех, кто не был в том месте и не испытал таких трудностей. « Чем отличается спартанский царь от рядового воина?» – подыгрывает один спартанец другому, ложась спать в открытом поле под проливным дождем. Его товарищ на момент театрально задумывается. «Царь спит в дерьме вон там,– отвечает он,– а мы спим в дерьме здесь».
Чем хуже условия, тем сильнее надрывают живот шутки – или, по крайней мере, так кажется. Я видел, как почтенные благородные мужи лет пятидесяти и старше с густой сединой в бороде и величественным, как у 3евса, выражением лица бессильно падали на четвереньки, опрокидывались на спину и непроизвольно мочились от смеха. Однажды, придя по поручению, я видел, как сам Леонид больше минуты не мог встать на ноги, скорчившись от чьей-то непереводимой остроты. Каждый раз, когда он пытался встать, один из его товарищей по шатру, седой военачальник, заканчивающий шестой десяток, друг детства, звавший царя по прозвищу, данному еще в агоге, пытал его новой вариацией той же шутки, отчего тот снова в конвульсиях падал на колени.
Этот и другие схожие случаи вызывали к Леониду всеобщую любовь – не только полноправных спартиатов, но и просто благородных мужей – периэков. Они видели, что их почти шестидесятилетний царь претерпевает все те же лишения, что и они сами. И знали, что, когда настанет битва, он не займет безопасное место в тылу, а окажется в первой шеренге, в самом горячем и рискованном месте на поле боя.
Цель восьминочника – довести воинов отряда до такого состояния, когда они уже не могут шутить. Говорят, если шутки прекращаются, это значит, что урок усвоен и каждый человек и вся мора совершили тот прирост в цене, которым расплачиваются при последнем суровом испытании. Трудность учения предназначается не столько для укрепления спины, сколько для закалки духа. Спартанцы говорят, что любое войско может победить, пока стоит на ногах; настоящее испытание начинается, когда все силы иссякли и воины должны выковать победу из одной своей воли.
Наступил седьмой день, и войско достигло той степени изнеможения и раздражительности, которую и должен вызывать восьминочник. День шел к вечеру, все еле поднимались после явно недостаточного сна, иссушенные, грязные, смердящие, в предвкушении последней ночи учений. Все изголодались и устали, иссохлись от жажды. Вокруг одной и той же шутки было обвито сто вариаций, и каждом хотелось настоящей войны, чтобы можно было наконец не вздремнуть на полчаса, а по-настоящему поспать и набить брюхо горячей жратвой. Спартанцы, ворча и жалуясь, расчесывали свои спутанные патлы, в то время как оруженосцы и илоты, такие же уставшие и измученные жаждой, как господа, протягивали им последнюю фиговую лепешку без вина и воды и готовили их к вечернему жертвоприношению, а их составленное штабелем оружие и паноплия ждали в безупречном порядке начала ночной работы.
Обернувшись, я увидел, как Александр стоит перед своей эномотией рядом с Полиником, благородным спартиатом и олимпийским победителем, который яростно уставился на него. Александру было четырнадцать, Полинику – двадцать три, и даже за полстадия было видно, что юноша перепуган этой яростью.
С этим воинственным Полиником шутки были плохи. Он приходился племянником Леониду, имел награду за доблесть и не знал жалости. Очевидно, Полиник пришел из верхнего лагеря с каким-то поручением и, пройдя вдоль строя юношей из агоге, заметил какое-то нарушение.
Теперь Равным с верхнего склона было видно, в чем оно заключалось.
Александр недостаточно внимательно следил за своим щитом или, если употребить дорийский термин, этимазен,– «обесчестил» его. Каким-то образом щит остался лежать без присмотра, вне пределов досягаемости Александра, лицевой стороной вниз, вогнутой поверхностью к небу.
Перед Александром стоял Полиник.
– Что это я вижу в грязи? – проревел он. Спартиатам наверху был слышен каждый слог.
– Это, наверное, ночной горшок такой изящно подобранной формы. Это ночной горшок? – вопросил он Александра.
Мальчик ответил:
– Нет.
– Так что же это?
– Это щит, господин.
Полиник заявил, что сие невозможно.
– Это не может быть щит,– раскатился его голос по амфитеатру долины,– так как даже тупейший, оттраханный в задницу копошащийся в дерьме червяк из пайдариона не оставит щит лежать лицом вниз там, откуда его нельзя моментально схватить, когда наступит враг.– Он навис над смертельно напуганным мальчиком.– Это ночной горшок,– объявил Полиник.– Наполни его.
И началась пытка.
Александру было велено помочиться в свой щит. Да, это был учебный щит. Но, взглянув со склона вниз вместе с другими Равными, Диэнек понял, что именно этот аспис, латаный-перелатаный за десятки лет, раньше принадлежал отцу Александра, а до того – его деду.
Александр был так напуган и так обезвожен, что не смог выдавить из себя ни капли.
Теперь в представлении появились новые участники. Среди юношей, которые в данный момент не оказались объектом ярости старшего, было много любителей посмеяться над жалким видом или любой неудачей своего товарища, «подвешенного на вертеле над углями». Однако весь строй прикусил языки, сдерживая внушенное страхом веселье. Но один парень по имени Аристон, очень красивый, лучший бегун на короткие дистанции среди юношей своего возраста, похожий на самого Полиника в молодости, не смог сдержаться и фыркнул.
Полиник в бешенстве повернулся к нему. У Аристона было три сестры, все, как говорят лакедемоняне, «двуглядные», то есть такие хорошенькие, что хочется смотреть на них и снова и снова.
Полиник спросил Аристона, не кажется ли ему происходящее забавным.
– Нет, господин,– ответил мальчик.
– А если кажется, подожди, когда попадешь в дело. Тогда это доведет тебя до истерики.
– Нет, господин.
– Да, доведет. Ты будешь хихикать, как твои паршивые сестрицы.– Он шагнул к Аристону.– Ты так себе представляешь войну, вонючий выскочка.
– Нет, господин.
Полиник вплотную приблизил свое лицо к лицу мальчика, его глаза горели жгучей злобой:
– Ответь мне, что, по-твоему, смешнее: когда вражеское копье фута эдак на полтора войдет в прямую кишку тебе или твоему дружку певуну Александру?
– Ни то ни другое,– с каменным лицом проговорил Аристон.
– Ты ведь боишься меня, правда? И в этом причина твоего смеха? Ты ведь до одурения счастлив, что не тебя поставили перед строем!
– Нет, господин.
– Что? Ты меня не боишься?
Полиник потребовал объяснения. Поскольку если Аристон боится его, то он трус. А если не боится, то он безрассудный невежа, что еще хуже.
– Что – «нет», ты, жалкий комок дерьма? Тебе бы следовало бояться меня! Я вставлю тебе член в правое ухо, чтобы вышел из левого, и сам наполню этот ночной горшок!
Полиник велел другим юношам помочь Александру. Пока их жалкие капли мочи брызгали на дерево щита и его кожаную обивку, на талисманы, сделанные матерью и сестрами Александра и повешенные на внутреннюю сторону, Полиник вернулся к самому Александру, спросив у него, как подобает обращаться со щитом. Мальчик знал это с трехлетнего возраста.
– Щит должен всегда находиться в вертикальном положении,– во весь голос объявил Александр,– и лямка и рукоять щита должны быть в полной готовности. Если воин отдыхает стоя, то должен прислонить щит к коленям. Если он сел или лег, то должен прислонить щит к трипоус базис – легкой треноге, которую носят с внутренней стороны гоплона в специальном гнезде…
Другие юноши по приказу Полиника прекратили свои потуги помочиться в щит Александра. Я взглянул на Диэнека. Его лицо не выдавало никаких эмоций, хотя я знал, как он любил Александра и, несомненно, больше всего на свете ему хотелось броситься вниз и убить Полиника.
Но Полиник был прав. А Александр виноват. Мальчика следовало проучить.
Теперь Полиник взял в руку трипоус базис Александра. Маленькая тренога состояла из трех штырей, соединенных с одного конца кожаным ремешком. Штыри были толщиной с палец, а длиной около полутора футов.
– Построиться к бою! – проревел Полиник.
Подразделение выстроилось. Полиник велел всем положить щиты – позорным образом, лицевой стороной в грязь, как раньше сделал Александр.
Теперь тысяча двести спартиатов вместе с таким же числом оруженосцев и слуг-илотов смотрели со склона на спектакль.
– Взять щиты!
Юноши бросились к своим тяжелым лежащим на земле гоплонам, и в это время Полиник ударил Александра треногой по лицу. Брызнула кровь. Он ударил следующего, а затем следующего, пока пятый наконец не поднял свой двадцатифунтовый громоздкий щит, чтобы защититься.
Полиник проделал это же снова и снова.
Начиная с одного края строя, потом с другого, потом с середины. Как я уже говорил, Полиник был Агиад – один из трехсот Всадников – и, кроме того, олимпийский победитель Он мог делать все, что захочет. Учителя, простого ирена, он поставил в сторону, и тот мог только смиренно взирать на все это.
– Весело, правда? – спросил мальчиков Полиник. Я вне себя от веселья, верно? Не могу дождаться боя, тогда будет еще забавнее.
Мальчики знали, что последует за этим.
Дрюченье деревьев.
Когда Полинику надоест мучить их самому, он велит учителю прогнать их маршем за край равнины, к самому толстому дубу, чтобы там они, построившись, толкали дерево щитами, как при атаке на противника.
Мальчики встанут в восемь шеренг, упираясь щитом в спину товарища впереди, а стоящие в первом ряду вложат весь их совокупный вес в толкание дуба. А потом последует муштровка в офисмосе.
Они будут толкать.
Они будут пыжиться.
Они будут дрючить это дерево изо всех сил.
Подошвы их босых ног будут месить грязь, увязая и упираясь, пока не вытопчут борозду по лодыжку, а сами они все будут выдавливать друг другу кишки, горбясь и надрываясь, долбя этот неподвижный ствол.
Через два часа Полиник невзначай вернется, возможно, с несколькими другими молодыми воинами, которые сами не раз проходили через подобное во время своего пребывания в агоге, и они изобразят изумление, увидев, что дерево все еще стоит.
– О боги! Эти щенки пыхтят уже половину смены, а жалкое деревце все там же, где и было!
И к перечню прочих грехов добавится еще и недостойная мужчины изнеженность Немыслимо, чтобы им позволили вернуться в город, пока это дерево не поддастся им, такая неудача опозорит их отцов и матерей, сестер, братьев, теток, дядек и более отдаленную родню, всех богов и героев в их роду, не говоря уж об их собаках, кошках, овцах и козах и даже крысах в хлеву у илотов, которые, понурив голову, поплетутся в Афины или какой-нибудь другой занюханный полис, где мужчины все же отличаются от женщин и умеют должным образом дрючить.
Это дерево – противник!
Долбай врага!
И так будет продолжаться всю ночь до середины второй стражи, пока у провинившихся не начнется отрыжка и недержание; они будут блевать и дристать, тело будет разрываться от изнеможения, а потом, после того как утреннее жертвоприношение наконец принесет милость и передышку, юношам предстоит целый день учений без минуты сна.
И стоящие перед Полиником мальчики знали, что их ждет эта пытка. Они уже предвкушали ее.
К тому времени уже у всех в строю нос был расквашен. Лица всем заливала кровь. Полиник как раз сделал передышку (у него устала рука лупить), когда Александр, не подумав, вытер рукой свое окровавленное лицо.
– Что ты, по-твоему, делаешь, козел? – моментально повернулся к нему Полиник.
– Вытираю кровь, господин. – И зачем ты это делаешь? – Чтобы видеть, господин.
– Кто это тебе сказал, что ты имеешь право видеть?
Полиник продолжал свои издевательства. Для чего, по мнению Александра, их всех вывели сюда на ночные учения? Разве не для того, чтобы научиться сражаться вслепую? Он думает, что в бою ему дадут передышку, чтобы он мог осмотреться? Видимо, так. Александр попросит противника, и они вежливо приостановятся, чтобы мальчик вынул козявку из носа или подтер свою задницу.
– Я еще раз тебя спрашиваю: это ночной горшок? – Нет, господин. Это мой щит.
И снова штыри треноги ударили его по лицу.
– « Мой»? – в ярости переспросил Полиник.– « Мой»?
Диэнек, еле сдерживаясь, смотрел на происходящее со своего места на краю верхнего лагеря. Александра терзала мысль, что его ментор наблюдает за всем этим; мальчик, казалось, призвал все свое хладнокровие, подавил все чувства, а потом он шагнул вперед, подняв щит, вытянулся перед Полиником по стойке «смирно» и громким, чистым голосом продекламировал:
Мой щит в битву с собой я несу. Не одного лишь меня, но и брата он защитит. Город родной он укроет собой под моею рукой, Брат мой и город мой вечно под тенью его да пребудут, Щит пред собою держа, я в сраженье с врагами погибну, Щит пред собою держа, к недругу встану лицом.Александр закончил. Последние слова он выкрикнул во весь голос, и несколько мгновений они эхом разносились по долине. Две с половиной тысячи человек слушали и смотрели.
Они видели, как Полиник удовлетворенно кивнул. И рявкнул что-то. Мальчик встал и строй, в котором каждый теперь держал щит, как положено, – прислонив к коленям.
– Поднять щиты!
Юноши нагнулись за своими гоплонами.
Полиник взмахнул треногой.
С треском – это тоже было слышно по всей долине – прутья ударили по бронзе Александрова щита.
Полиник ударил снова, по щиту следующего, потом следующего. Все щиты остались на месте. Строй был надежно защищен.
Он снова проделал это слева направо и справа налево. Щиты мгновенно взлетали в руках мальчиков, занимая нужное место – перед нападающим.
Кивнув ирену, Полиник отступил назад. Мальчики быстро встали по стойке «смирно», высоко подняв щиты. Кровь на их скулах и расквашенных носах начала запекаться.
Полиник повторил свой приказ ирену: пусть эти бараны, сказал он, пусть эти сыновья шлюхи дрючат дерево до истечения второй стражи, а потом упражняются со щитами до рассвета.
Он снова прошел вдоль строя, глядя каждому в глаза. Перед Александром он остановился.
– У тебя был слишком смазливый нос, сын Олимпия. Это был нос девчонки.– Полиник швырнул треногу мальчика в грязь, ему под ноги.– А вот теперь он мне нравится больше.
Глава девятая
В ту ночь один из мальчиков умер. Его имя было Гермион, но все звали его «Гора». В свои четырнадцать он был не слабее любого из сверстников и даже юношей на год старше. Гермион рухнул к концу второй стражи и впал в то состояние оцепенения, которое спартанцы называют некрофания, «маленькая смерть», от которой человек может оправиться, если на время оставить его в покое, но умрет, если попытается встать или напрячься. Гора понимал свое тяжелое положение, но отказался лежать, пока его товарищи держались на ногах.
Я попытался дать им попить – я со своим товарищем-илотом по имени Дектон, которого позже прозвали Петухом. В середине первой стражи мы незаметно принесли им мех с водой, но спартанцы пить отказались. На рассвете они вынесли Гору на плечах, как носят павших в бою.
Нос Александра так и не сросся как следует. Отец дважды ломал ему его снова и вправлял у лучших военных хирургов, но шов на том месте, где хрящ соединяется с костью, так до конца и не зарос. Дыхательные пути непроизвольно сжимались, вызывая спазмы в легких, называемые греками астма, и на это мучительно даже смотреть, а терпеть такое самому, наверное, невыносимо. Александр винил себя в смерти того юноши по прозвищу Гора. Эти приступы, не сомневался он, явились наказанием небес за его невнимание и неподобающее воину поведение.
Спазмы ослабили выносливость Александра и привели к тому, что он стал все больше и больше отставать от своих товарищей по агоге. А хуже всего была непредсказуемость приступов. Когда они начинались, Александр несколько минут ни на что не годился. Не поправив свое здоровье, он не сможет, когда вырастет, стать воином, а следовательно, потеряет гражданство, и ему останется выбор: жить дальше в приниженном, позорном положении или с честью покончить с собой.
Его отец, глубоко обеспокоенный, снова и снова совершал жертвоприношения и даже посылал гонцов в Дельфы за советом Пифии, но ничего не помогало.
Ситуацию осложняло и то, что, несмотря на слова Полиника о его сломанном носе, Александр оставался «смазливым». А трудности с дыханием почему-то не повлияли на его певческие способности. Казалось, причиной этих приступов служил постыдный страх, а не физический изъян.
У спартанцев есть предмет, называемый фобология – наука о страхе. Как наставник Александра, Диэнек украдкой проходил ее с ним после вечерней трапезы и перед рассветом, пока спартанцы строились к жертвоприношению.
Предмет фобологии состоит из двадцати восьми упражнений, и каждое делает упор на отдельную цепь нервной системы. Пять основных цепей – это колени и бедра, легкие и сердце, поясница и кишечник, таз, плечевой пояс, особенно трапециевидные мышцы, которые соединяют плечи с шеей.
Вторичные цепи, для которых лакедемоняне имеют еще двенадцать упражнений,– это лицо, особенно мышцы челюсти, шея и четыре сжимающиеся мышцы вокруг глазниц Эти цепи спартанцы называют фобосинактеры, накопители страха.
Страх плодится в теле, учит наука фобология, и бороться с ним нужно именно там. Когда плоть охвачена страхом, может начаться фобокиклос, или петля страха, когда он, сам себя подпитывая, начинает «разгон». Приведи тело в состояние афобии, бесстрашия, считают спартанцы, и за телом последует дух.
Диэнек занимался с Александром наедине под дубами и спокойном предрассветном полусвете. Он легонько хлопал мальчика оливковой веткой сбоку по лицу, и трапециевидные мышцы непроизвольно сокращались.
– Чувствуешь страх? Там? Чувствуешь? – спокойно звучал голос наставника. Так наездник успокаивает жеребенка. – Вот. Опусти плечо.– Он снова хлопнул мальчика по щеке.– Дай страху истечь кровью. Чувствуешь?
Мужчина и мальчик часами занимались «совиными мышцами», офтальмомимами вокруг глаз. Они, учил Александра Диэнек, во многих отношениях сильнее всех остальных, поскольку боги в своей мудрости наградили смертных очень быстрым защитным рефлексом для предохранения зрения.
– Посмотри на мое лицо, когда сокращаются мышцы, показывал Диэнек.– Что оно выражает?
– Фобос. Страх.
Диэнек, обученный данному предмету, приказал лицевым мышцам расслабиться.
– А теперь что оно выражает?
– Афобию. Бесстрашие.
Казалось, Диэнек не прилагает никаких усилий, да и другие юноши без особого труда осваивали это искусство. Но Александру в этом предмете ничто не давалось легко. Его сердце билось действительно без страха лишь в тех случаях, когда он забирался на певческие коры, чтобы петь наГимнопедии и других юношеских праздниках.
Возможно, его истинными покровителями были Музы. Диэнек велел Александру принести жертву им, 3евсу и Мнемозине. Агата, одна из «двуглядных» сестер Аристона, сделала янтарный амулет Полигимнии, и Александр носил его на перекладине своего щита.
Диэнек поощрял Александра в пении. Каждого человека боги наделяют каким-нибудь даром, которым тот может одолеть страх. У Александра, не сомневался Диэнек, этим даром был голос. Искусство пения в Спарте почиталось сразу после воинской доблести. В действительности, как утверждает фобология, доблесть и музыка тесно связаны через сердце и легкие. Вот почему лакедемоняне поют, идя в битву. Их учат открывать рот и набирать в легкие воздух, задерживать его там насколько возможно, а потом выдыхать отработанный воздух вместе со страхом.
В городе есть две беговые дорожки – Малый круг, который начинается от Гимнасиона и идет вдоль Конурской дороги под Афиной Бронзовородной, и Большой круг, огибающий все пять деревень и идущий мимо Амиклов, вдоль Гиакинфова пути, и пересекающий склоны Тайгета. Александр бегал по Большому кругу, покрывая босиком по пятьдесят стадиев до жертвоприношения и после обеденной трапезы. Илоты-повара тайно выделяли ему дополнительный паек. По негласному соглашению юноши его бовы покровительствовали ему в тренировках. Они покрывали его, когда Александра подводили легкие и казалось, что ему не миновать наказания. Александр относился к этому с затаенным стыдом, что заставляло его прилагать еще больше стараний.
Александр начал тренироваться в панкратионе – борьбе без правил, в той юношеской борьбе, культивируемой только в Лакедемоне (такая борьба без правил (панкратион) культивировалась и в других греческих городах). Начиная с XXXIII Олимпийских игр (648 г. до н. э.) панкратион был олимпийским видом спорта, в которой участник может пинаться ногами, кусаться, тыкать пальцами в глаза(Кусаться и тыкать пальцами в глаза в панкратионе было запрещено Плутарх пишет, как афинянин Алкивиад укусил своего противника и тот обвинил его, что он кусается «как женщина», на что Алкивиад ответил: «Не как женщина, а как лев»).
– делать что угодно, только не просить пощады.(Попросивший пощады считался побежденным) Александр бросался босой в Ферайский ручей и с голыми руками на мешок панкратиста, он бегал с тяжелым грузом, бил кулаками в ящики с песком, специально сделанные для упражнений кулачных бойцов. Его изящные кисти были исцарапаны костяшки пальцев распухли. Нос ему ломали снова и снова. Александр дрался со сверстниками из своей учебной группы и других групп; дрался он и со мной.
Я быстро рос. Мои руки становились все сильнее. Во всех атлетических упражнениях я был лучше Александра. На борцовском поле я прилагал все усилия, чтобы снова не повредить ему лицо. Он должен был бы ненавидеть меня, но в нем не было злобы. Александр делился со мной своим добавочным пайком и беспокоился, как бы меня не высекли за то, что я ему поддаюсь.
Мы втайне часами напролет говорили об эзотерической гармонии – таком состоянии самодостаточности, в которое и должны вводить фобологические упражнения. Как чистое звучание струны кифары, издающей только одну ноту музыкального ряда, так же и отдельный воин должен прятать все чрезмерное в своей душе, пока сам не завибрирует на той единственной высоте тона, какую диктует его демон. В Лакедемоне достижение этого идеала ставится выше мужества на поле боя, оно считается для гражданина и мужчины высшим воплощением доблести – андреи.
Выше эзотерической гармонии лежит экзотерическая гармония – состояние слияния со своими товарищами, аналогичное музыкальной гармонии многострунных инструментов или хору голосов. В сражении экзотерическая гармония заставляет фалангу двигаться и разить как единый дух, как единая воля. В страсти она сливает мужа с женой, любимого с любимой в бессловесное совершенное единство. В политике экзотерическая гармония создает город согласия и единения, где каждая личность, сохраняя свою собственную благородную выразительность характера, дарит ее каждой другой, так же подчиняясь законам сообщества, как струны кифары подчиняются неизменной математике музыки. В праведности экзотерическая гармония порождает ту молчаливую симфонию, которая более всего услаждает уши богов.
На пике лета случилась война с антирионцами. Были мобилизованы четыре из двенадцати лохов войска, объявлен призыв первых десяти возрастных групп, всего числом две тысячи восемьсот копий. Это была грозная сила, которую не так легко одолеть. Ее составляли не только одни лакедемоняне под командованием самого царя. Были призваны так же вспомогательные войска, состоявшие из скиритов, горных жителей. И все войско растягивалось на пять стадиев. Это была первая полномасштабная кампания после смерти Клеомена и третья, которой Леонид командовал как военный царь.
Место Полиника было в личной охране царя, Олимпий с морой Богини-Охотницы выступал в лохе Дикой Оливы, а Диэнек в должности начальника эномотии, эномотарха,– в лохе Геракла. Даже Дектон, мой друг-полукровка, был призван в качестве пастуха для жертвенных животных.
3а исключением пяти самых старших воинов, чей возраст составлял от сорока до шестидесяти лет, были призваны все вкушавшие трапезу за одним столом с Девкалионом, при которых Александр от случая к случаю исполнял роль виночерпия и слуги, чтобы иметь возможность наблюдать за старшими и учиться на их примере. Хотя Александру оставалось до призывного возраста еще шесть лет, мобилизация, казалось, повергла его в еще более глубокие сумерки Непризванные Равные слонялись вокруг. Атмосфера была напряжённой и взрывоопасной. Казалось, вот-вот что-то произойдет.
И тут вечером на улице рядом с трапезной между Александром и мной началась схватка без правил. Моментально собрались Равные – как раз потасовки им и не хватало. Я слышал голос Диэнека, подзадоривавшего нас. Александр горел огнем; мы были с голыми руками, и его кулаки, поменьше, чем мои, мелькали, как дротики. Он сильно ударил меня ногой в висок, а потом локтем в живот, и я упал. И упал по-настоящему, он меня действительно сшиб, но Равные знали привычку друзей поддаваться Александру и теперь решили, что я притворяюсь. Он сам тоже так подумал.
– Вставай, иноземное дерьмо!
Он приблизился ко мне и, когда я начал вставать из грязи, ударил меня снова. Впервые я услышал в его голосе инстинкт убийцы. Равные тоже услышали и подняли восторженный крик. Тем временем со всех кварталов на возбужденные голоса своих хозяев с лихорадочным воем сбежались собаки, которых после обеда всегда собиралось не менее двух десятков.
Я встал и ударил Александра. Я знал, что легко могу его побить, несмотря на возбужденную в нем толпой ярость, и попытался ударить не в полную силу, слегка, но чтобы никто этого не заметил. Однако я зря надеялся. Равные из ближайшей и соседней сисситии издали возмущенный вой. Вокруг нас образовался круг, из которого ни Александр, ни я не могли выскользнуть.
На меня обрушились кулаки взрослых мужчин. Дерись с ним, маленький притворщик!
Собак охватил стайный инстинкт; они еле сдерживали свою звериную натуру. Внезапно две из них ворвались в круг и одна, прежде чем спартанцы успели палками ее прогнать, укусила Александра. И тут началось.
Александра поразил легочный спазм, его горло сжалось, и он стал задыхаться. Мой удар задержался, и тут же спину мне обжег трехфутовый хлыст.
– Бей его!
Я повиновался, и Александр опустился на одно колено. Его легкие парализовало, он был беспомощен.
– Бей его, сын шлюхи! – раздался крик у спины.– Добей его!
Это кричал Диэнек.
Его хлыст так огрел меня, что я упал на колени. Гулкие голоса оглушили меня, и все они призывали разделаться с Александром. В Диэнеке не было злобы, но не было и сочувствия ко мне. До меня Равным не было дела. Все внимание сосредоточилось на Александре. Александр должен научиться, должен усвоить горький урок – один из десяти тысяч, которые ему еще предстоит вынести, прежде чем он затвердеет как камень, как того требует город, чтобы разрешить ему занять свое место среди Равных, среди воинов. Александр понимал это и встал с яростью отчаяния,, хватая ртом воздух. Он набросился на меня, как вепрь. Я ощутил хлыст на спине и с размаху ударил, вложив в удар всю свою силу. Александр закружился и упал лицом в грязь, в углу его рта показалась кровавая пена.
Он лежал там, недвижимый, как труп.
Крики Равных мгновенно затихли. Только нечестивый лай собак продолжался, они исходили пеной и заходились в безумном визге. Диэнек опустился на колени рядом е упавшим воспитанником и приложил ухо к его груди. Потеряв сознание, Александр расслабился, и дыхание вернулось к нему. Диэнек рукой стер слюну с его губ.
– Ну, что рты разинули! – крикнул он на стоявших вокруг Равных.– Все кончено! Приведите его в чувство!
На следующее утро войско отправилось в поход на Антирион. Впереди шагал Леонид в полной паноплии, включая висящий на боку щит. Его голову украшал венок, а шлем царя, ничем не украшенный, без плюмажа, покоился на свернутом походном мешке поверх алого плаща. Стального цвета волосы, безупречно ухоженные, ниспадали на плечи. Рядом шагали его телохранители из Всадников, половина всего состава, сто пятьдесят. В почетном первом ряду – Полиник вместе с шестью другими олимпийскими победителями. Они шли, не печатая шаг и не в мрачном молчаливом ритме, а легко, разговаривая друг с другом и перешучиваясь со стоявшими на обочине друзьями и родственниками. Самого Леонида, если бы не его возраст и почетное положение, можно была бы принять за обычного пехотинца – так непритязательны были его доспехи, так просто он держался. И все же весь город знал, что этот поход, как и два предыдущих под его командованием, ведется его волей – и только его волей. Леонид был нацелен на персидское вторжение, которое, царь не сомневался, произойдет если не в этом году, то через пять лет, но произойдет – несомненно и неотвратимо.
Порты-близнецы Рион и Антирион господствовали над западным подходом к Коринфскому заливу. Этот проход угрожал Пелопоннесу и всей Центральной Греции. Рион, слева, уже признавал спартанскую гегемонию, он был союзником Но Антирион на противоположном берегу оставался в надменном одиночестве, считая себя недостижимым для лакедемонской власти. Леонид намеревался показать Антириону его заблуждение. Он приведет его к покорности и запечатает залив, защитив Центральную Элладу от персидского нападения с моря – по крайней мере, со стороны северо-запад.
Вместе с отцом Александра Олимпием во главе лоха Дикой Оливы проходил его оруженосец Мерион, пятидесятилетний военнопленный, бывший потидейский военачальник. У этого благородного человека была пышная, белая как снег борода. Он, бывало, прятал в этом пушистом гнезде всякие безделушки и неожиданно доставал их как подарки Александру и его сестрам, когда те были детьми. Он проделал это и теперь – подошел к обочине и вложил Александру в руку крошечный железный талисман в форме щита. Мерион сжал руку мальчика, подмигнул и двинулся дальше.
Я стоял в толпе перед Эллинионом с Александром и другими ребятами из учебной группы, женщинами и детьми. Когда полки маршировали по Выходной улице, весь город вышел под акации и кипарисы, распевая гимны Кастору. Воины шли с висящими на лямке щитами и поднятыми копьями, со шлемами за спиной, подпрыгивающими поверх малиновых плащей на полифемилакиях – походных вещевых мешках, которые Равные пока что несли с собой – напоказ. Однако впоследствии эти мешки, равно как и доспехи вместе со всей боевой выкладкой, за исключением копий и мечей, переместятся на плечи оруженосцев. Это произойдет, когда войско построится в походную колонну и потянется по долгой, пыльной дороге на север.
Когда мимо во главе своей эномотии вместе с лохом Геракла прошагал Диэнек в сопровождении своего оруженосца Самоубийцы, прекрасное лицо Александра с перебитым носом застыло как маска. Основное войско прошло мимо. Впереди каждой моры и вслед ей плелись вьючные животные, нагруженные провиантом, и по их крестцам весело щелкали кнутами юные пастухи-илоты. Далее следовал обоз – возы с оружием, уже окутанные тучей дорожной пыли, высокие возы с провизией: амфорами с оливковым маслом и вином, мешками фиг, маслин, лука-порея, простого лука и гранатов; с кухонными горшками и висящими на крюках под ними ковшами, музыкально бьющимися друг о друга, привнося ритмичный звон в какофонию щелчков кнута и скрипа колес, крика погонщиков и стона осей в поднятой мулами пыли.
3а этими возами везли переносные горны и кузнечные принадлежности с запасными клинками для ксифосов и древками для копий, «ящерной колючкой» и длинными наконечниками для копий, потом сами запасные копья, свежие ясеневые и кизиловые древки. Рядом в пыли шагали оружейники-илоты в своих кожаных шапках и фартуках, со шрамами от полученных при ковке ожогов.
Замыкали шествие жертвенные козы с обернутыми рогами и овцы, их вели на поводках молодые пастухи-илоты. Впереди шагал Дектон в уже запылившихся белых алтарных одеяниях. Он тащил упирающегося осла, нагруженного зерном и двумя клетками с петухами победы – по клетке с обоих боков. Он скалил зубы, и, если бы не сквозившая в этой улыбке насмешка, его вид был бы безупречно благочестивым.
В ту ночь я крепко спал на каменных плитах портика за дворцом эфоров, когда вдруг почувствовал, как кто-то трясет меня за плечо. Это была Агата, та самая спартанская девушка, что сделала для Александра амулет, посвященный Полигимнии.
– Эй ты, вставай! – прошипела она, не желая тревожить два десятка остальных юношей агоге, спавших или бодрствовавших поблизости от этих общественных зданий.
Я продрал глаза и осмотрелся. Александра, который заснул рядом со мной, на месте не было.
– Скорее!
Девушка вдруг растворилась в темноте. По темным улицам я поспешил за ней к рощице, где росло раздвоенное и миртовое дерево, прозванное Диоскурами.
Александр был там. Без меня он ускользнул из своей группы (что для нас обоих, если заметят, могло закончиться безжалостной поркой перед строем). Александр стоял в черном пэсе, плаще, с боевым мешком, перед своей матерью, госпожой Паралеей, одним из их домашних илотов и двумя младшими сестрами. Слышались горькие слова. Александр собирался с войском пойти на войну.
– Я пойду,– объявил он.– И ничто меня не остановит.
Мать Александра велела сбить его с ног.
Я увидел, как что-то сверкнуло в его руке. Ксиеле, серповидное оружие, какое носили все юноши. Женщины тоже увидели его и заметили смертельно мрачный взгляд мальчика. На долгое мгновение все оцепенели. Нелепость ситуации становилась все более очевидной. А решимость мальчика крепла.
Мать выпрямилась перед ним.
– Что ж, иди,– проговорила госпожа Паралея. Ей не было нужды добавлять, что я тоже пойду с ним.– И да помилуют тебя боги в той порке, что ждет тебя по возвращении.
Глава десятая
Следовать за войском оказалось не трудно. Дорога вдоль Эноя была истоптана в пыль, мы утопали в ней по щиколотку. В Селассии к экспедиции присоединился отряд периэков Стефана. Александр и я, прибыв туда в темноте, разглядели вытоптанную маршем землю и недавно засохшую кровь на алтаре, где приносились жертвы и толковались знамения. Само войско находилось в полудне ходьбы от нас, и мы не могли остановиться на ночлег и поспать, а двигались вслед ему всю ночь.
На рассвете мы встретили знакомого. Илот-оружейник по имени Евкрат упал и сломал ногу, и теперь двое других помогали ему добраться домой. Он сообщил нам, что у приграничной крепости Ойон разведка донесла Леониду о том, что антирионцы, вовсе не перепуганные и не притихшие, как надеялся царь, послали тайное посольство к тирану (Тиранами в Древней Греции называли монархов; это слово не несет эмоциональной окраски.) Гелону в Сикелию за помощью. Гелон, так же как Леонид и персы, смог оценить стратегическую незаменимость Антириона и точно так же хотел завладеть им. На помощь защитникам Антириона направлялись сорок сиракузских кораблей с двумя тысячами своих и наемных гоплитов. Это сулило настоящее сражение.
Спартанские войска спешно миновали Тигей. Тигейцы, члены Пелопоннесского союза, обязанные «следовать за спартанцами, куда бы те ни направлялись», усилили войско шестьюстами своих гоплитов, доведя его общую численность до четырех с лишним тысяч. Леонид не искал паратаксиса – решительного сражения с антирионцами. Он надеялся запугать их мощью своего войска, чтобы они поняли бессмысленность сопротивления и добровольно примкнули к союзу греческих городов против персов. В стаде Дектона шел жертвенный бык, взятый для заклания в честь присоединения к Союзу нового члена. Но антирионцы, возможно купленные золотом Гелона и воспламененные риторикой некоторых жаждущих славы демагогов, а может быть, и обманутые лживыми оракулами, предпочли воевать.
Разговаривая со встреченными по дороге илотами, Александр расспрашивал их о составе сиракузских сил: какие части, под чьим командованием, в сопровождении каких вспомогательных войск. Илоты не знали. В любом другом войске, кроме спартанского, такая неосведомленность могла вызвать лютую ругань, если не хуже. Но Александр отпускал илотов без задней мысли. У лакедемонян было принято не придавать значения, из кого и из чего состоит войско противника.
Спартанцев учили относиться к врагу – любому врагу – как к безымянному и безличному. У них считалось признаком плохо подготовленной армии в последние моменты перед битвой полагаться на то, что они называли псевдоандреей – ложным мужеством, то есть на искусственно взвинченное воинственное бешенство, порождённое речью какого-нибудь полководца или приливом пустой бравады вызванной криками и стучанием в щиты. По мнению Александра, который в свои четырнадцать подражал военачальникам родного города, любой сиракузец ничем не лучше и не хуже любого другого сиракузца и любой вражеский стратег ничем не отличается от любого другого. Пусть врагами будут мантинейцы, олинфийцы, эпидаврийцы; пусть они выставят свои лучшие войска или визжащие орды из подонков, первоклассные части из полноправных граждан или полки из купленных за золото иностранных наемников – никакой разницы. Все равно никто не сравнится с воинами Лакедемона, и все это знают.
Среди спартанцев военное ремесло лишено таинственности и деперсонифицировано самим их лексиконом, который изобилует как сельскохозяйственными терминами, так к и просто грязными словами. Слово, которое я раньше переводил как «дрючить» – например, когда юноши дрючили дерево,– несет в себе смысл не столько проникновения внутрь, сколько перемалывания, как в мельничных жерновах. Первые три шеренги «дрючат», или «перемалывают» противника. Слово « убивать» по-дорийски «ферос» – то же самое, что « жать», « убирать урожай». Воинов с четвертого по шестой ряд часто называют «жнецами» как за выпадающую на их долю работу – орудовать шипам на нижнем конце копья («ящерной колючкой») или самим копьем над растоптанным врагом, так и за безжалостные удары коротким мечом-ксифосом, который часто называют жатвенной косой. «Отрубить голову» по-спартански будет «увенчать» или «подстричь». Отрубание руки называется « разделка».
В Рион, на обрывистый утес над портом, где на корабли грузилось войско, Александр и я прибыли после полуночи на третий день. На другом берегу узкого залива ярко сверкали портовые огни Антириона. Отмели, с которых шла погрузка войск, уже усеяли мужчины и юноши, женщины и дети жадная до зрелищ праздничная шумная толпа. Рионские союзники заранее собрали корабли и отобранные у торговцев каботажные суда, паромы и даже рыбацкие лодки. Им предстояло в темноте перевозить войска на запад вдоль берега, за пределы видимости из Антирио на, чтобы потом переправить их через залив. Леонид, отдавая должное репутации антирионцев как доблестных бойцов на море, предпочёл переправиться ночью.
Среди рионцев, кричащих на прощание добрые напутствия, Александр и я нашли мальчика нашего возраста, чей отец, как он объявил, владеет быстроходной одномачтовой лодкой и не прочь переправить горсть аттических драхм из кулака Александра в свой – за быструю и молчаливую, без лишних вопросов, переправу через залив. Мальчик провел нас сквозь толпу зевак на берег, на темный участок за волноломом, называемый Сушилкой. Не прошло и двадцати минут после отправки последнего спартанского транспорта, как мы уже плыли на запад вслед за скрывшимся из виду флотом.
Я всегда боялся моря, а особенно в безлунную ночь, когда находишься во власти незнакомых людей. Наш капитан настоял, что возьмет с собой двух братьев, хотя один мужчина и мальчик вполне могли управиться с легкой лодкой. Я знаю этих прибрежных жителей и моряков и не доверяю им. Почти все они промышляют пиратством. Эти братья, если они действительно были его братьями, оказались неуклюжими увальнями, еле способными связать два слова, с густыми-прегустыми бородами, росшими прямо от глаз и плавно переходившими в спутанную растительность на груди.
Прошел час. Лодка мчалась чрезвычайно быстро; над темной водой далеко разносились всплески весел от транспортов и даже слышался скрип уключин. Александр дважды велел пиратам снизить ход, но перевозчик только рассмеялся и сказал, что мы находимся под ветром и нас никто не услышит, а даже если и услышат, то примут за участников конвоя или за зевак, желающих посмотреть на дело.
Как и следовало ожидать, как только береговая линия за спиной заслонила огни Риона, из черноты возникла спартанская лодка и пересекла нам курс. С суденышка нас окликнули по-дорийски и приказали остановиться. Наш шкипер вдруг потребовал свои деньги. Александр возразил: деньги – когда высадимся, как договорились. Бородачи сжали в руках весла, как оружие:
– Спартанцы приближаются, ребята. Что они с вами сделают, если поймают?
– Ничего им не давай, Александр,– прошипел я.
Но мальчик понял ненадежность нашего положения.
– Конечно, капитан. С радостью.
Пираты взяли плату, улыбаясь, как Харон на своем пароме в Царство умерших.
– А теперь, ребята, отправляйтесь за борт.
Мы находились как раз на середине самой широкой части залива.
Наш лодочник указал на быстро приближавшееся спартанское судно.
– Хватайтесь за веревку и держитесь за кормой, а я заговорю зубы этим простофилям. – Бородачи приняли угрожающую позу.– Как только отвяжемся от этих дурней, втащим вас обратно, целыми и невредимыми.
Мы прыгнули за борт. Подошла лодка спартанцев. Мы услышали, как веревку перерезает нож.
Конец остался у нас в руках. – С высадкой, ребята!
В блеске погрузившегося в волну рулевого весла два неуклюжих скота вдруг проявили незаурядную ловкость. Три быстрых взмаха весел – и лодка полетела прочь, как камень из пращи.
А мы остались плавать посреди залива.
Подошла спартанская лодка, окликая пиратов, но те вовсю спешили скрыться. Спартанцы все еще не видели нас. Александр схватил меня за руку:
– Мы не должны кричать, это будет недостойно.
– Еще бы. Утонуть – куда достойнее!
– 3аткнись.
Мы замолчали, барахтаясь в воде, в то время как спартанцы рыскали вокруг, выискивая другие суда, которые могли оказаться шпионами. Наконец лодка развернулась к нам кормой и стала удаляться. Мы остались под звездами одни.
Каким огромным ни представляется море с борта корабля, но, когда твоя голова еле возвышается над поверхностью, оно кажется еще больше.
– К какому берегу поплывем?
Александр взглянул на меня так, будто я рехнулся. Конечно, вперед.
Мы плыли, мне показалось, несколько часов. Но берег не приблизился и на длину копья.
– А что, если мы плывем против течения? Насколько я понимаю, мы остались, где были, если только нас не отнесло назад.
– Мы приближаемся,– упорствовал Александр.
– Наверное, твои глаза зорче моих.
Нам не оставалось ничего, кроме как плыть и молиться. Какие морские чудища проплывали под нами в это время, готовые схватить нас за ноги своими жуткими щупальцами или откусить их до колена? Я услышал, как Александр захлебывается, борясь с приступом астмы. Мы прижались друг к другу. Глаза слипались от соли, руки стали свинцовыми.
– Расскажи мне что-нибудь,– сказал Александр.
На мгновение я испугался, подумав, что он сошел с ума.
– Чтобы ободрить друг друга,– пояснил он.– Поддержать дух. Рассказывай что-нибудь.
Я прочитал несколько стихов из « Илиады», которую на второе лето в горах Бруксий заставил нас с Диомахой выучить наизусть. Я стал сбиваться с гекзаметра, но Александр не придавал этому значения – слова как будто придали ему новых сил.
– Диэнек говорил, что душа похожа на дом со множеством комнат,– сказал он.– Есть комнаты, в которые нельзя входить. Предчувствие смерти – одна из таких комнат. Мы не должны давать себе даже думать о ней.
Александр велел мне продолжать, выбирая стихи про доблесть. Он объявил, что в данных обстоятельствах мы не должны думать о неудаче.
– Я думаю, боги специально выбросили нас здесь. Чтобы мы узнали про эти комнаты.
Мы поплыли дальше. Когда мы начали, Орион-охотник стоял над головой, теперь же он по дуге опустился на небе. А берег оставался так же далеко, как и раньше.
– Ты знаешь Агату, сестру Аристона? – откуда-то издалека спросил Александр.– Я собираюсь жениться на ней. И никому не говорил об этом.
– Поздравляю.
– Ты думаешь, я шучу? Но мои мысли возвращаются к ней часами.– Он говорил серьезно.– Как ты думаешь, она выйдет за меня?
Обсуждать это над водной пучиной имело немного смысла. Впрочем, в нашей ситуации эта тема была не хуже любой другой.
– Твоя семья по положению выше ее семьи. Если твой отец попросит, ее отцу придется согласиться.
– Я не хочу получить Агату таким образом. Ты ее видел. Скажи мне правду. Она пойдет за меня?
Я задумался.
– Она сделала тебе янтарный амулет. Она не спускает с тебя глаз, когда ты поешь. Она с сестрами выходит на Большой круг, когда мы бегаем там. И делает вид, что упражняется но на самом деле смотрит на тебя.
Это словно бы немного утешило Александра.
– Давай сделаем рывок. Двадцать минут будем плыть изо всех сил и посмотрим, насколько приблизимся. Когда прошло двадцать минут, мы решили попробовать еще двадцать.
– У тебя ведь тоже есть девушка, которую ты любишь, верно? – спросил Александр, загребая руками.– Из твоего города. Девушка, с которой ты жил в горах, твоя двоюродная сестра, та, что отправилась в Афины.
Я сказал, что не понимаю, откуда ему известно. Александр рассмеялся.
– Я все знаю. Я слышал это от девушек, и от пастухов коз, и от твоего друга Дектона.
И сказал, что хочет узнать больше «про эту твою девушку».
Я ответил, что не хочу рассказывать.
– Я могу помочь тебе с ней увидеться. Мой двоюродный дед – проксенос в Афинах. Он может ее разыскать и привезти к нам, если захочешь.
Волны стали выше, поднялся ветер. Мы двигались в никуда. Я снова поддерживал Александра, когда у него начался следующий приступ удушья. Он сжал зубами большой палец и до крови укусил. Боль словно успокоила его.
– Диэнек говорит, что идущие в бой воины должны спокойно и уверенно разговаривать друг с другом, чтобы каждый ободрял товарища. Нам нужно все время разговаривать, Ксео.
В таких экстремальных условиях сознание выкидывает фокусы. Я не могу вспомнить, сколько времени в последующие часы я вслух разговаривал с Александром, а сколько просто плыл, пока мы, бесконечно напрягаясь, стремились к берегу, который отказывался приближаться.
Помню, что я рассказывал ему про Бруксия. Если я и знал Гомера, то это целиком заслуга того проклятого судьбой человека, слепого, как и сам поэт. Лишь благодаря его непреклонной воле я и моя двоюродная сестра не выросли в горах дикими и неграмотными.
– Этот человек был твоим ментором,– торжественно проговорил Александр,– как для меня Диэнек.
Он хотел услышать еще. Каково было потерять мать и отца и увидеть свой город сожженным? Как долго мы с сестрой оставались в горах? Как мы добывали пищу и как защищались от стихии и диких зверей?
Захлебываясь и барахтаясь, я рассказал ему.
На второе наше лето в горах Диомаха и я стали уже с такими искусными охотниками, что нам не только не было нужды спускаться за пищей в город или к сельским жителям, но и не хотелось туда спускаться. Мы были счастливы в горах. Мы росли. У нас было мясо не раз или два в месяц или на праздник, как в отцовском доме, а каждый день. Тут крылся один секрет. Мы нашли собак.
Точнее, двоих щенков, малышей, брошенных матерью. Аркадских пастушьих овчарок – дрожащих, слепых сосунков Мать бросила их, преждевременно родив среди зимы. Мы назвали одного Счастье, а другого – Удача. Они и оказались для нас удачей и счастьем. К весне оба уже бегали, и к лету в них проснулись охотничьи инстинкты. С этими собаками наши голодные дни кончились. Мы могли выследить и убить все, что дышало. Мы могли спокойно спать, зная, что ничто не застанет нас врасплох. Мы стали такими добычливыми охотниками – Дио, я и собаки,– что порой действительно не пользовались случаем, а выслеживали дичь и с благословением богов отпускали. Мы пировали, как господа, и с презрением смотрели на проливающих пот крестьян и бродящих в горах пастухов.
Бруксий начал побаиваться за нас. Мы росли дикими. Без родного города. В былое время Бруксий вечерами читал нам наизусть Гомера, и мы устраивали игру: кто сколько стихов может повторить без ошибки. Теперь эти упражнения стали для него жизненно важными. Он здорово сдал, мы видели это. Ему недолго оставалось быть с нами, и все, что знал сам, он должен был успеть передать нам, своим воспитанникам.
Нашей школой был Гомер; «Илиада» и «Одиссея» стали учебными текстами. Снова и снова Бруксий заставлял нас читать стихи о возвращении Одиссея, когда, в лохмотьях, неузнаваемый, законный владыка Итаки и герой Илиона ищет приюта в лачуге свинопаса Эвмея. Хотя Эвмей и не подозревал, что путник у его дверей – истинный царь, хотя он и принял своего повелителя за очередного нищего без роду и племени, но из почтения к 3евсу, покровителю путешественников, гостеприимно пригласил странника войти и разделить с ним убогую пищу.
Смирение, гостеприимство, милость к чужаку; мы должны были усвоить это, впитать глубоко, в плоть и кровь, в самые кости. Бруксий непреклонно учил нас состраданию – этой добродетели, которая на его глазах с каждым днем убывала в наших сердцах. Он заставлял нас повторять сцену в шатре, когда троянский старец Приам стоит на коленях перед Ахиллом и с мольбой целует руку человека, убившего его сыновей. Потом Бруксий с пристрастием спрашивал усвоенный материал. Что бы сделали мы на месте Ахилла? А на месте Приама? Было ли поведение обоих правильным и благочестивым в глазах богов?
У нас должен быть свой город, объявил однажды Бруксий. Без своего города мы ничем не лучше диких зверей, на которых охотимся и которых убиваем.
Афины.
Туда, настаивал Бруксий, я и Дио должны отправиться туда. Город Афины был единственным открытым городом в Элладе, самым свободным и цивилизованным. Любовь к мудрости – философия – ценилась в Афинах выше всех других занятий; жизнь мысли взращивалась и почиталась, ей придавала силу высокая культура театра, музыки, поэзии, архитектуры и изобразительных искусств. И не было в Элладе города, равного Афинам в военном искусстве.
Афины с радостью принимали иммигрантов. Смышленый крепкий парень вроде меня может заняться торговлей, заключить договор с какой-нибудь лавкой. И у Афин был свой флот. Даже с моими увечными руками я мог бы работать веслом. С моим искусством в стрельбе из лука я мог бы стать токсотом – морским лучником, проявить себя на войне и воспользоваться военной службой, чтобы занять достойное место в обществе.
И Диомаха тоже должна отправиться в Афины. Как свободнорожденная с грамотной речью и в расцвете красоты, она могла бы найти работу в уважаемом доме и не иметь недостатка в поклонниках. Она сейчас в самом подходящем возрасте для замужества. Верхом мечтаний нашего воспитателя было ее благополучное замужество за каким-нибудь гражданином. Даже будучи женой метэка, живущего в городе чужеземца, она смогла бы защитить меня, помочь мне найти и сохранить работу. И к тому же мы были бы вместе.
По мере того как силы Бруксия убывали, росло его убеждение в том, что мы подчинимся его желанию. Он заставил нас поклясться, что, когда придет его час, мы спустимся с гор и отправимся в Аттику, в город богини Афины.
В октябре этого второго года долгим, уже прохладным днем Дио и я охотились и ничего не добыли. Мы побрели обратно в лагерь, ворча друг на друга и предвкушая пустую кашу или месиво из бобов и гороха. И, что еще хуже, нам предстояло сейчас увидеть Бруксия, согбенного и немощного. С каждым днем все больнее становилось видеть его, все труднее – поддерживать то, что в нем еще не болело. Он не ел мяса. Мы приметили дым, и собаки бросились вверх по склону, как они любили, стремясь к своему другу, чтобы он обнял их и насмешливо поздравил с возвращением.
Идя следом за собаками, мы услышали их лай. Не обычное игривое поскуливанье, а нечто более пронзительное, настойчивое. Затем наверху на склоне показался Счастье. Диомаха посмотрела на меня, и мы оба поняли.
Потребовался час, чтобы соорудить Бруксию погребальный костер. Когда его исхудалое тело с клеймом раба охватили к наконец языки очищающего пламени, я от впадины над его сердцем зажег насмоленную стрелу и пустил ее, горящую, со всей силы, как комету, по дуге над сумеречной долиной.
…Старец Нестор, мудрец бесподобный Средь ахейских мужей кудроглавых, Лег на землю, исполнен годами, И закрыл, как во сне, свои очи, Встретив гибель от стрел Артемиды.Десять рассветов спустя Диомаха и я стояли у Трех Дорог, на границе Аттики и Мегары, откуда на восток шла Афинская дорога, на запад – Священная дорога в Дельфы, а на юго-запад, к перешейку и Пелопоннесу,– Коринфская. Без сомнения, мы представляли собой пару самых диких оборванцев – босые, с опаленными солнцем лицами и завязанными сзади хвостом длинными волосами. У обоих были кинжал и лук, а рядом скакали собаки, все в репьях, как и мы сами.
По всем направлениям у Трех Дорог наблюдалось предрассветное оживленное движение – ехали возы, телеги и крытые повозки с товарами или дровами, шли на рынок крестьянские мальчишки со своим сыром и яйцами, с мешками лука. (Вот так же и мы с Дио отправились в Астак в то утро, теперь казавшееся столь далеким, а ведь по календарю с тех пор прошло всего лишь две зимы.) Мы останавливались у всех перекрестков и справлялись о пути. Да, указал один погонщик, Афины там, в двух часах ходьбы, не больше.
Во время недельного путешествия с гор мы с Диомахой почти не разговаривали. Мы думали о городах, о том, что нас ждет в нашей новой жизни. Я наблюдал, как другие путники глазеют на Диомаху. В ней была заметна потребность быть женщиной.
– Я хочу иметь ребенка,– ни с того ни с сего вдруг сказала она в последний день нашего путешествия.– Хочу мужа, который бы заботился о нем и обо мне. Хочу дом. Самый захудалый – все равно, лишь бы было место, где я разобью маленький садик, посажу у порога цветы и наведу красоту для моего мужа и детей.
Так она выражала свою доброту ко мне, заблаговременно устанавливая дистанцию, чтобы у меня было время привыкнуть.
– Ты меня понимаешь, Ксео?
Я понимал.
– Какую из собак ты возьмешь? – спросил я.
– Не сердись на меня. Я только пытаюсь рассказать тебе как все есть и как должно быть.
Мы решили, что она возьмет Удачу, а я – Счастье.
– В городе мы можем остановиться вместе,– вслух поделилась своими мыслями Диомаха, пока мы шли.– Скажем что мы брат и сестра. Но ты должен понимать, Ксео, что если я найду достойного мужчину, который будет относиться ко мне с уважением…
– Я понимаю. Можешь больше не говорить.
За два дня до того нас на повозке с возницей обогнала знатная афинская дама с мужем, сопровождаемая веселой толпой друзей и слуг. Дама заметила дикую девушку Диомаху и потребовала от служанок, чтобы они вымыли ее, умастили тело оливковым маслом и расчесали ей волосы. Она хотела расчесать и мои, но я не позволил. Вся их компания остановилась у тенистого ручья и развлекалась лепешками и вином, пока служанки, отведя Дио в сторону, приводили ее в порядок. Когда моя двоюродная сестра появилась, я не узнал ее. Афинская дама была вне себя от восторга и, не переставая, превозносила Диомахино очарование предвкушая, какое волнение в крови городской может вызовет эта цветущая красота. Она настаивала, что бы Дио и я, как только доберемся до Афин, явились прямо в дом ее мужа, а она позаботится о работе для нас и о продолжении нашего образования. Ее слуга будет ждать нас у Фриазийских ворот. Любой нам скажет, где это.
Мы шагали дальше, последний день был долог. Надписи на составленных в ряд амфорах с вином и других товарах, что везли обгонявшие нас повозки, указывали места доставки – Фалерон или Афины. В говоре слышался аттический акцент. Мы остановились поглазеть на отряд афинской конницы, красовавшийся перед толпой. Мимо, направляясь в город, прошли четверо моряков, у каждого на плече весло, а в руке уключина и подушка. Вскоре и мне пред стояло стать таким же.
В горах мы всегда спали обнявшись – не как любовники, а просто чтобы согревать друг друга. В те последние ночи в пути Дио заворачивалась в свой плащ и спала отдельно. Наконец на рассвете мы подошли к Трем Дорогам, Я остановился, глазея на проезжавшую грузовую повозку и тут почувствовал на себе взгляд двоюродной сестры.
– Ты не идешь, да?
Я ничего не ответил.
Она знала, какую дорогу я выберу.
– Бруксий рассердится на тебя,– сказала Диомаха.
У собак на охоте Дио и я научились понимать друг друга по одному взгляду. Я глазами попрощался с ней и попросил понять меня. В этом городе о ней позаботятся, Ее жизнь женщины только начиналась.
– Спартанцы будут к тебе жестоки,– сказала Диомаха. Собаки нетерпеливо бегали у наших ног. Они еще не знали что тоже разлучаются. Дио обеими руками сжала мою. – И мы никогда уже не будем спать в объятиях друг друга, братец?
Наверное, возницам и крестьянским мальчишкам, что спешили в это утро на рынок, наше прощание показалось причудливым спектаклем: двое оборванных подростков обнимаются на обочине, луки на плече и кинжалы за поясом, свернутые по-походному плащи за спиной.
Диомаха пошла по своей дороге, а я – по своей. Ей было пятнадцать. Мне – двенадцать.
Не могу сказать, скольким из этого я поделился с Александром. Когда я закончил, его лицо так и не просветлело. Мы вцепились в какой-то жалкий плавучий обломок, едва выдерживавший и одного-то, но мы слишком изнемогли, чтобы плыть дальше. Вода становилась все холоднее. Наши члены охватила гипотермия; я слышал, как Александр прокашливается и отхаркивает, набираясь сил заговорить.
– Нам нужно бросить этот обломок. Если не бросим, умрем.
Я смотрел на север. Там были различимы вершины гор, но сам берег оставался невидим. Александр холодной рукой схватил мою.
– Что бы ни случилось,– поклялся он,– я тебя не брошу..
И он отпустил обломок. Я последовал за ним.
Через час мы рухнули, как Одиссей, на скалистый берег у журчащего ручья. Мы глотали свежую воду из источника среди скал, смыли соль с волос, промыли глаза и полные благодарности за свое спасение, преклонили колер ни. Пол-утра мы проспали, как убитые. Я слазил за яйцами, которые потом мы проглотили сырыми, стоя в лохмотьях на песке.
– Спасибо, друг,– тихо-тихо проговорил Александр. Он протянул мне руку, и я сжал ее.
– Спасибо и тебе.
Солнце приближалось к зениту. Наши заскорузлые от соли плащи высохли у нас на плечах.
– Пошли,– сказал Александр.– Мы потеряли полдня.
Глава одиннадцатая
Сражение состоялось на запыленной равнине к западу от Антириона, на расстоянии полета стрелы от берега, прямо под городскими стенами. Непостоянная, вьющаяся по долине речка Аканаф рассекала поле боя пополам. Перпендикулярно руслу, вдоль обращенного к морю фланга, антирионцы возвели грубую стену. Вражеский левый фланг прикрывали изрезанные холмы. Часть равнины, прилегающую к стене, занимала приморская свалка – там виднелись гниющие остовы судов, сваленные в беспорядке, смердящие кучи мусора, над которыми, галдя, вились стаи чаек. Вдобавок противник разбросал камни и прибитый к берегу плавник, чтобы местность, по которой пойдет в наступление Леонид со своим войском, была как можно более неровной.
Когда Александр и я, запыхавшись, спешили к полю, союзники спартанцев скириты только что закончили поджигать оставленные противником постройки. Войска еще стояли в боевых порядках в трех с половиной стадиях друг от друга, и между ними горели остовы кораблей. Все местные торговые и рыбацкие суда враг отвел в безопасное место внутри укрепленного участка якорной стоянки или отогнал в море за пределы досягаемости захватчиков. Это не удержало скиритов от поджога верфей и складских помещений в бухте. Бревна корабельных навесов они облили нефтью, и все, что возвышалось над водой, уже дотла сгорело. Защитники Антириона, как прекрасно знали Леонид и спартанцы, представляли собой ополчение – крестьян, горшечников и рыбаков, воинов "летних учений", вроде моего отца. Опустошение их бухты должно было лишить их спокойствия, расстроить душу, непривычную к подобным зрелищам, опалить их чувства, не подготовленные к вони и ужасу грядущего побоища. Стояло утро, почти что рыночное время, и с берега подул бриз. Поле начал заволакивать черный дым от накренившихся останков кораблей: Просмоленные и вощеные доски яростно пылали на ветру, отчего черные груды мусора превратились в гудящие костры.
Мы с Александром обеспечили себе выгодное положение среди береговых утесов, не более чем в стадии от места, где должны были столкнуться два войска. Дым уже становился удушающим. Мы двинулись по склону. Лучшие места до нас занимали мальчишки и старики из Антириона, вооруженные луками, пращами и метательными снарядами, намереваясь обрушить их на спартанцев, когда те приблизятся. Но эти легковооруженные силы заранее рассеяли скириты, чьи соплеменники внизу собирались наступать, как обычно, со своего почетного места на левом фланге лакедемонян. Скириты заняли близлежащие склоны, оттеснив вражеских стрелков назад, откуда их пращи и дротики не могли достичь спартанцев.
Прямо под нами строем двигались спартанцы и их союзники. Оруженосцы облачили их в доспехи, начиная с ног: воловьи подошвы, в которых можно топтать огонь, далее – бронзовые поножи, которые оруженосцы укрепляли на голенях своих господ лишь за счет металлических загибов, охватывающих сзади икры. Мы увидели отца Александра, Олимпия, заметили белую бороду его оруженосца Мериона.
Воины плотно обвязывали свои интимные части. При этом всегда звучал грубый юмор, когда каждый мужчина с шутливой торжественностью салютовал своему мужском достоинству и произносил молитву, обещая, что к концу дня они по-прежнему будут вместе.
Этот процесс облачения в доспехи перед битвой, который граждане других полисов проходили не чаще дюжины раз в год во время весенних и летних учений, спартанцы повторяли снова и снова, двести, четыреста, шестьсот раз во время каждого похода. К пятидесятилетнему возрасту мужчина повторял его десять тысяч раз. Это становилось для спартанцев второй натурой, как умащение и посыпанию пылью кожи перед борьбой или расчесывание длинных волос, которые они, теперь уже в льняных поясах-сполах бронзовых нагрудниках, тщательно укладывали с помощью какого-нибудь другого готовящегося к празднику сражения щёголя, излучая жуткое спокойствие и беззаботность.
Под конец воин надписывал свое имя или знак на скиталидах – плетенных из лозы браслетах. Они предназначались для того, чтобы погибшего можно было опознать даже в том случае, если тело окажется слишком изуродовано. Лоза использовалась потому, что не представляла ценной добычи для врага.
Позади построившихся воинов изучались знамения. Отполированные до зеркального блеска щиты, шлемы и длинные наконечники копий сверкали на солнце, придавая плотному строю вид колоссальной перемалывающей машины, состоящей не столько из людей, сколько из железа и бронзы.
Теперь спартанцы и тегейцы наступали, выстроившись в линию. Сначала скириты – на левом фланге, сорок восемь щитов в ряд и восемь вглубь; за ними селассийский Стефан, его Лавровая мора из тысячи ста периэков-гоплитов. Справа от них – шестьсот тяжеловооруженных пехотинцев из Тегея, затем, в центре линии, агема из Всадников – тридцать щитов в ряд и пять вглубь, чтобы сражаться рядом с царем и защищать его; среди них выделялся Полиник. Правее, равняя строй, двигался лох Дикой Оливы – сто сорок четыре щита в ряд с морой Пантер, примыкающей к царской охране, затем мора богини АртемидыОхотницы во главе с Олимпием и мора Менелая. Справа от них, уже на своих местах, выстроился лох Геракла, тоже сто сорок четыре щита в ряд. Отчетливо виден был Диэнек во главе своей замыкающей правый фланг эномотии из тридцати шести воинов, разбившихся на четыре стихо – колонны по девять человек. Всего, не считая вооруженных оруженосцев во вспомогательных частях, в войске насчитывалось более четырех с половиной тысяч воинов, и они плечом к плечу занимали на равнине около трех стадиев.
Со своей выгодной позиции мы с Александром могли увидеть Дектона, такого же высокого и мускулистого, как любой из воинов, но безоружного. В своих жреческих белых одеждах он быстро подвел двух коз к Леониду, который стоял перед строем в окружении боевых жрецов, готовый к жертвоприношению. Две козы требовались на случай, если первая жертва окажется неблагоприятной. Осанка военачальников, как и воинов в строю, выражала полную беззаботность.
Напротив спартанцев выстроились антирионцы и их сиракузские союзники. Их строй был по фронту такой же, как у спартанцев, но глубиной по крайней мере на шесть щитов больше. Останки кораблей на корабельном кладбище уже обгорели до каркасов, расстелив на поле одеяло дыма. Позади них шипели в воде черные камни бухты, а зубья обгоревших бревен верфи выступали на загроможденной плавучими обломками поверхности, как надгробные камни. Все, что осталось от порта, заволокло пепельной дымкой.
Ветер понес дым на врага. Колени и плечи ополченцев дрожали и трепетали под весом непривычной брони, а сердце так колотилось в груди, что отдавалось в ушах. Не требовалось быть прорицателем, чтобы заметить их волнение.
– Посмотри на их копья! – сказал Александр, указывая на вражеский строй, когда воины затолкались и задвигались на своих местах. – Видишь, они дрожат? Даже оперение на их шлемах трясется.
В спартанском строю лес железных наконечников казался неколебимым, как забор, все копья направлены точно вверх, выровненные в геометрическую линию и недвижимые. В рядах же противника наконечники двигались и колебались; все, кроме сиракузцев в центре, нарушили строй Некоторые копья, задевая за соседние, стучали, как зубы.
Александр пересчитывал воинов в строю сиракузцев Он насчитал две тысячи четыреста щитов и от тысячи двух сот до тысячи пятисот наемников вдобавок к трем тысячам городского ополчения из самого Антириона. Противник превосходил спартанцев числом в полтора раза. Это превосходства было недостаточно, и все это знали.
И тут поднялся шум.
Среди вражеских рядов самые храбрые (или, точнее сказать, менее перетрусившие) начали бить древками ясеневых копий по бронзовым чашам своих щитов, создавая грохот псевдоандреи, который эхом разнесся по окруженной горами равнине. Другие, ободренные этим шумом, стали воинственно потрясать копьями, вознося молитвы богам и выкрикивая злобные угрозы. Рев утроился, упятерился, удесятерился, когда его подхватили вражеские задние фланговые ряды. Вскоре все пять тысяч четыреста человек издавали воинственные крики. Их военачальник взмахнул копьем, и весь ломающийся на ходу строй следом за ним хлынул вперед.
Спартанцы не двинулись с места и не издали ни звука.
Они терпеливо ждали, стоя в своих алых плащах,– не мрачно и не застыв, а тихо обмениваясь друг с другом словами ободрения и поддержки, совершая последние приготовления к делу, которое сотни раз репетировали и десятки раз выполняли в сражении.
А враг приближался. Ускоренный шаг. Скорый шаг. Строй растянулся и отклонился вправо, «подраненный», поскольку люди в страхе жались в тень щита своего товарища справа. Уже было видно, что ряды противника заколебались и нарушили строй, поскольку самые храбрые шли вперед, а робкие жались назад.
Леонид и жрецы все еще стояли перед спартанским войском.
Неглубокая речка дожидалась приближения врага. Вражеские полководцы, предполагая, что спартанцы нападут первыми построили своих воинов таким образом, что линия реки располагалась на полпути между двумя войсками, по плану противника, несомненно, извилистое русло речки должно было нарушить ряды лакедемонян и сделать их уязвимыми в момент атаки. Однако спартанцы переждали антирионцев. Как только началось биение в щиты, вражеские военачальники поняли, что больше не смогут удержать свое войско на месте и нужно наступать, пока кровь воинов кипит. Иначе весь жар улетучится и образовавшийся вакуум неизбежно заполнится страхом.
Теперь речка работала против врага. Его передние ряды спустились в русло, когда до спартанцев оставалось чуть больше двух стадиев. Когда антирионцы поднялись, их ряды расстроились, а интервал между рядами стал еще больше. Теперь они снова вышли на равнину, но в тылу у них оказалась речка – величайшая опасность в случае поражения:
Леонид терпеливо наблюдал; рядом стояли боевые жрецы и Дектон со своими козами. Враг уже находился в полутора стадиях и снова ускорил свое продвижение. Спартанцы же по-прежнему не двигались. Дектон потянул за поводок первую козу. Мы видели, как он опасливо оглядывается, в то время как равнина начала гудеть от топота ног и воздух зазвенел от яростно-испуганных криков.
Леонид выполнил сфагию: громко воззвав к Артемиде-Охотнице и Музам, вонзил меч в горло жертвенной козы. Он сжал коленями ее задние ноги и задрал животному голову левой рукой, чтобы было видно, как клинок перерезает горло. Каждый в строю смотрел, как на Гею, мать-землю, хлынула кровь, забрызгав поножи Леонида и окрасив темно красным его ноги в боевых сандалиях из воловьей кожи.
Царь обернулся. Истекающая кровью жертва еще билась меж его колен. Он посмотрел на скиритов, спартиатов, периэков и тегейцев, которые, по-прежнему молча, терпеливо ждали в строю. 3атем поднял к небу меч, темный от текущей по клинку крови, и, взывая о помощи к богам, обвел им быстро приближавшиеся войска противника.
– 3евс-Спаситель и Эрос! – прогремел голос царя, заглушаемый шумом, но ясно слышный.– Лакедемон!
Прозвучал сальпинкс: «Вперед!» Когда воины двинулись, трубачи держали оглушительную ноту в течение десяти шагов, и теперь сквозь шум пробивалось лишь поскуливание дудочников, пронзительный звук от их авлосов, слышный в давке, как крик тысячи Фурий(Автор употребляет латинское имя богинь мщения, которых в Греции звали Эриниями или Эвменидами). Взвалив обеих коз, убитую и живую, себе на плечи, Дектон со всех ног бросился под прикрытие боевого строя.
Спартанцы и их союзники как один человек двинулись вперед с поднятыми вверх копьями. Их наточенные и отполированные наконечники сверкали на солнце. Теперь противник надвигался еще быстрее. Леонид, не проявляя ни волнения, ни спешки, шагнул на свое место в первом ряду. Строй пошел вперед и охватил его, телохранители безупречно заняли свои места справа и слева.
Теперь из лакедемонских рядов, из четырех тысяч глоток, донесся пэан – гимн Кастору. На верхней ноте второй строфы:
Небесносияющий брат, Небеснорожденный герой!копья первых трех шеренг резко опустились из вертикального положения в положение к атаке.
Словами не передать тот страх и ужас, который производил на противника, любого противника, этот, казалось бы, несложный маневр, называемый в Лакедемоне «выставление шипов» или «глаженье хвои», столь простой в исполнении на парадном плацу и столь грозный в ситуации, когда решается, жить или умереть. От созерцания столь точного и бесстрашного выполнения этого приема, когда ни один воин не высовывается вперед, потеряв голову, ни один из страха не отстает, никто не жмётся вправо, в тень соседского щита, а все держатся твердо и несокрушимо, плотно, как чешуйки змеи, просто замирает сердце, волосы наготове встают дыбом и по спине неудержимо бегут мурашки.
Словно кружащийся в ярости огромный зверь, злобно ощетинясь и обнажив клыки, вызывает в себе бесстрашие и силу – так и бронзово-темно-красная фаланга лакедемонян изготовилась к убийству.
Левый фланг противника шириной в восемьдесят щитов рухнул еще до того, как их промбхи, воины первого ряда, приблизились к спартанцам на тридцать шагов. У врага вырвался испуганный крик, такой первобытный, что кровь застыла в жилах, а потом его заглушило грохотом.
Противник сломался изнутри.
Левое крыло, чья наступательная ширина мгновением раньше составляла сорок восемь щитов, вдруг сократилось до тридцати, потом до двадцати, потом до десяти: Из провалов в строю подобно урагану полетела паника. Те в первых трех рядах, кто обратился в бегство, теперь столкнулись со своими товарищами, наступавшими из арьергарда. Щиты краями цеплялись за другие, копья за древки других копий; возникла мешанина из плоти и бронзы – люди под тяжестью щита и доспехов спотыкались и падали, становясь препятствием и помехой для своих наступавших товарищей. Можно было увидеть, как какой-нибудь храбрый воин идет в наступление, яростно крича на своих земляков, а они покидают его. Те, кто удержал в себе мужество, отталкивали тех, кого оно покинуло, возмущенно и злобно кричали, топча упавших. Но по мере того, как мужество покидало их, они обращались в бегство, спасая собственную шкуру.
На пике сумятицы в войске противника на него обрушились спартанцы. Теперь среди врагов дрогнули даже самые храбрые 3ачем человеку, как бы отважен он ни был, стоять насмерть, когда справа и слева, впереди и сзади все товарищи покинули его? Все бросали щиты и втыкали копья и землю. Полтысячи воинов повернулись и в панике побежали. В это мгновение центр и правый фланг вражеского строя ударили щитами по центру спартанцев.
До нас донесся стук офисмоса – звук, известный каждому воину, но еще незнакомый для юных ушей – моих и Александра.
В детстве, дома, мы с Бруксием однажды помогали нашему соседу Пиэрону переставлять три его улья. Кто-то поскользнулся, и ульи упали. 3апертые затычкой, пчелы внутри подняли тревогу – не крик и не плач, не рычание и не рев,– это был барабанный бой, доносящийся из подземного мира, вибрация ярости и убийства, исходящая не из головы или сердца, а из мельчайших частичек, из атомов живущих в ульях полисов.
Тот же самый звук, стократно и тысячекратно усиленный, теперь поднялся от массового столкновения воинов и доспехов, которые сшиблись в долине под нами. Теперь я понял слова поэта о «мельнице Ареса» и всем телом ощутил, почему спартанцы говорят о войне как о работе.
Александр ногтями впился мне в руку:
– Тебе видно моего отца? А видишь Диэнека?
Диэнек внизу пробивался через толпу, мы видели его поперечный «скребок» справа от лоха Геракла во главе третьей эномотии. Насколько смешались ряды противника, настолько ровным и сплоченным остался строй спартанцев. Их первая шеренга не бросилась сломя голову на врага, они не молотили противника, как дикари, но и не наступали с флегматичной четкостью, как на плацу,– нет, они согласованно ринулись вперед, как боевые корабли, идущие на таран. Раньше я не мог оценить по достоинству, на сколько далеко за чередующуюся бронзу щитов промбхом выступает убийственное железо копий. Копий, бьющих и разящих сверху вниз над верхней кромкой щита, несущих в себе всю силу правой руки и плеча – не только воинов первой шеренги, но также и второй, и даже третьей. Копий, жалящих, превращающих строй спартанцев в смертельную машину, которая убийственной стеной продвигается вперед. Как волчья стая пускается за бегущим оленем, так спартанцы обрушились на защитников Антириона – не в безумной ярости, не оскалившись, с перекошенными ртами, но как опытные хладнокровные хищники, применяя сталь в безмолвной сплоченности стаи убийц, выказывая смертоносную сноровку охотника.
Диэнек обходил врагов. Его эномотия заходила противнику во фланг. Воины погрузились в облака дыма, и их было не разглядеть. Из-под ног сражающихся поднималась пыль. Горящие корабли, дым от них и пыль создавали впечатление, будто вся равнина охвачена пламенем, а из удушливого облака доносился этот звук, этот жуткий, неописуемый звук.
Прямо под нами, где дым и пыль были пореже, мы скорее чувствовали, чем видели, лох Геракла. Спартанцы обошли левый фланг противника, их передние ряды принялись за дело – рубить этих несчастных ублюдков, которые падали, или которых затоптали, или чьи ватные колени не смогли вынести их из этой бойни.
В центре и на правом фланге по всей линии сошлись спартанцы и сиракузцы – щит в щит, шлем в шлем. Среди людского водоворота мы с трудом различали то, что раньше было арьергардом восьмирядных колонн спартанцев и двенадцати или шестнадцатирядных колонн сиракузцев. Воины трехфутовыми чашами своих гоплонов со всей силы толкали в спину передние ряды, подошвами втаптываясь а землю и поднимая еще больше пыли в удушливый воздух.
Уже было невозможно различать отдельных воинов или даже подразделения. Мы видели лишь прилив и отлив человеческих масс и слышали непрерывный жуткий звук, от которого в жилах стыла кровь.
Как при горном наводнении стена воды наталкивается в пересохшем русле на каменные столбы и плетни крестьянской дамбы, так спартанский строй обрушился на массивные порядки сиракузцев. Прочная дамба, выстроенная против наводнений, как велел страх и предусмотрительность, вросши всеми силами в землю, несколько долгих мгновений не подает признаков размыва. Но потом, на глазах у встревоженного крестьянина, поток начинает опрокидывать глубоко врытый столб, другой порыв подмывает каменную насыпь. В каждую щелочку всем своим весом и силой неодолимо начинает проникать вода, размывая их шире, прорывая и разламывая брешь, в которую устремляются все новые потоки.
Вот дамба, давшая трещину лишь в ладонь, раскололась на локоть, а потом и на длину вытянутой руки. Масса напирающей воды, усиливаясь, талант за талантом прибывает и прибывает, добавляя свой вес к неодолимому все более мощному потоку. Вдоль укрепленных краев русла отваливаются пласты грунта, и их уносит бурлящая вода…
Так начал теперь сдавать и оседать сиракузский центр под толчками и ударами тегейской тяжелой пехоты, спартанского царя со своей гвардией и сомкнутых порядков лоха Дикой Оливы.
Скириты обошли правый фланг противника. С другой стороны части из лоха Геракла расширили участок прорыва. Сиракузские воины на флангах были вынуждены повернуться, чтобы защитить оголившиеся бока, тем самым ослабляя сопротивление давящим с фронта спартанцам. Словно на мгновение взлетел звук напряжённой сшибки, затем настала мертвая тишина, когда отчаявшиеся защитники собирали всю оставшуюся доблесть и из последних сил напрягали свои изнеможённые члены. 3а дюжину вздохов, казалось, прошла вечность, а потом с тем же тошнотворным звуком, как при размыве дамбы, не способной больше противостоять обрушившемуся на нее потоку, сиракузский строй треснул и сломался.
И в пыли и дыме на равнине началось побоище.
Из уст спартанцев в малиновых плащах вырвались крики радости и благоговейного трепета. Сиракузский строй распался, но не в беспорядочную толпу, как у их антирионских союзников, а на все еще дисциплинированные отряды и группы, которые удерживали их командиры или просто храбрецы, взявшие на себя командование. Подняв щиты перед собой, сиракузцы пятились в сомкнутых рядах. Но это им не помогло. Передние ряды спартанцев, воины пяти первых призывных возрастов, были самыми быстрыми и сильными. Всем им, кроме командиров, было не больше двадцати пяти лет. Многие, как Полиник в авангарде Всадников, участвовали в олимпиадах. Они выигрывали венки за венками на играх пред лицом богов.
Теперь, выпущенные Леонидом и влекомые собственной жаждой славы, они преподали сиракузцам урок, сталью подписывая приговор бегущим.
Когда трубачи протрубили в сальпинкс и его оглушительный звук призвал прекратить побоище, даже самый неопытный наблюдатель мог прочесть поле боя, как книгу.
На правом фланге спартанцев, где лох Геракла обратил в паническое бегство антирионцев, виднелся невытоптанный дерн и поле было усеяно вражескими щитами и шлемами, копьями и даже нагрудниками, брошенными бегущим врагом. Там и сям лицом вниз лежали тела с позорными смертельными ранами на спине.
На другом фланге, где более сильный противник дольше держался против скиритов, резня была страшнее и дерн жестоко вытоптали. Там, где враг пытался удержать фланг, громоздились груды трупов.
Потом глаз останавливался в центре, где побоище было наиболее жестоким. 3емля там, где ноги противников напрягаясь упирались в землю, была изодрана так, словно тысяча воловьих упряжек терзала ее копытами и лемехами стальных плугов. Размешанная грязь, черная от мочи и крови, тянулась на два стадия вширь и на сто вглубь. Тела ковром покрывали кое-где землю в два, а то и в три слоя. В тылу, на поле куда отступили сиракузцы, и вдоль изрытых берегов реки, тоже лежали трупы. По двое или по трое, по пять или по семь, воины пали там, где держали круговую оборону. Там они сомкнули ряды и заняли позицию, обреченную, как песочная башня перед приливом. Эти воины встретили смерть лицом к врагу, с почетными ранами спереди.
Со склонов, откуда антирионские стрелки наблюдали за разгромом своих товарищей, донесся вопль, а на стенах самого города рыдали их жены и дочери, как, должно быть, стенали Гекуба и Андромаха в сражениях под Илионом.
Спартанцы выволакивали тела из груд, выискивая друзей или братьев, раненых, но еще борющихся за жизнь. Когда из кучи выбрасывали стонущего врага, к его горлу приставляли клинок ксифоса.
– Не сметь! – крикнул Леонид, настойчиво делая знаки трубачам, чтобы те повторили сигнал прекратить бойню.– Позаботиться о них! Позаботиться о врагах тоже! – крикнул он, и военачальники передали приказ по шеренгам.
Александр и я, бросившись вниз по склону, сбежали на равнину. Мы были на поле боя. Я бежал, отстав на два шага, а мальчик в неудержимой настойчивости обводил взглядом окровавленных воинов, чья плоть словно еще горела в горниле ярости и чье дыхание словно дымилось в воздухе.
– Отец! – отчаянно закричал Александр и тут впереди заметил шлем с поперечным гребнем, а потом и самого Олимпия, целого и невредимого. Потрясенное выражение на лице полемарха было почти комичным, когда он увидел бегущего среди побоища сына. Мужчина и мальчик, широко разведя руки, обнялись. Пальцы Александра ощупывали отцовский панцирь и нагрудник, убеждаясь, что руки отца невредимы и через какую-нибудь невидимую щель не сочится кровь.
Из бурлящей толпы появился Диэнек, и Александр бросился в его объятия:
– Тебя не ранили?
Подбежал и я. Рядом с Диэнеком стоял Самоубийца. Его лицо было забрызгано вражеской кровью, а в руке он держал свои «штопальные иглы». Неподалеку столпилось несколько спартанцев; я увидел у их ног истерзанное и недвижимое тело Мериона, оруженосца Олимпия.
– Что ты тут делаешь? – спросил сына Олимпий, и в его голосе появился гнев: он понял, какой опасности подвергал себя Александр.– Как ты сюда попал?
Олимпий тяжело ударил сына прямо по голове. Тут мальчик увидел Мериона. С криком боли он упал на колени в грязь возле павшего оруженосца.
– Мы приплыли,– объяснил я.
Тяжелый кулак обрушился на меня, затем еще и еще. – Что тебе здесь делать, бездельник? Пришел поглазеть?
Мужчины были в ярости. Александр, не замечая этого, стоял на коленях рядом с Мерионом. Тот лежал на спине, по обе стороны от него на корточках сидело по воину, его голова без шлема лежала на гоплоне, а лохматая белая борода слиплась от крови, соплей и слюны. Мериону, как оруженосцу, не полагались латы, и сиракузское копье попало ему прямо в грудь. Из сочащейся раны кровь текла в углубление на грудине; сбившийся хитон промок от темной, уже свернувшейся комками крови. Мы слышали шипение, когда его легкие пытались всосать воздух, но вместо этого втягивали кровь.
– Что он делал в строю? – срывающимся от горя голосом спросил Александр у собравшихся воинов.– Ему не полагалось там быть!
Он начал кричать, чтобы принесли воды. Мальчик разорвал на себе хитон и, сложив льняную ткань вдвое, прижал к всасывающей воздух груди лежащего друга.
– Почему вы его не перевяжете? – взывал его юный голос, а вокруг в скорбном молчании стояли мужчины. Он умирает! Разве вы не видите, что он умирает? – Александр снова позвал водоноса, но никто не подошел. Мужчины знали, почему, и теперь, поглядев на них, Александр тоже со всей ясностью понял то, что было ясно и для Мериона.
– Я одной ногой уже на пароме, племянничек,– удалось выдавить старому бойцу из кровоточащей груди.
Жизнь быстро угасала в его глазах. Мерион был, как я уже сказал, не спартанцем, а потидейцем, военачальником в своем войске, много лет назад попал в плен, и ему не позволяли снова увидеть родной дом. С напряжением, на которое было жалко смотреть, Мерион собрал все силы и приподнял почерневшую от крови руку, чтобы нежно положить ее на руку мальчика. Их роли поменялись: теперь умирающий утешал живого юношу.
– Не бывает более счастливой смерти,– просипели его сочащиеся кровью легкие.
– Ты отправишься домой,– пообещал Александр. Клянусь всеми богами, я сам отвезу твои кости.
Теперь и Олимпий опустился на колени и взял за руку своего оруженосца.
– Назови свое желание, старый друг. Спартанцы унесут тебя.
Старик попытаться что-то сказать, но горло не слушалось. Он сделал слабое усилие подняться, Александр удержал его, потом нежно обнял ветерана за шею и приподнял ему голову. Глаза Мериона посмотрели вперед и вокруг, где среди истоптанной и политой кровью земли видны были алые плащи павших воинов, каждый в окружении нескольких товарищей и братьев по оружию. Потом с трудом, который словно поглотил всю оставшуюся жизнь, он проговорил:
– Похороните меня там, где лежат они. Здесь мой дом. Я не могу просить ничего лучше.
Олимпий поклялся, что выполнит просьбу. Александр, поцеловав Мериона в лоб, повторил клятву.
Темное спокойствие опустилось на глаза умирающего. Прошло мгновение. Александр своим чистым тенором пропел Прощание с Героем:
Дух, что бессмертные боги в меня при рожденье вдохнули, С радостью в сердце теперь им возвращаю назад.В честь победы Дектон принес Леониду петуха для заклания в благодарность 3евсу и Нике. Сам юноша был воодушевлен триумфом, его руки тряслись – так ему хотелось, чтобы и ему позволили взять щит и копье и встать в боевой строй.
А я не мог оторвать глаз от лиц знакомых воинов, за которыми раньше наблюдал на плацу, но которых никогда прежде не видел в крови и ужасе сражения. В моих глазах они, и так уже превосходившие жителей любого другого города, теперь стали едва ли не полубогами. Я стал свидетелем того, как они обратили в бегство не таких уж трусливых антирионцев, сражавшихся под стенами своего города. и защищавших свои дома и семьи, и за несколько минут одолели великолепное сиракузское наемное войско, обученное и экипированное на золото тирана Гелона – золото, которому, кажется, не будет конца.
Нигде на поле боя спартанцы не дрогнули. Даже теперь, когда кровь еще бурлила после битвы, дисциплина удерживала их в чистоте и благородстве, и они оставались выше похвальбы. Они не раздевали тела убитых, как с радостью и нетерпением сделали бы воины любого другого города, и в пустом тщеславии не воздвигали трофея из оружия побежденных. Их строгим изъявлением благодарности стал единственный, не стоивший и обола петух – и вовсе не потому что они не чтили богов, а наоборот, потому что благоговели перед ними. Им казалось непочтительным слишком явно выражать свою человеческую радость в том триумфе, что даровали им небеса.
Я смотрел, как Диэнек перестраивает ряды своей эномотии, подсчитывает потери и зовет травматов для перевязки раненых. У спартанцев существует термин для обозначения того состояния духа, которого нужно любой ценой избегать в битве. Они называют его каталепсис, одержимость, то есть расстройство чувств, наступающее, когда в душе начинают преобладать страх или злоба.
Наблюдая, как Диэнек наводит порядок среди своих воинов, я понял, что в этом и заключается роль военачальника: не допустить в подчиненных одержимости на всех стадиях сражения – до, во время и после него. Разжигать в них отвагу, когда она ослабевает, и сдерживать ярость, когда она угрожает вывести их из-под контроля. В этом и заключалась работа Диэнека. Вот почему он носил командирский шлем с поперечным гребнем.
Как я теперь видел, в нем не было героизма Ахилла. Это не был сверхчеловек, выходящий невредимым из любого побоища, одной рукой разящий мириады врагов. Это был человек, просто выполняющий свою работу. Работу, главным смыслом которой были сдержанность и спокойствие. И не ради себя самого; а ради тех, кого он ведет за собой своим примером. Работу, цель которой можно кратко выразить единственной скромной фразой, как он сделал при Горячих Воротах в утро своей смерти: «Выполнение обычных вещей в необычных обстоятельствах».
Теперь спартанцы собирали свои «браслеты» из лозы, которые сами сделали себе перед боем, чтобы в случае гибели их можно было опознать после схватки. Воин пишет свое имя дважды, на каждом конце лозы, а потом ломает ее пополам. «Кровавую половину» он обвязывает вокруг левого запястья и несет с собою в бой, а «винную половину» оставляет в обозной корзине в тылу. Половинки ломаются специально неровно: если даже надпись зальет кровью или она будет повреждена еще каким-то образом, вторая половинка однозначно совпадет с в кровавой». После боя воину возвращают вторую половинку браслета. Оставшиеся в корзине говорят о числе потерь.
Услышав свое имя, воин выходит из строя и забирает обломок, и руки трудно удержать от дрожи.
Там и сям вдоль строя по двое-трое собрались мужчины. Страх, с которым им удалось справиться во время боя, теперь ослабил узы и набросился на них, охватив сердца. Ухватившись рукой за товарищей, они опустились на колени – не из одного почтения перед друзьями, хотя испытывали его в избытке, но потому что колени вдруг утратили всю силу и больше не могли держать тело. Многие плакали, другие неистово тряслись. Это не считалось недостатком мужества, а называлось у дорийцев гесма фобоу – очищением от сокрытия страха.
Леонид размашисто шагал среди воинов, давая всем убедиться, что их царь жив и не покалечен. Воины жадно пили свою долю крепкого густого вина, и не считалось постыдным пить также большое количество воды. Вино уходило быстро, но никто не хмелел. Некоторые пытались расчесать волосы, словно таким образом возвращая себя к нормальной жизни. Но их руки так тряслись, что у них почти ничего не получалось. Другие с пониманием усмехались – ветераны, знающие, что лучше и не пытаться, поскольку все равно невозможно заставить члены слушаться. Признавшие свою неудачу чесальщики в ответ мрачно хмыкали.
Когда метки нашли свои вторые половины и вернулись к хозяевам, оставшиеся в корзине обозначили убитых или тяжело раненных, не способных встать в строй. Эти последние были востребованы братьями и друзьями, отцами и сыновьями, любимыми. Иногда человек брал собственную, потом забирал другую, а иногда, со слезами, и третью. Многие возвращались к корзине – просто заглянуть, чтобы увидеть число потерь.
В тот день потери составили двадцать восемь человек.
Великий Царь может сравнить это число с тысячами убитых в более великих сражениях и, возможно, сочтет его незначительным. Но тут это казалось децимацией – гибелью каждого десятого воина.
Возникло некоторое волнение, и перед собравшимися воинами показался Леонид.
– Вы уже преклонили колени?
Он двинулся вдоль строя, но не стал произносить громогласных речей, подобно иным гордым монархам, ищущим удовлетворения в звуках собственного голоса. Нет, он говорил тихо, как товарищ, он брал за локоть каждого бойца, некоторых обнимал, иных хлопал по плечу. Он разговаривал с каждым по отдельности, как мужчина с мужчиной, как Равный с Равным, без царственной снисходительности. Слова от одного к другому разносились шепотом по рядам, не требуя громкого повторения.
– Каждый получил вторую половину метки? Ваши руки уже не дрожат и вы можете свести их вместе?
Царь рассмеялся, и воины рассмеялись вместе с ним. Они любили его.
Победители построились в обычный порядок, раненые и не раненые, а также оруженосцы и илоты. Они высвободили место для царя. Стоящие впереди опустились на колени, чтобы товарищи сзади могли видеть и слышать; а сам Леонид буднично ходил туда-сюда вдоль строя, так, чтобы все слышали его голос и видели его лицо.
Боевой жрец – в данном случае Олимпий – держал перед царем корзину..Леонид брал каждую невостребованную метку и читал имя. Он не произносил никаких надгробных словес. Не звучало ничего, кроме имени. Среди спартанцев одно это считалось чистейшей формой освящения.
– Алкамен. Дамон. Антаклид. Лисандр.
И так далее…
Тела, уже принесенные оруженосцами с поля боя, будут омыты и умащены маслом; будут произнесены молитвы и принесены жертвы. Каждый погибший будет завернут в собственный плащ или плащ товарища и похоронен здесь же на месте, под курганом чести. Дома похоронят лишь щит, меч, копье и доспехи, если только знамения не объявят, что для данного тела будет больше чести, если его сохранят и похоронят в Лакедемоне.
Леонид взял свой собственный браслет и сложил обе половинки.
– Братья и союзники, я приветствую вас. Соберитесь, друзья, и выслушайте слова моего сердца.
Он выдержал паузу, спокойно и торжественно.
Потом, когда все замолкли, царь произнес:
– Когда человек устанавливает перед глазами бронзовое лицо своего шлема и выходит на позицию, он делит самого себя, как свою метку, на две части. Одну часть он оставляет позади. Эта часть вызывает восторг у его детей, она возвышает его голос в хоре, она прижимает к нему жену в сладкой темноте их ложа. Эту свою часть, лучшую часть, мужчина оставляет позади. Он изгоняет из своего сердца все чувства нежности и жалости, все сочувствие и доброту, все мысли и понятия о том, что враг – такой же мужчина, такой же человек, как он сам. Он идет в бой, неся только вторую часть себя, низкую часть, ту часть, что знает бойню и резню и не ведает пощады. Никакой воин не может сражаться, если не сделает этого.
Царя слушали, молчаливо и торжественно. Леониду в то время было пятьдесят пять лет. С тех пор как ему стукнуло двадцать, он прошел более четырех десятков сражений. Старые раны – тридцатилетней давности – виднелись на его плечах и икрах, на шее и под стального цвета бородой.
– Потом мужчина возвращается с побоища – живой. Он слышит, как выкрикивают его имя, и выходит взять свой браслет. И забирает ту часть себя, что раньше отложил в сторону. Это священный момент. Сакраментальный момент. Момент, когда мужчина чувствует богов рядом с собой, он чувствует их так близко, как собственное дыхание. Какое неведомое милосердие спасает нас в такой день? Какая божественная милость отвращает вражеское копье на ладонь от нашего горла и роковым образом направляет его в грудь любимого товарища, стоящего рядом? Почему мы по-прежнему здесь, на земле, хотя мы ничуть не лучше, не храбрее, не почтительнее к небесам, чем наши братья, которых боги направили в подземное царство? Когда мужчина соединяет две части своего браслета и видит, как они сливаются воедино, он ощущает, как его снова наполняет та часть его, что знает любовь, и милосердие, и сочувствие. Вот от этого и подгибаются колени. Что еще может чувствовать мужчина в тот момент, кроме самой искренней и глубокой благодарности богам, которые сегодня по неведомым причинам сохранили ему жизнь? 3автра их прихоть может оказаться иной. На следующей неделе, на будущий год. Но сегодня солнце продолжает светить ему, он чувствует на плечах ласковое тепло, видит вокруг себя лица своих товарищей, которых любит, и радуется своему и их спасению.
Леонид замолк, стоя посреди пространства, освобожденного для него войском.
– Я приказал прекратить преследование врага. Я велел положить конец побоищу и не убивать тех, кого сегодня мы зовем врагами. Пусть они вернутся домой. Пусть обнимут жен и детей. Пусть, как и мы, прольют слезы спасения и воскурят благодарность богам. Пусть никто не забывает и не толкует превратно, почему сегодня мы сражались с другими греками. Не для того, чтобы победить и поработить их, наших братьев, а чтобы сделать нас союзниками против более серьезного врага. Мы надеялись достичь этого убеждением. Получилось же – принуждением. Но это неважно. Теперь они – наши союзники, и с этого момента мы будем относиться к ним, как к союзникам. Перс!
Леонид вдруг повысил голос, воскликнув с таким взрывом эмоций, что стоявшие поблизости вздрогнули от неожиданности.
– Перс – вот из-за кого мы сражались сегодня! Он невидимо присутствует над этим полем боя! Из-за него в корзине остались метки! Из-за него двадцать восемь благороднейших воинов нашего города никогда не увидят красоты родных холмов и не будут танцевать под милую родную музыку! 3наю, многие из вас подумали, что я не в своем уме, как Клеомен, предыдущий царь(Царь Клеомен сошел с ума). Послышался смех.– Иногда до меня доносится шепот, а иной раз это даже не шепот.– Снова смех.– Якобы Леонид слышит голоса, которых не слышно остальным! Он-де пользуется тем, что дала ему жизнь, не по-царски и готовится к войне против врага, которого никто никогда не видел и который, как говорят многие, никогда не придет. Все это так…
Воины снова рассмеялись.
– Но выслушайте и никогда не забывайте того, что я вам сказку: перс – придет. Он придет с таким войском, что посланное им четыре года назад, когда афиняне и платейцы столь славно разбили его на Марафонской равнине, покажется ничтожным. Он придет с десятикратно, со стократно более могучим войском! И придет скоро.
Леонид снова замолк. От жара в груди его лицо зарделось, а глаза горели возбуждением и убежденностью.
– Выслушайте меня, братья. Перс – не царь, как был для нас Клеомен или как я для вас теперь. В сражении он не занимает свое место в строю со щитом и копьем, нет, он взирает из безопасного места, издали, с холма, сидя на золотом троне.– При этих словах Леонида среди воинов послышался презрительный шепот.– Его товарищи – не Равные, свободные говорить при нем, что думают, без страха. Это его рабы и смерды. Все они, даже благороднейшие, считаются царской собственностью, наряду с козлами и свиньями, и их посылает в бой не любовь к своей стране и к свободе, а плеть других рабов. Этот царь вкусил поражение от руки эллинов, и это горько для его тщеславия. Теперь он идет сам, чтобы отомстить, но идет не как достойный уважения мужчина, а как избалованный и нетерпеливый ребенок, разозленный тем, что у него отняли игрушку. Я плюю на корону этого царя. Я вытираю задницу об его трон, который на самом деле – седалище раба. Он не стремится ни к чему более благородному, чем превратить в рабов других! Все, что я сделал, будучи царем, и все, что до меня сделал Клеомен: обхаживание врагов, все фальшивые конфедерации, все подчиненные нами слабые в коленках союзники – все это делается ради того дня, когда Дарий или кто-то из его сыновей вернется в Элладу отплатить нам.
Тут Леонид поднял корзину с половинками браслетов павших.
– Вот почему эти люди, которые лучше нас, сегодня отдали свои жизни! Вот почему они освятили эту землю своей героической кровью! В этом – смысл их жертвы. Они вывалили свои кишки не в лужу мочи сегодняшней войны, они полегли в первой из множества битв более великой войны; которая еще грядет, которую видят боги на небесах, которую все вы видите в сердце своем. Эти наши братья – герои той войны, которая станет величайшей и самой разрушительной в истории. В тот день,– Леонид указал на берег залива, на Антирион у воды и Рион на другой стороне,– в тот день, когда перс через этот пролив приведет свои полчища против нас он найдет здесь не свободный проход и купленных друзей, а врагов, объединенных и непримиримых, союзников-эллинов, которые бросятся на него с обоих берегов. А если он изберет другой путь, если шпионы доложат ему о том, какой прием ждет его здесь, и он выберет другой проход, то и в другом месте сражения суша и море станут нашим большим преимуществом. Так будет благодаря тому, что мы совершили сегодня, благодаря жертве этих наших братьев, чьи тела мы опустим сегодня в могилу. Поэтому я не стал дожидаться, пока сиракузцы и антирионцы, наши сегодняшние враги, пошлют к нам своих посланников, как обычно, с просьбой вернуть им тела их убитых. Я первым послал к ним наших гонцов, предлагая перемирие, без злопамятства и с великодушием. Пусть наши новые союзники заберут неоскверненным оружие своих павших, пусть вернут незамаранными тела своих мужей и сыновей. Пусть те, кого мы сохранили сегодня, встанут в боевой строй вместе с нами в тот день, когда мы покажем персу раз и навсегда, какую доблесть свободные люди могут проявить против рабов, как бы велико ни было их число и как бы безжалостно ни гнали их плети их избалованного царя!
КНИГА ТРЕТЬЯ ПЕТУХ
Глава двенадцатая
В этом месте рассказа произошел досадный инцидент. Один из подчиненных Царского лекаря во время обычного ухода за ранами пленника неразумно сообщил раненому о судьбе Леонида, спартанского царя, командовавшего обороной Фермопил, о том, что стало с ним после битвы у Горячих Ворот, и о том, какое святотатство в глазах греков совершили войска Великого Царя над телом, когда достали его из горы трупов после побоища. До того пленник ничего об этом не знал.
Возмущение этого человека было немедленным и бескрайним. Он отказался говорить дальше и потребовал, чтобы его тоже умертвили – и немедленно. Этот человек, Ксеон, впал в отчаяние оттого, что тело его царя было обезглавлено и распято. Никакие доводы, угрозы и уговоры не могли вывести его из этого горестного состояния.
Оронту стало ясно, что если доложить Великому Царю о вызывающем поведении пленника, то, как бы Ему ни хотелось услышать продолжение рассказа этого человека, за свою наглость по отношению к Царственной Особе пленный Ксеон будет предан смерти. Сказать по правде, командир Бессмертных так же опасался за свою собственную голову и головы своих подчиненных, если Великий Царь будет разгневан непреклонностью грека по отношению к Его желанию узнать все возможное о своем спартанском противнике.
После частого неофициального общения с греком Ксеоном во время переговоров Оронт стал для него доверенным лицом и даже, если значение этого слова можно расширить до такой степени, другом. Он по собственной инициативе постарался смягчить упорство пленника. С этой целью командир Бессмертных попытался донести до грека следующее.
О физическом осквернении, совершенном над телом Леонида, Великий Царь глубоко пожалел сразу же, как только отдал приказ об этом. Приказ был отдан горем, испытанным после сражения, когда кровь Великого Царя вскипела при виде тысяч погибших – по некоторым подсчетам, до двадцати тысяч лучших бойцов Державы были убиты войсками Леонида, чей вызов богу Ахуре-Мазде, мог быть воспринят персидским оком как оскорбление небесам. Вдобавок спартанский супостат и его союзники послали в Царство мертвых двоих братьев Великого Царя, Габрока и Гиперанфа, и еще более тридцати других царских родственников.
Более того, добавил командир Бессмертных, расчленение тела Леонида явилось, если посмотреть в определенном свете, свидетельством трепета Великого Царя перед спартанцем, поскольку ни один другой вражеский военачальник не удостоился от Него такого крайнего и, в глазах эллинов, варварского возмездия.
Этого человека, Ксеона, не тронули подобные доводы, и он повторил свое желание немедленно принять смерть. Он отказался от пищи и воды. Казалось, его рассказ на этом месте закончился и уже не возобновится.
Но тут, боясь, что ситуацию не удастся утаить от Великого Царя, Оронт решил разыскать Демарата, изгнанного спартанского царя, проживавшего при дворе, в качестве гостя и советника, и убедил его посодействовать. Демарат явился в шатер Царского лекаря и там с глазу на глаз больше часу говорил с пленным Ксеоном. Выйдя же оттуда, он сообщил начальнику Оронту, что этот человек переменил свое решение и теперь хочет продолжить допрос.
Кризис миновал.
– Признайся мне,– попросил Оронт с большим облегчением,– какой же довод и убеждение применил ты, чтобы заставить его передумать?
Демарат ответил, что среди всех эллинов спартанцы более других известны своим благочестием и благоговейным отношением к богам. Он заявил, что по его собственным наблюдениям в этом отношении среди лакедемонян низшие по положению и по роду – в частности, пришельцы из других мест, каким и являлся пленник Ксеон,– почти без исключения, по словам Демарата, «больше спартанцы, чем сами спартанцы».
Бывший спартанский царь, как он сам рассказал, сыграл на уважении этого человека к богам, особенно к Фебу Аполлону, к которому тот явно питал глубокое почтение. Демарат уговорил пленника помолиться и принести жертву, чтобы определить как можно лучше волю этого бога. Ведь несомненно, сказал он, до сих пор Стреловержец способствовал твоему рассказу. Почему же теперь он прикажет прервать его? Не ставит ли себя этот человек, Ксеон спросил Демарат, выше бессмертных богов, предполагая знание их непостижимой воли и затыкая им рот по собственному капризу?
Неизвестно, какой ответ получил пленник от своих богов, но, очевидно, этот ответ совпал с советом Демарата.
И на четырнадцатый день месяца ташриту мы возобновили слушание рассказа.
При Антирионе Полиник получил приз за отвагу.
Это был его второй приз, добытый в таком неслыханном возрасте – в двадцать четыре года. Ни один из Равных, кроме Диэнека, не был награжден дважды, но тому уже было около сорока. За свой героизм Полиник был назначен начальником над Всадниками, и его привилегией стало председательствовать при назначении Трехсот царских спутников на следующий год. Это высшее, всеми вожделенное отличие, вдобавок к Олимпийскому венку за состязания в беге, сделало Полиника маяком славы, чьи лучи сияли далеко за пределами Лакедемона. Во всей Элладе его воспринимали как героя – как второго Ахилла, стоявшего теперь на пороге безграничной и неувядающей славы.
К чести Полиника, он не возгордился. Если что-то подобное и можно было в нем уловить, то оно проявлялось лишь в его еще более лютой самодисциплине. Это рвение в доблести, как показали события, могло стать чрезмерным, когда применялось к другим, не таким блестяще одаренным, как он сам.
Что касается Диэнека, он один раз был удостоен чести быть включенным в число Всадников, когда ему было двадцать шесть. 3атем он почтительно отклонял все последующие назначения. Он говорил, что ему нравится неприметное положение начальника эномотии. В строю он чувствовал себя самим собой. Убеждением моего хозяина было, что его вклад будет наибольшим, если он лично поведет людей за собой, да и то не более определенного числа. Он отказывался от всяких попыток продвинуть его выше уровня эномотии. "Я умею считать лишь до тридцати шести,– был его стандартный ответ.– Дальше у меня кружится голова».
Добавлю по собственным наблюдениям, что больше, чем ко всему остальному, Диэнек имел дар и склонность к педагогике. Как и все прирожденные педагоги, он был прежде всего учеником. Он изучал страх и его противоположность.
Но если и дальше отступать в те времена, это уведет нас далеко от нашего повествования. Остановимся же на Антирионе.
На обратном пути в Лакедемон, в наказание за то, что я осмелился сопровождать Александра в его погоне за войском, меня удалили из его общества и заставили идти в пыли вслед за обозом вместе со стадом жертвенных животных. Я был с моим другом, наполовину илотом Дектоном. Этот Дектон получил при Антирионе новое прозвище – Петух. Когда сразу же после сражения он принес Леониду для благодарственной жертвы петуха, то чуть не задушил последнего в сжатых кулаках – так обезумел он от возбуждения битвы и своего несбывшегося желания принять в ней участие. Кличка пристала. Дектон и в самом деле был петухом, из него так и била воинственность скотного двора и готовность налететь на всякого, пусть даже противник в три раза больше его размером. Это новое прозвище подхватило все войско, которое стало считать юношу чем-то вроде счастливого талисмана, несущего победу.
Кличка, конечно, задела Дектонову гордость и привела его в еще более воинственное состояние. По его мнению, подобное прозвище звучало пренебрежительно. Прозвище дало ему и еще одну причину ненавидеть хозяев и презирать собственное положение на службе у них. Меня он назвал тупоголовым болваном за то, что я следовал за армией.
– Тебе надо было бежать,– прошипел мне Дектон, глядя в сторону, когда мы среди мух тащились за обозом.Ты заслуживаешь тех плетей, что получаешь, не за то, в чем тебя обвиняют, а за то, что не утопил этого гимнопевца Александра, когда тебе выпала такая возможность, и не бросился потом прямо в храм Посейдона.– Он имел в виду святилище на мысе Тенар, где беглецы могут получить убежище.
Мою преданность спартанцам Дектон осуждал с презрением и насмешками. Вскоре после того, как два года назад судьба привела меня в Лакедемон, когда нам обоим было по двенадцать, меня отдали под власть этого мальчишки.
Его семья работала в поместье Олимпия, отца Александра и родственника Диэнека через его жену Арету. Сам Дектон был незаконнорожденным, по крови наполовину илотом, и ходил слух, что его отцом был спартиат, чье надгробие
Идотихид
Погиб
в сражении при Мантинее
стояло у Амиклской дороги напротив ряда сисситий, помещений для общих трапез.
Это полуспартанское происхождение не давало Дектону никакого преимущества. Он родился илотом и оставался им. Во всяком случае, его спартанские ровесники, а Равные даже в большей степени, относились к нему с повышенной подозрительностью, усиленной еще и тем, что Дектон отличался исключительной силой и ловкостью в атлетических играх. В свои четырнадцать лет он был сложен как взрослый мужчина и почти так же силен.
Его ждали большие неприятности, и он знал это.
Сам я тогда пробыл в Лакедемоне полгода – дикий мальчишка, только что спустившийся с гор и отданный на самые грязные крестьянские работы, поскольку отправить меня туда было разумнее, чем убить, рискуя осквернить себя. Но я оказался настолько негодным для сельского труда, что доведенные до бешенства мои хозяева-илоты пожаловались напрямую своему хозяину Олимпию. Этот благородный человек проявил ко мне сострадание – возможно, из-за того, что я был свободнорожденным, а возможно, и потому, что я стал городской собственностью не через пленение, а добровольно.
И меня отправили к пастухам коз и козлят.
Я сделался пастухом жертвенных животных, присматривал за скотиной для утренних и вечерних церемоний и ходил с войском на полевые учения.
Главным среди нас был Дектон. Прежде чем мы подружились, он возненавидел меня и питал самое жгучее презрение к моей истории, по неосторожности рассказанной ему, – якобы я получил совет непосредственно от Стреловержца Аполлона. Дектон счел это бредом. Как только я посмел возомнить, будто олимпийский бог, отпрыск Громовержца 3евса, покровитель Спарты и Амикл, попечитель Дельф и Делоса и неизвестно скольких еще полисов потратил свое бесценное время, чтобы снизойти до разговора в снегу с безродным и бездомным гелиокекауменом вроде меня? В глазах Дектона я был тупейшим из спятивших в горах безумцев, каких он только видел.
И он назначил меня старшим подтирателем задницы. – Ты думаешь, я собираюсь дать исполосовать себе спину за то, что подведу царю измазанного навозом козла? Отправляйся, и чтобы под хвостом у него не было ни пятнышка!
Дектон никогда не упускал случая унизить меня.
– Я учу тебя, затычка! Эти задницы – твоя академия. Сегодняшний урок – тот же, что и вчера: из чего состоит жизнь раба? Из постоянных унижений, из издевательств, из отсутствия другого выбора, кроме как терпеть. Скажи мне, мой свободнорожденный друг, как тебе это нравится?
Я ничего не отвечал, а молча повиновался. И за это он презирал меня еще больше.
Однажды он преградил мне дорогу, когда я с другими мальчиками-илотами пас скотину на царском пастбище.
– Ты меня ненавидишь, а? Тебе ничего бы так не хотелось, как изрубить меня на куски. Что же тебя останавливает? Попробуй! Ты ведь ночами не спишь, думая, как бы меня убить,– дразнил меня Дектон.– Но ты-то прекрасно знаешь, как это сделать! При помощи фессалийского лука, если твои хозяева тебя к нему подпустят! Или кинжалом, который ты припрятал между досок в хлеву! Но ты меня не убьешь. Сколько бы унижений я ни лил на твою голову, как бы ни издевался над тобой – ты не убьешь меня!
Он поднял камень и швырнул в меня, не целясь. Камень попал мне в грудь, и я чуть не упал. Другие мальчишки-илоты подошли посмотреть.
– Если бы тебя останавливал страх, это еще могло бы вызвать во мне какое-то уважение. По крайней мере, в этом был бы виден какой-то смысл.– Дектон швырнул другой камень, который попал мне в шею и рассек кожу, так что потекла кровь.– Но в твоих мотивах смысла нет. Ты не причинишь мне вреда по той же причине, почему не причинишь вреда никому из этих несчастных вонючих животных.– С этими словами он злобно пнул в брюхо козу, отчего та покатилась по земле и с криком убежала. – Потому что это обидит вон тех.– Он с горьким презрением указал через луг на гимнастическую площадку, где три эномотии спартиатов на солнце упражнялись с копьями. Ты не тронешь меня, потому что я – их собственность, как и эти жрущие дерьмо козлы. Ведь я прав, а?
Мое лицо ответило за меня.
Он посмотрел на меня с презрением.
– Кто они тебе, придурок? Я слышал, твой город разграбили. Ты ненавидишь аргосцев и думаешь, что эти сыны Геракла,– с саркастическим отвращением произнеся последние слова, он указал на Равных,– их враги. Опомнись! Что, ты думаешь, сделали бы спартанцы, захвати они твой город? То же самое, и еще хуже! Как поступили с моей страной, Мессенией, и со мной. Посмотри на мое лицо. Посмотри на свое. Ты убежал от рабства только для того, чтобы стать еще ниже раба!
Дектон был первым человеком из виденных мною, мальчиков и взрослых мужчин, кто совершенно не боялся богов. Он не ненавидел их, как некоторые, не строил им рож, как, я слышал, делали непочтительные вольнодумцы в Афинах и Коринфе. Дектон не признавал их существования. Их просто не было для него, и все. Это повергало меня в ужас. Я все смотрел, ожидая, что сейчас его поразит страшный удар с небес.
Теперь, по дороге домой из Антириона, Дектон (мне бы следовало сказать «Петух») продолжал свои разглагольствования, которые столько раз я уже слышал раньше. Что спартанцы оболванили меня, как и всех прочих; что они эксплуатируют своих рабов, дозволяя им подбирать крошки со своего стола, чуть-чуть возвышая одного раба над другими; что жалкая жажда каждого из этих несчастных достичь хоть какого-то положения в обществе удерживает их в подчинении.
– Если ты так ненавидишь своих хозяев,– спросил я, почему же во время сражения ты прыгал, как блоха, так безумно стремясь сам вступить в бой?
Я знал, что добавляю Петуху новую причину для раздражения. Он только что обрюхатил свою подружку по хлеву (так илоты называют своих случайных любовниц). Скоро ему предстояло стать отцом. Как тогда он сможет вырваться? Он же не бросит ребенка и не сможет бежать, волоча с собой девку с младенцем.
Дектон обругал одного из пастухов, который дал отбиться двум козам, и послал мальчишку назад – загнать заблудших обратно в стадо.
– Посмотри на меня,– заревел Дектон, снова догнав меня и шагая теперь рядом.– Я бегаю не хуже любого из этих спартанских увальней. Мне четырнадцать, но я один на один,побью любого двадцатилетнего. И тем не менее я плетусь здесь в этой дурацкой ночной рубашке и веду на поводке козу.
Он поклялся, что когда-нибудь украдет ксиэлу и перережет какое-нибудь спартанское горло.
Я сказал, что ему не следует говорить так в моем присутствии.
– А что ты сделаешь? Доложишь обо мне?
Я не мог донести, и он знал это.
– Клянусь богами,– сказал я ему,– если ты поднимешь руку на них, на кого-нибудь из них, я тебя убью.
Петух рассмеялся:
– Подними с обочины острую палку и выколи себе глаза, дружок. От этого ты не станешь лучше видеть, чем сейчас.
Войско дошло до границы Лакедемона у Ойона на заходе солнца второго дня, а до самой Спарты – еще через двенадцать часов. Гонцы опередили войско, и город уже два дня как знал, кто ранен, а кто убит. Уже готовились к похоронным играм – они должны были начаться через две недели.
Тот вечер и следующий день ушли на разгрузку обоза, чистку и приведение в порядок оружия и доспехов, замену древков у поломанных в бою копий, правку дубовых перекладин в гоплонах, разборку и складирование снаряжения возов, уход за вьючным и тягловым скотом. Нужно было проверить, должным ли образом каждое животное напоено, вычищено и загнано вместе со своими погонщиками-илотами по различным клерам – хозяйствам, где они работают. На вторую ночь Равные наконец вернулись на свои трапезы.
Обычно это был торжественный вечер после сражения, когда поминали павших товарищей, признавались доблестные поступки и осуждалось недостойное поведение, когда разобранные ошибки превращались в указания и тяжкий капитал сражения запасался для будущих надобностей.
Трапезы господ обычно представляют собой островки покоя и доверия, святилища, в которых любая беседа дозволена и скрыта от чужих ушей. 3десь после долгого дня друзья могут распустить волосы, высказать, как благородные мужи, истину своего сердца и даже – правда, всегда соблюдая меру,– впасть в размягчающее расслабление, утешив себя одной-двумя чашами вина.
Та ночь, однако, выдалась не для отдыха и веселья. Над городом тяжело нависали души двадцати восьми погибших. Тайный стыд воина – знать в глубине души, что мог бы действовать лучше, сделать больше и быстрее, меньше заботясь о себе самом. Безжалостная критика, направленная на самого себя, глодала кишки, невысказанная и затаенная. Никакие награды за отвагу и даже самая победа не в состоянии полностью ее заглушить.
Полиник подозвал к себе Александра и сурово обратился к нему:
– Ну, как тебе это понравилось? Он имел в виду войну.
Как ему понравилось быть там и видеть ее всю, неприукрашенную.
Вечер уже полностью вступил в свои права. Час элеклы прошел, подавали второе блюдо, дичь и пшеничный хлеб, и теперь шестнадцать Равных из сисситии Девкалиона, утолив голод, поудобнее устроились на своих жестких деревянных ложах. Теперь можно вызвать и поджарить на углях юнцов, прислуживавших на трапезе.
Александра поставили перед старшими – руки скрыты под плащом, глаза уставлены в пол, словно недостойны прямо смотреть в лицо Равным.
– Как тебе понравилось сражение? – допытывался Полиник.
– Меня чуть не стошнило,– ответил Александр.
На допросе мальчик сказал, что с тех пор не мог спать – ни на корабле, ни при пешем переходе домой. Если он хоть на мгновение смыкал веки, признал он, то снова с неубывающим ужасом видел сцены побоища, особенно – смертельную агонию своего друга Мериона. Сочувствие Александра, как он признал, вызвали как павшие герои собственного города, так и погибшие враги. Под особым давлением мальчик заявил, что война – это бойня, «варварская и нечестивая».
Господа за трапезой воодушевились. Они считали полезным в назидание молодости выбирать юнца или даже кого-нибудь из Равных и поносить его самым суровым и безжалостным образом. Это называется аросис – боронование. Цель его, как и физических избиений,– приучить к оскорблениям, закалить волю против ярости и страха, двух лишающих мужества зол, из которых складывается состояние, называемое каталепсис, одержимость. Достойный ответ – юмор. Нужно парировать оскорбление шуткой, и чем более грубой, тем лучше. Рассмеяться в лицо. Разум, способный сохранить ясность, не подведет воина в бою.
Но Александр не обладал подобным даром. Этого в нем не было. Все, что он мог,– это отвечать своим чистым звонким голосом с самой мучительной искренностью. Я наблюдал за этим со своего места прислуги, что слева от входа в трапезную, под высеченной надписью
Экзо тес фирас оуден -
«3а этими дверьми – молчание», то есть ни одного слова, произнесенного в этих стенах, нельзя повторять где-либо еще.
Александр продемонстрировал форму высочайшего мужества, стоя под ударами Равных без шуток и лжи. В любой момент боронования истязаемый юноша может сделать знак и попросить прекратить. По законам Ликурга, это его право. Однако гордость не позволяла Александру воспользоваться этой возможностью, и все это понимали.
– Ты хотел увидеть войну,– начал Полиник.– Как ты себе ее представлял?
От Александра требовалось отвечать в спартанском стиле – не задумываясь и как можно короче.
– Твои глаза были полны ужаса, твое сердце сжалось при виде человекоубийства. Ответь: для чего, ты думал, существует копье? А щит? А меч-ксифос?
Такого рода вопросы могут задаваться юноше не в грубом и оскорбительном тоне, что было бы легче вынести, а холодно, рассудительно, требуя кратко выраженного, осмысленного ответа. Александра заставили описать, какие раны может нанести копье и какая смерть может последовать после этого. Следует ли направлять удар в горло или грудь? А если у врага в икре перерублено сухожилие, следует ли задержаться, чтобы прикончить его, или правильнее идти дальше вперед? Если ты ударил копьем в пах, следует ли вытаскивать его наконечник прямо или с нажимом вверх, держа лезвие вертикально, чтобы выпотрошить кишки?
Кровь прилила к лицу Александра, его голос дрожал и срывался.
– Не хочешь ли прекратить вопросы, мальчик? Такой урок – не слишком тяжел для тебя? Отвечай кратко: ты можешь представить себе мир без войн? Можешь представить милосердие во враге? Опиши, что стало бы с Лакедемоном без войск, без воинов для его защиты. Что лучше: победа или поражение? Править или чтобы тобой правили? Сделать жену врага вдовой или оставить вдовой свою жену? Что является высшей добродетелью мужчины? Почему? Кем во всем городе ты восхищаешься больше всего? Почему? Определи слово «милосердие». Определи слово «сострадание». Это добродетели мира или войны? Мужчины или женщины? Добродетели ли это вообще?
Из Равных, боронивших Александра в тот вечер, Полиник, на первый взгляд, не казался самым безжалостным, самым суровым. Он не вел аросис, и его вопросы не были явно жестокими и злобными. Он просто не давал остановить допрос. В тоне других мужчин, как бы безжалостно они ни налетали на Александра, на самом дне, в основании, оставалось невысказанное участие. Александр был своим по крови, он был одним из них. Все, что они делали сегодня и в другие дни, делалось не для того, чтобы сломить его дух или сокрушить его, как раба, а чтобы сделать его сильнее, закалить его волю и сделать юношу более достойным звания воина. Чтобы он, как они сами, занял свое место среди спартиатов и Равных.
Полиник действовал иначе. В его бороновании чувствовалось что-то личное. Он ненавидел мальчика, хотя невозможно угадать за что. Смотреть на допрос, а тем более, наверное, терпеть его было еще мучительнее оттого, что Полиник обладал необычайной красотой.
Лицом и телосложением молодой Всадник был безупречен как бог. В Гимнасионе, обнаженный, даже рядом с десятками красивых юношей и воинов, развитых упражнениями для совершенствования тела, Полиник выделялся, он не имел себе равных, он превосходил всех остальных симметрией формы и безупречностью физического сложения. Одетый в белое для Собрания, он сверкал, как Адонис. А в доспехах, с начищенным бронзовым щитом, в алом плаще на плечах и в надвинутом до бровей всадническом шлеме с конским хвостом на гребне, он сиял еще ослепительнее, бесподобный, как Ахилл.
Даже самые зачерствевшие Равные, упражнявшиеся в овале для кулачного боя или в борцовских ямах, бросали свои занятия и подходили посмотреть на упражнения Полиника на Большом круге во время подготовки к Играм в Олимпии, или в Дельфах, или в Немее, увидеть его в пастельном вечернем свете, когда он и другие бегуны заканчивали свой труд на дистанции и под наблюдением наставников надевали соревновательные доспехи для последнего забега в вооружении.
С Полиником регулярно тренировались четверо бегунов: два брата, Малиней и Горгон, оба победители Немейских игр в беге на короткую дистанцию, Всадник Дорион, обгонявший на шестидесяти метрах скаковую лошадь, и кулачный боец эномотарх Теламоний из лоха Дикой Оливы.
Все пятеро занимали свои места, и наставник хлопал в ладоши, давая сигнал. Шагов шестьдесят, иногда сто, эти отборные бегуны держались плотной группой рвущейся вперед бронзы и работающей под весом доспехов плоти, и на одно биение сердца наблюдавшим за ними Равным казалось: может быть, на этот раз, в этот единственный раз кто-нибудь выиграет у Полиника. Потом, когда ускоряющая мощь бегунов начинала разрывать узы ноши, впереди появлялся раскачивающийся щит Полиника – пятнадцать мин дуба и бронзы, поддерживаемые бьющейся плотью и сухожилиями его левого предплечья; виднелось сияние его шлема, потом появлялись поножи, летящие, как крылатые сандалии самого Гермеса, а потом, с силой и мощью столь величественной, что останавливалось сердце, Полиник, как из катапульты, отрывался от группы, кипя такой резвостью, что казался обнажённым, даже крылатым, и не отягощенным весом на руке и плечах. Он проносился вокруг поворотного столба. В промежуток между ним и его преследователями врывался дневной свет. Полиник выбегал из поворота к финишу. Оставалось всего восемьсот шагов, и в душе он уже не соревновался с более слабыми товарищами, этими идущими пешком смертными, любой из которых в другом городе стал бы объектом восхищения, но здесь, против этого безупречного бегуна, им было суждено глотать пыль из-под его ног и радоваться хотя бы этому. Это был Полиник. Никто не мог сравниться с ним. В чертах его лица и телосложении, в каждой его поре сквозили такие достоинства, какие боги допускают соединиться в одном смертном лишь раз в поколение.
Александр тоже был красив. Даже со сломанным носом (подарок от Полиника) в своей физической безупречности он приближался к этому совершенному бегуну. Возможно, это каким-то образом и лежало в основе той злобы, которую взрослый мужчина питал к юноше. Он, Александр, кому больше удовольствия доставлял хор, а не атлетическое поле, был недостоин этого дара красоты; этот дар в нем не отражал мужского достоинства, андреи, которое в Полинике было выражено так явно.
Лично я подозревал, что враждебность бегуна еще больше воспламенялась той благосклонностью, которую к Александру проявлял Диэнек. Потому что из всех мужчин в городе, с которыми Полиник состязался в добродетелях и превосходстве, больше всего он не терпел моего хозяина. Не столько за почести, получаемые Диэнеком от Равных за доблесть,– поскольку Полиник, как и мой хозяин, награждался за отвагу дважды, а был на десять или двенадцать лет младше. Нет. Другое. В характере Диэнека была еще какая-то, менее очевидная черта, за которую горожане воздавали ему честь, признавая его достоинство инстинктивно, без понуждения и церемоний. Полиник видел это по тому, как мальчики и девочки шутили с Диэнеком, когда тот во время полуденного перерыва проходил мимо их сферопедии – поля для игры в мяч. Полиник замечал это в поклоне или улыбке благородных дам и их служанок у родников или проходящей через площадь старухи. Даже илоты относились к моему хозяину с теплотой и уважением, в чем отказывали Полинику, несмотря на все горы славы, достававшиеся ему. И это вызывало в нем злобу. Озадачивало. Ведь он, Полиник, произвел на свет двух сыновей, в то время как у Диэнека рождались только девочки – четыре дочери, которые, если Арете не удастся родить сына, прекратят его род. А энергичные и шустрые дети Полиника в будущем станут мужчинами и воинами. И еще больше раздражало Полиника то, что Диэнек принимал уважение сограждан так легко и с такой самоиронией.
Потому что бегун не видел в Диэнеке ни красоты тела, ни резвости ног. Вместо этого он замечал свойства души, силу самообладания, которых сам он, при всех дарах, щедро обрушенных на него богами, не мог назвать своими. Мужество Полиника было мужеством льва или орла, чем-то в крови и в мозге костей, оно возникало само по себе, без мысли, и упивалось своим инстинктивным превосходством.
Мужество же Диэнека было иным. Это было достоинство ЧЕЛОВЕКА, способного к ошибкам СМЕРТНОГО, который выводит отвагу из понимания своего сердца силой какой-то внутренней целостности, неизвестной Полинику.
И потому он ненавидел Александра. 3а это он сломал мальчику нос в тот вечер на восьминочнике. Теперь Полиник старался сломать нечто большее. 3десь, в трапезной, он хотел сломать его самого и увидеть, как он сломается. – Ты кажешься несчастным, дружок. Картина будущих битв как будто бы не сулит тебе радости?
Полиник велел Александру перечислить радости войны, которые мальчик перечислил наизусть, говоря об удовлетворении от перенесенных вместе трудностей, о триумфе над неудачами, о духе товарищества и филадельфии – любви к товарищам по оружию.
Полиник нахмурился:
– Ты чувствуешь радость, когда поешь, юноша?
– Да, господин.
– А когда флиртуешь с этой растрепой Агатой?
– Да, господин.
– Тогда представь ожидающую тебя радость, когда ударяешься о вражеский строй, щит в щит с врагом, кипящим желанием убить тебя, а вместо этого ты убиваешь его. Ты можешь представить этот экстаз, ты, сортирный червяк?
– Я пытаюсь, господин.
– Позволь мне помочь тебе. 3акрой глаза и нарисуй себе эту картину. Делай, что говорят!
Полиник прекрасно понимал, какую муку причиняет Диэнеку, который сохранял видимое спокойствие на своем деревянном ложе всего через два места от самого Полиника.
– Вонзить копье, все острие, в кишки человека – это вроде совокупления, только еще лучше. Ведь ты любишь трахаться,правда?
– Я еще не знаю, господин.
– Не придуривайся со мной, не чирикай, как воробей. Александр, к этому времени простоявший на ногах уже целый час, крепился изо всех сил. Он отвечал на вопросы своего мучителя, застыв по стойке «смирно», опустив глаза в землю, в душе готовый вытерпеть что угодно.
– Убийство напоминает траханье, юноша, только ты не даешь жизнь, а отбираешь ее. Переживаешь экстаз проникновения внутрь – твой наконечник входит во вражеское брюхо, а за ним и древко. Ты видишь, как глаза противника закатываются под самый шлем. Ты ощущаешь, как колени под ним подгибаются и весь вес его обмякшей плоти тянет твое копье вниз. Представил?
– Да, господин.
– Твой член напрягся? – Нет, господин.
– Что? Ты держишь копье в кишках человека и твой член не затвердел? Ты что, женщина?
Тут Равные в трапезной постучали костяшками пальцев по дереву – знак, что Полиник в своем поучении зашел слишком далеко. Но бегун не обратил на это внимания.
– Теперь представим вместе, юноша. Ты чувствуешь, как вражеское сердце бьется о твое острие, и ты пропарываешь его, а вытаскивая, ты поворачиваешь свое копье. Наслаждение поднимается по твоему древку, через ладонь, по руке, в самое сердце. Ты почувствовал?
– Нет, господин.
– В этот момент ты чувствуешь себя Богом, осуществляя право, пережить которое могут только Бог и воин в бою: право нести смерть, освобождать душу другого человека и посылать ее в подземное царство. Тебе хочется насладиться этим – вкрутить острие поглубже и вытащить сердце и кишки на наконечнике твоего копья,– но ты не можешь. Ответь мне, почему?
– Потому что я должен двигаться вперед и убить следующего врага.
– Тебе хочется заплакать? – Нет, господин.
– Что ты будешь делать, когда придут персы? – Буду убивать их, господин.
– А что, если ты будешь стоять в боевом строю справа от меня? Твой щит прикроет меня?
– Да, господин.
– А если я пойду вперед в тени твоего щита? Ты поднимешь его выше и понесешь передо мной?
– Да, господин.
– Ты убьешь своего противника?
– Убью.
– И следующего?
– Да.
– Я тебе не верю.
3десь Равные застучали по столу сильнее.
– Это уже не обучение, Полиник,– сказал Диэнек. Это злоба.
– Вот как? – ответил бегун, не снизойдя посмотреть на своего соперника. – Спросим сам ее объект. С тебя хватит, певчий комок дерьма?
– Нет, господин. Мальчик просит Равного продолжать. Диэнек встал между ними. Нежно, с сочувствием, он обратился к юноше, своему подопечному:
– 3ачем ты говоришь правду, Александр? Ты мог бы солгать, как все другие юноши, и поклясться, что получил удовольствие от зрелища битвы, что наслаждался зрелищем отрубленных конечностей и видом людей, искалеченных и убитых в пасти войны.
– Я думал об этом, господин. Но все увидели бы, что я лгу.
– Ты прав, клянусь Гераклом! Мы бы увидели,– подтвердил Полиник. Услышав злобу в своем голосе, он быстро взял себя в руки.– Однако из уважения к моему досточтимому товарищу,– здесь он отвесил насмешливо-учтивый поклон Диэнеку,– я задам следующий вопрос не этому ребенку, а всем сотрапезникам сразу.– Он помолчал, потом указал на юношу.– Кто в сражении встанет в строю справа от этой женщины?
– Я, – без колебания ответил Диэнек.
Полиник фыркнул:
– Твой ментор стремится прикрыть тебя, педарион. В упоении своей доблестью он вообразил, что может сражаться за двоих! Это безрассудство. Город не может рисковать потерей такого доблестного воина лишь из-за того, что он положил глаз на твое девчачье личико.
– Хватит, друг мой,– раздался голос Медона, старшего на трапезе, и Равные повторили это дружным стуком г пальцев по столу.
Полиник улыбнулся:
– Я согласен с вашим решением, благородные мужи и старейшины. Пожалуйста, извините меня за излишнее рвение. Я старался лишь помочь нашему юному товарищу отчасти проникнуть в природу реальности, в состояние мужчины, каким его сотворили боги. Могу я закончить свой урок?
– Покороче,– предупредил Медон.
Полиник снова повернулся к Александру. Когда он заговорил, его голос звучал без всякой злобы; во всяком случае, он казался не чужд чего-то вроде доброты и даже, как ни нелепо это звучит, сожаления.
– Человечество, какое оно есть,– проговорил Полиник,– состоит из чирьев и язв. Посмотри на любую страну, кроме Лакедемона. Мужчины слабы, жадны, трусливы, похотливы, поражены всевозможными пороками и грехами. Каждый готов солгать, украсть, обмануть, убить, переплавить сами статуи богов и отчеканить из этого золота деньги, чтобы потратить на шлюх. Таков мужчина. Это его натура, как утверждают поэты. К счастью, боги в своем милосердии создали противоядие против присущей нашей породе испорченности. Этот дар богов, друг мой, называется война. Не мир, а война порождает добродетели. Не мир, а война искореняет пороки. Война и подготовка к войне вызывают в мужчине все достойное и благородное. Она объединяет его с братьями и связывает их всех самоотверженной любовью, искореняя в горниле необходимости все низкое и недостойное. Там, в священных жерновах убийства, самый подлый может искать и найти ту часть себя, скрытую под разложившейся плотью, которая сияет и сверкает, которая добродетельна, которая достойна чести перед богами. Не презирай войну, мой юный друг, не обманывай себя, не говори, что милосердие и сострадание – это для мужской доблести более высокие достоинства, чем андрея.– 3акончив, Полиник повернулся к Медону и старейшинам.– Прошу прощения за многословную велеречивость.
Боронование закончилось, Равные разошлись. На улице, под дубами, Диэнек разыскал Полиника и обратился к нему по хвалебному имени Каллистос, что можно перевести как « гармонично прекрасный» или «совершенная симметрия», хотя сам тон превратил это наименование в снисходительное «хорошенький мальчик» или «небесное личико».
– Почему ты так ненавидишь этого юношу? – спросил Диэнек.
Бегун ответил без колебаний:
– Потому что он не любит славу.
– А любовь к славе – величайшее достоинство мужчины?
– Воина.
– И скаковой лошади, и гончей собаки.
– Это достоинство богов, которому они велели подражать.
Другие в сисситии могли слышать их разговор, хотя и прикидывались, что не слушают, поскольку, по законам Ликурга, что бы ни обсуждалось в этих стенах, ничто не могло выйти за их пределы. Диэнек, тоже это понимая, совладал с собой и повернулся к олимпионику Полинику с выражением иронического удивления:
– Желаю тебе, Каллистос, пережить столько же сражений наяву, сколько ты уже испытал в воображении. Возможно, тогда тебе хватит человеческой скромности больше не выставлять себя полубогом, как сейчас.
– Попридержи свою заботу обо мне, Диэнек, оставь ее для своего юного друга. Он больше нуждается в ней.
Наступил час, когда трапезные вдоль Амиклской дороги выпустили своих посетителей. Люди старше тридцати отправились по домам, к женам, а кто помоложе, из первых пяти призывных возрастов, отправились с оружием в портики публичных учреждений, чтобы нести там дозор или поспать, завернувшись в свои плащи. Диэнек воспользовался этим моментом, чтобы в сторонке поговорить с Александром.
Он положил руку юноше на плечо, и они вдвоем медленно пошли под темные дубы.
– Ты знаешь,– сказал Диэнек,– что в бою Полиник отдал бы за тебя жизнь. Если бы ты упал раненый, его щит прикрыл бы тебя, а его копье защитило. А если бы тебя нашел смертельный удар, Полиник бы без колебаний бросился в гущу сражения и до последнего вздоха бился за твое тело, чтобы не дать врагу снять твои доспехи. Его меч был бы безжалостен, Александр, но ты сам теперь видел войну и знаешь, что она в сто раз безжалостнее Сегодня вечером это была шалость. Практика. Приготовь свою душу выносить подобное снова и снова, пока это не превратится для тебя в ничто, пока не сможешь беззаботно смеяться Полинику в лицо в ответ на его оскорбления. Помни, что юноши Лакедемона сотни лет переносят такие боронования. Так мы тратим слезы, чтобы потом не пролить кровь. Сегодня вечером Полиник не стремился причинить тебе вреда. Он хотел научить тебя той душевной дисциплине, которая блокирует наш страх когда звучат трубы и обозначают ритм боевые свирели. Помни, что я говорил тебе про дом со множеством комнат. Есть комнаты, в которые мы не должны входить. Гнев. Страх. Любая страсть, ведущая нас к "одержимости", которая губит людей на войне. Привычка – победитель. Когда приучаешь ум думать так, и только так, когда не позволяешь ему думать по-другому, это порождает великую силу в бою.
Они остановились под дубами и сели.
– Я рассказывал тебе про гусыню, что была в клере у моего отца? Эта гусыня завела привычку, одним богам известно почему, прежде чем плюхнуться в воду вместе со своими братьями и сестрами, три раза поклевать определенный клочок дерна. Мальчишкой я дивился на это. Гусыня делала так, каждый раз. Обязательно. Однажды мне пришло в голову помешать ей. Просто чтобы посмотреть, что она сделает. Я занял позицию на том самом клочке дерна – мне было тогда лет пять, не больше,– и не подпускал туда эту гусыню. Она взбесилась. Набросилась на меня и стала бить крыльями, клевать меня до крови. И я позорно, как крыса, бежал. А гусыня сразу успокоилась. Она три раза поклевала свой клочок дерна и соскользнула в воду, довольная, как только можно Привычка – могучий союзник, мой юный друг. Привычка к страху и к ярости или привычка к самообладанию и мужеству.
Он тепло похлопал мальчика по плечу, и оба встали.
– А теперь пошли. Поспим. Обещаю тебе: прежде чем ты снова увидишь сражение, мы вооружим тебя всеми нужными привычками.
Глава тринадцатая
Когда молодежь разошлась, Диэнек со своим оруженосцем Самоубийцей сошел с дороги и присоединился к компании других командиров, собиравшихся на экклесию (народное собрание в Спарте) посвященную организации грядущих погребальных игр. Там, перед трапезной, к Диэнеку подбежал мальчик-илот с донесением. Я уже собирался было отправиться вместе с Александром в открытые портики вокруг площади Свободы, чтобы занять свою койку на ночь, но тут до меня донесся резкий свист.
К моему удивлению, это оказался Диэнек. Я быстро подошел к нему, почтительно встав с левой стороны – « стороны щита».
– Ты знаешь, где находится мой дом? – спросил спартиат. Это были первые его слова, обращенные непосредственно ко мне. Я ответил, что знаю.– Иди туда. Этот мальчик проводит тебя.
Диэнек больше ничего не сказал, а повернулся и с другими Равными направился к Собранию. Не имея ни малейшего представления о том, что от меня требуется, я спросил мальчика: нет ли здесь ошибки и уверен ли он, что я именно тот человек, кто требуется?
– Да, тот. Все в порядке, и нам лучше заставить гравий лететь из-под ног.
Городской дом семьи Диэнека стоял через два переулка от Эвентидской дороги, в западном конце деревни Питана Он не примыкал к другим жилищам, как многие в том квартале, а обособился на краю рощи, под древними дубами и оливами. Когда-то в прошлом он сам был усадьбой и еще сохранял неприкрашенное, практическое обаяние сельского клера. Сам дом был крайне непритязательный, чуть больше простой хижины, менее внушительный, чем даже дом моего отца в Астаке, хотя двор и участок, приютившиеся в роще мирт и гиацинтов, казались прибежищем уюта и очарования. Дом стоял в конце ряда увитых цветами проходов, каждый из которых все глубже затягивал в пространство безмятежности и уединения. Я шел мимо хижин других Равных, видел их тлеющие очаги в вечерней прохладе, слышал, как звенит детский смех, как весело тявкают из-за основательных стен собаки. Сам дом и его окружение казались бесконечно далекими от помещений для упражнений и от войны и представлял собой бесконечный контраст с ними, что как нельзя лучше способствовало отдыху.
Старшая дочь Диэнека Элирия, которой в то время шел двенадцатый год, пропустила меня в ворота. Я заметил низкие белые стены вокруг безукоризненно выметенного дворика, мощенного простой плиткой и украшенного цветами в глиняных горшках на пороге. Вдоль простых тесаных стропил беседки цвел жасмин, фасад украшали глицинии и олеандр. Вдоль северной стены по узкому, не шире пяди, каменному стоку журчала вода. У плетеной садовой скамейки в тени ждала незнакомая служанка.
Меня направили к каменной чаше и велели омыть руки и ноги. На перекладине висели чистые льняные тряпки. Я вытерся и аккуратно повесил их на прежнее место. Мое сердце колотилось, хотя даже ради спасения собственной жизни я бы не мог объяснить отчего. Элирия провела меня внутрь, в зал с очагом, комнату уединения, отделенную стеной от спальни Диэнека и Ареты. Дом, собственно, и состоял из этих двух помещений.
Все четыре дочери Диэнека находились дома, в том числе и малышка, которая только начала ходить. К Элирии присоединилась вторая дочь Диэнека – Алекса, и обе, сев на пол, начали чесать шерсть, словно это было обычное занятие для середины ночи. 3а девушками надзирала госпожа Арета, сидевшая с ребенком на руках на низком табурете у очага.
Я сразу заметил, однако, что слушать мне предстоит не ее. Рядом с женой Диэнека, ближе к середине комнаты, сидела госпожа Паралея, мать Александра, жена полемарха Олимпия.
Эта дама без излишних церемоний начала расспрашивать меня про боронование ее сына на трапезе, после которого еще не прошло и получаса. Сам факт, что она узнала об этом событии, да еще так скоро, уже вызывал удивление.
Что-то в ее глазах предупредило меня, что нужно тщательно выбирать слова.
Госпожа Паралея заявила, что прекрасно осведомлена о запрете разглашать все услышанное в стенах сисситии и уважает этот запрет. Тем не менее я бы мог, не нарушая святости закона, снизойти к ней, матери. Вполне понятно, что мать заботится о благе и будущем своего сына. Я мог бы намекнуть ей – если не о точных словах, прозвучавших во время упомянутого события, то хотя бы об их тоне и духе.
В таком же намекающем тоне, в каком Равные на сисситии допрашивали Александра, она спросила, кто управляет городом. Цари и эфоры, без запинки ответил я, и, конечно, 3аконы. Госпожа улыбнулась и на мгновение оглянулась на Арету.
– Да,– проговорила она,– конечно, это должно быть так.
Так она дала мне понять, что всем заправляют женщины и, если я не хочу снова безвылазно оказаться в навозных кучах на ферме, мне следует начать выдавливать из себя кое-какие сведения. Через десять минут она знала все. Я пел, как птичка.
Ей бы хотелось, начала госпожа Паралея, узнать обо всем, что делал ее сын после того, как пренебрег ее пожеланиями в роще Близнецов и отправился вслед войску в Антирион. Она допрашивала меня, как шпиона. Госпожа Арета не вмешивалась. Ее старшие дочери не поднимали глаз ни и на меня, ни на госпожу Паралею и все же, сохраняя скромное молчание, ловили каждое слово. Так их учили. Сегодня они получали урок, как допрашивать слугу. Как это делает госпожа. Каким тоном. Какие вопросы она задает, когда ее голос возвышается до намека на угрозу, а когда затихает до более доверительного, вызывающего на откровенность тона.
Какой паек Александр и я взяли с собой? Какое оружие? Когда у нас кончилась провизия, как мы добывали новую? Встречали ли мы по пути чужих? Как держался ее сын? Как держались встречные путники? Оказывали ли они ему уважение, достойное спартанца? Вынуждал ли их к этому ее сын своими манерами?
Госпожа поглощала мои ответы, ничем не выдавая своего отношения, хотя в некоторые моменты было ясно, что она не одобряет поведение сына. Лишь однажды она позволила неподдельному гневу проявиться в своем тоне – когда мне пришлось сообщить, что Александр не узнал имени лодочника, который перевозил нас, а потом предал. Голос госпожи задрожал. Что случилось с мальчиком? Чему он учился все эти годы за столом отца и на общих трапезах? Разве он не понял, что это пресмыкающееся, этого рыбака-лодочника следует наказать, если нужно – казнить; что надлежит показать этим мерзавцам, что бывает за вероломный обман сына полноправного лакедемонянина? Или, если так диктует благоразумие, этого лодочника можно было бы использовать в своих целях. Если начнется война с персом этот подлец, как осведомитель, мог бы оказать неоценимую услугу войсковой разведке. Даже если бы он попытался вести двойную игру, это можно было бы заметить и добыть ценные сведения. Почему Александр не узнал его имя?
– Твой слуга не знает этого, госпожа. Возможно, твой сын узнал его имя, а его слуга не слышал этого.
– Называй себя «я»,– прикрикнула на меня Паралея.– Ты не раб, так и не говори по-рабски.
– Хорошо, госпожа.
– Мальчику нужно промочить горло, мама,– послышался смешок девушки Элирии.– Только посмотрите на него. Если его лицо хоть чуть-чуть еще покраснеет, он лопнет.
Пристрастный допрос продолжался еще час. Сидеть на этом раскаленном табурете было неудобно; к тому же меня страшно смущал внешний вид госпожи Паралеи, которая жутко напоминала своего сына. Как и он, она была красива, и, как у него, ее красота имела неприкрашенную, по-спартански сдержанную форму.
Жены и девушки в моем родном Астаке, да и в любом другом городе Эллады, обычно пользовались косметикой и подкрашивали лицо. Эти дамы прекрасно понимали, какой эффект производит искусственный блеск кудрей или розовый цвет губ на любого мужчину, попавшего в зону действия их чар.
Ничего подобного не входило в планы госпожи Паралеи. Ее пеплос был в спартанском стиле разрезан сбоку, открывая голую ногу до бедра. В любом другом городе это сочли бы скандально непристойным. Но здесь, в Лакедемоне, никто не обращал на это ни малейшего внимания. Это нога у нас, женщин, как и у мужчин, есть ноги. Для спартанских мужчин было немыслимо с вожделением и похотью смотреть на госпожу в таком одеянии, Они видели обнаженными своих матерей, сестер и дочерей с тех пор, как открыли глаза, и на женских атлетических состязаниях, и на праздниках, и во время шествий женщин и девушек.
И все же обе эти дамы, и Паралея, и Арета, не оставили без внимания, какое впечатление производил их личный магнетизм на вытянувшегося перед ними мальчишку-слугу. В конце концов, разве сама Елена была не из Спарты? Жена Менелая, увезенная Парисом в Трою.
Что причиной безмерных страданий стала для ахеян и троянцев, Ради чьей красоты несравненной Много храбрых ахейцев погибло В Илионе, вдали от отчизны,Спартанские женщины превосходили красотой всех остальных в Элладе, и не последнее место в их очаровании занимало то обстоятельство, что они не выпячивали свою красоту. Их богиня – не Афродита, а Артемида-Охотница. Посмотри на прелесть наших волос, словно говорит их манера они отражают свет лампады не искусством косметических средств, а блеском здоровья и глянцем целомудрия: Загляни нам в глаза, которые приковывают к себе мужские, – они не потупляются в притворной скромности и не трепещут накладными ресницами, как у коринфских шлюх. Мы натираем ноги воском и миртом не в будуаре, а под солнцем, во время состязаний и на Круге.
Они были самками-производительницами, эти дамы, жены и матери, чьим главным призванием было – рожать мальчиков, которые вырастут воинами и героями, защитниками города. Спартанские женщины были племенными кобылами. Избалованные девицы других городов могли смеяться над ними, но если спартанки и были кобылами, то самой лучшей породы. Атлетический пыл и решительность, которые давала им гинекагогия, система женских тренировок, являлись мощной силой, и сами они прекрасно это сознавали.
Теперь, когда я стоял перед этими женщинами, мои мысли, несмотря на все мои усилия, рвались в прошлое, к Диомахе и матери. Я вспоминал мелькание сильных и стройных голых ног моей двоюродной сестры, когда мы, вслед за собаками, по каменистому склону гнались за каким-нибудь зайцем. Я видел гладкую глянцевую кожу ее рук, когда она натягивала лук, ее прищуренные глаза и прилив юности и свободы, которые окрашивали кожу ее лица, когда она улыбалась. Я снова увидел свою мать, которая умерла в двадцать шесть лет и запомнилась мне своей непревзойденной неясностью и благородством. Эти мысли были той самой комнатой в доме моей души, о которой говорил Диэнек,– комнатой, в которую я поклялся больше никогда не заходить.
Но теперь, оказавшись в настоящей комнате этого настоящего дома, наполненной женскими шорохами и ароматами, перед женственным сиянием этих жен и матерей, дочерей и сестер, всех шести, когда столько женского сконцентрировалось в столь малом пространстве, я невольно перенесся назад. Мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не выдать своих воспоминаний и связно отвечать на вопросы госпожи. Наконец ночной допрос вроде бы стал приближаться к завершению.
– А теперь ответь на последний вопрос. Говори откровенно. Если соврешь, я увижу. Обладает ли мой сын мужеством? Оцени его андрею, его мужскую доблесть, как юноши, который скоро должен занять свое место среди воинов.
Не требовалось большого ума, чтобы понять, по какому тончайшему льду мне придется пройти. Как можно ответить на подобный вопрос? Я выпрямился и обратился к госпоже:
– В учебных группах агоге тысяча четыреста юношей. Только один проявил безрассудную смелость отправиться вслед войску – зная, что идет против желания своей матери. Кроме того, он знал, какое наказание ждет его по возвращении.
Госпожа задумалась.
– Очень дипломатично, но ответ хорош. Я его принимаю.
Она встала и поблагодарила госпожу Арету за обеспеченную ею конфиденциальность. Мне было велено подождать во дворе. Там с глупой ухмылкой все еще стояла служанка госпожи Паралеи. Несомненно, она все подслушала и еще до восхода солнца разнесет по всей долине Эврота. Через мгновение появилась сама госпожа Паралея и, не удостоив меня ни взглядом, ни словом, в сопровождении служанки направилась без факела по тёмному переулку.
– Ты достаточно взрослый, чтобы выпить вина? – из дверей обратилась ко мне госпожа Арета, сделав знак снова войти.
Все четыре дочери уже спали. Госпожа сама приготовила мне вино, добавив шесть частей воды, как для мальчика. Я с благодарностью выпил. Очевидно, ночь расспросов еще не кончилась.
Госпожа предложила мне сесть, а себе оставила место хозяйки – у очага. Положив передо мной на блюде ломоть альфиты – ячменного хлеба, она принесла немного оливкового масла, сыра и лука.
– Терпение! Эта ночь среди женщин скоро закончится. И ты вернешься назад, к мужчинам, среди которых явно чувствуешь себя лучше.
– Я не смущаюсь, госпожа. Правда. Для меня облегчение – на час оказаться вдали от казарменной жизни, даже если ради этого приходится босиком плясать на раскаленной сковороде.
Госпожа улыбнулась, но, очевидно, ее ум занимала что то более серьезное.
Она велела смотреть ей в глаза.
– Ты когда-нибудь слышал такое имя – Идотихид? Я слышал.
– Это спартиат, погибший при Мантинее. Я видел его могилу на Амиклской дороге, перед трапезной Крылатой Нике.
– Что еще тебе известно об этом человеке? – спросила госпожа.
Я что-то пробормотал.
– Что еще? – не отставала она.
– Говорят, что Дектон, илот по прозвищу Петух, его незаконнорожденный сын. Его мать, мессенийка, умерла при родах.
– И ты веришь этому? – Верю, госпожа.
– Почему?
Я сам себя загнал в угол и видел, что госпожа заметила это.
– Потому,– ответила она за меня,– что этот Петух так ненавидит спартанцев?
Меня так сковало страхом от этих ее слов, что я долго не мог обрести язык.
– Ты заметил,– продолжала госпожа, к моему удивлению не выражая ни возмущения, ни гнева,– что среди рабов нижайшие словно бы несут свой жребий без особого огорчения, в то время как самые благородные, почти свободные, злятся особенно сильно? Как будто чем больше слуга чувствует себя достойным лучшей участи, пусть даже не имея средств достичь ее, тем мучительнее для него переживается зависимость.
Таков и был Петух. Я никогда не задумывался об этом таким образом, а теперь, когда эту мысль выразила госпожа, я понял, что она права.
– Твой друг Петух слишком много болтает. А что недоговаривает его язык, то слишком явно выражают его манеры.– Она процитировала, практически дословно, несколько бунтарских высказываний Дектона, которые, мне казалось, слышал я один по пути обратно из Антириона.
Я потерял дар речи и почувствовал, как меня прошиб пот. А лицо госпожи Ареты по-прежнему ничего не выражало.
– Ты знаешь, что такое криптея? – спросила она. Я знал.
– Это тайное сообщество у Равных. Никто не знает его членов, только известно, что это самые молодые и самые сильные и они творят свои дела по ночам.
– И что это за дела?
– Они делают так, что люди исчезают.
Говоря «люди», я имел в виду илотов. Илотов-изменников.
– А теперь ответь, но сначала подумай.– Госпожа Арета сделала паузу, чтобы усилить значимость вопроса, который собиралась задать.– Если бы ты был членом криптеи и узнал то, что я тебе только что сказала про этого илота, Петуха, – что он вел предательские по отношению к городу разговоры, а потом еще выразил намерение предпринять соответствующие действия,– что бы ты сделал?
Ответ мог быть лишь один.
– Если бы я был членом криптеи, моим долгом было бы убить его.
Госпожа выслушала это, и ее лицо не выразило ничего. – Тогда ответь: на своем месте, на месте друга этого юноши-илота, Петуха, что бы ты сделал?
Я промямлил что-то насчёт смягчающих обстоятельств: что, мол, Петух часто болтает сгоряча, не думая, что обычно его слова – пустые угрозы, и все это знают.
Госпожа обернулась в тень. – Этот юноша лжет?
– Да, мама!
Я в страхе повернулся. Обе старшие дочери и не думали спать, а ловили каждое слово.
– Я отвечу за тебя сама, молодой человек,– сказала госпожа, выручая меня из затруднительного положения. -Думаю, вот что ты бы сделал. Ты бы предупредил этого парнишку, Петуха, чтобы тот больше не говорил подобных вещей в твоем присутствии и не предпринимал никаких действий, ни малейших, а то ты сам с ним расправишься.
Я был в полном замешательстве. Госпожа улыбнулась.
–Ты плохой лжец. Это не входит в число твоих талантов. И я этим восхищаюсь. Но ты ступил на опасную почву. Спарта может быть величайшим городом в Элладе, но это все-таки маленький город. Здесь мышка не успеет чихнуть, как каждая кошка говорит ей: «Будь здорова!» Слуги и илоты все слышат, и их языки за сладкий пирожок разболтают что угодно.
Я задумался над этим.
– А мой – за чашу вина? – спросил я наконец.
– Мальчишка тебе дерзит, мама! – донесся голос девятилетней Алексы.– Тебе следует его высечь!
К моему облегчению, госпожа Арета смотрела на меня в свете лампы без гнева и негодования, а просто спокойно, словно бы изучая меня.
– Мальчишка твоего положения должен испытывать страх перед женой спартиата такого ранга, в каком мой муж. Скажи: почему ты меня не боишься?
До этого момента я и сам не осознавал, что действительно не боюсь.
– Я не уверен, госпожа. Возможно, потому, что ты мне кое-кого напоминаешь.
Несколько мгновений госпожа ничего не говорила, но продолжала смотреть на меня тем же напряженным испытующим взглядом.
– Расскажи мне о ней,– приказала она.
– О ком?
– О своей матери.
Я снова покраснел. Я весь съёжился, оттого что госпожа чудесным образом угадывала, что у меня на сердце, прежде чем я успевал ей ответить.
– Давай выпей еще. Не надо передо мной изображать упрямца.
Какого черта! Я выпил. Это помогло. Я вкратце рассказал госпоже про Астак, про его разорение, про убийство моей матери и отца подло подкравшимися ночью аргосцами.
– Аргосцы всегда были трусами,– заметила Арета, презрительно фыркнув, и это выказанное ею презрение к аргосцам вызвало во мне прилив симпатии к ней даже больше, чем она сама предполагала.
Очевидно, моя жалкая история еще раньше дошла до ее длинных ушей, но она слушала внимательно, словно сопереживая услышанному.
– У тебя была несчастная жизнь, Ксео,– проговорила она, впервые назвав меня по имени. К моему удивлению, это глубоко меня тронуло, так что пришлось приложить усилия, чтобы не выдать своих чувств.
Я призвал все самообладание, чтобы говорить правильно, на грамотном греческом языке, как и полагается свободнорожденному, и держался почтительно не только по отношению к госпоже, но и к своей стране, к своему роду.
– И почему же,– спросила госпожа Арета,– мальчишка без родного города проявляет такую верность к чужой стране, к Лакедемону, гражданином которого ты не являешься и никогда не будешь?
Я знал ответ, но не мог судить, насколько можно доверять этой женщине. И я ответил двусмысленно, сославшись на Бруксия:
– Мой воспитатель учил меня, что у юноши должен быть свой город, иначе он не сможет вырасти настоящим мужчиной. Поскольку у меня больше не было своего города, я чувствовал свободу выбирать, какой мне нравится.
Это была непривычная точка зрения, но я заметил, что госпожа ее одобрила.
– Почему же тогда ты не выбрал богатый город, открывающий большие возможности? Фивы, или Коринф, или Афины? Здесь, в Спарте, ты имеешь лишь черствый хлеб да высеченную спину.
Я ответил поговоркой, которую мне и Диомахе когда-то процитировал Бруксий: что другие города творят памятники и поэзию, а Спарта делает мужчин.
– Это и правда так? – спросила госпожа Арета.– По твоему чистосердечному суждению, теперь, когда ты получил возможность изучить наш город, как все лучшее, так и все худшее в нем?
– Это так, госпожа.
К моему удивлению, эти мои слова как будто бы глубоко ее тронули. Она отвела глаза и несколько раз моргнула. Ее голос, когда она снова заговорила, слегка дрожал от нахлынувших чувств.
– То, что ты слышал о спартиате Идотихиде,– правда. Он был отцом твоего друга Петуха. И не только. Он был моим братом.
Она заметила мое удивление.
– Ты не знал этого?
– Не знал, госпожа.
Она совладала со своим чувством, как я теперь понял, с печалью, которая угрожала вывести ее из равновесия.
– Теперь ты видишь,– сказала госпожа Арета, принужденно улыбаясь,– что этот юноша Петух – в некотором роде мне племянник. А я – его тетя.
Я отпил еще вина. Госпожа улыбнулась.
– Можно мне спросить, почему семья госпожи не взяла Петуха на воспитание, чтобы в будущем сделать его мофаксом?
Так в Лакедемоне называется особая категория людей, «сводные братья», доступная в основном для незаконнорожденных сыновей спартиатов. Мофаксы, несмотря на свое низкое рождение, могли получать воспитание и образование в агоге. Они могли упражняться вместе с сыновьями Равных. Могли даже, если проявят достаточно достоинств и мужества в бою, стать гражданами.
– Я не раз предлагала это твоему другу Петуху,– ответила госпожа. – Он категорически отказывался. Заметив на моем лице недоверие, она добавила:
– Почтительно. Очень почтительно и вежливо. Но решительно и непреклонно.
Госпожа Арета на мгновение задумалась.
– Существует причудливость ума, которая встречается у рабов, особенно у тех, кто происходит из покоренных народов, таких, как этот мальчишка Петух: ведь его мать – мессенийка. Самолюбивые мессенийцы часто подчеркивают свой низкий род – возможно, из злобы или чтобы не показалось, будто бы они заискивают перед высшими, стремясь слиться с ними.
Петух действительно считал себя мессенийцем и яростно это отстаивал.
– Я говорю тебе, дружок, ради тебя же самого, как и ради моего племянника: криптея знает. Они следят за ним с пятилетнего возраста. И за тобой – тоже. Ты хорошо говоришь, обладаешь мужеством и находчивостью. Все это не осталось незамеченным. И скажу тебе кое-что еще. В криптее есть человек, не совсем тебе незнакомый. Это начальник Всадников Полиник. Он без колебания перережет горло предателю-илоту, и я думаю, что твой друг Петух не убежит от олимпийского победителя.
Теперь уже всех девочек сморил сон. Стены дома охватила тревожная тишина.
– Грядет война с персом,– сказала госпожа. Городу дорог каждый воин. Греции дорог каждый воин. Но также важно, и все согласны с этим, что грядущая война станет величайшей в истории и она предоставит великолепную арену для достижения величия. Поле, где мужчина своими поступками сможет проявить благородство, которого был лишен по рождению.
Глаза госпожи встретились с моими и больше от них не отрывались.
– Я хочу, чтобы этот мальчишка Петух был жив, когда начнется война. Я хочу, чтобы ты защитил его: Если твои уши выявят малейший намек на опасность, тишайший слушок, ты должен немедленно явиться ко мне. Ты сделаешь это?
Я пообещал сделать все, что смогу.
– Поклянись..
Я поклялся всеми богами.
Это казалось нелепо. Как мог я противостоять криптее или и какой-либо другой силе, стремящейся,убить Петуха? И все же мое мальчишеское обещание каким-то образом успокоило госпожу. Она долго рассматривала мое лицо.
– Скажи мне, Ксео, – тихо проговорила госпожа Арета,– ты когда-нибудь просишь… ты когда-нибудь просил что-нибудь только для себя?
Я ответил, что не понимаю вопроса госпожи.
– Я велю тебе сделать одну вещь. Ты сделаешь?
Я поклялся, что сделаю.
– Я велю тебе однажды сделать что-то только для себя самого, а не служить кому-то. Ты поймешь, когда настанет такой момент. Обещай мне. Обещай вслух.
– Обещаю, госпожа.
Она встала со спящим ребенком на руках, подошла к колыбели между кроватями других девочек, положила малышку и накрыла мягкими пеленками. Это был знак для меня, что пора уходить. Когда госпожа встала, я уже стоял, как велели правила почтительности.
– Могу я задать один вопрос, прежде чем уйду, госпожа?
Ее глаза блеснули, дразня:
– Дай мне угадать. Твой вопрос о какой-то девушке`? – Нет, госпожа.
Я уже пожалел о своем порыве. Мой вопрос был невозможным, абсурдным. Ни один смертный не мог на него ответить.
Однако это вызвало у госпожи любопытство, и она велела продолжать.
– Вопрос о друге,– сказал я.– Я не могу ответить на него сам, я слишком молод и слишком мало знаю мир. Возможно, ты, госпожа, с твоей мудростью, сможешь ответить. Но обещай не смеяться и не обижаться.
Она согласилась.
– И не передавать его никому, даже твоему мужу.
Она пообещала.
Я набрал в грудь воздуха и ринулся вперед.
– Этот друг… Он верит, что однажды в детстве, когда он был один, на грани смерти, с ним разговаривал Бог. Я медленно поднял голову, выискивая какой-либо признак презрения или негодования. К моему облегчению, госпожа не выразила ни того, ни другого.
– Этот юноша… мой друг… он хочет знать, возможно ли такое. Мог… могло ли божество снизойти до разговора с мальчиком без города и без положения, с ребенком без гроша за душой, не имевшим никакого дара, который он мог бы принести в жертву, и даже не знавшим слов молитвы? Или мой друг плодил фантомы, выдумывал пустые видения от собственного одиночества и отчаяния?
Госпожа спросила, кто именно из богов говорил с моим другом.
– Бог-лучник. Стреловержец Аполлон.
Я съежился. Конечно, госпожа с презрением посмеется над таким дерзким предположением. Мне не следовало и разевать свой поганый рот.
Но она не посмеялась над моим вопросом и как будто бы не сочла его нечестивым.
– Ты и сам вроде бы лучник, насколько я понимаю, и весьма искусный для своих лет. У тебя забрали лук, верно? Его отобрали, когда ты только появился в Лакедемоне? Госпожа заявила, что, несомненно, сама Тихе – богиня удачи – привела меня к ее очагу в эту ночь, поскольку земные богини изобилуют здесь, они совсем рядом. Она чувствует их близость. Мужчины живут своим умом, сказала госпожа, а женщины – своей кровью, которая приливает и убывает, как фазы луны.
– Я не жрица. Я могу ответить лишь от женского сердца, которое интуитивно чувствует и различает правду внутри.
Я ответил, что именно этого и хочу.
– Скажи своему другу так,– ответила госпожа,– что все виденное им – правда. Он действительно видел Бога.
Из глаз у меня вдруг хлынули слезы. Меня неожиданно переполнили чувства. 3акрыв лицо руками, я зарыдал, омертвев от такой потери самообладания и удивляясь силе неизвестно откуда взявшейся страсти. Я уткнулся лицом в ладони и захлёбывался, как ребенок. Госпожа подошла ко мне и ласково обняла, гладя по плечу, как мать.
Через несколько мгновений я овладел собой и попросил прощения за свое постыдное поведение. Но госпожа не слушала. Она объявила, что этот прилив чувств был священным, он был вдохновлен небесами и в нем не следует раскаиваться и извиняться за него не следует тоже. Она встала в дверном проеме. Через открытую дверь падал свет звезд, и слышалось журчание фонтана во дворе.
– Мне бы хотелось узнать твою мать,– сказала госпожа Арета, ласково глядя на меня.– Возможно, она и я когда-нибудь встретимся – там, за рекой. И тогда мы поговорим о ее сыне и о той доле несчастий, что боги послали ему.
На прощание она коснулась моего плеча.
– Ступай и скажи своему другу так: он может снова приходить со своими вопросами, если захочет. Но в следующий раз он должен прийти сам. Мне хочется взглянуть в лицо мальчику, который сидел и болтал с Сыном 3евса.
Глава четырнадцатая
На следующий вечер Александр и я огребли свою порку за Антирион. Поркой Александра руководил его же отец, Олимпий, в присутствии Равных своей сисситии. Меня без церемоний секли в поле илоты-землекопы. Потом в темноте Петух помог мне спуститься к Эвроту, в рощу, прозванную Наковальней, чтобы омыть и перевязать исполосованную спину. Это место было посвящено Деметре Полевой, и обычай выделил его мессенийским илотам. Когда-то там располагалась кузница, откуда взялось и имя.
К моему облегчению, Петух не обличал меня, как обычно, за рабскую жизнь, а ограничил свои диатрибы наблюдением, что Александра выпороли, как мальчишку, а меня – как собаку. Он был добр ко мне, а что важнее – умел промывать и перевязывать те особые раны, что оставляет сучковатая розга на голой спине.
Сначала вода, и в большом количестве, я по шею погрузился в ледяной поток. Петух поддерживал меня сзади, просунув руки мне под мышки, поскольку шок от ледяной воды на обнаженных рубцах редко кого оставлял в чувствах. Холод быстро притупляет боль, и потому примочки из отвара крапивы и нессова корня можно вытерпеть. Это останавливает кровь и помогает быстрому заживлению ран. Перевязка шерстяной или льняной тканью на этом этапе была бы невыносима, как осторожно ни бинтуй. Но голая ладонь друга, приложенная сначала слегка, а потом плотно к трепещущей плоти, приносит облегчение, близкое к экстазу. Петух перенес на своем недолгом веку немало порок и потому хорошо знал, чем можно помочь.
Через пять минут я сумел встать. Через пятнадцать моя кожа смогла соприкоснуться с мягким белым торфяным мхом, который Петух прижал к кровоточащей плоти, чтобы облегчить боль и высосать яд.
– Боги, живого места не осталось,– заметил Петух. Ты еще месяц не будешь горбиться под щитом этого гимнопевца.
Он все еще отпускал ядовитые обличения по адресу моего молодого хозяина, когда с берега над нами донесся какой-то шорох. Мы оба обернулись, ожидая чего угодно.
Это оказался Александр. Он вышел под платаны, его плащ был задран, оставляя взлохмаченную спину голой. Мы с Петухом замерли. Александр мог заработать новую порку, если бы в этот час его застали здесь – вместе с нами.
– Вот,– сказал он, съезжая к нам по склону.– Я залез в ящик лекаря.
Это была мазь из мирры. Щепотка, завернутая в зеленые рябиновые листья. Он шагнул к нам в речку.
– Что это ты приложил к его спине? – спросил Александр у Петуха, который в полном изумлении отступил в сторону.
Мирру Равные прикладывали к полученным в бою ранам, когда могли достать ее, что случалось крайне редко. Они бы забили Александра до полусмерти, если бы узнали, что он стащил эту драгоценную щепотку.
– Помажь этим, когда снимешь мох,– велел он Петуху,– а к рассвету хорошенько смой. Если кто-нибудь унюхает, от наших спин мало что останется.
Александр вложил свернутые листья Петуху в руки.
–Я должен вернуться до переклички,– сказал он и через мгновение уже растворился в темноте на берегу, послышались лишь его удаляющиеся шаги, когда он бежал обратно к ночлегу юношей вокруг Площади.
– Ну-ка, наклонись ко мне и поддержи меня, а то я лишусь чувств,– сказал Петух, качая головой.– у этого маленького шалопая духу больше, чем я думал.
На рассвете, когда мы построились на жертвоприношение, Самоубийца, скиф-оруженосец Диэнека, вызвал нас с Петухом из строя. Мы побелели от страха, что-то за нами подсмотрел, и теперь, несомненно, нам мало не покажется.
– Вы, маленькие комочки дерьма, похоже, плывете под счастливой звездой,– только и сказал Самоубийца.
Он отвел нас за строй. Там, в предрассветных сумерках, один, молча, стоял Диэнек. Мы заняли почтительные места слева, и со стороны щита я от него. Зазвучали свирели, и строй двинулся прочь. Диэнек сделал знак, чтобы Петух и я остались.
– Я наводил справки о тебе,– обратился ко мне Диэнек. Это были его первые прямые слова ко мне, не считая приказа две ночи назад следовать за слугой к нему домой. Илоты сообщили, что для полевых работ ты не годишься. Я наблюдал за тобой на жертвенных упражнениях – ты даже не можешь перерезать горло козе, как положено. А по твоему поведению с Александром ясно, что ты подчинишься любому приказу, самому безумному и абсурдному.– Он сделал мне знак повернуться, чтобы осмотреть мою спину. Кажется, твой единственный талант – быстро залечивать раны.
Он нагнулся, понюхал мою спину и пробормотал:
– Если бы не знал, я бы поклялся, что эти рубцы смазали миррой.
Самоубийца пинком повернул меня обратно, лицом к Диэнеку.
– Ты оказываешь нехорошее влияние на Александра, обратился ко мне Равный.– Мальчишке не нужен другой мальчишка, и уж определенно не такой искатель неприятностей, как ты. Ему нужен взрослый мужчина, кто-нибудь достаточно авторитетный, чтобы остановить его, когда ему в голову взбредет какое-нибудь новое сумасбродство вроде похода вслед за войском. Поэтому я вверяю его своему человеку.– Он кивнул на Самоубийцу.– А ты больше не служишь у Александра.
О боги! Обратно в навоз!.. Диэнек повернулся к Петуху:
– И ты – тоже. Сын героя-спартиата, а не можешь даже принести жертвенного петуха, не задушив его в руках. Ты жалок. Твой рот распущеннее, чем коринфская задница, и ведет предательские речи каждый раз, когда ты его разеваешь. Я бы сделал тебе любезность, перерезав твою глотку, чтобы не беспокоить криптею.
Он напомнил Петуху про оруженосца Олимпия Мериона, так благородно павшего на прошлой неделе под Антирионом. Никто из нас не мог взять в толк, к чему он клонит.
– Олимпию за пятьдесят, он обладает большим благоразумием и осмотрительностью. Его новый оруженосец должен уравновесить это своей молодостью. Новым оруженосцем должен стать кто-то зеленый, сильный и безрассудный.– Диэнек с насмешливым презрением посмотрел на Петуха.– Одни боги знают, какое безумие обуяло его, но Олимпий выбрал тебя. Ты займешь место Мериона. Будешь служить Олимпию. Иди представься Олимпию сейчас же. Теперь ты его первый оруженосец.
Я видел, как хлопает глазами Петух. Несомненно, это шутка.
– Это не шутка,– сказал Диэнек,– и тебе лучше не превращать это в шутку. Ты будешь ходить по пятам за человеком, который лучше половины Равных во всей море. Только поморщись, и я лично зажарю тебя на вертеле.
– Я не морщусь, господин.
Диэнек смотрел на него несколько долгих, нелегких секунд.
– 3аткнись и уматывай отсюда.
Петух бегом бросился за строем. Признаюсь, я до тошноты завидовал ему. Первый оруженосец Равного, да еще птолемарха и товарища царя по шатру. Я возненавидел Петуха за его тупое, слепое везение.
А слепое ли это везение? Когда я обернулся, онемев от зависти, в уме у меня промелькнул образ госпожи Ареты. 3а всем этим стояла она. Мне стало еще хуже, и я горько сожалел, что признался ей в явлении мне Стреловержца Аполлона.
– Дай-ка посмотреть на твою спину,– велел Диэнек.
Я снова повернулся, и он одобрительно присвистнул. – Клянусь Зевсом, если бы полосование спин включили в Олимпийские игры, ты бы был фаворитом.
Диэнек развернул меня к себе лицом, и я вытянулся перед ним. Он задумчиво посмотрел на меня, и его взгляд словно проникал сквозь меня до самого позвоночника.
– Требования к хорошему боевому оруженосцу довольно просты. Он должен быть туп, как мул, бесчувствен, как столб, и послушен, как дурак. Я заявляю, что в этих качествах ты, Ксеон из Астака, безупречен.
Самоубийца мрачно хмыкнул и что-то вытащил из колчана у себя на спине.
– Ну-ка, посмотри,– велел Диэнек. Я поднял глаза.
В руке у скифа был лук. Мой лук. Диэнек велел мне взять его.
– Ты еще недостаточно силен, чтобы быть моим первым оруженосцем, но если будешь думать головой, а не задницей, то сможешь стать каким-никаким вторым.
Самоубийца вложил мне в руку лук – большой лук, оружие фессалийского конника, который у меня отобрали, когда мне было двенадцать и я впервые оказался в пределах Лакедемона.
Я не смог сдержать дрожь в руках. Я почувствовал теплую ясеневую дугу, и из ладони по всей моей руке до плеча протек живой ток.
– Соберешь мой паек, постель и медицинский набор, велел мне Диэнек.– Будешь готовить пищу для других оруженосцев и охотиться для меня во время учений в Лакедемоне и в походе за его пределами. Согласен?
– Да, господин.
– Можешь охотиться на зайцев для себя, но не щеголяй своей удачей.
– Не буду, господин.
Он посмотрел на меня с тем же насмешливым удивлением, которое я раньше видел на его лице издали и которое еще много раз мне предстояло увидеть вблизи.
– Кто знает,– сказал мой новый хозяин,– если повезет, ты сможешь даже издали выстрелить по врагу.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ АРЕТА
Глава пятнадцатая
В следующие пять лет лакедемонское войско двадцать один раз отправлялось в поход, и всегда против других греческих городов. Тот заряд воинственности, что Леонид приобрел после Антириона, чтобы сфокусироваться на персе, теперь нашел выход в необходимости направить силы на более непосредственные цели – на те города Эллады, которые вероломно склонялись к предательству, заключая союз с захватчиками, чтобы спасти свои собственные шкуры.
Это были могущественные Фивы, чьи изгнанные аристократы непрестанно плели заговоры при Персидском дворе, стараясь вернуть себе господство в своей же стране, продав ее врагу.
Это был завистливый Аргос, злейший и ближайший соперник Спарты, чью знать открыто обхаживали агенты Великого Царя. Македония под властью Александра (Понятно, речь идет не об Александре 3 Великом, а об Александре I) давно выражала знаки покорности Персии. Афины изгнали аристократов, которые теперь тоже обосновались в персидских чертогах, замышляя восстановление собственной власти под крылом у персов.
Сама Спарта тоже не была свободна от предательства. Ее изгнанный царь Демарат проводил свое изгнание среди сикофантов, окружавших Великого Царя. Чего же еще мог желать Демарат, кроме возвращения к власти в Лакедемоне в качестве сатрапа и ставленника Владыки Востока?
На третий год после Антириона Дарий Персидский умер. Когда весть об этом достигла Греции, в свободных городах вновь зажглась надежда. Возможно, теперь перс отменит свои военные приготовления. Со смертью царя не рассеется ли войско Великой Державы? Не забудет ли перс свою клятву покорить Элладу?
И тогда на трон взошел ты, Великий Царь. Вражеское войско не рассеялось. Вражеский флот не пришел в упадок.Вместо этого военные приготовления в Великой Державе удвоились. В груди Великого Царя разгорелось рвение только что коронованного принца. Ксеркса, сына Дария, история не поставит ниже его отца или других блестящих предков – Камбиса и Кира Великого. К ним, завоевателям и поработителям Азии, в своей славе присоединится и Ксеркс, их отпрыск, который теперь к списку провинций Великой Державы добавит Грецию и Европу.
В Грецию, подобно подкопу, проникал фобос. Тихим утром, понюхав пыль из этого туннеля, можно было ощутить, как с неслышным шорохом он шаг за шагом распространялся, пока все спали. Из всех могущественных греческих городов только Спарта, Афины и Коринф сохранили твердость. Они направляли посольство за посольством в колеблющиеся полисы, стремясь присоединить их к союзу. Мой хозяин за один сезон участвовал в пяти заморских миссиях. Я блевал за борт стольких кораблей, что уже не могу отличить одну посудину от другой.
Куда бы ни прибывали эти посольства, везде их опережал фобос. Страх лишал людей рассудка. Многие продавали все свое имущество; другие, более беззаботные, покупали.
– Пусть Ксеркс прибережет свой меч и вместо этого пошлет свой кошелек,– с отвращением заметил мой хозяин после очередного неудачного посольства.– Греки передавят друг друга, стремясь посмотреть, кто первым продаст свою свободу.
Во время всех этих поездок часть моего сознания неустанно прислушивалась в ожидании каких-нибудь сведений о моей двоюродной сестре. Три раза в течение моего семнадцатого года жизни служба приводила меня в Афины, и каждый раз я пытался отыскать дом той благородной дамы, которую мы с Диомахой встретили в то утро у Трех Дорог, когда эта добрая госпожа велела Дио найти ее поместье и поступить к ней на службу. В конце концов мне удалось разыскать квартал и улицу, но дом я так и не нашел.
Однажды в зале Афинской Академии появилась прелестная молодая женщина лет двадцати, хозяйка приема, какое-то мгновение я был уверен, что это Диомаха. Мое сердце заколотилось так неистово, что мне пришлось опуститься на одно колено от страха упасть в обморок. Но это казалась не она. Не ею оказалась и другая молодая госпожа, которую я мельком увидел через год на Наксосе, когда она несла воду из родника. Не ею оказалась и жена врача, встреченная мною под аркадой в Гистиэе еще через шесть месяцев.
В один палящий летний вечер за два года до сражения у Ворот корабль с посольством моего хозяина ненадолго зашел в афинский порт Фалерон. Наша миссия закончилась, и у нас оставалось два часа до возвращения прилива. Мне было дозволено отлучиться, и наконец я нашел дом семейства той госпожи, что мы встретили у Трех Дорог. Место было заброшено. Фобос погнал все семейство в их владения в Япигии – во всяком случае, так мне сказали в слонявшемся неподалеку отряде скифских лучников, этих головорезов, нанятых афинянами для поддержания порядка в городе. Да, эти скоты запомнили Диомаху. Как можно ее забыть? Они приняли меня за еще одного ухажера и разговаривали со мной на грубом уличном жаргоне.
– Птичка упорхнула,– сказал один.– Слишком уж дикая для клетки.
Другой заявил, что после встречал ее – на рынке вместе с мужем, афинским гражданином, служившим на флоте. – Глупая сука,– рассмеялся он.– Связаться с любителем соли, когда могла бы получить меня!
Вернувшись в Лакедемон, я решил выкорчевать из сердца эту дурацкую тоску, как крестьянин выжигает упрямый пень. Я сказал Петуху, что мне пора найти невесту, и он подыскал – свою двоюродную сестру Ферею, дочь сестры его матери. Мне было восемнадцать, ей – пятнадцать, когда мы соединились по мессенийскому обряду, как заведено у илотов. Через десять месяцев она родила мне сына, а потом еще дочь, когда я был в походе.
Став мужем, я дал себе клятву больше не думать о своей двоюродной сестре. Вырву с корнем свои нечестивые мысли и больше не буду жить фантазиями.
Годы пролетели быстро. Александр закончил свое обучение в агоге, ему вручили боевой щит, и он занял свое место среди Равных в войске. И взял в жены девушку Агату, как и обещал. Она родила ему двойню – мальчика и девочку, когда ему еще не исполнилось и двадцати.
Полиник второй раз был увенчан на Олимпийских играх, снова за бег в вооружении. Его жена Алтея родила ему третьего сына.
Госпожа Арета больше не подарила Диэнеку детей. После четырех дочек она больше не могла рожать, так и не произведя на свет наследника.
Жена Петуха Гармония родила второго ребенка, мальчика, которому дали имя Мессений. Госпожа Арета присутствовала при его рождении. Она привела собственную повитуху и собственноручно помогала при родах. Я нес факел, сопровождая ее домой. Госпожа ничего не говорила – так разрывалась она между радостью о том, что засвидетельствовала наконец в собственном роду рождение мальчика, защитника Лакедемона, и печалью. Этот мальчик, отпрыск Петуха незаконнорожденного сына ее брата, из-за крамольной дерзости Петуха и выбранного им для сына имени столкнется со многими опасностями на жизненном пути, прежде чем станет мужчиной.
Персидские полчища уже были в Европе. Построив мост через Геллеспонт, они заняли всю Фракию. А греческие союзники продолжали пререкаться. Войско из десяти тысяч гоплитов под командованием спартанца Эванета направилось к Темпе, в Фессалию, чтобы воспрепятствовать вторжению на самой северной границе Греции. Но когда войско прибыло на место, позиция оказалась негодной для обороны. Ее можно было обойти по суше через Гоннский проход, а по морю – через Авлис. Со стыдом и унынием десятитысячное войско отступило, и его воины разошлись по родным городам.
В Греческом Совете всех охватил паралич отчаяния. Покинутая Фессалия отошла к персу, добавив к силам противника свою несравненную конницу. Фивы колебались, готовые признать власть Великого Царя. Аргос занял выжидательную позицию. Появилось множество дурных знамений и примет. Оракул Аполлона в Дельфах посоветовал афинянам: «Летите на край земли», в то время как спартанский Совет старейшин, печально знаменитый своей медлительностью, колебался и терял время. Где-то нужно было держать оборону. Но где?
В конце концов спартанские женщины вернули спартанцев к жизни и заставили действовать. Произошло это примерно так.
Последний из трех свободных городов наводнили беженцы, среди них было много молодых женщин с грудными младенцами. Молодые матери бежали в Лакедемон; островитяне и их родственники спасались от персидского вторжения через Эгейское море. Эти женщины воспламенили в слушателях ненависть к врагу своими рассказами о творимых им зверствах. Беженки рассказывали, как на Хиосе, Лесбосе и Тенедосе враги построились цепью на берегу и пошли по всему острову, прочесывая каждый закоулок, вылавливая мальчиков и сгоняя самых красивых вместе, чтобы кастрировать и сделать евнухами; как убивали они мужчин и насиловали женщин, как угоняли их, чтобы продать в рабство на чужбине. Эти персидские герои разбивали детские головки об стену, разбрызгивая мозги по мостовой.
Спартанские жены с ледяным гневом слушали эти рассказы, прижимая к груди собственных детей. Персидские орды уже шли через Фракию и Македонию. Детоубийцы стояли на пороге Греции – а где же была тогда Спарта со своими воинами-защитниками? Воины, не пролив ни капли крови, разбрелись по домам после дурацкого похода к Темпе.
Я никогда не видел город в таком состоянии, как после этой катастрофы. Герои, награжденные за доблесть, попрятались, со стыдом потупив глаза, а женщины презрительно шпыняли их и держались с ними холодно и пренебрежительно. Как могло случиться то, что произошло у Темпе? Любое сражение, пусть даже проигранное, было предпочтительнее, чем вообще никакого Собрать такое великолепное войско, украсить венками в честь богов, пройти такой путь – и не пролить крови, ни капли! Это не просто позор, объявили жены, это святотатство.
Женское презрение задело спартанцев. Делегации жен и матерей являлись к эфорам, настаивая, чтобы в следующий раз их самих послали навстречу врагу, со шпильками и прялками, и уж, конечно, спартанские женщины не опозорятся так скандально и сделают не меньше, чем эти хваленые десять тысяч воинов.
На воинских трапезах настроение было еще более критическим. Сколько еще будет колебаться Совет Союза? Сколько еще будут медлить эфоры?
Я живо вспоминаю то утро, когда наконец пришло воззвание. Лох Геракла в тот день проводил учения в пересохшем русле реки, прозванном Коридором, – в обжигающей воронке между песчаными склонами к северу от деревни Лимны. Воины отрабатывали ближний бой – двое против одного и трое против двоих,– когда известный старейшина по имени Харилай, бывший раньше эфором и жрецом Аполлона, но теперь действовавший в основном как старший советник и эмиссар, появился на гребне склона и отозвал в сторону полемарха Деркилида, командовавшего лохом. Старику уже перевалило за семьдесят, в былые годы он потерял в бою ногу ниже колена. Уже одно то, что он приковылял со своим посохом в такую даль от города, могло означать, что случилось нечто серьезное.
Патриарх и полемарх поговорили наедине. Учения продолжались. Никто не смотрел наверх, но все понимали: ВОТ ОНО.
Воины Диэнека получили сообщение от Латерида, начальника соседней эномотии, который пустил весть по линии:
– Ворота, ребята. Горячие Ворота. Фермопилы.
Никакого собрания не созывалось. Ко всеобщему удивлению, лоху дали отдых. Воинам дали отпуск на целый день.
Такой праздник на моей памяти устраивался лишь с дюжину раз, и неизменно Равные радостно бросались по домам Но на этот раз никто не шелохнулся. Весь лох стоял, словно пригвождённый к земле, в знойной тесноте пересохшего русла, и гудел, как улей.
Сообщение было такое.
Четыре моры, пять тысяч воинов, отправляются к Фермопилам. Колонна, усиленная периэками, оруженосцами и вооруженными илотами, по два илота на воина, выступает, как только истекает Карнея – праздник Аполлона, запрещающий брать оружие. Через две с половиной недели.
Силы общей численностью до двадцати тысяч человек, вдвое больше, чем при Темпе, сконцентрируются в проходе.
Еще от тридцати до пятидесяти тысяч союзной пехоты будет мобилизовано в тылу этих первоначальных сил, в то время как главные силы союзного флота, сто двадцать боевых кораблей, блокируют Эврипский пролив у Артемизия и Андроса, защищая войско у Ворот от удара во фланг с моря.
Массовый призыв был неизбежен. И Диэнек, и остальные понимали это.
Мой хозяин отправился назад в город в сопровождении Александра, теперь уже полноправного рядового эномотии, его товарища Биаса, Черного Льва и трех оруженосцев. Пройдя треть пути, мы догнали старейшину Харилая, ковылявшего домой с мучительной медлительностью. Старика поддерживал его спутник Сфенисф, такой же древний. Черный Лев вел в поводу обозного осла; он настаивал, чтобы старик ехал верхом. Харилай отказался, но велел занять это место своему слуге.
– Дадите нам выбраться из дерьма, дед? – обратился Диэнек к государственному мужу. Как истинный воин, он желал услышать правду.
– Я передаю лишь то, что велено, Диэнек.
– Ворота не вместят пятьдесят тысяч. Они не вместят и пяти.
Старик скривился, отчего его лицо все покрылось морщинами.
– Вижу, ты мнишь себя полководцем выше Леонида.
Но факт был очевиден даже оруженосцам. Персидское войско стояло теперь в Фессалии. Это днях в десяти пути от Ворот? Или меньше? Через две с половиной недели миллионы вражеских воинов пройдут теснину и еще стадиев семьсот. Они окажутся на пороге нашего дома.
– Сколько человек в передовом отряде? – спросил старейшину Черный Лев.
Он имел в виду передовые части спартанцев, которые, как всегда перед мобилизацией, сразу будут направлены к Фермопилам, чтобы занять проход, пока туда не подошли персы и прежде чем выступят главные силы союзного войска.
– Узнаешь завтра от Леонида,– ответил старик, но, видя обеспокоенность младшего, смягчился: – Триста. Только Равные. Только отцы.
У моего хозяина была привычка плотно стискивать:зубы; так он сжимал их, когда был ранен в бою и не хотел, чтобы товарищи поняли, как ему плохо. И вот теперь он стиснул зубы.
«Только отцы» – это означало: только отцы живых сыновей.
Такое делалось для того, чтобы, если воин погибнет, его род не прервался.
Отряд «только отцов» был отрядом самоубийц.
Сила, которую посылали стоять насмерть.
Моими обычными обязанностями по возвращении с учений было почистить и уложить хозяйское облачение и вместе со слугами трапезной проследить за приготовлением ужина. Но в тот день Диэнек попросил у Черного Льва, чтобы его оруженосец поработал за двоих. Мне же он приказал отправляться вперед, бегом, к нему домой. Мне поручалось сообщить госпоже Арете, что лох на день отпустили по домам и что скоро ее муж придет. Мне поручалось от его имени передать ей приглашение: не составит и она с дочерьми ему компанию на прогулке по холмам?
Я побежал вперед, доставил сообщение, и меня отпустили. Однако какой-то импульс заставил меня задержаться.
С холма над хижиной моего хозяина я видел, как его дочери выскочили из ворот и с нетерпением бросились поприветствовать отца на дороге. Арета приготовила корзину с фруктами, сыром и хлебом. Все были босы, в больших мягких шляпах.
Я видел, как мой хозяин отвел жену под дубы, и там они вдвоем недолго о чем-то говорили. Что-то из сказанного им вызвало у нее слезы, и она обеими руками страстно обняла мужа за шею. Диэнек сначала как будто сопротивлялся, но через мгновение уступил и нежно прижал жену к себе.
Девочки шумели – им не терпелось идти дальше. Под ногами визжали два щенка. Диэнек и Арета разорвали объятия. Я видел, как мой хозяин поднял свою младшую, Элландру, и посадил ее себе на плечи. Потом, когда они двинулись в путь, он взял за руку вторую девочку, Алексу. Жизнерадостные девочки веселились, а Диэнек с Аретой были грустны.
Никакие главные силы не будут посланы в Фермопилы, это лишь сказка для толпы.
Будут посланы только триста – с приказом стоять насмерть.
Диэнека среди них не будет, у него не было сына.
Его не могли выбрать.
Глава шестнадцатая
Теперь я должен рассказать про вооруженное столкновение, случившееся за несколько лет до того. Его последствия оказали сильное влияние на нынешнюю жизнь Диэнека, Александра, Ареты и прочих героев моего рассказа. Это случилось при Энофите, в походе против фиванцев, через год после Антириона.
Я имею в виду необычайный героизм, проявленный в том бою моим товарищем, Петухом. Как и мне в то время, ему было всего пятнадцать, и первым оруженосцем Олимпия, отца Александра, он, совсем еще зеленый, не прослужил и двенадцати месяцев.
Два войска столкнулись. Моры Менелая, Полия и лох Дикой Оливы сошлись в яростной борьбе с левым флангом фиванцев, которые выстроили двадцать рядов в глубину вместо обычных восьми и теперь с ужасным упорством удерживали позицию. Положение ухудшалось еще и тем, что строй противника примерно на стадий выходил за спартанский правый край, и этот излишек начал заворачивать внутрь и наступать, заходя Менелаю во фланг. В это время вражеский правый фланг, понеся самые серьезные потери, сломал строй и бросился на еще сплоченные ряды своего тыла. Вражеский правый край в панике рухнул, в то время как левый наступал.
Среди этой сутолоки Олимпий был тяжело ранен, получив в сгиб ступни удар нижним шипом на комле вражеского копья. Это произошло, как я уже сказал, в момент величайшей сумятицы на поле боя, когда правый фланг противника рухнул и спартанцы бросились в преследование, в то время как левый фланг врагов шел в атаку, поддержанный многочисленной конницей, рванувшейся, не встречая сопротивления, в образовавшуюся брешь.
Олимпий оказался один в открытой «зоне добивания» позади катящейся вперед битвы. Раненая нога сделала его калекой, в то время как шлем с поперечным гребнем неодолимо привлекал героев из вражеской конницы.
К нему устремились трое фиванских всадников.
Петух, безоружный и без доспехов, бросился очертя голову в гущу битвы, по пути прихватив воткнутое в землю копье. Метнувшись к Олимпию, он не только прикрыл хозяина щитом от вражеских дротиков, но и сам одной рукой разил противников, ранив и свалив копьем на землю двоих и проломив голову третьему его же шлемом, который в безумии голыми руками сорвал у противника с головы. Петуху даже удалось поймать лучшую из трех вражеских лошадей – великолепного боевого скакуна, с помощью которого он вывез потом Олимпия с поля боя.
Когда войско вернулось из похода, весь город говорил о подвиге Петуха. Равные долго обсуждали открывавшиеся перед ним перспективы. Что делать с этим мальчишкой? Все вспомнили, что его матерью была мессенийская илотка, а отцом – спартиат Идотихид, брат Ареты, герой, павший в битве при Мантинее, когда Петуху было два года.
У спартанцев, как я уже отмечал, имелась категория молодых воинов, класс «сводных братьев», называемый мофаксами. Бастардов вроде Петуха и даже законнорожденных сыновей Равных, по несчастью или по бедности лишившихся гражданства, могли, если сочтут достойными, выдернуть из их стесненных обстоятельств и повысить до этого статуса.
Такую честь предложили Петуху.
Он отказался.
Его доводом было то, что ему уже пятнадцать лет. Для него эта честь запоздала. Он предпочитает и дальше служить оруженосцем.
Этот отказ от великодушного предложения разгневал Равных из сисситии Олимпия и вызвал негодование во всем городе – негодование, какое только может вызвать дело илота. Делались даже заявления, что этот неблагодарный своевольник давно известен своими мятежными настроениями. Он принадлежит к нередкому среди рабов типу гордецов и упрямцев. Считает себя мессенийцем. Его надо или уничтожить вместе со всей его семьей, или затоптать за несомненную измену спартанскому делу.
В тот раз Петух избежал смерти от рук криптеи в большей степени благодаря своей молодости и заступничеству Олимпия, который наедине поговорил с Равными. Дело притихло, однако через какое-то время разгорелось вновь. В последующих походах Петух снова и снова оказывался самым смелым и отважным из всех молодых оруженосцев, превзойдя в войске всех, кроме Самоубийцы, Циклопа, главного претендента на олимпийскую победу в пентатлоне Пафея и оруженосца Полиника – Аканфа.
И вот персы стояли на пороге Греции. Теперь отбирали трехсот для посылки к Фермопилам. Самым заметным среди них был Олимпий с оруженосцем Петухом за спиной. Можно ли доверять этому склонному к измене юнцу? С клинком в руке да еще на пядь шире полемарха в плечах?
В этот отчаянный час Спарта меньше всего нуждалась в домашних неприятностях с илотами. Город бы не вынес бунта, даже неудачного. Двадцатилетний Петух к тому времени приобрел популярность среди мессенийских рабочих, земледельцев и виноградарей. Для них он был героем – юноша, который мог воспользоваться своим мужеством в бою как пропуском на свободу. Он мог бы носить спартанский алый плащ и распоряжаться своими низкородными братьями, но оказался выше этого. Он называл себя мессенийцем, чего не забывали его товарищи. Кто знает, сколько из них хотели бы подражать ему? Сколько жизненно необходимых городу ремесленников и подмастерий, оружейников и носильщиков, оруженосцев и доставщиков провизии? Говорят, что нет худа без добра и в любом несчастье кто-то найдет свою выгоду, но для илотов персидское нашествие могло оказаться самым лучшим вариантом. Ведь для них оно означало бы освобождение. Сохранят ли они верность? Как ворота могучей крепости, поворачивающиеся на одной закаленной петле, чувства многих мессенийцев сфокусировались на Петухе в готовности воспринять его сигнал.
Стояла ночь накануне объявления списка Трехсот. Петуха вызвали предстать на сисситии Беллерофона, где старшим был Олимпий. Там, официально и доброжелательно, ему еще раз предложили честь надеть спартанский алый плащ.
И снова он пренебрег предложением.
В тот час я специально слонялся перед трапезной Беллерофона, чтобы увидеть, как обернется дело. Не требовалось большого воображения, чтобы по донесшемуся изнутри гулу негодования и скорому молчаливому уходу Петуха понять всю серьезность создавшейся ситуации и ее опасность. Поручение хозяина задержало меня почти на час, но в конце концов мне удалось вырваться.
Рядом с Малым кругом, где стоит будка участников соревнований, есть роща с пересохшим ручьем, разделяющимся на три рукава. Там Петух, я и другие юноши обычно встречались и даже приводили девушек. Если тебя обнаружат, можно легко шмыгнуть в темноту по одному из трех русел. Я знал, что найду Петуха там,– и нашел. К моему удивлению, с ним был Александр. Они спорили. Через несколько мгновений я понял, что это спор между предлагающим дружбу и тем, кто ее отвергает. Поразительно: Александр искал дружбы Петуха. Если бы его застали тут сразу после посвящения в воины, у него были бы сокрушительные неприятности. Когда я несся в тени пересохшего ручья, Александр упрекал Петуха и называл дураком.
– Теперь тебя убьют, как ты не понимаешь?
– Плевать! Плевал я на них на всех.
– Прекратите! – Выскочив из темноты, я встал между ними. Я повторил то, что все мы трое и так знали: что популярность Петуха среди простого люда не позволяет ему действовать самостоятельно, что он должен учитывать последствия для своей жены, сына и дочери, своей семьи. А теперь он погубил себя и их вместе с собой. Криптея прикончит его этой же ночью, и Полиник будет этому очень рад.
– Он не поймает меня, если меня здесь не будет. Петух решил бежать этой же ночью в храм Посейдонаса Тенаре, где илот мог получить убежище.
Он хотел взять меня с собой. Я сказал, что он сошел с ума.
– О чем ты думал, когда отказался от их предложения? Тебе предлагали честь.
– Плевал я на их честь! Теперь за мной охотится криптея – в темноте, исподтишка, как трусы. Это и есть их хваленая честь?
Я сказал, что его рабская гордость дала ему пропуск в подземное Царство мертвых.
– Заткнитесь, оба!
Александр велел Петуху отправляться в свою скорлупу – так спартанцы называют убогие хижины илотов.
– Если собираешься бежать – беги сейчас!
Мы бросились прочь по темному руслу ручья. Гармония уже запеленала обоих детей Петуха, дочь и сына. В дымной тесноте илотской скорлупы Александр пихнул в руку Петуха горсть эгинских оболов – все, что у него было, чтобы хоть как-то помочь в пути.
Этот жест тронул Петуха, и он не мог вымолвить ни слова.
– 3наю, ты меня не уважаешь,– сказал Александр. Считаешь, что превосходишь меня во владении оружием, в силе и отваге. Что же, это так. Боги свидетели – я старался всеми фибрами своего существа, и все же я и вполовину не стою тебя как боец. Ты должен быть на моем месте, а я – на твоем. Только по слепой несправедливости богов ты раб, а я свободный.
Эти слова совершенно обезоружили Петуха. Можно было заметить, что воинственность в его глазах поугасла, а его гордая заносчивость поубавилась и притихла.
– В тебе больше отваги, чем когда-либо будет у меня, ответил бастард,– потому что ты рождаешь ее из нежного сердца, в то время как в меня боги вдавливали ее, пиная и колотя с самой колыбели. И тебе делает честь твоя откровенность. Ты прав: я презирал тебя. До этого момента.
Тут Петух взглянул на меня, и я увидел замешательство в его взгляде. Он был тронут прямотой Александра, и она склоняла его сердце остаться и даже согласиться на предложение. Однако усилием воли он стряхнул чары. – Но ты не заставишь меня изменить решение, Александр. Пусть придет перс. Пусть он перемелет в пыль весь Лакедемон. Я спляшу на его могиле.
Мы услышали, как у Гармонии перехватило дыхание. Снаружи пылали факелы. Хижину окружили тени. Кто-то сорвал занавес из одеяла. В дверном проеме высился Полиник в доспехах, а за спиной у него маячили четверо убийц из криптеи. Они были молоды, атлетически сложены, почти как олимпионик, и безжалостны, как железо.
Спартанцы ворвались и веревкой связали Петуха. Мальчик на руках у матери заплакал. Бедной Гармонии едва исполнилось семнадцать лет, она дрожала и кричала, в страхе прижимая дочь к себе. Полиник презрительно наблюдал.
Его взгляд перебежал с Петуха, его жены и детей на меня, потом с пренебрежением – на Александра.
– Я мог догадаться, что увижу тебя здесь.
– А я – тебя,– ответил юноша.
На его лице была написана откровенная ненависть к криптее.
Полиник отнесся к Александру и его чувствам с еле сдерживаемой яростью.
– Твое присутствие здесь, в этих стенах, уже само по себе является изменой. Ты это знаешь, и эти – тоже. Только из уважения к твоему отцу я говорю на этот раз: уходи. Уходи немедленно, и больше я ничего не скажу. На рассвете четырех илотов не досчитаются.
– Я не уйду,– ответил Александр. Петух плюнул.
– Убей нас всех! – потребовал он у Полиника.– Покажите нам спартанскую доблесть, вы, трусы, что прячутся по ночам.
Удар кулака по зубам заставил его замолчать.
Я видел, как схватили Александра, и почувствовал, как хватают меня. Ремни стянули мне запястья, льняной кляп заткнул глотку. Криптеи схватили и Гармонию с детьми.
– Выводи всех,– приказал Полиник.
Глава семнадцатая
На склоне за трапезной Девкалиона есть роща, где обычно охотники натаскивают собак, прежде чем идти на охоту. Там через несколько минут собрался самосуд.
Место это зловещее. Под дубами тянутся грубые клетки, а под навесами кормушек висят сетки для дичи и охотничье снаряжение. Кухни для трапез хранят свои мясницкие орудия в нескольких пристройках под двойным запором. 3а внутренней дверью висят топоры и ножи – для потрошения, для разделки, для разрубания костей. Вдоль стены тянется почерневшая от крови разделочная доска для дичи и домашней птицы, где отрубают птичьи головы и бросают в грязь, на драку собакам. До половины голени поднимается слой перьев, на который польется кровь следующей неудачливой птицы, вытянувшей шею под резаком. Надо всем этим вдоль прохода стоят мясницкие чурбаки с тяжелыми железными крюками, чтобы подвешивать и потрошить дичь и выпускать из нее кровь.
Было предрешено, что Петух должен умереть и его маленький сын вместе с ним. Под вопросом оставалась судьба Александра. Его предательство, если объявить о нем в городе, могло в этот полный опасности час иметь печальные последствия не только для него самого, но и для репутации всего рода, его жены Агаты, матери Паралеи, отца полемарха Олимпия и, не меньше других, его ментора Диэнека. Олимпий и Диэнек теперь заняли свое место в тени вместе с остальными шестнадцатью Равными из сисситии Девкалиона. Жена Петуха беззвучно плакала, рядом плакала ее дочь, на руках приглушенно кричал маленький сын. Петух, связанный, стоял на коленях в сухой июльской пыли.
Полиник нетерпеливо ходил туда-сюда, дожидаясь решения.
– Можно сказать? – прохрипел Петух сдавленным голосом: его чуть не задушили, пока тащили на последний суд.
– Что хочет сказать этот мерзавец? – осведомился Полиник.
Петух указал на Александра:
– Этот человек, которого твои убийцы думают, что «поймали».., им бы следовало объявить его героем. Это он поймал меня, он и Ксеон. 3а тем они и пришли в мою скорлупу – чтобы арестовать меня и отдать под суд.
– Конечно,– с сарказмом ответил Полиник.– Потому они и связали тебя так крепко.
– Это правда, сын? – обратился к Александру Олимпий. – Ты действительно взял под стражу молодого Петуха?
– Нет, отец. Это не так.
Все знали, что «суд» продлится недолго. Юноши из агоге, сторожившие город ночью, неизбежно обнаружат его, даже здесь, в сумерках, тем более что в военное время их патрули удвоились. У собрания оставалось пять минут, не больше.
После двух коротких реплик выяснилось, что Александр в одиннадцатом часу пытался убедить Петуха взять обратно свой отказ и принять оказанную ему городом честь. Ему это не удалось, но тем не менее он не предпринял против илота никаких действий.
Это явная и недвусмысленная измена, объявил Полиник. И все же сам он лично не хотел бы позора для сына Олимпия и даже для меня, оруженосца Диэнека. Пусть все здесь и закончится.
– Удалитесь, благородные мужи. Оставьте этого илота и его сопляка мне.
Тогда заговорил Диэнек. Он выразил благодарность Полинику за милосердное предложение. Однако в предложении Всадника остается скользкий аспект полуоправдания. Давайте оставим это так, но полностью очистим имя Александра. Нельзя ли ему, попросил Диэнек, сказать несколько слов в пользу этого молодого человека?
Старший по сисситии Медон согласился, и Равные при соединились к нему. Диэнек сказал:
– Все вы, благородные мужи, знаете мои чувства к Александру. Всем вам известно, что я обучал и воспитывал его с самого детства. Он мне как сын, он мой друг. Но я защищаю его не из этих моих чувств. Лучше, друзья, обдумайте следующее. В эту ночь Александр пытался сделать то же самое, что и его отец после Энофиты, то есть неофициально, доводами и убеждениями, из дружеских чувств повлиять на этого юношу Дектона, прозванного Петухом. Чтобы смягчить злобу, питаемую им к спартанцам, которые, по его мнению, поработили его народ, и склонить к великому делу Лакедемона. В своих попытках Александр ни этой ночью, ни когда-либо не стремился добиться выгоды для себя. Что хорошего могло выйти из облачения этого предателя в алый спартанский плащ? Александр пекся лишь о родном городе, стремясь направить на благо Спарты явное мужество этого молодого человека, незаконнорождённого сына героя-спартиата – моего шурина Идотихида. По сути дела, вместе с Александром вы можете обвинить и меня, так как я не раз вел себя с этим юношей, Петухом, как со своим незаконнорожденным племянником.
– Да,– быстро вставил Полиник,– в шутку и в насмешку.
– Мы не шутим здесь сегодня, Полиник.
Послышался шорох листвы, и вдруг, к изумлению всех собравшихся, на бойне показалась госпожа Арета. Я заметил пару амбарных мальчишек, шмыгнувших в темноту. Ясно, эти шпионы видели всю сцену в скорлупе у Петуха и тут же побежали доложить госпоже.
Теперь вперед вышла она сама – в простом пеплосе, с распущенными волосами, несомненно, только что оторванная от вечерней колыбельной. Равные расступились перед ней, растерявшись от неожиданности.
– Что это? – презрительно спросила она.– Смертный суд под дубами? Какой достойный вердикт выносите вы сегодня, храбрые воины? Убить девушку или перерезать горло ребенку?
Диэнек, как и прочие, хотел утихомирить ее разглагольствованиями о том, что, мол, женщине нечего тут делать, чтобы она немедля удалилась и что они ничего не станут слушать. Арета, однако, не обратила на эти слова ни малейшего внимания, а без колебаний подошла к молодой Гармонии, схватила сына Петуха и прижала к себе.
– Вы говорите, мне тут нечего делать. Напротив,– объявила она Равным,– я могу предложить самую уместную помощь. Видите? Я могу задрать подбородок этого малыша, чтобы было легче его зарезать. Кто из вас, сыны Геракла, будет резать ему горло? Ты, Полиник? Или ты, мой муж?
Последовали новые возмущенные возгласы. Мужчины настаивали, чтобы женщина ушла. Диэнек тоже выразил это желание в самых сильных выражениях. Но Арета не шелохнулась.
– Если бы ставкой была только жизнь этого молодого человека, – она указала на Петуха,– я бы послушалась мужа и вас, Равные, без колебаний. Но кого еще вы, герои, приговариваете к смерти? Его единокровных братьев? Дядек, двоюродных братьев, их жен и детей, всех невинных и все имущество, в котором город отчаянно нуждается в этот час опасности?
Опять послышалось, что эти вопросы, мол, не касаются женщины.
Кулачный боец Актеон прямо обратился к ней:
– Как бы мы ни уважали тебя, госпожа, мы не можем не видеть, что ты стремишься лишь защитить род своего досточтимого брата,– он указал на вопящего младенца, пусть даже этот род представлен обычными ублюдками.
– Мой брат уже достиг неувядаемой славы,– с жаром ответила госпожа,– и этого более чем достаточно, чтобы вам ответить. Нет, я просто ищу справедливости. Ребенок, которого вы готовы убить, вовсе не отпрыск этого мальчишки Петуха.
Данное заявление показалось в высшей степени абсурдным.
– А чей же он? – нетерпеливо спросил Актеон.
Госпожа на мгновение заколебалась и ответила: – Моего мужа.
Эти слова были встречены недоверчивым фырканьем:
– Правда – это бессмертная богиня, госпожа,– сурово проговорил Медон, старший по сисситии.– Нужно набраться мудрости и дважды подумать, прежде чем позорить ее.
– Если не верите, спросите мать ребенка.
Равные отнеслись к возмутительным заявлениям госпожи с явным недоверием. Тем не менее все взгляды обратились к бедной молодой женщине, Гармонии.
– Это мой ребенок,– страстно вмешался Петух,– и больше ничей.
– Пусть скажет мать,– оборвала его Арета и обратилась к Гармонии: – Чей это сын?
Несчастная девушка испуганно забормотала что-то. Арета держала младенца перед Равными.
– Пусть все видят: ребенок хорошо сложен, крепок членами и голосом, в нем таится живость, ведущая к силе в юности и к доблести в зрелости. Она повернулась к девушке.
– Скажи этим людям. Мой муж ложился с тобой? Этот ребенок его?
Нет… да… я не…
– Говори!
– Госпожа, ты запугиваешь девушку. – Говори!
– Он от твоего мужа,– пробормотала девушка и разразилась рыданиями.
– Она лжет! – крикнул Петух, за что тут же получил жестокий удар; из разбитого носа хлынула кровь.
– Конечно, она не призналась бы тебе, своему мужу, обратилась госпожа к Петуху.– Ни одна женщина не призналась бы. Но это не меняет дела.
Полиник указал на Петуха.
– Единственный раз в жизни этот негодяй говорит правду. Он родил этого щенка!
Полиника яростно поддержали остальные. Медон обратился к Арете:
– Я бы лучше пошел с голыми руками против львицы в ее логово, чем столкнуться с твоим гневом, госпожа. Я не могу не одобрить твоих мотивов. Как жена и мать, ты стремишься спасти жизнь невинному. Тем не менее мы знаем твоего мужа с тех самых пор, как сам он был таким же младенцем. Никто в городе не превзойдет его честью и верностью Мы не раз были с ним в походах, когда он имел возможность, богатую и соблазнительную возможность проявить неверность. И ни разу он не поколебался.
Все страстно подтвердили его слова.
– Тогда спросите его,– потребовала Арета.
– Мы не будем этого делать,– ответил Медон.– Даже ставить под вопрос его честь было бы постыдно.
Равные сплоченно, как фаланга, повернулись к Арете. Но, вовсе не оробев, она дерзко, спокойным и властным тоном, встретила строй воинов.
– Я скажу вам, что вы сделаете,– заявила Арета, подступив к Медону, старшему по сисситии.– Вы признаете этого мальчика отпрыском моего мужа. Ты, Олимпий, и ты, Медон, и ты, Полиник, поручитесь за него и зачислите его в агоге. Вы заплатите за него налоги. Он получит приличное имя, и это имя будет Идотихид.
Для Равных это было слишком. Заговорил кулачный боец Актеон:
– Ты бесчестишь своего мужа и память своего брата одним таким предложением, госпожа.
– А если бы ребенок был действительно его, мой довод нашел бы отклик?
– Но это ребенок не твоего мужа! – А если бы был?
Медон оборвал ее:
– Госпожа прекрасно знает, что если мужчина, как этот юноша по кличке Петух, будет признан виновным и казнен, его отпрыскам мужского пола не будет дозволено жить, поскольку они, если когда-либо достигнут зрелости, начнут искать мести. Так гласит не только закон Ликурга. Подобные законы существуют во всех городах Эллады.
– Если такова ваша вера, перережьте младенцу горло прямо сейчас.
Арета встала перед Полиником. Прежде чем бегун успел как-то отреагировать, она выхватила ксифос у него с бедра, а потом сунула оружие в руку Полинику и подняла перед ним младенца, подставив его горло под остро наточенное лезвие.
– Чтите закон, сыны Геракла! Но делайте это при свете солнца, чтобы все видели, а не в темноте, которую столь любит криптея.
Полиник замер. Он пытался отвести лезвие, но рука госпожи не отпускала.
– Не можешь? – прошипела Арета.– Давай помогу. Вот сюда, я погружу его вместе с тобой…
Дюжина голосов взмолилась не делать этого. Гармония неудержимо рыдала. По-прежнему связанный Петух смотрел, не отрываясь, парализованный ужасом.
В глазах госпожи сверкала такая свирепость, какая, должно быть, наполняла саму Медею, когда та заносила гибельную сталь над собственными детьми.
– Спросите моего мужа, его ли это ребенок,– снова потребовала Арета.– Спросите его!
Равные сдались. А что им оставалось? Все глаза теперь обратились к Диэнеку, не столько требуя ответа на это смехотворное обвинение, сколько просто потому, что все были смущены безрассудной смелостью госпожи и не знали, что делать.
– Скажи им, муж мой,– тихо проговорила Арета. Скажи перед богами – это твой ребенок?
Она отпустила меч и поднесла младенца к мужу.
Равные знали, что заявление госпожи не может быть правдой. И тем не менее, если Диэнек засвидетельствует свое отцовство и поклянется, как требует Арета, все должны будут признать это, и город тоже, иначе его священная честь будет утрачена. Диэнек долго смотрел в глаза жены, которые уставились на него, по верному замечанию Медона, как глаза львицы.
– Клянусь всеми богами,– поклялся Диэнек,– ребенок мой.
Аретины глаза наполнились слезами, которые она мгновенно подавила.
Равные пробормотали что-то про осквернение клятвы.
– Подумай, что ты говоришь, Диэнек,– сказал Медон. Ты позоришь свою жену и себя, поклявшись в этой лжи.
– Я подумал, друг мой,– ответил Диэнек.
И повторно объявил: да, ребенок – его.
– Тогда возьми его,– распорядилась Арета, сделав последний шаг к мужу и нежно уложив ребенка в его руки. Диэнек взял сверток, словно ему протянули змеиный выводок.
Он снова посмотрел в лицо жены и долго не отводил глаз, а потом перевел взгляд на Равных:
– Кто из вас, друзья и товарищи, поручится за моего сына и внесет в список граждан перед эфорами?
Никто не смотрел на него. Их собрат по оружию принес страшную клятву. Если поклянутся и они в поддержку его клятвопреступления, не замараются ли и они тоже?
– Пусть поручительство за ребенка будет моей привилегией, – проговорил Медон.– Мы представим его эфорам завтра. Согласно желанию госпожи, имя его будет Идотихид, как звали ее брата.
Петух смотрел на собравшихся с бессильной яростью.
– Тогда все улажено,– сказала Арета.– Ребенок будет воспитываться его матерью в стенах дома моего мужа. В возрасте семи лет его отдадут в воспитание как мофакса, и он будет обучаться, как все другие отпрыски граждан. Если он проявит достойную доблесть и дисциплину, то, когда повзрослеет, будет посвящен и займет свое место воина-защитника Лакедемона.
– Да будет так,– согласился Медон. Другие члены сисситии, хотя и неохотно, тоже согласились.
Но дело еще не кончилось.
– А вот этот,– сказал Полиник, указывая на Петуха, этот умрет.
Бойцы криптеи поставили Петуха на ноги. Никто из Равных не поднял руки в его защиту. Убийцы поволокли пленника в темноту. Через пять минут он умрет. И его тело никогда не найдут.
– Можно сказать?
Это был голос Александра. Он все же решил помешать палачам.
– Можно мне обратиться к Равным сисситии? Медон, как старший, кивнул.
Александр указал на Петуха:
– Есть другой способ разделаться с изменником, и этот способ, я думаю, может принести городу большую пользу, чем поспешная казнь. Подумайте: многие илоты чтят этого человека. Такая смерть сделает его в их глазах мучеником. Тех, кто звал его другом, возможно, казнь и устрашит – на какое-то время, но потом, на поле боя против персов, их гнев может найти другой выход. Они могут предать нас в минуту опасности или причинить вред нашим воинам, когда те окажутся наиболее уязвимы.
Полиник злобно прервал его:
– Зачем ты защищаешь этого мерзавца, сын Олимпия?
– Он мне никто,– ответил Александр.– Ты знаешь: он презирает меня и считает себя храбрее меня. И в этом он, несомненно, прав.
Равных смутила эта искренность, столь открыто выраженная молодым человеком. Александр продолжил:
– Вот что я предлагаю: пусть этот илот живет, но пусть уйдет к персам. Отведите его к границе и отпустите. Ничто не может устроить его больше в его бунтарских помыслах – он с радостью ухватится за возможность навредить тем, кого ненавидит. Враг примет беглого раба. Он сообщит им ценные сведения, какие захочет, о спартанцах, а они смогут даже вооружить его и позволить пойти под своими: знаменами против нас. Но что бы он ни сказал, это не может повредить нашему делу, так как среди придворных Ксеркса уже находится Демарат, а кто может больше рассказать о лакедемонянах, чем их собственный бывший царь? Изгнание этого юноши не причинит нам вреда, но выполнит нечто неоценимое: не даст его товарищам среди нас считать его мучеником и героем. Они увидят его таким, какой он есть,– неблагодарным илотом, которому дали шанс надеть алый плащ Лакедемона, а он из заносчивости и тщеславия отверг представившуюся возможность. Отпусти его, Полиник, и обещаю: если боги даруют этому негодяю встретиться с нами на поле боя, тебе не придется убивать его, потому что я сам это сделаю.
Александр закончил и отступил назад. Я взглянул на Олимпия – его глаза блестели гордостью за то, что сын так сжато и выразительно сформулировал свое предложение.
Полемарх обратился к Полинику:
– Проследи за этим.
Криптеи поволокли Петуха прочь.
Медон закрыл собрание, велев Равным разойтись по своим домам и жилищам и не разглашать ничего из происшедшего здесь до завтра, пока в должный час они не предстанут перед эфорами. Он сурово упрекнул госпожу Арету, сказав казав, что этим вечером она сильно испытывала терпение богов. У Ареты тряслись руки и ноги, как это бывает у воинов после битвы, и она без возражений приняла упрек старейшины. Когда госпожа повернулась, чтобы идти домой, колени у нее подогнулись. Она покачнулась, теряя сознание, и стоявшему рядом мужу пришлось подхватить ее.
Диэнек обернул жене плечи своим плащом. Я видел, как он заботился о ней, пока она силилась вернуть себе самообладание. Часть его души все еще горела гневом за то, что жена вынудила его сделать этим вечером. Но другая часть преклонялась перед ней за ее сострадание и отвагу – и даже, если подобное слово здесь уместно, за ее воинское искусство.
Подняв глаза, госпожа увидела, что муж смотрит на нее, и улыбнулась ему в ответ.
– Какие бы подвиги ты ни совершил в прошлом или в будущем, муж мой, ничто не превзойдет того, что ты совершил сегодня.
Диэнек, казалось, не был до конца убежден в этом. – Надеюсь,– сказал он.
Равные уже разошлись, оставив под дубами Диэнека с младенцем на руках. Спартиат уже собрался вернуть его матери.
– Дай-ка взглянуть на этот сверточек,– проговорил Медон.
В свете звезд старейшина подошел к моему хозяину, взял ребенка и осторожно передал его Гармонии. Медон испытал маленького человечка, протянув ему покрытый рубцами палец, который мальчик обхватил своим сильным кулачком и с веселым задором дернул. Старейшина одобрительно кивнул. Он погладил малыша по головке, а потом удовлетворенно повернулся к госпоже Арете и ее мужу:
– Теперь у тебя есть сын, Диэнек. Теперь тебя можно выбрать.
Мой хозяин вопрошающе посмотрел на старейшину, не понимая.
– В число Трехсот,– сказал Медон: – Для Фермопил.
КНИГА ПЯТАЯ ПОЛИНИК
Глава восемнадцатая
Великий Царь с великим интересом прочел эти слова грека Ксеона, которые я, Его историк, представил Ему в переписанном виде. К этому времени персидское войско продвинулось глубоко в Аттику и встало лагерем у перекрестка, который эллины называют Три Дороги, в двух часах ходьбы от Афин. 3десь Великий Царь принес жертву богу Ахуре Мазде и раздал награды за отвагу наиболее отличившимся воинам в войске Державы. Несколько дней уже Великий Царь не вызывал пред Свои очи пленника Ксеона, чтобы лично слушать продолжение его рассказа, так поглощен был Он мириадами дел наступающего войска и флота. И все же Великий Царь не упускал возможности в Свои свободные часы следить за повествованием, которое Его историк ежедневно представлял Ему.
В предыдущие несколько ночей Великий Царь чувствовал Себя не очень хорошо. Его сон был тревожен, и к Нему вызывали Царского лекаря. Отдохновение Великого Царя нарушали странные сны, содержанием которых Он не делился ни с кем, кроме магов и круга самых доверенных Своих советников: полководца Гидарна, начальника Бессмертных и победителя при Фермопилах; Мардония, командующего сухопутными войсками Великого Царя; Демарата, изгнанного спартанского царя, а ныне почетного гостя; и воительницы Артемизии, царицы Галикарнаса, чью мудрость в советах Великий Царь ценил выше всех остальных.
3лой дух этих тревожных снов, признался Великий Царь, появлялся в виде Его собственных угрызений совести за надругательство над телом царя Леонида после победы при Фермопилах.
Полководец Мардоний умолял Великого Царя вспомнить, что Он тщательно соблюл все священные ритуалы, предписанные для умилостивления неотвязных духов кровной вины, если таковые были вовлечены в событие. Разве Великий Царь не приказал казнить всех приближенных, участвовавших в этом деле, включая Своего собственного сына, принца Реодона? Что же еще? И тем не менее, несмотря на все это, объявил Великий Царь, царский сон остается беспокойным и нездоровым. Великий Царь задумчивым тоном выразил предположение, что Он, возможно в вызванных трансом видениях, мог Сам лично познакомиться с тенью этого человека, Леонида, и разделить с ним чашу вина.
Последовало молчание немалой продолжительности.
– Это лихорадка,– наконец осмелился выговорить начальник Гидарн,– она притупила остроту мыслей Великого Царя и ставит под угрозу их проницательность. Я умоляю Великого Царя не говорить больше таким образом.
– Да, да, ты прав, мой друг,– ответил Великий Царь. Ты прав, как всегда.
Военачальники искусно перевели внимание Царя на военные и дипломатические материи. Были представлены доклады. Передовые части персидской пехоты и конницы общей численностью в пятьдесят тысяч вошли в Афины и овладели городом. Афинское население в полном составе покинуло город, взяв с собой лишь то, что могло унести с собой, и бежало через пролив в Трезен и на остров Саламин, где теперь и пребывает в положении беженцев, ютясь вокруг костров на склонах холмов и оплакивая свою судьбу.
Сам город не оказал никакого сопротивления. Разве что небольшая шайка фанатиков заняла Верхний Город, Акрополь, вокруг которого в древние времена был выстроен деревянный частокол. Эти отчаянные защитники укрепились в том месте, будто бы вверив свою судьбу оракулу Аполлона, который несколькими неделями ранее возвестил: «Только деревянная стена не подведет вас».
Лучники Великого Царя легко уничтожили этих жалких вояк, перестреляв всех издалека. С пророчеством покончено, объявил Мардоний. В Афинском Акрополе теперь горят лагерные костры Державы. 3автра Великий Царь Сам въедет в город. Было решено: все храмы и святилища эллинских богов срыть, а город сжечь. Один из начальников разведки доложил, что дым и пламя будут видны через пролив афинскому населению, съёжившемуся от страха на козьих пастбищах острова Саламин.
– У них будут места в первом ряду,– с улыбкой сказал молодой военачальник,– чтобы посмотреть, как исчезает их вселенная.
Час был уже поздний, и Великий Царь проявил признаки усталости. Наблюдающий маг предположил, что вечернюю аудиенцию можно благополучно завершить. Все встали с лож, простерлись пред Великим Царем и вышли, задержались лишь Мардоний и Артемизия, которым Великий Царь сделал еле заметный знак остаться. Он также дал понять что Его историк будет присутствовать тоже, чтобы вести записи. Очевидно, что-то нарушало спокойствие Великого Царя.
Теперь, оставшись в Своем шатре наедине с двумя ближайшими наперсниками, Он заговорил о своем сновидении:
– Я был на поле боя, которое словно простиралось до бесконечности, и повсюду, насколько хватало глаз, лежали тела убитых. Воздух наполняли победные крики; воины и военачальники похвалялись в торжестве своем. И вдруг я заметил тело Леонида, обезглавленное, и голова его торчала на пике, как мы сделали при Фермопилах, а само тело было прибито, как трофей, к одинокому засохшему дереву посреди. равнины. И меня охватили печаль и стыд. Я бросился к дереву, крича слугам моим, чтобы они сняли спартанца. Во сне казалось, что, если только я приставлю голову царя обратно к телу, все будет хорошо. Он оживет и даже подружится со мной; чего я так желал. Я подошел к пике, на которой возвышалась отрубленная голова…
– И голова оказалась собственной головой Великого Царя,– вмешалась Артемизия.
– Неужели мой сон так ясен?,– удивился Великий Царь.
– Он бессмыслен и не означает ничего,– страстно воскликнула воительница и продолжила говорить о сновидении в намеренно легкомысленном тоне, чтобы поскорее убедить Великого Царя выбросить его из головы: – Он означает лишь, что Великий Царь, будучи царем, познал смертность всех царей, в том числе и Себя. Это мудрость, как выразился Сам Великий Кир, когда сохранил жизнь Крезу Лидийскому.
Великий Царь задумался над словами Артемизии. Ему хотелось, чтобы они убедили Его, но, очевидно, им совсем не удалось успокоить Его тревогу.
– Победа осталась за тобой, Великий Царь, и ничто не может отобрать ее у тебя,– заговорил полководец Мардоний.– 3автра мы сожжем Афины – и таким образом достигнем той цели, к которой шел Твой отец Дарий. Разве не это было и Твоей целью? Разве не ради этого Ты собрал великое войско и флот, так долго трудился и сражался и преодолел столько препятствий? Радуйся, Владыка! Вся Греция лежит простершись ниц пред Тобой! Ты разбил спартанцев и убил их царя. Афинян Ты гнал перед собой, как скот, заставив их покинуть храмы своих богов и все свои земли и имущество. Ты торжествуешь, Владыка, наступив подошвой Своей туфли на горло Греции.
Так полна победа Великого Царя, объявил Мардоний, что Царственной Особе не следует ни на час задерживаться в этих нечестивых пределах на краю земли.
– Оставь эту грязную землю мне, Великий Царь, а сам садись на корабль и отправляйся в Сузы – завтра же! Насладись преклонением, выслушай хвалу за Свои подвиги, удели внимание более насущным делам Державы, которыми из-за этой возни в Элладе Ты слишком долго пренебрегал. Я покончу с этим за Тебя. Все, что делают Твои войска Твоим именем, делается Тобой…
– А как же Пелопоннес? – вмешалась Артемизия, напоминая про полуостров на юге Греции, который один из всей страны остался непокоренным.– Что ты сделаешь с ним, Мардоний?
– Пелопоннес – это козье пастбище,– ответил полководец. – Пустыня, покрытая камнями и овечьим навозом, где нет ни богатств, ни добычи, ни одного порта с гаванью больше, чем на дюжину мусорных барж. Пелопоннес – это ничто, и там нет ничего нужного для Великого Царя.
– Кроме Спарты.
– Спарты? – высокомерно и не без раздражения ответил Мардоний.– Спарта – это деревня. Все это вонючее местечко уместится в саду для прогулок Великого Царя в Персеполисе, и еще останется место. Это просто кучка камней. Там нет ни храмов, ни сколько-нибудь значительных сокровищ, ни золота – это набитый луком хлев, а почва там такая тощая, что плодородный слой можно продавить ногой.
– Но там есть спартанцы,– сказала госпожа Артемизия.
– Которых мы разбили,– ответил Мардоний,– их повелителя убили воины Великого Царя.
– Мы убили их три сотни,– возразила Артемизия, и для этого нам потребовалось два миллиона воинов.
Эти слова разожгли такую ярость в Мардонии, что казалось, он сейчас вскочит со своего ложа и сцепится с Артемизией.
– Друзья мои; друзья мои! – Умиротворяющий. тон Великого Царя заставил их подавить кратковременную вспышку.– Мы здесь, чтобы держать совет, а не скандалить друг с другом, как дети.
Но в госпоже еще не улегся пыл:
– Что у тебя меж ног, Мардоний? Репа? Ты говоришь, как человек, у которого яйца с горошину.
Она обращалась напрямую к Мардонию, сдерживая злобу и выговаривая слова ясно и отчетливо:
– Воины Великого Царя еще даже толком не видели спартанского войска, не говоря уж о том, чтобы разгромить его или хотя бы столкнуться с ним. Их силы на Пелопоннесе остаются нетронутыми и, несомненно, пребывают в полной готовности. Им не терпится вступить в бой! Да, мы убили спартанского царя. Но у них, как ты сам знаешь, два царя, и теперь правят Леотихид и сын Леонида, малолетний Плистарх. Его дядя и регент Павсаний, который возглавит войско, я знаю, ни на йоту не уступит Леониду ни в мужестве, ни в дальновидности. Так что потеря царя ничего для спартанцев не значит, она только укрепила их решимость и вдохновила на еще большие чудеса доблести. Любому теперь хочется превзойти его славой. А теперь подумай об их числе. Одни полноправные спартиаты составят восемь тысяч гоплитов. Добавь благородных мужей и периэков – и число увеличится впятеро. Вооружи их илотов – а они определенно сделают это! – и сумма увеличится еще на сорок тысяч. К этому вареву добавь коринфян, тегейцев, элейцев, мантинейцев, платейцев, мегарцев и аргосцев, которые тоже вступят в союз, если еще не сделали этого, не говоря уж об афинянах,которых мы приперли к стене и чьи сердца горят бесстрашием отчаяния.
– Афиняне – это зола,– прервал ее Мардоний,– в которую превратится их город еще до восхода солнца. Великий Царь, похоже, раздвоился, разрываясь между благоразумием Своего полководца и страстью воительницы. Он обратился к Артемизии:
– Скажи мне, царица, прав ли Мардоний? Следует ли мне воссесть на подушки и отплыть домой?
– Ничто не может сравниться с таким позором, Великий Царь,– без колебаний ответила госпожа,– и ничто более не умалит твоего величия.
Она вскочила на ноги и теперь говорила, расхаживая перед Великим Царем под изогнутым полотном его шатра.
– Мардоний перечислил названия эллинских городов, изъявивших свою покорность, и их, я признаю, не так мало. Но цвет Эллады остался не ощипан. Мы едва расквасили нос спартанцам, а афиняне, хотя мы и выгнали их с их земель, все еще остаются полисом, и полисом грозным. Их флот, самый великий и не знающий себе равных в Элладе, составляют двести боевых кораблей, и на каждом – первоклассный экипаж из афинских граждан. Они могут перевезти афинян в любую точку мира, где те сумеют оставаться той же могучей угрозой Великому Царю, как прежде. Мы не истощили их живую силу. Их гоплиты остаются нетронутыми, их предводители пользуются уважением и поддержкой в городе. Мы обманываем себя, недооценивая этих воинов. Великий Царь может не знать их, но я-то знаю! Фемистокл, Аристид, Ксантипп, сын Арифона, – они уже доказали свое величие, но горят желанием заслужить еще большее. Что касается бедности Греции, о которой говорил Мардоний, тут я не могу ему возразить. На этих неплодородных берегах нет ни золота, ни драгоценностей, ни богатых земель, ни тучных стад. Но разве мы пришли для того, чтобы грабить? Разве для этого Великий Царь собрал и привел войско, величайшее из всех, какие видел свет? Нет! Великий Царь пришел поставить этих греков на колени, заставить их предложить ему землю и воду, а последние непокорные города отказались сделать это! И по-прежнему отказываются. Выбрось из головы Твой сан, Великий Царь. Он вызван усталостью. Это ложный. сон, иллюзия. Пусть греки опускаются до суеверий, а мы должны быть воинами и полководцами, мы должны пользоваться оракулами и предзнаменованиями, когда они отвечают нашим целям, и отвергать их во всех остальных случаях. Подумай о предсказании, полученном спартанцами, предсказании, которое знает вся Эллада! Вся Эллада! знает, что о нем известно нам. «Или Спарта потеряет в битве царя, а такой беды со спартанцами, не случалось шестьсот лет, или падет сам город». Что ж, они потеряли своего царя. И что заключат из этого их прорицатели, Великий Царь? Ясно, что город не падет. Если теперь ты уйдешь, Владыка, греки скажут, что ты испугался сна и оракула.
Она выпрямилась перед Великим Царем и обратила свои слова непосредственно к Нему:
– Вопреки тому, что говорит наш друг Мардоний, Великий Царь еще не объявил о своей победе. Она висит перед Ним, как спелый плод, ждущий, чтобы его сорвали. Если теперь Великий Царь отправится отдыхать в роскошь дворцов и предоставит сорвать этот плод кому-то другому – даже тому, кому Он оказывает всяческое благоволение,– слава победы Его Величества поблекнет и будет запятнана. Победу нельзя просто объявить, ее надо одержать. И одержать ее нужно лично, если мне позволено так выразиться. Тогда, и только тогда, Великий Царь сможет с почетом сесть на корабль и вернуться домой.
Царица-воительница закончила и снова возлегла на свое ложе. Мардоний ничего не возразил. Великий Царь переводил взгляд с одного на другую.
– Похоже, мои женщины стали мужчинами, а мужчины – женщинами.
Великий Царь проговорил это без злобы и без неодобрения. Он простер Свою десницу и с чувством положил ее на плечо Своего друга и родственника Мардония, словно убеждая полководца, что Его доверие к нему остается прежним и неколебимым.
Потом Великий Царь величественно выпрямился.
– 3автра,– провозгласил Он,– мы сожжем до основания Афины, а после этого пойдем на Пелопоннес, чтобы не оставить камня на камне в Спарте. Мы не остановимся, пока не перемелем их в пыль – навсегда.
Глава девятнадцатая
В ту ночь Великий Царь не спал. Он приказал привести к нему грека Ксеона, намереваясь, несмотря на поздний час, лично допросить этого человека. Ему требовались новые сведения о спартанцах, которые теперь даже больше, чем афиняне, стали источником волнения Великого Царя и не выходили у Него из ума. Воительница Артемизия вместе с Мардонием была отпущена и в настоящий момент готовилась к отбытию, но, услышав приказания Великого Царя, она вернулась и обеспокоено заговорила:
– Государь, прошу – ради войска и тех, кто любит тебя,– умоляю поберечь Свою Царственную Особу! Хоть и божествен может быть Твой дух, но он содержится в бренном сосуде. Поспи. Не мучь себя этими заботами, которые в действительности не более чем призраки.
Полководец Мардоний страстно поддержал эти слова:
– 3ачем огорчать себя, Владыка, рассказом раба? Что может дать история про неприметных военачальников и их домашние распри для решающих событий, возложенных теперь на нас? Не беспокойся больше об этиххитросплетениях дикаря, который ненавидит Тебя и Персию всеми фибрами своего существа! Все равно вся его история – ложь. Таково, по крайней мере, мое мнение.
Великий Царь улыбнулся этим словам Своего полководца.
– Напротив, друг мой, я верю, что рассказ этого человека правдив во всех отношениях и, хотя ты, возможно, еще не признаешь этого, имеет теснейшую связь с вопросами, с которыми мы теперь столкнулись.
Великий Царь указал на Свой походный трон, стоявший, озаряемый светильниками, под сводом шатра.
– Ты видишь это кресло, друг мой? Ни один смертный не может быть более одинок и более оторван от всех, чем Тот, кто сидит на нем. Ты не можешь понять этого, Мардоний. И никто не может – из тех, кто не сидел там. Подумай: кому из приходящих к Нему царь может довериться? Кто входит к Нему без какого-то тайного желания, страсти, печали или требования, которые он скрывает со всей хитростью и коварством? Кто скажет перед Царем правду? Люди обращаются к Нему или в страхе за то, что Он может отнять, или в жадности к тому, что Он может пожаловать. Никто не приходит к Нему, кроме просителей. О том, что у Него на сердце, льстец не скажет вслух, но скроет это под плащом лицемерия. Каждый голос клянется в верности, каждое сердце выказывает любовь, и Царственный Слушатель должен все прощупывать и пробовать на зуб, как торговец на базаре, выискивая тончайшие признаки предательства и обмана. Как оно утомляет! Собственные царские жены шепчут ему нежные слова в темноте Его спальни. А любят ли они Его? Откуда Ему знать это, когда он видит, как истинную страсть они тратят на заговоры и интриги в пользу своих детей или в каких-то собственных тайных целях. Никто не говорит Царю всей правды, даже Его собственный брат – и даже ты, мой друг и родственник.
Мардоний поспешил опровергнуть это, но Великий Царь с улыбкой прервал его:
– Из всех, кто приходит ко мне, лишь один человек, я полагаю, говорит без какого-либо желания извлечь из этого выгоду. Это тот грек. Ты не понимаешь его, Мардоний. Его сердце жаждет лишь одного: воссоединиться с братьями по оружию в подземном царстве. Даже его страсть рассказать свою историю вторична: это обязанность, возложенная на него одним из его богов, и она для него – бремя и проклятие. Ему ничего не нужно от меня. Нет, друг мой, слова грека не огорчают и не беспокоят меня. Для меня они радость. Отдохновение.
Встав, Великий Царь двинулся мимо стоящих на страже Бессмертных, чтобы посмотреть на горящиё снаружи костры.
– Хочу взглянуть на перепутье, где мы сейчас встали лагерем, на это место, которое эллины называют Тремя Дорогами. Для нас оно ничто – просто грязь под ногами. И тем не менее разве этот жалкий пятачок не несет в себе смысла и даже очарования, если вспомнить рассказ пленника о том, как он ребенком расстался здесь с девушкой Диомахой, своей двоюродной сестрой, которую так любил?
Артемизия переглянулась с Мардонием.
– Великий Царь поддался чувствительности,– обратилась к Царю госпожа,– это лишено смысла.
В это мгновение занавес у входа в шатер распахнулся, и страж испросил позволения войти. Внесли грека, по-прежнему на носилках, с завязанными глазами. Впереди шагали двое Бессмертных, подчиненных Оронта, а сзади шел он сам.
– Дай нам посмотреть на лицо этого человека,– велел Великий Царь,– и пусть его глаза посмотрят в наши.
Оронт повиновался. Повязку сняли.
Пленник Ксеон несколько раз моргнул в свете ламп и впервые взглянул на Великого Царя. И таким поразительным было выражение на лице этого человека, что Оронт гневно прикрикнул на пленника и потребовал ответить, какая наглость обуяла его, что он позволяет себе столь дерзко взирать на Царственную Особу.
– Я и раньше смотрел на лицо Великого Царя,– ответил грек.
– Поверх битвы, как и все враги.
– Нет, военачальник. 3десь, в его шатре. В ночь пятого дня.
– Ты лжешь! – гневно вскричал Оронт. Потому что в предпоследний день сражения при Горячих Воротах в самом деле была допущена оплошность, на которую ссылался пленник: тогда в результате ночного рейда горстка спартанских воинов оказалась на расстоянии броска копья от Царственного Присутствия, пока сбежавшиеся на защиту Великого Царя Бессмертные и египетская пехота не отогнали их прочь.
– Я был здесь,– спокойно проговорил грек,– и мой череп был бы расколот пополам топором, что метнул в меня какой-то вельможа, если бы он не попал в стойку шатра и не застрял там.
При этих словах вся кровь отхлынула от лица Мардония. У западного входа в шатер, именно там, где прорвались спартанцы, до сих пор торчал топор, засевший так глубоко в кедровой древесине, что его было не вытащить, не расколов шест, и потому плотники оставили топор на месте. Они только отпилили топорище, а шест укрепили и обвязали веревкой.
Взгляд эллина уставился прямо на Мардония.
– Топор метнул этот господин. Его я тоже помню.
Лицо полководца на мгновение омертвело, выдав правдивость сказанных слов.
– Его меч,– продолжал грек,– перерубил запястье одного спартанского воина, замахнувшегося копьем, чтобы, метнуть его в Великого Царя.
Великий Царь спросил Мардония, действительно ли это правда. Полководец подтвердил, что в самом деле нанес такую рану нападавшему спартанцу, одному среди множества других.
– Тем воином,– сказал Ксеон,– был Александр, сын Олимпия, о котором я рассказывал.
– Тот мальчик, что отправился вслед спартанскому войску? Который переплыл залив перед Антирионом?
– Да, только уже взрослый,– подтвердил грек.– Воинами, что увели его из этого шатра, прикрывая своими щитами, были Полиник и мой хозяин Диэнек.
Все на какое-то время замолкли, усваивая услышанное. Потом Великий Царь проговорил:
– Они действительно были теми людьми, что проникли сюда, в этот шатер?
– Они и еще другие, Владыка. Как видел сам Великий Царь.
Полководец Мардоний не желал верить. Он впал в ярость. Он обвинил пленника во лжи, в том, что тот сочинил свою историю по обрывкам, которые он подслушал у обслуживавших его поваров и медиков. Пленник же почтительно, но страстно отверг обвинение.
Оронт, начальник стражи и подчиненный Мардония, объявил, что грек никак не мог узнать об этих событиях от поваров и медиков, согласно предположению полководца. Он, Оронт, лично следил за изоляцией пленника. Никому, даже людям из продовольственной службы и подчиненным Царского лекаря, не позволялось находиться наедине с этим человеком, пусть даже одно мгновение, без непосредственного надзора Бессмертных Великого Царя, а они, как всем известно, не имеют себе равных в скрупулезности и исполнительности.
– 3начит, он узнал эту историю по слухам в сражении,– настаивал Мардоний,– от спартанских бойцов, которые действительно прорвали охрану Великого Царя.
Все внимание теперь переметнулось на пленника Ксеона, которого совершенно не трогали все эти обвинения, что грозили ему смертью на месте: Он смотрел на Мардония ровным взором и обратился к нему без малейшего страха:
– Я мог бы узнать эти сведения, господин, именно так, как ты предполагаешь. Но как же я сумел опознать именно в тебе человека, метнувшего топор?
Великий Царь подошел к месту, где застрял топор, и кинжалом перерезал обмотанную веревку, чтобы рассмотреть оружие. На стали топора Великий Царь различил двухголового грифона – клеймо Эфеса. Этот корпус оружейников обладал привилегией снабжать клинками и копьями Мардония и его военачальников.
– А теперь скажи, что рука божества не имеет к этому отношения! – обратился Великий Царь к полководцу.
Великий Царь объявил, что Он и Его советники уже услышали много поучительного и неожиданного из рассказа пленника.
– А насколько больше мы еще можем узнать?
Радушным жестом Великий Царь велел придвинуть этого человека, Ксеона, поближе к Себе и позволить ему, все еще тяжело больному, прислониться к чему-нибудь.
– Пожалуйста, друг мой, продолжи свой рассказ. Рассказывай, как хочешь, в каком порядке велит тебе твой Бог.
Глава двадцатая
За последние девять лет я раз пятьдесят наблюдал, как войско строится на равнине под Афиной Медного Дома, готовясь к тому или иному походу. На этот раз войско, направляемое к Горячим Воротам, было самым незначительным из всех виденных мною. Не призыв двух третей, как перед Энофитой, когда около шести тысяч воинов, оруженосцев и вспомогательных войск заполнили равнину, не половинный призыв, четыре с половиной тысячи, как перед Ахиллеоном, даже не две моры, почти две с половиной тысячи, когда Леонид вел войско на Антирион, а мы с Александром, еще мальчишками, отправились вслед.
Триста.
Ничтожное число, гремящее на равнине, как горошины в горшке. В авангарде вдоль дороги стояли всего три дюжины вьючных животных. Было всего восемь крытых возов, а стадо жертвенных животных гнали лишь двое мальчишек-пастушков. Обоз уже отправился в шестидневный путь. Ожидалось, что по пути спартанцев будут снабжать провизией союзные города, поскольку гонцы из Спарты собирали людей для пополнения войска, чтобы довести его общую численность до четырех тысяч.
На прощальном жертвоприношении, выполненном Леонидом как верховным жрецом, царила торжественная тишина. Ему прислуживали Олимпий и Мегистий – фиванский прорицатель, пришедший с сыном в Лакедемон по своей воле, ибо он любил не один лишь свой родной город, но всю Элладу. Он желал внести безвозмездный вклад в общую победу своим искусством прорицания.
Все войско, все двенадцать подразделений, без оружия из-за карнейского запрета, но в своих алых плащах, вышли посмотреть, как Триста отправятся в поход. До окончания жертвоприношения каждый воин из Трехсот стоял с венком на голове, с ксифосом и щитом, в алом плаще на плечах, а оруженосец рядом держал копье. Как я уже сказал, был месяц карней – новый год по греческому календарю начинается в середине лета. Каждый мужчина должен был получить на год новый плащ вместо потертого старого, изношенного за четыре сезона. Но Леонид приказал для Трехсот отменить выдачу. Он сказал, что для города слишком расточительно снабжать новой одеждой людей, которые проносят ее лишь краткий срок.
Как и предсказывал Медон, Диэнек попал в число Трехсот. И сам Медон тоже. В свои пятьдесят шесть он оказался четвертым по возрасту – после самого Леонида, которому уже перевалило за шестьдесят, Олимпия и предсказателя Мегистия. Диэнека поставили во главе эномотии из лоха Геракла. Так же были избраны олимпийские победители – братья Алфей и Марон. Они должны были войти в эномотию, представлявшую мору Олеастера, из лоха Дикой Оливы, которая становилась справа от Всадников, в середине строя. Они сражались как диасы, это была пара из пентатиета и борца, которая возвышалась над полем битвы несокрушимой башней. Их включение в число Трехсот очень воодушевило всех. Попал в избранники и посол Аристодем. Но самым неожиданным и нелогичным было включение в войско Александра.
Двадцатилетний, он оказался самым молодым рядовым воином и одним из дюжины, включая Аристона, его товарища по агоге (тоже из «переломанных носов» Полиника), кто не имел боевого опыта. В Лакедемоне есть поговорка: «Тростник за дубиной». Она означает, что цепь становится крепче, если в ней имеется ненадежное звено. Как уязвимое сухожилие, которое заставляет борца удваивать ловкость и хитрость, как врожденное пришепетывание, которое заставляет оратора до блеска оттачивать речь. Эти Триста, чувствовал Леонид, будут сражаться лучше всего не как толпа отдельных победителей, а как миниатюрное войско, состоящее из молодых и старых, зеленых и зрелых. Александру надлежало поступить в эномотию из лоха Геракла под начало Диэнека. Ему и его ментору предстояло сражаться как диасы.
Олимпий и Александр оказались единственными отцом и сыном в числе Трехсот. Продолжать род оставался маленький сын Александра, также названный Олимпием. Было мучительно смотреть на девятнадцатилетнюю Агату, молодую жену Александра, когда она стояла на Выходной улице с младенцем на руках. Мать Александра Паралея, которая столь мастерски допрашивала меня после Антериона, была рядом с девушкой под сенью той самой миртовой рощи, из которой Александр и я в ту ночь, несколько лет назад, отправились вслед за войском.
Слова прощания говорились на ходу, когда строй торжественно маршировал мимо нагромождения камней, называемого Крепостью, рядом с гробницей героев Лелекса и Амфиарея, к повороту дороги у Беговой дорожки, над которой группками собрались мальчишки у Аксиопена, храма Афины Справедливо Мстящей, Афины Око-за-Око. Я смотрел, как Полиник прощается со своими тремя парнями,старшие, одиннадцатилетний и девятилетний, уже ходили в агоге. Они выпрямились в своих черных плащах с печальным достоинством; каждый дал бы отрубить себе правую руку за возможность пойти сейчас с отцом.
Диэнек остановился перед Аретой на обочине дороги, прилегающей к Эллениону, чьи портики стояли разукрашенные лавром с желто-голубыми лентами в честь Карнеи; она держала на руках мальчика – сына Петуха, названного Идотихидом. Мой хозяин обнял по очереди всех своих дочерей. Двух младших он взял на руки и поцеловал, а Арету обнял и прижался щекой к ее шее, чтобы в последний раз ощутить запах ее волос.
3а два дня до этого трогательного момента госпожа тайно вызвала меня, как всегда перед походом. Есть такой спартанский обычай: на неделе перед отправлением в поход Равные проводят один день не в учениях или подготовке, а отдыхая в клерах, в своих сельских поместьях. По законам Ликурга каждый спартанец имеет поместье, с которого получает продукты, чтобы обеспечивать себе и своей семье существование, достойное гражданина и Равного. Эти «дни в поместье», как их обычно называют, составляют местную традицию, происходящую, надо полагать, из естественного желания воина перед битвой вновь посетить места счастливых дней своего детства и в некотором смысле попрощаться с ними. Есть также более практическая цель (по крайней мере, была в прежние дни) – лично собрать снаряжение и провизию из хранилищ своего клера. День в поместьё – это праздник и один из редких случаев, когда Равный и те, кто работает на его земле, могут по-товарищески собраться вместе и с беспечным сердцем набить животы. Как бы то ни было, туда мы и направились за несколько дней до выступления к Горячим Воротам – в поместье под названием Дафнион.
В поместье трудились две семьи мессенианских илотов, всего двадцать три человека, включая двух бабушек-близнецов, настолько старых, что они и имена свои путали. Моя жена и дети тоже работали в поместье.
Обильно накрытые столы стояли в саду под деревьями. Гостям, владельцам соседних поместий, и илотам, работающим на земле хозяина, прислуживали сам Диэнек и госпожа Арета с дочерьми. Раздавались подарки, улаживались старые споры. Молодежь клера спрашивала у Диэнека разрешения на свадьбы.
К тому времени, когда праздник был окончен и все насытились и утолили жажду, у ног Диэнека лежало больше фруктов, амфор с вином, караваев хлеба и головок сыра, чем ему понадобилось бы в сотне битв. Поблагодарив собравшихся, Диэнек уединился со старейшинами работников поместья, чтобы решить оставшиеся в клере дела перед выступлением в поход.
Пока мужчины обсуждали свои проблемы, госпожа Арета сделала мне знак присоединиться к ней. Мы уединились на кухне поместья. Это было уютное место, согреваемое заходящим светилом. Через открытую дверь был виден освещенный лучами солнца двор.
Малыш Идотихид, сын Петуха, играл во дворе с двумя другими голыми малышами, среди которых был и мой сын Скамандрид. На мгновение глаза госпожи – мне показалось, с печалью – остановились на неугомонной ребятне.
– Боги на шаг опережают нас, не правда ли, Ксео?
Впервые я услышал из ее уст намек на подтверждение того, о чем ни у кого не хватало мужества спросить ее: действительно ли госпожа не предвидела всех последствий своего поступка в ту ночь, когда спасла жизнь ребенку?
Как всегда, госпожа выложила предметы из походного набора мужа, которые должна обеспечить жена: медицинские принадлежности, завернутые в толстую воловью шкуру, которая, сложенная вдвое, накладывается на перелом или привязывается прямо к телу, как затычка на рану. Три кривые иглы из египетского золота, которые спартанцы зовут «рыболовными крючками», с катушкой скрученных хирургических ниток и стальной ланцет, чтобы заниматься портновским искусством на живом теле. Компрессы из беленого полотна, кожаные жгуты, медные зажимы, остро отточенные пинцеты, чтобы удалять наконечники стрел или, чаще, осколки и обломки, которые летят во все стороны при ударе сталью по железу или железом по бронзе.
Потом деньги. Эгинские оболы – воинам запрещалось брать какие-либо деньги, но, чудесным образом обнаруженные в мешке оруженосца, они могли очень пригодиться на попутном рынке и у воза маркитанта, чтобы купить что-нибудь забытое из необходимого или какое-либо средство для поднятия духа.
И наконец, кое-что сугубо личное – памятные вещицы и амулеты, предметы суеверий, тайные талисманы любви. Детская фигурка из цветного воска, ленточка из волос дочери, янтарный амулет, вырезанный неумелой детской рукой. Госпожа вверила мне мешочек сластей и безделушек, кунжутные лепешки и сушеные фиги.
– Можешь украсть свою долю,– с улыбкой сказала она,– но оставь что-нибудь и моему мужу.
Мне всегда что-нибудь доставалось. На этот раз – мешочек афинских монет, всего двадцать тетрадрахм, почти трехмесячный заработок искусного гребца или гоплита в афинском войске. Меня удивило, что у госпожи нашлась такая сумма, и ошеломила столь необычная щедрость. Эти «совы», как их звали за изображение на лицевой стороне, имели хождение только в Афинах и больше нигде в Греции.
– Когда ты сопровождал моего мужа в посольстве в Афины в прошлом месяце,– нарушила госпожа молчание,– нашел ли ты возможность зайти к своей двоюродной сестре? Диомаха. Ведь так ее зовут?
Я заходил к ней, и госпожа знала это. Мое давнее желание наконец исполнилось. Диэнек сам послал меня с этим заданием. Теперь я уловил намек на то, что и госпожа приложила к этому руку. Я прямо спросил, не она ли, госпожа Арета, все это устроила.
– Нам, лакедемонским женам, запрещено носить богатые платья и драгоценности, красить лица. И было бы совершенно бессердечно, не правда ли, запретить нам вдобавок эти маленькие невинные интриги?
Она улыбнулась, ожидая моего ответа.
– Ну? – спросила она.
– Вы о чем?
3а забором поместья моя жена Ферея сплетничала с другими местными женщинами. Я поежился..
– Моя двоюродная сестра – замужняя женщина, госпожа. А сам я женат.
В глазах госпожи сверкнули озорные искорки.
– Ты бы оказался отнюдь не первым мужем, привязанным любовными узами к кому-то еще, кроме собственной жены. А она – не стала бы первой такой женой.
Внезапно шутливость ушла из ее глаз. Лицо госпожи стало серьезным, и на него опустилась как будто тень печали.
– Такую же шутку боги сыграли с моим мужем и мной.– Она встала.– Пошли, прогуляемся.
Госпожа босиком поднялась по склону в тенистый уголок под дубами. В какой стране, кроме Лакедемона, подошвы знатной дамы так грубы и мозолисты, что могут ступать по дубовым листьям, не чувствуя их жестких колючек?
– Тебе известно, Ксео, что до того, как выйти за нынешнего мужа, я была женой его брата.
Да, я знал это – от самого Диэнека.
– Его звали Ятрокл. Я знаю, ты слышал эту историю. Он погиб при Пеллене, пал смертью храбрых в возрасте тридцати одного года. Это был благороднейший человек, Всадник и победитель на Олимпийских играх: Боги одарили его доблестью и красотой – так же как Полиника. Ятрокл добивался меня страстно, с таким напором, что звал меня из отцовского дома, еще когда я была девочкой. Спартанцам известно все это. Но теперь я расскажу тебе кое-что, неизвестное никому, кроме моего мужа.
Госпожа подошла к низкому дубовому пню – естественной скамье в тенистой роще. Она села и сделала мне знак сесть рядом.
– Вон там,– сказала она, указывая на открытое место между двумя постройками и тропинку, ведущую к мёсту молотьбы.– Как раз там, где тропинка поворачивает, я впервые и увидела Диэнека. Это случилось в такой же день в поместье, как сегодня. По случаю первого похода Ятрокла. Ему было двадцать. Отец привел сюда из нашего клера меня, моего брата и сестер с фруктами в подарок и с годовалой козочкой. Когда я пришла, держась за отцовскую руку, на этот бугорок, где мы сейчас сидим, вон там, как и сегодня, играли крестьянские дети.
Госпожа выпрямилась и взглянула мне в глаза, словно проверяя, что я слушаю со вниманием и пониманием.
– Диэнека я впервые увидела со спины. Лишь его голые плечи и затылок. И мгновенно поняла, что его, и только его, я буду любить всю свою жизнь.
Ее голос стал серьезным в почтении перед этой тайной, перед явлением Эроса и непостижимым велением сердца.
– Помню, как я ждала, когда он обернется, чтобы я могла увидеть его лицо. Это было так странно! В некотором роде это напоминало встречу с суженым, когда с трепещущим сердцем ждешь – каким окажется лицо, которое суждено полюбить. Наконец он повернулся. Он боролся с другим юношей. Даже тогда, Ксео, Диэнек был не очень красив. Не верилось, что он брат своего брата. Но в моих глазах он казался эвдейдестатос, душой красоты. Боги не могли создать лицо более открытое, которое сильнее тронуло бы мое сердце. Ему тогда было тринадцать. Мне – девять.
Госпожа ненадолго умолкла, задумчиво глядя на то место, о котором говорила. Случай так и не представился, заявила она, и сквозь всю свою юность она пронесла мечту поговорить с Диэнеком наедине. Она часто следила за ним на беговых дорожках и на упражнениях в агоге. Но никогда не делилась этим. Ни с кем. Девушка даже не представляла, знает ли он ее хоть по имени.
Однако она знала, что его брат выбрал ее и говорил об этом со старшими в ее семье.
– Я заплакала, когда отец сказал, что меня отдают за Ятрокла. Я кляла себя за свою бессердечность и неблагодарность. Чего еще может просить девушка, когда ее отдают за благородного доблестного мужа? Но я не могла совладать со своим сердцем. Я любила брата этого человека, брата этого прекрасного доблестного мужа. Когда Ятрокл погиб, я была безутешна. Но причина моего горя была не та, что думали все. Я боялась, что этой смертью боги ответили на эгоистичные молитвы моего сердца. Я ожидала, что Диэнек выберет для меня нового мужа, как велел ему закон, а когда он так и не сделал этого, я бесстыдно пошла к нему в пыльную палестру и сама вынудила его взять меня в жены. Мой муж принял мою любовь и ответил на нее всем сердцем над еще теплыми костями своего брата.
Счастье между нами, наш тайный восторг на брачном ложе были такими острыми, что сама эта любовь стала для нас проклятием. Я смогла искупить свою вину – это нетрудно для женщины, когда она чувствует, как внутри растет новая жизнь, посеянная мужем. Но когда родились наши дети и все оказались девочками, четыре дочери, а я потеряла способность к зачатию, я почувствовала, что это проклятие богов за нашу страсть. Мой муж чувствует это тоже.
Госпожа помолчала и снова взглянула на склон. Мальчишки, в том числе и мой сын и маленький Идотихид, выбежали со двора и теперь беззаботно играли прямо под тем местом, где мы сидели.
– А потом наступил день призыва для Фермопил. Наконец, подумалось мне, я постигла всю изощренность замысла богов. Моего мужа не могут призвать, потому что у него нет сына. Ему откажут в этой величайшей чести. Но в глубине сердца мне не было до этого дела. Существенно было лишь одно – что он останется жить. Возможно, всего лишь еще одну неделю или месяц – до следующей битвы.
Но все же останется жить. Я буду по-прежнему с ним. Он по-прежнему будет мой.
Теперь сам Диэнек, закончив свои дела в доме, появился на площадке внизу. Веселясь, он присоединился к резвящимся ребятишкам, которые уже подчинялись своим врожденным воинственным инстинктам.
– Боги заставляют нас любить не тех, кого должно, заключила госпожа,– и мстят тем, кого любим. Они убивают тех, кто должен жить, и спасают тех, кто должен умереть. Они одной рукой дают, а другой отнимают, ответственные только перед своими непостижимыми законами.
3аметив смотрящую на него сверху Арету, Диэнек поднял маленького Идотихида и заставил его помахать ручкой. Арета махнула в ответ.
– Повинуясь слепому импульсу,– сказала она мне,– я спасла жизнь этому мальчику, сыну незаконнорожденого сына моего брата, и тем самым погубила жизнь мужа.
Она проговорила эти слова так тихо и с такой печалью, что у меня сжало горло и защипало глаза.
– Жены из других городов дивятся на женщин Лакедемона,– сказала госпожа.– Как могут, спрашивают они, эти спартанские жены стоять прямо, не мигая, когда изувеченные тела их мужей приносят домой, чтобы похоронить, или, еще хуже, закапывают в чужую землю и ничего, кроме холодных воспоминаний, не остается их сердцу? Те женщины думают, что мы сделаны из более твердого материала, чем они сами. А я скажу тебе правду, Ксео: из того же самого. Неужели они думают, что мы любим своих мужей меньше, а наши сердца сделаны из камня и стали? Неужели они вообразили, что наше горе меньше, поскольку мы подавляем его в груди?
Она моргнула сухими глазами, потом посмотрела на меня.
– И с тобой тоже боги играют свои шутки, Ксео. Но, может быть, еще не поздно подправить катящиеся игральные кости. Вот зачем я дала тебе ту горстку «сов».
Я уже понял замысел ее сердца.
– Ты не спартанец. Зачем связывать себя жестокими законами Спарты? Разве боги недостаточно уже украли у тебя?
Я попросил ее больше не говорить об этом.
– Эта девушка, которую ты любишь,– я бы могла привезти ее сюда. Только попроси.
– Нет! Пожалуйста.
– Тогда сбеги. Сегодня же вечером. Дай деру. Я сразу же ответил, что не могу.
– Мой муж найдет другого оруженосца. Пусть другой умрет вместо тебя.
– Прошу тебя, госпожа. Это было бы бесчестно. Ощутив, как горит моя щека, я понял, что госпожа ударила меня.
– Бесчестно? – Она произнесла это слово с отвращением и презрением.
Внизу к мальчишкам и Диэнеку присоединились другие крестьянские дети. Началась игра в мяч. Дети кричали в агоне, азарте соперничества, и их голоса весело летели к нам вверх по склону.
Могло вызывать одну только благодарность то, что госпожа так благородно донесла до меня из самого сердца, желание даровать мне милосердие, в котором, она чувствовала, мойры – богини судьбы – самой ей отказали. Даровать мне и той, кого я любил, случай ускользнуть из тяжких уз предопределенности, наложенных, как она ощущала, на нее саму и ее мужа.
Но я не мог предложить ей ничего, кроме того, что она уже знала. Я не мог уйти.
– И все равно, боги уже будут ждать меня там. Как всегда, на шаг впереди.
Я видел, как напряглись ее плечи, как ее воля подчинила благородный, но неосуществимый импульс сердца.
– Твоя двоюродная сестра узнает, где лежит твое тело и с какой честью ты погиб. Клянусь Еленой и Близнецами.
Госпожа встала со своей скамьи под дубами. Разговор закончился. Она снова была спартанкой.
И вот теперь, когда мы выступали в поход, я заметил на ее лице ту же суровую маску. Госпожа высвободилась из объятий мужа и собрала вокруг себя детей. Она вновь обрела прежнюю осанку, прямую и торжественную, как и другие спартанские жены, стоявшие под дубами.
Я видел, как Леонид обнял свою жену Горго, «Яркие Очи», своих дочерей и сына Плистарха, которому когда-нибудь предстояло занять его место царя.
Моя жена Ферея крепко обняла меня. Она терлась об меня всем телом под своим белым мессенийским платьем, держа за руки наших детей. Да, она недолго будет оставаться без мужа.
– Подожди хотя бы, пока я скроюсь из виду,– пошутил я и обнял детей, которых едва знал. Их мать была хорошей женщиной, и я жалел, что не могу любить ее так, как она заслуживала.
Последнее жертвоприношение было закончено, получены и записаны знамения. Триста построились – каждый Равный со своим оруженосцем – в длинной тени отдаленных гор, на виду у всего войска, собравшегося на левой («щитовой») стороне холма. Леонид, в венке, как и все, занял свое место перед воинами, рядом с каменным алтарем. Весь остальной город, старики и мальчишки, жены и матери, илоты и ремесленники, собрались на правой («копьевой») стороне. Еще не рассвело, солнце еще не показалось из-за горного гребня Парнона.
– Смерть приблизилась к нам вплотную,– произнес царь.– Вы чувствуете ее, братья? Я чувствую. Я человек и боюсь ее. Я думаю, как укрепить сердце к тому мгновению, когда я взгляну ей в лицо.
Леонид начал свою речь тихо, но его голос отчетливо разносился в предрассветной тиши, слышный всем.
– Сказать вам, где я нахожу эту силу, друзья? В глазах наших сынов что в алых одеждах стоят перед нами. И на лицах их товарищей, которые пойдут в последующую битву. Но более всего мое сердце находит мужества при взгляде на них – на наших женщин, что без слез смотрят, как мы уходим.
Он сделал жест в сторону собравшихся спартанских знатных дам, среди которых выделялись две пожилые, Пирро и Алкмена, и назвал их поименно:
– Сколько раз эти две женщины стояли здесь, в холодной тени Парнона, и смотрели на своих любимых, уходящих на войну? Пирро, ты видела, как войска наших дедов и отцов отправлялись на Афетаид, чтобы никогда не вернуться. Алкмена, твои глаза без слез смотрели, как муж и братья ушли навстречу смерти. Теперь ты снова стоишь тут, вместе с немалым числом других, родивших столько же и еще больше, и смотришь, как сыновья и внуки отправляются в Царство мертвых.
Это была правда. Сын Пирро Дорион стоял теперь в венке среди Всадников; внуками Алкмены были победители Олимпиады Алфей и Марон.
– Мужская боль легко появляется и быстро проходит. Наши раны – телесные, и они ничтожны. Раны женщин – раны сердечные, это нескончаемая печаль, переносить которую гораздо горше.
Леонид указал на жен и матерей, собравшихся на еще темных склонах.
– Учитесь у них, братья, учитесь терпеть муки, как терпят они их при рождении детей. Усвойте их урок: за все хорошее в жизни надо платить. А самое сладкое в жизни – это свобода. Ее мы избрали, и за нее мы платим. Мы связаны законами Ликурга, а это суровые законы. Они учат нас презирать жизнь в неге, которую наши богатые земли могли бы нам обеспечить, пожелай мы этого. Однако мы поступаем в академию дисциплины и самопожертвования. Ведомые этими законами, наши предки в двадцати поколениях вдыхали благословенный воздух свободы и строго платили по счету, когда им предъявляли этот счет. Мы, их сыновья, не можем сделать меньше.
Каждому воину оруженосец подал чашу вина, каждому – собственный ритуальный кубок, врученный воину в день посвящения в Равные и используемый только в самых торжественных церемониях. Леонид поднял свой и с молитвой 3евсу-Вседержателю, Елене и Близнецам совершил возлияние.
– Уже шесть веков, как говорят поэты, ни одна спартанская женщина не видит дыма вражеских костров.
Подняв обе руки вверх, Леонид выпрямился и поднял лицо к небу:
– 3евсом и Эросом, Афиной-Покровительницей и Артемидой Справедливой, Музами и всеми богами и героями, защищавшими Лакедемон, и кровью собственной плоти клянусь, что наши жены и дочери, наши сестры и матери не увидят этих костров и теперь.
Он выпил, а за ним выпили и все мужчины.
Глава двадцать первая
Великий Царь хорошо знает топографию подходов, ему ведома паутина ущелий и сжатая карта поля боя, где его войска вступили в бой со спартанцами у Горячих Ворот. Я пропущу это описание, а вместо того расскажу о составе греческих сил и о том состоянии разброда и беспорядка, что царили на месте назначения, когда они прибыли туда, чтобы защищать проход.
Когда Триста – теперь усиленные пятью сотнями тяжелой пехоты из Тегея и таким же числом воинов из Мантинеи – вместе с двумя тысячами, набранными в Орхомене и остальной Аркадии, Коринфе, Флиунте и Микенах, плюс семьсот из Феспии и четыреста из Фив – прибыли в Опунтскую Локриду, что в девяноста стадиях от Горячих Ворот, чтобы соединиться с тысячей гоплитов из Фокиды и Локриды, они обнаружили там совершенное безлюдье.
Осталось лишь несколько мальчишек и молодых мужчин. Они занимались тем, что грабили покинутые дома соседей и присваивали запасы вина, обнаруженные в тайниках своих соотечественников. 3авидев спартанцев, они дали стрекача, но разведчики догнали их. Войско и локрийские жители, доложили прыщавые мародеры, ушли в горы, а местные вожди бежали на север, к персам, со всей скоростью, на какую способны их хилые ноги. По сути дела, заявили мальчишки, локрийские предводители уже сдались.
Леонид был вне себя. Однако в результате поспешного и решительно грубого допроса этих сельских грабителей выяснилось, что местные жители неправильно поняли день сбора. Дело в том, что месяц, называемый в Спарте карнеем, в Локриде назывался леминдеоном. Кроме того, его начало отсчитывается назад от полнолуния, а не вперед от новолуния. Локрийцы ожидали спартанцев на два дня раньше и, когда те не пришли, решили, что спартанцы их бросили. Локрийцы бросились бежать, разнося в их адрес проклятья. Шквал слухов быстро донес злословье локрийцев до окрестностей Фокиды, где расположены сами Ворота. Тамошние обитатели, фокийцы, и без того уже были перепуганы. Опасаясь, что их захватят, они удрали тоже.
Во время похода на север колонна союзников встречала местные племена и сельских беженцев, стремящихся на юг. Потрепанные роды бежали от наступавших персов, неся свои жалкие пожитки в заплечных мешках, сделанных из покрывал или плащей. Рваные узлы с барахлом стояли у их на головах, как сосуды с водой. 3емлепашцы с ввалившимися щеками катили тачки, груженные мебелью, а чаще – детьми, чьи ноги стерлись от ходьбы, или закутанными в одеяла стариками, не способными идти от дряхлости. У некоторых имелись воловьи упряжки и навьюченные ослы. Под ногами толклись домашние животные и скотина. Тощие собаки выпрашивали подачки, а скорбного вида свиньи, которых пинками гнали вперед, как будто понимали, что через день-два попадут кому-нибудь на ужин. Среди беженцев преобладали женщины. Они еле тащились, босые, повесив обувь на шею, чтобы сберечь подметки.
3аметив приближающуюся колонну союзников, женщины испуганно освобождали дорогу. Они карабкались на горные склоны, прижимая к себе детей и роняя на бегу пожитки. Всегда наступал момент, когда до них доходило, что воины на марше – их соотечественники. Тогда охватившая их сердца перемена доводила их чуть ли не до экстаза. Женщины скатывались вниз с труднодоступных склонов, жались поближе к колонне, некоторые немели от изумления, другие со слезами отворачивали запыленные лица. Престарелые бабушки, толкаясь, бросались целовать руки молодых воинов, матери семейств кидались им на шею и обнимали в эти одновременно уместные и неуместные моменты. «Вы спартанцы?» – спрашивали они почерневших на солнце воинов, тегейцев и микенцев, коринфян, фиванцев, флиунтцев и аркадцев, и многие лгали, называя себя спартанцами. Когда женщины слышали, что колонну возглавляет сам Леонид, многие отказывались верить – так привыкли они, что их вечно предают и бросают. Когда им показывали спартанского царя и Всадников вокруг него, многие не могли вынести огромного чувства облегчения. Женщины прятали лицо в ладонях и оседали на дорогу..
От таких сцен – по восемь, десять, двенадцать раз на день – сердца союзников охватывала мрачная решимость. Нужно было вовсю торопиться, защитники должны любой ценой добраться до прохода и укрепить его, прежде чем туда войдет враг. Все невольно ускоряли шаг. Вскоре колонна стала обгонять обоз, поэтому возы и вьючные ослы были брошены и пехотинцы перевалили все необходимое себе на спину.
Что касается меня, я разулся и свернул свой плащ в скатку; щит хозяина я нес за внутреннюю скобу вместе с поножами и нагрудником, весившими более пятидесяти мин, плюс постель для нас обоих и полевой набор, мое собственное оружие, три колчана стрел с железными наконечниками, завернутые в промасленную козлиную шкуру, и всякие другие необходимые принадлежности: «рыболовные крючки» и нитки, мешочки с целебными травами, чемерицей и наперстянкой, эвфорбией и кислицей, майораном и сосновой смолой; зажимы для артерий, жгуты для рук, холщовые компрессы, бронзовые «собачки», чтобы нагревать и засовывать в проникающие раны, прижигая ткани; «утюжки» чтобы делать то же с поверхностными рваными ранами; мыло, стельки, кротовьи шкурки, швейный набор; еще поварская утварь – вертел, горшок, ручная мельница, кремень и палочки для добывания огня; мелкий песок и масло для чистки бронзы, промасленное полотнище от дождя, кирка-лопата, названная за свою форму гиссакс – солдатский грубый термин, означающий женское отверстие. Это вдобавок к пайку – немолотый ячмень, лук и сыр, чеснок, фиги, копченая козлятина; плюс деньги, амулеты, талисманы.
Сам мой хозяин нес запасную раму для щита с двойными бронзовыми пластинами, мою и свою обувь с ремнями, заклепки и набор инструментов, свой кожаный боевой пояс, два ясеневых и два кизиловых копья с запасными железными наконечниками, шлем и три ксифоса – один на бедре, а два других привязанные к тяжелому заплечному мешку, набитому продовольствием и немолотым зерном, двумя мехами с вином и одним с водой, плюс «сладкий мешок» со сладкими лепешками, приготовленными Аретой и дочерьми, завернутыми в промасленное полотно, чтобы не проникал луковый запах из мешка. По всей колонне, впереди и сзади, попарно шагали оруженосец и воин, неся между собой груз от ста пятидесяти до ста шестидесяти мин.
К колонне примкнул не занесённый в список доброволец – чалая охотничья собака по кличке Стикс, принадлежавшая Перинфу, разведчику-скириту, на которого пал «царский выбор» Леонида. Собака следовала за хозяином с гор до Спарты и теперь, не имея дома, куда возвратиться, продолжала служить ему. В течение часа с небольшим она деловито патрулировала по всей длине колонны, запоминая по нюху положение каждого воина на марше, потом возвращалась к своему хозяину-скириту, которого теперь прозвали Собакой, и там продолжала неутомимо трусить у его ног. Не оставалось никаких сомнений, что, по мнению собаки, все эти люди принадлежали ей. Она пасла нас, как заметил Диэнек, и проделывала огромную работу.
С каждым стадием окрестности становились беднее и безлюднее. Все жители ушли. Под конец, в Фокиде, уже неподалеку от Ворот, колонна вошла в совершенно пустые, брошенные жителями места. Леонид послал гонцов в горные крепости, куда отступили местные войска, чтобы сообщить от имени Эллинского Совета, что союзники вступили в данный район с намерением защищать страны фокийцев и локрийцев независимо от того, покажут те нос из своих крепостей или нет. Царское послание не было написано на обычном свитке для военных донесений, но спешно нацарапано на холщовой обертке, обычно используемой для приглашений семьи и друзей на танцы. Последнее предложение гласило: «Приходите какие есть».
После полудня через шесть дней после выхода из Лакедемона союзники достигли деревни Альпены, а еще через полчаса подошли к самим Фермопилам. В отличие от окружающей Фермопилы сельской местности, поле сражения – будущее поле сражения – оказалось далеко не безлюдным. Множество обитателей Альпен и Антелы, северной деревни, стоящей на ручье под названием Феникс, поставили здесь временные торговые палатки. Кто-то пек ячменные и пшеничные лепешки. Один предприимчивый умник открыл винную лавку. Две не менее предприимчивые шлюхи даже соорудили в заброшенной купальне бордель на две койки. Он моментально стал известен как Святилище Афродиты Падшей или «две дыры», в зависимости от того, кто спрашивал дорогу туда и кто давал совет, предлагая провести.
Персы, по донесениям разведчиков, еще не добрались до Трахина – ни по суше, ни по морю. Равнину к северу еще не покрывали вражеские шатры. Флот Персидской державы, как докладывали, вышел из Фермы, что в Македонии, то ли день, то ли два назад. Тысячи их боевых кораблей, вероятно, двигались вдоль побережья Магнезии, и передовые отряды рассчитывали через двадцать четыре часа достичь места высадки в Афетах, что в шестидесяти двух стадиях севернее Фермопил.
Наземные войска противника выступили из Фермы десятью днями раньше, их колонны продвигаются, сообщали беженцы, по прибрежным и удаленным от моря дорогам и по пути вырубают леса. Передовые части наземного войска ожидаются в то же время, что и флот.
Теперь Леонид проявил активность.
Прежде чем вражеские лагеря показались в виду, царь направил в окрестности Трахина, непосредственно к северу от Ворот, отряды легких всадников. Им следовало сжечь на полях все до единого колоска и захватить или разогнать всю скотину, которая могла бы пойти в пищу неприятелю,– вплоть до кошек и ежей.
Вслед за всадниками были высланы отряды для рекогносцировки от каждой боевой части союзников с приказом продвинуться как можно севернее, до пологих пляжей, удобных для высадки персов. Этим отрядам надлежало снять карту местности, обращая особое внимание на дороги и тропы, доступные для персов по пути к Теснине. Хотя у союзных войск не было конницы, Леонид позаботился включить в этот отряд опытных конников: даже пешие, они могли лучшим образом оценить возможности вражеской конницы. Сможет ли Ксеркс провести по тропам коней? Как много? Как быстро? Какие меры лучше всего принять союзникам в этом случае?
В дальнейшем разведывательным отрядам надлежало задерживать и доставлять местных жителей, чьи топографические знания могли помочь союзникам. Леонид хотел знать каждую пядь местности у северных подходов и, горько вспоминая Темпе, желал составить основательное суждение о горных проходах на юге и западе, тщательно исследуя всякую скрытую тропу, по которой можно было бы обойти греческую позицию и зайти ей в тыл.
В это время случилось происшествие, которое чуть не сломило волю союзников. Один фиванский пехотинец случайно наступил на змеиное гнездо с только что родившимися змеёнышами и получил в голую лодыжку порцию яда от полудюжины маленьких гадов, чьих укусов, как известно охотникам, нужно бояться больше, чем укусов взрослых змей, поскольку гаденыши не научились дозировать яд и пускают его в рану по полной мере. Через час фиванец умер в страшных мучениях, несмотря на то, что лекари выпустили из него почти всю кровь.
Пока фиванец еще корчился в агонии, вызвали прорицателя Мегистия. Остатки войска, посланного Леонидом оценить длину и состояние стоявшей поперек Ворот древней Фокийской стены, задержали свои работы и застыли в ужасе. Жизнь укушенного змеей медленно и мучительно убывала, и это зрелище, казалось, олицетворяло чувства всех окружающих.
И наконец сын Мегистия догадался спросить имя фиванца.
Как сообщили его товарищи, укушенного звали Перс.
И моментально мрак, порождённый знамением, рассеялся, поскольку Мегистий объяснил значение, которое не могло быть яснее: этот человек, имевший несчастье получить от матери такое имя, олицетворял собою врага, который, вторгшись в Грецию, наступил на змеиное потомство. Как ни неопытны и разобщены были змеиные дети, но своими зубами сумели впрыснуть яд в кровь врага и свалить его.
Уже пала ночь, когда отмеченный мойрами человек испустил дух. Леонид велел воинам немедленно его похоронить со всеми почестями, а затем направил их руки к другой работе. Приказано было явиться всем каменщикам из числа союзников, независимо от подразделения. Из обоза собрали все долота, кирки и ваги и еще прислали из деревни Альпены и окрестностей. Каменщики отправились по тропе к Трахину с приказом насколько возможно повредить тропу, а также высечь на камнях на самом видном месте следующую надпись:
Греки, призванные на службу Ксерксом! Если по принуждению вам придется сражаться с нами, вашими братьями, сражайтесь плохо.
Одновременно начались работы по восстановлению древней Фокийской стены, перегораживающей Теснину. Когда союзники пришли, укрепление представляло собой груду обломков. Леонид приказал возвести настоящую крепостную стену.
Произошла забавная сцена, когда строители из союзного ополчения собрались на торжественный совет, чтобы осмотреть место и предложить архитектурные варианты. Чтобы осветить Теснину, принесли факелы, на земле набросали эскизы. Один из коринфских военачальников создал настоящий чертеж в правильном масштабе. Теперь начальники начали спорить. Стену нужно построить прямо в Теснине, чтобы ее перегородить. Нет, предлагали другие, лучше ее отнести на два плетра назад, создав «треугольник смерти» между скалами и крепостной стеной. Третий начальник убеждал отодвинуть стену вдвое дальше, чтобы освободить союзной пехоте пространство для сосредоточения и маневра. Тем временем рядом слонялись воины, налево и направо раздавая мудрые советы и пожелания, как это любят эллины.
Леонид же просто взял камень, подошел к первому попавшемуся месту и там его положил. Потом взял второй и положил рядом с первым. Остальные тупо смотрели, как их главнокомандующий, которому было далеко за шестьдесят, наклонился за третьим камнем. Кто-то рявкнул: «Сколько еще вы, идиоты, собираетесь стоять тут, разинув рот? Подождёте до утра, пока ваш царь не построит стену сам?»
С веселым шумом воины взялись за работу. Но и Леонид, увидев, сколько рук пришло ему на помощь, не прекращал своих усилий, а продолжал вместе со всеми громоздить камни, возводя настоящую крепость.
– Ничего замысловатого, братья,– проинструктировал он строителей.– Ведь каменная стена будет прикрывать не Элладу, а человеческую стену.
Царь разделся и трудился вместе с воинами, не уклоняясь ни от какой работы и останавливаясь лишь для того, чтобы обратиться по имени к знакомым да запомнить имена и даже прозвища других, кого еще не знал. Дружески похлопать по спине новых соратников. Он всегда так поступал – таким он был и в сражениях. Было удивительно, с какой быстротой задушевные слова, обращенные к одному или двоим, передавались по цепочке от воина к воину, наполняя мужеством все сердца.
Уже заканчивалась первая стража.
– Приведите ко мне этого злодея.
С этими словами Леонид призвал местного разбойника, который по пути примкнул к колонне и за плату предложил свои услуги в рекогносцировке. Двое скиритов вывели этого человека вперед. К своему удивлению, я узнал его.
Это был мой земляк по прозвищу Сферей – «Игрок в мяч», дикий мальчишка, ушедший в горы после разрушения нашего родного города и потом пинавший набитый травой человеческий череп в знак своего главенства над прочими изгоями. Теперь, когда этот головорез приблизился к отсветам царского костра, я увидел, что это уже не юноша с гладкими щеками, а бородатый, покрытый шрамами мужчина.
Я подошел к нему, и он тоже узнал меня. Разбойник был в восторге от возобновления нашего знакомства и дивился судьбе, которая привела нас, двоих сирот, пострадавших от огня и меча, сюда, в самый центр угрожавшей Элладе опасности.
Сферей кипел радостью, предвкушая войну. Ему предстояло блуждать по ее окраинам и грабить сломленных и побежденных. Война сулила ему большую выгоду. Было ясно без слов, что он считает меня болваном,– ведь я избрал для себя службу, не приносящую ни малейшей выгоды.
– А что стало с той аппетитной струйкой пара, с которой вы обычно шлялись? – спросил он меня.– Как ее звали, твою двоюродную сестру?
Слово в «пар» в моем городе служило для непристойного обозначения девушки в прекрасном и нежном возрасте.
– Она умерла,– соврал я,– и ты тоже умрешь, если еще произнесешь хоть слово.
– Полегче, земляк! Притормози. Я же просто треплюсь.
Царские стражники увели от меня разбойника, не дав нам договорить. Леониду требовался смельчак, чьи подошвы умели цепляться за каждую щель на козьих тропах, какой-нибудь храбрец, чтобы вскарабкаться на высоченный отвесный склон Каллидрома, нависавший над Тесниной. Царь хотел узнать, что находится на вершине и насколько опасно туда подниматься. Когда враг займет Трахинскую равнину и северные подходы, смогут ли союзники забросить отряд – или хотя бы одного человека – через плечо горы в тыл противника?
Сферей с энтузиазмом взялся за столь рискованное предприятие.
– Я пойду с ним,– сказал скирит Собака, сам горец. Что угодно, только не строить эту жалкую стену.
Леонид с готовностью принял его предложение. Он велел своему казначею вознаградить разбойника достаточно щедро, чтобы тот пошел, но не чересчур, дабы он вернулся.
Около полуночи начали спускаться с гор фокийцы и опунтские локрийцы. Леонид тепло приветствовал новых союзников. Он ни словом не упомянул об их. недавнем бегстве, а вместо этого сразу же проводил их в выделенную для них часть лагеря, где их ждала похлебка и свежеиспеченный хлеб.
На севере, на побережье, разразилась страшная буря; издали раздавались яростные раскаты грома. Хотя над Воротами небо оставалось ясным и сверкали звезды, воины поеживались. Они устали. Шесть дней похода с тяжёлой ношей поубавили у них живости, в их сердца начали прокрадываться невысказанные страхи и невидимые демоны. А только что прибывшие фокийцы и локрийцы не могли помешать им ясно видеть, как незначительна, если не сказать – самоубийственно мала, численность войска, которое намеревалось сдержать мириады вражеских полчищ.
Местные торговцы и даже шлюхи исчезли, как крысы, попрятавшиеся в свои норы перед землетрясением. Среди слонявшихся вокруг местных жителей был человек, моряк с торгового судна, утверждавший, что много лет плавал из Сидона в Тир. Мне случилось встретить его у костра аркадцев, когда этот человек раздувал пламя страха. Дескать, он собственными глазами видел персидский флот и может рассказать следующее:
– В прошлом году я вел из Митилены галеру с зерном, и нас захватили финикийцы, их корабли составляют часть флота Великого Царя. Они конфисковали наш груз. Нам пришлось проследовать под их конвоем и разгрузиться в одном из их складов на реке Стримоне, на Фракийском побережье. То, что я там увидел, чуть не лишило меня чувств.
К кругу стали присоединяться другие, все серьезно слушали.
– Склад был огромный, как город. Издали можно было подумать, что это гряда холмов. Но вблизи холмы оказались солониной, она хранилась в амфорах с рассолом, сложенных пирамидами до небес. Я увидел оружие, братья. Стеллажи с оружием, десятки тысяч. 3ерно и масло, шатры с хлебом – они были размером со стадион. Всевозможное военное имущество, какое только можно вообразить. Ядра для пращей. Свинцовые ядра, сложенные в фут высотой, покрывали целый акр. Корыта с овсом для царских коней протянулись на несколько стадиев. И в середине всего возвышалась покрытая промасленной дерюгой пирамида, огромная, как гора. Что такое могло быть под ней? Я спросил начальника морской пехоты, сторожившего нас. «Пошли,– сказал он, я покажу тебе». Угадайте, друзья мои, что же там возвышалось, сложенное до небес под дерюгой? Папирусы,– объявил моряк.
Никто из аркадцев не понял его многозначительности.
– Папирусы! – повторил фракиец, словно стараясь вбить всю значимость этого слова под толстые черепа слушателей. – Папирусы для записей, чтобы вести учет. Учитывать людей. Лошадей. Оружие. Зерно. Приказы войскам и другие распоряжения, папирусы для донесений и реквизиций, для списков личного состава и депеш, военных судов и наград за доблесть. Папирусы, чтобы отслеживать все, что Великий Царь берет в поход, и все добро, что он планирует награбить. Папирусы, чтобы инвентаризировать сожженные страны и разоренные города, захваченных пленных, закованных в цепи рабов…
В этот момент к собравшимся случайно подошел мой хозяин. Он сразу заметил страх на лицах слушателей и, ни и слова не говоря, протолкался к огню. Увидев среди слушателей военачальника-спартиата, моряк удвоил свой пыл. Ему нравился поток страха, порождаемый его рассказом.
– Но я еще не рассказал самого страшного, братья, продолжил фракиец.– В тот самый день, когда наши тюремщики вели нас на ужин, мы проходили мимо стрелявших их в цель персидских лучников. Сами олимпийские боги не могли бы собрать таких полчищ! Клянусь вам, друзья,, так многочисленны были стрелки, что, когда одновременно выстрелили, туча стрел заслонила солнце!
Глаза сплетника радостно загорелись. Он повернулся к моему хозяину, словно желая удостовериться, что его рассказ разжёг пламя страха даже в спартанце. К его разочарованию, Диэнек смотрел на него с холодной, почти скучающей отрешенностью.
– Хорошо,– только и сказал мой хозяин.– 3начит, мы будем сражаться в тени.
В середине второй стражи поднялась первая паника. Я еще не спал, прикрываясь щитом хозяина от собиравшегося дождя, когда услышал шорох двигающихся тел, перемежающийся человеческими голосами. Звуки охваченного тревогой лагеря совершенно не такие, как звуки спокойного. Диэнек моментально очнулся от крепкого сна, словно пастушья овчарка, услышавшая беспокойство в стаде, и проворчал:
– Сучья мать! Начинается.
В лагерь вернулся первый отряд разведчиков. Они увидели огни, факелы персидских конных передовых отрядов, и тихо отступили, пока персы их не отрезали. С уступа горы уже отчетливо видно врага, доложили они, перс не более чем в десяти стадиях отсюда по тропе. Некоторые передовые посты тоже совершили вылазки по собственной инициативе и теперь, вернувшись в лагерь, подтвердили донесение.
3а плечом Каллидрома, на раскинувшейся Трахинской равнине, прибывали наступающие части персидского войска.
Глава двадцать вторая
Недолго понаблюдав за вражескими передовыми частями, Леонид поднял все войско, готовясь к бою. Он приказал союзникам построиться в сомкнутые ряды и быть готовыми к выступлению. Остаток той ночи и весь следующий день ушли на то, чтобы всерьез опустошить Трахинскую равнину и прилегающие горные склоны, проникающие вдоль берега на север до самого Сперхея, а в глубь суши – до крепости и Трахинских скал. По всей равнине были разожжены сторожевые огни и не маленькие костерки для жаренья кроликов, как обычно, а ревущие костры, чтобы создать иллюзию большого количества воинов. Союзные части выкрикивали в темноте оскорбления и проклятия друг другу, стараясь казаться пободрее и поувереннее. К утру равнину от края до края заволокло дымом и морским туманом – именно так, как и хотел Леонид. Я был в одном из четырех последних отрядов, поддерживавших костры. И вот над заливом замаячил сумрачный рассвет. Мы могли видеть персов – верховые разведывательные дозоры и лучников на быстроходных судах у противоположного берега Сперхея. Мы стали орать им оскорбления, они ответили нам тем же.
Прошел день, и еще один. Теперь стали подтягиваться части основных вражеских сил. Противник начал заполнять равнину. Разведчики видели, как персидские военачальники назначали лучшие места для установки шатров Великого Царя и его приближенных, как отводили лучшие пастбища для лошадей Его Величества.
Персам было известно о том, что греки здесь, как и греки знали об их присутствии.
В ту ночь Леонид вызвал моего хозяина и других командиров на небольшой холмик за Фокийской стеной, где спартанский царь расположил свой командный пункт. 3десь Леонид обратился с речью к спартанцам. Тем временем начали прибывать военачальники из других союзных городов, также вызванные на совет. По времени все получилось так, как задумал царь. Он хотел, чтобы начальники союзников подслушали слова, якобы предназначенные только для спартанцев.
– Братья и товарищи,– обратился Леонид к собравшимся вокруг него лакедемонянам,– похоже, что все наше внушительное представление не убедило перса благоразумно собрать свое барахло и вернуться домой. Кажется, все-таки придется нам с ним сразиться. Так вот, послушайте, чего я хочу от каждого из вас. Вы – избранники Эллады, воины и военачальники государства Лакедемон, избранного Истмийским Советом нанести первый удар в защиту нашей родины. Помните, что наши союзники возьмут с вас пример. Если вы выкажете страх, они испугаются вдвойне. Если вы проявите мужество, они ответят тем же. Мы должны вести себя так же, как и во всех прочих походах. С одной стороны, никаких чрезвычайных предосторожностей, а с другой – никакого безрассудства. Главное – мелочи. Поддерживайте обычный распорядок боевой подготовки своих воинов. Не пропускайте жертвоприношений богам. Продолжайте гимнастические занятия и упражнения с оружием. Как всегда, находите время для ухода за волосами. Найдите время для любой мелочи.
Союзные военачальники уже собрались к костру совета и заняли места среди ранее собравшихся спартанцев. Леонид продолжал говорить как будто для своих, но в то же время в присутствии новых ушей.
– Помните, что наши союзники не посвящали всю свою жизнь подготовке к войне, как это делали мы. Они – крестьяне и торговцы, воины гражданского ополчения. Тем не менее они не чужды доблести – иначе их бы здесь не было. Для фокийцев и опунтских локрийцев это – родная земля, они сражаются за свои дома и семьи. Что касается фиванцев и коринфян, тегейцев, орхоменцев и аркадцев, флиунтцев, феспийцев, мантинейцев и жителей Микен, они, по-моему, проявили еще более благородную андрею, поскольку добровольно пришли защищать не собственные очаги, а всю Грецию.
Он пригласил вновь прибывших подойти поближе.
– Добро пожаловать, братья. Поскольку я нахожусь среди союзников, я повторю то, что сказал своим воинам.
Военачальники угрюмо усмехнулись.
– Я говорил спартанцам,– продолжал Леонид,– то же что говорю теперь вам. Вы – командиры, ваши воины будут смотреть на вас и действовать так же как вы. Весь день находитесь среди своих братьев-воинов. Пусть они видят вас и понимают, что вы не боитесь. Если нужно что-то сделать, первыми беритесь за работу, и воины последуют за вами. Некоторые из вас, я вижу, поставили шатры. Немедленно снимите. Все мы будем спать, как и я, под открытым небом. Пусть ваши люди все время будут чем-нибудь заняты. Если у них нет работы, придумайте ее. Когда у воинов есть время поболтать языками, их разговоры заканчиваются страхом. А действия, со своей стороны, вызывают желание действовать и дальше. Все время соблюдайте походную дисциплину. Не давайте никому справлять естественные надобности без копья и щита на боку. Помните, что самое грозное оружие перса – его конница и множество лучников и пращников но здешняя местность делает их бессильными.
Вот почему мы избрали это место. Враг не может ввести в Теснину больше двенадцати воинов в ряд, и не больше тысячи может собраться у Стены. Нас четыре тысячи. Так что мы превосходим их числом вчетверо.
Это вызвало первый искренний смех. Леонид старался внушить мужество не только своими словами, но и спокойной манерой произносить их. Война – это работа, а не таинство. Царь ограничил свои инструкции практическими предписаниями. Он не старался установить приподнятое состояние духа, которое, он знал, все равно улетучится, как только командиры разойдутся от ободряющего света царского костра.
– Следите за собой, благородные мужи. Держите волосы, руки и ноги в чистоте. Ешьте, если даже приходится давиться. Спите или хотя бы притворяйтесь, что спите. Не давайте подчинённым видеть вашего беспокойства. Если пришли плохие вести, сначала доложите непосредственному начальству и не торопитесь делиться этим с простыми воинами. Велите своим оруженосцам отполировать каждый аспис до безупречного блеска. Я хочу, чтобы щиты сверкали как зеркало, чтобы один их вид вселял страх во врага. Оставьте своим воинам время наточить копья, поскольку тот, кто точит сталь, укрепляет свое мужество. Что касается вашего вполне понятного беспокойства относительно ближайших часов, скажите своим воинам так: я не ожидаю никаких боевых действий ни в эту ночь, ни завтра, ни даже послезавтра. Персу нужно время расположить свои войска. Чем большими мириадами людей он обременен, тем больше времени уйдет на это. Ему придется дождаться прибытия своего флота Мест высадки на этом негостеприимном берегу немного, и они малы. Персу понадобится несколько дней, чтобы на рейде поставить на якорь тысячи своих боевых транспортных кораблей. Наш флот, как вы знаете, занял пролив у Артемизия. Чтобы пробиться, врагу придется выдержать полномасштабное сражение, и подготовка к нему займет еще больше времени. Что касается нападения на нас в проходе, враг еще должен разведать наши позиции и обдумать, как лучше всего атаковать их. Без сомнения, сначала он пошлет своих переговорщиков, стараясь дипломатией достичь того, чего не решается добиться ценой крови. Это не должно вас беспокоить, поскольку все вражеские угрозы я знаю наперед.– Тут Леонид нагнулся и поднял с земли камень размером в три кулака.– Поверьте мне, друзья, если Ксеркс обратится ко мне, то он может с таким же успехом говорить с этим булыжником.
Он плюнул на камень и отшвырнул его в темноту.
– И еще. Вы все слышали про оракул, объявивший, что или Спарта потеряет в бою царя, или сам город будет уничтожен. Я вопросил знамения, и светозарный бог ответил, что я и есть тот самый царь и это место станет моей могилой. Будьте уверены, однако, что это знание ни в коей мере не сделает меня безрассудным в отношении чужих жизней. Клянусь вам всеми богами и душами моих детей: я сделаю все, что в моих силах. 3ащищая проход, я сохраню вас и ваших людей, сколько смогу. И последнее, братья и союзники. В том месте, где сражение будет наиболее кровавым, знайте: лакедемоняне окажутся в первых рядах. Но прежде всего донесите до ваших людей: пусть они ни на йоту не уступают в доблести спартанцам и даже стремятся превзойти их. Помните, в военном деле владение оружием значит немного. Все решает мужество, а на него у нас, спартанцев, нет монополии. Когда поведете своих воинов за собой, помните об этом, и все будет хорошо.
Глава двадцать третья
Мой хозяин дал мне наказ, чтобы во все время похода я будил его за два часа до рассвета – на час раньше всех воинов из его эномотии. Он хотел, чтобы они не видели его лежащим на земле, но всегда, проснувшись, заставали своего эномотарха на ногах и при оружии.
В ту ночь Диэнек спал еще меньше, чем обычно. Я услышал, как он заворочался, и от этого проснулся.
– Лежи спокойно,– приказал он и рукой прижал меня к земле.– Еще не прошла вторая стража.
Он спал, не снимая своего боевого пояса, и теперь, постанывая от боли в суставах, встал на ноги и надел шлем. Диэнек взял копье и щит. Прихрамывая на покалеченную ногу, он направился к месту ночлега Леонида среди Всадников, где царь не спал и, возможно нуждался в собеседнике.
Лагерь дремал, зажатый на своем пятачке. Над ущельем в холодном не по сезону воздухе, сыром от близости моря и еще более свежем от недавнего шторма, повисла растущая луна. Ясно слышался шум прибоя, бьющего об основание скал. Я взглянул на Александра, положившего голову на свой щит рядом с храпящим Самоубийцей. Вокруг догорали сторожевые огни; на другом конце лагеря замерли спящие воины в мешковатых плащах и ночных шапках. Сейчас они напоминали скорее мешки со старым бельем, чем людей.
По направлению к Средним воротам виднелись купальни у минеральных источников. Там возвышались аккуратные деревянные строения из неструганых досок. Их каменные пороги за века отполировали ноги бесконечной череды купальщиков и летних посетителей. Утоптанные тропинки петляли меж дубов, освещенные оливковыми факелами у источников. Под каждым факелом висела дощечка из обожженного дерева с вырезанным стихотворным отрывком. Я припоминаю один:
Как при рождении душа вступает в жидкость тела, так в эти воды ты теперь вступи и плоть с душою слей в божественном, небесном единенье.Мне вспомнилось, что мой хозяин однажды сказал про поле боя. Это было при Тритеях, когда наше войско сошлось с ахейцами на поле проросшего ячменя. Решительная схватка состоялась напротив храма, в который в мирное время родственники приводили душевнобольных и одержимых, чтобы помолиться и принести жертву Деметре Милосердной и Персефоне. «Никогда ни один землемер не выбирал место для сражений. На земле надо сеять хлеб, возводить храмы. По иронии судьбы это не всегда так».
И все же в гористой, суровой Элладе есть места, гостеприимные к войне: Энофита, Танагра, Коронея, Марафон, Херонея, Левктры – это равнины и теснины, где на протяжении многих поколений сталкивались войска.
И проход у Горячих Ворот тоже был одним из таких мест. 3десь, в этих обрывистых ущельях, противоборствующие силы упирались в землю, как Язон и Геракл. 3десь сражались горные племена, дикие народы и морские пираты, кочевые орды, варвары и захватчики с севера и запада.
Приливы войны и мира чередовались здесь веками – купальщики и воины приходили одни за целебной водой, другие – за кровью.
Крепостная стена была уже достроена. Один ее край упирался в широкую скалу, вздымая свою мощную башню вровень с каменным утесом, другой отходил под углом по склону к скалам в море. Стена выглядела неплохо. Толщина ее у основания составляла два копья, а высота – два человеческих роста. Ее обращенный к врагу фасад был не отвесным, как городская стена, а с уклоном до высоты ворот для вылазок, откуда последние четыре локтя поднимались вертикально, как у крепости. Это было сделано для того, чтобы воины союзников могли при необходимости быстро отступить назад, в укрытие, а не оказаться прижатыми и приколотыми к собственной стене.
Задняя сторона имела ступени. Там защитники могли подняться к гребню, где был устроен деревянный частокол, обшитый шкурами. Дозорные, стоя у частокола, могли не опасаться, что вражеские стрелы с зажжённой паклей подожгут его. Кладка была неровной, но крепкой. Через определенные промежутки возвышались башни, усиленные справа, слева и посередине редутами, а сзади еще одной стеной. Эти опорные пункты были построены высотой с основную стену, а сверху еще навалены тяжелые камни на человеческий рост. Эти незакрепленные камни можно было при необходимости скатить вниз, в проходы располагавшихся ниже ворот. Наверху я видел часовых, а у редутов в полной паноплии стояли три готовых эномотии, две аркадские и одна спартанская.
Леонид действительно не спал. Его длинные стального цвета волосы четко выделялись рядом с костром военачальников. Диэнек находился там, среди других командиров. Я различил Дифирамба, начальника феспийцев, Леонтиада, предводителя фиванцев, Полиника, братьев Алфея и Марона и нескольких других спартанских Всадников.
Небо начало светлеть, и я заметил, что возле меня движутся какие-то силуэты. Александр и Аристон тоже проснулись и теперь поднялись рядом со мной. Эти молодые воины, как и я сам, не могли отвести глаз от окружавших царя военачальников и олимпиоников. Все понимали, что ветераны будут держаться с честью.
– Что будем делать? – Александр выразил словами общую тревогу, которая, невысказанная, таилась в юных сердцах.– Найдем ли мы ответ на вопрос Диэнека? Найдем в себе «противоположность страха»?
3а три дня до выступления из Спарты мой хозяин собрал воинов и оруженосцев своей эномотии и за свой счет организовал охоту. Он сделал это, чтобы попрощаться – не друг с другом, а с холмами родной страны. Никто ни словом не обмолвился о Воротах или грядущих испытаниях. Это был великолепный праздник, и боги послали нам несколько прекрасных подарков, в том числе славного кабана, которого завалили Самоубийца и Аристон при помощи дротика и рогатины.
В сумерках охотники, которых собралось больше дюжины, плюс двойное число оруженосцев и илотов, служивших загонщиками, в приподнятом настроении уселись вокруг нескольких костров, разожжённых на склоне холма над Ферой. И фобос тоже сел вместе с нами. Пока другие охотники веселились вокруг своих костров, развлекаясь выдумками об охоте и грубоватыми шутками, Диэнек освободил Александру и Аристону место рядом с собой. Я понял тонкий замысел моего хозяина. Он собирался поговорить о страхе, поскольку понял, что эти еще не вкусившие крови юноши, несмотря на свое молчание или, возможно, благодаря этому молчанию, начали в глубине души настраиваться на грядущие испытания.
– Всю мою жизнь, – начал Диэнек,– меня преследовал один вопрос: что является противоположностью страху?
Ниже по склону уже поджарилось мясо кабана, и нетерпеливые руки делили его на порции. Самоубийца принес чаши Диэнеку, Александру и Аристону и отдельно – себе, Аристонову оруженосцу Демаду и мне. Он сел на землю напротив Диэнека рядом с двумя собаками, которые принюхивались к объедкам. Собаки считали Самоубийцу простофилей, от которого им всегда что-нибудь да перепадет.
– Назвать это афобией, бесстрашием, не имеет смысла. Это просто название, тезис, выраженный антитезисом. Назвать противоположность страха бесстрашием – значит не сказать ничего. Я хочу узнать его истинную противоположность, подобно тому, как день является противоположностью ночи, а небо – противоположностью земли.
– Противоположность, выраженную позитивно,– рискнул вставить Аристон.
– Именно! – Диэнек одобрительно поймал взгляд молодого человека и помолчал, изучая выражение на лицах обоих юношей. Будут ли они слушать? 3аботит ли их это? Вникают ли они в этот предмет искренне, как он сам? – Каким образом некоторые воины побеждают страх смерти, самый первобытный из страхов, который живет в самой нашей крови, как и во всем живом – и в зверях, и в людях? – Он указал на собак, что вились рядом с Самоубийцей.– Собаки в своре находят мужество броситься на льва. Каждая собака знает свое место. Она боится собаку выше себя по положению и внушает страх собаке ниже себя. Страх побеждает страх. Так же делают и спартанцы, противопоставляя страху смерти другой – страх бесчестья. Страх быть исключенным из своры.
Самоубийца улучил момент и швырнул несколько кусков собакам. Те яростно подхватили их с земли, и сильнейшая завладела львиной долей.
Диэнек мрачно улыбнулся:
– Но мужество ли это? Не остается ли действие из страха бесчестья таким же постыдным – ведь, по сути, это действие из страха?
Александр спросил, чего Диэнек доискивается.
– Чего-то более благородного. Я хочу отыскать какую-нибудь более высокую форму этой тайны. Чистую. Непогрешимую.
Он заявил, что во всех других вопросах можно обратиться за мудростью к богам.
– Но только не в вопросах мужества. Чему могут научить смертных бессмертные? Они не могут умереть. Их душа не заключена, как наша, в мастерскую страха.– Он указал на свое тело.
Диэнек снова взглянул на Самоубийцу, потом опять перевел взгляд на Александра, Аристона и меня.
– Вам, молодым, представляется, что мы, ветераны, с нашим большим опытом войны, преодолели страх. Но мы чувствуем его так же остро, как и вы. И даже более остро, так как теснее знакомы с ним. Страх живет в нас двадцать четыре часа в сутки, он поселился в наших жилах и костях. Правда, друг мой?
Самоубийца в ответ мрачно усмехнулся.
– Мы кое-как в последний момент сшиваем наше мужество из всяких клочков и обрывков. Главное, высокое собирается нами из низких чувств. Из страха опозорить свой город, царя, героев в нашем роду. Из страха проявить себя недостойно по отношению к женам и детям, братьям, товарищам по оружию. Я знаю все хитрости дыхания и песен, я изучил груды тетратезисов, учений о фобологии. Я знаю, как войти в контакт с противником, как убедить самого себя, что его страх сильнее моего. Возможно, так оно и есть. Я использую заботу о подчиненных мне воинах и стараюсь потерять свой собственный страх за заботой об их выживании. Но страх-то никуда не девается! Самое большее, на что я способен,– это действовать, невзирая на него. Но это – не то. Не то мужество, о котором я говорю. И говорю я не о звериной ярости и не о порожденном паникой самосохранении. Это все каталепсис – одержимость. Ею и крыса, загнанная в угол, обладает в не меньшей степени, чем человек.
Диэнек заметил, что некоторые из тех, кто старается преодолеть страх смерти, часто молятся, чтобы вместе с телом не погибла душа.
– По-моему, это бессмыслица. Принятие желаемого за действительное. Другие – в основном, варвары – говорят, что после смерти мы попадаем в рай. Я спрашиваю их всех: если вы действительно верите в это, почему бы вам не покончить с собой и не приблизить столь счастливый миг? Ахилл, по словам Гомера, обладал истинной андреей. Но так ли это? Сын бессмертной матери, в младенчестве погруженный в воды Стикса, знающий о неуязвимости своей плоти – за исключением одной лишь пятки? Знай все мы такое о себе, трусы среди нас встречались бы реже, чем перья у рыб.
Александр спросил, найдется ли в городе хоть кто-то, обладающий, по мнению Диэнека, истинной андреей.
– Во всем Лакедемоне ближе всех к ней наш друг Полиник. Но даже его доблесть я не считаю удовлетворительной. Он сражается не из страха перед бесчестьем, а из жадности к славе. Это может быть благородно или, по крайней мере, не низко, но это ли истинная андрея?
Аристон спросил, существует ли оно вообще, это высшее мужество.
– Это не выдумка,– убежденно ответил Диэнек.– Я видел его. Иногда мой брат Ятрокл обладал им. Когда я заметил в нем это достоинство, то замер в благоговении. Мужество гордо лучилось из него, словно свет. В те часы он сражался не как человек, а как бог. Иногда таким мужеством обладает Леонид. Олимпий – нет. Я – нет. Никто из нас, сидящих здесь, им не обладает.– Он улыбнулся. -3наете, в ком из тех, кого я знал, было больше всего этой чистой формы мужества?
Никто из сидевших у костра не ответил.
– Это моя жена,– проговорил Диэнек. Он повернулся к Александру.– И твоя мать, госпожа Паралея.– Он снова улыбнулся.– 3десь таится разгадка. Основание этой высшей доблести, подозреваю, лежит в женском начале. Сами по себе слова для обозначения мужества, андрея и афобия, женского рода, в то время как фобос и тромос, страх, мужского. Возможно, бог, которого мы ищем, вовсе не бог, а богиня. Не знаю.
Было заметно, что Диэнеку нравится говорить об этом. Он поблагодарил слушателей.
– У спартанцев не хватает терпения для таких отвлеченных изысканий. Помню, однажды в походе, в тот день, когда мой брат сражался, подобный богам, я спросил его об этом. Мне безумно хотелось узнать, что он ощущал в те моменты, какова внутренняя сущность этих переживаний? Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего: «Поменьше философии, Диэнек, и побольше отваги».– Диэнек рассмеялся. – Ну, хватит об этом.
Мой хозяин отвернулся, словно закрывая обсуждение, но какой-то импульс заставил его снова взглянуть на Аристона. На лице того застыло то самое выражение, какое бывает у мальчика, не решающегося заговорить в присутствии старших.
– Ну же, скажи! – подбодрил его Диэнек.
– Я подумал о мужестве женщин. Наверное, оно отличается от мужества мужчин.
Юноша колебался. Возможно, его лицо само говорило за себя – в нем чувствовалась неловкость, словно он стыдился своей нескромности, считая себя недостойным рассуждать о предметах, в которых не имел никакого опыта.
Тем не менее Диэнек поощрил его продолжать:
– Отличается? Чем же?
Аристон посмотрел на Александра, который усмешкой усилил решимость друга, и, набрав в грудь воздуха, начал:
– Велико мужество мужчины, отдающего жизнь за свою страну, но в нем нет ничего чрезвычайного. Разве это не в мужской природе, как среди зверей, так и среди людей, драться и воевать? Ведь для этого мы и рождены, это у нас в крови. Посмотрите на любого мальчишку. Еще даже не научившись говорить, он тянется, повинуясь инстинкту, к дубине и мечу – в то время как его сестры неосознанно остерегаются этих орудий войны и прижимают к груди котенка или куклу. Что естественнее для всякого мужчины, чем воевать, а для женщины – чем любить? Разве это не веление материнской крови – давать жизнь и вскармливать молоком, заботиться прежде всего о порождениях собственного лона, о детях, которых рожают в муках? Мы знаем, что львица или волчица без колебания отдает жизнь за своих львят или волчат. И женщина поступает так же. А теперь обдумайте, друзья, что мы называем женским мужеством. Что может быть противнее женской природе, материнству, чем стоять бесстрастно и недвижимо, когда ее сыновья идут умирать? Разве не должна каждая жилка материнской плоти вопить в муках от оскорбления при виде такого насилия над природой? Разве не должно ее сердце разрываться, разве не жаждет она выкрикнуть в страсти своей: «Нет! Только не мой сын! Спасите его!» Но женщина из какого-то неведомого нам источника призывает волю, способную подавить собственное глубочайшее естество, и, я полагаю, потому-то мы в трепете и замираем перед нашими матерями, сестрами и женами. По-моему, это и есть, Диэнек, сущность женского мужества, и поэтому, как ты и предположил, оно превосходит мужество мужчин.
Мой хозяин с одобрением воспринял эти наблюдения. Однако Александр, сидящий рядом, заерзал на месте. Было очевидно, что юноша не удовлетворен.
– Все сказанное тобой верно, Аристон. Мне никогда не приходили в голову такие мысли. И все же должен кое-что добавить. Если победа женщины над своим естеством заключается лишь в том, чтобы с сухими глазами смотреть, как ее сыновья идут на смерть, это не просто противоестественно, но бесчеловечно, нелепо и даже чудовищно. А поднимает это поведение на высоту истинного благородства, я полагаю, то обстоятельство, что делается это по более высокой и бескорыстной причине. Эти женщины, перед которыми мы преклоняемся, приносят жизни сыновей в жертву своей стране, своему народу, чтобы государство могло выжить, даже если их дорогие дети погибнут. Как мать, историю которой мы слышали с детства, потеряв пятерых сыновей, погибших в одной битве, спрашивала лишь о том: «Победили ли мы?» – и, когда ей сказали, что да, вернулась домой без слез, сказав лишь: «Тогда я счастлива». Разве не это свойство благородного сердца – ставить целое выше части – больше всего трогает нас в женской жертвенности?
– Такая мудрость в устах младенцев! – рассмеялся Диэнек и с чувством похлопал обоих юношей по плечам. Но вы все же не ответили на мой вопрос. Что же является противоположностью страху? Я расскажу вам одну историю, мои юные друзья, но не здесь и не сейчас. Вы услышите ее у Ворот. Историю про нашего царя Леонида и про секрет, что он доверил матери Александра Паралее. Этот рассказ продвинет наше исследование мужества – а заодно поведает, каким образом Леонид выбрал из всех лакедемонян тех, кого включил в Триста. Но сейчас мы должны закрыть наш философский кружок, а то спартанцы, подслушав, скажут, что мы обабились. И будут правы!
Теперь, в лагере у Ворот, мы, трое юношей, видели, как наш командир при первом проблеске рассвета отправился на царский совет, а когда вернулся к своей эномотии, то снял плащ и призвал воинов заняться гимнастикой.
– Подъем! – Аристон вскочил, прервав наши с Александром размышления.– Противоположность страху – это работа.
Едва начались упражнения с оружием, как резкий свист у стены привел всех в состояние боевой готовности.
У входа в Теснину показался вражеский вестник. Этот посланец остановился в отдалении и по-гречески выкрикнул имя отца Александра – полемарха Олимпия.
Потом вестник двинулся вперед в сопровождении единственного вражеского воина и мальчика и стал вызывать по имени других спартиатов – Аристодема, Полиника и Диэнека.
Дозорный сразу же позвал этих четверых. Его и остальных слышавших выкрики посланца удивила конкретность вражеского выбора, и им было трудно удержаться от любопытства.
Солнце уже полностью поднялось над горизонтом, и на стене собрались десятки гоплитов. Персидское посольство подошло поближе. Диэнек сразу узнал его главу – это был египтянин Птаммитех, командир, с которым они встречались и обменивались подарками четыре года назад в Родосе. Мальчик оказался его сыном. Он свободно говорил по-гречески на аттическом диалекте и служил переводчиком.
3накомство возобновили очень тепло, со множеством похлопываний по спине и рукопожатий. Спартанцы выразили удивление, увидев египтянина на суше – ведь он был бойцом на море. Птаммитех ответил, что только он сам со своим отрядом получил задание действовать совместно с наземным войском. Верховное командование снизошло к его личной просьбе, преследовавшей определенную цель – стать неофициальным переговорщиком со спартанцами, знакомство с которыми он вспоминал с такой теплотой и о чьем благополучии пекся от души.
Вокруг посланника стопилось больше сотни человек. Египтянин возвышался над всеми, он был на полголовы выше самого высокого из эллинов, а его тиара из накрахмаленного полотна еще добавляла росту. Как всегда, на его лице сверкала ослепительная улыбка. Птаммитех объявил, что принес послание от самого Ксеркса и ему велено передать ее только спартанцам.
Олимпий, бывший старшим в посольстве на Родос, теперь опять занял то же положение в переговорах. Он сообщил египтянину, что ни о каких сепаратных договоренностях со Спартой не может быть и речи. Договоренность может быть лишь со всеми греками, и никак иначе.
Настроение египтянина ничуть не испортилось. В это время прямо перед стеной упражнялись со щитами главные силы спартанцев во главе с Алфеем и Мароном, которые инструктировали две эномотии феспийцев. Птаммитех понаблюдал за братьями, и они произвели на него сильное впечатление.
– Тогда я изменю свою просьбу,– улыбаясь, сказал он Олимпию.– Если ты, господин, отведешь меня к вашему царю Леониду, я передам ему мое послание как командующему всеми союзными войсками эллинов.
Моему хозяину явно нравился этот представительный египтянин, и он был рад увидеть его снова.
– Все еще носишь стальные подштанники? – спросил он через переводчика.
Птаммитех расхохотался и, к удивлению собравшихся, показал свое нижнее белье из белого нильского полотна. А потом, на время отбросив официальную роль посла, дружески заговорил с моим хозяином.
– Я молюсь, чтобы кольчуги никогда не понадобились нам, братья.– Египтянин обвел рукой лагерь, Теснину и море, словно охватив рукой оборону в целом.– Кто знает, как все может обернуться? Может – как это случилось с вашими Десятью Тысячами при Темпе! Но говоря по-дружески лишь с вами четырьмя, я бы посоветовал вам вот что: не дайте вашей жажде славы и упоению оружием заслонить от вас реальность. Подумайте здраво, какие силы вам противостоят. Здесь вас ожидает лишь смерть. У защитников Фермопил нет никакой надежды выстоять перед той огромной силой, что послал на вас Великий Царь. Вы не продержитесь и одного дня. И даже все войска Эллады не одержат верх над персами в грядущих сражениях. Конечно, вы сами понимаете это, как и ваш царь.– Он помолчал, давая сыну возможность перевести и читая реакцию на лицах спартанцев.– Я умоляю вас внять совету, друзья, совету от чистого сердца, совету человека, который питает и самое глубокое уважение к вам лично и к вашему городу с его совершенно заслуженной славой. Смиритесь с неизбежным и признайте над собой власть сильнейшего – вам будут оказаны честь и уважение.
– 3десь можешь остановиться, дружок,– прервал египтянина Аристодем.
Полиник воспринял это с большим жаром:
– Если это все, с чем ты пришел к нам, братец, заткни это себе меж ягодиц.
Эти резкие слова не поубавили дружелюбия египтянина. – Можете положиться на мое слово и тем самым на слово Великого Царя: если спартанцы сейчас сдадутся и сложат оружие, никто не займет более почетного места под знаменем Великого Царя. Ни одна персидская нога не ступит на землю Лакедемона – ни теперь, ни вовеки, Великий Царь клянется в этом. Вашей стране будет дарована власть над всей Грецией. Ваши подразделения займут место в первых рядах войска Великого Царя и воспримут всю удачу и славу, что сулит такое видное положение. Вам следует лишь высказать свои пожелания. Великий Царь исполнит их и осыплет своих новых друзей дарами, которые своей щедростью и великолепием превзойдут ваше воображение. Так оно и будет, я хорошо знаю сердце Великого Царя.
При этих словах наши союзники перестали дышать. Их глаза в страхе уставились на спартанцев. Если предложение египтянина было искренним – а не было никакой причины считать его иным,– для Лакедемона оно означало спасение. Требовалось лишь отказаться от общеэллинского дела. Что сейчас ответят эти спартанцы? Немедленно отведут посла к своему царю? А слово Леонида – закон, так значительно его положение среди Равных и эфоров.
Судьба Эллады вдруг заколебалась на краю пропасти. Союзники стояли, пригвождённые к месту, затаив дыхание в ожидании ответа четырех лакедемонских воинов.
– Мне кажется,– обратился Олимпий к египтянину, не поколебавшись ни мгновения,– что, если Великий Царь действительно хочет сделать спартанцев своими друзьями, он найдет от них гораздо больше пользы, если они останутся с оружием в руках.
– Более того, опыт учит нас,– добавил Аристодем, что честь и слава – блага, которые нельзя даровать росчерком пера. Их берут копьем.
В этот момент я пристально посмотрел на лица союзников у многих на глазах выступили слезы, другие как будто бы с облегчением выпрямили колени, уже готовые подогнуться. Египтянин, очевидно, тоже заметил это. Он улыбнулся снисходительно и терпеливо, ничуть не смущенный.
– Господа, господа. Я смущаю вас вещами, которые еще можно и нужно обсудить, не здесь, не на рыночной площади, так сказать, а в узком кругу, в присутствии вашего царя. Пожалуйста, если не возражаете, отведите меня к нему.
– Он скажет то же самое, братец, – заявил Диэнек.
– Но в гораздо более грубых выражениях,– вставил какой-то спартанец из толпы.
Птаммитех подождал, пока уляжется смех.
– В таком случае, можно мне услышать ответ из уст самого царя?
– Он нас выпорет, Птаммитех,– с улыбкой вставил Диэнек.
– Сдерет шкуру у них со спины,– сказал тот же спартанец, что вмешался мгновение назад,– за одно лишь предложение такого бесчестья.
Глаза египтянина метнулись на него и увидели пожилого спартанца в домотканом плаще. Этот спартанец пробился во второй ряд и стоял за плечом Аристодема. На мгновение Птаммитеха ошеломил этот старик, который явно нес груз более шестидесяти лет и тем не менее в одеянии гоплита стоял среди других, более молодых воинов.
– Пожалуйста, друзья мои,– продолжил египтянин, не отвечайте под влиянием гордости или минутной страсти а позвольте мне развернуть перед вашим царем более широкие перспективы такого решения. Позвольте обрисовать дальнейшие замыслы Великого Царя. Греция – это лишь начальный плацдарм. Великий Царь уже правит всей Азией, и теперь его цель – Европа. Из Эллады войско Великого Царя двинется на завоевание Сикелии и Италии, оттуда – в Гельвецию, Галлию, Иберию (Птаммитех перечисляет римские названия областей, о которых ни персы, ни греки не знали). Если вы будете на нашей стороне, какая сила устоит против нас? Мы победоносно пройдем до самих Геркулесовых Столбов и еще дальше, до самых стен Океана! Пожалуйста, братья, обдумайте ваш выбор. Гордо встать здесь во всеоружии, чтобы вас самих сокрушили, вашу страну опустошили, ваших жен и детей обратили в рабство, а славу Лакедемона, если не сказать – само его существование, навсегда стерли с лица земли! Выберите, как я предлагаю, более скромный путь. Следуйте за неодолимым приливом истории. 3емли, которыми вы правите теперь, покажутся ничем рядом с владениями Великого Царя, которые он пожалует вам. Присоединяйтесь к нам, братья! Вместе завоюем весь мир! Ксеркс, сын Дария, клянется: ни одна нация или войско не превзойдет вас честью под знаменами Великого Царя! А если, мои спартанские друзья, вам кажется бесчестным бросить ваших братьев-эллинов, Царь Ксеркс простирает свое предложение дальше, на всех греков. Всем союзникам-эллинам он предоставит свободу и поставит рядом с вами, и среди остальных любимых подданных почетом они уступят лишь вам самим.
Ни Олимпий, ни Аристодем, ни Диэнек, ни Полиник не подали голоса в ответ. Египтянин увидел, что они уступают слово старику в домотканом плаще.
– Среди спартанцев каждый имеет право голоса, не только эти послы, поскольку все мы считаемся Равными – равными перед законом.– Старик шагнул вперед.– Могу я, господин, взять на себя вольность предложить вариант, который, я уверен, найдет одобрение не одних лакедемонян, но и всех греческих союзников?
– Да, пожалуйста, – ответил египтянин. Все глаза скрестились на ветеране.
– Пусть Ксеркс сдастся нам,– предложил он.– Мы не уступим ему в великодушии, поставим его войска в первых рядах среди наших союзников и окажем ему все почести, которыми он так щедро осыпал нас.
Египтянин взорвался хохотом:
– Прошу вас, друзья мои! Мы зря теряем драгоценное время. – Не удержавшись от нетерпеливого жеста, он отвернулся от старика и снова повторил свою настоятельную просьбу Олимпию: – Отведи меня к вашему царю!
– Это бесполезно, друг,– ответил Полиник.
– Царь – старый сварливый пень,– добавил Диэнек.
– В самом деле,– вмешался старик.– Это неуравновешенный и вспыльчивый тип, еле грамотный, и, говорят, к полудню он обычно уже навеселе.
На лице египтянина расползлась широкая улыбка. Он посмотрел на моего хозяина, потом на Олимпия.
– Понятно,– сказал Птаммитех.
И снова повернулся к старику, который, как теперь он понял, был не кем иным, как самим царем Леонидом.
– Что ж, почтенный,– прямо обратился египтянин к спартанскому царю, почтительно склонив голову,– поскольку моему желанию поговорить лично с Леонидом, похоже, не суждено сбыться, из почтения к седине, что я вижу в твоей бороде, и многим рубцам, что мои глаза усмотрели на твоем теле, возможно, ты сам, господин, вместо вашего царя примешь этот дар от Ксеркса, сына Дария.
Он достал из мешка двуручный золотой кубок великолепной работы, инкрустированный драгоценными камнями и, и объявил, что выгравированное изображение посвящено Амфиктионии, покровительствующей Фермопилам, равно как Гераклу и Гиллу, его сыну, от которого ведут свой род спартанцы и сам Леонид. Кубок был так тяжёл, что египтянину пришлось держать его двумя руками.
– Если я приму этот щедрый подарок,– обратился к Птаммитеху Леонид,– он пойдет в военную сокровищницу союзников.
– Как тебе будет угодно,– поклонился египтянин.
– Тогда передай своему Царю благодарность от всех эллинов. И скажи, что мое предложение остается в силе, если боги даруют ему мудрость принять его.
Птаммитех передал кубок Аристодему, который принял его от имени царя. Прошло несколько мгновений. В это время Птаммитех впервые встретился глазами с Олимпием, а потом пристально уставился на моего хозяина. Взгляд египтянина заволокло торжественным спокойствием, граничащим с печалью. Очевидно, он осознал неизбежность того, чего с таким состраданием и заботой хотел избежать – Если попадете в плен,– обратился Птаммитех к спартанцам,– назовите мое имя. Я приложу все усилия, чтобы спасти вас.
– Это ты назови наши имена, брат, когда попадешь в плен,– ответил Полиник, напряжённый, как сталь. Египтянин отшатнулся, уязвленный. К нему быстро подошел Диэнек и тепло сжал руку.
– До встречи,– сказал он.
– До встречи,– повторил Птаммитех.
КНИГА ШЕСТАЯ ДИЭНЕК
Глава двадцать четвертая
Они носили штаны.
Пурпурные шаровары, расширявшиеся ниже колена и до половины прикрывавшие сапоги из замши или какой-то другой дорогой кожи. Из-под кольчуги с металлическими пластинами, покрывавшими их, как рыбья чешуя, виднелись вышитые рубахи с рукавами. Их шлемы из кованого железа, не скрывавшие лиц и с блестящим оперением, возвышались, как купола. Они румянили щеки и носили украшения в ушах и на шее. Они напоминали женщин, и все же их одеяния, неправдоподобные и причудливые для эллинских глаз, вызывали не презрение, а страх. Возникало ощущение, будто ты встретился с людьми из подземного мира, из какой-то немыслимой страны, расположенной по ту сторону Океана, где верх был внизу, а ночь наступала днем. Знали ли они нечто неведомое грекам? Имеют ли их легкие щиты, казавшиеся такими хрупкими по сравнению с массивными эллинскими асписами из дуба и бронзы, закрывавшими воина от плеча до колена, каким-то нечестивым путем преимущество перед греческими? Их копья были не из толстого ясеня и кизила, как греческие, а легче, тоньше, почти как метательные дротики. Как же они разят ими? Метают сверху или бьют из-под руки?
Это были мидийцы, передовые части войска, которым выпало первыми атаковать союзников, хотя тогда никто из защитников прохода еще не знал этого наверняка. Греки не различали в строю персов, мидийцев, ассирийцев, вавилонян, арабов, фригийцев, карийцев, армян, киссийцев, каппадокийцев, пафлагонцев, бактрийцев и прочих представителей ста азиатских народов, за исключением ионических эллинов и лидийцев, индусов, эфиопов и египтян, которые стояли в своих особенных доспехах и со своим оружием. 3дравый смысл и разумная стратегия говорили, что честь пролить первую кровь военачальники Великой Державы даруют какому-то одному народу среди своих соединенных сил. И в то же время, как догадались греки, при первом столкновении рассудительный военачальник не пошлет в бой цвет своего войска – в теперешнем случае это были Десять Тысяч, персидская гвардия, известная как Бессмертные,– нет, разумный военачальник придержит свои элитные части в резерве на непредвиденный случай.
По сути, ту же самую стратегию применили и Леонид с военачальниками союзников. Они держали спартанцев сзади, после многих споров и обсуждений предоставив честь первой крови воинам из Феспий. Те выдвинулись на передовую позицию, и теперь, утром пятого дня, они выстроились в боевой порядок шириной в шестьдесят четыре щита на «танцевальной площадке», образованной спереди оконечностью Теснины, с одного бока стеной гор, с другого – обрывающимися в море отвесными скалами, а с тыла – Фокийской стеной.
Таким образом, поле сражения представляло собой тупоугольный треугольник, самая длинная сторона которого располагалась на юге и подпиралась стеной гор. На этой стороне феспийцы выстроились глубиной в восемнадцать шеренг. На противоположной стороне, вдоль обрыва у моря, глубина строя составляла десять щитов. Это феспийское войско насчитывало около семисот человек.
Сразу же позади, на стене, стояли спартанцы, флиунтцы и микенцы числом шестьсот человек. Позади за стеной выстроились воины всех союзных городов в полной паноплии.
Прошло два часа с тех пор, как в полумиле по Трахинской дороге враг впервые показался на глаза, но потом никакого движения не наблюдалось. Утро выдалось жаркое. Дорога расширялась и образовывала открытое место размером с агору небольшого города. Сразу после рассвета дозорные заметили, как там начали скапливаться мидийцы. Их число доходило до четырех тысяч. Однако это был лишь тот враг, которого можно было увидеть. Горы скрывали другие части, подходящие и строящиеся в боевые порядки. Доносились сигналы вражеских трубачей и команды военачальников, собирающих за горой новые и новые войска. Сколько еще тысяч скрывались от наблюдателей?
Проползло четверть часа. Мидийцы продолжали выстраиваться но пока не наступали. Эллины-дозорные начали выкрикивать им оскорбления. Позади, в Теснине, жара и другие потребности начали сказываться на раздраженных, нетерпеливых греках. Не имело смысла и дальше потеть под полным грузом оружия и доспехов.
– Снять, чтобы быстро снова взять! – крикнул своим землякам Дифирамб, феспийский военачальник.
Оруженосцы и слуги бросились между рядами вперед, чтобы помочь каждый своему господину освободиться от нагрудных лат и шлема. Пояса распустили. Щиты уже были на земле, прислоненные к колену. Промокшие от пота войлочные подшлемники выжимали, как банные простыни. Колья были воткнуты нижним концом в твердую землю и теперь напоминали лес с железными верхушками. Воинам разрешили опуститься на колени. Вокруг сновали оруженосцы с мехами с водой, заправляя иссушенных бойцов, как амфоры. Можно было спокойно биться об заклад, что многие мехи содержали более живительную влагу, чем та, что зачерпывают из родника.
Пауза тянулась и тянулась, и чувство нереальности делалось все тяжелее. Возможно, это опять ложная тревога, как и в предыдущие четыре дня? Нападут наконец персы или нет?
– Хватит дремать! – рявкнул какой-то командир.
Опаленные солнцем воины мутным взором продолжали смотреть на Леонида и прочих военачальников, стоявших на стене. О чем они говорят? Какой приказ собираются отдать?
Даже в Диэнеке нарастало нетерпение.
– Почему на войне нельзя поспать, когда хочется, и не получается не спать, когда нужно?
Он вышел вперед, чтобы обратиться с ободряющим словом к своей эномотии, когда из передовых рядов донесся такой крик, что Диэнек замер на полуслове. Все глаза обратились наверх.
Теперь греки увидели, чем вызвана задержка.
Там, на высоте в несколько сотен локтей, на вершине холма, группа персидских слуг в сопровождении сотни Бессмертных устанавливали платформу, а на ней трон.
– Сучьи дети! – усмехнулся Диэнек.– Да это же сам Пурпурный Хрен!
В вышине над войсками какой-то человек возрастом приблизительно от тридцати до сорока в пурпурных одеяниях с золотой бахромой взошел на платформу и воссел на трон. До него было локтей шестьсот, но даже с этого расстояния было невозможно не заметить необыкновенную красоту монарха и величавость его осанки, а также крайнюю самоуверенность его манер. Он напоминал человека, пришедшего посмотреть на зрелище – приятное увеселительное представление, результат которого предрешен, но которое тем не менее сулит определенное развлечение. 3ритель занял свое место. Слуги поправили над ним зонтик от солнца. Мы видели рядом с ним стол с прохладительными напитками, а слева несколько конторок с сидящими рядом писцами.
Стоящие внизу греки показывали царю непристойные жесты, и из четырех тысяч глоток вырвались оскорбительные крики.
В ответ на это глумление Великий Царь с достоинством поднялся и изящно и не без юмора сделал признательный жест за внимание к его персоне. Он церемонно поклонился. Хотя расстояние было слишком велико, чтобы утверждать наверняка, но показалось, будто он улыбается. Царь отдал салют собственным военачальникам и величественно уселся на трон.
Мое место было на стене, тридцатым от упиравшегося в гору левого фланга. Как и все феспийцы, что стояли перед стеной, как все лакедемоняне, микенцы и флиунтцы, которые были на стене, я увидел вражеских военачальников, двинувшихся вперед под звуки труб во главе сомкнутых рядов пехоты. Клянусь Гераклом, они выглядели внушительно! Шесть военачальников во главе своих полков – и каждый следующий казался выше и благороднее предыдущего. Позже мы узнали, что это был не просто цвет персидской знати. Их ряды были усилены сыновьями и братьями тек, кто десять лет назад погиб от рук греков при Марафоне. Но от чего холодела в жилах кровь – так это от их манер. Они держались с блеском, смело до высокомерия. Они не сомневались, что сейчас просто сметут защитников прохода. Позади, у них в лагере, уже жарилось мясо им на обед. Они сравняют нас с землей, даже не вспотев, после чего вернутся и, не торопясь, пообедают.
Я взглянул на Александра – его лоб блестел от пота, побелевший, как саван; дыхание вырывалось сдавленными хрипами. Мой хозяин стоял рядом с ним, на шаг впереди. Внимание Диэнека было приковано к мидийцам, чьи сомкнутые ряды уже заполняли Теснину и простирались по дороге бесконечно, насколько хватало глаз. Но никакие эмоции не затуманивали его рассудка. Диэнек профессионально оценивал их, хладнокровно осматривая вооружение и выправку воинов, ровные ряды, интервалы между бойцами. Это были такие же смертные, как мы сами. Были ли они так же, как и мы, потрясены стоявшей перед ними силой? Леонид неоднократно повторял, чтобы феспийцы начистили свои щиты, шлемы и поножи до зеркального блеска, и теперь их доспехи сверкали. Над верхним краем обитых бронзой асписов ярко горел шлем с высоким гребнем, украшенным конским волосом. Плюмаж подрагивал и колыхался на ветерке, и это не только создавало впечатление ошеломительной высоты и мощи воина, но оказывало устрашающий эффект, который не передать словами,– чтобы понять, это надо увидеть.
Но по-моему, самым страшным было бессмысленное выражение греческих шлемов с бронзовыми предличниками толщиной в палец, горящими начищенными пластинами и жуткими глазными прорезями. Шлемы закрывали все лицо и вызывали у врага чувство, что он столкнулся не с такими же существами из плоти и крови, как он сам, а со смертоносными неуязвимыми машинами, безжалостными и неутомимыми. Не прошло и двух часов с тех пор, как мы с Александром смеялись, когда он водрузил шлем на свой войлочный подшлемник; таким милым и юным он казался в то мгновение, когда сдвинул шлем на затылок и показал свое молодое и красивое, почти как у девушки, лицо. Потом одним непринужденным движением правая рука затянула ремень под подбородком и опустила на лицо маску. Мгновенно все человеческое в нем исчезло, и нежные выразительные глаза превратились в лютые невидящие бездонные глазницы на бронзе. Какое-либо выражение мгновенно стерлось, замененное бессмысленной маской убийцы.
– Сними снова,– крикнул я,– ты меня до смерти напугал!
Это была вовсе не шутка.
А теперь Диэнек оценивал, какой эффект эллинское вооружение оказывает на врага. Глаза моего хозяина внимательно осматривали вражеские ряды, и можно было разглядеть, что кое у кого из наступавших штаны спереди потемнели от мочи. Теперь мидийцы выстроились в боевой порядок. Каждый ряд нашел свою позицию, командиры заняли свое место.
Прошло еще несколько бесконечных мгновений. Утомление сменилось страхом. Нервы напряглись, кровь колотила по ушам, руки онемели, все члены омертвели. Тело словно утроилось в весе и похолодело, как камень. Каждый слышал свой голос, взывающий к богам, и не мог понять, то ли молитвы звучат в голове, то ли позорно произносятся вслух.
Трон Великого Царя находился слишком высоко на горе, и оттуда было не рассмотреть, что произошло потом, какой знак богов непосредственно предшествовал столкновению. А дело было так. Внезапно из скал выскочил заяц и метнулся прямо меж двух войск, не более чем в тридцати футах от феспийского начальника Ксенократида, который стоял в самом авангарде своих войск между другими военачальниками, Дифирамбом и Протокреоном. Все они были в венках, шлемы сдвинуты на затылок. При виде бегущей добычи чалая сука Стикс, которая до того уже яростно лаяла, вырвалась с правого фланга греческого строя и стрелой вылетела на открытое место. Это было бы смешно, если бы все эллинские глаза не восприняли это как небесное знамение и не затаили дыхание в ожидании исхода.
Гимн Артемиде, который пели воины, замер на полуслове. Заяц бросился прямо к первым рядам мидийцев, захваченная азартом погони Стикс преследовала его по пятам. Оба казались визжащими комками звериной плоти, и облачка пыли из-под их мелькающих лап повисли в неподвижном воздухе вдоль всего пути, где их распластанные тела касались земли. 3аяц бросился прямо в гущу мидийцев, но затем в панике попытался круто свернуть и закувыркался по земле. Стикс молнией настигла его, и казалось, собачьи челюсти вот-вот разорвут добычу пополам, но, ко всеобщему удивлению, заяц вырвался невредимый и в мгновение ока вновь набрал полную скорость.
Погоня продолжалась зигзагами, и за долю мгновения заяц трижды пересекал оуденос хорион – ничейную землю между войсками. 3айцы всегда бегут в гору: их передние лапы короче задних,– и теперь резвый бегун метнулся к крутому горному склону, стремясь спастись там. Но склон был слишком отвесный, ноги беглеца не удержались, и он упал вниз. Через мгновение его обмякшее тело безжизненно свисало из пасти Стикс.
Радостный вопль вырвался из глоток четырех тысяч греков – определенно, это было знамение победы, ответ на гимн, который им пришлось прервать. Но теперь из мидийских рядов вышли два лучника. Когда Стикс повернулась, ища хозяина, чтобы показать ему свою добычу, две тростниковые стрелы, одновременно пущенные не более чем с двадцати шагов, вонзились в собачий бок и горло, и собака закувыркалась в пыли.
Скириты издали горестный крик, они все привыкли к этой собаке. Несколько мгновений она дергалась и извивалась в мучениях, насмерть пронзенная вражескими стрелами. Мы слышали, как вражеский военачальник отдал на своем языке какой-то приказ. И тут же тысяча мидийских лучников подняли луки.
– Они стреляют сюда! – крикнул кто-то со стены, и эллины тут же подняли щиты.
Этот звук – звук разрываемой ветром ткани,– издали взметнувшиеся в воздух стрелы, и эти стрелы запели, неся вперед строенные бронзовые наконечники.
Пока стрелы чертили дугу в вышине, феспийский начальник Ксенократид воспользовался моментом.
– 3евс-Громовержец и Победа! – крикнул он, сорвав с головы венок и рывком натянув шлем, который закрыл ему все лицо, оставив лишь прорези для глаз. Все эллины мгновенно последовали его примеру. Тысяча стрел обрушилась на них смертоносным ливнем. Проревел сальпинкс.
– Феспии!
Со стены, где я стоял, казалось, что феспийцы находятся от врага на расстоянии двух ударов сердца. Их передние ряды ударили врага не с тем громом бронзы по бронзе, который знаком эллинам по сражениям между собой, а с почти тошнотворным хрустом, словно десять тысяч охапок виноградных лоз переломились в кулаках виноградаря, когда металлическая поверхность греческих щитов столкнулась с плетеными щитами налетевших мидийцев. Враг поколебался и зашатался. Феспийские копья поднимались и опускались. Через мгновение все поле брани скрылось в смерче поднятой пыли.
Спартанцы на стене оставались недвижимы, пока ряды сражающихся, как мехи, сжимались у них на глазах. Первые три ряда феспийцев сжались, превратились в один при столкновении с врагом; теперь уже последующие ряды – четвертый, пятый, шестой, седьмой и далее, между которыми при движении возник интервал, устремлялись вперед, волна за волной налетали на передние, и каждый воин поднял щит и держал его прямо, насколько позволяли ослабшие с от страха руки, толкая им в спину товарища, налегая левым плечом под верхний край щита и упираясь подошвами и пальцами ног в землю, чтобы вложить в давление всю силу. От одного вида этого останавливалось сердце, а феспийские воины выкрикивали призывы к богам, к душам детей, к матерям, ко всему возвышенному или абсурдному, что только могли призвать на помощь себе, и, забыв про собственную жизнь, с невероятным мужеством бросались в убийственную давку.
Позади, как муравьи на сковородке, приплясывали феспийские оруженосцы, без строя и без оружия; некоторые пятились в страхе, другие бросались вперед, крича друг на друга, призывая не подводить воинов, которым служат. По этим вспомогательным войскам была выпущена вторая, а затем и третья туча стрел. Тысячи вражеских стрелков выстроились в тылу копьеносцев и стреляли навесом поверх плюмажей своих товарищей. Бронзовые наконечники втыкались в землю неровным, но ощутимым валом, как морской прибой. Можно было видеть, как этот смертоносный занавес отступает по мере того, как за спинами своих копьеносцев отступали лучники, сохраняя дистанцию, чтобы сконцентрировать залп на массе атакующих греков, а не стрелять попусту поверх их голов. Один феспийский оруженосец безрассудно метнулся вперед к линии брани, и бронзовый наконечник пригвоздил к земле его ногу. Феспиец запрыгал прочь, завывая от боли и обзывая себя идиотом.
– Вперед, к Львиному камню!
С этим криком Леонид покинул свою позицию на стене и ринулся вниз по каменному склону, построенному специально с уклоном. Он выбежал на площадку перед спартанцами, микенцами и флиунтцами, которые последовали за ним, когда «зона обстрела» вражеских бронзовых стрел отступила под неистовым напором феспийцев. Те сохраняли ровные ряды, как делали это десятки раз в предыдущие четыре дня, когда отрабатывали маневры на подготовленных позициях на площадке перед стеной.
Вдоль горного склона слева от места сражения над облаками пыли возвышались три камня, каждый в два человеческих роста. Именно их избрали вехами.
Ящеричный камень, названный так в честь одного бесстрашного представителя этой породы, который невозмутимо грелся сверху, находился в наибольшем удалении от Фокийской стены, ближе всего к Теснине – локтях в семидесяти от действительного входа в ущелье. Решено было позволить врагу продвинуться до этой линии. Согласно расчетам, между этой вехой и Проходом может уместиться тысяча врагов в плотном строю. Тысяча, сказал Леонид, будет приглашена на танец. Там, у Ящеричного камня, с ними следует вступить в бой и остановить их.
Коронный камень, второй из трех, на пятьдесят локтей ближе Ящеричного, определял линию, к которой должны будут подходить отряды подкрепления непосредственно перед вступлением в бой.
Львиный камень, самый ближний из трех, стоявший прямо перед Стеной, отмечал рубеж ожидания и место для разгона. Туда должны будут подходить отряды подкрепления, оставляя между собой и задними рядами уже сражающихся достаточно пространства для маневра. При необходимости бойцы могли отступить и восстановить строй, один фланг мог поддержать другой, а раненые получали возможность покинуть поле боя.
И вот теперь спартанцы, микенцы и флиунтцы должны были занять позиции у воображаемых линий, проходящих мимо этих веховых камней.
– Выровнять строй! – проревел полемарх Олимпий. Тесней ряды!
Презирая дождь стрел, он расхаживал перед фронтом и выкрикивал приказы своим эномотархам, которые повторяли его слова воинам.
Леонид, выйдя вперед дальше Олимпия, наблюдал за ходом боя, который почти поглотили клубы пыли, поднятые у Теснины. Шум нарастал. Стук мечей и копий по щитам, колокольный звон бронзовых куполообразных шлемов, крики воинов, резкий треск ломающихся копий – все это многократно повторялось эхом между горным склоном и Тесниной, словно в театроне смерти, окруженном амфитеатром. Леонид, все еще в венке, со сдвинутым назад шлемом, обернулся и сделал знак полемарху.
– Опустить щиты! – проревел Олимпий.
Асписы по всему строю спартанцев опустились на землю, прислоненные верхним краем к бедру воинов, однако рукоятка и ремень оставались под рукой наготове. Шлемы у всех были сдвинуты на затылок, лица открыты. Рядом с Диэнеком, как блоха, прыгал его командир восьмерки Биас:
– Вот оно, вот она, вот оно!
– Спокойно.– Диэнек вышел вперед, чтобы воины видели его.– Опустите свои сырные тарелочки.
В третьем ряду Аристон, совершенно вне себя от волнения, по-прежнему сжимал рукоять щита, не опуская его. Диэнек протолкался к нему и с размаху ударил по его щиту копьем плашмя.
– Рисуешься?
Юноша отшатнулся, моргая, как мальчик, очнувшийся от кошмара. Было видно, что он не может взять в толк, кто такой Диэнек и чего ему надо. Потом, вздрогнув, он пришел в себя, поставил щит на землю и прислонил к колену.
Диэнек стал ходить вдоль строя.
– Всем смотреть на меня! На меня, братья! – у воинов пересохло во рту, язык стал, как ремень, а Диэнек жестким гортанным голосом хрипло лаял на них: – Смотреть на меня, не смотреть на бой!
Воины оторвали глаза от приливов и отливов смертоубийства, происходившего на «танцевальной площадке». Диэнек стоял перед строем спиной к врагу.
– О том, что там происходит, слепой может сказать по одному звуку.– Голос Диэнека слышался четко, несмотря на шум сражения, доносящийся из Теснины.– Вражеские щиты слишком малы и слишком легки. Их воины не могут себя защитить. Феспийцы их одолевают.– Взгляды всех снова обратились к сражению. – Смотреть на меня! Проклятье, да смотрите же на меня! Враг еще не сломлен. Они чувствуют на себе взгляд своего Царя. Они падают, как снопы, но мужество еще не оставило их. Я сказал, смотреть на меня! На поле убийства вы сейчас видите шлемы наших союзников, они возвышаются над битвой, как будто феспийцы взбираются на стену. Так оно и есть. На стену из вражеских тел.
И это действительно было так. Было отчетливо видно, как воины волной накатывают наверх, поднимаясь над кипящей бойней.
– Феспийцам осталось еще несколько минут. Они изнемогли от убийства. Это охота на куропаток. Рыба в неводе. Слушать меня! Когда придет наш черед, враг будет готов рухнуть. Я уже слышу, как он ломается. Помните: мы входим в бой лишь ненадолго. Вошли – и вышли. Никто не погибает. Никакого геройства. Вошли, убили сколько можно и по звуку трубы отходим.
Позади спартанцев, на стене, заполненной третьей волной тегейцев и опунтских локрийцев, всего числом тысяча двести, сквозь шум битвы прорезался звук сальпинкса. Леонид поднял копье и надел шлем. Было видно, как Полиник и Всадники двинулись вперед и окружили его. Феспийцы закончили свою смену.
– Надвинуть шляпы! – проревел Диэнек.– Поднять тарелочки!
Спартанцы выступили всем фронтом, глубиной восемь шеренг, с двойным интервалом, позволяя задним рядам феспийцев просочиться между колоннами, один за другим, ряд за рядом. Никакого порядка не соблюдалось, феспийцы валились с ног от усталости, и лакедемоняне просто перешагивали через них. Когда спартанские промбхи, воины переднего ряда, оказались в трех рядах от фронта сражения, их копья стали разить врага над плечами союзников. Многие феспийцы падали и давали себя топтать; товарищи оттаскивали их за ноги, когда ряд наступающих воинов проходил через них.
Все, что сказал Диэнек, оказалось правдой. Мидийские щиты были не просто слишком легкими и маленькими – недостаток массы не позволял противостоять эллинским широким и тяжелым выпуклым асписам. Щиты вражеской пехоты соскальзывали с чашеобразных щитов греков, открывая для удара шею или бедро, горло или пах противника. Спартанцы снова и снова кололи из-под руки копьями в лицо и в горло врагу. Вооружение мидийцев подходило для мелких стычек, для схваток на равнине. Это было вооружение легкой пехоты, чья задача – действовать быстро, разя на расстоянии. Тесно сомкнутая фаланга греков означала для них смерть.
И все же они не сдавались. От их отваги захватывало дух – это было безрассудство на грани безумия. Сражение превратилось в незатейливую бойню. Мидийцы подставляли спартанцам тела, словно плоть была их оружием. Через несколько минут спартанцы изнемогли. Изнемогли просто от убийств. Просто от того, что одна рука разила копьем, а другая держала щит, от колотящейся в венах крови, от бьющегося в груди сердца. 3емля уже была не усеяна вражескими телами – она была сплошь покрыта ими. В несколько слоев. Груды тел.
По пятам за спартанцами следовали их оруженосцы. Они даже и не думали о том, чтобы разить врага своим метательным оружием, – оно потеряло всякий смысл. Они оттаскивали растоптанные вражеские трупы, чтобы по земле могли ступать греческие воины. Я увидел, как Демад, Аристонов оруженосец, за пятнадцать секунд перерезал глотки троим раненым и швырнул их трупы назад, в кучу корчащихся и стонущих мидийцев.
В первых рядах мидийцев порядок расстроился. Начальники выкрикивали приказы, но в шуме их не было слышно. Ошеломлённые давкой, люди не могли следовать никаким указаниям. И все же побеждённые не поддались панике. В отчаянии они отбросили луки, копья и щиты и голыми руками вцеплялись в оружие спартанцев. Они хватались за копья, висли на них и старались вырвать из рук спартанцев. Другие бросались всем весом на лакедемонские щиты, цеплялись за верхний край и тянули чашу асписа вниз, после чего впивались во врага пальцами и ногтями.
Теперь сражение в первых рядах перешло в рукопашные схватки один на один. Правильные ряды смешались, ни о каком построении не было уже и речи. Спартанцы сблизились с врагом грудь в грудь и со смертельной эффективностью работали своими короткими мечами-ксифосами: воткнул – вынул, воткнул – вынул. Я увидел Александра – без щита, он вонзил ксифос прямо в лицо мидийцу, чьи руки вцепились Александру в пах.
Лакедемоняне средних рядов врезались в этот бедлам с незапятнанными копьями и щитами. Но мидийцы казались неиссякаемыми; подкрепления все шли и шли к ним. Над столпотворением битвы можно было видеть, как следующая тысяча воинов марширует в Теснину, заливая ее, словно наводнение. И еще мириады остаются сзади, а за ними – еще и еще… Несмотря на катастрофическое число потерь, бесконечный прилив воинов начал приносить врагу пользу. Сама масса их полчищ стала ломать спартанский строй. Единственное, что не позволило врагу смять эллинов, – это невозможность для войск проходить через Теснину достаточно быстро, а также стена из мидийских тел, что преграждала открытое пространство, точно оползень.
Спартанцы сражались из-за этой стены плоти, как из-за каменного укрепления. Враг роем накатывался на этот вал. Теперь мы из тыла видели нападавших: они превратились в мишени. Дважды Самоубийца метал дротики прямо из-за плеча Александра в мидийцев, бросавшихся на юношу с холма из трупов. Тела были везде, куда ни ступи. Я считал, что залез на камень, и вдруг почувствовал, что он корчится и извивается подо мной. Это был живой мидиец. Он рубанул меня обломком своей махеры – кривого меча – и рассек мне икру на ладонь. Я завыл от страха и опрокинулся в мешанину других окровавленных рук и ног. Враг вцепился в меня зубами. Он впился мне в руку, словно стремясь вырвать ее из сустава. Я ударил его по лицу луком, который по-прежнему сжимал в руке. И вдруг чья-то нога тяжело наступила мне на спину. С отвратительным чавканьем опустился боевой топор, и череп врага раскололся, как дыня.
– Что ты там ищешь? – проревел чей-то голос.
Это был Акант, оруженосец Полиника, забрызганный кровью и оскалившийся, как безумец.
Враги хлынули через стену тел. Встав на ноги, я не смог разглядеть Диэнека и не мог сказать, где какая эномотия и где мне следует находиться. Я не представлял, сколько времени мы уже сражаемся. К спине у меня было привязано два запасных копья; их наконечники скрывались под кожаными чехлами так что, если бы я случайно споткнулся, они бы не причинили вреда моим товарищам. Все прочие оруженосцы имели такую же ношу.
Впереди слышалось, как трещат древки мидийских копий, ломаясь при ударе о спартанскую бронзу. Спартанские длинные копья издавали другой звук, не такой, как более короткие и легкие копья противника. Нескончаемый наплыв мидийцев работал против лакедемонян – не из-за недостатка у них доблести, а просто вследствие ошеломительного количества людских масс, которые враг бросал в зубы ненасытного сражения. Я отчаянно стремился отыскать Диэнека и отдать ему запасные копья. Вокруг царил хаос. Я слышал, как ломается строй справа и слева, и видел, как спартанцы в задних рядах пятятся под напором мидийских колонн. Мне следовало забыть про хозяина и служить тем, кому могу.
Я метнулся туда, где строй был самым слабым, всего три шеренги глубиной; он начинал прогибаться дугой, какая обычно предшествует полному прорыву. Один спартанец упал навзничь среди жертв побоища; я видел, как какой-то мидиец начисто отсек ему голову ударом кривого меча. Отделенная от туловища голова вместе со шлемом покатилась в пыль, разбрызгивая костный мозг и жутко обнажив сероватые кости позвоночника. Шлем и голова исчезли в лесу поножей, обутых и босых ног. Убийца издал торжествующий крик, подняв к небу клинок, но не прошло и мгновения, как воин в малиновых доспехах так глубоко вонзил копье ему в кишки, что убийственная сталь вышла из спины. Я видел, как другой мидиец упал просто от страха. Спартанец не мог вытащить копье обратно и выломал его, наступив ногой на брюхо еще живого врага. Древко сломалось пополам. Я не знал, кто этот герой, и так никогда и не узнал.
– Копье! – услышал я его рев.
Жуткие глазницы его шлема обратились назад за спасением, за запасным копьем, в поисках кого-нибудь, кто протянет новое оружие. Я выдернул оба копья из-за спины и швырнул в руки неизвестного воина. Острием назад. Он схватил одно и, развернувшись, обеими руками вонзил его нижний конец в горло другого мидийца.
Ремень его щита был перерезан или оборвался изнутри, и сам аспис упал в грязь. Не было места, чтобы нагнуться и подобрать его. Двое мидийцев бросились на спартанца с копьями наперевес, но тут же были перехвачены массивной чашей щита в руке его товарища, который успел защитить соратника. Оба вражеских копья переломились при ударе наконечников о бронзу и дуб выпуклого асписа.
По инерции мидийцы пронеслись вперед, упали на землю и оказались под ногами у первого спартанца. Он вонзил свой ксифос в живот первому мидийцу, потом занес его и с убийственным воплем рубанул по глазам второму мидийцу. Тот в ужасе схватился за лицо, меж сжатых скрюченных пальцев хлынула кровь, а спартанец схватил обеими руками свой упавший щит и нижним краем, как сечкой, ударил врага по шее с такой силой, что чуть его не обезглавил.
– Пере-строиться! Пере-строиться! – услышал я крик кого-то из командиров.
Кто-то сзади оттолкнул меня в сторону. Спустя миг другой спартанец, из другой эномотии, ринулся вперед, усиливая тонкую, как мембрана, линию строя, которая колебалась на грани прорыва. Это был бой «в свалке». От вида проявляемой в нем отваги захватывало сердце. Еще мгновение назад ситуация грозила обернуться катастрофой – но вот в нужное место поступили подкрепления, и тотчас вновь возвращаются порядок и дисциплина. Каждый, оказавшись впереди, в каком бы ряду строя ни стоял раньше, принимал на себя роль командира. Эти сомкнутые ряды и отполированные щиты одним движением бронзовой стеной вздымались перед смешавшейся массой, давая оказавшимся в тылу драгоценные секунды, чтобы перестроиться и вновь вступить в бой, заняв позицию во втором, третьем, четвертом ряду.
Ничто так не воспламеняет мужество в сердце воина, как те моменты, когда он с товарищами оказывается на грани смерти, на волоске от разгрома и уничтожения – и присутствие духа не позволяет поддаться панике, запрещает отдаться во власть отчаяния, но вместо этого заставляет выполнять обычные действия, повинуясь приказу. Мужество, идущее изнутри, но являющееся следствием железной дисциплины и хорошего обучения. Именно это Диэнек всегда объявлял высшим достоинством воина. Выполнять обычное в необычных обстоятельствах. И совершать это не в одиночку, как Ахилл или герой прежних времен, нет, действовать как часть целого. В мгновения хаоса чувствовать рядом с собой братьев по оружию, товарищей, которых даже не знаешь по имени, с которыми никогда вместе не учился военному делу, но которые заполняют пространство рядом с тобой сейчас – со стороны щита и со стороны копья, спереди и с тыла. Увидеть, что товарищи сплачиваются, как один,– не в безумной и неистовой одержимости, а в полном порядке, невозмутимо. Понять, что каждый знает свою роль в битве и справляется с ней. Строй, где каждый берет силы у своих соседей и одаряет ими других. В такие моменты воин возвышается словно бы божественной рукой. Он не может сказать, куда девается его существо, где находятся сейчас души стоящих рядом. В этот момент фаланга приобретает такую монолитную общность, где каждая частица интуитивно понимает все остальные. Строй действует не просто как механизм, как машина войны, а на более высоком уровне – как единый организм, как зверь с общим сердцем и общим током крови.
Град вражеских стрел падал на спартанский строй. Со своего места сразу же за последним рядом спартанцев я видел, что ноги воинов, сначала беспорядочно топтавшиеся в поисках опоры на раскисшей от крови земле, теперь двигаются слаженно, в безжалостном ритме, словно перемалывая врага. Сквозь гром бронзы и крики ярости пробивались визжащие звуки флейт, задавая такт, который отчасти был музыкой, а отчасти – биением сердца. Левая нога – со стороны щита – с усилием шагала вперед, носком на врага; потом правая – со стороны копья – под прямым углом, зарываясь в грязь; шаг заканчивался, когда воин находил опору и твердо вставал на подошву. Тогда всей силой своих мышц и жил воин налегал левым плечом на внутреннюю часть щита, широкой внешней поверхностью упертого в спину идущего впереди. Казалось, гребцы наваливаются на одно весло и единый толчок продвигает корабль фаланги вперед, против прилива врагов.
Впереди длинные копья спартанцев разили врага, сверху вниз, сверху вниз; каждый воин правой рукой выбрасывал копье вперед поверх края щита, в лицо врагу, в горло и плечи. 3вук щита по щиту больше не был хрустом и стуком первоначального столкновения. Он стал глубже и страшнее, напоминая металлический перемалывающий механизм, жернова убийственной мельницы. И никаких криков, ни от спартанцев, ни от мидийцев, больше не раздавалось; голоса больше не сливались в едином хоре ярости и страха. Легкие работали только на дыхание, грудь вздымалась подобно кузнечным мехам, пот ручьями стекал на землю, а из горла сошедшихся тысяч вырывались хрипы, которые больше всего напоминали те звуки, что издают рабочие в каменоломне, когда они, запряженные попарно в волокуши, кряхтя, силятся сдвинуть огромный камень по сопротивляющейся земле.
Война – это работа, всегда учил Диэнек, стараясь сорвать с нее покров таинственности. Мидийцы при всей своей отваге, огромной численности и несомненном умении воевать на открытой местности – этого хватило, чтобы захватить всю Азию,– оказались новичками в этом сражении с эллинской тяжелой пехотой. Их колонны не были обучены надежно держать строй и давить в унисон, они не проводили бесконечных учений, как спартанцы, чтобы удерживать линию и интервал, прикрывая друг друга. В смертельном деле мидийцы превратились в толпу. Они наталкивались на лакедемонян, как бараны, бегущие от огня на площадку для выгула, без взаимодействия, питаемые одним лишь мужеством, которое, при всем своем величии, не могло противостоять обрушившейся на них дисциплинированной и согласованной атаке.
Несчастным мидийцам в первых рядах было некуда деваться. Они оказались зажаты между толпой напирающих сзади собственных товарищей и разящими спереди спартанскими копьями. Воины задыхались от давки. Их сердца не выдерживали. Я мельком увидел Алфея и Марона; как пара волов в одном ярме, братья плечом к плечу образовали закаленное острие наконечника глубиной в двенадцать рядов, врезавшееся в мидийский строй и расколовшее его в пятидесяти шагах от горного склона. Справа от близнецов Всадники во главе с Леонидом ворвались в брешь, обошли вражеский строй с фланга и теперь яростно давили на незащищенный правый бок противника. Оставалось только молиться за сынов Великой Державы, пытавшихся устоять против таких, как Полиник и Дорион, Терклей и Патрокл, Николай и двое Агизов, все это были несравненные атлеты в расцвете сил, сражавшиеся рядом со своим царем и безумно жаждавшие добиться славы, которая маячила перед ними совсем близко – только протяни руку.
Что касается меня, признаюсь, ужас чуть не одолел меня. Хотя я нагрузил на себя двойной запас – два колчана, двадцать четыре стрелы с железными наконечниками, стрельба была слишком лютой и яростной. Я стрелял между шлемами воинов, бил в упор по вражеским лицам и шеям. Это было не искусство, а прямое убийство. Я вытаскивал стрелы из кишок еще живых, чтобы вновь загрузить и пополнить свои иссякшие запасы. Ясеневые стрелы соскальзывали с тетивы, осклизшие от крови и плоти, с наконечников капала темная влага еще до того, как они вылетали из лука. Объятые ужасом, мои глаза невольно зажмуривались, и мне приходилось двумя руками продирать их, чтобы видеть. Не сошел ли я с ума?
Я чувствовал отчаянную потребность отыскать Диэнека, занять свое место рядом с ним, чтобы прикрыть его, но часть ума, еще сохранившая ясность, велела мне оставаться на месте и приносить пользу здесь.
В тесноте фаланги каждый почувствовал перемену, когда неистовый напор отхлынул, как волна, а на смену ему пришел ровный ритм убийственного военного труда, выработанный многолетними упражнениями. Чувство уходящего страха и вернувшегося самообладания было успокаивающим. Кто скажет, какой неописуемой вибрацией приливный вал сражения передается по сомкнутым рядам? Каким-то образом воины почувствовали, что спартанский левый фланг у склона горы прорвал строй мидийцев. Торжествующий шум пронесся буквально как шторм. Подхваченный глотками лакедемонян, он многократно отдавался эхом. И враг тоже понял это. Мидийцы всем нутром ощутили, как обрушились их порядки.
Наконец я разыскал своего хозяина. Крича от радости, я различил его шлем с поперечным гребнем в самом переднем ряду. Диэнек давил на скопление мидийских копейщиков, которые уже не наступали, а в страхе пятились назад, бросая щиты и напирая на задние ряды. Я бросился к нему через открытое пространство в тылу спартанского строя – перемалывающего, вгрызающегося, наступающего. Этот клочок в тылу представлял собой единственный коридор спокойствия на всем поле боя, в промежутке между рукопашным побоищем и «зоной поражения» мидийских лучников, которые пускали стрелы из тыла поверх столкнувшихся войск в сторону эллинских формирований, ожидающих своего часа в резерве.
В этот закуток отползали мидийские раненые, объятые страхом, притворившиеся мертвыми и изнеможенные. Повсюду можно было видеть мидийцев – они валялись мертвые и умирающие, растоптанные и измятые, изувеченные и изрубленные. Я видел, как какой-то мидиец с великолепной бородой бессмысленно сидит на земле, держа в руках свои кишки. Когда я проходил мимо, упавшая сверху стрела кого-то из его же соратников пригвоздила к земле его бедро. Его глаза с жалким выражением встретили мой взгляд, и, сам не зная зачем, я оттащил его на полдюжины шагов и уложил на иллюзорном островке безопасности.
Я оглянулся. Тегейцы и опунтские локрийцы, наши союзники, чей черед идти в бой был после нашего, опустились на колени в строю, выстроившись вдоль линии под Львиным камнем и составив щиты, чтобы отражать град вражеских стрел. 3емля перед ними была утыкана стрелами так густо, как на ежовой спине. Частокол на стене пылал, подожженный сотнями стрел с кусками горящей пакли.
Мидийские копейщики дрогнули. Как детские кегли, их плотные колонны опрокинулись назад, воины падали, и об них спотыкались другие, когда передние пытались бежать и устраивали неразбериху в порядках стоящих сзади. Земля перед наступающими спартанцами превратилась в море отрубленных конечностей и искалеченных туловищ, в бесконечное кишение ног в штанах и животов, спин людей, карабкающихся через своих упавших товарищей, в то время как другие корчились и кричали на своем языке, протягивая руки и моля о пощаде.
Побоище превзошло возможности человеческой души. Не было сил переносить его. Я видел, как Олимпий метнулся назад, ступая не по земле, а по ковру тел раненых и уже мертвых врагов. Его оруженосец Абатт, бывший все время рядом с ним, работал древком копья, как лодочник шестом, мимоходом опуская нижний шип в живот еще живых мидийцев. Олимпий продвинулся на открытое место, откуда его ясно могли разглядеть резервы союзников у Стены. Снял шлем, чтобы военачальники увидели его лицо, и трижды взмахнул копьем, держа его горизонтально:
– Вперед! Вперед!
С криком, от которого свертывалась в жилах кровь, они бросились вперед.
Я видел, как Олимпий с непокрытой головой остановился и посмотрел на покрытое телами врагов поле; он был поражен масштабом побоища. Потом снова надел шлем, и его лицо скрылось под окровавленной бронзой. Подозвав оруженосца, он зашагал обратно в сечу.
В тылу у обращенных в бегство копьеносцев стояли их собратья, мидийские лучники. Они стояли ровными рядами, двадцать шеренг, каждый скрывался за плетеным щитом в рост высотой, подпертым железной пикой. Эту стену лучников отделяло от спартанцев пятьдесят шагов ничейной земли. Теперь лучники стали стрелять прямо в своих же копейщиков, последних, кто сохранил отвагу, еще способных сцепиться с наступавшими лакедемонянами. Мидийцы стреляли в спину своим же.
Им было не жаль убить даже десяток своих ради возможности поразить одного спартанца.
Из всех моментов высочайшей доблести, проявленной за весь этот долгий страшный день, увиденное сейчас стоящими на Стене превзошло все. И никто не мог сравнить это с чем-либо уже виденным под небесами. Когда спартанцы обратили в бегство последних мидийских копейщиков, их передние ряды вышли на открытое место и оказались почти что под настильным огнем мидийских лучников. Сам Леонид, в свои немолодые годы перенесший смертельное побоище, одно физическое напряжение которого могло превысить возможности самого крепкого воина в расцвете сил, призвав сталь своего характера, вышел в передние ряды и велел выровнять строй и продолжать наступление. Этот приказ лакедемоняне выполнили если и не с той точностью, как проделывали на учебном плацу, но проявив дисциплину, невообразимую в данных обстоятельствах. Не успели мидийцы выпустить второй залп, как перед лицом у них оказался строй щитов с лакедемонским знаком лямбды под страшным слоем из грязи, ошметков плоти и крови, которая потоком стекала по бронзе и капала со свисавших из-под асписов передников из воловьей шкуры, защищавших ноги воинов выше колена именно от такого обстрела, под какой они теперь попали. Тяжелые бронзовые поножи закрывали икры; над верхним краем щита виднелся лишь бронзовый купол шлема с прорезями для глаз, а сверху колыхался плюмаж из конского волоса.
На мидийских стрелков надвигалась бронзово-малиновая стена. Тростниковые стрелы со смертоносной быстротой вонзались в спартанские ряды. Охваченные страхом лучники всегда стреляют высоко, и было слышно, как стрелы свистят над головами спартанцев и врываются в лес копий, которые воины несли вертикально. Потом стрелы кувыркались и падали в бронзовые ряды. Бронзовые наконечники отскакивали от бронзовых щитов, иногда их яростный стук сопровождался жутким чавканьем,– это случалось, когда выстрел пробивал металл и дуб и наконечник входил в щит, как гвоздь в доску.
Сам я плечом и всем своим весом уперся в спину Медона, старшего по сисситии Девкалиона, чье почетное место находилось в самом тылу первой колонны эномотии Диэнека. Непосредственно за строем, под его защитой, пригнулись дудочники без оружия и доспехов, как можно ближе к воинам заднего ряда, разве что не наступая им на пятки. Им хватало духу издавать резкий ритм авлоса. Плотно сомкнутые ряды наступали не с площадной бранью и шумом, как дикари, а в гробовом молчании, трезво, почти величаво, со смертельной неторопливостью, под пронзительные звуки флейт. Дистанция между противоборствующими сторонами с пятидесяти шагов сократилась до тридцати. Интенсивность мидийского огня удвоилась. Уже слышались команды вражеских военачальников, и чувствовалось, как вибрирует сам воздух, когда вражеские ряды выпускали свои стрелы со все более яростной частотой.
И одна-то стрела, просвистев у уха, может превратить колени в студень. Конический наконечник словно бы злобно визжит, древко безмолвно доставляет свой смертоносный груз, а потом оперение тихо шепчет на ухо свое ужасное намерение. Сотня стрел производит другой звук. Воздух как будто сгущается, становится плотным, жгучим и вибрирует, как твердое тело. Воины чувствуют себя в коридоре живого металла, реальность сжимается до зоны убийства, в которой чувствуешь себя пленником. Неба не видно, и даже не вспомнить, какое оно.
А навстречу спартанцам летели тысячи стрел. 3вук был непрерывным, как стена – сплошная стена до самого неба. Твердая, как скала, непроницаемая. И она пела свою смертельную песнь. Когда стрелы запускаются не в небо по дугообразной траектории, чтобы поразить цель за счет скорости своего падения, а в упор, напрямую с тетивы стрелка, так что они летят прямо, ровно, выпущенные с такой скоростью и с такого близкого расстояния, что лучнику не требуется даже утруждать себя расчетом, насколько стрела сместится вниз при подлете к цели,– это ливень металла, адский огонь (анахронизм: у древних греков не было представления об адском огне).
И под таким обстрелом спартанцы двигались вперед. Позже им скажут наблюдавшие со стены союзники, что в то мгновение, когда спартанские копья одновременно изменили свое вертикальное положение на горизонтальное, изготовившись к атаке, и сомкнутая фаланга ускорила шаг, надвигаясь на противника,– в это мгновение взиравший сверху Великий Царь вскочил на ноги в страхе за свое войско.
Спартанцы умели атаковать плетень. Они практиковались в этом под дубами на Отонском поле во время бесконечных тренировок, когда мы, оруженосцы и илоты, занимали позицию с учебными щитами, упершись пятками и собрав все силы в ожидании массированного удара их атаки. Спартанцы знали, что копья бесполезны против плетеных прутьев,– копье пробивает их и застревает так, что уже не вытащишь. Так же бесполезен колющий или рубящий удар ксифоса, который отскакивает от плетня, как от железа. Вражеский строй нужно ударить, ошеломить, смять, опрокинуть. Нужно бить так крепко, с такой собранной силой, чтобы передние ряды рухнули и свалились, один ряд обрушился на другой, как посудные полки при землетрясении.
Именно так все и произошло. Мидийские стрелки стояли не сомкнутым строем, где задние ряды подпирают передние против атакующего удара; они стояли разрозненно, каждый сам по себе, ряд за рядом, смещенные относительно друг друга, чтобы лучники сзади могли стрелять в промежутки между воинами в переднем ряду и сменяться, проходя сквозь строй в тыл.
Между их шеренгами был интервал, необходимость которого диктовалась особенностями стрельбы из лука. Результат оказался именно таким, как и предполагали лакедемоняне: передний ряд врагов рухнул при первом же ударе. высокие, в рост человека, плетеные щиты словно захлопнулись внутрь, подпирающие их пики вылетели из земли, как палаточные колышки при урагане. Стрелков первого ряда буквально сшибло с ног, и стена их щитов рухнула на них, как крепостные редуты под ударом тарана. Спартанцы прошли через них, и точно так же через второй ряд, и через третий. Толпа стрелков из средних рядов, понуждаемая начальниками, отчаянно старалась упереться и устоять. В бою грудь в грудь со спартанскими отборными частями их луки оказались совершенно бесполезными. Мидийцы отбрасывали их и брались за висевшие на поясе кривые мечи. Я видел, как целый ряд без щитов, с мечами в руке неистово рубится со спартанской фалангой. Личное мужество мидийцев не вызывало сомнений, но их легкие клинки казались безобидными игрушками против массивной стены спартанских щитов и доспехов – с таким же успехом они могли защищаться камышинками или травяными былинками.
В тот вечер мы узнали от эллинов-дезертиров, в сутолоке перебежавших к нам, что тыловые ряды врага – в тридцати – сорока шеренгах от фронта – получили такой толчок от стоящих впереди, что через Трахинскую дорогу начали падать в море. Очевидно, смятение выплеснулось за Теснину, где тыловые части бросило на отвесный горный склон, под которым в восьмидесяти футах зиял залив. С обрыва, как донесли перебежчики, несчастные копьеносцы и лучники падали десятками, цепляясь за впередистоящих и увлекая их за собой. Великий Царь, как слышали, был вынужден взирать на это, поскольку его возвышение находилось как раз над этим местом. И здесь уже второй раз, как доложили наблюдатели, Великий Царь вскочил на ноги в страхе за своих воинов.
Земля непосредственно в тылу наступающих спартанцев, как и ожидалось, была усеяна растоптанными телами убитых и раненых врагов: Но было и кое-что новое. Мидийцы, опрокинувшиеся так быстро и в таком существенном количестве, пережив первое потрясение, теперь встали и попытались построиться. Они тут же подверглись атаке сомкнутого строя союзников, шедших на подмогу и на смену спартанцам. Последовала новая резня, когда тегейцы и опунтские локрийцы набросились на этот еще не поспевший урожай.
Тегея примыкает непосредственно к территории Лакедемона. Веками спартанцы и тегейцы сражались друг с другом на приграничных равнинах, но последние три поколения стали союзниками и товарищами. Из всех пелопоннесцев, если не считать спартанцев, тегейцы были самыми яростными и умелыми воинами.
Что касается опунтских локрийцев, они сражались за свою страну, за свои дома и храмы, поля и святилища, лежавшие всего в часе ходьбы от Горячих Ворот. Они знали, что в лексиконе захватчиков нет слова «пощада», – значит, не найдется и в их собственном.
Я оттаскивал раненого Всадника – Дориона, друга Полиника – в безопасное место на краю поля, когда моя нога поскользнулась в ручье глубиной по лодыжку. Два раза я пытался встать и два раза падал. Я выругался. Что еще за родник вдруг возник на склоне горы, когда раньше тут ничего не было? Я взглянул под ноги: обе мои ноги покрывал поток крови, текущий по выемке в земле, как по стоку скотобойни.
Мидийцы рухнули. На смену изнеможенным спартанцам пришли тегейцы и опунтские локрийцы, продолжив атаку на опрокинутого врага. Теперь пришел черед союзников.
– Крушите их, ребята! – крикнул один из спартанцев, когда из тыла и с обоих флангов хлынул вал союзников в десять рядов и сомкнулся в фалангу перед бойцами Спарты, которые наконец отошли назад и с дрожащими от усталости руками и коленями попадали друг на друга и прямо на землю.
Тут-то я и отыскал своего хозяина. Он стоял на одном колене, изнеможенный, сжимая обеими руками свое сломанное копье без наконечника, воткнутое нижним концом в землю. Диэнек повис на нем, как сломанная марионетка на вешалке. Шлем своим весом склонил его голову к земле, у Диэнека не хватало сил ни поднять его, ни снять. Рядом рухнул на четвереньки Александр, с размаху упершись головой в землю, так что гребень шлема вошел в грунт. Его грудная клетка работала, как у собаки, а из-под бронзовых нащечных пластин капала вспененная слюна, смешанная со слизью и кровью.
Сюда приходили тегейцы, атаковавшие вслед за нами. Отсюда они ушли, гоня перед собой врага.
Впервые за этот казавшийся бесконечным промежуток времени чувство неминуемой гибели рассеялось. Лакедемоняне попадали на землю там, где стояли,– сначала на колени, потом на четвереньки, потом просто растянулись на земле, кто на боку, кто на спине. Глаза бессмысленно, ничего не видя, уставились в пространство. Никому не хватало сил говорить. Оружие опустилось под собственным весом, по-прежнему зажатое в кулаках с такой судорожной силой, что воля не могла заставить мускулы расслабиться и отпустить его. Щиты позорно попадали на землю чашей вниз, а люди повалились ничком поверх, не в силах даже повернуть лицо в сторону, чтобы было легче дышать.
Александр выплюнул пригоршню зубов. Когда он нашел в себе силы кое-как стянуть шлем, его волосы вывалились свалявшимся клубком, спутанной массой соленого пота и запекшейся крови. Глаза глядели мертво, как каменные. Он обрушился, как ребенок, лицом в колени моему хозяину и заплакал без слез, поскольку все его изможденное существо не имело влаги на слезы.
Подошел Самоубийца с простреленными обоими плечами, но не помнящий себя от радости. Он встал над упавшими рядами воинов – бесстрашный, вглядываясь туда, где союзники сошлись с последними мидийцами и рубили их в куски с таким страшным шумом, что казалось, побоище идет не в ста, а в десяти шагах от нас.
Я видел глаза моего хозяина – черные дыры за прорезями шлема. Его рука слабо потянулась к пустому чехлу от копья у меня на спине.
– Что случилось с моими копьями? – прохрипело его горло.
– Я их отдал.
Прошло некоторое время, прежде чем он вновь набрал дыхания.
– Надеюсь, нашим.
Я помог ему снять шлем. Для этого потребовалось несколько минут – так разбухли от пота и крови войлочный подшлемник и спутанная, слежавшаяся масса волос. Пришли водоносы. Ни у кого из воинов не хватило сил даже подставить руки, и жидкость просто плескали на тряпки и рубахи, которые люди прижимали к губам и сосали. Диэнек отбросил с лица спутанные волосы. Левого глаза у него не было. Рассеченный, он вытек, оставив отвратительный окровавленный комок.
– 3наю,– сказал Диэнек.
Теперь я увидел тяжело дышащих в землю Аристомена, Биаса и других из его эномотии, Черного Льва и Леона Ослиный Член. Их руки и ноги были иссечены, покрыты бесчисленными резаными ранами и блестели от грязи и крови. Они и прочие израненные из других подразделений сгрудились друг на друге, как барельеф на стене храма.
Я опустился на колени рядом с хозяином и прижал смоченную тряпку к месту, где раньше был глаз. Материя впитала жидкость, как губка.
Впереди, где враг беспорядочно бежал, временные победители могли видеть Полиника. В одиночестве он стоял на ногах, протянув меч в сторону бегущего врага. Сорвав с головы шлем, разбрызгивая кровь и пот, Полиник, торжествуя, швырнул его об землю.
– Не сегодня, сыновья шлюхи! – проревел он вслед бегущему врагу.– Не сегодня!
Глава двадцать пятая
Не могу утверждать определенно, сколько раз в тот первый день каждый из греческих союзников занимал свое место на треугольнике, ограниченном Тесниной и склоном горы, морскими скалами и Фокийской стеной. Могу лишь убежденно заявить, что мой хозяин сменил четыре щита, у двух из которых от непрестанных ударов раскололась дубовая основа, у третьего разбилась бронзовая оковка, а у четвертого вырвали ремень и рукоять. Найти замену было нетрудно, стоило лишь нагнуться – столько всякого оружия валялось на поле рядом с мертвыми или умирающими.
Из шестнадцати человек в эномотии моего хозяина в первый день погибли Лампит, Соэбиад, Телемон, Сфленелаид и Аристон, а Никандр, Мирон, Хариллон и Биас были тяжело ранены.
Аристон пал во время четвертого, последнего, штурма, сражаясь против Бессмертных Великого Царя. Это был юноша двадцати одного года, один из Полиниковых «сломанных носов», чью сестру Агату выдали за Александра.
Тело Аристона нашли около полуночи у крутого горного склона. Его оруженосец Демад распластался сверху, все еще стараясь прикрыть щитом своего хозяина. Подбородки,у обоих были расколоты ударами сагариса – боевого топора. Из груди Демада чуть ниже левого соска торчало сломанное древко вражеского копья. Хотя на теле Аристона имелось более двадцати ран, умер он от удара по голове, очевидно нанесенного булавой или боевым молотом, который пробил шлем и череп прямо над глазами.
Метки погибших обычно собирал и раздавал главный боевой жрец – в данном случае отец Александра, полемарх Олимпий. Однако он сам погиб от персидской стрелы за час до темноты, непосредственно перед последним столкновением с Бессмертными. Олимпий со своими людьми нашел убежище на стене, под прикрытием частокола, готовясь к отражению последнего штурма в тот день. Все происходящее он записывал в свой дневник. Полемарх думал, что несгоревшие бревна частокола защитят его, и снял шлем и латы. Но стрела, ведомая каким-то извращенным роком, прошла через единственное доступное для нее отверстие не шире ладони и поразила Олимпия в шейный позвонок, перебив спинной мозг. Он умер через несколько минут на руках у своего сына, не приходя в сознание.
Таким образом Александр в один день потерял отца и шурина.
Среди спартанцев в первый день наибольшие потери понесли Всадники. Из тридцати семнадцать были или убиты, или так изранены, что больше не могли сражаться. Леонид получил шесть ран, но всегда самостоятельно выходил на поле боя. Удивительным образом Полиник, сражавшийся весь день в первых рядах в самых кровавых столкновениях, получил лишь несколько случайных порезов и царапин, многие из которых, несомненно, были ненароком нанесены собственным оружием или оружием товарищей. Однако он сильно растянул оба подколенных сухожилия и потянул левое плечо – просто от перенапряжения и чрезмерных требований к своему телу в моменты крайней необходимости. Его оруженосцу Аканту не повезло, как и Олимпию, он погиб, защищая Полиника, всего за несколько минут до прекращения дневного побоища.
Вторая атака началась в полдень. Это были горные бойцы из Киссии. Никто из союзников не имел. представления, где находится это проклятое место, но где бы ни располагалось, оно рождало мужчин страшной отваги. Киссия, как позже узнали союзники,– это страна суровых и враждебных гор недалеко от Вавилона, полная ущелий и пропастей. Этих бойцов, сынов пропастей и скал, вовсе не напугала отвесная скала Каллидрома. Они бегом преодолели это препятствие, взобравшись по переднему склону и скатывая камни без разбору на свои собственные войска и войска греческих союзников. Сам я не мог непосредственно видеть это сражение, поскольку в то время стоял за Стеной, поглощенный ранами своего хозяина и ранами других воинов из его эномотии, обеспечивая их надобности. Но я все слышал. 3вук был такой, будто рушилась гора. Из спартанского лагеря в ста футах позади Стены, оттуда, где находились Диэнек и Александр, мы видели готовые к бою эномотии. В нынешней смене это были мантинейцы и аркадцы. Они взбирались на Стену и оттуда метали дротики, копья и даже выломанные камни в атакующих, которые в упоении близкой победы издавали леденящий кровь крик,– для меня он звучал как просто «Элелелелелеле!».
В тот вечер мы узнали, что первую киссийскую атаку фиванцы отбили. Эти фиванские воины занимали правый фланг союзных войск, вдоль морских скал. Их начальнику Леонтиаду и сражавшимся рядом с ним отборным бойцам удалось пробить брешь в толпе врагов примерно в двадцати шагах от скал. Фиванцы устремились в эту брешь и начали прижимать к скалам отсеченные ряды противника, щитов двадцать шириной. И снова давление греческого оружия оказалось неодолимым. Враги справа были оттеснены назад собственными отступающими товарищами. Они опрокидывались в море, как раньше мидийцы, хватаясь за штаны, перевязи и лодыжки своих соратников и утаскивая их за собой. Масштаб и быстрота побоища, несомненно, впечатляли. Погибающие, кувыркаясь, пролетали сто восемьдесят футов, чтобы разбиться о скалы. Те, кто избегал этого, тонули в море под тяжестью доспехов. Даже с нашего места мы ясно слышали крики падавших людей.
Третьим народом, избранным Ксерксом для нападения на греческих союзников, были саки. Они собрались перед Тесниной где-то в середине дня. Это были горцы и жители равнин, воины восточной державы, самые храбрые из всех, с кем сталкивались союзники. Они сражались боевыми топорами, и какое-то время греки несли от них самые серьезные потери. И все же под конец их собственное мужество подвело саков. Они не сломились и не поддались панике; они просто подходили – волна за волной, хватаясь за тела павших товарищей, и сами подставляли себя под разящие удары греческих щитов и копий.
Сначала против саков выстроились микенцы, коринфяне и флиунтцы, а спартанцы, тегейцы и феспийцы оставались в резерве. Последних бросили в бой почти разом, когда микенцы и коринфяне выдохлись, истомленные жерновами убийства, и оказались не в силах продолжать резню. Резервы тоже в свой черед изнемогли, и их пришлось подкрепить третьей сменой– орхоменийцами и другими аркадцами. Эти последние сами еще еле отошли от предыдущей сечи и едва успели погрызть сухарей и выпить по глотку вина.
К тому времени, когда саки дрогнули, солнце уже поднялось высоко над горами. «Танцевальная площадка» оказалась вся в тени и напоминала поле, перепаханное какими-то чудовищными быками. Ни пяди не осталось нетронутой. Твердая, как скала, земля, политая кровью, мочой и жуткой жидкостью, что течет из распоротых кишок, местами оказалась размешана на глубину до середины голени.
3а проходом, примыкающим к лакедемонскому лагерю, есть источник, посвященный Персефоне. В то утро, сразу после отражения мидийской атаки, там повалились в изнеможении спартанцы и феспийцы. Тогда это был первый миг, когда нас охватило ощущение, что мы спасены. Пусть все понимали кратковременность этого мига – весь лагерь союзников залила вспышка высочайшей радости. Воины в паноплиях глядели друг на друга и гремели щитами, сталкивая их просто от радости, как мальчишки, которых веселит звон бронзы. Я видел, как два воина-аркадца тузили друг друга кулаками по покрытым воловьей кожей плечам, и слезы радости заливали их лица. Другие с гиканьем плясали. Один из флиунтцев схватился обеими руками за угол редута и как безумный бился головой в шлеме о камень – бом! бом! бом! Другие, как купающиеся в песке лошади, катались по земле – радость так переполняла их, что они не могли дать ей другого выхода.
Одновременно по лагерю прокатилась и вторая волна эмоций. Это было благочестие. Воины обнимались и плакали от благоговения перед богами. Из пылких сердец рвались благодарственные молитвы, и никто не стыдился произносить их вслух. На всем пространстве лагеря виделись группы воинов, опустившихся на колени и взывающих к богам кружки из дюжины человек, молитвенно сложивших руки, тройки и четверки, обнявшиеся за плечи, пары, опустившиеся на колени друг против друга, и просто одиночки, молящиеся на земле.
Теперь, после семи часов побоища, весь этот праздник благочестия исчез. Воины пустыми глазами смотрели на перепаханную равнину – на засеянную смертью пашню с проросшими тут и там мертвыми телами и щитами, переломанными доспехами и разбитым оружием,– и душа не могла охватить эту страшную картину, чувства отказывались ее воспринять. Стонали и кричали бесчисленные раненые, корчась среди груд отрубленных конечностей и обрубков тел, так перепутанных, что невозможно было различить отдельного человека, а все вместе это напоминало какого-то горгонообразного зверя с десятью тысячами искалеченных щупалец, какое-то жуткое чудовище, порождённое разверзшейся землёй и теперь впитывающееся струйками и каплями обратно в эти хтонические щели, давшие ему жизнь. На переднем склоне горы скала окрасилась алым до высоты колена.
Лица союзников к этому времени превратились в одинаковые маски смерти. Бессмысленные глаза смотрели из впалых глазниц, словно некая высшая сила погасла в них, как лампа, и на смену ей пришла неописуемая усталость – пустой густой взор самого подземного царства.
Александр казался пятидесятилетним. В зеркале его глаз я увидел собственное лицо и не узнал его.
Гнев на врага возрос, как никогда раньше. Это была не злоба – скорее, отказ думать о пощаде. Началась власть дикости. Акты варварства, до того казавшиеся немыслимыми, теперь принимались безоговорочно. Театр войны, смрад и вид резни подобного масштаба так притупили чувства ужасом, что ум онемел и отупел. С извращенной изобретательностью он искал этих чувств и старался усилить их.
Все знали, что следующая атака будет на сегодня последней, что занавес ночи отложит побоище до завтра. Было также ясно, что силы, которые враг выведет на этот раз, будут лучшими. Это будут сливки, припасенные на тот час, когда эллины изнемогли и представляется наилучшая возможность смять их. Леонид, который не спал уже более сорока часов, все еще ходил вдоль рядов защитников, собирая вокруг себя боевые части союзников и обращаясь к ним по отдельности:
– Помните, братья, последний бой решает все. Все, чего мы добились до сих пор, будет потеряно, если мы не одолеем врага сейчас, под конец. Сражайтесь же так, как еще не сражались.
В перерывах между тремя первыми атаками все воины, готовясь к следующему столкновению, старались начисто отмыть лицевую часть своих щитов и свои шлемы, чтобы обратить на врага страшную в своем блеске поверхность бронзы. Однако с течением времени, после новых и новых убийств, этот ритуал все чаще стал нарушаться, почтение к нему пошло на убыль, поскольку каждая выпуклость и вмятина на щите оказывалась инкрустирована кровью и грязью, слизью и экскрементами, ошметками плоти, волосами и сукровицей. Кроме того, люди слишком устали, и им уже было все равно. Тогда Дифирамб, начальник феспийцев, постарался выдать необходимость за достоинство. Он приказал воинам прекратить чистку щитов, а вместо этого как можно сильнее измазать щиты и доспехи кровью.
Дифирамб, по роду занятий архитектор, а вовсе не профессиональный воин, уже прославился в этот день таким выдающимся мужеством, что все единодушно сочли его достойным приза за отвагу. Его доблесть вознесла его выше всех после Леонида. И теперь Дифирамб, встав на открытом месте, на глазах у всех воинов начал мазать свой щит, и так уже почти черный от запекшейся крови, кишок и сочащихся влагой кусков плоти. Союзники – феспийцы, тегейцы и мантинейцы – последовали этому отвратительному примеру. Только спартанцы воздержались – не столько из деликатности и приличия, а просто повинуясь своим походным законам, предписывающим всегда придерживаться обычной дисциплины и правил обращения с оружием.
Дифирамб приказал оруженосцам и слугам занять свои места и воздерживаться от выхода вперед, где лежали вражеские тела. Вместо этого он послал туда собственных воинов с приказом сложить трупы самым жутким образом, чтобы внушить как можно больше ужаса следующей волне наступающих врагов, чьи походные трубы уже доносились из-за Теснины.
– Братья и союзники, мои прекрасные псы из подземного царства! – обратился он к воинам, расхаживая с непокрытой головой перед строем, и его голос мощно доносился даже до стоявших на Стене.– Следующая волна будет на сегодня последней. Соберитесь с духом для последнего усилия. Враг считает, что мы изнемогли, и предвкушает, как его свежие, отдохнувшие войска перережут нас и отправят в Тартар. Он не знает, что мы уже там. Мы вошли туда несколько часов назад.– Он сделал жест в сторону Теснины и жуткого ковра, покрывавшего там землю. Мы уже в Тартаре. Это наш дом!
Из строя донесся радостный шум, перекрываемый грубыми криками, улюлюканьем и ужасающим хохотом.
– Помните, ребята,– еще громче разнесся голос Дифирамба,– что следующая волна этих азиатских говнюков нас еще не видела! Представьте, что им известно. Они лишь: знают, что три их самых могучих народа выступили на нас с яйцами, а вернулись без яиц. И говорю вам: эти свежие войска не такие уж свежие. Они весь день сидели на своих задницах, наблюдая, как их союзников несут и волокут отсюда, изрубленных нами на куски. Поверьте мне, их воображение не сидело сложа руки. Каждый представил, как его собственная голова катится, слетев с плеч, как его кишки волочатся по грязи, а член и яйца болтаются на греческом копье! Это не мы изнемогли, а они!
Новые крики и возбуждение прокатились по строю союзников. Феспийцы в поле продолжали свою мясницкую работу. Я посмотрел на Диэнека, который взирал на все это с мрачной гримасой на лице.
– Клянусь богами,– проговорил он,– это становится отвратительным.
Мы видели, как спартанские Всадники во главе с Полиником и Дорионом занимают свои места вокруг Леонида, перед строем. Но с самого передового поста бегом возвращался дозорный. Это был Собака, спартанский скирит. Он бросился прямо к Леониду и что-то доложил ему. Новость быстро распространилась по рядам: следующей волной будет личная гвардия Великого Царя – Бессмертные. Греки знали, что эти части составлены из отобранных самим Великим Царем лучших воинов, цвета персидской знати, принцев, с рождения учившихся «обращаться с луком и говорить правду».
Кроме того, их было десять тысяч, в то время как способных к бою греков не насчитывалось и трех тысяч. Все знали, что Бессмертные получили свое имя из-за персидского обычая заменять всех убитых или уволенных по старости воинов, чтобы численность личной гвардии Ксеркса всегда оставалась десять тысяч.
Эта-то элитная часть теперь и показалась в горловине Теснины. На них были не шлемы, а тиары – мягкие войлочные шапки со сверкающим как золото металлическим ободом наверху. Эти полушлемы не прикрывали ушей, шеи и челюсти и оставляли лицо и горло совершенно открытыми. В ушах у воинов были серьги, лица у некоторых были раскрашены тушью для век и румянами, как у женщин. Тем не менее это были великолепные красавцы, отобранные, как знали все эллины, не только по доблести и знатности рода, но также по росту и красоте. И каждый следующий казался удалее предыдущего. Из-под безрукавных кольчуг с пластинами в виде рыбьей чешуи виднелись рукава пурпурных шелковых рубах с алой каймой, а штаны прикрывали замшевые сапоги с голенищами до середины икры. Их вооружение составляли лук, кривой меч на поясе и короткая персидская пика, а щиты, так же как мидийские и киссийские, были плетеные и прикрывали тело от плеч до паха. Однако самым удивительным было количество золота – брошей и браслетов, амулетов и прочих украшений на каждом из Бессмертных. Их начальник Гидарн, выдвинувшийся вперед, был единственным вражеским всадником, которого до, сих пор увидели греки. Его тиара возвышалась, как монаршья корона, а глаза сверкали алмазами из-под накрашенных век. Его конь заартачился, отказываясь ступать по жуткому ковру трупов. Вражеские ряды подтягивались на площадку перед Тесниной. Их дисциплина была безупречна. Сами они были безукоризненны.
Леонид вышел вперед, чтобы обратиться к грекам. Он подтвердил то, о чем эллинские воины и так догадались: что показавшиеся вдали вражеские части – действительно Бессмертные, личная гвардия Ксеркса, и что их число, оцененное на глаз,– десять тысяч.
– Враг думает,– звучно разнесся голос Леонида,– что перспектива сразиться с отборными бойцами из Азии устрашит нас! Но клянусь вам, эта битва окажется без пыли!
Царь употребил греческое слово аконити, которое обычно применяется в борьбе, кулачном бое и панкратионе. Когда победитель поверг противника так быстро, что схватка даже не подняла пыли на арене, говорят, что он выиграл аконити, «без пыли».
– Послушайте меня дальше,– продолжал Леонид, и я скажу вам почему. Войска, что Ксеркс бросил на нас теперь,– первые из его воинов истинно персидской крови. Их начальники – родственники самого Великого Царя. Он послал сюда своих родных и двоюродных братьев, дядей и любимых, воинов из своего рода, чьи жизни для него бесценны. Видите его наверху, на своем троне? Народы, что он посылал на нас до сих пор, были всего лишь его рабами, копейным мясом для деспота, который разбрасывается их жизнями, не считая. А эти,– Леонид обвел рукой пространство, где теперь собрались Бессмертные во главе с Гидарном,– эти представляют собой сокровище. Этих он любит. Потерю их он ощутит, как копье в собственных кишках. Помните, эта битва при Горячих Воротах – не та, ради которой и Ксеркс пришел сюда. Он предчувствует множество других важных сражений в глубине Эллады против наших главных сил. Для тех столкновений он хочет сберечь цвет своего войска – воинов, которых вы видите сейчас перед собой. Он побережёт их жизни сегодня, обещаю вам это. Их десять тысяч, а нас – четыре. Но убийство каждого воина будет жалить Великого Царя, как потеря целого войска. Эти воины для него – как золото для скупца, которое он копит и лелеет пуще всех прочих своих сокровищ. Убейте тысячу, и остальные дрогнут. Одну тысячу – и хозяин отведет остальных назад. Сделаете это для меня, ребята? Можете вы, четыре тысячи, убить тысячу? Можете подарить мне эту тысячу?
Глава двадцать шестая
Великий Царь может сам судить о точности предсказания Леонида. Темнота застала Бессмертных в беспорядочном отступлении по приказу Великого Царя, как и предрекал Леонид. Они бросили своих раненых и умирающих на орхестре, «танцевальной площадке» у Теснины.
Незадолго перед полуночью ливень промочил весь лагерь, залив немногочисленные костры, для поддержания которых не было людей,– все оруженосцы, прислуга и помощники потребовались для ухода за ранеными и покалеченными. Со склона Каллидрома сходили оползни, заливая лагерь реками грязи и камней. По всему этому мокрому пространству валялись груды отрубленных конечностей и мертвых тел, многие еще в доспехах, а забытье живых было столь глубоко, что их стало не отличить от убитых. Все промокло и покрылось грязью.
Перевязочные материалы для раненых давно иссякли, палатки купальщиков, реквизированные разведчиками-скиритами под убежище, нашли новое применение – их холстина пошла на компрессы для ран. 3апах крови и смерти поднимался с таким осязаемым ужасом, что обозные ослы ревели всю ночь, не в силах успокоиться.
Был еще один, третий, внештатный боец, еще один доброволец кроме Сферея и чалой собаки по кличке Стикс. Это был эмпор, милетский торговец и ремесленник по имени Элефантин, на чью сломанную повозку союзническая колонна наткнулась во время перехода через Дориду за день до прибытия к Воротам. Этот человек, несмотря на свои неудачи в пути, сохранял самое веселое расположение духа и делил свой обед, состоящий из одних зеленых яблок, со своим хромым ослом. На передке его повозки возвышался написанный от руки плакат, в котором говорилось о радушии Элефантина и желании услужить покупателю. Ремесленник намеревался объявить: «Лучшие услуги только для тебя, мой друг». Однако рисовальщик перепутал несколько букв в словах, и вместо «друг» – «филос» – его рука начертала «фимос» – этим словом дорийцы пользуются для обозначения крайней плоти на мужском половом члене. И потому лозунг на повозке провозглашал примерно следующее: «Лучшие услуги только для тебя, моя крайняя плоть».
Такая блестящая поэзия мгновенно принесла Элефантину славу. Несколько оруженосцев отделились от колонны, чтобы помочь ему, и за эту любезность торговец выразил им свою глубочайшую благодарность.
– И куда же, если можно спросить, направляется это великолепное войско?
– Умирать за Элладу,– ответил кто-то. – Как восхитительно!
К полуночи ремесленник появился в лагере, проследовав за колонной всю дорогу до Ворот. Его встретили с энтузиазмом. Его специальность имела отношение к металлу, и в этом, как он сам заявил, ему нет равных. Он десятки лет затачивал крестьянские косы и домашние ножи и топоры. Он знал, как выправить самую искорёженную лопату, и клялся, что готов послужить на пользу войску – просто из благодарности за доброту, проявленную к нему по дороге.
Этот человек употреблял одно выражение, которым приправлял беседу, когда хотел что-то выделить.
– Тут очнись! – говорил он, но с его ионийским акцентом получалось «Тут очись».
Эту фразу сразу же и с крайним весельем подхватило все войско.
– Снова сыр с луком, тут очись!
– Муштровка дважды в день, тут очись!
Один из двух Леонов из эномотии Диэнека, Ослиный Член, на следующее утро орал на торговца, демонстрируя перед его заспанными глазами чудовищную эрекцию:
– Это называется фимос, тут очись!
Ремесленник стал для войска чем-то вроде талисмана. Его с радостью встречали у каждого костра, его компанию любили и молодежь, и ветераны, он прослыл хорошим рассказчиком и славным малым, шутником и доброжелательным товарищем.
Теперь, после побоища первого дня, торговец сам себя назначил еще и внештатным утешителем и исповедником для молодых воинов, с которыми за последние дни сблизился теснее, чем с сыновьями. Всю ночь он провел среди раненых, принося им вино, воду и утешение. Свою обычную живость он умудрился удвоить и развлекал калек грубоватыми повествованиями о своих путешествиях и злоключениях, о том, как соблазнял домохозяек, о том, как его грабили и били на дороге. Он, подобно другим, вооружился брошенным оружием и на следующий день собирался встать в строй на место павших. Многие оруженосцы тоже сами без принуждения становились в строй.
Всю ночь гудели кузнечные горны, непрерывно стучали кузнечные молоты, чиня копья и клинки, обивая бронзой щиты, в то время как плотники и столяры выстругивали новые древки для копий и дубовые основы для щитов.
Союзники готовили пищу, топя костры вражескими стрелами и сломанными щитами. Жители деревни Альпены, что днем раньше торговали разными вещами, теперь, увидев самопожертвование защитников, приносили продукты просто так и спешили со своими тележками и тачками за новыми.
Где были подкрепления? Идут ли они на помощь вообще? Леонид, чувствуя озабоченность войска, воздерживался от собраний и военных советов, а вместо этого ходил среди воинов, выполняя работу низших командиров. Он послал в города новых гонцов с новыми просьбами о помощи. Было замечено, что в гонцы он выбирает самых молодых воинов. За резвость ног – или царь хотел сберечь тех, чьи лучшие годы оставались впереди?
Теперь мысли каждого воина обратились к своей семье, к оставшимся дома любимым. Дрожащие от изнеможения люди писали письма женам и детям, матерям и отцам. Многие эти послания представляли собой просто каракули на клочке ткани или кожи, глиняном черепке или обломке доски. В письмах содержались пожелания и заветы, последние слова прощания. Я видел сумку одного гонца, готового к отбытию,– там была мешанина папирусных свитков, восковых табличек, черепков и даже выдранных из подшлемников обрывков войлока. Многие воины просто посылали амулеты, которые их любимые должны были узнать, талисманы, висевшие на внутренней стороне щита, счастливые монетки с просверленным отверстием, чтобы носить на шее. На некоторых виднелись надписи – «Любимой Амариде, в Делии из Феагона, с любовью». На других не было никаких имен. Возможно, гонцы знали адреса сами и могли доставить послание и без подписи. Если же нет, то содержимое мешка будет выставлено на публичной площади, агоре, возможно перед храмом покровительницы города. Там встревоженные семьи соберутся в надежде и беспокойстве, ожидая своей очереди рассмотреть драгоценный груз, чая получить послание, со словами или без слов, от тех, кого любили и кого боялись следующий раз,увидеть лишь мертвыми.
Прибыли два посланника от союзного флота – на афинской галере, которая курсировала между морскими силами и наземным войском. Союзники в этот день встретили персидский флот, но серьезного сражения не состоялось. Наши корабли должны были удерживать пролив, иначе Ксеркс сможет высадить войска в тылу у защитников и отрезать их от основных сил; а наземные войска должны были удерживать проход, иначе персы смогут продвинуться по суше до Эврипского пролива и блокировать флот. Пока что и флот, и сухопутное войско удерживали свои позиции.
Подошел Полиник и сел на несколько минут у костра, вокруг которого собрались остатки нашей эномотии. Он заметил известного гимнаста, учителя атлетов по имени Милон, которого знал по Олимпийским играм. Этот человек перебинтовал Полинику сухожилия и дал ему фармакон, чтобы приглушить боль.
– Тебе хватило славы? – спросил Всадника Диэнек. Полиник ответил неимоверным по мрачности взглядом.
– Сядь,– сказал мой хозяин, указывая на сухое место рядом с собой.
Полиник с благодарностью сел. Вокруг, как мертвецы, дремали воины, положив головы друг на друга и на свои покрытые запёкшейся кровью щиты. Прямо напортив Полиника бессмысленно уставился в огонь Александр. У него была сломана челюсть, и вся правая половина лица блестела лиловым; кость была перетянута ремнем.
– Дай-ка посмотреть на тебя,– сказал Полиник. В мешке учителя гимнастики он обнаружил вощеный шарик из эйфорбии и янтаря, который называли «обедом кулачного бойца», – такие использовали кулачные бойцы между схватками, чтобы зафиксировать сломанные кости и зубы. Этот шарик и размял Полиник. Он повернулся к учителю:
– Лучше сделай ты, Милон.– Полиник взял Александра за правую руку.– Держи. Сожми так, чтобы мои пальцы хрустнули.
Учитель из собственного рта влил в рот Александру неразбавленного вина, чтобы очистить от свернувшейся крови, потом пальцами извлек фантастический комок слюны, слизи и мокроты. Я держал Александру голову, рукой он сжимал пальцы Полиника. Диэнек смотрел, как учитель вставил вязкий янтарный комок Александру меж челюстей, потом плотно закрепил на нем раздробленные кости.
– Медленно считай,– велел он пациенту.– Когда дойдешь до пятидесяти, челюсть будет как новая.
Александр отпустил руку Всадника. Полиник печально смотрел на него.
– Прости меня, Александр. – 3а что?
– Что сломал тебе нос.
Александр хотел рассмеяться, но из-за сломанной челюсти лицо лишь исказила гримаса.
– Теперь это лучшее, что осталось у тебя на лице. Александр снова сморщился.
– Я сожалею о твоем отце,– проговорил Полиник. И об Аристоне.
Он встал, чтобы перейти к другому костру, но, взглянув на моего хозяина, опять перевел взгляд на Александра. – Я должен тебе кое-что сказать. Когда Леонид избрал тебя в число Трехсот, я пошел к нему и с глазу на глаз изо всех сил старался отговорить от этого решения. Я думал, ты не будешь сражаться.
– 3наю,– просипел Александр сквозь сжатые челюсти. Полиник какое-то время рассматривал его, потом проговорил:
– Я ошибался.
И пошел прочь.
Пришли новые приказы. Нужно было послать наряды —,убрать трупы с ничейной полосы. В числе посланных был и Самоубийца. Оба его простреленных плеча не могли двигаться, и Александр настоял, чтобы пойти вместо него.
– Теперь, узнав о смерти моего отца и Аристона,– обратился он к Диэнеку, который, как эномотарх, мог запретить ему идти в наряд,– Леонид постарается уберечь меня ради моей семьи и пошлет меня домой с каким-нибудь заданием или донесением. А я не хочу выказывать ему неуважения своим отказом.
Никогда я не видел такой печали, как тогда на лице моего хозяина. В свете костра он указал на промокшую землю рядом с собой.
– Я наблюдал за этими мелкими тварями.
Там, в грязи, вовсю шла война между муравьями.
– Посмотри на этих доблестных воинов,– указал Диэнек на густые отряды насекомых, с неимоверной отвагой сцепившихся на куче своих же павших товарищей, сражаясь за высохший труп жука. – Вот этот будет Ахиллом. А вот, смотри,– это, должно быть, Гектор. Наша храбрость – ничто по сравнению с этими героями. Видишь? Они даже выносят тела своих товарищей с поля боя, как и мы.
Его голос звучал глухо от отвращения, и от него разило иронией.
– Думаешь, боги смотрят на нас сверху так же, как мы на этих насекомых? Бессмертные скорбят о нашей смерти так же, как мы скорбим о смерти этих муравьев?
– Поспи, Диэнек,– мягко проговорил Александр. – Да, это мне и нужно. Хороший отдых.
Он обратил уцелевший глаз на Александра. 3а редутами стены вторая смена часовых получала инструкции, готовясь сменить первую.
– Твой отец был моим ментором, Александр. В ночь, когда ты родился, я нес чашу. Помню, Олимпий показал тебя старейшинам, чтобы те испытали, достаточно ли ты крепок, чтобы позволить тебе жить. Судья окунул тебя в вино, и ты завопил своим сильным младенческим голоском и затряс в воздухе сжатыми кулачками. «Отдай мальчика Диэнеку,– велел твой отец Паралее, а мне сказал: – Мой сын будет твоим подопечным. Ты будешь учить его, как я учил тебя».
Диэнек воткнул в грязь свой ксифос, положив конец муравьиной Илиаде.
– А теперь всем спать! – рявкнул он уцелевшим воинам своей эномотии, а сам, несмотря на протестующие напоминания о том, что ему тоже необходимо вздремнуть, встал и в одиночестве пошагал на командный пункт Леонида, где царь и другие военачальники еще стояли на своих местах, обсуждая действия на следующий день.
Я видел, как подгибалась при ходьбе нога Диэнека – не давно раненная, а другая. Он скрыл от своих подчиненных еще одну рану, судя по походке, глубокую и серьезную. Я тут же встал и поспешил ему на помощь.
Глава двадцать седьмая
Тот источник, названный скиллийским и посвященный Деметре и Персефоне, бил из самого подножия Каллидрома сразу позади командного поста Леонида. Мой хозяин поковылял туда, и я поспешил его догнать. Никакая ругань, никакие приказы не остановили меня. Я обхватил его рукой свою шею и принял плечом весь его вес.
– Я принесу воды,– сказал я.
Вокруг источника собралась горстка возбужденных воинов, и среди них прорицатель Мегистий. Что-то тут было не так, и я подошел ближе. Этот источник, известный своей переменчивостью и бьющий то холодной, то горячей водой, с самого нашего появления сочился скудной струйкой воды, но воды вкусной и холодной,– благословение богинь жаждущим воинам. Теперь же из него внезапно хлынула горячая и вонючая струя. Словно серная блевотина вырвалась из подземного мира. Воины затрепетали от такого чуда. Слышались молитвы Деметре и Коре-Персефоне. Я попросил у Всадника Дориона, чтобы тот налил полшлема воды из своего меха, и вернулся к своему хозяину, решив ни о чем не упоминать ему.
– Источник пропах серой, верно?
– Это предвещает смерть врагов, не нашу, господин.
– Ты так же набит дерьмом, как жрецы.
Теперь я видел, что он в порядке.
– Союзникам нужно привлечь на свою сторону твою двоюродную сестру,– заметил он, морщась от боли и усаживаясь на землю,– чтобы вступилась за них перед богиней.
Диэнек имел в виду Диомаху.
– Садись,– сказал он,– вот сюда, рядом.
Впервые при мне хозяин вслух упомянул о Диомахе, раньше он ничем не выдавал, что слышал о ее существовании. Впрочем, хотя в эти годы я никогда не думал обременять его подробностями своей жизни, но знал, что ему все известно,– от Александра и госпожи Ареты.
– Мне всегда было жаль эту богиню – Персефону, объявил мой хозяин.– Шесть месяцев в году она правит подземным миром как супруга Аида. И все же ее царствование лишено радости. Она сидит на своем троне, как пленница, за свою красоту похищенная владыкой подземного царства, который по принуждению Зевса отпускает свою царицу лишь на полгода, и тогда она возвращается к нам, принося весну и возрождение земли. Ты когда-нибудь рассматривал ее статую, Ксео? Она кажется мрачной даже в разгар сбора урожая. Вспоминает ли она, как и мы, условия своего приговора – снова безвременно возвратиться под землю? Это печалит Персефону. Единственная из бессмертных, Кора вынуждена метаться от смерти к жизни и обратно, знакомая с обеими сторонами монеты. Ничего удивительного, что этот родник, чьи две струи – это небеса и подземный мир, посвящен ей.
Я уже устроился на земле рядом с хозяином, и он торжественно посмотрел на меня.
– Тебе не кажется,– спросил он,– что для нас с тобой уже поздно таить друг от друга какие-то секреты?
Я согласился, что пришел такой час.
– И все же ты таишь от меня один секрет.
Я видел: он хочет, чтобы я рассказал об Афинах и о том вечере, когда я наконец – благодаря его вмешательству – снова встретился со своей двоюродной сестрой. С тех пор не прошло и месяца.
– Почему ты не убежал? – спросил меня Диэнек. Ты знаешь, я хотел, чтобы ты сбежал.
– Я пытался. Но она не дала мне.
Я знал, что хозяин не будет вынуждать меня к разговору. Ему никогда не приходило в голову давить на меня, когда его присутствие вызывало неловкость. И все же инстинкт подсказал мне, что пришло время нарушить молчание. В худшем случае мой рассказ отвлечет его от ужасного дня, а в лучшем – возможно, обратит его мысли к более подходящим образам.
– Рассказать о той ночи в Афинах, господин? – Только если хочешь.
Это случилось во время посольства, напомнил ему я. Он, Полиник и Аристодем пешком отправились тогда из Спарты, без эскорта, в сопровождении только своих оруженосцев. Посольство одолело это расстояние за четыре дня и еще на четыре остановилось в городе Афины в доме проксеноса Сления, сына Алкибиада. Миссией посольства было оговорить последние подробности взаимодействия сухопутных и морских сил при Фермопилах и у Артемизия. Нужно было договориться о точном времени прибытия войска и флота, о способах связи между ними, о шифрах, паролях и прочем в таком роде. Невысказанным, но не менее важным оставалось желание спартанцев и афинян присматривать друг за другом, следить за тем, чтобы и те и другие в назначенное время оказались на своих местах.
В вечер третьего дня в доме видного афинянина Ксантиппа состоялся прием в честь посольства. Я любил присутствовать на таких мероприятиях, где споры и рассуждения всегда были вдохновенными, а часто – и просто блестящими. К моему великому разочарованию, перед началом меня вызвал мой хозяин и сообщил о предстоящем важном поручении.
– Мне очень жаль, что ты пропустишь прием,– сказал он и вложил мне в руку запечатанное письмо с инструкцией доставить его лично в указанный дом в порту Фалерон.
Снаружи меня ждал мальчик-слуга, чтобы провести по ночным улицам. Никаких подробностей, кроме адреса, он мне не сообщил. Я предположил, что в письме содержится какое-то чрезвычайное сообщение, связанное с флотом, и потому взял с собой оружие.
Мне потребовалась целая стража, чтобы пробраться по лабиринту кварталов и дворов, составлявших городскую застройку Афин. Повсюду собирались вооруженные воины, моряки и плывущие на кораблях пехотинцы, в сопровождении вооруженного эскорта двигались повозки с провизией для флота. Эскадры под командованием Фемистокла готовились к отправлению в Скиафос и Артемизий. Одновременно сотни семей паковали свое имущество и покидали город. Так же многочисленны были военные корабли, рядами маячившие по другую сторону бухты, а их ряды затенялись судами торговцев, паромами, одномачтовыми рыбацкими посудинами, прогулочными лодками, увозящими горожан в Трезен и на Саламин. Некоторые семьи бежали аж в Италию. Когда я и мальчик-слуга приблизились к порту Фалерон, улицы заполняло столько факелов, что там было светло как днем.
По мере приближения к гавани переулки становились все более кривыми. Ноздри забивал запах тины, по канавам текли помои, приправленные вонючими рыбьими кишками, луковой шелухой и чесноком. Никогда в жизни не видел я столько кошек. Кабаки и сомнительные дома стояли вдоль улиц, столь узких, что очищающие лучи дневного света наверняка никогда не проникали на дно этих оврагов, чтобы высушить грязь и мерзость ночной торговли пороком. Когда мы с мальчиком проходили мимо, нас нагло зазывали шлюхи, рекламируя свой товар в грубых, но добродушных выражениях.
Человека, к которому мы несли письмо, звали Террентаем. Я спросил своего спутника, имеет ли он представление, кто это такой и какое заведение содержит, но мальчик ответил, что ему сообщили лишь название дома и больше ничего.
Наконец мы нашли нужный дом – строение на трех уступах, называемое Сковородкой, с вещевым складом и постоялым двором, который располагался вровень с улицей. Войдя внутрь, я спросил Террентая. Он отбыл вместе с флотом, ответил трактирщик. Я спросил насчет его корабля. Каким кораблем он командует? Этот вопрос вызвал всеобщее веселье. "Он заведует ясенем",– заявил один подвыпивший моряк, подразумевая, что под началом Террентая находится лишь одно весло, которым он гребет. Дальнейшие расспросы не принесли никаких сведений.
– В таком случае, господин,– обратился ко мне мальчик,– нам велено отдать письмо его жене.
Я отверг это предложение как абсурдное.
– Нет, господин,– убежденно настаивал он,– так сказал мне сам твой хозяин. Нам следует передать письмо в руки его супруги по имени Диомаха.
Не слишком долго размышляя, я понял, что за этим кроется рука – если не сказать длинные руки – госпожи Ареты. Как умудрилась она из далекого Лакедемона выследить Диомаху и найти ее дом? В таком большом городе, как Афины, должно жить под сотню Диомах. Несомненно, Арета держала в тайне свои намерения, предвидя, что, заранее извещенный о них, я найду повод уклониться от обязанности. И в этом она была, конечно, права.
Во всяком случае, моей двоюродной сестры, как выяснилось, дома не было и никто из моряков не мог сказать, куда она делась. Тогда мой проводник, смышленый малый, просто шагнул в переулок и стал кричать ее имя. Через мгновение из завешенных стираным бельем окон высунулось с полдюжины седеющих голов местных дам, и нам сообщили и название портового храма, и как его найти.
– Она там, мальчик. Просто иди вдоль берега.
Мой проводник снова пустился вперед. Мы пересекли еще несколько вонючих портовых улиц. Повсюду кишели местные жители, готовые смыться из города. Мальчик сообщил мне, что многие храмы в этом квартале служат скорее не святилищами богов, а убежищем для изгоев и безденежных, а особенно, сказал он, для жен, «не получающих внимания» от своих мужей, то есть считающихся негодными, упрямыми или даже невменяемыми. Мальчик устремился вперед в самом веселом расположении духа. Для него это было необычайное приключение.
Наконец мы очутились перед храмом. Это был самый обыкновенный дом, построенный на удивительно удобном склоне в двух кварталах от воды. Возможно, в прежние времена он принадлежал какому-нибудь средней руки торговцу или ремесленнику. В огороженном дворике, не видном с улицы, приютилось несколько олив. Я постучал в ворота. Через какое-то время откликнулась жрица, если таким возвышенным словом можно назвать пятидесятилетнюю домохозяйку в хламиде и с завешенным покрывалом лицом. Она сообщила нам, что это святилище Деметры и находящейся под покровительством мужа Коры, Персефоны Окутанной. Никому, кроме женщин, входить сюда не позволяется. Лицо за покрывалом было явно напуганным, и жрицу нельзя было упрекнуть за это – улицы кишели сутенерами и ворами. Она не позволила нам войти. Все средства оказались бессильны: женщина не подтвердила, что моя двоюродная сестра действительно находится в храме, как и не согласилась забрать у нас письмо. И снова мой проводник взял быка за рога. Он открыл рот и во всю глотку принялся звать Диомаху.
Наконец нас, меня и мальчика, пустили на задний двор. Дом во дворе оказался гораздо вместительнее и куда приветливее, чем казался с улицы: Нам не позволили войти внутрь, а провели вокруг. Дама, наша проводница, подтвердила, что среди новообращенных действительно есть госпожа по имени Диомаха. В настоящее время она, как и прочие, находится в святилище и выполняет свои обязанности на кухне. Однако с разрешения старшей по убежищу нам можно поговорить с ней в течение нескольких минут. Моему мальчику-проводнику было предложено подкрепить силы, и дама увела его покормить.
Я в одиночестве стоял во дворе, когда вошла моя двоюродная сестра. Ее дети, обе девочки, одна лет пяти, а другая на год или два старше, испуганно вцепились в ее платье. Они не шагнули вперед, когда я встал на колени и протянул им руку.
– Прости их,– сказала Диомаха.– Они стесняются мужчин.
Дама увела девочек в дом, наконец оставив меня наедине с Диомахой.
Сколько раз в воображении я проигрывал этот момент! В этом выдуманном сценарии моя двоюродная сестра оставалась молодой и прекрасной, я бежал к ней, чтобы обнять, а она бежала ко мне. Ничего подобного не случилось. Диомаха шагнула под свет лампы, облаченная в черное, и нас разделяла вся ширина двора. Я был потрясен ее видом. Ее лицо и волосы были не прикрыты. Она была коротко подстрижена. Ей было не более двадцати четырех лет, но выглядела она на сорок, и казалось, что эти сорок лет ей дались нелегко.
– Неужели это ты, братец? – спросила она тем же дразнящим голосом, каким говорила со времен нашего детства. – Вот ты и мужчина, которым тебе так не терпелось стать.
Легкость ее тона только усугубила охватившее мое сердце отчаяние. Картина, так долго стоявшая у меня перед глазами, изображала ее в цвете юности, женственной и сильной, как в то утро, когда мы расстались у Трех Дорог. Какие страшные тяготы обрушились на нее за эти годы? Я думал о наводненных шлюхами улицах, о грубых моряках, о низости этих забитых отбросами переулков. Охваченный печалью и жалостью, я опустился на скамейку у стены.
– Мне не следовало расставаться с тобой,– сказал я. Я всей душой понимал это.– Это я виноват, что все так вышло, что меня не было рядом, когда нужно было защитить тебя.
Я не запомнил ни слова из того, о чем мы говорили следующие несколько минут. Помню, что моя сестра придвинулась ко мне на скамейке. Она не обняла меня, а лишь нежно и мягко коснулась моего плеча.
– Помнишь то утро, Клео, когда мы отправились на рынок с Ковыляхой и с твоей горсткой куропаточьих яиц? – Ее губы сложились в грустную улыбку.– В тот день боги направили нас по назначенному ими пути. По пути, свернуть с которого ни у тебя, ни у меня с тех пор не было возможности.
Она спросила, не выпью ли я вина. Принесла чашу. Я вспомнил про принесенное мною письмо. Когда я снял обертку, оказалось, что оно адресовано Диомахе, а не ее мужу. Она вскрыла и прочла. Письмо было написано рукой госпожи Ареты. 3акончив, Диомаха не показала его мне, а, ничего не сказав, спрятала под одежду.
Мои глаза уже привыкали к свету лампы, горевшей во дворе, и я рассмотрел лицо двоюродной сестры. Она была по-прежнему красива, но другой красотой – печальной и суровой. Теперь я понял, что старость в ее глазах, сначала потрясшая и оттолкнувшая меня, на самом деле являлась сочувствием и даже мудростью. Ее молчание было наполнено смыслом, как у госпожи Ареты,– в спартанской манере, более спартанской, чем у самих спартанцев. Я был ошеломлен. Она вызывала у меня чувство преклонения. Диомаха напоминала богиню, которой служила,– девушку, безвременно унесенную темными силами в подземный мир, и теперь, восставшая оттуда по какому-то соглашению с безжалостными богами, она несла в глазах ту первобытную, глубинную женскую мудрость, одновременно человеческую и бесчеловечную, личную и безличную. Мое сердце переполнила любовь к ней. И все же, в пяди от моих объятий, она казалась величественной, как бессмертные, и такой же непостижимой и недостижимой.
– Слышишь город вокруг? – спросила Диомаха. 3а каменной оградой ясно слышался шум бегущих людей и повозок с их скарбом.– Напоминает Астак, правда? Возможно, через несколько недель этот могучий город будет сожжен и стерт с лица земли, как и наш в тот день.
Я попросил рассказать, как она живет. Правду. Она рассмеялась.
– Я изменилась, да? Не похожа на приманку для женихов, за которую ты всегда меня принимал. Я тогда тоже была дурочкой, мне рисовались такие высокие перспективы! Но этот мир не для женщин, братец. Никогда таким не был и никогда не будет.
С моих губ сорвалось страстное проклятие. Она должна пойти со мной. Сейчас же. В горы, куда мы однажды убежали и где были когда-то счастливы. Я буду ей мужем. А она станет мне женой. И больше никогда никто ее не обидит.
– Мой милый братец,– с нежным смирением проговорила Диомаха,– у меня есть муж.– Она указала на письмо. – А у тебя есть жена.
Ее кажущаяся покорность судьбе разозлила меня. Что это за муж, который бросил жену? Что это за жена, если ее взяли не по любви? Боги требуют от нас действий и употребления своей свободной воли! Это благочестиво – не сгибаться под ярмом необходимости, как тупая скотина!
– Так говорит бог Аполлон,– улыбнулась моя двоюродная сестра и снова с нежным чувством прикоснулась ко мне.
Она спросила, можно ли рассказать мне одну историю. Буду ли я слушать? Эту историю она никогда никому не доверяла, кроме своих сестер в святилище и нашего любимого друга Бруксия. У нас осталось несколько минут. Мне следует набраться терпения и внимания.
– Помнишь тот день, когда аргосцы обесчестили меня? Ты знал, что я убила плод этого насилия. Сделала выкидыш. Но ты не знаешь, что однажды ночью у меня началось кровотечение и я чуть не умерла. Пока ты спал, Бруксий спас меня. Я дала ему клятву никогда тебе не рассказывать.
Она смотрела на меня тем же самоуглубленным взглядом, какой я видел у госпожи Ареты,– с выражением, порожденным женской мудростью, которая видит истину напрямую, через кровь, не замутняя ее грубой способностью рассуждать.
– Как и ты, братец, тогда я возненавидела жизнь. Мне хотелось умереть, и я чуть не умерла. В ту ночь в лихорадочном сне, когда я ощущала, как кровь вытекает из меня, словно масло из опрокинутой лампы, мне явилось видение. Надо мною стояла богиня, укутанная, с закрытым лицом. Я видела одни лишь глаза, но ее присутствие было так живо, что я не сомневалась в ее реальности. Она была реальнее, чем сама реальность, как будто сама жизнь была лишь сном, а этот сон являлся глубочайшей сутью жизни. Богиня не произнесла ни слова, а только смотрела на меня взглядом высочайшей мудрости и сострадания. Моей душе мучительно хотелось рассмотреть ее лицо. Эта потребность поглотила меня, и я взмолилась словами, которые были не словами, а жгучей мольбой сердца, снять покрывало и дать мне увидеть ее. Я понимала, что увиденное мною повлечет за собой величайшие последствия. Меня охватил ужас, и в то же время я затрепетала от ожидания. Богиня откинула покрывало и уронила его на пол. Поймешь ли ты меня, Ксео, если я скажу, что увиденное мною лицо под покрывалом было ни больше ни меньше как сама реальность, существующая под плотским миром? Это высшее, благородное воплощение, знакомое богам, но которое нам, смертным, дано увидеть лишь мельком в видениях и порывах чувств. Ее лицо представляло собой красоту за пределами красоты. Воплощение истины в красоте. И эта красота была человеческой. Такой человечной, что мое сердце чуть не разорвалось от любви, почтения и благоговения. Без слов я поняла, что одна эта красота и есть реальность, которую я теперь осознала,– эта красота, а не тот мир, что мы видим под солнцем. И еще: что она всегда рядом с нами, ежечасно. Просто наши глаза слепы и не видят ее. Я поняла, что наша роль смертных – здесь, по эту темную и горестную сторону Покрывала,– воплотить те качества, которые восходят с другой стороны и которые одинаковы по обе стороны, непрерывны, вечны и божественны. Понимаешь, Ксео? Мужество, самоотверженность, сострадание и любовь.
Диомаха отодвинулась от меня и рассмеялась:
– Думаешь, я рехнулась, правда? Помешалась на религии. По-женски.
Я так не думал. Я вкратце рассказал ей о своем мимолетном взгляде за покрывало в ту ночь в заснеженном лесу. Диомаха серьезно восприняла мои слова.
– Ты забывал свое видение, Ксео? Я свое забывала. 3десь, в городе, я жила низменной жизнью. Пока однажды богиня не привела меня в эти стены.
Она указала на скромных размеров, но великолепную статую в нише дворика. Я взглянул. Это была бронзовая Персефона Окутанная.
– Это богиня, тайне которой я служу,– объявила Диомаха.– Она проходит жизнь до смерти и возвращается вновь. Кора спасла меня так же, как тебя защитил богстреловержец.
Она положила руки поверх моих и заставила меня посмотреть ей в глаза.
– Так что сам видишь, Ксео: ничто не прошло зря. Ты думаешь, что тебе не удалось защитить меня. Но все, что ты делал, защищало меня. Как и теперь ты меня защищаешь.
Она порылась в складках платья и достала письмо, написанное рукой госпожи Ареты.
– Знаешь, что это? Обещание, что твою смерть почтят, как мы с тобой почтили Бруксия и как мы все трое старались почтить наших родителей.
Из кухни снова показалась домохозяйка. Диомахины дети дожидались внутри; мой мальчик-проводник закончил обед и стоял в нетерпении, когда мы отправимся назад. Диомаха встала и протянула мне руки. Свет лампы падал на нее, и в его нежном сиянии ее лицо казалось теперь прекрасным, каким и представлялось в моих исполненных любви глазах все эти короткие годы, что тянулись так долго. Я тоже встал и обнял ее. Диомаха накрыла свои коротко остриженные волосы и накинула на лицо покрывало.
– Давай не будем жалеть друг друга,– проговорила моя двоюродная сестра на прощанье.– Мы там, где нам должно быть, и будем делать то, что должно делать.
Глава двадцать восьмая
3а два часа до рассвета меня растолкал Самоубийца.
– Смотри, что вползло через горловину. Он показал на бугор позади лагеря аркадцев, где у сторожевых костров допрашивали перебежчиков из персидского войска. Я прищурился, но не мог разглядеть.
– Смотри, смотри,– повторил он.– Это твой приятель-бунтовщик Петух. Он спрашивает про тебя.
Мы вместе с Александром отправились туда. Да, это был Петух. Он прошел через персидские ряды с группой других дезертиров. Скириты привязали его, голого, к столбу. Они пытали его, и он попросил на минуту оставить его наедине со мной, прежде чем ему перережут горло.
Вокруг просыпался лагерь. Половина войска уже заняла позиции, вторая еще надевала доспехи. С Трахинской дороги доносились звуки вражеских труб, строящих войска для второго дня. Мы нашли Петуха рядом с двумя мидийскими информаторами, которые уже столько рассказали, что им даже дали позавтракать. В отличие от Петуха. С ним скириты так поработали, что он не мог сидеть прямо и сполз по столбу, у которого ему должны были перерезать горло. – Это ты, Ксео? – Он прищурил глаза, заплывшие, как у кулачного бойца.
– Я привел Александра.
Нам удалось влить в горло Петуха несколько капель вина.
– Я сожалею о твоем отце,– были первые слова, обращенные пленником к Александру. Петух шесть лет служил оруженосцем у Олимпия и спас ему жизнь при Энофите, когда на того набросилась фиванская конница.– Это был благороднейший человек в городе, благороднее всех, включая и Леонида.
– Как нам помочь тебе? – спросил Александр. Петух сначала захотел узнать, кто еще остался жив. Я сказал ему про Диэнека, Полиника и некоторых других, а также перечислил тех погибших, кого он знал.
– И ты тоже жив, Ксео? – Лицо Петуха исказилось усмешкой.– Твой приятель Аполлон, должно быть, приберег тебя для чего-то особенного.
У него была ко мне простая просьба – позаботиться, чтобы его жене доставили древнюю монету его родной страны Мессении. Этот потертый обол, сказал нам Петух, он тайно носил с собой всю жизнь. Теперь монета оказалась на моем попечении, и я поклялся отослать ее со следующим же гонцом. Петух благодарно сжал мне руку и, на всякий случай понизив голос, привлек к себе меня и Александра.
– Слушайте внимательно. Я для того и пришел, чтобы сказать это вам.
Петух проговорил свое сообщение очень быстро. Эллинам, защищающим проход, остался день, не больше. Уже сейчас Великий Царь пообещал богатства целой провинции тому, кто покажет путь по горам в обход Горячих Ворот, чтобы окружить их.
– Боги не создали такой скалы, на которую не могли бы взобраться люди – особенно движимые жаждой золота и славы. Персы найдут обходной путь, чтобы зайти вам в тыл, а даже если не найдут, не сегодня-завтра их флот прорвет афинское прикрытие на море. Из Спарты никаких подкреплений не подойдет. Эфоры знают, что их тоже окружат. И Леонид не вернется, как и все вы, живые или мертвые.
– Ты принял побои, только чтобы сообщить нам это? – Послушайте меня. Когда я пошел к персам, то сказал им, что я илот, только что из Спарты. Меня допрашивал личный слуга царя. Я был там, в двух шагах от шатра Ксеркса. Я знаю, где спит Великий Царь и как провести людей прямо к его порогу.
Александр громко расхохотался:
– Ты предлагаешь напасть на него в его шатре?
– Когда умирает голова, умирает и вся змея. Обратите внимание: царский шатер стоит прямо под скалами на равнине у реки, выше всех по течению, так что его кони могут пить незамутненную остальными воду. Из горловины течет горный ручей, и персы считают его непроходимым. Там стоит меньше сотни человек. Полдюжины воинов могут пробраться туда в темноте и, возможно, даже выбраться обратно.
– Да. Мы захлопаем крыльями и улетим.
Теперь уже весь лагерь проснулся. Спартанцы сосредоточили войска, если можно так сказать о столь незначительных силах, у Стены. Петух сказал нам, что уже предлагал провести воинов в рейд на персидский лагерь в обмен на освобождение его жены и детей в Лакедемоне. 3а это скириты и избили его – они сочли его предложение хитростью, чтобы заманить храбрецов в руки врага на пытки и все самое худшее.
– Они даже не передали мои слова своим старшим! Прошу вас, сообщите кому-нибудь из военачальников. Это может получиться даже без меня. Клянусь всеми богами! Я рассмеялся над этим переродившимся Петухом:
– Похоже, вместе с патриотизмом ты обрел благочестие.
Скириты резко окликнули нас. Им хотелось покончить с Петухом и поскорее облачиться в доспехи. Двое разведчиков рывком подняли его на ноги и швырнули к столбу, когда позади лагеря раздался шум. Мы все обернулись туда.
За ночь сорок фиванцев сбежали. Полдюжины дезертиров убили часовые, но остальные благополучно миновали их. Кроме троих, которых только сейчас обнаружили. Они пытались спрятаться в кучах трупов.
Теперь отряд феспийских часовых приволок эту несчастную троицу и бросил за Стеной среди готовящегося к сражению войска. В воздухе пахло кровью. Феспиец Дифирамб подошел и взял главную роль на себя.
– Каково будет наказание для этих? – крикнул он окружавшей толпе.
В это время, привлеченный шумом, позади Александра появился Диэнек. Я улучил момент, чтобы замолвить слово за Петуха, но мой хозяин не ответил: его внимание захватила развернувшаяся перед ним сцена.
Из толпы воинов раздалось несколько требований смертной казни. На перепуганных беглецов посыпались удары, и это заставило самого Дифирамба с мечом в руке вмешаться и отогнать людей.
– Союзники спятили,– с ужасом заметил Александр. Опять.
Диэнек продолжал холодно смотреть.
– Второй раз я не стану свидетелем этого.
Раздвигая толпу, он вышел вперед и встал рядом с феспийцем Дифирамбом.
– Эти псы не заслуживают пощады! – Диэнек стоял над связанными пленниками с повязками на глазах.– Они должны принять самую лютую муку, какую только можно представить, чтобы никто другой не соблазнился подражать их трусости.
В толпе раздались одобрительные крики. Диэнек поднял руку, успокаивая волнение.
– Вы знаете меня. Согласитесь ли вы с тем наказанием, которое я предложу?
Сотни голосов закричали «да»
– Без возражений? Без придирок?
Все поклялись принять приговор Диэнека.
С пригорка за стеной за происходящим наблюдали Леонид и Всадники, включая Полиника, Алфея и Марона. Все звуки смолкли, шумел только ветер. Диэнек шагнул к стоящим на коленях пленникам и сорвал с их глаз повязки. Мечом он перерезал веревки.
Со всех сторон раздался возмущенный рев. Дезертирство перед лицом врага заслуживало кары смертью. Сколько еще человек сбежит, увидев, что эти предатели уходят живыми? Все войско разбежится!
Дифирамб, единственный среди союзников, как будто бы разгадал тонкий замысел Диэнека. Он встал рядом со спартанцем и, подняв меч, призвал всех к тишине, чтобы Диэнек мог сказать.
– Я презираю тот приступ самосохранения, что нынче ночью лишил мужества этих трусов,– обратился Диэнек к толпе союзников,– но еще больше я ненавижу ту страсть, которая теперь свела с ума вас, мои товарищи.
Он указал на стоящих на коленях пленников.
– Эти люди, которых вы сегодня назвали трусами, вчера плечом к плечу сражались вместе с вами! И возможно, с еще большей доблестью, чем вы.
– Сомневаюсь! – раздался крик, а за ним на беглецов обрушились волны презрительных выкриков. Требовали крови предателей.
Диэнек подождал, когда шум уляжется.
– У нас в Лакедемоне есть слово для такого состояния духа, что охватило вас сейчас, братья. Мы называем его « одержимостью». Оно обозначает подчинение страху или злобе, которое разрушает дисциплинированное войско и превращает его в толпу.
Он отступил назад и мечом указал на сидящих на земле пленников.
– Да, вчера ночью эти люди сбежали. А что делали вы? Я скажу. Все вы лежали без сна. И каковы были сокровенные мольбы вашего сердца? Те же самые.– Клинок его ксифоса указал на жалких бедняг, что корчились у его ног.– Как и они, вы тосковали по женам и детям. Как и они, вы горели желанием спасти свою шкуру. Как и они, вы строили планы, как бы вам сбежать и остаться в живых!
Раздались было протестующие вопли, но они заглохли перед яростным взглядом Диэнека. Казалось, он был воплощением чистейшей правды.
– Меня тоже посещали подобные мысли. Всю ночь я мечтал о побеге. Как и все военачальники, и все лакедемоняне, включая Леонида.
На толпу снизошло отрезвление, все затихли.
– Да! – раздался чей-то голос.– Но мы не сделали этого!
Снова поднялся согласный ропот.
– Верно,– тихо проговорил Диэнек, и теперь его взгляд обратился не к войску, а, твердый как кремень, уставился на тройку пойманных.– Мы не сделали этого.
Какой-то момент он безжалостно рассматривал беглецов, потом отступил, чтобы все войско могло видеть их, связанных и безоружных среди вооруженных воинов.
– Пусть эти люди доживут свой век, проклятые сознанием сделанного ими. Пусть они просыпаются каждое утро с этим позором и засыпают каждой ночью с этим бесчестьем. Это и будет их смертным приговором – угасание живьем, которое куда тяжелее, чем тот пустяк, что встретим мы, прежде чем завтра взойдет солнце.
Он отошел за спину преступников, к краю толпы, откуда открывался путь к безопасности.
– Освободить проход!
Беглецы взмолились. Первый, безбородый юноша, едва переваливший за двадцать, заявил, что его бедное хозяйство находится менее чем в половине недели ходьбы и он боялся за свою молодую жену и малолетнюю дочку, за своих немощных отца и мать. Темнота лишила его мужества, признался он, но теперь он раскаивается. Сцепив в мольбе руки, он обратил взор к Диэнеку и феспийцу. Прошу вас, мое преступление было мгновенной слабостью! Это мгновение прошло. Сегодня я буду сражаться, и никто не упрекнет меня в недостатке мужества.
Теперь заговорили остальные двое, оба зрелые мужчины на пятом десятке; они давали самые страшные клятвы, что тоже будут сражаться с честью.
Диэнек возвышался над ними.
– Освободить проход!
Толпа расступилась, образуя коридор, по которому трое могли безопасно покинуть лагерь.
– Кто-нибудь еще? – вызывающе прогремел голос Дифирамба.– Кто еще хочет прогуляться? Пусть воспользуется черным ходом или отныне навсегда заткнется.
Несомненно, ни одно зрелище под небесами не могло быть более мрачным и позорным – так жалко выглядели несчастные. Сутулясь, они проходили по коридору позора сквозь строй молчащих соратников.
Я посмотрел на лица воинов. Своекорыстная злоба, якобы праведно требующая крови, покинула их. Теперь на прояснившихся лицах запечатлелся безжалостный стыд. Дешевая и лицемерная ярость, искавшая выхода на беглецах, теперь, вмешательством Диэнека, обратилась внутрь. И эта ярость, разожжённая в тайном горниле сердца каждого воина, теперь затвердела и превратилась в решимость повергнуть малодушных такому наказанию, что самая смерть показалась бы рядом с ней пустяком.
Диэнек повернулся и направился на пригорок. Когда он проходил мимо меня и Александра, его перехватил один скирит и двумя руками пожал ему руку.
– Блестяще, Диэнек! Ты пристыдил все войско. Теперь никто не посмеет двинуться из этой грязи.
На лице моего хозяина не было и тени удовлетворения. Теперь оно помрачнело, как маска скорби. Он оглянулся на троих подлецов, жалко уносящих свои жизни.
– Эти несчастные ублюдки вчера весь день держали строй, когда приходил их черед. Мне жаль их от всего сердца.
Преступники уже почти прошли сквозь строй своего позора. Тот из них, что унижался бесстыднее других, обернулся и крикнул войску:
– Дураки! Вы все умрете! Плевал я на вас, и будьте вы прокляты!
Под осуждающий гогот он скрылся за холмом, а за ним вприпрыжку и его товарищи, оглядываясь через плечо, как шавки.
Леонид отдал приказ полемарху Деркилиду, который передал его старшему над дозором: отныне в тылу часовых не ставить и не принимать никаких мер по предотвращению дезертирства.
С шумом воины разошлись по своим местам.
Диэнек уже дошел до места, где держали военнопленных и где его ждали Александр, я и Петух. Начальником скиритов был человек по имени Лахид, брат разведчика по прозвищу Собака.
– Отдай этого негодяя мне, друг! – Усталым жестом Диэнек указал на Петуха.– Этот ублюдок – мой племянник. Я сам перережу ему горло.
Глава двадцать девятая
Великий Царь гораздо лучше меня знает все подробности той интриги, в результате которой защитники прохода оказались окончательно преданы. Предателем был фракиец, пришедший сообщить военачальникам Великого Царя о существовании горной тропы в обход Горячих Ворот. Ведомо ему и о том, какое вознаграждение было выплачено из персидской сокровищницы этому преступнику.
Греки получали некоторые намеки об этом злополучном событии – сначала из знамений, замеченных в то утро перед вторым днем сражения, потом в течение всего дня сведения подкреплялись слухами и донесениями перебежчиков, а в конце концов, к вечеру шестого дня нахождения союзников в Фермопильском проходе, подозрения подтвердило свидетельство очевидца.
Во время первой смены часовых, примерно через два часа после прекращения дневной брани, сквозь греческие ряды прошел один персидский вельможа. Он назвал себя Тиррастиадом Кимским, начальником тысячи государственного призыва. Этот принц был самым высоким, красивым и великолепно наряженным врагом из всех, кто до сих пор перешел на нашу сторону. Он обратился к собранию на безупречном греческом языке и сказал, что его женой была Елена из Галикарнаса и что это обстоятельство и веление чести заставили его перейти на сторону союзников. Он сообщил спартанскому царю, что сам находился перед шатром Ксеркса в тот самый вечер, когда предатель, чье имя я знаю, но ни здесь, ни где-либо не стану повторять, пришел потребовать обещанную Великим Царем награду и предложил свои услуги, обещая провести персидские силы по тайной тропе.
Благородный Тиррастиад рассказал, что лично видел, как Великий Царь отдал персидским отрядам приказ пройти по ней и занять позиции в тылу союзников. Бессмертные, чьи потери были возмещены и чье число опять составляло десять тысяч, выступили с заходом солнца под командованием Гидарна. В этот самый момент они находятся на марше, ведомые предателем, а к рассвету должны занять позиции в нашем тылу, готовые к атаке.
Великий Царь, осведомленный о катастрофических для греков последствиях этого предательства, может удивиться реакции греческого собрания на своевременное и счастливое предупреждение благородного Тиррастиада.
Они ему не поверили.
Решили, что это хитрость.
Столь неразумную реакцию, столь удивительное стремление обмануть самих себя можно понять, лишь учитывая, что сердца союзников к тому времени охватил сопутствующий подобной битве восторг, невыразимое презрение к смерти.
Первый день сражения дал примеры необычайной доблести и героизма.
Второй начал плодить чудеса.
Самым удивительным был сам факт, что мы выжили. Сколько раз в течение предыдущих сорока восьми часов бойни каждый из нас переживал мгновение собственной гибели – и все же оставался жить. Сколько раз неисчислимые массы врагов с неудержимой мощью и отвагой обрушивались на союзников – и все же строй держался.
Три раза в тот второй день ряды защитников прохода колебались на грани, готовые рухнуть. Великий Царь видел тот момент – сразу после захода солнца,– когда противник прорвался к самой Стене и мириады воинов Державы с победным криком полезли на нее. И все-таки каким-то образом Стена устояла и проход удалось удержать.
В течение всего дня, этого второго дня сражения, два флота сражались у Скиафоса, зеркально отражая сухопутные войска у Ворот. Под утесами Артемизия моряки направляли бронзовые тараны в деревянные борта, а их братья бились металлом о металл на суше. 3ащитники прохода видели на горизонте дымные пятна горящих кораблей, а ближе к берегу – обломки бимсов и рангоута, разбитые в щепки весла и тела моряков, плывшие лицом вниз в прибрежном течении. Казалось, не греки и персы схватились в единоборстве – нет! Обе стороны как будто заключили какой-то извращенный союз, цель которого заключалась в совместной окраске почвы в темно-красный цвет. Сами небеса в тот день казались не населенным богами царством, которое придавало осмысленность происходящему внизу, а безобразной синевато-серой рожей, безразличной и не знающей сострадания.
Горная стена Каллидрома, нависавшая над резней, своим каменным безмолвным лицом без черт словно воплощала эту утрату сострадания. Все летавшие в воздухе существа исчезли. Ни на земле, ни в расщелинах скал не осталось ни малейшего признака зелени.
Сострадание имела лишь сама грязь. Только зловонный суп под ногами воинов давал передышку и оказывал поддержку. Ноги воинов размесили землю в жидкую похлебку по лодыжку глубиной, потом углубили жижу по голень; после люди проваливались по колено и сражались так. Пальцы хватались за почерневшую от крови жижу, ноги упирались в нее, ища опору, зубы умирающих кусали ее, словно люди челюстями копали себе могилу. Крестьяне, чьи руки раньше с удовольствием брали темные комья родных полей, чьи пальцы перетирали богатую почву, питающую урожай, теперь ползли на брюхе по этой суровой земле, хватались за нее обрубками переломанных пальцев и бесстыдно корчились, стараясь закопаться в эту земную мантию, чтобы защитить спину от безжалостного металла.
Греки любили борьбу в эллинских палестрах. С тех пор как дети научились стоять, они валяли друг друга по земле, запыленные в песчаных ямах или покрытые грязью в лужах. Теперь эллины боролись там, где по канавам текла не вода, а кровь, где наградой была смерть, а судья пропускал мимо ушей все призывы остановиться или прервать поединок. Снова и снова можно было видеть в тот второй день сражения одну и ту же картину: эллинский воин сражался два часа подряд, отходил на десять минут, чтобы выпить лишь пригоршню воды, после чего возвращался в бойню. Снова и снова можно было видеть, как кто-то получает удар, вгоняющий зубы в челюсть или раскалывающий кости плеча, но остается на ногах.
На второй день я видел, как Алфей и Марон расправились с шестью врагами так быстро, что последние двое умерли еще до того, как первая пара успела упасть на землю. Скольких братья убили в тот день? Пятьдесят? Сто? Они убивали больше и быстрее, чем мог какой-нибудь Ахилл посреди врагов, и дело было не только в их силе и сноровке, а в том, что эти двое сражались единым сердцем.
Весь день лучшие войска Великого Царя подходили волна за волной, непрерывно, так что было не различить разные народы и разные части.
Смена сил, которую союзники производили в первый день сражения, оказалась невозможной. Воины по собственной воле отказывались отойти в тыл. Оруженосцы и слуги брали оружие павших хозяев и занимали опустевшее место в строю.
У людей уже не хватало дыхания, чтобы подбодрить друг друга. Сердца воинов больше не наполнялись торжеством, никто не хвастал подвигами. Теперь в мгновения передышки они просто падали, отупевшие и онемевшие, в кучи других таких же бесчувственных тел. Под прикрытием Стены в каждом углублении песчаного грунта виднелись горстки воинов, разбитых изнеможением. Они лежали там, где упали, в неподвижных позах, выражающих крайнюю усталость и горе. Никто не разговаривал и не шевелился. Только глаза у всех, не видя, уставились в невыразимое царство ужаса – у каждого свое.
Существование превратилось в туннель, чьи стены представляли собой смерть, а внутри не нашлось бы ни надежды, ни спасения. Неба больше не осталось, как не осталось ни солнца, ни звезд. Одна лишь земля, на каждом шагу готовая принять вывалившиеся кишки и раздробленные кости идущего по ней, впитать его кровь, его жизнь. 3емля была в ушах, под ногтями и меж ягодицами. Она покрывала пропотевшие и просолившиеся волосы. Люди отхаркивали землю из легких и высмаркивали из носа.
У воинов есть один секрет, такой сокровенный, что никто не смеет высказать его вслух,– разве что товарищам, которые через испытание оружием стали им ближе братьев. Это знание сотни проявлений собственной трусости. Никем не замеченных мелочей. Товарищ упал и позвал на помощь, а я прошел мимо, счел свою шкуру дороже. Это мое преступление, в котором я обвинил себя перед трибуналом своего сердца и признал виновным.
Все, что нужно человеку,– это жить. Жить прежде всего: вцепиться в дыхание. Выжить.
И даже этот самый основной из инстинктов, инстинкт самосохранения, даже эта растворенная в крови необходимость, разделяемая под небом всеми, как зверьми, так и людьми,– даже это могут преодолеть усталость и чрезвычайный ужас. В сердце проникает некая форма мужества, и это не истинное мужество, а отчаяние, и даже не отчаяние, но самозабвение. На этот второй день люди превзошли себя. Подвиги, чудеса отваги сыпались дождем, а те, кто их совершал, даже не могли с уверенностью сказать, что именно они совершили их.
Я видел, как один флиунтский оруженосец, простой мальчишка, надел доспехи своего хозяина и ринулся в гущу сражения. Не успел он нанести и одного удара, как персидский дротик раздробил ему челюсть, пройдя сквозь кость. Один из товарищей поспешил к нему, чтобы перевязать бьющую кровью рану и отвести раненого в безопасное место, но юноша ударил спасителя плашмя мечом, оперся на копье, как на костыль, потом опустился на колени прямо посреди сражения, но продолжал рубить врага с земли, где и умер.
Другие оруженосцы и слуги брали железные колья и, босые, без доспехов, влезали по отвесному склону над Тесниной. Они вбивали колья в трещины, чтобы закрепиться, и с этих открытых насестов бросали камни и обломки скалы на голову врагу. Персидские лучники превращали этих мальчишек в подушечки для иголок, их тела свешивались с крюков, распятые, или кувыркались с высоты на кипящее внизу побоище.
Торговец Элефантин бросился на открытое место, чтобы спасти одного из этих мальчишек, еще живого, повисшего на выступе в тылу сражения. Персидская стрела порвала старику горло, и он упал так быстро, что казалось, сразу исчез под землей. Над его телом закипело яростное сражение. Почему? Он был не царь и не военачальник, а всего лишь чудак, который занимался ранами молодых воинов и смешил их своим «тут очись!».
Уже почти настала ночь. Эллины шатались от ран и усталости, а персы посылали в бойню все новые и новые отборные части. Одних хлыстами гнали в бой начальники, другие сами с жаром увлекали за собой товарищей вперед, на греков.
Помнит ли Великий Царь? Над морем пронесся неистовый шквал, и ливень встал стеной. К этому времени оружие у союзников было уже по большей части иззубрено и переломано. На дюжину воинов приходилось одно целое копье, ни у кого не осталось своего щита – он давно был разбит,– воины прикрывались восьмым или десятым по счету, подобранным с земли. Даже спартанские короткие мечи-ксифосы разбились от множества ударов. Стальные клинки еще держались, но рукояти ломались. Воины сражались стальными клинками, воткнув их в расщепленный обломок верхней или нижней части копья.
Вражеское войско прорубилось вперед, не дойдя до Стены всего дюжину шагов. Перед укреплением оставались только спартанцы и феспийцы. Мириады врагов все тянулись через Теснину, они заполнили уже весь треугольник перед Стеной.
Спартанцы опрокинулись. Я оказался на Стене позади Александра и одного за другим вытягивал людей наверх, в то время как союзники обрушили вниз град дротиков, копий и камней. На напирающего врага бросали даже шлемы и щиты.
Греки дрогнули и заколебались. Беспорядочной массой они откатились на пятьдесят, на сто футов за Стену. Даже спартанцы в беспорядке отступили. Мой хозяин, Полиник, Алфей и Марон – все покачивались и едва держались на ногах.
Враг вырывал камни из фасада Стены. Наши противники всем своим множеством нахлынули на покинутые руины, они съезжали по пологим ступеням за стеной на открытое место, туда, где стоял лагерь союзников. До полного разгрома оставалось лишь несколько мгновений, когда по необъяснимой причине враги, держа победу уже на ладони, в страхе попятились и не нашли в себе мужества добить нас.
Они отступили, охваченные беспричинным, неясным страхом.
Уму непостижимо, какая сила лишила мужества их сердца и похитила их отвагу. Возможно, воины Великой Державы не могли поверить в неминуемость своего триумфа. Возможно, они слишком долго сражались перед Стеной и теперь их чувства не могли вместить, что они действительно взяли ее.
Как бы то ни было, вражеский напор ослаб. И над полем воцарилось неземное спокойствие.
Внезапно с небес сквозь эфир прогремел рев божественной мощности. Волосы на голове у меня встали дыбом. Я обернулся к Александру – он тоже замер, как вкопанный, подобно всем остальным на поле боя.
В утес Каллидрома ударила молния сверхъестественной силы. Раскатился мощный гром, и мы увидели выломанные из скалы огромные камни. В воздухе запахло дымом и серой. Неземной вопль пригвоздил всех к земле страхом. Всех, кроме Леонида, который с поднятым копьем вышел вперед.
– 3евс-Спаситель! – раздался, перекрывая гром, голос царя.– Эллада и свобода!
Запев пэан, он ринулся вперед на врага. Новое мужество наполнило сердца союзников, и они бросились вслед за царем. При этом небесном знамении враги, спотыкаясь, в панике побежали назад, за Стену. Я снова оказался на ее скользких выщербленных камнях и теперь пускал стрелу за стрелой в толпу персов и бактрийцев, мидийцев и иллирийцев, лидийцев и египтян, бегущих внизу.
Весь ужас последовавшей резни Великий Царь мог видеть собственными глазами. Когда передние ряды персов в страхе побежали, хлысты идущих сзади погнали подкрепления вперед. Как две волны – одна наплывающая на берег, другая отходящая в море по береговому склону, столкнувшись, уничтожают друг друга в пене и брызгах, так сшиблись и закружились войска Великой Державы, обратив против самих себя силы тысяч воинов, попавших в струи этого водоворота.
Еще раньше Леонид чувствовал необходимость построить вторую стену – стену из персидских тел. Именно это теперь и произошло. Враги погибали в таком количестве, что нога не могла ступить на грунт. Она ступала на тела. На тела, лежащие поверх других тел.
Эллины видели, как враги, попав под хлысты напирающих сзади, в кровавом безумии стали копьями и мечами пробивать себе дорогу через своих же, стремясь спастись во что бы то ни стало. Десятки и сотни их опрокинулись в море. Я видел, как передние ряды спартанцев взбирались по стене из персидских тел и их товарищам приходилось подталкивать их.
Внезапно груды трупов не выдержали. Начался сход лавины. В Теснине союзники попятились назад. А оползень мертвых тел набирал силу, повинуясь тяжести собственного веса, и с нарастающим напором покатился на персов, на Трахинскую дорогу. И так фантастично было это зрелище, что воины-эллины замерли на месте и, охваченные трепетом, наблюдали, как гибнут в бессчетном количестве враги, поглощаемые этой чудовищной лавиной, как оказываются погребенными под ней.
Теперь, на ночном совете союзников, это чудо вспомнили и истолковали как свидетельство вмешательства богов. Благородный Тиррастиад стоял перед Леонидом, перед собранием греков, с явным сочувствием и чистосердечной доброжелательностью убеждая их отступить, отойти, убраться. Вельможа повторил свое сообщение о десяти тысячах Бессмертных, в эти часы идущих по горной тропе, чтобы окружить союзников. Менее тысячи греков сохраняли способность сопротивляться. Что можно противопоставить десятикратно превосходящему противнику в незащищенном тылу, когда тысячекратно превосходящие силы нападут с фронта?
И все же последнее чудо породило такое упоение, что греки просто не слушали предостережений и ничего не принимали в расчет. 3десь собрались скептики и агностики, те, кто признавался в своем сомнении и даже презрении к богам,– и эти же самые люди теперь клялись, что небесная молния и сопровождавший ее неземной рокот были не чем иным, как воинственным кличем самого 3евса.
Более ободряющие вести пришли от флота. В предыдущую ночь разыгрался шторм, нехарактерный для этого времени года. Он разбил двести вражеских кораблей на дальнем побережье Эвбеи. Пятая часть флота Великого Царя, восторженно докладывал капитан афинской галеры Габроник, погибла вместе с экипажами – он видел крушение собственными глазами. Разве это не благодеяние богов эллинам?
Вперед вышел Леонтиад, начальник фиванцев, и еще более распалил расстройство умов. Разве какая-то человеческая сила, спросил он, может устоять перед гневом богов?
– Держите в уме, братья и соратники, что девять десятых персидского войска – это покоренные народы, посланные против собственной воли, под угрозой оружия. Разве Ксеркс удержит их в строю? Сумеет погнать их вперед кнутом, подобно скотине? Поверьте мне, персидские союзники дрогнули. Недовольство и ропот, как чума, расползаются по их лагерю, там зреют измена и мятеж, они страшатся еще одного разгрома? Если мы продержимся завтра, братья, положение Ксеркса заставит его попытать счастья на море. Колебатель земли Посейдон уже сбил однажды персидскую спесь. Возможно, этот бог сумеет умерить честолюбие перса и второй раз.
Греки, распаленные страстью фиванского военачальника, набросились на Тиррастиада Кимейского с гневными речами и клялись, что теперь не они находятся в опасности, а сам Ксеркс, который глупой самонадеянностью вызывает на свою голову гнев богов.
Мне не требовалось смотреть на моего хозяина, чтобы прочесть его сердце. Это расстройство ума союзников являлось каталепсисом – одержимостью, безумием. Конечно же, понимали это и сами ораторы, понимали, даже изрыгая свою порождённую горем и страхом ярость на удобную цель – кимейского вельможу.
Леонид распустил собрание, велев уделить максимум внимания починке оружия. Он отправил афинского капитана Габроника обратно на море с приказом сообщить флотоводцам Эврибиаду и Фемистоклу обо всем, что тот слышал и видел сегодня ночью.
Греки разошлись. У костра командующего остались одни спартанцы и благородный Тиррастиад.
– Очень впечатляющее испытание веры, господин мой, спустя недолгое время проговорил принц.– Такие благочестивые речи не могут не поддержать мужество в ваших воинах. На час. Пока темнота и усталость не сотрут страсть данного момента, а страх за себя и свою семью снова не заговорит в их сердцах.
Вельможа убедительно повторил свое сообщение о горной тропе и десяти тысячах Бессмертных. Он объявил, что если рука богов и присутствовала в событиях нынешнего дня, то это была не их благосклонность, имевшая целью спасти эллинских защитников, а их извращенная и непостижимая воля, стремившаяся лишить эллинов разума. Конечно, такой проницательный военачальник, как Леонид, видит это не менее ясно, чем следы других случайных ударов молний, что десятилетиями и веками во время прибережных гроз попадали в этот высокий, самый заметный на побережье утес.
Тиррастиад снова стал убеждать Леонида и военачальников поверить его сообщению. Пусть демос на собрании предпочел не поверить ему. Его могли обвинить в соглядатайстве и даже казнить. Ведь разум народа может ночью затуманиться, а к утру обрести должное видение ситуации. Однако царь и командующий не имеют права позволить себе подобной роскоши.
– Скажи,– настаивал перс,– что я участник интриги. Поверь, что меня послал Ксеркс. Скажи, что мое намерение соответствует его интересам – обманом и хитростью заставить тебя освободить проход. Скажи так и сам поверь во все это. И все равно мое сообщение останется правдивым. Бессмертные идут. Они появятся к утру, все десять тысяч, они появятся в тылу союзников.
Вельможа шагнул вперед и встал перед спартанским царем, чтобы страстно обратиться к нему лично:
– Эта битва при Горячих Воротах – не решающая, мой господин. Решающее сражение состоится позже, в глубине Греции,– возможно, у стен Афин, возможно, на Истме, возможно, на Пелопоннесе, под самой Спартой. Тебе это известно. Любой военачальник, знающий местность, понимает это. Твоя страна нуждается в тебе, господин. Ты – душа ее войска. Ты можешь сказать, что лакедемонские цари никогда не отступают. Но отвага должна согласоваться с мудростью – иначе она становится безрассудством. Подумай о том, что ты со своими воинами уже свершил у Горячих Ворот. Добытая тобою за эти шесть дней слава будет жить вечно. Вы прибыли сюда, построили Стену и двое суток сражались. Не ищи смерти ради смерти или во имя исполнения пустого пророчества. Останься жить, господин, и сразись в другой день. В другой день, когда за тобой будет все твое войско. В другой день, когда сможешь одержать победу – решающую победу.
Перс указал на собравшихся у костра военачальников – на полемарха Деркилида, на Всадников Полиника и Дориона, на эномотархов и воинов, на Алфея и Марона и на моего хозяина.
– Прошу тебя, господин. Сохрани их, цвет Лакедемона, чтобы они отдали свои жизни в другой день. И сохрани себя самого для этого часа. Ты доказал свою отвагу, господин. А теперь, умоляю тебя, прояви свою мудрость. Отступи. Уйди сам и уведи своих воинов, пока еще можешь.
КНИГА СЕДЬМАЯ
Глава тридцатая
Отряд для налета на шатер Великого Царя состоял из одиннадцати человек. Леонид отказался рисковать большим числом. Он жалел даже одиннадцать из ста восьми воинов, оставшихся от Трехсот, кто еще мог сражаться.
Старшим он назначил Диэнека – самого опытного из начальников малых подразделений. Всадников Полиника и Дориона включили в отряд за их быстроту и отвагу, а Александра, несмотря на возражения Леонида, который старался сберечь его,– чтобы сражался бок о бок с моим хозяином как диас. Шли скириты Собака и Лахид. Они были горцами и умели карабкаться по отвесным скалам. Разбойник Сферей должен был стать проводником на каменную стену Каллидрома, а Петуху следовало провести отряд по вражескому лагерю. Самоубийце и мне надлежало усиливать мощь отряда дротиками и луком.
Еще одним спартиатом был Теламоний, кулачный боец из лоха Дикой Оливы. После Полиника и Дориона он был самым быстроногим из Трехсот. Кроме того, он единственный из всех в отряде не был ранен.
Принятию плана способствовал феспиец Дифирамб. Он и сам замышлял подобное, без Петуха, которого мой хозяин в конце концов не казнил, а вместо этого оставил в лагере на весь второй день и приказал ему ухаживать за ранеными, чинить и заменять оружие. Дифирамб с пылом уговаривал Леонида согласиться на вылазку и теперь, раздосадованный, что его самого не включили в отряд, вышел нас проводить и пожелать удачи.
На лагерь опустился ночной холод. Как и предсказывал Тиррастиад, теперь союзников обуял страх. Жалкий слушок мог вселить ужас, а незначительное знамение – вызвать панику. Дифирамб понимал душу ополченцев. Им требовалась какая-то перспектива, чтобы на нее возложить свои надежды в эту ночь, какое-то ожидание, чтобы продержаться до утра. Удастся вылазка или нет – это не столь важно. Нужно просто послать людей. И если боги в самом деле на нашей стороне, что ж… Дифирамб усмехнулся и на прощанье сжал руку моему хозяину.
Диэнек разделил отряд на две группы: одна из пяти человек под командованием Полиника, другая, из шести, под его собственным. Каждой предстояло самостоятельно взобраться на скалу, пройти через Каллидром и встретиться под Трахинскими скалами. Это увеличивало вероятность, что хоть одна группа дойдет до цели, если другая попадет в засаду.
Когда все вооружились и были готовы выступить, то предстали перед Леонидом. Царь поговорил с нами сам. Никого из военачальников при этом разговоре не было – ни союзнических, ни даже спартанских. Поднялся холодный ветер. В небе над Эвбеей загромыхало. Над головой грозно темнели горы; сквозь клочья изорванного ветром тумана проглядывала луна, отчасти закутанная в саван облаков.
Леонид предложил уходящим воинам вино из личного запаса и налил его в собственную простую чашу. Он обратился к каждому, включая оруженосцев, не по имени, а по прозвищу. К Дориону он обратился «3айчишка», как того звали в детстве. Дектона назвал не Петухом, а Кочетком и погладил по плечу.
– Я подготовил документы о твоем освобождении, сообщил царь илоту.– Сегодня ночью они будут в мешке,у курьера. Они дадут полноправие тебе и твоей семье и освободят твоего малолетнего сына.
Имелся в виду младенец, которому спасла жизнь госпожа Арета перед криптеей в ту ночь,– ребенок, который по лакедемонским законам сделал Диэнека отцом живого сына и таким образом позволил включить моего хозяина в число Трехсот.
Младенец, чья жизнь принесла смерть Диэнеку, а через него также Александру и Самоубийце. И мне.
– Если хочешь,– в свете рвущегося на ветру костра Леонид посмотрел Петуху в глаза,– можешь заменить имя Идотихид, которым теперь зовут ребенка. Это спартанское имя, а мы знаем, что ты не очень-то жалуешь наше племя.
Идотихидом, как Великий Царь, может быть, помнит, звали отца Петуха, Аретиного брата, погибшего в бою много лет назад. В ту ночь на мясницком дворе позади трапезной госпожа настояла, чтобы младенцу дали это имя.
– Ты волен дать своему сыну мессенийское имя,– продолжал Леонид,– но только назови его сейчас, прежде чем я запечатаю и отправлю свиток.
На наших работах и нарядах в Лакедемоне я много раз видел, как Петуха пороли. Но никогда прежде я не видел, чтобы его глаза наполнились слезами.
– Меня гложет стыд, господин,– сказал он Леониду, за то, что я добился этой милости вымогательством. Петух выпрямился перед царем и объявил, что имя Идотихид – благородное имя и его сын с гордостью будет носить его.
Царь кивнул и по-отечески тепло положил руку Дектону на плечо.
– Возвращайся живым в эту ночь, Кочеток. А утром я отошлю тебя в безопасное место.
Прежде чем группа Диэнека взобралась на несколько стадиев над Альпенами, начали падать крупные капли дождя. Пологий склон горы состоял из известняка, и, когда на нее обрушился ливень, по поверхности поползла жижа.
Сферей на последнем подъеме вышел вперед, но вскоре стало ясно, что в темноте он сбился с пути. Мы сошли с главной тропы и оказались в запутанной сети козьих троп, испещрявших крутой склон. Воины на ощупь брели во мраке. По очереди каждый занимал место впереди, отдав щит и оружие другим. Ни на ком не было шлема, только войлочные подшлемники. Они промокли и набухли, и, поскольку полей у подшлемников не было, глаза заливало каскадами воды. Мы карабкались как могли, мы распластались на склоне, вытянувшись от пальцев ног до кончиков пальцев рук и прижимаясь щекой к скользкой поверхности. В темноте нас хлестали ледяные потоки дождя и убийственные потоки грязи и камней, катящихся с вершины.
Мою раненую ногу жгло, словно сквозь нее просунули раскаленную кочергу, которая плавилась в ране. Каждое усилие вызывало такую боль, что я чуть не терял сознание. Диэнек двигался с еще большим трудом. Его старая рана, полученная еще при Ахиллеоне, не давала ему поднять левую руку выше плеча; правая ступня не сгибалась. В довершение глазница выбитого глаза снова начала кровоточить, дождевая вода смешивалась с темной кровью и текла по бороде на кожаный боевой пояс. Диэнек покосился на Самоубийцу, который с простреленными обоими плечами полз, как змея, прижимая руки к бокам и извиваясь всем телом, по покрытому грязью, ненадежному склону.
– Клянусь богами,– пробормотал мой хозяин,– ну и видок у нас!
До первого гребня группа добралась через час. Теперь мы были над туманом, дождь прекратился, и ночь разом стала ясной, ветреной и холодной. В тысяче футов под нами бушевало море, покрытое толщей густого тумана, чьи ватные гребни сияли под луной ослепительной белизной. До полнолуния оставалась лишь одна ночь. Вдруг Сферей сделал знак замереть, и все притаились, упав на землю. Разбойник указал рукой куда-то через пропасть.
На противоположном хребте в двух стадиях от нас можно было различить трон Великого Царя, тот самый, с которого он два дня наблюдал за сражением. Слуги разбирали платформу и навес.
– Они собирают вещи. 3ачем?
– Возможно, им хватило. Уходят домой.
Группа быстро скользнула с вершины в затененную расселину, где нас не было видно. Все насквозь промокли. Я выжал повязку на глазу моего хозяина и снова вернул ее на место.
– Похоже, с кровью вытекают и мои мозги,– сказал он. – Не могу придумать другого объяснения, зачем я отправился на это долбаное задание.
Он велел всем выпить еще вина, чтобы согреться и заглушить боль от ран. Самоубийца продолжал вглядываться в противоположный склон, где слуги разбирали театральную ложу своего господина.
– Ксеркс думает, что завтра конец. Бьюсь об заклад: на рассвете мы увидим его в Теснине – на коне, предвкушающего близкий триумф.
Горная седловина была широкой и ровной. Во главе со Сфереем мы целый. час быстро шли звериными тропами, что петляли среди зарослей сумаха и кипрея. Теперь тропа ушла от моря, и оно скрылось из виду. Мы пересекли еще две гряды, потом наткнулись на горный ручей, один из множества впадавших в Асоп. По крайней мере, так предположил наш проводник. Диэнек коснулся моего плеча и показал на вершину на севере:
– Это Оита. Там умер Геракл.
– Думаешь, он поможет нам сегодня ночью?
Мы дошли до лесистого склона, где приходилось, карабкаться рука об руку. Вдруг из зарослей наверху раздался быстрый треск. Что-то невидимое метнулось вперед. Все руки схватились за оружие.
– Люди?
Шум наверху быстро удалялся. – Олени. Спустя миг животные находились всего в сотне футов от нас. Тишина. Только ветер рвал вершины деревьев над нами.
Почему-то эта случайная встреча сильно всех ободрила. Александр устремился в чащу. В оленьем убежище, где бок о бок лежало стадо, земля была сухой и утоптанной. – Пощупайте траву. Она еще теплая. Сферей приготовился помочиться.
– Не надо,– слегка толкнул его Александр.– А то олени никогда не вернутся на это лежбище.
– А тебе-то что?
– Мочись ниже по склону,– приказал Диэнек.
Как ни странно это звучит, эти уютные заросли напомнили домашний очаг, пристанище. Чувствовался олений запах, особый аромат их шкур. Никто из нас не говорил, но каждый, я готов поспорить, думал об одном: как хорошо было бы прямо сейчас улечься здесь, как олени, и закрыть глаза. Позволить всем страхам покинуть тело. Хотя бы на мгновение забыть обо всех ужасах.
– Здесь хорошая охота,– заметил я.– Мы шли по кабаньей тропе. Бьюсь об заклад, здесь водятся медведи и даже львы.
Диэнек быстро взглянул на Александра:
– Мы здесь еще поохотимся. Этой осенью. Что скажешь?
Изувеченное лицо юноши сложилось в усмешку.
– Возьмем тебя с собой, Петух,– предложил Диэнек. Проведем здесь недельку и сделаем так, чтобы она запомнилась. Никаких лошадей и загонщиков, лишь по две собаки на каждого. Поохотимся недельку и вернемся в львиных шкурах, как Геракл. Пригласим и нашего милого друга Полиника.
Петух посмотрел на Диэнека, как на сумасшедшего. Потом на его лице появилась робкая улыбка.
– Значит, договорились,– сказал мой хозяин.– Нынче же осенью.
3а следующим гребнем мы пошли вниз по ручью. Вода громко журчала, и мы шли беспечно. И вдруг неизвестно откуда донесся голос. Все замерли.
Петух пробрался вперед. Мы стояли цепочкой, один за другим – наихудшее построение для боя.
– Они говорят по-персидски? – прошептал Александр, напрягая слух.
Голоса внезапно смолкли.
Нас услышали.
Я видел, как Самоубийца бесшумно достал из колчана две «штопальные иглы». Диэнек, Александр и в двух шагах впереди меня за спиной две е штопальные Петух сжали копья, Сферей приготовился метнуть топор. – Эй, говнюки, это вы?
Из темноты вышел скирит Собака с мечом в одной руке и кинжалом в другой.
– Клянусь богами, вы нас напугали. Мы чуть не обделались!
Это была группа Полиника, которая остановилась, чтобы погрызть сухарей.
– Это что, семейная вылазка на природу? – Диэнек соскользнул к ним. Мы все с облегчением похлопали друзей по плечу. Полиник доложил, что его группа прошла по нижней тропе, быстро и легко. Они уже четверть часа сидят на этой полянке.
– Спускайтесь,– Всадник поманил за собой моего хозяина.– Посмотрите-ка на это.
Мы все последовали за ним. На другом берегу ручья, в десяти футах выше по склону, протянулась тропа, достаточно широкая, чтобы рядом прошли два человека. Даже в глубоких тенях теснины можно было различить истоптанную землю.
– Это горная тропа, по которой прошли Бессмертные. Диэнек опустился на колени, чтобы пощупать землю. Она была истоптана совсем недавно, прошло не более двух часов. Можно было заметить, как подошвы Десяти Тысяч вдавливались в склон на подъеме и скользили вниз на спуске.
Диэнек отобрал одного из воинов Полиника, кулачного бойца Теламония, чтобы тот вернулся обратно по пути, которым прошла их группа, и все доложил Леониду. Теламоний застонал от досады.
– Никаких возражений, – оборвал его Диэнек.– Ты самый быстроногий из знающих эту дорогу. Придется идти тебе.
Кулачный боец бегом пустился в путь.
В группе Полиника недоставало еще одного бойца.
– Где Дорион?
– Ниже по тропе. Разнюхивает.
Вскоре Всадник, чья сестра Алфея была женой Полиника, выпрыгнул откуда-то снизу. Он был гимнос – раздетый для скорости.
– Ну что? – весело приветствовал его Полиник. – Вынюхал что-нибудь?
Всадник осклабился и сдернул с ветки свой плащ. Примерно через два стадия, доложил он, тропа заканчивается. Все деревья там срублены, вероятно, прошлым вечером – сразу после того, как персы разузнали про тропу. Несомненно, прежде чем выступить в поход, Бессмертные выдвинулись сюда, на недавно расчищенный участок.
– И что там теперь?
– Конница. Сотни три, может быть, четыре.
По донесению Всадника, это были фессалийцы. Греки, чьи земли захватил враг.
– Они храпят, как крестьяне. Туман густой. Все звуки заглушаются, как под плащами, в которые закутались часовые.
– Мы сможем пройти в обход? Дорион кивнул.
– Там везде хвоя. Ковер из сухих иголок. Можно бежать во всю прыть, не издавая ни звука.
Диэнек показал на поляну, где стоял отряд.
– Это будет наше место сбора. Соберемся здесь после. Отсюда поведешь нас назад, Дорион, по тому пути, которым пришли вы,– по короткому.
Диэнек велел Петуху еще раз кратко разъяснить обеим группам расположение вражеского лагеря на тот случай, если с ним самим по пути вниз что-то случится. Разделили остатки вина. Когда мех перешел из рук Полиника к Петуху, илот воспользовался этим мгновением близости перед боем.
– Скажи мне правду. Ты бы с криптеей убил моего сына в ту ночь?
– Я еще убью его,– ответил бегун,– если ты сегодня ночью сдашь нас.
– В таком случае,– сказал илот,– я с еще большей радостью предвкушаю твою смерть.
Сферею было пора уходить. Он согласился провести группу досюда, но не дальше. Ко всеобщему удивлению, изгой словно разрывался на части.
– Послушайте,– сказал он, запинаясь,– я хочу пойти с вами, вы хорошие люди, я восхищаюсь вами. Но совесть не позволяет мне отказаться от вознаграждения.
Это вызвало всеобщее веселье.
– Твои угрызения совести тяжелы, изгой,– заметил Диэнек.
– Ты хочешь вознаграждения? – Полиник сжал его гениталии.– Я сохраню тебе вот это.
Один лишь Сферей не рассмеялся.
– Будь ты проклят,– пробормотал он скорее себе, чем остальным. И, продолжая ругаться и ворчать, занял место в колонне. Он остался.
Отряд больше не делился на группы, теперь ему предстояло двигаться командами по пять человек. Сферей присоединился к четверке Полиника, заменив Теламония. Пятерки без приключений призраками проскользнули мимо дремлющих фессалийцев. Присутствие этой греческой конницы было большой удачей. Путь назад, если таковой случится, неизбежно будет беспорядочным. Немалое преимущество – иметь в темноте такую заметную веху, как несколько десятков футов вырубленного леса. Фессалийские кони начнут биться, создадут сумятицу, а если отряду придется под обстрелом бежать через лагерь и кричать друг другу по-гречески, то это не выдаст нас среди говорящих по-гречески фессалийцев.
Еще через полчаса мы вышли на край леса прямо над стенами Трахина. Внизу, под стенами города, шумел Асоп. Он бурлил оглушительно, и из горловины канала вырывался холодный резкий ветер.
Теперь мы увидели вражеский лагерь.
Несомненно, ни один вид под небесами, даже осажденная Троя, даже сама война богов с титанами, не могли сравниться по масштабу с тем зрелищем, что раскинулось перед нашими глазами.
Сколько мог охватить взор, вся равнина и еще далеко за пределами видимости, за Трахинскими скалами,– все светилось увеличенными туманом вражескими кострами.
– Да, много вещей им собирать.
Диэнек поманил к себе Петуха. Илот повторил ему все, что запомнил.
Кони Ксеркса пьют выше всех по течению. Реки для персов священны, и их надо оберегать от скверны. Всю верхнюю часть долины оставили под пастбище. Шатер Великого Царя, клялся Петух, стоит в начале равнины на расстоянии полета стрелы от реки.
Отряд устремился вниз, прямо под городские стены, и вошел в быструю воду. Эврот в Лакедемоне течет с гор, и даже летом от его вод немеют ноги. Асоп же оказался еще хуже. Ноги заледенели моментально. Он был таким холодным, что мы испугались за свою жизнь,– если придется выбираться и бежать, то ноги могут не послушаться.
К счастью, через несколько стадиев река стала мельче. Мы свернули в узлы свои плащи, положили на повернутые чашей вниз щиты и стали толкать их перед собой. Враг построил молы для ослабления течения, чтобы коням и людям было легче пить. На молах стояли заставы, но видимость в туман и ветер была такая плохая, час был таким поздним, а часовые – такими самоуверенными, что мы смогли проскользнуть мимо, нырнули в водослив и выбрались из воды в тени берега.
Вышла луна. Петух не мог различить шатер Великого Царя.
– Он был здесь, клянусь! – Он указал на возвышенность, где не виднелось ничего, кроме хлопающих на ветру палаток конюхов да солдат оцепления, которые стояли между ними и жалко ежились рядом с лошадьми.– Наверное, его перенесли: Диэнек обнажил меч и собрался перерезать Петуху горло, как предателю. Петух клялся всеми богами, каких мог вспомнить, что он не лгал.
– В темноте все выглядит иначе,– предположил он, заикаясь.
Его выручил Полиник.
– Я верю ему, Диэнек. При такой тупости как все не перепутать?
Мы стали красться дальше – по горло в ледяном потоке, который холодил мозг наших костей. Диэнек ногой запутался в придонных водорослях, и ему пришлось ксифосом обрубить их, чтобы освободиться. Он фыркнул.
Я спросил, что его рассмешило.
– Я просто задумался, можно ли оказаться в более жалком положении.– Он мрачно усмехнулся.– Пожалуй, разве что если какая-нибудь речная змея заберется мне в задницу и выведет там пяток змеенышей…
Вдруг рука Петуха толкнула моего хозяина в плечо.
В сотне шагов впереди виднелся еще один мол и водослив. На песчаном берегу стояло три ряда шатров, и от них вверх по склону змеилась освещенная лампами дорожка мимо загона для лошадей, где держали дюжину покрытых попонами боевых коней, таких великолепных, что каждый, наверное, стоил годового дохода какого-нибудь небольшого города.
Прямо над загоном возвышалась дубовая роща, освещенная железными светильниками, раскачивающимися на ветру, а позади, за линией египетских пехотинцев, виднелся шатер с царскими флагами, такой просторный, что в нем могло уместиться целое войско.
– Вот,– указал Петух.– Это шатер Ксеркса.
Глава тридцать первая
Мысли воина непосредственно перед боем, как часто замечал мой хозяин (всегда называвший себя исследователем страха), следуют неизменным путем. Всегда возникает пауза, часто всего на один удар сердца, когда перед внутренним взором открывается следующее тройственное видение, обычно в одном и том же порядке: сначала в глубине сердца возникают лица любимых, которые не разделяют с воином непосредственную опасность,– жены и матери, детей, особенно если это дочери, особенно если совсем юные. Лица тех, кто останется под солнцем и сохранит в своем сердце память о нем, воин видит с нежностью и сочувствием. Им он посылает свою любовь и прощальные слова.
Потом перед внутренним взором встают тени тех, кто уже пересек реку, кто ждет на дальнем берегу смерти. Для моего хозяина это были его брат Ятрокл, отец и мать, брат Ареты Идотихид. Их молчаливые образы тоже приветствует сердце воина, призывает их на помощь, а потом отпускает.
И под конец выступают боги – те, которые, по ощущениям воина, были наиболее благосклонны к нему. И в их руки он вверяет свою душу, если может.
Только выполнив этот тройной долг признательности, воин обращается к действительности и поворачивается, словно очнувшись ото сна, к стоящим рядом, к тем, кто вместе с ним пойдет на смертельное испытание. Здесь, как часто замечал Диэнек, и сказывается наибольшее преимущество спартанцев перед своими противниками. Под каким вражеским знаменем отыщутся такие мужи, как Леонид, Алфей, Марон или находящиеся здесь, в этой грязи, Дорион, Полиник и сам мой хозяин Диэнек? Тех, кто вместе с ним взойдет на лодку паромщика, воин в сердце своем обнимает с нежностью, превосходящей всякую другую, дарованную богами смертным, за исключением разве что материнской нежности к своему младенцу. Им он вверяет все, а они вверяют все – ему.
Мой взгляд обратился на Диэнека, присевшего на корточки на речном берегу. Он был без шлема, в своем алом плаще, который в темноте казался черным. Правой рукой потирая сустав негнущейся ноги, Диэнек сжатыми фразами проинструктировал воинов, которым под его командованием предстояло сейчас пойти в бой. Рядом Александр набрал с берега пригоршню песку и тер им древко своего копья, чтобы было удобнее держать. Полиник, ругаясь, продел руку в отсыревшую лямку щита, ища точку равновесия и удобный захват рукояти. Собака и Лахид, Сферей, Петух и Дорион также завершали свои приготовления. Я посмотрел на Самоубийцу. Как врач перебирает инструменты, он быстро сортировал свои «штопальные иглы», выбирая три – одну для метания, две для свободной руки,– вес и балансировка которых сулили наивернейший бросок. Пригнувшись, я приблизился к скифу, в паре с которым мне предстояло идти в атаку.
– Встретимся на переправе,– сказал он и потянул меня за собой на фланг, с которого нам предстояло нападать.
Неужели его лицо – последнее, что мне суждено увидеть? Этот скиф был моим ментором и учителем с тех пор, как мне исполнилось четырнадцать. Он учил меня прикрытию и интервалу, равнению и безопасной зоне, показывал, как обрабатывать проникающую рану, как накладывать шину на сломанную ключицу, как повалить коня, как выносить с поля боя раненого на его плаще. Этот человек со своей ловкостью и бесстрашием мог наняться в любое войско в мире. К персам, если бы захотел. Его бы назначили сотником, он бы пользовался почетом и славой, у него было бы много женщин и богатств. Но он предпочел остаться в суровой лакедемонской академии, на службе без всякого жалованья.
Я подумал о торговце Элефантине. Самоубийца больше всех привязался к этому веселому, полному кипучей энергии человеку, и эти двое быстро сдружились. Вечером накануне первого сражения, когда эномотия моего хозяина готовилась к ужину, рядом показался Элефантин. Он распродал весь свой товар, обменял повозку и осла и даже продал собственный плащ и обувь. В ту ночь он ходил вокруг с корзиной груш и сушеных фруктов и угощал сидящих за ужином воинов. Мой хозяин часто за ужином устраивал жертвоприношение – ничего существенного, всего лишь корку ячменного хлеба и возлияние. Он не молился вслух, а только возносил от всего сердца несколько беззвучных слов богам. Он никогда не рассказывал, о чем молится, но кое-что я мог прочесть по его губам и услышать обрывки бормотания. Он молился за Арету и своих дочерей.
– Юноши должны бы проявлять такую набожность,– заметил торговец,– а не вы, безобразные ветераны!
Диэнек тепло встретил эмпора.
–Ты хотел сказать «седовласые», мой друг. – Я хотел сказать «безобразные», тут очись!
Диэнек пригласил его присесть. Биас был тогда еще жив, и он пошутил насчет непредусмотрительности торговца. Как же теперь тот выберется отсюда без осла и повозки?
Элефантин ничего не ответил.
– Наш друг не будет выбираться,– тихо проговорил Диэнек, уставившись в землю.
Пришли Александр и Аристон с зайцем, которого выменяли у мальчишек из деревни Альпены. Старик улыбнулся дружескому поддразниванию, которым товарищи встретили их добычу. Это был « зимний заяц», такой тощий, что не хватило бы и на двоих, не говоря уж о шестнадцати. Торговец посмотрел на моего хозяина:
– Если посмотреть на вас, ветеранов с сединой в бороде, то представляется поистине правильным, что вы остаетесь здесь, у Ворот. Но не эти юноши.– Он указал на Александра и Аристона, но своим жестом охватил и меня, и других оруженосцев, которым едва исполнилось двадцать. Как же я могу уйти, когда эти дети остаются? 3авидую твоим товарищам,– продолжал торговец, когда чувства отпустили его горло. – Всю жизнь я искал того, чем вы обладаете с рождения,– принадлежать великому городу. Его покрытая рубцами рука – рука кузнеца – указала на костры, разгорающиеся по всему лагерю, и воинов, молодых и старых, рассаживавшихся у огня.– Вот это будет моим великим городом. Я буду его судьей и лекарем, отцом его сирот и городским дурачком.
Он раздал груши и двинулся дальше. Послышался вызванный им смех у другого костра, а потом у следующего.
Тогда союзники уже четыре дня стояли у Ворот. Они видели неисчислимое множество персов в море и на суше и прекрасно понимали предстоящие неодолимые тяготы. И все же, я чувствовал, до этого момента по крайней мере эномотия моего хозяина не ощущала всей реальности грозящей Элладе опасности и неминуемости гибели защитников. 3ашедшее солнце принесло глубокое отрезвление. Долгое время никто ничего не говорил. Александр сдирал с зайца шкуру, я на ручной мельнице молол ячмень, Медон устраивал в земле печь, Черный Лев рубил лук. Биас прислонился к дубовому пню, приготовленному на дрова; слева от него сидел Леон Ослиный Член. Когда Самоубийца заговорил, все вздрогнули.
– В моей стране есть богиня по имени На'ан,– прервал молчание скиф.– Моя мать была ее жрицей, если так возвышенно можно назвать невежественную женщину, которая всю жизнь провела на задке повозки. Мне напомнил ее наш друг торговец и его арба, которую он звал своим домом.
Это была самая длинная речь, которую я да и все остальные слышали от Самоубийцы. Все ожидали, что на этом она и закончилась. Но, ко всеобщему удивлению, скиф продолжил.
Его жрица-мать учила его, как сказал Самоубийца, что все под солнцем нереально. 3емля и сущее на ней – всего лишь маска, материальное воплощение более тонкой и глубокой реальности, кроющейся прямо под ней и невидимой для чувств смертных. Все, что мы зовем реальностью, держится на этом тонком фундаменте. Он лежит в основе всего, неразрушимый и незаметный за отгораживающим его занавесом.
– Религия моей матери учит, что реальны лишь те вещи, которые неощутимы для наших чувств. Душа. Материнская любовь. Мужество. Они ближе к Богу, говорила она, потому что только они одинаковы по обе стороны смерти, перед покрывалом и за ним. Впервые придя в Лакедемон и увидев фалангу,– продолжал Самоубийца,– я подумал, что это самая нелепая форма ведения войны, какая только возможна. У меня на родине сражаются верхом. Для меня это был единственный способ воевать, великий и славный, зрелище, берущее за душу. Фаланга показалась мне шуткой. Но я восхитился воинами, их доблестью, которой они столь очевидно превосходили все другие виденные мною народы. Да, фаланга явилась для меня загадкой.
Поверх костра я взглянул на Диэнека, пытаясь понять, слышал ли он от Самоубийцы подобные мысли раньше. Но по лицу моего хозяина было заметно, что он весь поглощен вниманием. Очевидно, откровение Самоубийцы было для него внове, так же как и для остальных.
– Помнишь, Диэнек, как мы сражались с фиванцами при Эрифре? Когда их строй рухнул и они побежали? Тогда я впервые увидел разгром, и он меня потряс. Может ли быть более низкое, более позорное зрелище под солнцем, чем фаланга, от страха сломавшая строй? Стыдно быть смертным и видеть такое даже среди врагов. Это нарушает высшие законы богов.– Лицо Самоубийцы, исказившееся презрением, теперь оживилось.– Ах, но противоположность тому – когда воины держат строй! Что может быть величественнее, благороднее? Однажды ночью во сне я шел в фаланге. Мы шагали по равнине навстречу врагу. Мое сердце сжал страх. Вокруг шагали мои товарищи-воины – впереди, сзади, со всех сторон. И все это был я. Я старый, я молодой. Я испугался еще больше, я словно разрывался на куски. Потом все запели. Все другие «я» – и я сам. И когда все голоса слились в согласии, страх покинул мое сердце. Я проснулся со спокойным дыханием и понял, что этот сон послали мне боги. Тогда я понял, что это и есть клей, делающий фалангу великой. Невидимый клей, связывающий ее воедино. Я понял, что вся эта муштровка и дисциплина, которые вы, спартанцы, так любите вдалбливать друг другу в череп, на самом деле нужны не для того, чтобы привить молодым воинам сноровку или обучить их искусству, а лишь ради того, чтобы создать этот клей.
Медон рассмеялся:
– А какой клей растворил ты, Самоубийца, что наконец позволил своим челюстям так не по-скифски невоздержанно хлопать?
Самоубийца ухмыльнулся через костер. Говорили, что Медон и дал скифу такое прозвище, когда тот, совершив убийство в своей стране, бежал в Спарту, где снова и снова просил смерти для себя.
– Когда я впервые пришел в Лакедемон и меня прозвали Самоубийцей, я возненавидел это прозвище. Но со временем я понял всю его мудрость, пусть и непреднамеренную. Что может быть благороднее, чем убить себя? Не буквально. Не клинком в брюхо. А затушить в себе эгоизм, убить ту часть себя, которая думает лишь о самосохранении, о спасении собственной шкуры. В этом я и увидел в вас, спартанцах, победу над собой. Это и есть тот клей. Это заставило меня остаться, чтобы научиться тому же. Когда воин сражается не за себя, а за своих братьев, когда он со всей страстью стремится не к славе, не к сохранению собственной жизни, когда он жаждет отдать все свое существо за других, за своих товарищей, не разлучаться с ними, не оказаться недостойным их – тогда его сердце поистине наполняется презрением к смерти. Этим он выходит за границы себя самого, и его действия достигают высшей реальности. Вот почему истинный воин не может говорить о битве ни с кем, кроме своих братьев, бывших там вместе с ним. Эта истина слишком сокровенна, слишком священна для обыденных слов. Я сам никогда бы и нигде не произнес такую речь, а только здесь и сейчас, с вами.
Черный Лев внимательно слушал.
– Все сказанное тобой верно, Самоубийца, если позволишь мне так тебя называть. Но не все невидимое благородно. Низкие чувства тоже невидимы. Страх, и жадность, и похоть. Что ты скажешь о них?
– Да,– признал Самоубийца,– но разве они и не чувствуются низкими? Они смердят до небес, от них становится тошно на сердце. Благородные невидимые чувства ощущаются иначе. Они подобны музыке, в которой чем выше ноты, тем они чище. И это еще одна вещь, сбившая меня с толку, когда я пришел в Лакедемон. Ваша музыка. Сколько ее было, и не только воинственные песни и пэаны, которые вы поете, когда идете на врага, но и музыка, звучащая во время танцев и в хорах, на праздниках и жертвоприношениях. Почему эти воины, воины до мозга костей, так почитают музыку и в то же время запрещают театры и отвергают всякое искусство? Наверное, они чувствуют сходство музыки и добродетели. Просто добродетели вибрируют на более высокой, более благородной ноте.
Он повернулся к Александру.
– Вот почему Леонид выбрал тебя в число Трехсот, мой юный хозяин, хотя и знал, что никогда раньше ты не стоял под боевыми трубами. Он верит, что ты споешь здесь, у Ворот, в самом возвышенном регистре, не этим,– он указал на горло,– а этим,– и его рука коснулась сердца.
Самоубийца встал, неожиданно неуклюже и сконфуженно. Все вокруг костра смотрели на него задумчиво и с уважением. Диэнек нарушил молчание смехом:
– Да ты философ, Самоубийца!
Скиф в ответ усмехнулся.
– Да,– кивнул он,– очись тут!
Появился посланец, вызывая Диэнека к Леониду. Мой хозяин сделал знак, чтобы я следовал с ним. Что-то в нем переменилось, я чувствовал это, когда мы шли среди путаницы тропинок, испещрявших лагерь союзников.
– Помнишь ту ночь, Ксео, когда мы сидели с Аристоном и Александром, рассуждая о страхе и его противоположности?
Я сказал, что помню.
– Так вот, я нашел ответ на свой вопрос. И дали его мне наши друзья – торговец и скиф.
Его взгляд охватил лагерные костры, союзные войска и их командиров, которые, как и мы, со всех сторон тянулись к царскому костру, готовые откликнуться на его нужды и получить его указания.
– Противоположность страха – это любовь,– сказал Диэнек.
Глава тридцать вторая
С запада, с тыла, шатер Великого Царя охраняли двое часовых. Диэнек избрал для атаки эту сторону, потому что она была самой темной и неприметной и этот бок был открыт ветру. Из всех обрывочных образов, что остались у меня от этой схватки, занявшей не более пятидесяти ударов сердца, самым ярким был первый часовой, египетский пехотинец с позолоченным копьем и шлемом, украшенным серебряными крыльями грифа. Эти воины, как известно Великому Царю, носят в качестве почетного знака яркие шерстяные шарфы, у каждого подразделения свой цвет. У них в обычае на посту повязывать их крест-накрест на груди и оборачивать ими пояс. В ту ночь часовой закутал шарфом нос и рот от ветра и колючей пыли. Он также закутал уши и лоб, оставив лишь узкую щель для глаз. Свой длинный, во весь рост, плетеный щит он держал перед собой, борясь на ветру с его неуклюжей массой. Не требовалось богатого воображения, чтобы представить, как ему тоскливо и одиноко на холоде рядом с единственным факелом, гудящим на ветру.
Самоубийца незамеченным подкрался к этому парню, он прополз на животе мимо застегнутых шатров конюхов Великого Царя и громко хлопающих холщовых загородок, защищавших от ветра коней. Я был на шаг позади и видел, как скиф прошептал два слова молитвы: «Отправь его», то есть врага к его диким богам.
Часовой взглянул в нашу сторону и лишь успел заметить, как из темноты прямо на него бросилась фигура скифа, сжимая в левом кулаке два дротика. Бронзовый смертоносный наконечник третьего изготовился к броску, заняв положение у правого уха. Наверное, зрелище было столь нелепо и неожиданно, что страж даже не успел встревожиться. Правой рукой он беззаботно поправил прикрывающий глаза шарф и как будто бы что-то пробормотал про себя, вынужденный хоть как-то отреагировать на это внезапное и необычное явление.
Первый дротик Самоубийцы с такой силой вошел в кадык египтянина, что наконечник пробил шею и темно-красное древко на пол-локтя вышло из позвоночника. Часовой как скала рухнул на землю. Через мгновение Самоубийца был на нем и рывком выдрал свою «штопальную иглу», так что на ней осталась половина дыхательных путей.
Второй часовой в пяти шагах слева от первого лишь растерянно обернулся, явно не веря своим чувствам, когда сзади на него набросился Полиник и с размаху обрушил на открытый правый бок такой сокрушительный удар своим щитом, что часовой отлетел в сторону. Дыхание у него перехватило, и он навзничь упал в грязь, где копье Полиника проткнуло его грудь. 3а шумом ветра было слышно, как хрустнули кости.
Мы бросились к шатру. Александр клинком наискось распорол беленое полотно. Диэнек, Дорион, Полиник, Лахид, а за ними Александр, Собака, Петух и Сферей ворвались внутрь. Нас увидели. Часовые с обеих сторон тревожно закричали. Однако все произошло так быстро, что стража поначалу не поверила собственным глазам. Очевидно, у них был приказ не покидать своих постов, и почти все они так и сделали. Двое ближайших нерешительно и осторожно направились к Самоубийце и ко мне (мы единственные еще оставались снаружи). Одна стрела лежала у меня на тетиве, еще три я сжимал в левой руке. Я собрался стрелять.
– Стой! – сквозь ветер крикнул мне в ухо Самоубийца.– Улыбнись им.
Я подумал, что он рехнулся. Но вот что он сделал. Дружески жестикулируя и обращаясь к часовым на своем языке, скиф начал представление, как будто это было просто какое-то упражнение, которое эти часовые могли пропустить во время получения инструкций. Его выходка задержала их по крайней мере на два мгновения. Потом еще дюжина пехотинцев с шумом высыпала перед шатром, Мы повернулись и нырнули внутрь.
Там царила кромешная тьма и было полно вопящих женщин. Наших нигде не было видно. У противоположной стены мелькнул свет. Это оказался Собака. у одной его ноги лежала голая женщина, впившись зубами ему в икру. Свет лампы из соседнего помещения упал на клинок скирита, когда он прорубил хрящи ее шейных позвонков. Собака обвел рукой комнату:
– Поджечь!
Мы находились в чем-то вроде гарема с наложницами. Во всем шатре было, наверное, два десятка комнат. Кто определит, которая из них царская? Я бросился к единственной горящей лампе и сунул ее в шкафчик с женским бельем. Через мгновение весь бордель пылал.
3а спиной у нас посреди визжащих шлюх появились пехотинцы. Мы бросились вслед за Собакой по проходу. Очевидно, мы находились в задней части шатра. Следующая комната, по-видимому, принадлежала евнухам. Я видел, как Диэнек и Александр, щит к щиту, прорвались мимо пары титанов с наголо выбритыми черепами, даже не задержавшись, чтобы ударить, а просто опрокинув их. Одному из них взмахом своего ксифоса выпустил кишки Петух, а другого рубанул топором Сферей. Полиник, Дорион и Лахид выскочили из какой-то спальни, с их копий капала кровь.
– Долбанные жрецы! – с досадой крикнул Дорион.
3а ним, шатаясь, вышел какой-то маг с пропоротым животом и упал.
Дорион и Полиник сражались во главе отряда, когда нападающие добрались до комнаты Великого Царя. Помещение было просторное, широкое, как амбар, и утыкано столькими стойками из черного дерева и кедра, что напоминало лес. Его свод освещали лампы и факелы, и было светло как в полдень. Персидские министры не спали и собрались на совет. Возможно, они рано встали, а может быть, еще не ложились. Я свернул за угол этого помещения, когда Диэнек, Александр, Собака и Лахид догнали Полиника и Дориона и выстроились щит к щиту для атаки. Мы видели военачальников и министров Великого Царя. Они сидели в пятнадцати шагах от нас на полу – не земляном, а застеленном досками, твердыми и ровными, как в храме. Поверх досок лежали толстые ковры, которые поглощали любые звуки.
Было невозможно определить, кто из персов сам Великий Царь,– все облачены в великолепные наряды, все поражали своим ростом и внушительным видом. Их было с дюжину, считая писцов, стражников и слуг, и все вооружены. Очевидно, они узнали о нападении всего несколько мгновений назад и теперь сжимали в руках кривые мечи, луки и топоры, хотя, судя по выражению их лиц, еще не верили своим глазам. Без лишних слов спартанцы бросились на них.
И тут мы заметили птиц. Десятки птиц экзотической породы, вероятно привезенных из Персии для развлечения Великого Царя, теперь взлетели и бились о ноги наступавших спартанцев. Не знаю, кто – возможно, кто-то из спартанцев в переполохе, а может быть, какой-то сообразительный персидский слуга – сломал или раздавил несколько стоящих в ряд клеток, но внезапно в разгар атаки пространство заполнили сотни кричащих гарпий. Они заметались, голося на всевозможные лады, заверещали и своим гомоном и хлопаньем крыльев устроили полное сумасшествие.
Эти птицы и спасли жизнь Великого Царя. Они – и стойки, подпиравшие свод шатра, как сотни колонн в храме. Неожиданность замедлила атаку ровно настолько, чтобы подоспевшие пехотинцы и стражники из числа Бессмертных заслонили Великого Царя своими телами.
Персы в шатре сражались точно так же, как их товарищи в проходе и в Теснине. Они привыкли к метательному оружию – дротикам, копьям и стрелам – и искали пространства, чтобы пустить их в ход. Спартанцы же были обучены ближнему бою с врагом. Прежде чем кто-либо успел вдохнуть, сомкнутые щиты лакедемонян были утыканы стрелами и наконечниками дротиков. Спустя еще миг их бронзовая поверхность ударила в сгрудившуюся массу врага. На мгновение показалось, что персов сейчас просто растопчут. Я видел, как Полиник с размаху вонзил копье в лицо какого-то вельможи, потом выдернул окровавленный наконечник и воткнул в грудь другого. Диэнек с Александром расправились с троими так быстро, что глаз еле успел уловить. Сферей как безумный врубился своим топором прямо в горстку кричащих жрецов и секретарей, которые растянулись на полу.
Слуги Великого Царя жертвовали собой с ошеломительной отвагой. Двое прямо передо мной, юноши с еще не пробившейся бородой, разом рванули ковер на полу, толстый, как зимняя шуба пастуха. Используя его как щит, они бросились на Петуха с Дорионом. Если бы было время посмеяться, вид разгневанного Петуха, с досадой вонзавшего свой ксифос в этот ковер, вызвал бы шквал смеха. Первому слуге он разорвал горло голыми руками, а второму проломил череп еще горящей лампой.
Что касается меня, я выпустил все четыре стрелы, что держал в левой руке, с такой бешеной скоростью, что не успел и глазом моргнуть, как уже нащупывал колчан. Не было времени даже проследить, куда летят стрелы и попадают ли в цель. Я сжал новый пучок стрел в колчане за плечом, когда, подняв глаза, увидел, как прямо мне в лоб, вращаясь, летит отполированная сталь брошенного боевого топора. Я инстинктивно согнул ноги. Казалось, прошла вечность, прежде чем сила тяжести увлекла меня вниз. Топор был так близко, что я слышал, как он рассекает воздух, и видел прикрепленные к рукояти пурпурные страусовые перья и отчеканенных на стали двухголовых грифонов. Убийственное лезвие находилось уже в половине локтя от моей переносицы, когда смертоносный полет прервала кедровая стойка, которую я даже не заметил. Топор на ладонь вошел в дерево. На полмгновения я увидел лицо человека, метнувшего его, а потом стена шатра распахнулась.
Внутрь хлынули египетские пехотинцы, за первыми двадцатью следовали еще двадцать. Теперь вся сторона открылась для ветра. Повсюду порхали эти сумасшедшие птицы. Собака упал, ему пропорол кишки двуручный топор. Дориону пронзила горло стрела, и он отшатнулся назад, блюя кровью. Диэнека ранили, и он отступил к Самоубийце. Впереди оставались лишь Александр, Полиник, Лахид, Сферей и Петух. Я видел, как изгой пошатнулся. Полиника и Петуха окружили нахлынувшие египтяне.
Александр остался один. Он выделил фигуру Великого Царя или какого-то вельможи, которого принял за царя, и занес над правым ухом руку с копьем, готовясь перебросить его через стену вражеских защитников. Я видел, как он оперся на правую ногу, собирая для броска все силы. Когда его плечо двинулось вперед, один персидский вельможа – как я узнал позже, это был полководец Мардоний – нанес своим кривым мечом такой сильный и точный удар, что отрубил Александру руку у запястья.
В моменты высочайшего напряжения время как будто замедляется, позволяя мгновение за мгновением замечать все, что разворачивается перед глазами. Я видел, как рука Александра, все еще сжимавшая копье, на мгновение зависла в воздухе и стала стремительно падать, по-прежнему обхватив древко. Правое предплечье и плечо продолжали движение вперед со всей силой, а из обрубка руки хлынула яркая кровь. Какой-то миг Александр не понимал, что случилось. 3амешательство и неверие заполнили его глаза, он не мог уяснить, почему копье не полетело вперед. На его щит обрушился удар боевого топора, и Александр упал на колени. Я находился слишком близко, чтобы помочь ему своим луком, и нагнулся, чтобы подобрать его копье, в надежде метнуть в персидского вельможу, прежде чем тот успеет снести моему другу голову.
Но меня опередил Диэнек – огромная бронзовая чаша его щита прикрыла Александра.
– Отходим! – проревел он, перекрывая шум, и рывком поставил Александра на ноги. Так крестьянин выхватывает ягненка из потока.
Мы оказались снаружи, на ветру.
Я увидел, как Диэнек в двух локтях от меня выкрикнул какой-то приказ, но не расслышал ни слова. Рядом с ним стоял Александр, и Диэнек указывал на склон горы за стенами города.. По реке мы бежать не могли, не было времени.
– Прикрой их! – крикнул мне в ухо Самоубийца.
Я заметил, как мимо меня проскользнули фигуры в алых плащах, но не мог сказать, кто это. Двоих несли. Из шатра, качаясь, вышел смертельно раненный Дорион, его роем окружали египтяне. Самоубийца с такой скоростью метнул в первых троих «штопальные иглы», что показалось, будто у каждого, как по волшебству, из живота вырос дротик. Я тоже стрелял. Я видел, как какой-то пехотинец срубил Дориону голову. Позади него из шатра вынырнул Сферей и погрузил топор в спину египтянина, а потом и сам упал под ударами пик и мечей. У меня кончились стрелы. У Самоубийцы тоже Он бросился на врага с голыми руками, но я схватил его за пояс и оттащил назад. Он кричал. Дорион, Собака и Сферей были уже мертвы, а мы еще могли понадобиться живым.
Глава тридцать третья
Сразу к востоку от шатра находились только тщательно охраняемые кони из личного табуна Великого Царя и палатки конюхов, Мы побежали через огороженный выгул. Полотняные перегородки делили его на квадраты. Это напоминало бег среди сохнущего белья в густонасёленном городском квартале. Когда мы с Самоубийцей, еле дыша, с колотящейся в висках кровью, среди оглушенных ветром коней догнали наших товарищей, Петух, двигавшийся в арьергарде отряда, жестами велел нам сбавить бег и остановиться, Идти шагом.
На открытом месте показались какие-то люди. К нам сотнями подходили вооруженные воины. Но они, по милости богов, не поднялись по тревоге из-за нападения на царский шатер – и даже не догадывались о ночном налете. Они просто встали по сигналу побудки, еще не совсем проснулись и ворчали в темноте и на ветру, готовясь к возобновлению сражения. Тревожные крики египтян из шатра рассыпались в зубах сильного ветра, а их пешая погоня сбилась со следа в темноте среди миллиардов войска.
Побег из персидского лагеря сопровождался чувством почти запредельно искажённой реальности, полного абсурда. Отряд удачно выскользнул из лагеря. Мы отнюдь не неслись со всех ног, но хромали и едва ковыляли. Мы выходили на открытые места, вовсе не стараясь скрываться от врага, а, по сути дела, наоборот, подходя к врагам и даже навязываясь их обществу. Ирония состояла в том, что мы сами поднимали тревогу – мы шли без шлемов, окровавленные, со щитами, на которых была стерта лакедемонская лямбда, и несли на плечах тяжело раненного Александра и уже мертвого Лахида. Для всех наш отряд выглядел потрепанным патрулем. Диэнек говорил на беотийском диалекте, а Самоубийца на скифском наречии обращался к персидским командирам, когда мы проходили через их части, и, широко употребляя слово «мятеж», не свирепо, но устало показывал за спину, на шатер Великого Царя.
Всем, казалось, было наплевать. Подавляющее большинство войска, как выяснилось, составляли недовольные призывники из народов, вынужденных против своей воли посылать людей Великому Царю. Теперь, на сыром и ветреном рассвете, они думали только о том, как бы согреться, набить брюхо и пережить наступающий день.
Отряд трахинских конников, пытавшихся развести огонь для завтрака, ненароком даже оказал помощь Александру. Они приняли нас за фиванцев, за ту их часть, что пошла на службу персам и теперь в свой черед обеспечивала безопасность лагеря по внутреннему периметру. Конники дали нам огня, воды и перевязочных материалов, в то время как Самоубийца умелыми руками – увереннее, чем настоящий врач,– зажал кровоточащую артерию медной «собачкой». Александр уже был в глубоком шоке.
– Я умираю? – спросил он Диэнека печальным, отрешенным, таким детским голосом, словно бы не своим, а принадлежащим кому-то стоящему у него за спиной.
– Ты умрешь, когда я разрешу,– мягко ответил Диэнек.
Несмотря на зажим, пережавший артерию, кровь толчками выходила из обрубка Александровой руки. Она текла из перерубленных вен и сотен сосудов и капилляров в мягких тканях. Раскаленным на костре ксифосом Самоубийца прижег рану и перевязал культю, наложив жгут пониже бицепса. В темноте и сутолоке никто, даже сам Александр, не заметил колотой раны под вторым ребром и внутреннего кровотечения в низу легкого.
Сам Диэнек получил рану в свою уже покалеченную ногу с раздробленной голенью и тоже потерял немалое количество крови. У него не оставалось сил нести Александра, и его сменил Полиник. Перебросив Александра через правое плечо,– раненый по-прежнему оставался в сознании – он расслабил ремень его щита, чтобы перекинуть для защиты на спину.
Самоубийца рухнул на полпути к вершине холма перед городской стеной. В шатре его стрелой ранило в пах, а он даже не заметил этого. Я взял его, а Петух нес тело Лахида. Нога Диэнека не слушалась, его самого нужно было тащить. В свете звезд я видел в его глазах отчаяние.
Мы все ощущали стыд, потому что оставили врагу тела Дориона и Собаки – и даже изгоя. Стыд подхлестывал нас, как плеть, заставляя взбираться выше и выше по безжалостно крутому склону.
Мы миновали городские стены и приблизились к поваленным деревьям, где стоял отряд фессалийской конницы. Фессалийцы уже не спали и были при оружии, готовые выступить для дневного боя. Через несколько минут мы добрались до рощи, где раньше спугнули дремавших оленей.
Нас окликнул дорийский голос. Это был кулачный боец Теламоний, один из нашего отряда, которого Диэнек послал назад к Леониду с сообщением о горной тропе и Десяти Тысячах. Он вернулся с подмогой – тремя спартанскими оруженосцами и полудюжиной феспийцев. Мы упали. – На пути назад мы укрепили веревки,– сообщил Диэнеку Теламоний.– Карабкаться будет легче.
– А что с персидскими Бессмертными? С Десятью Тысячами?
– Когда мы вернулись, не было никаких следов. Но Леонид отослал союзников. Они отходят – все, кроме спартанцев.
Полиник осторожно положил Александра на густую траву в роще. 3десь еще пахло оленями. Диэнек прислушивался к дыханию Александра, потом я увидел, как он приложил ухо к его груди.
– Заткнитесь! – крикнул мой хозяин остальным.– 3аткните свои глотки!
Он плотнее прижал ухо к груди Александра. Так отчаянно стараясь услышать сердце своего воспитанника, не слышал ли Диэнек стук собственного сердца, вовсю колотящегося в груди? Прошло несколько мгновений. Наконец он выпрямился и сел. Его спина, казалось, ощутила на себе тяжесть всех полученных за долгие годы ран, бремя всех виденных смертей.
Подложив руку под шею, он нежно приподнял голову юноши. И такой горестный крик вырвался из груди моего хозяина, какого я никогда не слышал. Его спина согнулась, плечи затряслись. Он обхватил обескровленное тело Александра. Руки юноши повисли, как у куклы. Рядом на колени опустился Полиник. Он накинул на плечи Диэнеку плащ и обнял его, пока тот плакал.
Никогда, даже в самом жестоком бою, я не видел, чтобы Диэнек утратил самообладание. Он всегда неколебимо сдерживал свои сердечные порывы. Теперь же мы видели, как он призывает все свои силы, чтобы вернуть себе суровость спартиата и командира. Он схватил ртом воздух с глубоким, как смертный хрип, вздохом,– звук, с которым жизнь покидает грудь умершего. Мой хозяин опустил безжизненное тело Александра и осторожно уложил на алый плащ. Правую руку он положил на то, что осталось от юноши, бывшего его подопечным и воспитанником с того самого утра, когда тот родился.
– Ты забыл про нашу охоту, Александр.
Эос, бледная заря, уже вынесла свой свет на пустынное, без облачка, небо, и можно было разглядеть звериные тропы и оленьи следы. Глаз начал различать дикие, прорытые ручьями склоны, столь схожие с Ферами на Тайгете, дубовые рощи и тенистые тропы, которые определенно изобиловали оленями и кабанами. Возможно, там водились и львы.
– А какую великолепную охоту мы бы устроили здесь этой осенью!
Глава тридцать четвертая
Предыдущие страницы были последними, доставленными Великому Царю до сожжения Афин.
В то время, за два часа до восхода, примерно через шесть недель после победы при Фермопилах, войско Великой Державы выстроилось у восточной стены города Афины. Пожарная бригада в сто двадцать тысяч человек (Как уже упоминалось, автор, следуя Геродоту, значительно завышает численность персидских войск), построившись с интервалом в две вытянутые руки, выдвинулась к столице Аттики и предала огню все храмы, святилища и общественные здания, гимнасии, жилые дома, ремесленные мастерские, школы и складские помещения.
В это время этому человеку, Ксеону, который до тех пор быстро оправлялся от ран, полученных в сражении при Горячих Воротах, опять стало хуже. Очевидно, вид пылающих Афин глубоко повлиял на него. Снова и снова он лихорадочно спрашивал о судьбе Фалерона, где, по его словам, находился храм Персефоны Окутанной, в котором нашла убежище его двоюродная сестра, женщина по имени Диомаха. Никто не мог ничего сказать о судьбе этого пригорода. Пленнику становилось все хуже, и вызвали Царского лекаря. Определенно несколько проникающих ран в области груди снова открылись, и началось сильное внутреннее кровотечение.
В это время Великий Царь оставался недоступен, он находился с флотом, который готовился к неминуемому сражению с морскими силами эллинов, которые должны были появиться на рассвете. Утренней битве, с нетерпением ожидаемой флотоводцами Великого Царя, предстояло подавить всяческое сопротивление врага на море и оставить Пелопоннес беззащитным перед последним, решающим наступлением сухопутных и морских сил Великого Царя. После этого вся Греция будет покорена.
Я, историк Великого Царя, в это время получил приказ, предписывающий мне подготовить места для писцов, которые рядом с Великим Царем будут наблюдать за морским сражением и по ходу боя описывать действия воинов Великой Державы, которые заслужат отличие. Однако прежде чем заняться этим делом, я сумел провести большую часть вечера у раненого грека. Ночь с каждым часом становилась все более зловещей. Над равниной вздымался густой черный дым, а пламя в Акрополе, в торговых и жилых кварталах освещало небо, как днем. Вдобавок берег потряс неистовый толчок, обрушив многочисленные строения и даже часть городских стен. Атмосфера была грозовой, словно небеса и земля, как и люди, надевали воинские доспехи, готовясь к войне.
Все время этот человек, Ксеон, оставался спокоен и в ясной памяти. 3апрошенные Оронтом сведения достигли лекарских шатров; жрицы Персефоны, предположительно и двоюродная сестра пленного Ксеона в их числе, через залив переправились в Трезен. Казалось, это глубоко успокоило грека. Он словно знал, что не переживет эту ночь, и беспокоился теперь лишь о том, что смерть раньше времени оборвет его повествование. По его словам, он хотел, чтобы в оставшиеся часы под его диктовку записали как можно больше из заключительных часов сражения у Ворот.
Верхний край солнечного диска только прорвал горизонт, когда отряд начал спускаться с последнего скалистого склона над лагерем эллинов. Тела Александра и Лахида спустили на веревке вместе с Самоубийцей, чья рана в паху не позволяла ему двигаться. Диэнеку тоже потребовалась веревка. Мы цеплялись руками за скалу. Через плечо я видел копошащихся внизу людей – аркадцев, орхоменцев и микенцев. На мгновение мне показалось, что спартанцы тоже уходят вместе с ними. Могло ли случиться, что Леонид, поняв всю бесполезность сопротивления, отдал приказ отойти всем? Потом мои глаза невольно обратились к человеку, спускавшемуся рядом, и встретили взгляд Полиника. Он прочел на моем лице желание спастись. И только усмехнулся.
У основания Фокийской стены спартанцы – их едва насчитывалась сотня Равных, еще способных сражаться, уже выполняли утреннюю гимнастику и облачались в доспехи. Они расчесывали свои длинные волосы, готовясь к смерти.
Мы похоронили Александра и Лахида на спартанском участке у 3ападных Ворот. Нагрудники и шлемы обоих отложили, чтобы использовать, а их щиты Петух и я оставили среди прочего оружия в лагере. В мешке Александра не нашлось никакой монетки для паромщика, у меня и моего хозяина – тоже. Как-то так вышло, что он все потерял, в том числе и кошелек, что госпожа Арета положила в мой неприкосновенный запас в тот последний вечер в лакедемонском поместье.
– Вот,– предложил Полиник.
Он протянул все еще завернутую в промасленное полотно монетку, которую его жена начистила для него,– серебряную тетрадрахму, отчеканенную гражданами Элеи в честь Полиника, чтобы увековечить его вторую победу на Олимпийских играх. На одной стороне было выбито изображение Зевса Громовержца с крылатой Никой на правом плече, а на обратной – изогнутая полумесяцем оливковая ветвь вокруг палицы и львиной шкуры Геракла в честь Спарты и Лакедемона.
Полиник сам положил монету на надлежащее место. Ему пришлось пришлось разжать челюсти Александра со стороны, противоположной «обеду кулачного бойца» из янтаря и эвфорбии, которые зафиксировали раздробленные кости. Диэнек прочел молитву за павших. Он и Полиник опустили тело в алом плаще в неглубокую могилу. Не потребовалось почти никакого времени, чтобы забросать ее землей. Оба спартанца выпрямились.
– Он был лучше нас всех,– сказал Полиник.
С западных вершин спешили дозорные. Они заметили Десять Тысяч, которые завершили свой ночной поход и теперь стояли в пятидесяти стадиях в тылу эллинов. Они уже разгромили фокийских защитников на вершине. Греки у Ворот, по-видимому, имели часа три до того момента, когда Бессмертные завершат спуск и приготовятся к атаке.
Другие гонцы прибыли со стороны Трахина. Наблюдательный трон Великого Царя, как видел ночью наш отряд, был разобран. Ксеркс на своей царской колеснице шел в наступление – самолично со свежими войсками за спиной атаковать эллинов с фронта.
Участок захоронения находился на значительном расстоянии, более тысячи шагов от места построения спартанцев у Стены. Когда мой хозяин и Полиник вернулись, мимо прошагал отряд союзников, отступая в безопасное место. Держа слово, Леонид отпустил их – всех, кроме спартанцев.
Мы смотрели, как союзники проходят мимо. Первыми оказались мантинейцы – они брели, сгорбившись, словно а их коленях и бедрах не осталось сил. Никто ничего не говорил. Все были так перепачканы, что казались сделанными из грязи. Песок забил все поры и впадины на теле, даже глазницы, а в углах ртов собралась клейкая слюна. Их зубы были черны, они плевались, и на землю падали темные плевки. Некоторые сдвинули шлемы назад, и теперь те били по плечам, а черепа представлялись удобными болванками для горшков. Большинство повесили свои шлемы лицом вперед на надетые через плечо скатки плащей. Хотя на рассвете было еще прохладно, воины тащились все в поту. Я никогда не видел настолько изнеможенные войска.
Следующими шли коринфяне, потом тегейцы и опунтские локрийцы, флиунтцы и орхоменцы, а рядом с ними аркадцы и остатки микенцев. От первоначальных восьмидесяти гоплитов из Микен, способных передвигаться, осталось всего одиннадцать, и еще две дюжины распростерлись на носилках или были привязаны к волокушам за лошадьми. Люди и животные опирались друг на друга. Кто-то не соображал, кто он и где находится, из-за сотрясения мозга или проломленного черепа; другие вовсе утратили чувства и онемели от ужаса и напряжения последних шести дней. Почти каждый был многократно ранен, в основном в ноги и голову, многие потеряли зрение и брели возле своих товарищей, ухватившись за их локоть, или тащились рядом с вьючными животными, держась за конец привязанной к тюкам веревки.
3а вереницей раненых ступали уцелевшие, неся себя без стыда и чувства вины, но с тем молчаливым благоговением и благодарностью, о которой говорил Леонид на собрании после сражения при Антирионе. То, что эти воины еще могли дышать, было не их собственной заслугой, и они понимали это. Они оказались не более отважными, чем павшие; им просто повезло. Это понимание с поэтическим красноречием выражалось в усталости, начертанной на их лицах.
– Надеюсь, мы выглядим не так паршиво, как вы, пробурчал Диэнек проходящему мимо флиунтскому командиру.
– Хуже, братцы.
Кто-то поджег купальни и загородки вокруг источников. Воздух был неподвижен, и сырое дерево горело едко и тускло. Дым и смрад от этого пламени добавил к печальному зрелищу свои безрадостные краски. Колонна воинов выходила из дыма и снова заходила в него. Люди бросали в огонь обрывки своих опустошённых мешков, окровавленные плащи и хитоны, использованные мешки и прочее тряпье – все, что могло гореть. Казалось, отходящие союзники не хотят оставить врагу ни клочка. Они облегчали свой груз и шли дальше.
Проходя мимо, люди протягивали руки к спартанцам, желая прикоснуться к ним. Один коринфский воин отдал Полинику свое копье. Другой протянул Диэнеку свой меч. – Устройте им баню, братцы.
Проходя мимо источника, мы наткнулись на Петуха. Он тоже уходил. Диэнек догнал его и остановил, чтобы пожать руку. Никакого стыда не отразилось на лице Петуха. Очевидно, он чувствовал, что выполнил свой долг с лихвой, и свобода, дарованная ему Леонидом, была в его глазах тем правом, в котором всю жизнь ему отказывали и которое теперь, с большим запозданием, он честно и достойно отвоевал. Отвоевал собственными руками. Петух сжал руку Диэнека и пообещал по возвращении в Лакедемон поговорить с Агатой и Паралеей. Он сообщит им, с какой доблестью сражались Александр и Олимпий и с какой честью они пали. Он сообщит обо всем также и госпоже Арете.
– Если можно,– попросил Петух,– я бы хотел воздать честь Александру, прежде чем уйду.
Диэнек поблагодарил его и рассказал, где находится могила. К моему удивлению, Полиник тоже протянул Петуху руку.
– Боги любят ублюдков,– молвил он.
Петух сообщил нам, что Леонид с почетом даровал свободу всем илотам в войске. Мы увидели дюжину их, идущих среди тегейских воинов.
– Леонид также освободил оруженосцев,– объявил Петух,– и всех иностранцев, служивших в войске.– Он обратился к моему хозяину: – Это также касается Самоубийцы и Ксео.
А позади Петуха все шли и шли, уходя, союзники.
– Ты удержишь его здесь, Диэнек? – спросил Петух.
Он имел в виду меня.
Мой хозяин, не глядя в мою сторону, ответил Петуху:
– Я никогда не принуждал Ксео. Не принуждаю и теперь.
Он замолчал и повернулся ко мне. Солнце полностью взошло. На востоке, у Стены, послышались трубы.
– Один из нас,– сказал Диэнек,– должен выкарабкаться из этой дыры живым.
Он приказал мне уйти вместе с Петухом.
Я отказался.
– У тебя жена и дети! – Петух схватил меня за плечи и страстно указал в сторону Диэнека и Полиника.– Это их город, не твой. Ты им ничего не должен.
Я сказал ему, что принял решение много лет назад.
– Видишь? – обратился Диэнек к Петуху, указывая на меня.– Он никогда не обладал здравым смыслом.
Позади, на Стене, мы увидели Дифирамба. Его феспийцы отвергли приказ Леонида. Все до единого они с презрением отказались отступить и настояли на своем праве остаться вместе со спартанцами и умереть вместе с ними. Феспийцев осталось около двухсот. И ни один из их оруженосцев тоже не ушел. Целых восемьдесят из освобожденных спартанских оруженосцев и илотов решили остаться. Предсказатель Мегистий также пренебрег своим правом уйти. Из первоначальных Трехсот Равных ушли только двое. Этими двумя были Аристодем, бывший посол в Афины и на Родос, и Эврит, победитель по борьбе. Оба от воспаления глаз ничего не могли видеть, и их переправили в Альпены. Каталогос – список личного состава – уцелевших, вышедших к Стене, составлял чуть более пятисот.
Что касается Самоубийцы, то мой хозяин, прежде чем отправиться хоронить Александра, велел ему оставаться у Стены на носилках. Очевидно, Диэнек предвидел освобождение оруженосцев и приказал отнести Самоубийцу от колонны в безопасное место. Теперь скиф стоял на ногах и мерзко скалился навстречу вернувшемуся хозяину. Он облачился в металлический боевой пояс и нагрудник, опоясав бедра полотном и кожаными ремнями, снятыми с вьючных лошадей.
– Я не могу срать,– проговорил он,– но, клянусь демонами преисподней, я еще могу сражаться.
Весь следующий час войска перестраивались. Строй должен иметь достаточную глубину и ширину. Кроме того, предстояло составить отряды и назначить командиров. У спартанцев оруженосцы и илоты просто влились в эномотии Равных, которым они служили. Больше им не сражаться во вспомогательных войсках, теперь они, закованные в бронзу, встанут в фалангу. Недостатка в доспехах не было, недоставало лишь оружия – так много его поломалось и иззубрилось. Сложили две кучи запасных мечей и копий – одну у Стены, а вторую на стадий дальше, на полпути к маленькому частично укрепленному холмику, самому естественному месту для осажденных сил, чтобы сообща держаться до конца. Кучи получились небольшие – лишь воткнутые клинком в землю мечи да втиснутые рядом копья шипом вниз.
Леонид созвал всех. Собрались без большого шума – так мало воинов оставалось. Сам лагерь показался вдруг шире и вместительнее. Что касается «танцевальной площадки» перед Стеной, ее песчаный грунт все еще покрывали тысячи персидских трупов, которые враг оставил гнить на поле боя. Пережившие ночь раненые теперь стонали из последних сил, прося помощи и воды, а многие умоляли о милосердном последнем ударе. Для эллинов перспектива вновь биться на этой ниве подземного царства казалась немыслимой, человеческий разум был не в силах вынести этого.
Таково было и решение Леонида. Военачальники между собой пришли к согласию, и царь сообщил воинам, что они больше не будут сражаться вылазками из-за Стены, как в предыдущие два дня, а вместо этого оставят ее камни за спиной и выступят сомкнутым строем в самую широкую часть прохода, чтобы встретить врага там – десятки союзников против мириадов Великой Державы. Царь хотел, чтобы каждый как можно дороже продал свою жизнь.
Как только был принят порядок будущего боя, из-за Теснины раздалась труба вражеского вестника. Под флагом парламентеров четверо персидских всадников в самых пышных доспехах двинулись по ковру побоища, направляясь прямо к Стене. Леонид был ранен в обе ноги и еле ковылял. С мучительным усилием он взобрался на укрепление, с ним поднялись и войска. Все силы, что оставались на Стене, глядели вниз, на всадников.
Посланником был Птаммитех, египетский пехотинец. На этот раз его молодой сын не сопровождал его в качестве переводчика, эту функцию выполнял какой-то перс. Оба их коня и два коня вестников шарахались от трупов, лежавших под ногами. Прежде чем Птаммитех начал свою речь, Леонид прервал его.
– Ответ будет – «нет»! – крикнул он со стены.
– Вы еще не слышали предложения.
– Плевать мне на твои предложения! – с усмешкой крикнул Леонид.– Да и на тебя тоже!
Египтянин рассмеялся, как всегда, ослепительно сверкнув зубами, и натянул поводья своего шарахнувшегося в сторону коня.
– Ксерксу не нужны ваши жизни! – крикнул он. -Только ваше оружие.
Теперь рассмеялся Леонид:
– Скажи ему: пусть придет и возьмет.
Повернувшись, царь прекратил разговор. Несмотря на израненные ноги, он отказался от помощи, самостоятельно спустился со Стены и свистом созвал собрание. С вершины камней спартанцы и феспийцы смотрели, как персидские посланники натягивают поводья своих коней и удаляются.
Трехглавая мышца левой руки Леонида была перерублена, и в этот день ему предстояло сражаться, привязав щит ремнем к плечу. Тем не менее настроение спартанского царя можно было назвать веселым. Его глаза блестели, а голос звучал легко, в нем слышались сила и власть.
– 3ачем мы остались здесь? Нужно быть не в своем уме, чтобы не задавать этот вопрос. Ради славы? Если бы только ради нее, поверьте мне, братья, я бы первый повернул задницу к врагу и во всю прыть поскакал с этого холма.
Эти царские слова были встречены смехом. Леонид дал шуму улечься и поднял здоровую руку, призывая к тишине.
– Если бы мы сегодня ушли от Ворот, братья, какие бы чудеса отваги мы ни совершили до сих пор, эту битву все восприняли бы как поражение. Поражение, которое подтвердило бы всей Греции то, в чем враг так старался ее,убедить: что сопротивляться персидским полчищам бесполезно. Если бы мы сегодня спасли свою шкуру, греческие города у нас за спиной начали бы сдаваться один за другим, пока перед персом не пала бы вся Эллада. Воины внимательно слушали, понимая, что суждения царя точно отражают истинное положение вещей.
– Но, пав с честью в битве с этим подавляющим численным превосходством войском, мы превратим поражение в победу. Своей смертью мы посеем мужество в сердцах наших союзников и братьев. Это не мы, а они в конце концов выкуют победу. А мы должны выполнить то, в чем поклялись, когда обнимали жен и детей, отправляясь в поход,– стоять насмерть и погибнуть.
В животе у царя громко заурчало от голода. Из передних рядов собравшихся до самого тыла прокатился хохот. Леонид, ухмыльнувшись, направился к оруженосцам, которые выпекали хлеб, убеждая их поторопиться.
– Наши братья-союзники сейчас на пути домой.– Царь махнул рукой в направлении дороги, что вела в Южную Грецию.– Мы должны прикрыть их отход, иначе вражеская конница беспрепятственно промчится через эти ворота и догонит наших товарищей, пока те не прошли и сотни стадиев. Если мы продержимся несколько часов, наши братья будут в безопасности.
Он спросил, не хочет ли еще кто-то что-нибудь сказать. Вперед вышел Алфей:
– Я тоже проголодался, поэтому буду краток.
Он смущенно отступил, не привыкший к роли оратора. Впервые я заметил, что среди собравшихся нет его брата Марона. Этот герой ночью умер от полученных накануне ран.
Алфей говорил быстро. Обделенный ораторским даром, он был щедро одарен искренностью сердца.
– Лишь в одном боги позволили смертным превзойти себя. Человек может отдать то, чего не могут отдать боги, -свою жизнь. Свою я с радостью отдам за вас, друзья. Вы заменили мне брата, которого больше нет.
Он резко повернулся и снова растворился в рядах собравшихся.
Воины стали звать Дифирамба. Феспиец вышел вперед, держась, по обыкновению, грубовато. Он махнул рукой в сторону прохода за Тесниной, куда подошли передовые части персов. Враги уже начали распределять участки для наступления.
– Просто идите туда,– объявил он,– и повеселитесь! Собрание прорезал мрачный смех. Выступило еще несколько феспийцев. Они говорили еще короче спартанцев. Когда они закончили, вперед вышел Полиник.
– Человеку, воспитанному по законам Ликурга, нетрудно отдать жизнь за свою страну. Для меня и этих спартанцев, каждый из которых имеет живых сыновей и с детских лет знает, что таков будет его конец,– это просто акт исполнения воли богов.
Он торжественно повернулся к феспийцам, освобожденным оруженосцам и илотам.
– Но для вас, братья и друзья… для вас, кого нынешний день увидит погибшими навеки…
Голос бегуна прервался и затих. Он закашлялся и высморкался, вместо того чтобы вытереть слезы, которым отказывался дать выход. И еще долго потом олимпионик не мог продолжить речь. Полиник потянулся к своему щиту, ему его передали, и Всадник поднял его, чтобы показать всем.
– Этот аспис принадлежал моему отцу, а до него – его отцу. Я поклялся перед богами умереть, прежде чем кто-то другой заберет его у меня.
Полиник подошел к рядам феспийцев, к одному неприметному воину. И вложил щит ему в руки.
Тот взял его, глубоко тронутый, и подарил Полинику свой. 3а этим последовал другой обмен, потом еще один, и еще двадцать, и тридцать щитов перешли из рук в руки. Другие обменивались доспехами и шлемами с освобожденными оруженосцами и илотами. Черные феспийские плащи и алые лакедемонские так перемешались, что два народа уже было не различить.
Воины стали звать Диэнека. Им хотелось какого-нибудь мудрого изречения, остроты, чего-нибудь краткого и лаконичного, чем он славился. Диэнек упирался. Понятно, ему не хотелось говорить.
– Братья, я не царь и не полководец. Я никогда не командовал чем-либо больше эномотии. Поэтому я скажу вам сейчас то же, что сказал бы собственным воинам. Я знаю страх, таящийся в каждом сердце. Не страх смерти, а того хуже, страх нерешительности и неудачи, страх проявить себя недостойно в этот последний час.
Его слова достигли цели – это можно было ясно прочесть на лицах внимающих воинов.
– Вот что сделайте, друзья. 3абудьте свою страну. 3абудьте своего царя. 3абудьте жену, и детей, и свободу. 3абудьте все идеи, пусть даже самые благородные, за которые вы якобы пришли биться сегодня. Действуйте во имя одного: сражайтесь за человека, стоящего рядом. Он – это всё, и всё заключено в нем. Вот и все, что я знаю. Вот и все, что могу вам сказать.
Диэнек закончил и вернулся на свое место. Сзади послышался шум, он пронесся по всем рядам. Вперед вышел спартанец Эврит. Это был тот самый человек, что потерял в бою зрение и был отправлен в деревню Альпены вместе с послом Аристодемом. Теперь Эврит вернулся – незрячий, но с оружием и в доспехах. Его вел его оруженосец. Ничего не сказав, спартанец протиснулся в пространство между рядами.
Воины, и так воспрянувшие мужеством, теперь ощутили новый прилив, и оно удвоилось.
Вперед вышел Леонид и снова взял скептрон командования. Он предложил феспийским командирам использовать эти последние мгновения, чтобы пообщаться со своими земляками, пока сам он поговорит наедине со спартанцами.
Воины двух городов разделились. Равных и свободных граждан Лакедемона осталось всего чуть более двухсот. Они собрались вокруг своего царя. Все знали, что Леонид не станет призывать к чему-то высокому – к свободе, законам или спасению Эллады от ярма тирана.
Вместо этого он в немногих ясных словах стал говорить о долине Эврота, о Парноне, Тайгете и пяти поселках без крепостных стен, которые составляли полис и содружество, называемые в мире Спартой. Через тысячу лет, сказал Леонид, через две, через три тысячи люди сотен еще не родившихся поколений, возможно, по каким-то своим делам будут приезжать в нашу страну.
– Они приедут, и, может быть, это будут заморские ученые или путешественники, движимые любопытством. Они захотят узнать, кто жил в этой стране раньше. Они осмотрят нашу равнину и пощупают камни нашего города. Что они узнают о нас? Их лопаты не откопают ни великолепных дворцов, ни храмов. Их кирки не откроют ни бессмертной архитектуры, ни шедевров искусства. Что же останется от спартанцев? Не мраморные или бронзовые памятники, а то, что мы делаем сегодня.
Из-за Теснины раздались звуки вражеских труб. Уже был ясно виден авангард персов, колесницы и вооруженный эскорт их царя.
– А теперь хорошо позавтракайте, друзья мои, потому что обедать все мы будем в подземном царстве.
КНИГА ВОСЬМАЯ ФЕРМОПИЛЫ
Глава тридцать пятая
Великий Царь собственными глазами видел вблизи великую доблесть, проявленную спартанцами, феспийцами и их оруженосцами и слугами в то последнее утро. Нет нужды перечислять ему все события той битвы. Я расскажу лишь о тех примерах, которые могли ускользнуть от внимания Великого Царя. Возможно, это прольет, согласно желанию Его Величества, свет на характер эллинов, которых он называл при Фермопилах своими врагами.
Самым выдающимся из всех и, бесспорно, превосходящим всех можно назвать лишь одного человека – спартанского царя Леонида. Как известно Великому Царю, главные силы персидского войска, выдвинувшиеся в предыдущие два дня по тропе из Трахина, не начинали атаки еще долго после полного восхода солнца. Час сражения настал ближе к полудню, хотя Десять Тысяч Бессмертных еще не появились в тылу греков. Леонид настолько презирал смерть, что все это время спал. Может быть, точнее сказать, он дремал – в такой беззаботной позе царь растянулся на земле, расстелив свой плащ, заложив ногу на ногу и сложив руки на груди, глаза накрыв соломенной шляпой, а голову беспечно примостив на чаше своего щита. Его можно было принять за мальчика, пасущего коз в сонной летней долине.
Из чего состоит природа царского сана? Что представляют собой его качества? Какие свойства этот сан придает тому, кто становится царем?
Помнит ли Великий Царь тот момент на склоне за Тесниной после того, как Леонид упал, пронзенный полудюжиной копий, лишенный зрения шлемом, проломившимся под ударом боевого топора? Его левая рука с привязанным к плечу разбитым щитом оказалась бесполезна, когда он в конце концов упал под напором врага. Помнит ли Великий Царь тот взрыв внутри убийственной давки, когда отряд спартанцев бросился прямо в пасть торжествующих врагов и отбросил их назад, чтобы отобрать тело своего царя? Я говорю не про первый раз. И не про второй, и не про третий. Про четвертый, когда спартанцев – и Равных, и Всадников, и недавно получивших свободу – осталось меньше сотни и они столкнулись со сплоченными тысячами врагов.
Я скажу Великому Царю, что такое царь. Царь – тот, кто не остается в своем шатре, когда его воины проливают кровь и гибнут на поле боя. Царь – тот, кто не обедает, когда его воины идут голодными, не спит, когда они несут дозор на стене. Царь – тот, кто не добивается преданности воинов с помощью страха и не покупает ее за золото. Он заслуживает их любовь потом на своей спине и страданиями, что переносит ради них. Самую тяжелую ношу царь поднимает первым и кладет последним. Царь не требует службы от тех, кого ведет за собой, он сам служит им. Он им служит, а не они – ему.
В последние мгновения перед началом сражения, когда ряды персов, и мидийцев, и саков, бактрийцев и иллирийцев, египтян и македонцев настолько приблизились к защитникам, что можно было различить их лица, Леонид прошел перед первыми рядами спартанцев и феспийцев и лично поговорил с каждым командиром. Когда он остановился рядом с Диэнеком, я стоял поблизости и слышал его слова.
– Ненавидишь их, Диэнек? – спросил царь товарищеским тоном, не спеша, как будто беседуя, и указал на персидских военачальников, различимых за оуденос хорион – ничейной полосой.
Диэнек без колебаний ответил:
– Нет. Я вижу лица, отмеченные благородством. Многих из них, я думаю, можно было бы поприветствовать аплодисментами и смехом за любым дружеским столом.
Леонид явно одобрил ответ моего хозяина. Однако глаза его словно бы омрачились печалью.
– Мне жаль их,– признался он, указывая на доблестных врагов, стоявших так близко.– Ведь что бы не отдали самые отважные из них, чтобы стоять сейчас среди нас?
Вот это – царь. Он не тратит свое состояние, чтобы поработить людей. Напротив, его поведение и личный пример делают их свободными. Великий Царь может спросить, как спрашивали Петух и госпожа Арета, зачем такому, как я, чье положение лишь с большим преувеличением можно высокопарно назвать «службой», а точнее было бы именовать и рабством», зачем человеку в таких условиях умирать – за чужих людей, за чужую страну? Ответ таков: они не были мне чужими, Я бы с радостью отдал жизнь, и стократно отдал бы ее снова – за Леонида, Диэнека и Александра, и Полиника, и Петуха, и Самоубийцу, за Арету и Диомаху, Бруксия и моих собственных мать и отца, за мою жену и детей. Я и все остальные никогда не были свободнее, чем в те часы, когда мы добровольно подчинились тем суровым законам, что отбирают жизнь и снова возвращают ее.
Все события состоявшегося сражения я считаю ничем, потому что сражение в его глубочайшем смысле закончилось еще до того, как началось. Я прислонился к Стене и спал сидя, следуя примеру Леонида, пока все мы ждали час, и еще час, и еще час, когда войско Великого Царя придет в движение.
В дреме я снова оказался на холмах над городом моего детства. Я был уже не мальчиком, а взрослым. Там же была моя двоюродная сестра, но она по-прежнему оставалась девочкой, и наши собаки, Удача и Счастье, выглядели в точности так же, какими были в дни после разорения Астака. Диомаха погналась за зайцем и с необычайной ловкостью карабкалась, босая, на склон, который словно бы вздымался до небес. Наверху ждал Бруксий, а с ним – мои мать и отец. Впрочем, я понимал, что не могу их видеть. Я тоже побежал, стремясь со своей взрослой силой обогнать Диомаху. Но не смог. Как быстро я ни взбирался, она оставалась недосягаемой, все время впереди, весело окликая меня и дразня.
Я вздрогнул и проснулся. Менее чем в полете стрелы от меня стояли персы.
Леонид решительно встал на ноги. Диэнек, как всегда, занял позицию перед своей эномотией, которая построилась в три шеренги по семь щитов, шире и тоньше, чем в предыдущие дни. Мое место было третье во второй колонне. Впервые в жизни я оказался без лука, а сжимал в правой руке тяжелое древко копья, которое до меня принадлежало Дориону. На моей левой руке был дубовый с бронзовой оковкой аспис, принадлежавший раньше Александру. Шлем у меня на голове принадлежал раньше Лахиду, а шапочка под ним – оруженосцу Аристона Демаду.
– Смотреть на меня! – пролаял Диэнек, и воины, как всегда, оторвали взгляд от врага, который выдвинулся так близко, что мы уже видели глаза воинов под ресницами и просветы между их зубами. Врагов было несметное множество. Мои легкие с шумом втянули воздух, кровь билась в висках. Я чувствовал пульс в сосудах глаз. Мои руки и ноги окаменели, я их не ощущал. Я молился всеми фибрами души, просто чтобы набраться мужества и не упасть. Слева от меня стоял Самоубийца. Впереди – Диэнек.
И наконец начался бой, который был похож на приливную волну, ведомую лишь бурными капризами богов. Эта волна то вздымалась, то опадала, ожидая, когда фантазия Бессмертных велит ей затихнуть. Время исчезло. Стихии слились. Помню один всплеск, бросивший спартанцев вперед, когда они погнали врагов десятками в море, и другой, который откинул фалангу назад, как лодки, борт к борту гонимые неодолимым штормом. Помню, как мои ноги, изо всех сил упертые в землю, заскользили в крови и моче, как будто я катился с ледяной горы, обернув подошвы овечьей шкурой. Под напором врага меня повлекло назад.
Я видел, как Алфей, одной рукой ухватившись за персидскую колесницу, убил военачальника, возницу и двоих телохранителей, стоявших по бокам. Когда он упал с пронзенным персидской стрелой горлом, Диэнек оттащил его назад. Но Алфей встал и продолжал сражаться. Я видел, как Полиник и Деркилид вынесли тело Леонида, схватившись безоружными руками за верхние края разбитого царского металлического пояса и колотя врага щитами. Спартанцы восстановили строй и стали давить на противника, их опрокинули и смяли, но они снова восстановили строй. Я убил одного египтянина шипом на нижнем конце моего сломанного копья, когда он воткнул свое мне в кишки. Спустя мгновение я упал под ударом боевого топора, переполз через труп какого-то спартанца и только тут узнал под прорубленным шлемом рассеченное лицо Алфея.
Самоубийца вытащил меня из кучи тел. Наконец показались и Десять Тысяч Бессмертных, они наступали в безупречном боевом порядке, завершая свой маневр. Все, что осталось от спартанцев и феспийцев, опрокинулось с равнины в Теснину и просочилось сквозь ворота в Стене к последнему оплоту на пригорке.
Союзников осталось так мало и их оружие было так изломано, что персы дерзнули пустить в атаку конницу, как при добивании бегущего противника. Самоубийца упал. Его правая ступня была отрублена.
– Подсади меня себе на спину! – велел он.
Без лишних слов я понял, что это означало. Я слышал, как стрелы и дротики впивались в его плоть, защищавшую меня.
Я увидел, что Диэнек еще жив. Он отбросил сломанный ксифос и искал в грязи другой. Мимо меня промелькнул Полиник, он тащил за собой хромающего Теламония. Половина лица бегуна была срублена, и на обнаженные кости скулы хлестала кровь.
– Куча! – кричал он, имея в виду резервное хранилище оружия, которое Леонид приказал устроить за Стеной.
Я чувствовал, как ткани моего живота рвутся и начинают вываливаться кишки. Самоубийца безжизненно повис у меня на спине. Я повернулся назад, к Теснине. Тысячи персидских и мидийских лучников пускали тучи бронзовых стрел вслед отступавшим спартанцам и феспийцам. Тех, кто добрался до кучи оружия, трепало, как флажки на ураганном ветре.
3ащитники прохода взобрались на пригорок, где был подготовлен последний запас оружия. Их осталось не больше шестидесяти. Деркилид, как это ни удивительно, нераненый, построил уцелевших в круг. Я нашел ремешок и перетянул им рану, чтобы не вываливались кишки. На мгновение меня поразила невозможная красота наступившего дня. На этот раз никакая дымка не затеняла проход, можно было различить каждый камешек на противоположных холмах и проследить одну за другой звериные тропы на склонах.
Я увидел, что Диэнек закачался от удара топором, но у меня не было сил приблизиться к нему. Мидийцы и персы, бактрийцы и саки уже не просто текли через Стену, а, как безумные, расхватывали ее камень за камнем. Я видел лошадей по ту сторону Стены. Вражеским командирам уже не требовались хлысты, чтобы гнать своих людей вперед. По разбитым камням Стены прогремели копытами всадники Великого Царя, а за ними грохотали чванливые колесницы его полководцев.
Бессмертные уже окружили пригорок и, не целясь, засыпали стрелами спартанцев и феспийцев, пригнувшихся под ненадёжным прикрытием своих разбитых и продырявленных щитов. Деркилид возглавил атаку на персов. Я видел, как он упал; повалился и сражавшийся рядом с ним Диэнек. Насколько я видел, ни у того, ни у другого не было ни щитов, ни какого-либо оружия. Они ринулись вниз не как гомеровские герои, шумно гремя своими панцирями, а как командиры, завершающие свою последнюю и самую грязную работу.
Враги стояли, неуязвимые за мощным заслоном своих стрел, но спартанцы каким-то образом добрались до них. Они сражались без щитов, одними мечами, а потом – голыми руками и зубами. Полиник бросился на какого-то военачальника. Бегун сохранил свои ноги. Он так быстро пересек пространство у подножия пригорка, что его руки успели вцепиться врагу в горло, прежде чем шквал персидских стрел разорвал в клочки его спину.
Последними несколькими дюжинами на пригорке теперь командовал Дифирамб. Его руки, утыканные стрелами, повисли вдоль туловища, а он пытался выстроить боевой порядок для последней атаки, но колесницы и персидская конница врезались в спартанский строй. Одна охваченная огнем колесница переехала мне ноги. Перед полностью окруженными на пригорке греками Бессмертные построили своих лучников. Их стрелы разили последних – безоружных и израненных – воинов. Из тыла другие лучники пускали залпы через головы своих товарищей. Спины и животы эллинов щетинились оперенными древками стрел, и изорванные в клочья воины распластались бронзово-алыми штабелями.
Ухо различало крикливые приказы Великого Царя – так близко расположился он в своей колеснице. Призывал ли он прекратить стрельбу, чтобы захватить последних защитников живьем? Кричал ли на египетских пехотинцев под командованием Птаммитеха, которые пренебрегли монаршим повелением и поспешили одарить спартанцев и феспийцев последним смертельным благодеянием? Это было невозможно понять в сутолоке. Египетские пехотинцы расступились. Ярость персидских лучников удвоилась, бесчисленными стрелами они старались погасить жизнь последних упрямых врагов, которые заставили их так дорого заплатить за этот ничтожный клочок грязной земли.
Случается, что гроза с градом приходит с гор в неурочное время года и обрушивает с небес свою ледяную дробь на только что пробившиеся крестьянские всходы. Так мириады персидских стрел обрушились на спартанцев и феспийцев. Крестьянин тревожно стоит в дверном проеме, слушая стук по крыше и глядя, как куски льда отскакивают от мощенной камнем дорожки. Как там всходы ячменя? 3десь и там виднеются отдельные чудом уцелевшие ростки, они еще поднимают голову. Но крестьянин знает, что это милосердие ненадолго. И отворачивается, покоряясь воле капризных богов, а снаружи под ударами бури ломается и падает последний колосок.
Глава тридцать шестая
Так закончили свою жизнь Леонид и защитники Фермопильского прохода, по рассказу грека Ксеона, записанному историком Великого Царя Гобартом, сыном Артабаза, и законченному в четвертый день месяца арахсамну на пятый год после Восшествия Великого Царя на трон.
Эта дата, по горькой иронии Ахуры-Мазды, совпала с тем днем, когда морские силы Персидской Державы потерпели сокрушительное поражение от эллинского флота в Саламинском проливе близ Афин. Эта катастрофа унесла бесчисленное множество жизней доблестных сынов Востока, а ее последствия привели к неудаче всей кампании.
То, что оракул Аполлона ранее возвестил афинянам, объявив:
«Только деревянная стена не подведет вас»,
оказалось роковой правдой. Стена, защитившая Элладу, оказалась не деревянным частоколом Афинского Акрополя, так быстро захваченного силами Великого Царя, а стеной корабельных бортов, которые нанесли смертельный удар притязаниям Великого Царя. Величие бедствия заглушило рассуждения пленника Ксеона и само его повествование. В хаосе поражения все заботы о пленном греке были забыты. Все врачи службы Царского лекаря поспешили на берег напротив Саламина, чтобы оказать помощь раненым из персидской армады, выброшенным на берег среди обуглившихся и разбитых обломков своих боевых кораблей.
Когда темнота положила конец побоищу, огромный страх охватил лагерь Великой Державы. Страх перед гневом Великого Царя. Согласно моим заметкам, столько придворных было подвергнуто мечу, что чиновники из Службы историка умоляли уволить их от записи всех имен.
Страх охватил шатер Великого Царя. Он усилился не только великим толчком, сотрясшим город в час захода солнца, но также безумным видом военного лагеря, стоящего внутри разрушенных и еще дымящихся Афин. Посреди второй стражи полководец Мардоний закрылся в палатах Великого Царя и запретил входить кому-либо еще. Историк Великого Царя сумел получить лишь самые скудные инструкции по ведению ежедневных записей. Получив приказ уйти, я запоздало спросил, не будет ли распоряжений касательно грека Ксеона.
– Убей его,– без колебаний ответил полководец Мардоний,– и сожги все листы того сборника лжи, записывать которую было глупостью с самого начала. Одно упоминание о нем в такой час вызовет у Великого Царя лишь новый приступ гнева.
Несколько часов меня занимало исполнение других обязанностей. Покончив с ними, я стал разыскивать Оронта, командира Бессмертных. Его обязанностью было выполнить это указание Мардония. Я нашел его на берегу моря. Он, очевидно, пребывал в состоянии полного опустошения, отягощенный печалью поражения: Тяжело полководцу, который ничем не может помочь своим воинам и которому остается одно – вытаскивать их тела из воды. Однако Оронт собрался с духом и направил свое внимание на насущные дела.
– Если ты хочешь утром найти свою голову на плечах,– сказал командир Бессмертных, когда я сообщил ему о приказе полководца,– сделай вид, что не видел Мардония и не слышал его слов.
Я возразил, что приказ исходил от имени Великого Царя. Такой приказ оставлять без внимания.
– Нельзя, вот как? Интересно, что скажет этот полководец завтра или через месяц, когда его приказание будет выполнено, а Великий Царь пошлет за тобой и по желает видеть того грека и записи? Я скажу тебе, что произойдет,– продолжал Оронт.– Даже теперь в палатах Великого Царя Его советники и министры настаивают, чтобы Царственная Особа удалилась из Греции, чтобы Он на корабле отплыл в Азию. И на этот раз, я думаю, Он проявит большую осмотрительность.
Оронт выразил уверенность, что Великий Царь прикажет основным силам оставаться в Элладе под командованием Мардония, чтобы тот завершил завоевание Греции от Его имени. После того как эта задача будет выполнена, Великий Царь объявит о Своей победе, и в блеске того триумфа сегодняшний разгром будет забыт.
– Тогда в наслаждении победы,– продолжал Оронт, Великий Царь потребует записи рассказов этого грека Ксеона – на сладкое к победному пиру. Если мы с тобой явимся перед Его Величеством с пустыми руками – кто из нас укажет пальцем на Мардония и кто поверит нашим уверениям в собственной невиновности?
Я спросил командира Бессмертных, что же нам делать.
Сердце Оронта разрывалось. Память подсказывала, что он под началом Гидарна возглавлял Бессмертных в ночном походе у Фермопил и проявил необычайную доблесть при последнем утреннем штурме, сойдясь со спартанцами в рукопашной. Выпущенные Оронтом стрелы были среди тех, что убили последних защитников, и, возможно, именно он сразил тех самых людей, о которых говорил пленный Ксеон.
Оронт помнил об этом, и это знание лишь усиливало его нежелание причинять вред пленнику. В греке Ксеоне он, очевидно, признал сотоварища-воина и даже, теперь это можно утверждать,– друга.
Несмотря на все эти противоречивые чувства, Оронт призвал себя к порядку. Он приказал двоим из Бессмертных удалить грека из шатра Царского лекаря и положить в служебный шатер Бессмертных. Спустя несколько часов, заполненных другими делами, он и я пришли на это новое место. Мы вошли вместе. Этот человек, Ксеон, находился в сознании и сидел на своих носилках, хотя выглядел осунувшимся и ослабшим.
Он, очевидно; догадался о цели нашего прихода и как будто обрадовался.
– Подходите,– проговорил грек, прежде чем я и Оронт успели огласить нашу миссию.– Чем я могу помочь вам? Для свершения казни не понадобится клинок,– объявил он.– Полагаю, прикосновения перышком будет достаточно, чтобы выполнить вашу работу.
Оронт спросил у грека Ксеона, понимает ли тот все значение морской победы, что в этот день одержали его земляки. Пленник подтвердил – понимает. Однако он выразил мнение, что война еще далека от завершения. Исход ее все еще очень сомнителен.
Оронт признался в своей крайней неохоте выполнять приговор и заявил, что в свете настоящего беспорядка будет совсем нетрудно вынести раненого из лагеря незамеченным. Остались ли у него, спросил Оронт, друзья или соотечественники в Аттике, к которым можно его доставить?
Пленник улыбнулся.
– Ваше войско отлично поработало, чтобы удалить таковых,– ответил он.– И кроме того, Великому Царю понадобятся все Его воины, чтобы вынести отсюда более важные вещи.
И все же Оронт искал всякого повода отложить время казни.
– Раз уж ты ничего не просишь у нас,– сказал он пленнику,– могу ли я в таком случае обратиться к тебе с просьбой?
Грек ответил, что с радостью исполнит все, что еще осталось в его силах.
– Ты обманул нас,– со смущенным видом объявил Оронт,– лишив истории, которую твой хозяин, спартанец Диэнек, по твоим же словам, обещал рассказать, когда, они с Александром и Аристоном обсуждали предмет страха. Помнишь? Он прервал беседу юношей, пообещав, что, когда они придут к Горячим Воротам, он расскажет им о Леониде и госпоже Паралее, поведает, что такое мужество и каким критерием пользовался спартанский царь при выборе Трехсот. Или Диэнеку так и не удалось рассказать об этом?
Да, подтвердил пленник Ксеон, его хозяин нашел возможность и поделился своим рассказом. Однако теперь, когда приказ Великого Царя записывать его историю больше недействителен, пусть командир Бессмертных ответит: на самом ли деле ему хочется узнать продолжение?
– Мы, кого ты считаешь врагами, тоже люди из плоти и крови,– ответил Оронт,– и наши сердца не менее способны на преданность, чем твое. Неужели тебя не поразило, что мы – историк Великого Царя и я, его полководец, пришли сюда, чтобы позаботиться о тебе не только как о пленнике, который сообщает ценные сведения о битве, но как о человеке и даже о друге?
И Оронт попросил как о милости поведать окончание истории. Он сказал, что с живым интересом и сочувствием следил за предшествующими частями повествования. Теперь же, когда конец близок, не расскажет ли грек и последнюю часть?
– Что хотел спартанский царь сказать о женском мужестве и как Диэнек пересказал это своим молодым друзьям?
Этот человек, Ксеон, с усилием оперся на локоть и, с нашей помощью, уселся. Собрав все силы, он набрал в грудь воздуха и начал:
Я поделюсь с вами этой историей, друзья мои. Я передам ее так, как мой хозяин передавал ее мне, Александру и Аристону у Горячих Ворот,– не от себя лично, а со слов госпожи Паралеи, матери Александра, которая рассказала ее Диэнеку и госпоже Арете всего через несколько часов после того, как эта история случилась.
Госпожа Паралея рассказала об этом за три или четыре дня до нашего выхода из Лакедемона в поход к Горячим Воротам, вечером. Для этого госпожа Паралея отправилась лично в дом Диэнека и Ареты и взяла с собой несколько других женщин. Все они были матерями и женами воинов, включенных в число Трехсот. Никто из этих женщин не знал, что хочет сказать госпожа. Мой хозяин нашел повод уйти, чтобы гостьи могли посекретничать, однако Паралея попросила его остаться. Ему тоже следует услышать это, сказала она. Женщины расселись вокруг нее, и она начала:
«То, что я расскажу вам сейчас, Диэнек, ты не должен рассказывать моему сыну. По крайней мере, пока вы не придете к Горячим Воротам и пока не наступит подходящий момент. Этот момент может наступить, если такова будет воля богов, в час твоей или его смерти. Ты поймешь, когда он придет. А теперь слушайте внимательно. В то утро меня вызвал к себе царь. Я сразу же явилась во двор перед его домом. Пришла я рановато – Леонид еще не вернулся, он был занят организацией похода. Его царица Горго, однако, ожидала меня на скамейке в тени платана – очевидно, с умыслом. Она подозвала меня и предложила сесть. Мы были одни, без слуг и свиты.
«Ты гадаешь, Паралея,– начала Горго,– зачем мой муж послал за тобой. Я скажу тебе. Он хочет обратиться к твоему сердцу. Ему кажется, ты чувствуешь несправедливость его выбора, причинившего тебе двойное горе. Он прекрасно понимает, что, включив в число Трехсот Олимпия и Александра, обоих, он ограбил тебя дважды, лишая и сына, и мужа и оставляя лишь младенца для продолжения твоего рода. Он поговорит с тобой об этом, когда вернется. Но сначала я должна поговорить с тобой начистоту, как женщина с женщиной».
Очень еще молода наша царица, высока и прелестна, но тень дерева придавала ей печальный вид.
«Когда-то я была дочерью царя, а теперь я жена другого царя,– сказала Горго.– Женщины завидуют моему положению, но немногие понимают, как тяжелы мои обязанности. Царица не может быть просто женщиной, как другие. Она не может иметь просто мужа и детей – для себя одной, как другие жены и матери. Ее муж и сыновья живут, чтобы служить стране. Царица служит им, сердцу своих сограждан, а не себе и не своей семье. А теперь и ты, Паралея, призвана в это суровое сообщество. Ты должна занять свое место рядом со мной в этом горестном строю. Таково женское испытание и таково женское торжество, назначенные богами,– терпеть боль, превозмогать горе, идти под ярмом печали и таким образом придавать мужества другим».
От этих слов царицы, признаюсь тебе, Диэнек, и вам, женщины, мои руки так затряслись, что я испугалась, как бы не утратить власти над ними. Не только от предвидения беды, но также и от гнева, слепой горькой злобы на Леонида, на то бессердечие, с которым он влил двойную долю печали в мою чашу. «Почему я?» – в злобе кричало мое сердце. Но вот во дворе послышался звук открывающихся ворот, и через мгновение вошел сам Леонид. Он только что вернулся от войск и теперь нес в руке запыленную обувь. 3астав жену и меня за доверительной беседой, он сразу догадался о предмете нашего разговора.
Извинившись за опоздание, царь сел, поблагодарил меня за пунктуальность и спросил о моем больном отце и других родственниках. Он имел тысячу других забот о войске и государстве; он понимал неминуемость собственной гибели, знал, что расстается навек с любимой женой и детьми. И все же он сел на скамейку и, прогнав из головы все прочие мысли, с сосредоточенным вниманием обратился ко мне одной.
«Ты ненавидишь меня, госпожа? – таковы были его первые слова.– На твоем месте, я бы ненавидел. Мои руки сейчас тряслись бы от неумолимой злобы.– Он освободил место рядом с собой на скамейке.– Сядь сюда, дочка. Сядь рядом».
Я подчинилась. Госпожа Горго слегка подвинулась. Я ощутила запах царского пота и теплоту его тела, как в детстве ощущала их рядом с отцом, когда он звал меня на свой совет. И снова сердце мое переполнилось печалью и злобой, угрожая выйти из повиновения. Чтобы подавить эти чувства, мне пришлось собрать все мои силы.
«Город размышляет и гадает,– снова заговорил Леонид,– почему я выбрал в число Трехсот именно этих. 3а их личную воинскую доблесть? Как могло получиться, что наряду с олимпийскими победителями, вроде Полиника, Диэнека, Алфея и Марона, я также назвал не изведавших крови юношей, таких, как Аристон и Александр? Возможно, предположили горожане, я предугадал какую-то тонкую мистическую силу в этом уникальном соединении людей. Возможно, меня подкупили или я отплачиваю кому-то за услугу. Я никогда не скажу городу, почему я выбрал именно этих триста. И никогда не скажу самим Тремстам. Но скажу сейчас тебе. Я отобрал их не за их личную доблесть, а за доблесть их женщин».
При этих словах царя из моей груди вырвался крик, поскольку я заранее поняла, что он скажет дальше. И тут я ощутила у себя на плече его руку.
«Для Греции настал самый грозный час. Если она спасется, это случится не у Ворот, а позже, в еще грядущих битвах, морских и наземных. Тогда Греция, если такова будет воля богов, защитит себя. Вы понимаете это, женщины? Ладно. Теперь слушайте. Когда битва закончится, когда Триста погибнут, тогда вся Греция обратит свой взор на спартанцев, чтобы посмотреть, как они перенесли это. Но кто же, кто будут эти спартанцы, на кого станут смотреть все прочие эллины? На вас. На вас и других жен и матерей, сестер и дочерей павших. Если они заметят, что ваши сердца разрываются, что вы сломлены горем, то и остальные тоже не выдержат. И Греция не выстоит, она рухнет вместе с ними. Но если вы перенесете горе с сухими глазами, если вы не только переживете свою утрату, но с презрением обуздаете горе во всей его тяжести и воспримете его как честь,– тогда Спарта устоит. И за нею устоит вся Эллада. Почему я избрал тебя, госпожа, для этого самого тяжелого испытания, тебя и твоих сестер из числа Трехсот? Потому что ты можешь справиться с ним».
С моих губ сорвались слова упрека царю: «И такова твоя награда за женскую добродетель, Леонид? Быть наказанной вдвойне и нести двойное горе?»
В это мгновение госпожа Горго придвинулась ко мне с утешением. Но Леонид отстранил ее. По-прежнему удерживая мое плечо теплой рукой, он ответил:
«Моя жена потянулась к тебе, чтобы прикосновением разделить с тобой бремя, которое сама она без жалоб несет всю жизнь. Ей никогда не разрешалось быть просто женой Леонида, ей всегда приходилось быть женой Лакедемона. Теперь это и твоя доля, госпожа. Отныне тебе не быть женой Олимпия или матерью Александра, ты должна служить женой и матерью нации. Ты и твои сестры по Тремстам теперь матери всей Греции и самой свободы. Это суровый долг, Паралея, к которому я призвал собственную любимую жену, мать моих детей, а теперь призвал и тебя. Скажи мне, госпожа: я не прав?»
При этих словах царя самообладание покинуло мое сердце. Я разрыдалась. Леонид ласково прижал меня к себе, и я зарылась лицом ему в грудь, как девочка отцу, и рыдала, рыдала, не в силах остановиться. Царь крепко держал меня, но его объятия не были суровыми, в них чувствовалась нежность и утешение.
Как во время лесного пожара, когда огонь опустошил весь склон и сам себя сжег, так перегорел и мой прилив горя. На меня снизошел покой, словно дар, который я черпала не только от этой сжимавшей меня сильной руки, но из какого-то более глубокого источника, несказанного и чудесного. В мои колени вернулись силы, а в сердце – мужество. Я встала перед царем и вытерла глаза. И обратилась к нему, словно бы не по собственной воле, но побуждаемая какой-то невидимой богиней, чью природу и происхождение я не могу назвать:
«Это были последние слезы, господин мой, которые солнце увидит от меня».
Глава тридцать седьмая
Таковы были последние слова, произнесенные пленником Ксеоном. Его голос затух, и признаки жизни быстро исчезли. Спустя несколько мгновений он лежал недвижимый и похолодевший. Его бог использовал его до конца и вернул наконец в то состояние, к которому сам он так стремился,– Феб-Стреловержец вновь соединил Ксеона с его товарищами в подземном царстве.
Прямо мимо шатра Оронта, гремя доспехами с шумом покидали город боевые части Великого Царя. Оронт приказал вынести тело этого человека, Ксеона, на носилках из шатра. Повсюду царил хаос. Оронт задержался, занятый своими делами; необходимость уходить с каждым мгновением делалась все настоятельнее.
Великий Царь помнит состояние полного разброда, царившее в то утро. Многочисленные бандиты и негодяи, отбросы афинского общества, рыскали по улицам, подобно хищникам. Теперь они обнаглели до того, что даже стали проникать на окраины лагеря Великого Царя. Эти подонки хватали все, на что могли наложить лапу. Когда наш отряд вышел на мощенную булыжником улицу, прозванную афинянами Священной Дорогой, младшие чины стражи Великого Царя вели мимо шайку этих проходимцев.
К моему удивлению, Оронт, поприветствовав блюстителей порядка, приказал им освободить преступников под его ответственность, а самим убираться. 3лодеев было трое, и они находились в самом хамском расположении духа, какое только можно представить. Выстроившись перед Оронтом и другими командирами Бессмертных, они явно ожидали, что их казнят на месте. Мне было велено переводить.
Оронт спросил у этого отребья, афиняне ли они. Не граждане, ответили те, но живущие в городе. Оронт указал на тряпку, в которую было завернуто тело человека по имени Ксеон.
– Вам известно, что это за одежда?
Старший из негодяев, которому не было и двадцати, ответил, что это алый лакедемонский плащ, какие носят лишь спартанские воины. Очевидно, никто из этих мародеров не мог себе объяснить, откуда здесь, в распоряжении персидских врагов, взялось тело этого человека, эллина.
Оронт стал допрашивать мерзавцев дальше. 3нают ли они в морском пригороде Фалероне место, известное как святилище Персефоны Окутанной?
Головорезы ответили утвердительно.
К моему еще большему удивлению, а также к удивлению остальных командиров, Оронт достал из кошелька три золотых дарика – каждый составлял месячное жалованье пехотинца – и протянул это богатство подонкам.
– Отнесите тело этого человека в тот храм и оставайтесь там, пока не вернутся жрицы. Они поймут, что с ним делать.
Тут один из командиров Бессмертных разразился протестом:
– Господин, посмотри же на этих негодяев! Настоящие свиньи! Вложи золото им в руку, и они сбросят человека вместе с носилками в ближайшую канаву.
Для споров не оставалось времени. Оронту, мне и командирам следовало поспешить на свои места. Оронт задержался на кратчайшее мгновение и повнимательнее рассмотрел лица трех мошенников.
– Вы любите свою страну? – спросил он. Вызывающее выражение на лице подонков ответило за них.
Оронт указал на тело, распростертое на носилках. – Этот человек своей жизнью защитил ее. Несите его с честью.
Там мы его и оставили, тело спартанца Ксеона, и вскоре нас унесло неудержимым потоком отступления.
Глава тридцать восьмая
В отношении того человека и рукописи осталось добавить лишь два последних замечания, что наконец приведет его историю к завершению. Как и предсказывал Оронт, Великий Царь отбыл на корабле в Азию, оставив в Греции под командованием Мардония лучшие части своего войска, около трехсот тысяч, в том числе и самого Оронта с Десятью Тысячами Бессмертных. Им было приказано перезимовать в Фессалии и продолжить боевые действия, когда время повернет к весне. С наступлением весны, поклялся Мардоний, неодолимая сила войск Великого Царя раз и навсегда приведет к повиновению всю Элладу. Я тоже остался в расположении войска – исполнять должность историка.
Наконец весной сухопутные войска Великого Царя встретились с эллинами в сражении на равнине близ греческого города Платеи, на северо-западе от Афин, в дне ходьбы оттуда.
Против трехсот тысяч персов, мидийцев, бактрийцев, индусов, саков и эллинов призванных под знамена Великого Царя, выступили сто тысяч свободных греков. Это были их главные силы, в которые вошло все спартанское войско – пять тысяч Равных и лакедемонские периэки, вооруженные оруженосцы и илоты общим числом до семидесяти пяти тысяч. На фланге выступило тяжеловооруженное пешее ополчение пелопоннесских союзников Спарты – тегейцев..В силы общеэллинского войска также влились менее многочисленные отряды из дюжины других греческих городов, самый выдающийся из которых составили афиняне – до восьми тысяч.
Не стоит пересказывать подробности разгрома – так печально известны они Великому Царю; не стоит также упоминать подробности страшных потерь цвета Державы от голода и болезней во время долгого отступления в Азию. Достаточно сказать, что все предсказанное человеком по имени Ксеон сбылось. Наши воины снова увидели ряд букв «лямбда» на лакедемонских щитах, но на этот раз ряд составляли не пятьдесят или шестьдесят щитов, как в ущелье у Горячих Ворот, а десять тысяч в ряд и восемь вглубь. Неколебимый вал бронзы и алых плащей, как и описывал Ксеон. И снова мужество персидских воинов не устояло против доблести и великолепной дисциплины лакедемонских бойцов. По моему мнению, никакое войско под небесами, как бы многочисленно оно ни было, не могло противостоять их атаке в тот день.
Когда побоище уже завершалось, место историка за персидским частоколом захватили две сотни илотов. По приказу спартанского главнокомандующего Павсания они не брали пленных и начали беспощадно резать всех уроженцев Азии, кто попадал им под руку. В этом критическом положении я бросился вперед и стал кричать по-гречески, умоляя захватчиков пощадить наших людей.
Однако греки хранили такой страх перед многочисленностью Востока, даже смятого и разбитого, что никто не прислушался и не остановился. Набросились и на меня и над моим горлом занесли клинок. Вдохновленный, наверное, богом Ахурой-Маздой, а может быть, одним только ужасом, я стал по памяти выкрикивать имена спартанцев, о которых говорил человек по имени Ксеон. Леонид. Диэнек. Александр. Полиник. Петух. И вдруг воины-илоты убрали свои мечи.
Резня прекратилась.
Появившиеся командиры-спартиаты восстановили порядок в толпе вооруженных илотов. Меня поволокли вперед, связали руки и швырнули на землю перед одним спартанцем, великолепного вида воином. Его плоть еще дымилась от крови и пламени побоища. Илоты сообщили ему имена, которые я выкрикивал. Воин навис над моей согбенной, коленопреклоненной фигурой и сурово посмотрел на меня.
– 3наешь, кто я? – спросил он. Я ответил, что не знаю.
– Я Дектон, сын Идотихида. Это мое имя ты назвал, когда крикнул «Петух».
3десь справедливость вынуждает меня заявить, что скромное описание Петуха пленником Ксеоном ни в коей мере не отразила истинной внешности этого человека. Стоявший надо мной воин представлял собою великолепный образец мужчины в расцвете молодости и силы. Высоченный и статный, он обладал огромным человеческим обаянием, а благородство его черт говорило о высоком происхождении. Просто диво, что он происходил из самых низов.
Теперь я стоял на коленях, отданный во власть этого человека, и умолял его о пощаде. Я рассказал ему о Ксеоне, чудесно спасшемся после сражения при Фермопилах, о его возвращении к жизни трудами службы Царского лекаря и о его рассказе, благодаря которому я, записывающий его, узнал имена спартанцев, которые выкрикивал.
Вокруг моей коленопреклоненной фигуры уже собралось с дюжину других спартиатов. Все они как один с презрением поносили не виденную ими рукопись и назвали меня лжецом.
– Какую выдумку о персидском героизме ты состряпал из своих фантазий, писец? – спросил один из них. Сплел ковер лжи, чтобы польстить своему царю?
Другие заявили, что хорошо знали человека по имени Ксеон, оруженосца Диэнека. Как я посмел упоминать его имя и имя его благородного хозяина в подлой попытке спасти собственную шкуру?
Все это время Дектон по прозвищу Петух молчал. Когда ярость остальных иссякла сама по себе, он со спартанской краткостью задал мне лишь один вопрос: где последний раз видели человека по имени Ксеон?
– Его тело персидский командир Оронт с почетом отправил в афинский храм, называемый эллинами храмом Персефоны Окутанной.
Тут спартанец Дектон милосердно поднял руку: – Этот чужак говорит правду.
Он подтвердил, что прах его товарища Ксеона доставила в Спарту жрица того самого храма за несколько месяцев до нынешнего сражения.
Когда я услышал это, сила покинула мои колени. Я осел на землю. Итак, все кончено – мысль о нашем крушении подкосила меня. Какая ирония богов! Теперь я стою на коленях перед спартанцами, побежденный и покоренный, как некогда стоял тот человек, Ксеон, перед персидскими воинами.
Полководец Мардоний погиб в сражении при Платеях, погиб и Оронт.
Но спартанцы поверили мне, и моя жизнь была спасена. Почти месяц меня держали при Платеях под охраной эллинских союзников, обращались со мной предупредительно и вежливо, а потом послали в качестве пленного переводчика в Союзный Совет.
В конечном счете, рассказ пленника Ксеона сохранил мне жизнь.
Хочу сказать еще несколько слов о сражении. Великий Царь, может быть, помнит имя Аристодем. Человек по имени Ксеон несколько раз упоминал этого спартанского командира как посла, а потом – в числе Трехсот у Горячих Ворот. Среди Равных уцелел лишь он один. Он почти не видел, и его отправили в тыл.
По возвращении Аристодема живым в Спарту ему пришлось немало вытерпеть от своих сограждан за трусость. С ним обращались, как с трезанте – «убоявшимся». Теперь, при Платеях, перед ним открылась возможность реабилитировать себя, и он проявил выдающийся героизм, превзойдя всех на поле боя, словно стремился навсегда искоренить свой прошлый позор.
Спартанцы, однако, с презрением отказали Аристодему в награде за отвагу и отличили троих других воинов – Посидония, Филокиона и Амомфарета. Военачальники сочли героизм Аристодема безрассудным и ложным, когда он, охваченный кровавым безумием, сражался впереди строя. Он слишком очевидно искал смерти на глазах у товарищей, желая искупить свой позор. А отвагу Посидония, Филокиона и Амомфарета они сочли наивысшей – отвагой воинов, которые хотят остаться в живых и тем не менее сражаются великолепно.
Возвращаюсь к моей собственной судьбе. Меня продержали в Афинах два лета. Я служил по мере сил переводчиком и писцом, что позволило мне стать непосредственным свидетелем имевших место необычайных и беспрецедентных преобразований.
Разрушенный город восстал из пепла. С удивительной быстротой были вновь отстроены стены и порт, здания собраний и торговые дома, суды и правительственные учреждения, и жилые дома, и лавки, и рынки, и ремесленные мастерские. Теперь иной пожар пожирал всю Элладу и, в частности, город Афины – огонь дерзости и самоуверенности. Казалось, сама рука небес возложила благословение на плечи каждого, навеки изгнав из людей робость и нерешительность: В одночасье греки захватили подмостки судьбы. Они разбили самое могучее войско, какое когда-либо существовало под небесами. Неужели какое-то меньшее предприятие теперь устрашит их? На что они решатся теперь?
Афинский флот прогнал корабли Великого Царя обратно в Азию, очистив Эгейское море. Торговля расцвела. Сокровища и торговцы со всего мира наводнили Афины.
И это грандиозное возрождение затмило для простолюдинов саму великую победу. Оптимизм и предприимчивость зажгли всех и каждого верой в себя и своих удачливых богов. Каждый гражданин-воин, кто перенес испытание битвой в фаланге или тянул весло под обстрелом в море, теперь считал, что заслужил полного участия во всех городских делах и права обсуждать их.
Особая эллинская форма правления, названная демократией, правлением народа, пустила глубокие корни, вскормленная кровью войны. Теперь, с победой, росток рванулся вверх и распустился пышным цветком. В Собрании и в судах, на рыночной площади и в правительственных учреждениях простолюдины решительно и самоуверенно проталкивались вперед.
Для греков победа стала доказательством мощи и величия их богов. Эти божества, которые в нашем, более цивилизованном, понимании кажутся тщеславными, одержимыми страстью, чудаковатыми и столь подверженными слабостям и недостаткам, что и не достойны называться божествами, для греков воплощали их веру в нечто более великое, чем человеческое, по масштабу и все же глубоко человечное по духу и сути. Греческие скульптуры и атлетические праздники прославляли человеческое тело, их литература и музыка – человеческие страсти, их беседы и философия – человеческий разум.
В приливе торжества расцвели искусства. Не было ни одного дома, даже самого скромного, который восстал бы из пепла без какой-либо росписи на потолке, статуи или памятника, прославляющих богов и доблесть эллинского оружия. Процветали театры. Трагедии Эсхила и Фриниха привлекали толпы зрителей в стены театрона, где благородные и простолюдины, граждане и иноземцы занимали места в восторженном ожидании и часто переносили этот восторг на творения, чьи достоинства, по утверждению греков, переживут вечность.
Осенью на второй год моего пленения меня вместе с множеством других чиновников Державы за выплаченный Великим Царем выкуп отправили на родину, и я вернулся в Азию.
Вновь поступив на службу Великого Царя, я приступил к своим обязанностям по летописанию дел Державы. Случай, а возможно рука бога Ахуры-Мазды, к следующему лету привел меня в портовый город Сидон, и там меня назначили помогать при допросах одного эгинского судовладельца, грека, чью галеру шторм занес в Египет. Там ее захватили финикийские военные корабли из флота Великого Царя. Изучая бортовой журнал, я наткнулся на запись, упоминавшую о плавании прошлым летом из Эпидаврской Лимеры, лакедемонского порта, в Фермопилы.
По моему настоянию чиновники Великого Царя заострили допрос на этом. пункте. Эгинский капитан заявил, что его судно было среди прочих, нанятых для перевозки группы спартанских военачальников и послов на празднование в честь памяти Трехсот.
Также, по утверждению капитана, на борту были спартанские женщины, жены и родственницы погибших.
Общаться с этими благородными женщинами, сообщил капитан, ни ему самому, ни его людям дозволено не было. Я усиленно спрашивал его, но не смог убедиться ни прямо, ни косвенно, были ли среди этих женщин госпожа Арета и госпожа Паралея.
Эгинский судовладелец утверждал, что высадил пассажиров в устье Сперхея, у восточной оконечности той самой равнины, где некогда стояло лагерем войско Великого Царя. Там они высадились и остаток пути прошли пешком.
Несколькими месяцами ранее, доложил капитан, местные жители нашли три тела греческих воинов у верхнего края Феспийской равнины, на том самом пастбище, где располагался шатер Великого Царя. Эти останки были с почтением сохранены гражданами Трахина и теперь с почетом возвращены лакедемонянам.
Хотя в таких вопросах всегда трудно утверждать определенно, здравый смысл говорит, что эта были не иначе как тела Всадника Дориона, скирита Собаки и изгоя, известного под прозвищем Сферей, которые той ночью принимали участие в налете на шатер Великого Царя.
Эгинское судно везло прах еще одного лакедемонского воина, в свое время возвращенный из Афин. О том чьи это были останки, капитан не смог сообщить никаких сведений. Однако мое сердце склонно предположить, что это мог быть прах нашего рассказчика. Я стал расспрашивать капитана подробнее.
У самых Горячих Ворот, заявил он, эти тела и урна с прахом были погребены в могильном холме на лакедемонском участке, расположенном на пригорке прямо над морем. Подробные расспросы капитана насчет топографии того места позволили мне заключить с определённой уверенностью, что это тот самый пригорок, на котором погибли последние защитники Фермопил.
На поминовении не было никаких атлетических игр. Состоялось лишь простое торжественное воспевание 3евса-Спасителя, Аполлона, Эроса и Муз. По словам капитана, все закончилось менее, чем через час.
Понятно, что местность интересовала капитана больше с точки зрения безопасности судна, чем из-за произошедших там сражений. Однако, по его словам, его поразила одно незабываемое событие. Одна из спартанских женщин держалась среди остальных особняком и предпочла задержаться в одиночестве на месте сражения, когда ее сестры уже начали готовиться к отправлению домой. Эта госпожа так припозднилась, что капитану пришлось послать одного из своих моряков позвать ее.
Я стал горячо расспрашивать его об имени этой женщины, но капитан, что и неудивительно, не осведомлялся об этом. Я продолжал расспросы, выясняя, как она выглядела. Возможно, внешность помогла бы мне определить, о ком шла речь. Капитан утверждал; что в ней не было ничего особенного.
– А лицо? – продолжал настаивать я.– Была она молодой или старой? Сколько лет было ей с виду?
– Не могу сказать,– ответил он. – Почему же?
– Ее лицо было закрыто,– пояснил судовладелец. -Я видел лишь затененные покрывалом глаза.
Я продолжил расспросы о самих памятниках, о камнях и надписях на них. Капитан рассказал то немногое, что запало ему в память. На камне над могилой спартанцев вспомнил он, были начертаны стихи поэта Симонида, который сам в тот день присутствовал на поминовении.
– Ты запомнил эпитафию? – спросил я.– Или стихи были слишком длинные, чтобы удержать в памяти?
– Вовсе нет,– ответил капитан.– Строки были составлены в спартанском стиле. Короткие. Ничего лишнего.
По его оценке, они были столь скупы, что даже такая ненадежная память, как его, без труда сохранила их.
О xein angellein Lakedaimoniois hoti tede keimetha tois keinon rhemasi peithomenoi.Эти стихи, насколько сумел, я выразил так:
Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли.




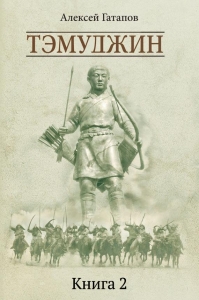

Комментарии к книге «Врата огня», Стивен Прессфилд
Всего 0 комментариев