Евгений Петрович Карнович Придворное кружево
I
– Вы как-то сказали мне, что любимое ваше рукоделье – плетенье кружев[1], а я теперь вижу, что вы не только большая любительница такой работы, но что у вас еще и много вкуса по этой части. Ведь это ваше домашнее кружево? Да, вероятно, и узор для него был нарисован вами?
Так говорил, сидя в креслах у канапе*, подле княгини Марфы Петровны Долгоруковой, красивый, средних лет мужчина. Разговор они вели между собою на французском языке, причем гость хотя и выражался самым изящным французским языком, но в произношении его слышался легкий немецкий оттенок. Княгиня же бойко говорила на чуждом ей французском языке.
Одежда ее собеседника представляла что-то особенное по сочетанию цветов. На нем был надет белый гродетуровый кафтан французского покроя*, с зелеными обшлагами и небольшим отложным воротником такого же цвета. По его белому шелковому камзолу шла зеленая орденская лента. Исподнее его платье, шелковые чулки, а также и плюмаж* на треугольной шляпе были зеленые. У подъезда того дома, где беседовал этот господин, стояла запряженная шестернею лошадей карета зеленого цвета, обитая внутри белым атласом. Кучер, форейтор и гайдуки*, ожидавшие выхода своего господина, были также одеты в белое платье с зеленым прибором.
Происходило это в Петербурге, в начале 1726 года. В ту пору в Западной Европе геральдические* цвета на одежде, на экипаже и на ливреях у слуг имели еще важное значение, и сочетание зеленого цвета с белым должно было наводить на мысль, что находившийся в доме княгини Долгоруковой гость имел близкие отношения к Венгрии. Действительно, этот и по виду и по обстановке важный господин – граф Рабутин* был посол его апостолического величества, короля венгерского, а вместе с тем и императора римско-немецкого Карла VI*, прирожденного эрцгерцога Австрийского.
В ответ на замечание посла о кружеве молодая женщина не без самодовольства стала разглаживать своею нежной ручкой на колене складку шелковой робы, отделанной кружевом.
– Вы не ошиблись, граф. Кружево это сделано у меня дома, по моему рисунку; а знаете что?.. – сказала она и приостановилась как будто в раздумье.
Рабутин придал своему лицу выражение напряженного внимания, в ожидании, что скажет далее его собеседница.
– Я хотела бы, – запинаясь начала хозяйка, – при вашем посредстве иметь счастье представить кружевной убор самой лучшей работы вашей августейшей государыне*, – если только мое почтительное приношение может заслужить такую высокую честь.
– Как вы отлично знаете любовь императрицы к изделиям этого рода! – торопливо подхватил Рабутин. – Хотя ее величество вовсе не охотница до пышных нарядов, и драгоценные уборы Габсбургского дома* остаются при ней без всякого употребления, но что касается кружев, то она постоянно приобретает их за самую большую цену. Ее величество даже поручила мне купить их в России, так как она слышала похвалы русским кружевам, и я уже готовился просить вас, чтобы вы благоволили помочь мне исполнить поручение моей возлюбленной повелительницы, а теперь мне остается только благодарить вас и от имени ее величества, и лично от себя за ваше любезное предложение. Могу сказать с полной уверенностью, что ее величеству будет чрезвычайно приятен ваш неожиданный подарок.
Хотя императрица и не давала Рабутину такого поручения, да едва ли когда-нибудь и была у ней с ним речь о кружевах вообще и о русских в частности, но тем не менее ловкий дипломат счел нужным, по обычаю тогдашнего льстивого времени, наговорить разных любезностей хозяйке. Да притом и речь о кружевах он завел с нею, имея в расчете перейти от этого разговора к другому, имевшему для него существенное значение. С той же стороны и Долгорукова воспользовалась таким разговором, рассчитывая сделанным ею подарком императрице обратить на себя ее внимание.
– Мне очень приятно, что я так часто схожусь с вами в моих мыслях, и если бы я была назначена моею государыней вести с вами переговоры, то, по всей вероятности, вы очень скоро окончили бы поручения по каким бы то ни было важным делам, – улыбнувшись, заметила хозяйка. – А теперь все мои переговоры с вами должны ограничиваться только вопросом о кружевах.
– Что же, однако, мешает переходить нам в наших откровенных беседах и к более важным, пожалуй, государственным делам, – как будто добродушно, но вместе с тем и несколько лукаво сказал Рабутин.
– Но я вовсе незнакома с тонкостями дипломатии, – заметила хозяйка, – и даже о вашем поручении знаю очень смутно, по одним только городским слухам, которые обыкновенно бывают и сбивчивы, и преувеличены, а иногда и просто-напросто оказываются вымышленными. Что же касается лично меня, то мне кажется, что я вовсе даже не способна к дипломатии, если бы даже и была мужчиной.
– Не говорите этого, – с живостью перебил Рабутин, – и позвольте мне на этот раз отказаться от главного свойства искусных дипломатов – от скрытности. Я буду с вами откровенен и выскажу вам не какие-нибудь любезности, а только истину, не подлежащую ни малейшему сомнению для тех, кто имеет честь знать вас. Вы, княгиня, умны, образованы и проницательны, да притом и выросли в той среде, где еще с детства могли слышать иногда о политических делах…
Говоря это, Рабутин пристально смотрел на Долгорукову, а смотреть на нее и без всяких даже дипломатических соображений могло быть большим наслаждением для каждого мужчины, а в особенности для такого влюбчивого, каким был посол его апостолического величества. Перед ним была молодая, лет двадцати шести женщина, высокая, стройная, недаром слывшая в Петербурге красавицей и, вдобавок к тому, считавшаяся умницей, хотя в ту пору на Руси женскому уму и не придавали еще никакого значения. Наружностью своей она заметно разнилась от коренных русских красавиц, так как в лице ее была особая, чуждая им примесь. Ее большие черные глаза, с густыми, длинными ресницами полузакрытых век, блестели, если можно так выразиться, каким-то сухим огнем, без той влажной поволоки, которая считается принадлежностью чисто русской красоты, а несколько выдавшаяся вперед нижняя губа и очертания носа придавали ей оттенок женщины восточного происхождения. Такие особенности не были у Долгоруковой случайною игрою природы, но достались ей по наследству, так как в ней текла еврейская кровь. Она была дочь вице-канцлера барона Павла Ивановича Шафирова* и, следовательно, родная внучка выкрещенного еврея. От отца своего она наследовала, впрочем, не один только внешний облик, но и некоторые черты его характера, а он, как известно, отличался ловкостью в делах всякого рода и алчностью к деньгам, для приобретения которых, несмотря на свое высокое служебное положение, пускался в разные торговые и промышленные предприятия.
– Да и красота ваша, – продолжал Рабутин, не спуская пристального взгляда с Долгоруковой, – обеспечивала бы вам несомненный успех, если бы когда-нибудь пожелали войти в кружок тех людей, которые или по слепой случайности, или по действительным заслугам и уму призваны управлять государственными делами. Как бы охотно покорились они не только каждому слову, но и каждому вашему взгляду!
– Вы начинаете вдаваться в любезности, граф, и удаляетесь от главного предмета – от кружев, – шутливо заметила Долгорукова.
– Испытайте на деле и вы убедитесь в справедливости моих слов. Займитесь плетением кружев, но только не тех, о которых мы говорили прежде, но кружев придворных, – сказал Рабутин с особенным ударением на последнем слове. – Вы будете только составлять узоры и руководить работой, а плести их явятся другие; для этого найдется немало усердных работниц и даже работников. Одни придут к вам из корыстных расчетов, другие из честолюбивых видов, а иных можно будет завлечь так, что они и не будут подозревать, что служат только бессознательными коклюшками* в руках прекрасной мастерицы. Такие люди будут самыми пригодными: с ними не надо вступать ни в какие предварительные объяснения, они не будут требовать от вас отчета в том, что им поручается исполнить, да и сами себе они не станут отдавать его, а будут довольствоваться скромными выгодами разного рода, за которые останутся вам признательными как нельзя более.
– Я понимаю настоящий смысл ваших слов и нахожу, что вы очень ловкий искуситель, – заметила хозяйка. – Но позвольте спросить вас, – с живостью добавила она, – в чью же пользу и с какою целью мы будем работать?
– В ответ на ваш вопрос, – вопрос весьма основательный, я скажу вам, что наш союз послужил бы к обоюдным выгодам как Австрии, так и России. Цель эта должна быть сочувственна для меня, как для представителя его апостолического величества, а для вас – как русской княгини, которая, без всякого сомнения, дорожит благоденствием и славою своего отечества. А что касается личной пользы, то в подобных случаях каждый будет в состоянии извлечь для себя то, что ему будет желательно. Да притом, разве то влияние и то значение, какое таким путем может приобрести женщина, не должны затрагивать ее самолюбия? Да и вообще, – продолжал Рабутин, растягивая теперь свою речь, – его величество император остается во всех отношениях чрезвычайно признателен к тем, которые радеют в его пользу. Благодарность, как известно, составляет отличительную черту его характера. Я прежде всего передам вам сущность моего поручения при здешнем дворе.
– Если вы хотите быть со мной откровенным, то и я, в свою очередь, отплачу вам тем же, – перебила княгиня. – Вы приехали сюда хлопотать, чтобы русский престол, после кончины ныне царствующей государыни*, достался не ее дочерям и их потомству, но великому князю Петру Алексеевичу*. О, данное вам поручение хотя и было прикрыто завесой, но настолько прозрачной, что у нас его разгадали очень скоро.
– Но немногие?
– Конечно.
– И в числе их были вы, княгиня, хотя за несколько минут перед этим и говорили, что считаете себя неспособной к дипломатии. Вы не ошиблись: великий князь Петр Алексеевич по матери – родной племянник императрицы-королевы, и для Габсбургского дома весьма важно, чтобы русский престол занимало лицо, находящееся с ним в таком близком родстве. Быть может, со временем, – во всяком случае, время это далеко, – династические связи утратят свое значение, но пока они имеют еще громадную силу. Посредством их завязывается обыкновенно первый узел дружественных отношений между державами, и поэтому понятна забота императора Карла о судьбе русского великого князя не только как о судьбе своего родственника, но и как будущего доброго и верного союзника Австрии.
В это время дверь в гостиную приотворилась, и на пороге показался лакей княгини.
– Ее сиятельство княгиня Аграфена Петровна* изволила к вам пожаловать, – доложил он.
– Ваша искренняя союзница, – подмигнула Долгорукова Рабутину.
«И отлично умеет плести придворные кружева», – подумал граф.
– Назначьте мне день, когда я могу переговорить с вами наедине, – прошептал он.
– В среду, вечером, никто нам не помешает, – тихо проговорила она.
II
Рабутин встал с кресел и, опершись рукою на их спинку, самодовольно улыбался в ожидании входа гостьи. Долгорукова старалась скрыть смущение, произведенное в ней неожиданным приездом княгини Аграфены Петровны Волконской, так как она являлась в дом Долгоруковых только по особенно важным случаям и обыкновенно привозила какие-нибудь неприятные или тревожные вести.
Почти бегом вошла в гостиную Волконская. Она была женщина лет под сорок, высокая, худощавая; смугло-желтоватое лицо ее с густыми бровями, нависшими над умными темно-серыми глазами, отличалось выразительностью и суровостью, а в ее походке и в движениях была заметна большая самоуверенность и торопливость.
– Какая неожиданная и приятная встреча, – сказала Волконская, обращаясь к Рабутину на правильном немецком языке, после того как она расцеловалась с хозяйкой.
Рабутин подошел к Волконской и почтительно поцеловал ее руку, а она, следуя русскому обычаю, который казался так странным в Европе, поцеловала его в щеку.
Хозяйка усадила гостью на канапе, оказывая ей чрезвычайное внимание и предупредительность, а Рабутин, по приглашению Марфы Петровны, сел на прежнее свое место, подле Волконской. Наступило молчание, как это бывает всегда после внезапно прерванного разговора, который ведут собеседники, не желающие, чтоб кто-нибудь вмешался в него. Да и кроме того, в ту пору особенное уважение к тем лицам, которые почему-либо имели право на него, выражалось, между прочим, при их приходе тем, что все присутствовавшие молчали в ожидании, что скажет наиболее почетная особа.
Аграфена Петровна, обводя своим зорким взглядом хозяйку и ее гостя, тотчас же по их замешательству догадалась, что между ними шла речь о каком-нибудь важном деле и что она помешала им, прервав их беседу. Не желая, однако, обнаружить перед ними свою догадку, она очень равнодушно заговорила о городских новостях.
– Видела я сейчас Наташу Лопухину*, – начала простовато-русским говором Волконская, обращаясь исключительно к хозяйке. – Хорошеет она день ото дня. Да, впрочем, что ей делается: живется ей хорошо, муж на все сквозь пальцы смотрит.
То смешение языков, какое слышалось теперь в гостиной княгини Долгоруковой, было в Петербурге уже в первой четверти прошлого века явлением обыкновенным. Со времени Петра Великого в домах русской знати стали являться при русских боярышнях французские учительницы, и в этом отношении дом вице-канцлера Шафирова, как и дом Бестужевых-Рюминых, из которого была Волконская, занимал едва ли не первое место. Между тем на изучение родного языка не обращали никакого внимания, и потому тогдашние русские барыни и боярышни, усваивая себе правильное и достаточное знание французского языка и обучением, и практикою, учились родному языку только у нянек и прислуги. Поэтому очень часто и поражал в гостиных переход от правильной французской речи к простонародному русскому говору.
– Я рассказываю о госпоже Лопухиной, – сказала Волконская по-немецки Рабутину. – Ведь вы, конечно, знакомы с нею?
– Я имел честь быть представленным ей по приезде моем в Петербург, как статс-даме ее величества, – отозвался Рабутин, – а потом…
– А потом, конечно, и не виделись с нею. Ведь вы, граф, отъявленный поклонник женской красоты, а надобно сказать по правде, что она прекрасно олицетворяется в госпоже Лопухиной. Впрочем, ее трудно где-нибудь встретить. Она домоседка, да и у себя никого не принимает. Но ей, должно быть, не скучно, хоть муж ее и живет постоянно в деревне. Пустой он человек и гуляка, и многое ей надобно простить. Царь Петр Алексеевич выдал ее за него против ее воли, да и Лопухин ее не любил, а ведь она женщина хорошая и может любить с большим постоянством, – с какой-то насмешкой добавила Волконская.
– Она это и доказывает в отношении к Левенвольду*, – добавила, улыбнувшись, хозяйка.
– Ну, а он платит ей тем же самым. Он тоже красавец и мог бы приискать себе здесь прекрасную невесту. Да он и нашел, или, вернее сказать, ему нашли такую. Чего бы, казалось, лучше: княжна Варвара Черкасская*, дочь князя Алексея. Ведь она считается самой богатой невестой во всей России, и так как сама она хотела выйти замуж за Левенвольда, то государыня взялась устроить эту свадьбу и готовилась обручить их. Но знаете, почему Левенвольд отказался от этого брака? Не пожелал расстаться с Наташей, а ведь он сам по себе человек с малыми средствами и, вдобавок к тому, кругом в долгах. Несмотря на то что государыня во время своей благосклонности к нему так щедро дарила его, у него не осталось теперь ровно ничего. И оттеснил-то его кто? Этот негодяй, выскочка, который теперь всемогущ и делает все, что хочет, а вы, любезный граф, сделались отчасти виновником его еще большего возвышения, – с запальчивостью добавила Волконская, сурово взглянув на Рабутина.
– Я исполнил только повеление, данное мне моим августейшим государем, – как бы оправдываясь, проговорил Рабутин.
– И кто выдумал эту небывалую у нас на Руси новизну? – продолжала Волконская, как будто не обращая внимания на оправдания своего собеседника. – Разве подходящее дело, чтобы русский великий князь обращался к иностранному государю за разрешением жениться?
Рабутин слегка откашлялся.
– Позвольте объяснить вам, княгиня, те особые обстоятельства, при которых это произошло, – мягко и уступчиво сказал он. – Русский великий князь Петр Алексеевич принадлежит по своей матери к знаменитому Габсбургско-австрийскому дому, главою которого состоит ныне его величество император римско-немецкий Карл VI. Следовательно, в обращении к его августейшей особе в том случае, о котором у нас идет теперь речь, проявилась, собственно, только родственная вежливость, конечно, не обязательная для великого князя. Кроме того, здесь встретилось еще и другое обстоятельство. Будущая невеста великого князя по отцу – принцесса Священной Римской империи, и этикет нашего двора требовал, чтобы отец ее испросил у императора разрешение выдать свою дочь за какую бы то ни было владетельную особу и получил бы на то от его величества надлежащее согласие. Следовательно, князь Меншиков исполнил только то, что обязательно для всех имперских князей.
При этих доводах дипломата Волконская утвердительно кивала головою, а Долгорукова внимательно прислушивалась к каждому его слову.
– Лично же мое участие в этом деле, – продолжал Рабутин, – ограничивается только тем, что я привез два письма от императора: одно великому князю, а другое – княжне Марии, с выражением пожелания со стороны его величества всяких благ будущей чете, и должен был вручить эти письма в то время, когда я признаю это удобным. Вы, конечно, поймете, княгиня, – обратился граф к Волконской, – что при том неотразимом влиянии, какое имеет князь Меншиков на царицу, он сумеет устроить дело так, что по вопросу о наследии престола она устранит своих дочерей, а корона перейдет к великому князю, так как прежде всего Меншиков пожелает видеть свою дочь русской царицей…
– Вот этого-то и не следует допускать, – гневно перебила Волконская, – тогда власть будет исключительно в руках Меншикова. Поэтому-то я и сказала вам, что вы содействовали еще большему его возвышению.
– Но что же оставалось делать? – пожимая плечами, спросил Рабутин. – Без пособия со стороны князя Меншикова корона перешла бы непременно к одной из дочерей императрицы Екатерины*, а устранение великого князя от престола идет вразрез видам венского кабинета.
При этом разъяснении, в качестве дипломата, Рабутин представлял выгоды и для России. Быть может, вследствие вступления на престол великого князя, император признает за новым царем императорский титул, в котором венский двор отказывал его деду, а также отказывает и нынешней царице. Такое признание было бы чрезвычайно важной уступкой со стороны венского кабинета, потому что во всем мире может существовать один только христианский император, как представитель Священной империи…
– Которая, замечу кстати, и не существует на самом деле, – насмешливо возразила Волконская.
– Позволю себе заметить, что в данном случае действительность ничего не значит. Здесь важна идея, господствующая уже в продолжение девяти веков, – идея, что преемницею властвовавшей над всей вселенной Римской империи должна быть Германия.
– Вы, граф, время от времени посвящаете меня в политические вопросы, но, разумеется, не с русской, а с немецкой точки зрения. Впрочем, я достаточно свыклась с немцами, почти что выросла среди них, но это нисколько не мешает мне быть вполне русской женщиной, любить мое отечество и желать ему всех благ и, между прочим, желать, прежде всего, чтобы в нем не повторялось то прискорбное положение дел, какое представляется ныне, когда зазнавшийся временщик…
– Для устранения на будущее время подобных случаев и необходимо, чтобы у вас, в России, утвердился строгий порядок престолонаследия, и переход русской короны к великому князю Петру Алексеевичу, а затем и к будущему его потомству было бы первым к тому шагом. Не знаю, основательно ли это предположение, но, по крайней мере, мне кажется, что оно верно.
– Я от всей души желаю, чтоб великий князь был преемником ныне царствующей государыни, но под условием, чтобы будущий его тесть был устранен от влияния на государственные дела или – что было бы еще лучше – чтобы брак Петра Алексеевича с княжною Меншиковой вовсе не состоялся.
– Вы говорите как нельзя более справедливо, – подхватила Долгорукова, которая не могла не питать злобы против Меншикова, по проискам которого пострадал ее отец при императоре Петре.
– Но такая пора, как я думаю, придет сама собою. Великий князь возмужает, воля его окрепнет, и он, оказывая должное уважение своему тестю, без всякого сомнения, не станет допускать его вмешательства в свои личные распоряжения. В нем уже и теперь, как говорят, обнаруживается твердая воля, и если он заметно подчиняется влиянию своей сестры, то это только из горячей любви к ней.
– О, что касается влияния великой княжны Натальи Алексеевны*, то оно не только ни для кого не может быть вредно, но, напротив, оно весьма желательно, – заметила Долгорукова.
– Да, эта девушка подает большие надежды. Она зреет умом не по летам; и какое у нее прекрасное сердце! Она и теперь внушает благоразумные и добрые советы своему брату, и он обыкновенно очень охотно подчиняется им, – сказала Волконская.
– Вот поэтому-то, княгиня, – заговорил, обращаясь к ней, Рабутин, – и было бы очень полезно, если бы великая княжна Наталья имела при себе умную руководительницу, которая утвердила бы над нею свою власть, разумеется, не давая ей этого чувствовать… Отчего бы, например, вам не постараться получить при ней место гофмейстерины?* – спросил Рабутин, пристально взглянув на Волконскую.
– Граф Рабутин высказал очень удачную мысль, – подхватила Долгорукова. – Великая княжна могла бы, находясь под вашим влиянием, добавить многое к тем врожденным качествам, которыми она теперь отличается. На получение вами должности гофмейстерины все, знающие вас близко, посмотрели бы не как на удовлетворение вашего честолюбия, но как на самопожертвование с вашей стороны. Теперь великая княжна, такая еще молоденькая девушка, не имеет около себя рассудительной и доброжелательной ей наставницы, которая так необходима в ее нежном возрасте.
– Скромность моя была бы неуместна в нашем небольшом кружке. Я действительно постаралась бы внушить великой княжне все хорошее, но дело в том, что при нынешней обстановке двора я не могу надеяться на успех, а бесполезная попытка, а тем более резкий и, пожалуй, даже неприличный отказ были бы для меня чрезвычайно тяжелым оскорблением. Я знаю, что светлейший князь будет против такого назначения, – заметила Волконская.
– Предоставьте мне, княгиня, озаботиться этим делом, насколько оно будет зависеть от Меншикова; вы в этом случае останетесь совершенно в стороне. Наш двор сумеет, при моем посредстве, внушить князю эту мысль, и тогда Меншиков не только с удовольствием согласится на это, но даже сам предложит вам должность гофмейстерины. Лично же вам нужно только убедиться в желании великой княжны, чтобы вы сделались близкой к ней особою. В свою очередь, конечно, и вы не откажетесь оказать нам ту или другую небольшую услугу, – любезно проговорил дипломат.
Он приостановился, и разговор на этом резко оборвался.
Волконская поднялась с места. Рабутин вскочил с кресел, поцеловал руку у хозяйки и у гостьи и, выйдя в прихожую, приостановился там, поджидая выходившую после него гостью.
– Я сегодня ожидаю депеш; по всей вероятности, в числе их вложено письмо вашего братца, и я не замедлю прислать его вам, – проговорил он шепотом княгине, сходившей с лестнице.
III
По прошествии нескольких дней после разговора с Рабутиным у Долгоруковой Волконская отправилась к великой княжне Наталье Алексеевне, бывшей в то время как бы в загоне. Нареченная ее бабушка, императрица Екатерина Алексеевна, с которою она жила вместе во дворце, оказывала ей родственное внимание лишь настолько, чтобы не возбудить между русскими и иностранцами говора о нелюбви ее к родной внучке своего покойного мужа. Великая княжна была предоставлена как бы себе самой и росла под главным надзором пожилой француженки, госпожи Каро, к которой она не чувствовала особой привязанности. С своей стороны, Каро не столько занималась развитием своей питомицы, сколько следила за теми, кто бывал у великой княжны, и хотя она плохо понимала по-русски, но тем не менее сообщала в качестве соглядательницы обо всем, что говорилось в комнатах Натальи Алексеевны. Для беседы Волконской с нею нужно было на некоторое время отвлечь воспитательницу, а потому Долгорукова условилась с Волконской, что придет навестить госпожу Каро в то время, когда Волконская будет у великой княжны, и тем даст своей сообщнице возможность побеседовать наедине с молодой девушкой.
С первого взгляда на эту девушку можно было заметить, что она в физическом отношении пошла в своего деда, а не в хилого своего отца. Она была высока ростом и развивалась не по летам. По уму и по способности она также выдалась в деда и отличалась рассудительностью, пытливостью и большою любознательностью. Своею же кроткою наружностью и ровностью характера она напоминала свою рано скончавшуюся мать. Томное выражение ее голубых глаз и светлые локоны как бы свидетельствовали об ее германском происхождении по матери. Несмотря на ее чрезвычайную доброту, обходительность и кротость, она, где это было нужно, оказывала твердость и решительность и во всех отношениях далеко опережала своего брата, который был моложе ее только годом и тремя месяцами.
Наталья Алексеевна встретила Волконскую самым приветливым образом и видимо обрадовалась ее неожиданному приезду. Ей хотелось, как говорится, отвести с кем-нибудь душу.
«Хотя ты еще очень молода и простодушна, как ребенок, но в тебе есть задатки, из которых можно сделать многое, нам очень пригодное», – мелькало в голове княгини Аграфены, или Агриппины, Петровны при взгляде на внучку Петра Великого.
Вошедшая княгиня сперва подобострастно поцеловала ручку великой княжны, а потом расцеловала ее как родную.
– Приехала я навестить ваше высочество и наведаться, не могу ли я чем служить особе вашей, – сказала княгиня.
– Спасибо тебе, княгинюшка, что вздумала проведать меня. Я всегда рада видеть тебя. Садись, пожалуйста.
И Наталья Алексеевна принялась усаживать гостью в кресло, а сама села около нее на придвинутую табуретку.
– Здорова ли ты, дорогая моя? Что поделываешь? Имеешь ли весточки от братца твоего, Алексея Петровича? Что он хорошего пишет? – расспрашивала Наталья Алексеевна.
– Поручил он вашему высочеству кланяться в ножки, – отвечала княгиня, приподнимаясь с кресел и как бы желая исполнить в точности поручение ее брата.
– Никак, ты и в самом деле хочешь кланяться мне в ноги! – рассмеявшись, вскрикнула Наталья Алексеевна. – А я так тебе и привстать с кресел не дам. – И с детской резвостью она положила свои руки на плечи княгини. – А ведь я сильнее тебя буду…
– Точно что будете куда сильнее меня, – уступчиво проговорила Аграфена Петровна. – Только вам и силы против меня употреблять не нужно. Скажите лишь слово, так я всякое ваше приказание исполню. Вот и теперь я сижу не трогаясь, а куда как хотелось бы мне поклониться вам в ножки не только от братца, но и от себя самой, да вы запретили и мне, и другим это делать.
– Запретила это не я, а запретил это еще покойный мой дедушка. Ведь он объявил, что человек должен падать лицом на землю только перед Богом, что только Господу Богу достоит такое поклонение, – живо возразила молодая девушка и, охватив рукою шею своей гостьи, громко и крепко поцеловала ее в щеку и затем быстро отскочила от Волконской на середину комнаты.
– А ведь и в самом деле я сильна, – заговорила она, быстро засучив рукава своей робы до самого локтя.
Она подняла над своею головою еще детские руки, сложила их в кулаки и начала трясти ими, как это часто делают подростки, чувствующие в себе прилив силы и как будто желающие испытать ее.
– В дедушку будешь, – сказала княгиня. – Ух, какой он был силач!.. Впрочем, скажу я тебе, мой светик, ты девушка не только сильная, но и умная, и от моих рабских похвал не возгордишься, а станешь внимательнее к себе самой. Скажу я также тебе, что Господь Бог одарил тебя не только телесной силой, но и вложил тебе много вот куда! – При этих словах княгиня слегка постукала себя пальцем по лбу. – Ведь ты у нас разумница, все о тебе так и говорят, и недаром Отец Небесный тебя так высоко поставил – ты русская царевна, родная внучка такого великого государя, какого прежде во всем свете не бывало.
Наталья Алексеевна внимательно прислушивалась к словам своей собеседницы, говорившей с ней и льстиво-дружеским, и поучительным голосом, но вдруг нижняя губа ее судорожно задрожала, а на глаза набежали слезы.
– Какое в том счастье, что я царевна! Лучше бы я родилась простой девушкой, да в такой семье, которая была бы счастливее нашей!
Голос ее прервался от сильного волнения, и она заслонила глаза рукой, желая скрыть брызнувшие из них слезы.
– Не грусти, моя голубушка, моя касаточка, – участливо заговорила княгиня, – Бог даст, все скоро переменится в твоей горемычной доле. Вот хоть бы, примером сказать, твои близкие сродственники по твоей настоящей, а не названой только бабушке – Лопухины, как много пострадали при твоем дедушке, а теперь опять входят в честь. Государыня изволила, по твоей милости, пожаловать Наталью Федоровну в статс-дамы, и тем ей оказана большая честь. Знаю, хорошо знаю, что тебе не сладко живется, моя горемычная сиротинка; растешь ты на чужих людях, и даже родная твоя бабушка, прежняя царица Авдотья Федоровна, как монашенка, сидит в заточении…
Наталья Алексеевна опустилась в кресло и, склонив голову, слушала княгиню.
– А матушка моя? – как бы встрепенувшись, спросила она. – Разве мало натерпелась? А отец мой отчего умер? – И она задрожала всем телом. – Как ни таят от меня причину его смерти, но по многим речам я догадываюсь, как он скончался…
– Мало ли что в людях говорят, – успокоительно, но вместе с тем с оттенком двусмысленности сказала Волконская. – Пришел его последний час – вот и скончался. Ведь ты сама знаешь – в животе и смерти волен один Бог.
– Нет, нет, Аграфенушка, тут иное было дело. Ты должна знать все, но только ты, как и другие, таишь от меня правду. Но рано или поздно, а я все узнаю. Да и отчего царствует не мой брат, как следовало бы по старине, а Екатерина Алексеевна?
– На то была, знать, воля Божия. Придет когда-нибудь и его черед, если это ему суждено Господом, – внушающим покорность голосом говорила княгиня.
– Да и царствует ли еще она? Не правит ли ныне государством Меншиков, а она-то сама и указов подписать не может, а подписывает за нее Лизавета.
Раздражение молодой девушки усиливалось. Щеки ее горели ярким румянцем.
– Будь осторожнее, Наташа, – погрозив слегка пальцем, внушала ей княгиня. – За неистовые речи и ты, чего доброго, в монастырь на безысходное заточение попасть можешь…
– Как царевна Софья Алексеевна? – перебила с живостью великая княжна. – Так ведь та шла против своего брата, а я Петрушу так люблю, что отдала бы за него мою жизнь. Да и горюю-то я не о себе, а о нем. Чего доброго, изведут его лихие люди.
– Извести не изведут, а напротив, как женится на дочери «светлейшего», так попадет в милость к царице.
– Не ему искать милости через Меншикова, Петрушу следует избавить из-под его власти, – вспылила Наталья Алексеевна.
– Эх, золотая моя, – дружески заговорила Волконская, – нет около тебя никого, кто бы дал тебе добрый совет, а ты сама еще такая молоденькая, что многого в толк взять не можешь.
– Вот бы назначили тебя, княгинюшка, ко мне обер-гофмейстериной! Да ты, пожалуй, и не пошла бы на эту должность. Не захотела бы возиться со мною; ведь я по временам бываю такая супротивная и сердитая.
На лице княгини появилось выражение удовольствия.
– За счастье почла бы я это, ваше высочество, – проговорила почтительно она.
– Зачем ты говоришь мне «высочество»? Титул этот перевели с немецкого для моей матери; так звали ее потому, что она была германская принцесса, а я – русская великая княжна. Да и сколько раз я просила тебя, чтобы ты просто звала меня Наташей. Знаешь ли, что, кроме брата, никто так ласково не зовет меня, точно я всем чужая и словно со мной никто от сердца говорить не хочет. Ах, впрочем, нет, что ж я забыла: зовут меня так и Катерина Алексеевна, и ее дочери, – насмешливо добавила она. – Да от сердца ли?
Волконская не дала Наталье Алексеевне докончить того, что она хотела сказать. Она взяла ее за обе руки и потянула к себе, а молодая девушка, приблизившись к ней, положила свою головку на ее плечо.
– Ну хорошо, пусть будет по-твоему: Наташа, Натальюшка, – говорила Волконская, ласково гладя ее по голове, а она все крепче прижималась к своей собеседнице, радуясь, что хоть кто-нибудь приголубил ее так сердечно.
IV
В то время, когда в Петербурге возбуждался вопрос о наследии русского престола, в Вене шла речь о том же самом по отношению к австрийским владениям; но причины, возбуждавшие здесь и там эти вопросы, были не только различны, но даже и противоположны одна другой. У нас при этом возникало затруднение ввиду нескольких лиц, которые по разным основаниям считали себя вправе получить русскую корону. В Вене же, наоборот, оказывался недостаток в лицах, имевших право на Австрийское наследство. Римско-немецкого императора Карла VI Господь Бог не избыточно благословил потомством, да, вдобавок к тому, лишил его мужеского поколения, так что он оказывался последним из Габсбургов по мужскому колену, наследственные права которого не могли бы подлежать никакому сомнению и спору. Была у него единственная лишь дочь Мария-Терезия*. Не только родительская любовь, но и чувство династического тщеславия побуждали последнего представителя Габсбургского дома призадумываться над тем, что станется после его смерти и с его дочерью-отроковицею, и с его обширным державным имуществом, которое без перерыва в течение многих веков переходило от одного поколения Габсбургов к другому в неприкосновенной целости и которое после смерти Карла должно было разделиться между несколькими наследниками. Карл видел, что вследствие такого раздела померкнет слава и блеск Габсбургского дома, который в течение многих веков передавал так удачно свое политическое могущество из рода в род. Были у Карла еще две родные племянницы: одна за курфюрстом* Баварским, другая за курфюрстом Саксонским, а вместе с тем и королем польским, и Карлу VI не безосновательно казалось, что эти две курфюрстины обидят его возлюбленную дочь. Такой прискорбный исход дела нужно было предупредить, обеспечив заранее судьбу подраставшей Марии-Терезии. Передача ей избирательным порядком римско-немецкого императорского достоинства, к которому уже издавна привыкли предки Карла и считали его как бы наследственным в своем роде, оказывалась невозможной, как особе женского пола. Поэтому родитель Марии-Терезии начал думать о том, как бы утвердить за нею хоть родовые свои владения, а владения эти были весьма значительны: Австрия, Венгрия, Богемия, Тироль, Штирия, Каринтия и прочие признавали над собою наследственную власть Габсбургов. Могла Мария-Терезия именоваться по этим владениям и королевою, и эрцгерцогинею, и герцогинею, и маркграфинею, и княжною, и графинею, присоединив к такому разнообразному титулу еще наследственный титул королевы иерусалимской. Но все это нужно было уладить заранее, и уладить так, чтобы по кончине Карла VI никто не дерзнул бы оспаривать у его дочери ни ее владений, ни ее титулов.
Такие мысли об устройстве будущей участи римско-немецой цесаревны, с прибавлением высказываемых тоскливым голосом сетований на свою собственную судьбу, нередко передавал Карл VI своим близким советникам. Из них каждый, по мере своей находчивости, старался успокаивать своего повелителя и придумывал разного рода утешения, и мирские, и религиозные, для ослабления его державной скорби и родительских тревог. При этих утешениях кесарь* становился веселее и, казалось, совершенно спокойно переходил к разговорам об изящных искусствах, до которых он, к чести его, был страстный охотник. Заботливым же царедворцам только и нужно было, чтоб так или иначе ослабить хоть несколько настоящую его кручину. Нашелся, однако, среди них правдивый и вместе с тем чрезвычайно ловкий человек, некто граф Тун фон Гогенштейн.
– Приемлю смелость всеподданнейше доложить вашему величеству, – заговорил он однажды пред императором с большою запинкою свою, хотя уже и заранее подготовленную и вытверженную, речь. – Осмелюсь доложить, что родительские попечения ваши о высокоурожденной дщери вашей и заботы ваши о благе вверенных вам Провидением народов не столь легко осуществимы, как сие представляется с первого взгляда. Простите, всемилостивейший государь, смелость моей речи, но я, по внутреннему убеждению, счел долгом повергнуть по этому предмету мои мысли на ваше высочайшее благоусмотрение…
– Я что-то вас не совсем понимаю, любезный граф, – не без некоторого удивления отозвался император. – Потрудитесь выражаться яснее, с полною откровенностью. Вы, вероятно, желаете сообщить мне что-нибудь чрезвычайно важное, и я готов выслушать вас.
– Долгое время я не решался утруждать ваше величество изложением моего взгляда на вопрос престолонаследия: тяжело не только затронуть его, но и подумать о нем каждому из наших верноподданных, и вы, вероятно, изволили заметить, что в бывшем по этому делу заседании совета я безмолвствовал. Но теперь, когда решено приступить к осуществлению высказанных в совете предположений, молчание мое не соответствовало бы той преданности, какую я питаю и к вашей особе, и к возлюбленной всеми юной эрцгерцогине. Я не могу умолчать в настоящее время о тех затруднениях и о тех опасениях, какие неизбежно встретятся при этом…
– Какие же тут могут быть затруднения? – взволнованным голосом спросил Карл. – Ведь государственные члены и Венгрии, и Богемии, и всех вообще наследственных наших областей, без всякого сомнения, согласятся признать над собою верховную власть моей дочери и ее потомства, если Господь благословит ее чадородием. – При этих словах император тяжело вздохнул. – Меня в этом все уверяли, и все уверяют и теперь. – Мало того, и венгерские магнаты, и богемские вельможи изъявляют полную готовность поддержать мои намерения относительно престолонаследия после моей смерти.
– О, государь, не может быть ни малейшего сомнения, что и Венгрия, и Богемия, и все коренные земли вашей монархии с радостию останутся под управлением прославленного вашего дома, хотя бы, по воле судеб, и явилась представителем его особа женского пола. Притом во всех этих королевствах и областях нет даже такого устава, который устранял бы женский пол от престолонаследия. В этом отношении ваше величество можете быть совершенно спокойны. Тем не менее советники ваши, всегда столь мудрые и прозорливые, упустили в данном случае одно чрезвычайно важное обстоятельство…
– Какое именно? Садитесь, граф, и объясните мне, в чем же заключается их недосмотр.
– Иностранные дворы, ввиду могущих быть замешательств, воспользуются ими, чтобы ослабить могущество и значение Австрии. Они станут отрицать, под разными предлогами, права эрцгерцогини на наследственные земли и примутся помогать тем, кто объявит свои притязания на наследие, по пресечении мужской линии высочайшего Габсбургского дома.
– Искренно благодарю вас, любезнейший граф, за ваше указание. Вы обратили внимание на такую сторону дела, которая ускользнула как-то от других. Теперь действительно вся Европа ищет разных политических усложнений. Каждый кабинет хочет вредить другому и с этою целью прибегает к разным средствам, не обходя даже самых неблаговидных. Еще раз благодарю вас и прошу вашего совета насчет того, как бы устроить дело таким образом, чтобы устранить все могущие встретиться в будущем запутанности и усложнения и предупредить предусматриваемую вами опасность.
– По моему мнению, – начал Тун, – необходимо прежде всего заручиться таким актом, подписанным первенствующими европейскими дворами, который обеспечивал бы нераздельность владений вашего царствующего дома при переходе их к эрцгерцогине. Да продлит Всевышний драгоценные дни ваши, всемилостивейший государь! – с чувством, возведя глаза вверх, сказал Тун. – Но все же государственная мудрость требует предвидеть заранее то положение, в каком может оказаться каждое государство при совершившейся в нем коренной перемене…
– Замечание ваше совершенно верно. Я давно чувствовал необходимость в такой задушевной беседе, какую я веду теперь с вами. Но к каким же дворам должен я обратиться с предложением такого рода? На курфюрстов вообще полагаться нельзя: у каждого из них свои личные виды, а двое в числе их, именно курфюрсты Баварский и Саксонский, – как доходят до меня слухи, – не только не желают поддерживать моих намерений, но еще думают, в случае моей смерти, воспользоваться частью так называемого ими Австрийского наследства. Кроме того, и король прусский, роясь в архивах, отыскивает какие-то права Бранденбург-Гогенцоллернского дома* на Силезию, так что монархии моей грозит раздел.
– Надобно будет обратиться к Франции, Англии, Испании, Неаполю, Швеции, Дании, – бойко стал высчитывать Тун. – Я перечислил, государь, все значительные дворы, поддержка которых оказывается необходимою.
– И не пропустили ни одного? – пытливо спросил император.
– Ни одного, ваше величество, – твердо проговорил граф.
На лице Карла появилось выражение удовольствия.
– А русский двор? О России-то вы, мой друг, и забыли. Вот хорошо! – И кесарь самодовольно расхохотался. – Вы теперь, любезный граф, напомнили мне испанцев, которые, не так давно отправляясь на войну против Португалии, запаслись всем и только забыли взять с собою порох.
Император продолжал смеяться, и ему весело вторил его собеседник.
Граф Тун хорошо знал то важное значение, какое в настоящем случае должна была иметь Россия, но, как сметливый придворный, он нарочно прикинулся недогадливым, чтоб доставить над собою торжество своему царственному собеседнику. После того как он решился указать императору на его недогадливость вообще, ему казалось необходимым наверстать эту смелость какой-нибудь оплошностью с своей стороны, и такой ловкий прием удался ему как нельзя более.
– Ваше величество изволили очень метко заметить насчет моей недогадливости. В самом деле, я забыл о России, тогда как она должна была бы быть упомянута едва ли не прежде всех других европейских держав. Вы изволили быть ко мне слишком снисходительны, только сравнив меня с испанцами, позабывшими главный воинский снаряд – порох. Я просто-напросто заслуживаю названия бестолкового и беспамятного человека, а еще осмеливаюсь являться к вам с советами о политической предусмотрительности. «Хорош советник: забыл о России?» – трунил над самим собою граф, видя, что его притворная оплошность доставляла Карлу большее удовольствие.
– А знаете, граф, – сказал император, принимая величавый вид, – ведь та мысль, которую вы мне теперь высказали, еще и прежде как будто бродила у меня в голове. Мне самому казалось, что как будто чего-то недостает для полноты и законченности моего плана.
– Мало того, я откровенно должен сознаться, что некоторым образом я даже похитил вашу мысль. Вы однажды изволили сделать намек на возможность того положения дел, на которое я теперь позволил себе указать вашему величеству. Вы были, – если так можно выразиться, – моим вдохновителем.
Карл, по-видимому, силился что-то припомнить.
– Так, действительно так, теперь я вспоминаю. Точно, я говорил об этом. Какая у вас прекрасная память, граф. Но у меня столько забот и занятий, что голова идет кругом. – И он потер рукою лоб. – Во всяком случае, разговор наш должен остаться только между нами.
– Без всякого сомнения, государь.
– Теперь я хочу посоветоваться с вами далее по этому же делу. Кого назначить мне в Петербург для ведения переговоров?
– Позвольте несколько сообразить, ваше величество. – И Тун сделал вид, будто он погрузился в глубокомысленные соображения. – Я полагаю, что граф Рабутин мог бы быть очень пригоден для исполнения подобного поручения. Он умен, ловок и сумеет сойтись близко с теми лицами, которые в Петербурге будут нам нужны.
– И преимущественно с дамами, – улыбнувшись, заметил император. – О, иногда они бывают очень нужны для ведения при их участии дипломатических дел. Жаль только, что господин Рабутин не соответствует важности того двора, к которому он будет отправлен. Он для этого еще молод и не занимал пока никакого высокого поста, а в Петербурге теперь стали очень щекотливы в отношении оценки иностранных представителей.
– Но, ваше величество, – заговорил Тун, – ему и незачем будет придавать знатного характера. Предлог же для посылки в Петербург именно не особенно знатной особы представляется очень удобным…
– Ах, да! С ним можно отправить письма, в которых я выражаю мое согласие на брак великого князя Петра с принцессою Меншиковою. Вот и прекрасно! Он обо всем поразведает там, а после того, смотря по ходу дел, можно будет заменить его другим, более важным лицом.
– Которому вы, ваше величество, и соизволите поручить постараться о том, чтобы русский престол, по кончине ныне царствующей государыни, перешел к великому князю.
Император встрепенулся и закусил слишком заметно выдавшуюся вперед нижнюю губу, этот наследственный признак всех членов Габсбургского дома. Видно было, что высказанная графом Туном мысль как будто поразила его новизною, но он не хотел обнаружить своего ощущения.
– Об этом я подумаю, время еще будет, – закончил он разговор, начатый его собеседником. – А графа Рабутина я приму завтра в восемь часов утра в особой аудиенции. Сообщите ему об этом.
На эти слова Тун ответил императору почтительным поклоном.
Тун, чрезвычайно довольный исходом свидания с его величеством, быстро сходил с парадной лестницы Гофбурга и, выбравшись в своей карете из укреплений, окружавших в ту пору императорскую резиденцию в Вене, приказал кучеру ехать к баронессе Целлер.
V
С торжествующим видом вошел Тун к своей старинной знакомой, не раз содействовавшей разным его замыслам посредством своей близости к императрице, супруге Карла VI.
– Вижу, что все устроилось удачно, – торопливо заговорила вертлявая и не слишком красивая дама, встречая приветливо приехавшего к ней гостя. – По вашему лицу сейчас заметно, что в Гофбурге удалось вам все как нельзя лучше…
– Вы угадали, мой высокоуважаемый друг, моя чудная Эгерия*, – сказал Тун, приятельски целуя протянутую ему руку баронессы. – Рабутин на днях будет отправлен в Петербург.
Целлер ласково потрепала по плечу Туна.
– Сегодня в три часа приедет ко мне известная вам особа справиться, чем мы покончили дело относительно ее обожателя. Значит, ее можно будет порадовать приятною вестью? – спросила баронесса.
– Можно, но, разумеется, под условием строгой тайны. Хотя император и выразил уже свое согласие, но он может переменить свой взгляд на это дело, – слегка отдуваясь, проговорил Тун. – А если бы вы знали, мой друг, с каким ужасным трудом мне удалось добиться этого! Можно сказать, что каждому моему слову император противопоставил десятки, куда десятки – сотни возражений, и представьте мое тягостное и щекотливое положение, когда я должен был опровергать их.
– Расскажите же все как было, – сказала Целлер Туну, который держал в своей руке ее руку и по временам целовал ее. – Вы, конечно, повели дело так, как я вам говорила?
– Мог ли я, дорогая Клара, нарушить ваши инструкции, в основании которых лежит всегда так много ума и проницательности… Но все-таки борьба была сильная. Мне пришлось затронуть самолюбие императора, который, при всех его добрых качествах, все-таки человек чрезвычайно тщеславный, так что я находился в крайне неловком положении во время моей с ним аудиенции.
– Бедненький! – сказала участливо баронесса. – Но за ваши труды я, бесценный мой сотрудник, надеюсь в скором времени порадовать вас известием о пожаловании вам Клозенбурга, который вам так давно хочется получить.
Тун встал с кресел и низко поклонился своей покровительнице.
– Благодарю вас еще раз, – сказала она. – А теперь отправляйтесь, мой друг, домой и отдохните после ваших хлопот, – шутливо добавила Целлер, дружески выпроваживая Туна. – Сейчас ко мне придет кое-кто, и мне нежелательно, чтоб они встретились сегодня с вами в моем доме. Относительно этого у меня есть свои особые, весьма важные соображения.
– Нехотя повинуюсь вам, но что делать! – сказал Тун, раскланиваясь с хозяйкой.
Спустя немного времени в гостиную баронессы медленно вошла чопорно-изящная старушка, одна из родственниц и усердных покровительниц Рабутина. Она с большим удовольствием услышала весть о назначении его чрезвычайным посланником в Петербург, переданную ей, разумеется, под условием сохранения самой строгой тайны.
– Без всякого сомнения, вы теперь, в свою очередь, постараетесь о предоставлении Клозенбурга графу Туну. Право, он этого стоит. Пускай император пожалует ему это имение на первый раз на ленном праве*. Ведь это ближайшим и главным образом зависит от вашего супруга. Пусть при случае, но только как можно скорее, он напомнит императору, что это имение теперь свободно. Повторяю еще раз, что граф Тун стоит такой награды.
– Непременно, непременно исполню ваше желание, – бормотала гостья, рассыпаясь в благодарности при прощании с Целлер.
Но если приезд покровительницы Рабутина представлял для баронессы известную важность, то приезд другой ожидаемой ею гостьи заставил ее улыбаться. Здесь шел совсем иной вопрос, так как здесь дело велось по сердечной части.
Ожидаемая гостья тоже не замедлила явиться к баронессе, в виде молоденькой и хорошенькой особы, от которой как будто веяло и непостоянством, и женскою шаловливостью.
– Ну что, – спросила она, впорхнув в гостиную и не поздоровавшись даже с хозяйкой, – спровадили моего дружка, и далеко?..
– Далеко, в Петербург, – отвечала весело баронесса, махнув перед собой рукой в знак далекого пути.
– Вот и прекрасно! – воскликнула радостно молодая дамочка и бросилась целовать баронессу. – Вы оказали мне самую дружескую услугу. Да и он долго горевать не будет. Ах, если бы вы знали, какой он влюбчивый и какой он ветреный… Боже мой, что это за человек!..
– Тогда как вы, с вашей стороны, милая моя Луиза, платили ему таким постоянством, – улыбнувшись, заметила баронесса. – И поделом ему, изменнику. Хорошо бы сделали русские, если бы они запрятали его подальше, в Сибирь. Так?.. Вы согласны с этим?
– Что вы, что вы, баронесса! Нет, этого не надобно, это будет уж слишком жестоко, – надув губки, проговорила гостья. – Кто знает, быть может, я скоро пожелаю, чтоб он вернулся назад в Вену. Ведь это делается, собственно, только в виде опыта, а отчасти и в виде легкого наказания за его ветреность. Представьте, я недели три тому назад достоверно узнала, что он очень неравнодушен к певице Баттони. Она действительно очень миленькое создание, да мне-то какое до этого дело! Для меня это все равно! Так пусть он на время уедет из Вены, а я покажу ему, что я могу обойтись и без него…
«Какой сегодня вышел удачный день», – думала баронесса по отъезде молодой вдовушки, припоминая радость чопорной старушки при вести о назначении Рабутина на важный дипломатический пост и об удовольствии вдовушки по поводу его отъезда в Петербург. Она знала, что уже другой, красавец венгерец, владел сердцем ветреной дамочки и что этой последней хотелось поскорее сбыть куда-нибудь подальше прискучившего уже ей обожателя, чтобы на время его отсутствия из Вены воспользоваться полною свободой, не входя с ним ни в какие объяснения и притворяясь, что она огорчена его внезапным отсутствием.
Что же касается Рабутина, то и он, в свою очередь, не слишком горевал о предстоявшей разлуке. Он был такой же ветреник, как его родной дедушка, граф Рабютен-Бюсси, некогда довольно известный французский писатель, натерпевшийся немало горя и из-за женщины, и из-за литературы. Одна маркиза, которой он изменил, жестоко отомстила ему, насплетничав при дворе Людовика XIV*, что появившаяся в Париже книжка под заглавием «Histoire amoureuse des Gaules», в которой повествовались не воинские и царственные подвиги королей французских, а только их любовные похождения, сочинена была Рабютеном. Расправа с мнимым автором этой книжки со стороны Людовика XIV была очень коротка по самому ее исполнению, но зато очень продолжительна по ее последствию. Его без суда и допроса запрятали в Бастилию. Там безвыходно просидел он семнадцать лет, до тех пор, пока в часы одиночества надумал чересчур льстивую историю Людовика XIV, конечно, без малейшего упоминания об его амурных похождениях, а, напротив, выставляя его образцом степенности и скромности. За эту книгу, и прежде ни в чем не повинный, Рабютен получил всемилостивейшее прощение. Ему даже дозволено было показаться при дворе, но там он был принят чрезвычайно холодно, и фамилия графов Рабютен, стоявшая некогда в ряду первых французских царедворцев, потеряла свое прежнее, весьма заметное положение. Огорченный этим сын узника-писателя перебрался из Франции в Австрию, где фамилию его «Rabutin» стали произносить по немецкому чтению – Рабутин, и сын его стал известен в наших дипломатических сношениях с венским кабинетом, а, пожалуй, отчасти и в нашей истории прошлого столетия под фамилией «Рабутин», а не «Рабютен».
Быть может, несчастия, изведанные дедушкой Рабутина при версальском дворе, отбили у него охоту от сочинительства – так как он не писал никаких сочинений, занимаясь только составлением любовных писем и дипломатических сообщений, – но не отвадили его от волокитства. Уезжая в Петербург, австрийский дипломат главным образом основывал, пока только еще в воображении, свои успехи на сердечных отношениях к представительницам прекрасного пола. Для этого было у него немало задатков. Он был в цвете лет, красив собою, ловок, богат, смел и вкрадчив, так что имел все необходимые качества для успеха в большом свете. Унаследованные им от предков любезность и изящество тогдашнего французского дворянина соединялись в нем, в случае надобности, с последовательностью и устойчивостью немца. Короче сказать, Карл VI, благодаря указанию Туна, не мог бы из среды блестящей венской аристократии выбрать никого другого, кто бы так хорошо, как граф Рабутин, подходил для исполнения данного ему поручения.
При венском дворе лучше, чем где-нибудь, знали обо всем, что делалось тогда в Петербурге. Не только агенты Австрии, являвшиеся туда в разных видах, внимательно и зорко следили за всем, что там происходило, но и сами русские служили передатчиками пригодных для Австрии сведений из России, и в числе таких лиц был русский министр-резидент в Копенгагене Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, находившийся в самых близких отношениях к венскому кабинету. Хотя он давно уже не жил в России, но знал всю подноготную, благодаря сестре своей, княгине Аграфене Петровне Волконской. Полученные им от нее сведения он передавал по принадлежности в Вену, и таким образом ехавшему в Петербург Рабутину были уже достаточно подготовлены средства для его дипломатической деятельности в новой русской столице. Немало было у него разных нитей, которые с успехом могла приводить в движение его смелая рука, и Рабутин был на это не промах.
В Петербурге его встретили с почетом, как цесарского посла, и радушно, как умного и любезного человека, который умел с первого же раза понравиться каждому и в особенности каждой. Преемственная хитрость австрийской дипломатии и неразборчивость со стороны ее в выборе тех средств, которыми можно было воспользоваться для получения выгод венским кабинетом, в значительной степени облегчали Рабутину предстоявшую ему дипломатическую деятельность при русском дворе. Венский кабинет не жалел денежных средств на подкупы, на пенсии и на награды в тех случаях, где такие средства, смотря по обстоятельствам и лицам, оказывались нужными, и такое употребление денег было чрезвычайно важным условием для осуществления разных политических планов. Из напечатанной ныне переписки иностранных дипломатических агентов, находившихся в Петербурге в первой половине прошлого столетия, оказывается, что не только второстепенные служилые лица, но и «знатные обоего пола персоны» из русских были на жалованье у разных иностранных дворов. Дело доходило до того, что после смерти Петра Великого даже обладатель такого несметного богатства, как князь Меншиков, состоял на жалованье шведского кабинета, сообщая ему обо всем, что предпринималось в Петербурге по части внешней политики.
При жизни Петра I Австрия старалась, а отчасти и успевала, влиять на политику России через императрицу Екатерину, а для воздействия был избран известный Монс*, но когда голова этого очаровательного кавалера отлетела на плахе, то венский кабинет, как полезный для себя рычаг, наметил любимую камер-юнгферу* императрицы госпожу Крамер. На нее было указано и графу Рабутину при отъезде его из Вены. Подобные указания были бы, собственно, для него совершенно излишни, так как он сам по себе легко мог отыскать все пути и лазейки, тем более что в Петербурге он при посредстве Алексея Петровича Бестужева должен был на первых же порах близко сойтись с такою умною, хитрою и ловкою женщиной, какою была сестра Бестужева, княгиня Аграфена Петровна Волконская.
Немного нужно было Рабутину времени, чтобы приобрести себе внимание со стороны других петербургских дам и начать учить их плетенью придворных кружев по его узорам.
VI
Ко времени приезда Рабутина в Петербург этот только что начинавший обстраиваться город представлял странное зрелище для приехавшего туда с запада иностранца, привыкшего к иному складу городской жизни вообще, и в частности – к иной обстановке столиц хотя бы и самых значительных европейских государств. Там, в таких государствах, выстроены были более или менее обширные и роскошные замки и дворцы местных владетелей, то в готическом, то в итальянском вкусе; там возвышались храмы – произведения средневекового зодчества. Города эти были перерезаны тесными, извилистыми улицами, с узкими, в несколько этажей каменными домами, плотно жавшимися друг к другу. В западноевропейских городах все жили плотно друг с другом, не раскидываясь на широком пространстве, а такое сожительство служило как бы выражением тогдашнего корпоративного быта западных городов. В новой же русской столице, которая, с точки зрения ее основателя, должна была сделаться средоточием нашей морской торговли и в которой, за неимением еще нами доступа к водам Черного моря, должен был создаться наш военный флот – все пока носило отпечаток новизны, вовсе не изящной. Все жили еще вразброс, как бы отдельными слободами и посадами, и в этом последнем отношении Петербург как нельзя более напоминал покинутую царем Москву, от которой, в противоположность новой столице, веяло стариною.
Главной местностью Петербурга мог в ту пору считаться Васильевский остров, на котором выстроены были Сенат и высшие правительственные учреждения – коллегии. Здесь же сосредоточивалась на житье самая деятельная в торговом отношении и любимая государем часть петербургского населения – голландцы, а также англичане и вообще иностранцы под общим у русских названием «немцев». Петербургская сторона с построенною на одном из ее берегов гранитною крепостью*, напоминавшею о близости только недавно укрощенного врага, была занята разными воинскими командами. На правом берегу Невы*, противоположном Васильевскому острову, а также и Петербургской стороне, размещались придворный и служилый люд, а также и прибывающие в Петербург новые поселенцы из русских. Здесь были как бы особые части города, занятые солдатами, артиллеристами-канонирами, подьячими, мещанами, плотниками и разными ремесленниками. Город был еще небольшой и куда как бедно построенный и, разумеется, без всяких следов не только древности, но даже и старины. Значительное пространство в тогдашней его черте оставалось еще пустым и было покрыто лесом с болотами и топями, и в нем проводили длинные просеки, или перспективы. Росший же прежде по обоим берегам Невы густой лес был уже вырублен, и Нева, еще не обделанная в гранит, прельщала иностранцев своим величественным течением.
На одном из ее берегов, среди зелени, виднелось двухэтажное длинное здание* с широким, утвержденным на каменных столбах балконом, с большим дугообразным фронтоном, над которым возвышался невысокий купол или башенка, обложенная позолоченной жестью. Перед этим домом, едва ли не самым лучшим во всем тогдашнем Петербурге, у самого спуска с берега Невы стоял большой десятивесельный, богато убранный катер с бархатным над ним балдахином, увенчанным огромною золотою княжескою короною. Когда этот катер проезжал через Неву, то все плывшие по реке и большие, и малые суда сдерживали свой ход, боясь своим приближением потревожить бег великолепного катера. Стоявшие на берегу люди внимательно следили за ходом катера и при его приближении почтительно снимали шапки. Такой почет оказывался владельцу этого катера, сильнейшему в то время в России вельможе, светлейшему князю Александру Даниловичу Меншикову, герцогу Ижорскому. Все знали, что царствовавшая в то время императрица Екатерина подчинялась во всем безусловно его воле и что он мог делать все, что ему было угодно. В городе ходили настойчивые слухи, что князь сделается вскоре еще могущественнее, так как старшая дочь его выйдет замуж за великого князя Петра Алексеевича, который, по смерти императрицы, может наследовать престол, и таким образом князь сделается тестем государя, который, как незрелый и неопытный юноша, будет следовать во всем внушениям и советам своего тестя.
Князь и теперь уже жил среди такой пышной и роскошной обстановки, перед которой обстановка царя Петра казалась не только скромностью, но и просто убожеством. Всего, что могла доставить тогда Европа для поддержания роскоши, пышности и великолепия, было у него вдоволь. Редкие заморские растения и цветы наполняли его теплицы; зеркала, позолота, гобелены, мрамор, дорогие ткани, бронза украшали его чертоги. Окруженный богатством и почестями, он, однако, впадал иногда в глубокое раздумье, как бы предчувствуя непрочность своего высокого, исключительного положения, но раздумье это было обыкновенно весьма непродолжительно, так как на помощь ему тотчас приходили и бодрость, и самоуверенность, и решимость беспощадно расправляться со своими недоброжелателями и, уничтожив всех своих явных врагов, добраться, так или иначе, и до тайных недругов.
«И не в таких переделках бывал я еще при царе Петре, – думал порою он, – да всегда дело кончалось во вред моим противникам, а теперь мне с ними рассчитываться гораздо легче, нежели в прежнее время».
Раздумывая об этом, Меншиков невольно припоминал протекшую свою жизнь, с той поры, когда он, ничтожным Алексашкой, начал свое поприще нравственным позором и рубкою в Москве стрелецких голов на плахе. Многое из былого быстро мелькало в его мыслях: и поля битв, на которых он отличался доблестью, и шумные пиры; посреди этих воспоминаний являлся чаще всего облик молоденькой лифляндской пленницы, взятой им в свой дом у фельдмаршала Шереметева и сделавшейся теперь повелительницею России; припоминалась ему и ходившая по его спине дубинка грозного царя, так часто миловавшего своего любимца за то, за что другие виновные получали страшное возмездие. Невольно он видел в своей жизни какое-то особенное предназначение и верил в свое счастье, которое должно было охранять его, как баловня судьбы, от всяких наступавших на него несчастий. Промелькнул перед ним и призрак царевича Алексея*, но не смутился в своей совести Меншиков, считая себя невиновным в его погибели.
«Я тут был ни при чем. Пусть укоряют меня, как хотят, но совесть моя в этом деле спокойна», – думал он при этом воспоминании.
Однажды, во время такого раздумья, домоуправитель князя, или, как называли его, «маршалок», осторожным шагом вошел в кабинет князя-герцога.
– Что тебе нужно? – отрывисто спросил он своего ближайшего наперсника.
– Пришел доложить вашей светлости, что его королевское высочество прибыть к вам не может. Изволили отозваться нездоровьем, – добавил маршалок.
Взволнованный этим докладом, Меншиков быстро приподнялся с кресел и заходил большими шагами по комнате, в то время как его служитель, прижавшись к стене, стоял неподвижно в ожидании распоряжений своего господина.
– Да он мне вовсе и не нужен, – презрительно сказал Меншиков, скрывая свою досаду. «Я потребовал его к себе, – подумал князь, – для того только, чтоб убедиться в его покорности, так как замечаю, что он все выше и выше задирает нос, надеясь на свою тещу и на заступничество своей жены; но с ним я сумею поступить так, как он вовсе не ожидал». – Ступай и позови ко мне сейчас Андрея Яковлевича*, – сказал он сурово, обращаясь к маршалку, отвесившему ему в ответ на эти слова раболепный поклон и кинувшемуся опрометью, чтоб исполнить приказание князя.
Меншиков, сильно волнуясь, продолжал ходить по комнате, когда к нему явился потребованный им его секретарь Яковлев.
– Садись и напиши сейчас указ Верховному совету о прекращении герцогу Голштинскому пожалованных ему с острова Эзеля доходов; вот перо, а вот и бумага, – сказал Меншиков, повелительно указывая секретарю рукою на стол. – Садись на мое место и пиши.
Секретарю, привыкшему только стоять неподвижно перед князем, было не только неловко, но и как-то боязно усесться за стол, да притом еще и на великолепное кресло князя, и он мялся на месте.
– Слышал, что я тебе приказал? Садись и пиши.
Секретарь повиновался, и перо заскрипело под его дрожащею рукою.
Меншиков подошел к столу, оперся на него одною рукою и продиктовал, что следовало написать. Указ был краток и изложен не совсем складно. В нем не приводилось никаких причин и никаких поводов к тому распоряжению, которое в нем прописывалось и которое так неожиданно направлено было против зятя государыни. Меншиков приказал секретарю прочесть вслух написанное.
– Так будет ладно. Чего тут вступать в объяснения с этим немцем, да и не поймет он толком их. Живет в России лет пять и еще слова не научился по-русски, а между тем хочет вмешиваться и требует себе царских почестей. Как же!.. Так вот я сейчас и уступлю ему первенство… Теперь опомнится. А то и совсем его выпровожу отсюда, подобру-поздорову, – бормотал про себя князь. – Теперь ступай отсюда и вели сейчас же запрячь парадную карету, а сам вернись ко мне, – сказал он Яковлеву.
Секретарь исполнил данное ему приказание и снова явился к князю.
Заметно было, что князь, несмотря на все его желание казаться спокойным, был сильно встревожен решительною мерою, предпринятою им против герцога. Он понимал очень хорошо, что вступает в решительную борьбу с своим главным противником. Правда, герцог сам по себе, как личность вовсе незначительная, не мог быть опасен умному и смелому временщику. Герцога не только не любили все русские, но просто даже ненавидели за его высокомерие. Но поддержка у него для борьбы с Меншиковым, казалось, найдется весьма сильная. Супруга его, цесаревна Анна Петровна, была не только любимою дочерью императрицы, но и все русские были расположены к ней за ее доброту и обходительность, как бы составлявшие противоположность отталкивавшим свойствам ее мужа, который, вдобавок к своим недостаткам, любил еще и выпить. Петр Великий оказывал ему полное пренебрежение и не соглашался выдать Анну за герцога, так что брак его с нею мог состояться только после кончины государя.
– А что толкуют в городе? – спросил князь возвратившегося в кабинет секретаря. – Чай, крепко меня оговаривают?
– Да разве можно оговаривать в чем-нибудь особу, столь непричастную никакому злу, каковою изволите быть ваша светлость? – поспешил ответить секретарь.
– Вы все передо мною лицемерите, – презрительно перебил князь льстеца. – И ты сам Бог весть что обо мне за глаза говоришь в угоду моим хулителям…
– Сохрани меня и помилуй, Господи! – вскрикнул, открещиваясь, испуганный секретарь. – Всем и каждому прославляю я истинные и великие добродетели вашей светлости, да и могу ли что-нибудь дурное помыслить о персоне вашей? Что я такое? – ничтожный червь перед величием вашим.
– Вишь ведь, как красно научился говорить в Заиконоспасской академии*, – шутливо-ласковым голосом сказал князь. – Не хуже нашего Феофана*. Ну, а об Аграфене что слыхал?
– Слышал я, что она при ее высочестве великой княжне Наталии Алексеевне хочет состоять гофмейстериной, – как будто спроста проговорил секретарь, подученный заранее противниками княгини Волконской сказать о ней князю при удобном случае неприятное ему слово.
Меншиков побагровел от гнева.
– Вот я устрою ее сам! Знаю я, что она исподтишка делает. Выпроводить ее отсюда следовало бы, да с нею заодно и многих ее приятелей. Баба она, правда, умная, да уж больно прытка: целым царством править бы хотела. Ну, а Наталья Лопухина?
Меншиков ожидал ответа, вспоминая о том, как эта красавица сблизилась с Рейнгольдом Левенвольдом в то время, когда Левенвольд был в особой милости у государыни, старалась действовать через него на Екатерину, хотя и не прямо во вред ему, Меншикову, но нередко против его личного желания.
Спрошенный не знал, что отвечать на этот вопрос, и только как-то нерешительно мялся.
– Больно болтлива она. Всякие пустяки мелет. Вспомяни меня, что ей когда-нибудь язык отрежут, – пророчески добавил Меншиков.
На этот раз расспросы князя прекратились. Он спешил ехать к государыне с докладом о герцоге. Но в голове его мелькали еще лица, которых он считал недружелюбно расположенными к себе; в числе их была царевна Елизавета Петровна, а также и царевны «Ивановны», на которых, правда, никто не обращал никакого внимания, да и сверх того, одна из них, вдовствующая герцогиня Курляндская Анна Ивановна, жила в Митаве; но ее-то именно и хотелось Меншикову выжить поскорее оттуда, так как он сам намеревался сделаться герцогом Курляндским, а герцогиня, напротив, хотела подыскать себе такого жениха, который мог бы, женившись на ней, получить курляндскую корону. Такое столкновение и было причиною их взаимной неприязни, не обращавшейся, впрочем, в явную вражду. Подумал Меншиков и о княгине Марфе Петровне Долгоруковой, отец которой пострадал из-за него; но Меншиков не слишком опасался этой молодой женщины, так как пока семейство Долгоруковых находилось к нему в хороших отношениях, а сама княгиня не пользовалась еще таким личным влиянием, которое могло бы обратиться в оружие, вредное для временщика. Не нравились только ему близкие ее отношения к Волконской; но предположенная им расправа с этой последней должна была разрушить союз Долгоруковой с Волконской, если бы такой союз твердо установился между ними.
В это время к парадному подъезду подъехала большая и тяжелая карета, с кузовом в виде плоского купола, над которым блистала огромная княжеская корона. Карета с зеркальными стеклами, обитая внутри темно-красным бархатом, блистала снаружи яркою позолотою, перемешанною с различными узорами и рисунками и с гербом князя Ижорского на дверцах. За каретою выстроились сидевшие на превосходных конях шесть вершников, по два в ряд, а около нее по сторонам каретной дверцы находились два гайдука в ожидании выхода князя, чтобы подсадить его на отложенную в пять ступенек каретную подножку.
Положив в боковой карман своего кафтана написанный секретарем указ и накинув епанчу*, Меншиков сел в карету. Прислуга знала уже заранее, что князь отправляется к государыне, так как вперед него никуда не был послан ездовой, обыкновенно скакавший во всю прыть для предварительного извещения той особы, которую удостаивал «светлейший» своим посещением и которая должна была заблаговременно приготовиться для встречи именитого гостя. Только к одной государыне князь не позволял себе отправлять такого посланца.
VII
Еще при жизни Петра Великого, лет за пять до приезда в Петербург графа Рабутина, сюда явился один из польских панов, по фамилии Грудзинский. Приехал он не в качестве какого-нибудь дипломатического агента и не в качестве искателя приключений, каких в Петербурге тогда являлось немало с предложением государю различных проектов или только своих личных услуг. Пан Грудзинский был человек весьма почтенный и состоятельный и имел весьма важное в тогдашней Польше звание старосты. Приехал он в Петербург только из дружбы к польскому магнату Яну Сапеге*, известному и знатностью своего рода, и своим громадным богатством, – и притом приехал в качестве свата. В Польше, где внимательно следили за положением дел в России, знали и отчасти, быть может, преувеличивали то действительно большое значение, какое имел князь Меншиков при царе Петре Алексеевиче. Да и кроме того, Меншиков был лично знаком полякам, так как он начальствовал над бывшими там русскими войсками и даже одержал при Калише* одну из главных побед над противниками польского короля Августа II шведами. Польские магнаты в князе Меншикове, при усиливавшемся влиянии России на дела их отечества, могли видеть значительную поддержку для партии, к которой принадлежал тот или другой, и из них Ян Сапега захотел воспользоваться такой поддержкой для усиления своей партии; быть может, ему, в случае ее успехов, грезилась даже королевская корона. Да и отчего бы не могло это случиться на самом деле? Если король шведский Карл XII нашел возможным посадить на польский престол Станислава Лещинского*, менее знатного и менее родовитого пана, чем Ян Сапега, то почему не мог сделать то же самое, при известных обстоятельствах, и русский царь Петр в отношении преданного ему такого важного магната, каким был Ян Сапега?
Как бы то ни было, но староста Грудзинский приехал в Петербург в качестве свата с письмом от Яна Сапеги, в котором заключалась просьба о руке старшей дочери Меншикова, княжны Марии, для сына Яна Сапеги – Петра*. Эта брачная чета была еще в ребяческом возрасте: жениху было лет тринадцать, а невесте еще менее. Но слишком ранние браки не были тогда редким явлением ни в Польше, ни в России. Очень часто и там, и здесь выдавали девушек замуж в то время, когда они забавлялись детскими играми. Сверх того, при сватовстве – в особенности между знатными семействами в Польше – дело шло не столько о самом браке, сколько о заблаговременной помолвке. Браком же можно было и повременить в случае крайней молодости жениха или невесты или их обоих, но семейства, просватавшие жениха и невесту, считались уже родственными и усердно поддерживали одно другое.
«Такое родство было бы, пожалуй, мне и кстати. Курляндия состоит под верховною властью Польши, и от польского сейма зависит избрание герцога, а между тем голос Сапеги и голоса его сторонников должны иметь на сейме большую силу», – рассуждал Меншиков, начавший еще при Петре Великом подумывать о том, чтобы сделаться герцогом Курляндским.
Независимо от этого вообще родство с Сапегами для такого выскочки, как Меншиков, должно было казаться честию; но по мере возвышения он не удовлетворялся уже такою брачною связью и рассчитывал посредством браков своих дочерей породниться с германскими владетельными князьями. Такой союз казался ему как-то важнее, чем союз с Сапегою, все-таки невладетельной фамилией. Кто знает, быть может, он уже и тогда рассчитывал на возможность брака своей дочери с великим князем Петром Алексеевичем.
Не желая, однако, упустить окончательно все-таки подходящего во многих отношениях жениха, каким был подрастающий Петр Сапега, Александр Данилович не послал отцу его решительного отказа. С своей стороны и пан староста стал действовать настойчивее и, зная о могуществе Меншикова вследствие вступления на престол Екатерины, отправил в Петербург своего сына.
Не многие из мужчин могли рассчитывать на такие блестящие победы над женщинами, как этот юноша. С внешностью, которая поражала и красотою, и стройностью, он соединял ловкость и смелость, отличаясь в то же время и светскою обходительностью. Разумеется, петербургские дамы и девицы не замедлили плениться таким очаровательным молодым человеком, а в числе их была и княжна Марья Александровна. Полюбился молодой Сапега и Меншикову, до такой степени, что он пригласил его на житье в свой дом. Екатерина Алексеевна оказалась также неравнодушна к красавцу поляку и желала, чтоб он оставался в Петербурге. Устроить это было легко: стоило только женить Петра Сапегу на Меншиковой, а потому она с своей стороны принялась убеждать Меншикова согласиться на предложенный брак. При благосклонности ее к Петру Сапеге не был забыт и Меншиков, сыну которого была предложена самая богатейшая в России невеста – княжна Варвара Алексеевна Черкасская, но сердце блестящего гофмаршала принадлежало уже другой – Наталии Федоровне Лопухиной.
12 марта 1726 года в великолепном доме Меншикова собралась вся тогдашняя петербургская знать. Залы этого дома наполнились гостями. В одной из них был поставлен богатый аналой*, с положенными на нем крестом и Евангелием, а на столе, покрытом алым бархатом, стояло золотое блюдо с обручальным кольцом. Среди находившихся здесь гостей выдавался особенно жених-красавец Петр Сапега – высоким ростом, статностью и молодецкой осанкой. На нем был надет атласный, голубого цвета жупан, а поверх этого коренного польского одеяния был надет заимствованный поляками с востока кунтуш – другой кафтан из белого атласа, рукава которого, по обычаю, соблюдавшемуся у поляков в торжественных случаях, были надеты на руки и заложены концами на плечи. Кунтуш был перетянут великолепным, литым из серебра поясом, а на осыпанной драгоценными камнями рукоятке кривой, в позолоченных ножнах сабли лежала большая, с четырехугольной верхушкой, из голубого бархата шапка с собольим околышем и с пером цапли, прикрепленным богатым бриллиантовым аграфом*, подаренным императрицею. Большой, с остроконечными концами ворот рубашки, разложенный по воротничку кунтуша, был зашпилен бриллиантовой запонкой, составлявшей по величине и по радужной игре камней самую главную драгоценность в сокровищнице Сапег, считавшихся одними из первых богачей тогдашней польской магнатерии*. На ногах у жениха были высокие сапоги красного цвета, так как большие паны и шляхтичи, следуя издавна установившейся моде, носили сапоги такого цвета, какого был щит их герба.
Среди пожилых гостей выдавался также и сановитый отец Петра Сапеги, с длинными, опущенными книзу усами, высоким крутым лбом и с голубыми навыкате глазами. Коренной польский магнат, относившийся небрежно к своим собратам в Польше и презрительно обращавшийся с заурядными своими братьями-шляхтичами, был теперь, по-видимому, наверху самодовольства, вступая в родство с таким проходимцем, каким был сам по себе светлейший князь Меншиков, герцог Ижорский. Но все прошлое давно было уже забыто, и Меншиков, достигший теперь вершины своего могущества, был окружен королевскою пышностью.
Рядом с своей матерью и младшею сестрой стояла невеста. Никто не мог бы назвать эту черноволосую, смуглую, с продолговатым лицом и длинным носом девушку красивой, и только кроткий взгляд ее больших темных глаз и добрая улыбка, в соединении с очень раннею молодостью, придавали некоторую приятность ее лицу. Великолепный наряд невесты как бы служил к этому добавкой: на плечах ее, как княжны или принцессы Священной Римской империи, была накинута пунцовая бархатная мантия, подбитая горностаем и застегнутая у шеи огромным бриллиантовым аграфом; на голове была небольшая, блестевшая разноцветными лучами корона, а корсаж, крепко стянутый на ее не сложившемся еще окончательно стане, отливал игрою драгоценных камней и жемчуга ослепительной белизны.
Впереди всех гостей, в расстоянии от них на несколько шагов, стоял отец невесты, в расшитом золотом кафтане и в парике с длинными локонами. Он смотрел на дверь залы, ожидая, когда будет подан знак о приближении государыни, чтобы выйти к ней навстречу на парадную, богато украшенную лестницу.
Несмотря на свое могущество и на ту полную зависимость, в которой находилась от него императрица, он оказывал ей, при посторонних людях, не только подобающее ее высокому сану уважение, но и раболепное благоговение, понимая очень хорошо, что с величием бывшей мариенбургской пленницы соединено его собственное величие и властительское его обаяние.
По данному знаку он быстро вышел на лестницу, и вскоре на хорах обширной залы раздались звуки труб и гром литавр, возвестившие о прибытии государыни. В предшествии обер-гофмаршала Левенвольда, разряженного в кружева и ленты и считавшегося первым щеголем в тогдашнем Петербурге, и сопровождаемая следовавшим за нею на почтительном расстоянии князем-герцогом, вступила в залу Екатерина, встреченная почтительными поклонами всех присутствовавших. Пройдя через ряд заранее еще расступившихся гостей, она милостиво дала поцеловать свою руку жениху и невесте и как бы ободрила их своим благосклонным взглядом. Императрица взошла на приготовленное для нее под бархатным балдахином у одной из стен залы возвышенное место и села на приготовленное там для нее кресло.
Обыкновенно привыкли воображать Екатерину, «чернобровую жену» Петра, красавицей, подходившей по росту к «чудотворцу-исполину», и даже портреты ее стараются засвидетельствовать об этом. Но во время своего царствования она не отличалась ни красотою, ни станом. Екатерина была тогда женщиною уже пожилых лет, и, разумеется, к этой поре должна была поблекнуть та свежесть молодости, которая прельщала когда-то и сподвижников царя, и наконец, как надобно полагать, прельстила его самого в простой латышской девушке Марте. Но и при этом условии в ней могла сохраниться та величавость, какою должна была бы отличаться царица. На деле, однако, и этого не было. Екатерина была приземистая и толстая женщина без всякой осанки. Ее низкий рост и неуклюжесть стана чрезвычайно поразили увидевшую ее в первый раз маркграфиню Байретскую, которая и сохранила в своих любопытных «записках» подробное описание наружности Екатерины, не отличавшейся ни выражением лица, ни изящными чертами.
Императрица приехала на обручение княжны в сопровождении придворных, среди которых по своей красоте особенно выдавалась ее недавно назначенная статс-дама Наталья Федоровна Лопухина. Она отличалась и простотою наряда. На ней не было ни жемчуга, ни драгоценных камней. Сама она, как девушка из небогатой немецкой семьи Балков, не получила богатого приданого, а после разгрома, нанесенного Петром Великим семейству Лопухиных и его родственникам, муж Наталии не был настолько богат, чтобы доставить жене те дорогие украшения, которые обыкновенно в прежнюю пору собирались в боярских семействах в нескольких поколениях, переходя от одного из них к другому, которые так любили выставлять напоказ русские барыни прошлого столетия.
Тотчас после того, как государыня заняла свое место, начался обряд обручения, после которого один из ближайших друзей князя, архиепископ новгородский Феофан Прокопович, произнес «предику»*, в которой, сверх пожеланий всякого благополучия обрученной чете, слышались похвалы – и, разумеется, крайне напыщенные – как князю Меншикову, так и роднившейся с ним фамилии Сапег.
Императрица выразила свою благосклонность жениху и его отцу, и так как им не нужно было никаких подарков, то были назначены почетные награды. Старик Сапега был прямо пожалован в русские генерал-фельдмаршалы, а сын его – в действительные камергеры.
Обручение закончилось пышным пиром в доме Меншикова: там происходили танцы, подавали изобильный и роскошный ужин с дорогими винами, и наконец была неизбежная в ту пору для мужчин попойка, в которой особенно деятельное участие принимали «знатные мужеского пола персоны».
VIII
Если собравшаяся в доме Меншикова петербургская знать обращала особенное внимание на Наталью Лопухину, бывшую тогда в полном расцвете своей красоты, то многие, хотя и сдерживаемые особою почтительностью, пристально засматривались на стоявшую около кресел императрицы молодую девушку. Девушка эта, цесаревна Елизавета, лет семнадцати, довольно высокая, чрезвычайно стройная, с распущенными по плечам русыми локонами и голубыми глазами, казалась сказочной русской красавицей – такой красавицей, какую исстари создало воображение русского человека. Она, по-видимому, совершенно равнодушно смотрела на то, что происходило в зале, но на деле очень зорко следила за Лопухиной, о красоте которой тогда так много говорили. Какое-то тайное недружелюбие, как будто зависть и даже ревность, почувствовала она к этой молодой женщине, которая хотя и была старше ее годов на семь, но, как было заметно, очаровывала всех не только своею наружностью, но и своею бойкою любезностью. Елизавете казалось, что она должна была бы уступить Лопухиной, если бы когда-нибудь в жизни им пришлось встретиться как соперницам. Елизавета в эту минуту не соображала, что те любезности, которые могли оказывать мужчины Лопухиной, они не могли оказывать ей, как цесаревне. В особенности неприятно казалось ей, что на Лопухину засматривался Александр Петрович Бутурлин, один из самых блестящих придворных красавцев того времени. К нему сама Елизавета чувствовала уже затаенное сердечное влечение – чувствовала ту первую любовь, которая так сильно и безотчетно начинает тревожить сердце девушки и порождает вражду к той, кто кажется ей соперницей.
Пересуды и сплетни господствовали тогда сильно в небольшом еще петербургском высшем обществе, где все были наперечете и, так сказать, на глазах друг у друга. Привычка московских «кумушек» оговаривать с особенным удовольствием молодых женщин перешла и в Петербург, получив здесь еще более применения, так как при начавшихся выездах женщин в общество представлялось теперь более случаев и более поводов говорить и были, и небылицы. В особенности задавала большую работу злым языкам Наталья Федоровна Лопухина. Она была не только молодая и хорошенькая женщина, но и жила не в ладах и даже врозь с своим мужем, который дал ей полную волю проводить время, как она хочет, и даже до такой степени был в этом случае равнодушен, что, как пишет леди Рондо*, «когда его поздравляли с новорожденным сыном и спрашивали о здоровье его жены, то он беззастенчиво предлагал поздравляющим и спрашивающим относиться к Левенвольду».
Семейство, к которому принадлежала по своему рождению Лопухина, и по мечу, и по прялке было известно происходившими в нем соблазнами: и Матрена Ивановна Балк, мать Лопухиной, и брат ее, придворный кавалер Вильям Монс, еще весьма недавно заставили так много говорить об их любовных похождениях. Примешивались к тому и другие еще обстоятельства; семейство Лопухиных, родственное семейству царскому, было при Петре Великом в опале и в загоне, а теперь фамилия эта если и не начала возвышаться снова, то уже входила в милость при дворе, именно на первый раз в лице хорошенькой Натальи Федоровны, конечно, в память Вильяма Монса, погибшего на плахе из-за Екатерины.
С своей стороны Елизавета не могла относиться сочувственно к Лопухиным, так как Евдокия Федоровна Лопухина была по своим правам соперницей ее матери, Екатерины, или прежней Марты.
Пир, который после обручения шел в доме князя Меншикова, мог с первого взгляда показаться одним из тех блестящих балов, которые давались в богатых и знатных домах тогдашней Западной Европы, а по своей великолепной обстановке не только не уступал торжественным собраниям бывших владетельных особ во Франции, Италии и Германии, но, пожалуй, и превосходил их. Здесь было то же самое роскошное убранство комнат, залитых светом восковых свечей, горевших в бронзовых канделябрах, в спускавшихся с потолков хрустальных люстрах и отражавшихся бесчисленными огнями в громадных венецианских зеркалах, а также на позолоте стен, плафонов и мебели. Здесь была та же роскошь драпировок из шелковых тканей и бархата на окнах и на дверях. Вообще же вся обстановка новопожалованного князя была совсем уже не то, что в прежних боярских хоромах с их дубовыми столами и скамьями, затканными камкой или персидскими коврами, без тех дополнительных роскошных украшений, которые становились теперь обычною принадлежностью в жилищах русской знати, поселившейся в Петербурге.
На столах, приготовленных для ужина, были расставлены груды деревянной посуды, а на особом столе, накрытом на позвышении под балдахином, были поставлены только четыре прибора. Стол этот, предназначенный для императрицы, двух ее дочерей и зятя ее, герцога Голштинского, был загроможден золотою посудою, в числе которой были и приобретенные за границею древние драгоценные кубки венецианской и флорентинской работы. Около столов суетилась многочисленная прислуга, одетая в ливрею князя Ижорского.
В громадной зале, где происходили танцы, играли музыканты – иноземцы. Оркестр князя Меншикова по нынешнему времени показался бы не только слабым, но и жалким. Но в ту пору он был вполне удовлетворителен и не оставлял желать ничего лучшего, так как тогда даже в тех странах, где музыкальное искусство достигло высшего развития, не только бальные, но и оперные оркестры были весьма немногочисленны по их составу и по разнообразию инструментов. Самое большое число музыкантов, составлявших оркестр, не превышало десяти – двенадцати человек, причем волторны и литавры были главными инструментами.
По существовавшему тогда придворному этикету представители иностранных держав отдавали сидевшей в танцевальной зале на возвышении императрице «глубочайший решпект». Стоявший около возвышения гофмаршал называл являвшихся к государыне дипломатов по их званиям и фамилиям, а они с низкими поклонами, прижимая к сердцу свои треуголки, вычурною поступью приближались к государыне, и когда она протягивала им руку, то они, всходя на ступени возвышения, почтительно целовали ее. После этого представления начались танцы.
Вследствие частых побывок Петра и близких к нему лиц в Польше при русском дворе при водворении танцев был введен и польский, как танец не только торжественный, но и подходящий для каждого и для каждой, несмотря на самый почтенный возраст, а вместе с тем и как вполне доступный по своей простоте и не требовавший предварительного обучения. В первой паре пошла императрица с светлейшим хозяином; за ними шли герцогиня Голштинская с молодым Меншиковым, а далее герцог Голштинский с невестою и цесаревна Елизавета с графом Рабутиным. После нескольких кругов польского начались другие танцы, которым как русских кавалеров, так и русских дам и девиц научили не только в Петербурге, но и в самых отдаленных уголках России, даже в Сибири, пленные шведы, большие любители таких увеселений.
Теперь в нарядах, введенных Петром Великим, недавние русские боярыни и боярышни казались уже французскими герцогинями и маркизами. Не было уже видно здесь ни московских ферязей, ни прабабушкиных головных уборов, которые заменялись парикмахерскими куафюрами*, искусственными цветами и париками и подвешенными локонами с примесью различных бриллиантовых украшений. Шелковые ткани, бархат, ленты и кружева составляли теперь существенную принадлежность дамского наряда, но зато самая главная принадлежность нынешнего бального туалета – перчатки – не были еще в употреблении; дамы и девицы тогдашней поры являлись на вечера с голыми ручками или руками. Только Елизавета Петровна, сделавшаяся со времени своего вступления на престол первою щеголихою в своей и тогда еще обширной державе, стала носить на балах перчатки. Но с этою принадлежностью наряда было немало хлопот. Закупать для Елизаветы перчатки, или – как их тогда называли и русские дамы, и сама императрица – «рукавицы», поручаемо было русским дипломатическим агентам, находившимся в Париже, и много повозились там с такими закупками сперва русский посланник, известный князь Антиох Кантемир, а потом и поверенный в делах Бахтеев. Они запаздывали нередко с их присылкою, за что, как видно из дел иностранной коллегии, не только получали замечания, но и выговоры. Присылка от «дофинши» русской императрице дюжины перчаток считалась тогда истинно королевским подарком. Да и позднее даже римско-немецкая императрица Мария-Терезия очень часто обходилась в Вене без перчаток в таких торжественных случаях, где ей приходилось выставлять напоказ свое королевско-императорское величие.
Если, однако, ближе бы присмотреться к гостям и гостьям, бывшим на пиру у герцога Ижорского, то оказалось бы, что приемы их взаимного обращения и вся общественная складка слишком разнились от того, что представлялось в этом отношении на Западе, давно уже привыкшем к собраниям такого рода. Дамские самые богатые наряды не отличались ни вкусом, ни изяществом, так как грубая роскошь проявлялась в них наряду только с попыткою одеться на западноевропейский лад. Слишком много было здесь и неуклюжего, и не соответствовавшего одно другому. Об обаятельности, а тем более об утонченности обращения не могло быть и речи. Не привыкшие еще к общественной жизни петербургские дамы жались в кучку одна к другой; кавалеры, в свою очередь, не знали, куда стать и как держать руки, а подучившиеся светскости у иностранцев выдавали свой еще плохой в этом случае навык натянутостью и искусственностью. Только весьма немногие из русских дам, как, например, Волконская, Долгорукова и Лопухина, с детства освоившиеся с кружком образованных иностранцев, отличались от своих соотечественниц тою развязностью, находчивостью и любезностью, какие усвоили себе представительницы их пола в других европейских странах.
Среди собравшихся у Меншикова гостей, преимущественно «знатных персон», были еще и такие лица, которые, не занимая особенно высокого служебного положения, пользовались посредством разных путей, или – как тогда стали выражаться – посредством «каналов», большим или меньшим влиянием на дела всякого рода, а между прочим, отчасти и на дела государственные. Здесь можно было увидеть, например, Маврина*, состоявшего при великом князе Петре Алексеевиче и оказывавшего на своего питомца такое влияние, которое стало озабочивать слишком ревнивого к своей власти Меншикова. Ходил по залам Меншикова и ловкий, занимавшийся темными делами прежний денщик Петра Первого, а ныне член военной коллегии Егор Пашков*. По внешности своей особенно выдавался среди гостей одетый в богатый французский костюм «араб Петра Великого» Абрам Петрович Ганнибал*.
Внимательный наблюдатель мог бы подметить, что все собравшиеся в доме Меншикова дамы и мужчины составляли как бы свои особые, тесные кружки; представители и представительницы этих кружков, сходясь между собою, осматривались кругом и менялись один с другим короткими замечаниями, перешептывались и прекращали разговор, когда приближался к ним кто-нибудь не из их стана. Трудно было догадаться, о ком или о чем велась беседа, но бросаемый по временам арабом взгляд, с выдающимися на его черном лице белками, и оскаливаемые им белые зубы могли наводить на мысль, что в той среде, где он находился, он встречал немало своих врагов. Пашков своими рысьими глазами зорко следил за некоторыми из гостей; целью его наблюдений было подметить, к кому из гостей с особенною благосклонностию обращался хозяин-временщик. Надобно, однако, полагать, что такое наблюдение не могло сопровождаться особенным успехом. Горделиво прохаживался Меншиков по отъезде императрицы по своим чертогам. Его плотно стиснутые тонкие губы и нахмуренный лоб как бы свидетельствовали, что он был занят не происходившим у него веселым пиршеством, но думал о чем-нибудь другом, а бросаемые им на гостей суровые взгляды выражали надменность и в то же время наблюдательность. Пристально взглянул он на стоявшего почтительно на его пути араба и грозно с головы до ног окинул глазами Егора Пашкова. Такие взгляды «светлейшего» были не очень приятны тем, на кого они направлялись, а Пашков, опустив голову, заметно смешался. Ему казалось, что Меншиков заглянул ему в душу.
IX
На другой день после торжественного обручения новый генерал-фельдмаршал Ян Сапега продолжительное время беседовал со своим будущим сватом, которому он передавал только что полученные им из Польши сведения. Меншиков то хмурил брови, то весело взглядывал на своего собеседника, так как сообщаемые Сапегою известия были очень разнообразны, и они то отнимали у князя, то придавали ему надежду на успех в его честолюбивых замыслах.
– Король Август* больше ничего, как большой руки плут, – говорил, волнуясь, Сапега, – и недаром я два раза пытался составить против него конфедерацию, чтобы прогнать из Польши. Да, а теперь он хочет нанести вред Речи Посполитой. Он слишком хитрит, делая вид, будто не хочет, чтоб сын его сделался герцогом Курляндским, а между тем, как я узнал достоверно, тайком помогает ему. Скажу тебе, князь, что если я и стараюсь содействовать тебе в твоих замыслах на Курляндию, то делаю это только по дружбе к тебе и по будущему родству с тобою, а собственно, мне и моей партии было бы удобнее, если бы Август пристроил своего сына в Курляндии: тогда бы в самой Польше поднялось против него страшное неудовольствие. Все поляки закричали бы в один голос, что он, как немец, мирволит курляндским немцам и из-за них, а также из-за своего сына забыл принятую им на себя обязанность защищать права и выгоды Речи Посполитой.
– Спасибо тебе, пан Ян, за твою дружбу, – сказал по-польски Меншиков, научившийся говорить на этом языке при своих частых побывках среди поляков. – Если мне будет хорошо, то, поверь, и тебе будет не худо; мы теперь уже свои люди, будем помогать друг другу.
– Знаю, знаю, мой коханый, – перебил Сапега, – мы будем действовать сообща, как добрые приятели.
– Я, сделавшись герцогом Курляндским, помогу, пожалуй, тебе сесть на польский престол. Ведь у меня будет тогда в Польше сильная партия, а именно та, которая доставит мне курляндский престол. Составляй же ее поусерднее, не ленись.
– Что мудреного! – не без заносчивости заметил Сапега. – Я нисколько не хуже, даже гораздо родовитее Собесских и Лещинских*, а ведь и они попали в короли. Да притом, мой коханый пан Александр, если ты, не немец и не лютеранин, сможешь быть герцогом Курляндским, то отчего же мне, Сапеге, поляку и католику, не быть королем польским? Ведь у нас, как ты сам знаешь, каждый шляхтич – пяст*, то есть такое лицо, которое может по праву рождения получить королевскую корону. Нужен только случай – и ничего больше.
– Но ведь и я, по пожалованным мне в Польше имениям и по полученному мною от сейма индигенату*, также польский шляхтич. Следовательно, и я мог бы сделаться королем польским. Только разве по вере моей я не могу быть им.
– Ну уж, приятель, оставь королевство на мою долю, – полушутя сказал Сапега, – а сам прежде всего сделайся герцогом Курляндским: это гораздо легче, да и при всем шляхетском равенстве в Польше все-таки владетельный герцог и польский сенатор, если ты им сделаешься, скорее может попасть в короли, чем простой шляхтич, каким ты у нас числишься.
Хотя разговор этот и имел отчасти шуточный оттенок, но тем не менее слишком широкие честолюбивые помыслы быстро возникли в голове Меншикова, который должен был верить в предопределенное ему на роду счастье, дойдя из ничтожества до той высоты, на которой он теперь находился.
– Нужно, брат, чтоб за твое дело в Польше взялись не одни паны, но и панны; они ловко все сумеют обделать, – сказал Сапега.
– Знаю я их. Ох, какие бойкие! – перебил Меншиков.
– Вот хоть бы и теперь. Положим, что Мориц* – сын короля, хотя и с левой руки, и сам король, как я сказал, тайком помогает ему, а не возьмись за него маршалкова Белинская да гетманша Потехина – ничего бы не было. Они ему и сильную партию составили, и денег добыли. У нас женщины работают куда как ловко. В любовницы к старикам бескорыстно идут для того только, чтоб влияние на политические дела иметь. Вот хоть бы из-за чего панна Понятовская с вашим Репниным* так близко сошлась? Влюбиться она в него не могла. Денег, разумеется, ей от него не нужно, а через него она делает много такого для Польши, чего Репнин ни для кого другого никогда бы не сделал. Вкрадутся они в душу, уговорят, и сам не почувствуешь, как поддашься красоте, – проговорил Сапега, покручивая свой ус.
– У нас теперь то же самое заводится, да только бабы наши еще не изловчились: не умеют еще прельщать так мужчин, как прельщают ваши; не больно они умелы на этот счет, а уж начинают соваться всюду. Вот хоть бы Аграфена Волконская. Мне хорошо известно, что она с Рабутиным ведет дела вкупе, да и как хитрит: хлопочет только о великом князе Петре Алексеевиче, а мне подпускает в ухо, что устраивает это дело для меня… Так я этому и поверю!
Меншиков как будто спохватился и несколько призамялся. Он сообразил, что Рабутин старается о браке великого князя с дочерью Меншикова, так что обрученный Петр Сапега останется, пожалуй, и без невесты. На Меншикова, думавшего теперь не только о герцогской, но и о королевской короне, нашло какое-то мимолетное затмение, часто испытываемое людьми, занятыми какою-нибудь преобладающею мыслью, но говорящими о другом.
– А что ж, иметь такую сторонницу не худо, – заметил Сапега, – промаху она не даст, а Рабутин, сам ты знаешь, теперь едва ли не самый близкий человек к государыне, постоянный ее советник.
– Много, ясновельможный пан, наберется у нас всяких советников, – с негодованием перебил Меншиков. – Вот хоть бы герцог Голштинский: забрался в Верховный тайный совет против моей воли и теперь всем вертеть хочет. Да что герцог: даже и граф Бассевич*, его министр, который – сказать кстати – совсем здесь не нужен, тоже в наши дела суется. Вздумал посылать в Верховный совет свои мнения, да еще как хитро справляет их: пошлет да и повторит при этом слова царя Петра Алексеевича, что «мнение-де не в указ», так, мол, господа министры Верховного совета, не обижайтесь, что учу я вас делать по-своему, а не по-вашему.
– Зачем же ты им волю даешь? Разве у тебя мало силы?
– Справиться, сват, с герцогом трудно: за него цесаревна Анна; сам-то он по себе ничего не значит, но дочь свою царица любит без памяти, а к Анне пристает всегда на сторону и Елизавета. Выпроводить бы их всех отсюда. Да я так и сделаю, – решительным голосом добавил князь.
– Попытался бы ты подействовать на императрицу чрез моего сынка, – не без оттенка покровительства сказал Сапега. – Что нам таиться друг от друга! Есть у вас, русских, да и у нас славная поговорка: «рука руку моет».
Меншикову неприятно было предложение ему покровительства у императрицы со стороны такого молокососа, каким был Петр Сапега, но в душе он не мог не сознаться, что рассчитывал на это, так как молодой Сапега находился при дворе в таком же положении, в каком был Вильям Монс.
Давнее знакомство Меншикова с Сапегою, начавшееся еще в Польше, кутежи этого пана в веселой компании Петра и не раз доказанная преданность Сапеги царю, назначение Сапеги русским фельдмаршалом и главное – будущее близкое родство Меншикова с ним установило между ними полную откровенность, и могущественный временщик не счел удобным вступать в пререкания с тщеславным паном.
– Да разве одна Волконская принялась за работу по делам государственным, – заговорил он, как будто не обращая внимания на слова Сапеги. – Бабье царство у нас началось, – добавил он, засмеявшись, – так теперь каждая бабенка от важных дел отстать не хочет. Рабутин в шутку намедни говорил, что «он учит их плести при дворе кружево нового, небывалого еще у нас узора», они и плетут. Кто теперь из баб не суется в вопрос о престолонаследии: и та, и другая, и третья… И каждая хочет решить по-своему, да так, чтобы меня от дел отставить. Вот хоть бы эта жидовочка, Долгорукова, завела теперь шашни с Рабутиным; я к великому князю Григория Долгорукова* приставил, так она и через него у Петруши-то действовать принялась. За своего отца мстить мне хочет. Наталья Лопухина тоже у царицы за своего молодца Левенвольда хлопочет, да спасибо тебе, сынок твой оттер его, а теперь Левенвольд в прежнюю милость уже не попадет.
Сапега самодовольно улыбнулся при мысли о том успехе, какой имел при дворе Екатерины его красавец сын.
– Вот сумел же угодить Иван* царице. Привез бы ты к нам из Польши десяток молодых, хорошеньких бабенок да паненок. Какого бы они у нас переполоху наделали! Многими бы вертеть стали, чего доброго и до старика Остермана* добрались бы. Так или иначе, а сумели бы и его к своим рукам прибрать. А кстати, как поедешь к себе в Польшу, так не забудь забрать с собою побольше тех китайских материй* и тех сибирских мехов, которые я приказал отпустить тебе, и там раздари тем, кому будет нужно. Ваше бабье до этих вещей большие охотницы, а наши – те больше чистоганом получать любят. Немало раздал им денег бывший австрийский резидент Плейер* за то, что около царицы да у своих мужей его дела успешно налаживали. Да и Долгоруковой Рабутин отсчитал порядком: ведь я все знаю, трудно что-нибудь тайком от меня сделать.
Затем разговор между двумя близкими приятелями перешел снова к самой существенной стороне дела. Сапега стал высчитывать тех своих собратьев-магнатов, которые, как он полагал, поддавшись его внушениям, станут действовать в пользу Меншикова для доставления ему курляндско-герцогской короны. Упомянул также он и о тех знатных польках, которых можно было, по его мнению, привлечь на сторону Меншикова.
Беседа заключилась семейным ужином, после которого Меншиков простился с женою и детьми, сказав им, что он, по повелению государыни, уезжает в ночь на курляндскую границу для осмотра расположенных там русских войск, на случай предполагавшейся в то время высадки датчан и англичан, недовольных тем покровительством, какой оказывала Россия герцогу Голштинскому, врагу короля датского. Такая молва была распущена и при дворе, и по всему городу, так как Меншиков старался сохранить в тайне цель своей поездки. Перед рассветом от княжеского дома тронулся длинный поезд, и наутро в Петербурге узнали, что «светлейший» изволил отъехать к курляндской границе. В городе как будто все вздохнули свободнее и повеселели. Добрых напутствий вслед уехавшему князю ни от кого не слышалось. В тот же день отправился в Польшу генерал-фельдмаршал Сапега, оставив своего сына Петра в доме Меншикова.
На цель отъезда из Петербурга этих лиц люди, ничего не ведавшие в политике и не занимавшиеся ею, не обратили никакого внимания, но недруги Меншикова проникли действительную причину поездки обоих приятелей и громко заговорили о намерениях «светлейшего» быть владетелем Курляндии, высчитывая те неудобства, какие произойдут от этого для России, вследствие разрыва с Польшею, благодаря только честолюбивым исканиям князя. Они собирались и у Волконской, и у Долгоруковой и обдумывали те способы, которыми можно было бы не только восстановить императрицу против Меншикова, но даже и подготовить его полное падение. Казалось, что работа недругов Меншикова в этом направлении шла успешно, чему главным образом помогал герцог Голштинский, усердно поддерживаемый Анной Петровной и ее младшею сестрою. Екатерина начала уже колебаться в своем доверии к прежнему своему покровителю, и дело дошло до того, что было сделано распоряжение о взятии под стражу грозного временщика немедленно по возвращении его из Курляндии в столицу.
X
Глухою осенью 1694 года в длинном и темном коридоре старинного замка курфюрстов Ганноверских послышался отчаянный крик; но крик этот тотчас же смолкнул, и те обитатели замка, которых он встревожил среди глубокого сна, не обратили на это особенного внимания, подумав, что крик только почудился им. На другой день на довольно значительном расстоянии от замка, стоявшего среди большого парка и не застроенных еще в то время пустырей города Ганновера, был найден труп чрезвычайно красивого молодого человека. Труп был окровавлен, и на нем было несколько ран, нанесенных острым оружием в спину и в грудь. Раны на спине показывали, что первые удары были нанесены сзади убийцею, вероятно поджидавшим в засаде свою жертву. Преступник открыт не был, и молва говорила, что даже и следствие по этому делу прекращено было по тайному повелению тогдашнего курфюрста Георга*, бывшего потом королем английским. Такое покровительство убийце со стороны государя объясняли тем, что он сам был участником этого злодейства. Убитым оказался живший в Ганновере шведский граф Кенигсмарк*, успевший сделаться счастливым соперником Георга у его супруги. Не желая делать огласки о нарушении ею верности, курфюрст захотел собственноручно казнить дерзкого волокиту и рассчитаться с ним без свидетелей, что он и сделал, приказав потом преданным ему людям вынести труп графа на прилегавшие к замку пустыри и не разглашать никому о случившемся для избежания всяких толков об этом загадочном происшествии.
Убитый граф Кенигсмарк был человек богатый. Все свои драгоценности, состоявшие преимущественно в бриллиантах, а также и значительные капиталы он отдал на хранение пользовавшемуся в ту пору громкою известностью банкирскому дому Ласторпа в Гамбурге. Когда пришла в Швецию весть о погибели Кенигсмарка, то сестры его, бывшие замужем за знатными в Швеции людьми – одна за Левенгауптом*, а другая за Штейнбоком, – пожелали возвратить себе оставшееся после него наследство, а третья сестра их, Аврора, бывшая еще в девицах, кроме того, дала себе обет отыскать убийцу брата и отомстить ему, и с этою целью она отправилась в Ганновер; но там все ее поиски были безуспешны. Тогда Аврора отказалась быть мстительницею за кровь своего брата, а сестры ее поручили ей похлопотать о наследстве, оставшемся на руках гамбургского банкира. Господин этот оказался человеком не очень добросовестным. Хотя он и возвратил доверенные ему покойным Кенигсмарком драгоценности его сестрам, но от отдачи им денег уклонялся под разными предлогами. Сама Аврора справиться с ним не могла, и ее кто-то надоумил приискать себе могущественного покровителя и, как на подходящую к такому званию особу, указал на курфюрста Саксонского Августа.
Молодая графиня не могла бы нигде отыскать лучшего для себя протектора. Август был одним из наиболее сильных владетелей тогдашней разъединенной Германии и, вдобавок к тому, страстный обожатель женского пола. Стоило только такой прелестной просительнице, какою была Аврора, и притом сироте, обижаемой на чужбине, предстать пред светлейшим курфюрстом, чтобы он явился не только в качестве ее защитника, но и страстно влюбленного рыцаря. Не мог также не полюбиться и Авроре такой молодой красавец, каким был курфюрст, величавый, пышный, щедрый и вдобавок крайне смелый в обращении с женщинами. Первая таинственная их встреча, при которой молодые сердца слились во взаимной страсти, произошла в Морицбурге. Там дали они слово любить друг друга до гробовой доски, а через девять месяцев слово это стало плотью в лице новорожденного младенца, которого, в память первого таинственного свидания его родителей в замке Морицбурге, и нарекли Морицем.
О процессе с гамбургским банкиром, разумеется, теперь было забыто. Августу не хотелось примешивать свое громкое имя к каким-то, относительно его личности, пустячным денежным счетам. Он владел несметными богатствами, нажитыми – как гласило предание – главным образом одним из его предков, алхимиков, выделывавшим чистое золото из меди, или, по иному преданию, благоприобретенными другим его предком, ограбившим Прагу и захватившим там сокровища императорского Габсбургского дома. При этих условиях и при щедрости Августа, не знавшего никаких пределов, когда дело касалось прельстившей его красавицы, Авроре не стоило уже домогаться наследства, оставшегося после брата. Вскоре после рождения Морица его родитель, курфюрст Саксонский, возвеличился еще более, так как он, по избранию, получил королевско-польскую корону, которую носил уже его отец и которая наделала ему немало хлопот, так как Карл XII выставил ему в Польше противника в лице новоизбранного по его воле короля Станислава Лещинского.
Сделавшись королем польским, Август признал Морица своим сыном, хотя и незаконным. Он дал ему титул графа Саксонского, и, несмотря на то что впоследствии покинул Аврору, как покидал и других своих многочисленных любовниц, он продолжал оказывать Морицу родительскую любовь и женил его на самой богатой невесте, родом саксонке. Мориц вступил в военную службу, и жизнеописатели его рассказывают о явленных им на ратном поле чудесах храбрости и геройства. Относительно же мирных походов на представительниц женского пола Мориц весь выдался в своего родителя; он – как и его отец – чрезвычайно нравился женщинам и умел легко побеждать их. Но любовные похождения графа саксонского не приходились, конечно, по сердцу его супруге, и она развелась с ним, после чего вышла вторично замуж за одного почтенного человека и с новым своим супругом провела жизнь счастливо и спокойно.
– Я, вселюбезнейший и досточтимый родитель, собираюсь на днях ехать в Митаву, – сказал в один прекрасный день Мориц своему родителю; но этот последний, вместо того чтобы дать ему на дорогу родительское благословение, навеки нерушимое, сумрачно взглянул на него.
– Ты мне этой поездкой наделаешь таких хлопот, о которых ты, по твоему легкомыслию, прежде не подумал, – сказал король-курфюрст. – Ты знаешь поляков: они начнут кричать, что я лишаю сейм возможности избирать герцога Курляндского, что я силою навязываю Курляндии государем близкого мне человека, что я пренебрегаю правами Речи Посполитой на подвластное ей государство, и тогда я не оберусь всевозможных неприятностей и тревог. Ян Сапега изо всех сил работает против меня. Уж я и так непрочно сижу на королевском престоле, а ты, чего доброго, и совсем сбросишь меня с него.
– Но курляндцы согласились уже избрать меня своим герцогом, я сейчас получил об этом известие от графа Флезена, а вдовствующая герцогиня Анна, как мне сообщили, не прочь вступить со мною в брак; значит, мне и со стороны России будет оказана поддержка.
Хотя король-курфюрст внутренно и порадовался таким успехам своего возлюбленного сына, но политические соображения не только не позволили ему выказать этой радости, но даже, напротив, он попытался выразить Морицу свое отеческо-королевское неудовольствие.
– Еще бы ей не хотеть выйти замуж за такого молодца, как ты, – сказал Август, взглянув с самодовольством на сына, почти капля в каплю похожего на него. – Да ты-то согласишься ли жениться на ней? Я видел ее несколько раз, – и король, сделав неприятную гримасу, почесал затылок, как бы тяготясь воспоминаниями об этих встречах. – Разве такою женщиной должна быть герцогиня Курляндская? – начал, облизываясь, рассуждать Август, понаторелый знаток женской красоты. – Прежде всего в ней должна проявляться нежность. Стан ее должен быть строен и гибок, ручка и ножка маленькие, шейка такая, чтобы ее можно целовать с неизъяснимым удовольствием. Затем необходимо…
Но объяснения самых существенных условий женской прелести были прерваны легким скрипом приотворенной в кабинете двери. Король обернулся, и в дверях кабинета показался длинный нос его первого саксонского министра и задушевного любимца графа Флемминга*.
– Войдите, мой друг, сюда, – крикнул Август. – Я даже хотел было потревожить вас моим приглашением пожаловать ко мне. Но вы сами пришли, как нельзя более кстати…
– Чем могу я служить вашему величеству? – отозвался министр, почтительно поклонившись королю-курфюрсту.
– Можете мне служить вашим добрым советом. Не найдете ли вы способов уговорить этого ветрогона отказаться от поездки в Митаву, да еще затем, чтобы посвататься к тамошней прелестной герцогине? Ха, ха, ха!.. Вот нашел невесту!
По лицу Флемминга при насмешке над герцогиней пробежала легкая тень неудовольствия, и хотя причина этого не могла быть еще известна Августу, но она была вполне понятна сама по себе. Флемминг недавно развелся с супругой Изабеллой, рожденной княжной Чарторыжской, и теперь подумывал, как бы посвататься к вдовствующей Анне Ивановне и, вследствие брака с нею, получить в Курляндии герцогскую корону.
– Тут, августейший мой родитель, – перебил Мориц, – дело не в невесте, а в герцогстве. Пристройте меня так, чтоб я был поставлен соответственно моему высокому рождению, и я не стану думать о Курляндии; теперь же я ровно ничего не значу, хотя во мне и течет ваша королевская кровь.
– Да куда ж я тебя пристрою? – разводя руками, спросил Август. – Притом если я начну пристраивать всех тех, в ком течет моя королевская кровь, – засмеялся Август, – то, пожалуй, для них и во всей Европе недостанет места. Говорю это тебе прямо потому, что и ты в этом отношении идешь по моим следам и сам впоследствии увидишь, как затруднительны бывают родительские обязанности, хотя сердце и подсказывает их ежечасно. – И с этими словами он одной рукой обнял Морица и нежно поцеловал его.
Мориц, вместо того чтобы обидеться таким откровенным замечанием отца, расхохотался.
– Сын должен всегда подражать отцу, и если вы, ваше величество, добыли для себя королевскую корону, то позвольте мне добыть хоть герцогскую.
Флемминг начал говорить, поддерживая мнения короля, и принялся высокопарным слогом, с латинскими, по тогдашнему обычаю, поговорками, излагать свои соображения относительно неудобств при вмешательстве короля-курфюрста в дело о доставлении курляндского престола Морицу, который и с своей стороны не мог не согласиться с справедливостью доводов, выставленных рассудительным министром, имевшим при этом в виду и свои затаенные цели. Но в конце концов ловкий министр пришел к тому заключению, что его величество не только не должен давать своего согласия на замыслы Морица или как-либо въявь одобрить их, но, напротив, должен публично порицать образ действий Морица в Курляндии, а между тем если его величество пожелает, то тайком может пособлять Морицу для достижения им желанной цели.
Август согласился с этим мнением. В ту пору двуличность считалась одним из основных и притом нисколько не бесчестных способов действий по политическим вопросам. Август разрешил Морицу отправиться в Курляндию на собственный его, Морица, страх, предварив его, что он, Август, как король польский, может стечением обстоятельств оказаться в таком неприятном положении, что даже будет поставлен в необходимость отправить в Курляндию польское войско, чтобы захватить Морица, как бунтовщика против Речи Посполитой, и чтобы, ввиду такого прискорбного исхода его замыслов, он, Мориц, уж не пенял на своего родителя, даже и в том случае, если сейм определит запрятать искателя короны в какую-нибудь крепость, хотя бы и на пожизненное заточение.
Граф Саксонский махнул рукой – как говорится – на все увещания родителя и на все внушения осторожного министра. Польские панны и различные немецкие фрау снарядили своего любимца в путь-дорогу, добыли ему отважных спутников и снабдили деньгами. Мориц твердо решился отправиться в Курляндию отыскивать престол и приобретать невесту. Относительно последней он не прельщался никакими очаровательными мечтами о русской царевне-красавице. Он знал наперед, что, сделавшись ее супругом, возложит на себя тяжелое иго, что будущая подруга его жизни станет держать его в руках и спуска ему не даст. Но так как брак с вдовствующей герцогиней, по постановлению курляндского сейма, имевшего в этом случае свои основательные причины, оказывался необходимым условием для получения кем бы то ни было герцогской шапки, то Мориц решился и на законное, неразлучное сожитие с Анной Ивановной. Как ни горька будет при этом условии его супружеская жизнь, но, как думал он, тяготы и неудобства этой жизни будут вполне вознаграждены тем высоким положением, какое он займет, сделавшись владетельным государем Курляндии и Семигалии*, где, конечно, всегда можно будет найти миловидных немочек.
– Как же ты, так прямо и отправишься в Курляндию, как будущий герцог? – спросил в заключение Морица король-курфюрст.
– О нет, вселюбезнейший родитель, у меня для поездки туда имеется весьма благовидный предлог. Мне доставили из Митавы бумаги, из которых видно, что у моей матушки есть претензии на имения, находящиеся в Курляндии, принадлежавшие некогда графам Кенигсмаркам, и на первый раз я явлюсь в Митаву только для того, чтоб предъявить эти претензии.
– Очень благоразумно. Я вижу теперь, что ты не такой сорванец, как я думал, – с выражением удовольствия проговорил король. – Прощай!.. Желаю тебе успеха, но не забывай того, что я говорил, и не плачься на меня, если очутишься в Ченстоховской крепости* или в Кенигсштейне…
XI
В июле месяце 1726 года, в небольшом городе Митаве, столице тогдашнего герцогства Курляндского, заметно было особое оживление. Толпы народа собрались около дома тамошнего бургомистра. Этот каменный дом в три этажа, с тремя небольшими окнами в каждом из них, с высокой черепичной крышей и с обширным каменным крыльцом, пристроенным с улицы, выглядывал очень угрюмо, как старик, порядком поживший на белом свете; но теперь убранство его еловыми ветвями, зеленью и гирляндами из цветов, а также выставленные на его крыльце значки городских ремесленных цехов как будто молодили его. Перед крыльцом стояла раззолоченная огромная карета, запряженная шестернею коней, при прислуге, одетой в герцогскую ливрею. Около кареты разъезжали более или менее неуклюжие всадники, в коротких синих кафтанах и в небольших кругловатых пестрых шапках. Всадники эти были представители местной городской стражи, заменявшие, в торжественных случаях, телохранителей при герцогах, а теперь при герцогине. Хотя обстановка около дома бургомистра и показывала, что здесь находится почетный гость, но все же видно было, что он не принадлежит к числу коронованных или владетельных особ, так как ради его приезда в Митаве не было ни пушечной стрельбы, ни колокольного звона.
Экипажу герцогини пришлось ждать у крыльца не слишком долго, так как вскоре после его прибытия на крыльце показался высокий и статный, чрезвычайно красивый молодой человек, лет под тридцать. На длинные, темные локоны его модного парика была надета небольшая, в виде берета, поярковая шляпа с спущенными назад тремя белыми страусовыми перьями. Банты из белых и зеленых лент с длинными концами украшали оплечье его шелкового французского кафтана, а из под короткой, слегка накинутой на плечи епанчи виднелся конец длинной шпаги, на рукоятке которой был также разноцветный бант. Эти украшения, а также кружевное жабо и покрывавшие до половины руки такие же манжеты придавали щеголеватому наряду молодого человека что-то женственное и как бы противоречащее мужественному виду и смелому его взгляду. При появлении его на крыльце вежливые митавские граждане поснимали с голов и шляпы, и колпаки, замужние женщины приветливо поклонились ему, а молодые девушки, стоявшие кучкой в стороне, – на которых знатный гость бросил проницательный взгляд и с которыми он раскланялся чрезвычайно любезно, – сделали в ответ на его приветствие жеманный книксен и с любопытством засматривались на него.
Карета, в которую сел гость герцогини, направилась в сопровождении отряда городской стражи к герцогскому замку.
Если старинный дом почтенного бургомистра, в котором по приезде своем в Митаву остановился Мориц, как в доме самого почетного обывателя города, выглядывал не слишком приветливо, то еще сумрачней представлялся древний замок Кетлеров*, окруженный рвами с подъемными мостами и с башнями, более или менее осыпавшимися под влиянием времени и непогод. Как ни силился Мориц представить в своем воображении, что в этом замке живет какая-нибудь очаровательная красавица, которую можно было добыть, только преодолев разные опасности и напасти, но оно отказывалось ему служить, так как он уже заранее наслышался о неприглядности обитательницы возвышавшегося теперь перед ним древнего замка.
Через ряд мрачных комнат с высокими сводами, поглощавшими и тот свет, который не слишком изобильно врывался в узкие окна замка, Мориц вошел в залу, где должна была произойти первая встреча его с Анной Ивановной. В залу эту вступила и та небольшая кучка придворных немцев, которые, встретив Морица на лестнице замка, проводили его до аудиенц-залы.
Еще Мориц не успел осмотреть скромное убранство этой комнаты, как гайдук отворил одну половинку дверей, ведших из внутренних апартаментов, и в залу вошел гофмейстер* герцогини, Петр Михайлович Бестужев-Рюмин*, которому один из присутствующих здесь камергеров герцогини и представил «его высокоблагородие» графа Морица Саксонского, прибывшего в Митаву, чтоб изъявить чувство глубочайшего уважения ее светлости герцогине Курляндской и Семигальской и просить ее высокого покровительства по своему семейному делу.
Бестужев-Рюмин зорким взглядом окинул знатного гостя и, проговорив ему несколько обычных в подобных случаях любезностей, быстро вышел из залы в апартаменты герцогини.
– Точно что красавец собой, ваша светлость, – доложил Бестужев. – Вы изволите знать его отца; граф поразительно похож на него, но только еще красивее, и притом, конечно, его молодость дает ему большое преимущество перед королем.
Сильно екнуло сердце герцогини. Дыхание ее участилось, и она от сильного волнения стала дышать не столько ртом, сколько носом, так что послышалось какое-то не слишком приятное сопение. Одолев охватившее ее на первый раз смущение, она оправилась и пошла в аудиенц-залу, сопровождаемая шедшими сзади нее двумя придворными дамами и следовавшим за ними гофмейстером.
Обе половины дверей аудиенц-залы распахнулись, и герцогиня явилась перед Морицем, который приветствовал ее почтительно медленным и глубоким поклоном. Герцогиня подала ему свою здоровенную руку, которую он поцеловал.
– Я очень рада видеть вас у себя, – пробасила герцогиня таким густым голосом, который удалял всякую мысль о женственности.
Все бывшие в наличности придворные и сам гофмейстер вышли из аудиенц-залы, и герцогиня, пригласив Морица сесть, повела с ним разговор о путешествии графа. Превосходно вылощенный при разных европейских дворах граф Саксонский мог всегда и везде быть самым приятным собеседником и найтись с кем бы то ни было. Он только вскользь упомянул о мнимой причине своего приезда в Митаву и затем стал болтать так мило и непринужденно, что с первого же раза очаровал не старую еще вдову не только своею наружностью, но и изысканною любезностью. Мориц тотчас же сумел наладить себя на вкус Анны Ивановны преимущественно разговорами об охоте и стрельбе из ружей, любимых развлечениях мужественной герцогини, и она в конце его визита предложила ему приехать к ней на обед. После обеда, за картами, до которых герцогиня была также большая охотница, Мориц остроумно шутил над своим проигрышем и самым милым образом любезничал с хозяйкой, которая успела по уши влюбиться в него.
Посещения графом герцогского дворца учащались все более, причем для него открывалась возможность подолгу беседовать с герцогиней с глазу на глаз. Несмотря на свое долголетнее уже пребывание среди немцев, Анна Ивановна сохранила исконную привычку московских боярынь – жалиться на свою горькую судьбу. Она не только с полною откровенностию, но даже с преувеличением говорила о тех притеснениях и о тех принижениях, которые приходилось ей испытывать с разных сторон и преимущественно со стороны всевластного временщика, князя Меншикова. Она сетовала на императрицу и ее дочерей, не оказывавших ей должного по рождению внимания, на свое печальное сиротство и на свое вдовье одиночество. Нетрудно было догадаться, к чему клонились речи такого содержания, и Мориц, по-видимому, сочувственно вторил чуть не со слезами на глазах жалобам герцогини и, казалось, чрезвычайно близко принимал к сердцу ее горе. Мало-помалу дело между хозяйкой и заезжим гостем дошло до сердечных объяснений. Из намеков его она ясно поняла, что так сильно прельстивший ее Мориц готов просить ее руки, а он, в свою очередь, из намеков герцогини столь же ясно уразумел, что она не прочь сделаться его супругою. Казалось, что теперь для Анны Ивановны наступила счастливая пора.
Усердно ухаживая за Анной Ивановной, Мориц, однако, украдкой при разговорах с нею засматривался на сидевшую по временам тут же хорошенькую фрейлину герцогини. Между ними начался уже тот обмен взглядов, который тотчас, лишь только посматривающие друг на друга останутся наедине, ведет к дружескому разговору. Герцогиня, занятая Морицем, не обращала внимания на взаимное переглядывание с ним молодой девушки. Мориц, улучивши минуту, передал фрейлине страстное письмо, которое та, растерявшись и раскрасневшись, приняла и, не сказав ничего, торопливо спрятала за корсаж своего платья, заслышав шаги приближавшейся герцогини в сопровождении ее гофмейстера. От зоркого глаза этого последнего не укрылась ни передача чего-то Морицем, ни смущение Иды. Но сообразительный Бестужев сделал вид, что ничего не заметил, и не счел нужным сообщать до поры до времени герцогине о любовных шашнях ее вероломного гостя.
Вскоре, однако, зарождавшееся счастье Анны Ивановны было нарушено тревожными известиями из Петербурга.
Бестужев получил присланное оттуда с большими предосторожностями письмо от своей сестры, княгини Волконской, в котором она уведомляла его, что «светлейший» поехал к русским границам не затем, чтоб осматривать расположенные там русские войска, но затем, чтобы внезапно появиться в Митаве и начать хлопотать о герцогской короне.
С своей стороны княгиня Марфа Петровна Долгорукова, начавшая, по наставлению графа Рабутина, усердно вдаваться в политику, сообщала тайком родственнику своего мужа, бывшему русским посланником в Польше, князю Василию Лукичу Долгорукову, о замыслах Меншикова на Курляндию и внушала ему, чтоб он как можно зорче следил за действиями Яна Сапеги, как главного сторонника князя Александра Даниловича в Польше, прибавляя, что, по слухам, сама государыня очень недовольна поездкою Меншикова и что поэтому со стороны Долгорукова было бы не совсем благоразумно оказывать «светлейшему» какую-либо поддержку.
По внушению Натальи Лопухиной самый преданный ей друг, граф Левенвольд, имевший, как немец, множество приятелей и знакомых в Курляндии, в своих к ним письмах предупреждал их, чтоб они опасались честолюбивых происков Меншикова и дали бы решительный отпор его замыслам и что это удобно сделать, так как государыня осуждает его действия, из опасения, что они нарушат добрые отношения к Польше.
Таким образом, недруги Меншикова, подкапываясь под него в Петербурге, создавали ему затруднения и в Курляндии, о чем он пока еще ничего не ведал.
XII
Петр Великий справил в 1711 году свадьбу своей племянницы Анны Ивановны с Вильгельмом, герцогом Курляндским, предпоследним представителем дома Кетлеров, так как другой представитель этого дома, семидесятилетний старик герцог Фердинанд, был бездетен. Петр нашел нужным воспользоваться новым родством, чтоб утвердить влияние России на Курляндию, состоявшую в ту пору под верховною властью Польши. С своей стороны поляки высказывали мысль, что по пресечении дома Кетлеров нужно будет присоединить герцогство Курляндское к коронным областям Польши и разделить его на воеводства, подобно тому как были разделены и другие области, входившие в состав Речи Посполитой, и таким образом должно было прекратиться полусамостоятельное политическое существование герцогства Курляндского. Для охранения выгод России в герцогстве Петр назначил надежного соглядатая, Петра Михайловича Бестужева-Рюмина, в качестве гофмаршала вдовствующей герцогини.
Анна Ивановна тяготилась своим вдовьим одиночеством, а дядюшка ее, с своей стороны, хотел выдать ее замуж снова, но непременно за такую персону, которая, будучи обязана России получением герцогского достоинства, держала бы ее сторону. Он приискивал Анне разных женихов, которые могли бы, по его соображениям, удовлетворить такому требованию. За женихами из владетельных германских домов остановки вообще быть не могло. Женихов в разных немецких германских княжеских, маркграфских и ландграфских семействах наплодилось куда как много. Они, как младшие в роде, были не только бедны, но и большею частию просто-напросто убоги. Поэтому такая невеста, как Анна Ивановна, казалась для них сущим кладом. Ее, как русскую царевну, – в ту пору Россию в Европе представляли страной, изобиловавшей и серебром, и золотом, и драгоценными камнями, и редкими мехами, – считали богатейшей невестой, да, вдобавок к этому, можно было вместе с ее рукой получить еще и герцогство, не в виде пустого титула, а в виде поземельной собственности. Нашел Петр своей племяннице подходящего, как казалось, жениха – герцога Саксен-Веймарнского, но неизвестно почему вдруг прогневался на своего будущего племянника и послал ему не слишком вежливый отказ. Нашел Петр ей и другого жениха – маркграфа Брауншвейг-Шверинского, но и этот брак по разным политическим конъюнктурам* той поры не состоялся. Считались некоторое время женихами герцогини и другие из владетельных домов персоны, а именно: принцы Прусский, Вюртембергский и Ангальт-Цербстский, а также два ландграфа Гессен-Гомбургские. Думал посвататься к Анне Ивановне и знаменитый саксонский министр граф Флемминг, разведшийся в 1715 году с своей супругой. Вообще, перечень женихов Анны Ивановны был очень длинный, но брак ни с одним из них состояться не мог.
Теперь, по-видимому, дело приходило к развязке. Анна Ивановна без ума влюбилась в Морица, но, на ее беду, она сама по себе никак не могла, как женщина, затронуть сердце Морица, который думал вовсе не о невесте, а о том приданом, какое он мог получить за ней. Главною же статьей приданого было герцогство Курляндское, а оно-то именно и не давалось Морицу, потому что сильным противником графа Саксонского явился князь Меншиков, с которым слишком трудно было тягаться и жениху, и невесте.
Меншиков еще в 1711 году подумывал о том, чтобы сделаться герцогом Курляндским и Семигальским, но «Алексеич», ради тесной дружбы с Августом II, не хотел поддерживать князя в его искательствах. Теперь же сам Меншиков был уже настолько силен и сам по себе, и покорностию перед ним императрицы, что, казалось, мог без особых усилий достигнуть давно желаемой цели.
Сведав о приезде Морица, курляндские дворяне поспешили со всех сторон собраться на сейм, открытый в Митаве ландмаршалом, и на этом сейме Мориц, в отпор Меншикову, единогласно был провозглашен герцогом. Видя, что он покончил в Курляндии свое дело благополучно, герцогиня поспешила в Петербург, надеясь там расстроить замыслы Меншикова и выхлопотать со стороны России признание дорогого ей Морица в достоинстве герцога Курляндского.
По случаю избрания нового государя начались в Митаве пиры и празднества; то же самое, но совсем по иному поводу происходило в это время и в Риге, куда, следуя в Митаву, приехал на несколько дней «светлейший» и куда со стороны Митавы тянулся небольшой поезд герцогини Анны, направлявшейся в Петербург для противодействия Меншикову.
– Что тебе, Александр Данилыч, в Курляндии делать? Плохо там тебе житься будет, – говорила герцогиня свидевшемуся с ней в Риге Меншикову. – Ты не немецкий человек и не лютер, не поладишь с курляндцами. На себе я изведала, как там тяжело.
Меншиков молча слушал герцогиню, у которой вдруг навернулись на глазах слезы; она приостановилась, как бы собираясь с силами, чтобы продолжать свои увещания.
– Уж ты, батюшка, Морица-то не забижай, – закончила она плаксивым голосом, но в ответ на эту просьбу Меншиков только равнодушно посмотрел на Анну Ивановну, с тревогой в душе ожидавшую его ответа.
– Не дури, Ивановна, – начал Меншиков. – Говорю тебе, не дури! Какой он тебе жених; чуть не на десять лет будет помоложе тебя. Думаешь, что ты полюбилась ему, а он, поверь мне, не о тебе думает, а только о твоих денежках да о будущем своем владетельстве в Курляндии.
Анну Ивановну сильно передернуло от этой откровенной речи Меншикова.
– Полно, Данилыч, грешить; оговаривать попусту людей – грех большой. Конечно, меня, горемычную вдову, всякий обидеть может; потому-то мне и нужен защитник и покровитель. А как будут жить муж с женой, это уж их собственное дело, и другим в него мешаться нечего.
– Ну нет, – решительным голосом перебил Меншиков, – в твой брак многим вмешиваться нужно: дело это не твое домашнее, а государственное. Российскому империуму нужно утвердить свою инфлуэнцию* над Курляндскою землею, а коли там государствовать будет немец и лютер, да еще с поддержкою короля польского, как твой Мориц, то этому не бывать стать. Нехорошо тогда будет, и все наши давнишние конъюнктуры пропадут попусту, и дело у нас дойдет до десперации*.
– Господь с твоими десперациями и конъюнктурами! Ты мне лучше скажи, где ты для Курляндского герцогства отыщешь русского потентата?* – проговорила Анна Ивановна, делая вид, как будто она ничего не знает о замыслах князя.
– Полно, мать моя, притворяться, будто ты и не ведаешь ничего! Да, я думаю, один Бестужев тебе давным-давно все растолковал; а если нет, так я тебе сейчас же растолкую. Я буду там герцогом! – гневно крикнул Меншиков, вскочив с места. – И посмотрю, кто посмеет противодействовать мне!
Анна Ивановна растерялась. Издавна уже приученная, как и ее сестры, не только к бесцеремонному, но и к грубому обращению петербургских вельмож, которые не называли даже ни ее, ни ее сестер по именам, а звали попросту только – «Ивановна»*, герцогиня переносила терпеливо оказываемое ей пренебрежение и наносимые очень часто оскорбления. В особенности денежные дела, вследствие затруднения в получении назначенных ей на прожиток вдовьих доходов, заставляли ее принижаться перед теми, кто имел силу при петербургском дворе. И теперь она перенесла бы выходки «светлейшего», если бы сердце не напоминало ей о Морице.
– Трудно будет тебе, Данилыч, рассесться на герцогском кресле: не про тебя оно сделано; и без него обойдешься, – насмешливо сказала раздраженная герцогиня.
– Если оно не сделано для меня, то еще меньше сделано про твоего Морица! – вспылил Меншиков. – Я – светлейший князь Священной Римской империи и завтра же могу получить герцогское владение в Священном Римском империуме. Впрочем, я и без того герцог Ижорский и российский генерал-фельдмаршал. Наконец, я шляхтич польский и уже по одному этому имею право не только на герцогскую, но и на королевскую корону. Это знает весь свет, – горделиво хвастался Меншиков. – А Мориц-то что? Какой-то саксонский графчик, да и то состряпанный своим родителем Бог весть как!..
Грозно гремел в ушах Анны Ивановны голос разгневанного временщика, который, как она очень хорошо знала, не давал спуску никому, кто имел бы дерзость стать ему на дороге. Герцогиня растерялась пуще прежнего.
– Что и говорить о тебе, светлейший князь, – почтительно заговорила будущая самодержица всероссийская, – ты мой милостивец и благодетель, немало ты добра мне и каждому соделал. Многие ли могут сравняться с тобою… Ты прости меня, если проронила неосторожно о тебе слово. Право, ненароком… Уж больно он-то мне дорог. Женское сердце не камень, а вдовство и сиротство вконец измаяли меня. Пойми мою скорбь, князюшка. Будь к нему, светлейший, милостив, не губи его, а вместе с ним не губи и меня.
У Анны Ивановны выступили навернувшиеся еще и прежде на глазах слезы.
– Молю тебя, княже, – сказала она, вставая с места и кланяясь Меншикову, – допусти его сесть хоть на день на герцогское кресло, а как мы повенчаемся, то оба уберемся из Митавы, а ты уже тогда властвуй, как сам знаешь Мешать тебе мы не станем.
Меншиков улыбнулся.
– Скажу я вашей высокогерцогской светлости, – начал он вразумительным и ровным голосом, – что в настоящем деле не похоть и не причуды мои проявляются, а настоит в том важная государственная потребность. Царь Петр дал мне завет не упускать Курляндии из-под русской власти. Да и сами курляндцы издавна желают подчиниться моей державе. Еще около пятнадцати лет тому назад, когда я с российским воинством был в Померании, знатные персоны из курляндского шляхетства слезно и умилительно просили меня быть у них владетельным князем и письма писали обо мне к польским панам, дабы те о моем избрании в герцоги старались. Вот как приедешь в Питер, так порасспроси у Ивана Сапеги: он тебе то же самое скажет. Говорю тебе, Анна Ивановна, – настойчиво заключил Меншиков, – что господину Морицу в Курляндии герцогом не бывать, и я от моих твердых намерений не отступлюсь ни за что. Не женщина я, чтоб сегодня делать одно, а назавтра другое.
– Уж коли, батюшка, так говоришь, так что же мне, бедной вдове и сироте, с тобой делать! По крайней мере, уладь, княженька, мое дело хоть так, чтобы царица соизволила мне пожаловать прибавочных деревень да приказала бы из своей казны отпустить деньжонок в зачет дохода с моих курляндских местностей. Искренно говорю тебе, что все это время страх как в деньгах нуждаюсь.
– Это-то, пожалуй, я тебе, светлейшая герцогиня, и устрою, – покровительственно проговорил Меншиков, – а о господине Морице и думать забудь, говорю тебе начистоту.
– Да уж ты, отец родной, хоть не сильно забижай его, – жалобно, сквозь слезы, проговорила герцогиня. – Что он перед тобой? – сущая ничтожность. Щелчком его, как муху, зашибить можешь.
– Увидим, увидим, – равнодушно повторял «светлейший», – да как поедешь в Петербург, так путать там да мутить не извольте, – добавил Меншиков.
– Не понимаю я твоих речей, князь Александр Данилович, – сказала Анна Ивановна.
– Хочу я сказать, чтобы вы, бабы, в дрязги мешаться не изволили. Крепко уже они надоели мне.
Если сетования на свою горемычность, составлявшие общий припев русских женщин того времени и в крестьянской избе, и в хоромах, как в боярских, так и царских, были по привычному чувству искренни, а отчасти и справедливы со стороны герцогини Курляндской и если просьба ее о Морице была еще искреннее, то покорность ее пред Меншиковым была только притворством. Анна Ивановна вовсе не думала окончательно уступать ему и надеялась повернуть в Петербурге вопрос о герцогстве Курляндском в пользу своего возлюбленного.
Образ ее действий в Петербурге совершенно противоречил тому заискивавшему смирению, какое она в конце своих переговоров с Меншиковым выразила перед ним. С своей стороны, Меншиков поспешил передать в Петербург подробности о свидании своем с герцогиней в письме, которое указывает властное обращение Меншикова с герцогиней и приниженность ее перед могучим временщиком.
XIII
– Нет, господа! – смело и задорно говорил Мориц на рыцарском ландтаге собравшимся в Митаве курляндским дворянам. – Вы ни в каком случае не должны поддаваться России и предпочесть князя Меншикова, чуждого вам и по происхождению, и по языку, и по вере, избранному вами герцогу, который готов сложить голову в битвах за права и честь вашей родины.
Громкие одобрительные отклики были ответом на пылкую речь Морица.
– Мы сумеем постоять за себя и за нашего возлюбленного герцога! – голосили дворяне.
– Тем более что и Польша поддержит нас, – поддакивали сторонники Морица.
Немки были в восхищении от Морица и с своей стороны, как умели, возбуждали в пользу его чувства преданности и отваги в своих мужьях, отцах и братьях и в тех молодых людях, которые были неравнодушны – один к Луизе, другой к Марте, третий к Мине и так далее. Короче, у Морица составилась такая сильная партия в самой Курляндии, что Меншикову трудно было бороться с ним. Все были против князя, все готовы были стоять за графа Саксонского, умевшего воодушевлять мужчин и прельщать женщин.
В Петербурге герцогиня была на этот раз принята так, как ее обыкновенно там принимали. Императрица встретила ее вежливо, но сухо. Никто из придворных сановников не спешил засвидетельствовать ей чувство уважения и преданности, так как никто еще не предчувствовал в ту пору, что через три с небольшим года бывшая в загоне герцогиня Курляндская сделается самовластною повелительницею России. Пока ей еще самой приходилось отыскивать покровительство у тех, кто имел значение при дворе.
Перебирая в мыслях подходящих к тому лиц, она прежде всего остановилась на Левенвольде.
«Хотя, – думала она, – он и не в прежней милости, но не мешает попытаться: авось он, как немец, возьмется горячо за дело своих земляков. А царица ему в этом случае поверит более, чем кому-нибудь другому, так как ей известно, что Левенвольд знает отлично тамошние дела и что он хотя человек и пустой, зато честный и бескорыстный и обманывать ее не станет».
При этих соображениях встретилось, однако, для герцогини особое затруднение. Нельзя было ей не заговорить прежде всего о Морице, а ей очень не хотелось выдать свою сердечную тайну Левенвольду, с которым она не была близка.
– Точно, что это будет не под стать, – заметила княгиня Аграфена Петровна Волконская, с которой тотчас же по своем приезде увиделась герцогиня, привезшая из Митавы письмо от ее отца. – Да это, впрочем, легко обойти; можно, ваша светлость, повести дело через Наталью Лопухину: ведь кто же не знает в Петербурге, что Левенвольд к ней самый близкий человек. Да пусть она и не говорит, что вам угодно выйти замуж за графа, а как будто от себя скажет, что хорошо бы было уладить дело таким способом. Да и, кроме того, Левенвольд большой приятель Остермана, а Меншикову великий недруг, так Левенвольд легко может подбить и этого немца, а он прехитрая лиса и уж сумеет навредить «светлейшему» так или иначе.
Анна Ивановна охотно согласилась на предложение своей приятельницы, которая и повела ее дело через Лопухину. Через несколько дней императрица, подготовленная откровенною беседою с Левенвольдом и намеками Остермана, уже не без тревожного чувства стала подумывать о тех последствиях, какие могут повлечь за собою самовластные действия Меншикова в Курляндии. Не сидела смирно и княгиня Марфа Петровна. Она через своего мужа снеслась с его близким родственником, Василием Лукичом Долгоруковым, состоявшим русским послом в Варшаве. Долгоруков, узнав из этого письма, что императрица недовольна поездкою Меншикова в Митаву, поспешил в своем донесении из Варшавы подделаться под смысл сообщенных ему известий и писал, что попытка России упрочить как бы то ни было свое влияние в Курляндии неизбежно повлечет к разрыву с Польшей. Осторожный дипломат, разумеется, не только не затрагивал с неодобрительной точки зрения действий Меншикова, но, напротив, лично выказывал ему сочувствие и находил, что «светлейший» был бы превосходным правителем, что передача ему герцогской короны соответствовала бы видам России и что ему со стороны последней следовало бы отдать решительное предпочтение перед всеми другими кандидатами. «Но, невзирая на сие, – писал Долгоруков, – я, по рабской моей должности, обязан довести до слуха всемилостивейшей государыни и о том «шагрине», какой производится в Польше слухами о делах курляндских, и о порождающейся вследствие того ажитации и предуведомить, что такой ход дел угрожает великими неприятностями российскому кабинету».
Противники Меншикова видели, что хотя расположение императрицы к нему уже и поколеблено, но что все-таки направленных против временщика сил еще недостаточно для нанесения ему решительного удара, и потому положили воспользоваться еще особою подмогою. Княгиня Марфа Петровна, близкая, как дочь Шафирова, ко двору Елизаветы и бывшая в тесной дружбе с госпожою Рамо, компаньонкой цесаревны, взялась за это.
– Какой герой граф Мориц Саксонский! – заговорила однажды госпожа Рамо в присутствии Елизаветы. – Когда он был во Франции, все француженки сходили от него с ума, военные его боготворили. Под французскими знаменами он оказывал чудеса храбрости, а кто не знает, что во Франции каждый простой солдат – герой! – увлекалась патриотическим чувством француженка. – А между тем граф Мориц выдался даже и среди них! Он – образец мужественной красоты, беспредельной храбрости, очаровательного изящества и утонченной вежливости. Ах, как жаль его: он наверно погибнет в Курляндии, князь Меншиков убьет его! – вскрикнула в заключение госпожа Рамо, закрыв в ужасе глаза руками, как будто избегая смотреть на то кровавое зрелище, которое представлялось ее воображению.
Возгласы, наводящие на слушателей и сострадание, и ужас, были госпоже Рамо в привычку, так как она до приезда в Россию играла в Париже на драматической сцене, где раздирающие душу вскрикивания были тогда в большом ходу.
Семнадцатилетняя цесаревна, пылкая сердцем, слушала внимательно рассказ своей собеседницы о несчастном и достойном любви женщин Морице. Отзывы о нем со стороны француженки смешивались в воображении девушки с слышанными ею в детстве русскими сказками о красавцах царевичах, заезжавших на Русь за невестами из-за далеких синих морей, из неведомых стран, и Елизавета влюбилась заочно в Морица, как была она влюблена таким же способом в короля французского Людовика XV.
Госпожа Рамо несколько раз потом заговаривала с цесаревной о Морице.
– Как жаль, – тараторила она, – что он не приедет в Петербург!.. Как бы хотелось мне еще раз взглянуть на него. Я просто влюбилась в него, когда увидела его в первый раз в театре в Париже, хотя, – добавила тоскливым голосом Рамо, – я без ума любила моего бедного покойного. Бедный, милый Альфред!.. Он умер в цвете лет!.. О, как тяжела была для меня его потеря!
Затронутая болтовней своей компаньонки, Елизавета сперва стыдливо и робко принималась расспрашивать ее о Морице и, разумеется, в ответ на это слышала каждый раз самые восторженные о нем похвалы, которые все более и более затрагивали ее нежные чувства.
– О, его надобно спасти! Непременно нужно спасти от свирепого князя, – болтала Елизавете француженка. – Если бы я могла лично вмешиваться в политические дела, – восторженно продолжала она, – я бросилась бы к ногам государыни и просила бы ее о пощаде Морица. Впрочем, когда я увижу графа Бассевича, я переговорю с ним: он передаст герцогу, а тот, вероятно, не откажется обратить милостивое внимание государыни на этого прекрасного во всех отношениях молодого человека.
Госпожа Рамо тяжело вздохнула.
– А вы, ваше высочество, согласились бы быть когда-нибудь герцогиней Курляндской? – вдруг круто обратилась госпожа Рамо с таким вопросом к Елизавете.
– Об этом пришлось бы еще подумать, – улыбнувшись, сказала та, но по голосу и по выражению лица можно было догадаться, что она поняла настоящий смысл этого вопроса и в душе отвечала на него согласием.
Расчеты и намеки госпожи Рамо все сильнее и сильнее действовали на игривое воображение девушки, и Мориц представлялся ей в самом пленительном свете. Елизавета попыталась заговорить о нем и с своей старшей сестрой Анной, которая с своей стороны отнеслась к Морицу весьма сочувственно и внушила своему мужу, чтобы он поддержал Морица у государыни. Таким образом, претендент на курляндскую корону совершенно неожиданно нашел для себя сильных покровительниц при русском дворе.
– Князь Меншиков впутает ваше величество в большие затруднения своим образом действий в Курляндии, а удача там усилит еще более его высокомерие, – твердил герцог своей теще, у которой он пользовался не только расположением, но и полным доверием, как самый близкий к ней человек.
Граф Петр Андреевич Толстой*, считавшийся умнейшим человеком той поры, вторил герцогу, и, наконец, граф Девьер*, женатый на сестре Меншикова, и тот, не доброхотствуя своему шурину за те оскорбления, какие не раз приходилось ему выносить от князя, старался вредить ему всеми способами.
– Я велю написать князю указ, чтоб он тотчас же вернулся сюда, – сказала наконец Екатерина герцогу.
– Этого мало: он человек опасный и, вернувшись сюда, может, начальствуя над войсками, наделать много бед. Его тотчас же по приезде нужно арестовать, – отозвался герцог, с которым согласились и другие ближайшие советники императрицы.
Таким образом, над «светлейшим» собиралась страшная гроза.
Вскоре, однако, под влиянием своего министра, графа Бассевича, герцог одумался и понял, что он затевает с Меншиковым опасную борьбу, что князь, вернувшись в Петербург, наверно одолеет своих противников и что в таком случае ему, герцогу, жить в России сделается еще несноснее, чем прежде.
Граф Рабутин, которого Долгорукова пыталась подбить против Меншикова, действовал, однако, с крайнею осторожностью и отделывался от настояний обворожавшей его княгини шуточками, любезностями и пустыми обещаниями, уклоняясь от участия в кознях, затеянных против Меншикова. В сущности же он благоприятствовал могущественному временщику, имея в виду, что князь пользовался благосклонностью венского двора и что для противодействия ему он должен получить определенные инструкции от своего кабинета.
XIV
Политика редко обходится без любви, то есть без влияния женщин на мужчин или обратно. Такою совокупностию между той и другой отличается в особенности наша история XVIII века, когда почти в течение двух его третей не только правили государством женщины, но когда женщины тайно имели гораздо более влияния на государственные дела, чем это обыкновенно выставляется в истории, довольствующейся только главными внешними явлениями. Разрешение самых важных государственных вопросов зачастую сопровождалось вздохами влюбленных, а порой и страстными поцелуями, если только любовь не обратилась уже в дружбу и привычку, при которых такие выражения чувств оказывались излишними и дело обделывалось гораздо хладнокровнее. Князь Александр Данилович Меншиков не принадлежал, однако, к числу нежных людей, у которых сердце берет перевес над холодным рассудком. Он остался бы непреклонен к слезам женщин и глух к просьбам красавиц и тогда, если бы за Морица молила не только Анна Ивановна, которая не могла затронуть сердце мужчины, но и первая красавица во всей вселенной. Он не расчувствовался бы даже и тогда, если бы вместо трубного гласа герцогини услышал чарующий женский голос, не смягчился бы от этого нисколько и поступил бы так, как находил бы для себя более выгодным и более удобным.
Действительно, не смягченный нисколько ни мольбами, ни слезами сироты-вдовицы, бессердечный Данилыч прибыл в Митаву с твердым намерением смирить предприимчивого смельчака Морица и подавить его строптивых сторонников. Такие сторонники принадлежали исключительно к курляндскому дворянству или рыцарству. Мориц, страстный и неутомимый охотник, разъезжал по помещикам-немцам, приятельски обходясь с ними, а они беспрерывно повторяли данный ими обет – умереть за своего возлюбленного герцога. Горожане колебались, не предпринимая ничего решительного ввиду напора с двух противоположных сторон, ставившего их в крайне затруднительное положение; тем не менее они, для избежания пущих бед, приготовили Меншикову в Митаве встречу, далеко превосходившую своей торжественностью тот прием, какой был оказан Морицу по приезде его гостем и просителем к герцогине Курляндской. При въезде Меншикова немецкий город оглашался пушечными выстрелами, звоном колоколов, звуками труб, грохотом литавр и криками «виват», в которых выражалась радость – разумеется, притворная. Митавские бюргеры, не ладившие никогда – как это было во всех немецких городах – с дворянством, были даже как будто довольны приездом князя, так как они могли оказать пышным приемом противнику Морица, излюбленного дворянством, демонстрацию дворянству.
– Сейчас видно, что меня желают иметь здесь герцогом, – самоуверенно говорил «светлейший» с подобострастием окружавшим его лицам. – Только враги мои могут распускать противную этому молву.
Само собой разумеется, что на эти слова Данилыч мог слышать только утвердительный ответ.
Будущий герцог зазнался еще более. Он приказал, чтоб депутаты от дворянства немедленно явились к нему.
– Государыня, – сказал им Меншиков по-русски, – не признает действительным сделанный курляндским дворянством выбор герцога, и ее величеству благоугодно, чтобы безотлагательно произведены были новые выборы.
Переводчик передал слова князя по-немецки; в ответ на это среди депутатов послышался явственный ропот.
Сурово обвел их Меншиков своим строгим взглядом, и каждый, на кого падал этот взгляд, плотно стискивал губы, как бы желая показать, что он своим молчанием соглашается с князем, но вслед за тем замолкнувший на время немец начинал исподтишка бормотать нечто не совсем приятное для «светлейшего».
Видя, что взгляд не подействовал так, как это было желательно, Меншиков обратился опять к словесным пояснениям.
– Слышали и поняли ли, господа, что вам было сказано от имени ее императорского величества? – спросил он громким и твердым голосом, не допускавшим никакого возражения.
Немцы снова пробормотали что-то себе под нос, но уже гораздо сдержаннее, чем прежде.
– Скажи им, – внушительно заговорил Меншиков переводчику, – что я с ними толкую теперь ладом, но что если они станут упрямиться, то я буду у них снова в Курляндии, но уже не один, как теперь, а с пятнадцатитысячным войском. Я говорю им дело. Если же они не верят мне, то я примусь убеждать их без дальнейших разговоров палочными ударами. Так и скажи, да, кстати, напомни им, что Сибирь хотя и за горами, но все же я сумею показать им туда дорогу.
Немцы по передаче им этих угроз были подавлены ужасом и стали пятиться к дверям уже в совершенном молчании.
Припугнув благорожденных депутатов палками и Сибирью, Меншиков хотел поскорее воспользоваться наведенным им на курляндцев ужасом и потребовал, чтобы Мориц немедленно явился к нему с объяснениями относительно тех беспорядков, которые он позволил себе произвести в Курляндии.
– Скажи твоему князю, – запальчиво отвечал Мориц, – что Курляндия не русская область, а польская, что он распоряжаться здесь не имеет никакого права, а если он хочет видеться со мною, то может прийти ко мне сам.
Граф Саксонский удовольствовался этим надменным ответом и вечером, по своему обыкновению, принялся пировать в кругу своих приятелей и веселых девиц. Немочки смеялись и напевали будущему герцогу нежные песни любви, когда в самый разгар веселья вдруг послышались тяжелые шаги значительного числа людей, входивших на лестницу того дома, в котором пировал Мориц, а вбежавший в залу слуга только успел в ужасе крикнуть:
– Русские идут!
Произошел ужасный переполох, и произошел он не по-пустому, так как для того, чтобы схватить Морица, к дому, где он пировал, шла часть русского отряда, который приблизился следом за Меншиковым к Митаве и незаметно расположился под городом, а теперь по повелению князя был введен уже в самый город. Очевидно, что небольшое число собеседников Морица, не имевших при себе не только огнестрельного оружия, но даже шпаг, не могло оказать никакого сопротивления наступавшим на них русским. Девицы, его веселые собеседницы, теперь засуетились. Они визжали, пищали, плакали и, ухватив рвавшегося на врагов Морица и за руки, и за кафтан, задули свечи и тащили его в другую комнату, чтобы он под их прикрытием, пользуясь ночною темнотою, выбрался на улицу. Мориц уступил ухватившим его девицам и без дальнейших приключений успел укрыться у одного из своих митавских приятелей. Несколько же оплошавших его собеседников были захвачены русскими и отведены в место расположения русского отряда.
Меншиков предполагал утром следующего дня повести с курляндцами дальнейшую расправу, но, к изумлению его, гонец, прибывший в эту ночь из Петербурга, привез ему указ Верховного тайного совета и письменное распоряжение за подписью императрицы о немедленном выезде из Митавы.
Делать было нечего. Хотя будущий герцог и не хотел было повиноваться, но вскоре понял, что необходимо тотчас же ехать в Петербург, чтобы разрушить те козни, которые там были устроены против него во время его отсутствия. Ему нельзя было медлить, так как очевидно, что враги зашли уже слишком далеко.
Нужно было Меншикову прежде всего хоть несколько поладить со своим оскорбленным противником, чтоб выставить свой отъезд из Митавы в более благовидном свете и не дать торжествовать своим недругам.
Меншиков, который – по словам письма Морица к графу Рабутину – явился в Митаву «как властитель», послал теперь самое вежливое приглашение к Морицу, который и отправился на это приглашение к князю, как к человеку гораздо старее по летам и занимавшему высшее положение, разумеется, если не касаться вопроса о герцогстве Курляндском, где Мориц мог считать себя законно избранным государем.
«Мне не стать теперь ссориться с Россиею; напротив, надобно стараться ладить сколь возможно более с петербургским кабинетом», – думал Мориц, читая присланную из Дрездена к нему копию с письма, полученного от польско-саксонского посланника в Петербурге саксонским министром Мантейфелем. В письме своем упомянутый министр просил Лефорта указать ему те пути, какими Мориц мог бы приобрести себе друзей в Петербурге, а Лефорт, страстный охотник до сватовства, отвечал так: «Nan и Lis будут стоить дороже; лучше бы графу жениться на дочери князя Меншикова, а если и тут будет неудача, то можно будет приударить за Софиею Карловной Скавронской, племянницей императрицы, и во всех этих случаях Курляндия у него не уйдет».
Под именем «Nan» Лефорт разумел Анну Ивановну, а под именем «Lis», как это легко догадаться, – цесаревну Елизавету. Не скрывал он и вопроса о дороговизне той или другой сделки, и употребленные на этот предмет средства имели уже очевидный успех, так как семнадцатилетняя Елизавета, благодаря усердию госпожи Рамо, начинала уже мечтать о Морице.
Писал Лефорт и самому Морицу об одной из тех намеченных для него невест, которая могла иметь преимущества перед всеми, а именно о «Lis».
«Она блондинка и так же высока ростом, как и старшая ее сестра, и склонна к дородности. Пока она еще чрезвычайно стройна; у нее хорошенькое, круглое личико, голубые глаза с поволокой, прекрасный цвет лица и прелестный бюст. Отличается она от старшей сестры своим игривым характером: ей все равно – тепло ли, холодно ли, а живость ее делает ее ветреной. Она всегда стоит на одной ножке. Одарена она замечательною способностию передразнивать походку и выражение лица каждого; на словах она не щадит никого, и от нее достается всем, и даже герцогу Голштинскому».
«Должно быть, прехорошенькая девушка, – думал Мориц, читая письмо Лефорта. – Не совсем удобно, что она ветрена, но с годами она, конечно, остепенится, да притом ее ветреность отчасти и мне будет служить в пользу: иногда я буду иметь право пошалить на стороне, ссылаясь на то, что она сама ветреница».
Сообразив все это и не зная еще, что Меншиков уезжает из Митавы против своей воли и что в Петербурге подведены под него подкопы, нареченный герцог Курляндский сошелся миролюбиво со своим соперником, и дело покончилось тем, что они порешили борьбу за курляндскую корону не считать личною враждою друг к другу и что тот, кто получит эту корону, обязан будет выплатить своему противнику сто тысяч русских рублевиков.
XV
– Вот видите, граф, какое кружево наплели мы под вашим руководством, – говорила Волконская Рабутину с сияющим от удовольствия лицом. – Надменному временщику расставлены теперь такие сети, что он непременно в них запутается. Он ослушается государыни, не захочет возвратиться, она раздражится против него еще более, и он окончательно сломит себе голову.
– Вы мне приписываете слишком много. Я был во всем этом лицом второстепенным и даже третьестепенным, – уклончиво отвечал Рабутин, провидевший, как тонкий человек, что дело Меншикова может, чего доброго, принять иной оборот, но во время его невзгоды отзывавшийся о нем неблагосклонно в кругу его противников.
Падение Меншикова было очень хорошо подготовлено, и двоедушный дипломат видел, что до времени невыгодно быть на стороне временщика, терявшего свою силу и свое значение, а потому он стал заискивать в среде его противников, не разрывая еще добрых отношений к «светлейшему».
– Все, что я имел право сделать и что я действительно сделал, – продолжал он, – заключается только в том, что я не передал еще официально согласия императора на брак дочери Меншикова с великим князем и тем самым не поставил в неловкое положение моего августейшего повелителя.
– И очень хорошо сделали. Вы очутились бы в крайнем затруднении. Великий князь готовился бы теперь вступить в брак с дочерью опального вельможи, а быть может, и такого, который, если нам удастся повести дело так же успешно, как мы вели его до сих пор, отправится в отдаленную Сибирь. У нас никак нельзя ручаться за прочность положения при дворе. Поверьте мне – я это всегда говорила и буду говорить, – что падение Меншикова само по себе проложит путь к престолу великому князю и что, напротив, его возрастающее могущество устранит окончательно Петра от дедовской короны.
– Не думаю я этого, – возразил Рабутин. – Выдав свою дочь за великого князя, он пожелает, чтоб она была царицей.
– Но он может и иначе породниться с царским домом. Он может женить своего сына на царевне Елизавете, и тогда на императорский престол сядет его потомство в мужском поколении, и это будет еще более важно для его неограниченного честолюбия…
– Поэтому-то и нужно, как мне кажется, ускорить объявлением брака великого князя с княжною Марией. Этим браком окончательно уничтожится возможность осуществления того намерения, какое вы приписываете Меншикову и которое гораздо опаснее того положения дел, какое допускает венский кабинет, и, по правде сказать, допускает не очень охотно.
– Всего лучше было бы, если бы вы, граф, сообщили в Вену, чтоб тамошний кабинет стал хлопотать о совершенном удалении Меншикова от дел. Этого легко достигнуть при той немилости со стороны государыни, которой он теперь подвергся. Я должна сказать вам, что даже заготовлен указ об его аресте немедленно по прибытии его в Петербург. Вам стоит только через барона Остермана довести до сведения государыни, что удаление Меншикова тотчас бы привело к тому союзу Австрии с Россией, которого императрица так горячо желает.
Видно было, однако, что внушения Волконской производили слабое впечатление на осторожного дипломата. Это доказывалось отсутствием с его стороны и подтверждений, и возражений. Действительно, Рабутин положил действовать самостоятельно, поджидая, чем разрешится поколебленное теперь положение временщика.
«Надобно будет напустить на него княгиню Марфу Петровну, – думала Волконская, – он теперь так безумно влюблен в нее, что сделает все, что она ему прикажет».
Предоставив мысленно княгине Долгоруковой повлиять на Рабутина, Аграфена Петровна сочла не излишним проверить предварительно его чувства к этой хорошенькой дамочке.
– Давно я не видала княгиню Долгорукову, – сказала она. – Вот если бы я была мужчиной, я только и думала бы о том, как бы почаще видеться с нею.
И Волконская пристально посмотрела на своего собеседника, который в свою очередь легко понял, к чему велась эта речь.
– А знаете, княгиня, – с невозмутимым спокойствием отозвался Рабутин, – несмотря на то что я один из самых восторженных поклонников этой прекрасной женщины, я при нынешнем положении дел уклонюсь от бесед с нею.
– Почему же это?
– Чтоб не подпасть ее обаятельному влиянию. Хорошенькая женщина может сделать из покорного перед нею мужчины все, что ей вздумается.
Аграфена Петровна поняла истинный смысл слов, сказанных Рабутиным, и быстро перевела разговор на общие, ничего не значащие предметы.
По мере того как приближался час решительной борьбы с могучим временщиком, враги его, подстроившие ему козни, трусили все сильнее и сильнее, и только одна Волконская не отступала от своего намерения низвергнуть «варвара», как называла она князя Александра Даниловича.
Сама императрица в ожидании скорого приезда «светлейшего» как будто сробела. Она стала отзываться о нем снисходительнее и выражать к нему сочувствие, извиняя его образ действий в Курляндии излишнею запальчивостью. Слабодушный герцог Голштинский, заметив такой оборот, начал и с своей стороны заговаривать о Меншикове уже не в том смысле, в каком он говорил о нем несколько недель тому назад. Наконец когда утром 26 июля 1726 года в Петербурге сделалось известным, что «светлейший» возвратился из Митавы, то у всех противников его опустились руки, и все они были готовы выдать ему один другого по первому его спросу.
– А что, матушка Екатерина Алексеевна, ты, кажись, арестовать меня собиралась? Ну, что же, распорядись: видишь, я никуда не сбежал и к тебе с повинной головой явился, – насмешливо проговорил Меншиков, входя к императрице, которая в это время жила в Петергофе и куда, как будто по пути, проездом к себе в Ораниенбаум, завернул Меншиков со своим большим поездом.
– Рада я тебя видеть у себя, Александр Данилыч, а об аресте твоем и не думала, – в смущении проговорила императрица, поджидавшая одна в своем кабинете прихода сурового гостя.
– С чего же ты, всемилостивейшая государыня, вздумала требовать меня из Митавы таким грозным образом? Кажись, этого прежде не водилось, – строгим голосом продолжал Меншиков. – Или все старое уже позабылось?
– Не забыла я того добра, какое ты мне сделал, – смиренно проговорила государыня, которую сильно кольнуло напоминание князя о прошлом. – А если нам друг с другом посчитаться, то выйдет, что и я тебе много добра, Данилыч, сделала. Припомни-ка, сколько раз избавляла я тебя от гнева Петра Алексеевича. Сознайся сам, что тебе без меня куда как плохо было бы, – проговорила Екатерина, успевшая несколько оправиться после первого натиска со стороны Данилыча.
– Что нам между собою считаться! – махнул рукой Меншиков. – Скажу тебе только одно: когда я тебя на всероссийский престол посадил, то мне и должна быть отдаваема первая честь, да и царством должен править я, и никто другой: а станешь, Катерина Алексеевна, помимо меня у кого иного поддержки или советов искать – пропадешь; ей-ей, пропадешь, – помяни мои слова! – зловещим голосом проговорил Меншиков. – Поистине, одно надо сказать, что тебя на этот раз недруги мои хорошо надоумили. Сам я вижу, что я не вовремя принялся за герцогство. Шляхтичи теперь там потому только и ломаются, что у них больно много амбиции. Выбрали, мол, говорят они, мы герцога, так теперь отказываться от него нельзя. Права-де наши нарушают! – орут они. Ведь там, матушка моя, не то что у нас на Руси: там пальцем никого тронуть нельзя, а я было сгоряча, по нашему обычаю, пригрозил попотчевать их палками. Ну, и обозлились… Пусть поуймутся, да король приудержит своего сынка, так мое дело опять наладится, а я заранее и напрямки тебе говорю, что я снова примусь отыскивать герцогство; знай это наперед.
– Воля твоя, князюшка; а теперь спасибо тебе, что меня послушал, упрямиться не стал, а то дело, чего доброго, дошло бы до беды. Пришлось бы, пожалуй, воевать с Польшей, а ты и сам этого не желаешь… Так покончим наш разлад и поведем речь о другом. Когда же мы устроим помолвку твоей Марьюшки с Петрушей?
Меншиков призадумался.
– Видишь, мать моя, в чем тут дело, – досадливо и с расстановкою заговорил он. – Пан Сапега мне пока еще нужен в Польше, и расходиться мне с ним еще не пора. Теперь он работает в Польше для меня, а как я откажусь выдать за него дочь, так он примется мне у поляков пакостить и сделает то, что мне о герцогстве Курляндском нельзя будет потом и подумать. Такой он гоноровый и обиды, сделанной его сыну, никогда не простит. Повременим-ка немножко. Посмотрим, как пойдут дела в Польше; может быть, и без того придется развязаться с Иваном.
– А знаешь что, – как будто спохватившись, сказала императрица, – ведь с Сапегами и добром можно расстаться.
Меншиков встрепенулся.
– Ты, всемилостивейшая государыня, куда как находчива. Все помнят, какой хороший совет дала ты на Пруте покойному Петру Алексеевичу. Вероятно, и теперь что-нибудь разумное скажешь, – подольстил «светлейший».
Екатерина заметно осталась довольна сделанною ей похвалою.
– Софьюшка Скавронская сохнет по Петру Сапеге и на дочь твою нарекает, что вот, мол, жениха какого у меня отбила; а по правде сказать, – он ей был бы под стать.
– А что, и в самом деле, ваше величество, славно придумали! – весело вскрикнул Меншиков. – Ведь Сапеги хоть и знатные паны на Литве, но каждый из них поставит себе за великую честь жениться на родной племяннице самодержицы всероссийской.
– Да и приданое-то я за нею дам такое же, какое дал бы ты за своей княжной, – добавила Екатерина, – так тут в обиде никто не будет.
– Дельно, дельно, – с удовольствием повторял Меншиков. – А потом я уже прямо с тобой породнюсь, – добавил он.
Екатерина вопросительно взглянула на него.
– Что так смотришь на меня? Я говорю дело: отдай Лизавету за моего сына.
– Да ведь она царская дочь.
– Знаю, что она дочь царя и императора, да ведь вместе она и твоя дочь, а мы по породе один от другого недалеко ушли, – нагло и язвительно сказал Меншиков.
– А по родству разве препятствия не может быть, коли Петр Алексеевич женится на твоей Маше?
– Какое же тут будет родство! И сватовство-то далекое будет, а если по церковным правилам какое-нибудь препятствие и встретится, так на этот случай у нас Феофан есть. Тотчас разрешительный указ для Синода сочинит.
– Дай, Данилыч, подумать. Свадеб-то больно много у нас наберется, как мы их справим? – шутливо сказала императрица, желая отклонить начатый князем разговор.
– Хорошо, хорошо; а теперь пойдем окончательно на мировую, – сказал он, протягивая руку, чтоб учинить с Екатериной обычное при примирении рукобитие. – Слушай же, Екатерина Алексеевна, мои условия. Вот они.
Сказав это, Меншиков вынул из кармана бумагу, в которой были изложены его требования, и первым из них было поставлено, чтобы он был наименован генералиссимусом; затем, чтобы ему были даны новые деревни и сложены с него разные казенные недоимки.
– Да сама, матушка царица, этого дела от себя не решай, а передай на обсуждение в Верховный совет. Посмотрю я там, кто моим недругом посмеет оказаться. Так лучше его решить, по крайней мере на тебе никаких нареканий не будет, как будто не по своей воле сделаешь. А теперь скажи мне по душе, кто в мое отсутствие были моими врагами и подущали тебя против меня.
Екатерина смешалась; она не могла сразу решиться выдать близких ей людей беспощадному временщику.
– Бог свидетель, что я их не трону за это, а не изволишь их мне выдать, – все равно я сам доберусь до них, и тогда уж спуску не дам никому. Думаешь ты, что мне трудно будет разведать обо всем, что без меня здесь делалось? Возьмусь только хоть за одного кого-нибудь, велю допросить хорошенько с пристрастием, так всех до одного каждый выдаст. Не хочется только мне шуму заводить.
– Да ты сам, Александр Данилыч, своих недругов лучше меня знаешь, – отвечала императрица.
– Как мне их не знать! И бабья между ними немало: вот хоть бы Аграфена Волконская, да Наталья Лопухина, да Марфа Долгорукова. Они без устали на мой счет языком чешут… А скажи-ка мне, Петр Толстой был крепко против меня?
Императрица молчала.
– Понимаю, Катерина Алексеевна, почему ты молчишь. Ну, и зятюшка мой, Антошка Девьер, и этот жидок – тоже против меня поступал? Хорош! А еще сродственником моим считается.
– Да уж ты слишком крепко на него налегаешь, Александр Данилыч; если он что и делает тебе нехорошее, так, вишь, все во хмелю. Снизойди к нему на этот раз, – просила Екатерина.
– Сказал я тебе, что теперь никого из них не трону, так чего же хлопотать, – успокоительно, но вместе с тем и не без насмешки проговорил Меншиков.
К концу беседы его с государыней в дворцовой приемной собралось несколько важных лиц, приехавших из Петербурга. Все они с нетерпением ожидали выхода Меншикова от государыни, предполагая, что он явится от нее в сильном гневе на те враждебные замыслы, которые направлялись на него в его отсутствие; но все чрезвычайно ошиблись, увидя шедшего за государынею князя не только в спокойном, но даже в веселом расположении духа. Все поняли, что Меншиков восторжествовал над своими врагами, и стали отвешивать ему низкие поклоны, желая уловить его милостивый взгляд.
Через несколько дней после этого все пункты челобитной, представленной князем государыне, были удовлетворены по единогласному постановлению Верховного тайного совета, за исключением только первого пункта, в котором он просил о назначении его генералиссимусом.
– Не извольте делать этого, Катерина Алексеевна, – объяснил Толстой императрице. – Князь Меншиков уже и теперь президент военной коллегии и ингерманландский генерал-губернатор. Значит, и в настоящую пору у него под рукою много войска, а как сделается он генералиссимусом, то станет начальствовать над всеми силами и сухопутными, и морскими, и тогда кто в состоянии будет справиться с ним, если он начнет будоражиться? Заберет он в руки всю власть, женит великого князя на своей дочери, так о нем и о ней заботиться станет, а дочерей твоих, цесаревен, всего лишит. Чего доброго, останутся бездомными сиротами.
Довод Толстого сильно подействовал на императрицу.
– Уж ты, Данилыч, ради меня, по старой приязни, откажись от того, чтоб тебе генералиссимусом быть, – просила она Меншикова при новом с ним свидании. – Больно много хлопот этим наделаешь и себе, и мне. Слышно, что князь Дмитрий Михайлович Голицын* и так уже на нас из Киева с войском идти хочет, чтоб тебя и меня уничтожить и посадить на царство великого князя Петра Алексеевича. Поберечься надобно нам всем.
– Пусть на этот раз будет по-твоему, матушка Катерина Алексеевна, – склонился на ее убеждения Меншиков. – А до наших недругов, – не теперь еще, а рано или поздно, – все-таки я доберусь, – угрожающим голосом проговорил «светлейший».
XVI
Не слишком благоприятные вести привез Сапега своему будущему тестю из Польши относительно курляндских дел. Проведав хорошенько настроение умов в Польше и стремления тамошних политических партий, он убедился, что теперь для Меншикова неблагоприятная пора домогаться курляндской короны и что хотя, по всей вероятности, польский сейм не признает Морица герцогом, но, несмотря и на это, Меншикову не удастся занять его место, тем более что он своим образом действий в Курляндии ожесточил против себя тамошнее рыцарство.
– Надобно обождать, мой коханый приятель, а меж тем мы справим свадьбу наших деток, – говорил магнат, весело хихикая и одобрительно трепля по плечу своего свата.
Меншиков отрицательно покачал головою. Сапега, вытаращив глаза, с изумлением смотрел на него.
– А что же это значит? – тревожным голосом спросил пан Ян.
– Это значит, что предположенной свадьбе не бывать, – равнодушно и решительно отрезал Меншиков.
– Как так?! – крикнул побагровевший Сапега.
– В твое отсутствие, любезный Иван Францевич, государыня просватала мою дочь за великого князя, так что она будет не ясновельможная пани Сапежина, а ее величество императрица всероссийская, – гордо проговорил Меншиков, хлопнув дружески по плечу изумленного пана. – А мы с тобой, Иванушка, останемся, как и прежде, добрыми приятелями.
– Но… но, – заикаясь, начал было Сапега, – отказ твой делает бесчестие и моему сыну, и мне, и всей нашей фамилии.
– Не беспокойся, приятель. Об этом я прежде тебя подумал, и для сына твоего я подготовил такой брак, который сделает особенную честь всей вашей фамилии. Ни больше ни меньше – я породню Сапег через твоего сына с императорским домом. Я женю пана Петра на родной племяннице императрицы, а приданое он получит за нею такое, какое, пожалуй, не взял бы он и за моею дочерью. Понимаешь?
На лице Сапеги при этих словах выразилась сильная радость. Но вслед за тем он понурил голову и дернул книзу свой ус, вспомнив, что Скавронские ничего более, как простые холопы, с которыми вовсе не стать родниться Сапегам. Но эта мысль быстро сменилась другою:
«Да разве и с Меншиковым-то приходится родниться таким магнатам, как Сапеги? Однако я настаивал сам на этом браке. Да и что смотреть на происхождение Скавронских: довольно того, что невеста – родная племянница императрицы и у ее семейства будет знатное родство».
– Что так вдруг призадумался, пан Ян? Или хочешь для своего сына еще более знатную невесту? Но такой в целой России не найдешь и потому отправляйся искать ее к себе в Польшу, если только надеешься отыскать там кого-нибудь получше, – подсмеивался Меншиков. – Авось женишь Петра на королевне польской.
Такое подтрунивание Меншикова над Сапегой последнему было не совсем приятно, да и совершенно бесполезно, так как не сообразивший с первого раза сущности дела магнат понял теперь преимущество женитьбы своего сына на родной племяннице русской императрицы перед женитьбою на дочери Меншикова. О происшедшем изменении в брачных предположениях они условились не сообщать не только посторонним, но даже тем, кого это предположение прямо касалось. Они были уверены, что ни со стороны жениха, ни со стороны невесты не могло возникнуть никакого противоречия. И Меншиков, и Сапега понимали, что Петр предпочтет, как юноша, хорошенькую Скавронскую некрасивой Меншиковой, а княжна Мария, хотя и страстно влюбленная в Сапегу, будет не прочь быть супругой будущего императора, который из миловидного отрока обещал сделаться в скором времени красивым юношей, а затем обратиться в статного и величавого мужчину.
О расположении самого великого князя к предназначаемой ему, без его ведома, невесте не спрашивали ни Екатерина, ни Меншиков. Предполагалось в этом случае одно из двух: или великий князь безропотно, как послушный ребенок, подчинится чужим распоряжениям, не справившись с влечением своего сердца, которого даже, как это предполагалось, у него и не могло быть в таком раннем возрасте, или же, в противном случае, Меншиков и послушная ему во всем Екатерина растолкуют мальчику, что без этого брака ему не бывать на престоле. Рассчитывали они и на влияние Натальи Алексеевны, которая не захочет оставить в приниженном положении так горячо любимого ею брата.
Удовольствовавшись устройством брака молодого панича с крестьянской девушкой, а вместе, по странному стечению обстоятельств, и родной племянницей могущественной государыни, Сапега совершенно забыл о том, что могло быть в этом брачном союзе щекотливого для его родовой гордыни, и видел только блестящую сторону такого неожиданного родства. Он обнял Меншикова и крепко поцеловал его три раза со щеки на щеку.
– А прикажи-ка, ясновельможный, подать нам бутылочку доброй венгжины, – весело сказал по-польски, обращаясь к Меншикову, Сапега, который, как и все магнаты того времени, а под стать им и русские сановники, любил хорошо выпить, особенно на радостях. – Я хочу прежде всего выпить за здоровье и за благополучие ее императорского величества будущей государыни всероссийской, твоей коханой дочурки. Жаль, очень жаль, – притворно добавил Сапега, – что она по сыну моему не будет моею дочерью. Но что делать! – добавил магнат, пожав плечами с видом сожаления.
За доброй венгжиной, или старым «вытравным» венгерским вином, у Меншикова остановки быть не могло. Обширный погреб при его доме был наполнен отборными винами, и вскоре перед паном Сапегой появилась обросшая мохом бутылка, которую он и распивал с наслаждением, мечтая о том высоком и блестящем положении, какое займет его сын, будущий племянник императрицы.
«Светлейший», сидя за столом против Сапеги, пил венгерское только по временам, небольшими глотками, отхлебывая из стоявшей перед ним чарки, которую усердно подбавлял его все более и более развеселявшийся собутыльник. Опершись локтем на стол и положив голову на ладонь, Меншиков вдавался в иные думы. Он находил, что для его рода было бы более чести, если бы сын его женился на цесаревне Елизавете и мог бы таким образом сделаться родоначальником царствующего дома Меншиковых. Но Александр Данилович, несмотря на все свое ослепление честолюбивыми замыслами, понимал невозможность осуществления такого предположения, так как общее мнение стояло за Петра, который должен был, как единственный представитель мужского поколения дома Романовых, получить доставшуюся ему еще и прежде наследственную корону, захваченную Меншиковым для Екатерины. Он не обращал никакого внимания на своего собеседника, который в отличном расположении духа начал напевать какую-то игривую мазурку и мысленно переносился в ту пору, когда он лихо отплясывал этот танец, окруженный роем хорошеньких и весело щебетавших паненок. Припоминались ему и те буйные сеймы, на которых он не раз являлся главным вожаком своей многочисленной партии. Воображение его разыгрывалось все более, и ему уже казалось, что составлялся в Варшаве сейм, на котором обсуждался вопрос об избрании его королем при могущественной поддержке со стороны России.
Из таких мечтаний он был выведен своим собеседником.
– Ты смотри, ясновельможный, – сказал Сапеге Меншиков, как бы очнувшись от своих соображений и дум, – не разболтай кому-нибудь о том, чем мы порешили дело. Нужно подождать еще несколько дней. Ты знаешь, что у меня врагов и завистников куча. Лишь проведают о будущей свадьбе великого князя с моей дочерью, так и примутся действовать против меня.
Сапега расхохотался.
– Да ты думаешь, что этого никто не узнает? Да первый же Рабутин, который знает все дело, верно, давно разболтал обо всем. Он почти безвыходно сидит у Долгоруковой, а она, как ты сам знаешь, умеет выпытать от каждого мужчины всякую тайну.
«Особенно все то, что может послужить мне во вред, мстя мне за своего отца. А ведь не худо было бы мне сойтись с Долгоруковыми», – подумал Меншиков и начал соображать, как бы устроить это дело.
XVII
Около той поры, когда Меншиков склонял Екатерину на брак великого князя Петра Алексеевича с своею дочерью, в одном из петербургских домов, очевидно принадлежавшем, судя по его внешности и по тем большим съездам, которые порою бывали в нем, лицу важному, сидел за небольшим столом пожилых лет мужчина и занимался составлением какой-то бумаги. Окончив эту работу, он стал вполголоса, по написанной им бумаге, читать следующее:
– «Вначале при сотворении мира сестры и братья посягали и через то токмо род человеческий распложался; следовательно, такое между близкими родными супружество отнюдь общим натуральным и божественным законом не противно, когда сам Бог оное, как средство мир распространить, употреблял».
«Кажется, – подумал он, – довод сей настолько очевиден и осязателен, что никакого возражения против оного сделать невозможно».
И он стал читать следующие строки:
– «Если же наследство на одном из ее величества детей или кровных наследников, с исключением великого князя, остановить, то всегда в Российском государстве разделения и партии останутся; и может какой-нибудь бездельный, бедный и мизерабельный мужик под фальшивым именем, однако ж, себе единомышленников прибрать; чего же не может государь при взрослых летах, которое рождение не ложно и которое ему в государстве не только многое почтение придает, но и его многие сродники знатные великую часть нации сочиняют, который також и вне государства на римского цесаря, яко своего дядю, сильную подпору в способное время уповать может. Не может такая мудрая императрица ни 12 человек из своих вельмож в соединении содержать. Как же возможно уповать, чтоб по смерти ее принцессы, которые в правительстве гораздо не так обучены, без нападков и опасности остались? При которых смятениях обе всего своего благоповедения лишиться могут».
Составив такую записку для представления императрице, Остерман надеялся своими доводами склонить государыню на брак великого князя с цесаревной Елизаветой и тем самым примирить две особью отрасли в потомстве Петра Великого: одну от царицы Евдокии Федоровны, а другую от Екатерины Алексеевны, в лице ее дочерей Анны и Елизаветы. Как лютеранин, Остерман вообще легко относился к заключению браков в близких степенях родства, а потому женитьба племянника на тетке не представлялась ему затруднительным брачным союзом, особенно после тех убедительных, по его мнению, доводов, какие он сумел выставить в своей записке.
«Брак этот, – продолжал думать хитроумный немец, – можно будет наладить так, что он состоится по страсти. Жениха и невесту можно влюбить друг в друга. Я найду таких дам, которые в этом направлении призаймутся цесаревной Елизаветой, а около великого князя я буду действовать непосредственно сам и в подмогу отыщу подходящего человека».
Барон Андрей Иванович Остерман, разумеется, проведал или, по крайней мере, догадывался о предположенном браке великого князя с дочерью Меншикова, так как до него дошли сведения о поручении, данном графу Рабутину, и пока дело о браке складывалось в пользу «светлейшего», он, наружно покорный перед ним, но в душе враждебный ему, не решался идти наперекор временщику. Во время бытности Меншикова в Курляндии обстоятельства изменились: казалось, наступил час его падения, и зоркий Остерман, пользуясь этим, сочинил свой «прожект». Но дела по возвращении князя приняли иной оборот, и теперь нельзя было не коснуться и Елизаветы Петровны, так как Остерман сообразил, что Ментиков может просить ее в невесты своему сыну. Остерман успел, однако, кой-кому из близких ему людей порассказать о своем предположении, и теперь наступили для него тревожные дни и такие же ночи. Он опасался, что поднявшийся временщик жестоко рассчитается с ним за его мысль о слиянии двух линий в потомстве Петра Великого, без слияния их с семейством Меншикова, и теперь запел иную песню, заявляя себя сторонником брака великого князя с княжною Марией.
Дела Меншикова пошли теперь лучше прежнего. В августе 1726 года был заключен дружественный союз с Австрией. Россия приняла на себя обязательство поддерживать так называемую «прагматическую санкцию», то есть обеспечила с своей стороны переход наследственных владений Габсбургского дома во всей целости к дочери Карла VI, Марии-Терезии, и император, приписывая такой исход переговоров доброжелательству Меншикова к венскому кабинету, намеревался пожаловать ему в Силезии герцогство Козельское.
С своей стороны Меншиков, нуждаясь пока в умном и хитром Остермане, не обнаруживал против него никакого неудовольствия, и хитрая лиса успокоилась, как вдруг стряслась над ним новая беда, и он, несмотря на всю свою ловкость и находчивость, не знал, как вывернуться из того положения, в каком он вдруг очутился.
Пошли в Петербурге толки о помолвке дочери Меншикова, и многие выражали сомнение относительно возможности этого события.
– Да ведь княжна не только помолвлена, но уже и обручена с Сапегой, – возражали некоторые. – Сама государыня присутствовала при их обручении. Так как же после этого Меншикову разойтись с женихом, которому обручена уже его дочь.
– Стесняться он много ни с кем не станет, а особенно если дочери его предстоит такая блестящая будущность, как супружество с великим князем Петром Алексеевичем, – замечали те, которые были убеждены в настойчивости Меншикова и понимали, что после такого родства ему не нужно будет искать курляндского престола, из-за чего он только и дружил с знатным магнатом.
XVIII
В той гостиной у княгини Марфы Петровны, в которой несколько месяцев тому назад Рабутин встретился с Волконской, опять собрались те же три особы. На этот раз здесь шел жаркий разговор, переходивший по временам в спор между Рабутиным и Волконской.
– Вы мне сделали, княгиня, большое одолжение, – говорил Долгоруковой Рабутин, еще до приезда к ней Аграфены Петровны, – собирая сведения касательно отношений князя Меншикова к великому князю. Я их принял к руководству.
– Очень рада была служить вам, граф, чем могла. Обстоятельства сложились так, что брат моего мужа назначен вторым гофмейстером при великом князе, и, следовательно, теперь открылась для меня возможность постоянно следить за тем, что делается кругом Петра. Могу твердо ручаться за то, что сведениями, получаемыми от меня, вы не будете введены в заблуждение. Ах, да, мне следовало прежде всего поблагодарить вас за тот подарок, который вы доставили мне при вашем письме, – скороговоркою и как будто стесняясь проговорила Долгорукова.
– Я был здесь ни при чем, – отвечал Рабутин. – Его величество император приказал мне препроводить к вам этот подарок… за ваше кружево. Да что я говорю! Я всегда так рассеян с вами, что смешиваю одно с другим.
– Приказал ли, – улыбнувшись, заметила княгиня, – благодарить меня император или императрица за кружево, – во всяком случае, и то, и другое кружево еще не окончено. А кстати, что моя просьба?
– О пожаловании вашему батюшке графского титула?..
Долгорукова утвердительно кивнула головою.
– Верьте мне, прекрасная княгиня, что я был бы как нельзя более счастлив, если бы имел возможность безотлагательно исполнить ваше приказание. Я писал в Вену, но там сочли нужным отложить это дело на некоторое, весьма, впрочем, непродолжительное время, – заминаясь, пробормотал Рабутин, – тем более что в настоящее время на получение в России графского титула Римской империи есть уже кандидат – Бестужев-Рюмин, и княгиня Волконская усиленно хлопочет об этом. Вы знаете, что она нам очень нужна, а потому, вероятно, извините медленность императорской канцелярии.
Рабутин в этом случае обманывал Долгорукову. Хотя он был страстно влюблен в нее, но затруднялся исполнить ее просьбу. Будучи сторонником Меншикова действительно в благоприятном для венского кабинета направлении, он боялся оскорбить князя вниманием императора к врагу Меншикова, барону Павлу Ивановичу Шафирову, и выжидал более удобного времени для исполнения желания Марфы Петровны.
Вскоре явилась к Долгоруковой княгиня Волконская, видимо недовольная своим прежним союзником Рабутиным, которому вскоре и начала выговаривать в достаточно жестких выражениях.
– Вы, граф, зашли слишком далеко в вашем усердии к Меншикову. Положим, что вы должны были исполнить данное вам в Вене в его пользу поручение, но затем уже вы по доброй воле оказались самым горячим его поклонником. Вы, вместо того чтобы содействовать его падению, когда оно было уже подготовлено, стали поддерживать его и ускорять брак его дочери с великим князем. Мало того, вы хлопотали в Вене о пожаловании ему герцогства Козельского, как будто ему недостает титулов и имений…
– Но, – начал оправдываться Рабутин, – войдите, княгиня, в мое положение. Каждый дипломат в своем роде – моряк и должен пользоваться попутным ветром, а такой ветер именно и подул на Меншикова, взамен того грозного урагана, который собрался было над ним. Вы знаете сами, какой оборот приняли дела по возвращении князя из Курляндии; все считали, что он обречен на погибель, а вместо того он явился у императрицы в новой силе.
– Мне кажется, что граф в этом случае прав, – вступилась Долгорукова за своего поклонника, – тем более что он был приглашен императрицею в особый совет, где рассматривался вопрос о браке великого князя. Он был вызван на неизбежное заявление и, конечно, не мог говорить против этого брака, не противореча данным ему инструкциям.
– Нас было всего четыре человека: императрица, сам Меншиков, Остерман и я. Все они, как вы знаете, сторонники Меншикова, и княгиня Марта совершенно верно объяснила то положение, в каком находился я в этом случае. Притом общая и моя цель теперь достигнута: наследие престола утвердится за великим князем. Достигается также и особая цель венского кабинета – Австрийское наследство перейдет во всей целости к эрцгерцогине Марии-Терезии.
– А Меншиков не только будет господствовать в России, но, как тесть будущего государя, сделается полным властелином! – с раздражением сказала Волконская.
– Все это, однако, может и не сбыться, Аграфена Петровна, – сказала по-русски Долгорукова, обращаясь к Волконской. – Князь Алексей Григорьевич успел уже подметить, что великий князь не очень расположен к Меншиковой, и надобно полагать, что если брак его с нею состоится, то он будет совершен против воли жениха. Ладу между молодыми не будет, да и великая княжна сильно не жалует Меншикова.
Слова, сказанные Волконской, Долгорукова перевела по-французски Рабутину.
– Значит, будущий император поступит с своей нелюбимой женой так, как дед его поступил с своей, бабушкой великой князя. О, это для Австрии будет решительно все равно и даже еще лучше, – с веселой насмешкой заметил Рабутин.
– Конечно, гораздо лучше, – подхватила Волконская, – потому что для венского кабинета представится случай сосватать русскому государю такую невесту, которая подходила бы к политическим видам венского кабинета, да и вообще до сватовства Австрия большая охотница.
Княгиня Аграфена, по-видимому, мирилась с представляемыми ей Марфою Петровной доводами. Она понимала бессилие партии, враждебной Меншикову, до тех пор пока царствует Екатерина, которая, – как твердо была уверена княгиня, – несмотря на частые свои колебания, все-таки в решительную минуту не выдала бы князя на жертву его врагам, и недавнее прошлое легко могло убедить в этом каждого, так как все подготовленные Меншикову козни уничтожились при первом же свидании с государынею.
Далее пошли разговоры о посылке в Курляндию Девьера. Мнения насчет этого разделялись. Волконская сильно возражала против этой посылки, находя, что Девьер хотя и личный враг Меншикова, но все же, как женатый на его сестре, будет держать его сторону и что, кроме того, он, воспользовавшись этим случаем, чтобы помириться с своим шурином, представит дела в благоприятном для князя свете.
Долгорукова же, напротив, возражала, что Девьер человек слишком задорный и что он непременно воспользуется своей поездкой, чтоб повредить Меншикову, с которым он давно уже находится в непримиримой вражде, негодуя на него за то, что он не допустил его, Девьера, в члены Верховного тайного совета.
Рабутин не принимал участия в споре двух княгинь, ссылаясь на то, что он не настолько еще знает русское общество и русские нравы, чтоб мог высказать свое мнение о такой вражде близких между собой людей, особенно о вражде Девьера к Меншикову, которому при его могуществе легко погубить своего заносчивого противника.
Долгорукова полагала, что Девьер, видя ослабевшую силу временщика, воспользуется таким положением дел, тем более что он и отправлен в Курляндию с тем, чтобы замять там дело о выборе в герцоги Меншикова, не одобряя, однако, в то же время и выбора, состоявшегося в пользу Морица.
Затем зашла речь о посылке с тою же целью в Варшаву Ягужинского*, но о личности его все толки решены были очень скоро в том смысле, что Ягужинский, как кутила, весьма часто доходящий до пьянства, ничего в Варшаве не сделает и, нагулявшись там вдоволь с поляками и позабавившись с хорошенькими польками, возвратится в Петербург ни с чем.
– И вы верите в искренность той цели, с которою посланы Девьер и Ягужинский? – спросил Рабутин, засмеявшись и обращаясь разом к обеим своим собеседницам. – Скажу вам, милостивые государыни, что в политике всегда запутывают дела и прикрывают их выдуманными предлогами.
– Как, например, была ваша поездка в Петербург, – перебила Волконская.
– Совершенно верно: я приехал сюда затем, чтобы передать поздравительные письма, а между тем должен вам сказать, что успел заключить весьма важный для моего государя союз с Россиею, о чем на днях и будет торжественно объявлено.
– Значит, теперь мы еще более сблизились с Австриею, – сказала Волконская, – для меня это очень приятно. Брат мой Алексей всегда сочувствовал венскому кабинету, так как он был предан великому князю; но Меншиков – этот негодный человек – при этом тоже торжествует! Вот что досадно! – добавила Волконская.
– Но будет ли его торжество продолжительно, – загадочно сказал Рабутин. – В скором времени все может измениться. Здоровье императрицы слишком ненадежно. Нужно только заблаговременно утвердить наследие престола за великим князем, а с Меншиковым, после кончины царицы, не трудно будет сладить. У него множество врагов, и падение его будет встречено с радостью. Вы, княгиня, – добавил он, обращаясь к Долгоруковой, – можете отчасти посодействовать этому: брат вашего мужа может, если сумеет, установить свое влияние над будущим императором. Займитесь этим делом.
XIX
В начале 1727 года стали ходить в Петербурге толки не только о том, что здоровье императрицы плохо, но что, по отзыву врачей, болезнь ее принимает опасный оборот. Слухи эти тревожили некоторые иностранные кабинеты, и в особенности лиц, близких ко двору Екатерины. Если для Австрии по более или менее косвенным расчетам и при неопределенном будущем важно было, чтобы в России воцарился великий князь Петр Алексеевич, то для Дании это было еще важнее, так как вступление его на престол обеспечивало ей мирные отношения России. Для Петра, не связанного ни родством и никакими обязательствами с Голштинским домом, было решительно все равно, получит ли этот дом обратно свои владения, отнятые королем датским, или останется ни при чем. Совсем иного хода дел должна была ожидать Дания, если бы Екатерина распорядилась так, чтобы после ее смерти русская корона перешла к ее старшей дочери Анне Петровне, бывшей в супружестве с герцогом Голштинским. В таком случае копенгагенский кабинет видел неизбежную войну с Россиею, которая требовала и продолжала бы требовать восстановления владетельных прав Голштинского герцога. По этим вполне очевидным соображениям датский посланник в Петербурге, граф Вестфален, действовал в союзе с графом Рабутиным, с целью устранить влияние голштинцев, которые, благодаря любви и доброжелательству императрицы к их герцогу, ее зятю, начали уже все более и более распоряжаться в России, возбуждая против себя ропот в среде русских. Но предположенный брак княжны Марии Александровны Меншиковой с будущим императором страшил, безусловно, всех русских, и в ненависти к нему соединились обе придворные партии, так что и желавшие воцарения Петра II были заклятыми врагами Меншикова.
Уже несколько дней цесаревна Елизавета Петровна была чрезвычайно задумчива. Прежняя ее беззаботность и веселость вдруг исчезли; уже не слышалось более ее веселого смеха, и из резвой хохотушки она сделалась молчаливой и печальной. Теперь ее огорчала невозможность брака с Морицем, и тяжело ей было, что утрачивалась всякая надежда на встречу с графом Саксонским, о котором она так восторженно мечтала, так как князь Меншиков не позволил бы ему явиться в Петербург. Тревожила ее еще и собственная ее участь. До нее доходили угрозы «светлейшего» выслать герцога и герцогиню из России, а угрозы его обыкновенно оканчивались не только одними словами, но исполнялись на деле.
«Что со мною будет, если – Боже сохрани – скончается матушка и Меншиков станет распоряжаться при Петруше так, как он распоряжается при ней? – мелькало в мыслях Елизаветы. – Ведь мне тогда в моем сиротстве житья здесь не будет. Станется и со мной то же самое, что стало с дочерьми царя Ивана Алексеевича, когда они остались беззащитными. Какое их житье? – живут по милости чужих людей в пренебрежении».
Однажды, когда цесаревна впала в тяжелое раздумье о своей участи, к ней вошла ее компаньонка, госпожа Рамо.
– Что вы все так тоскуете, ваше высочество? Ведь государыня, благодаря Богу, поправляется и, вероятно, через несколько дней встанет с постели.
– У вас, кажется, была гостья? – спросила цесаревна, как бы не обращая внимания на утешения госпожи Рамо.
– Да, госпожа Лопухина.
– Что нового сказала она вам?
– Известно, ваше высочество, что теперь все говорят только об одном – о здоровье возлюбленной государыни, вашей матушки. Все были очень огорчены ее болезнью, и у госпожи Лопухиной, когда она рассказывала об этом, набегали на глаза слезы… Утешьтесь, ваше высочество. Будьте бодры и веселы; такой прелестной девушке, как вы, слезы вовсе не к лицу… Ну, улыбнитесь… Вот так… прекрасно! – воскликнула госпожа Рамо, когда цесаревна невольно грустно улыбнулась, видя ее заботливую суетливость.
– Посидите со мною, госпожа Рамо, – проговорила Елизавета. – Мне сегодня что-то особенно скучно.
– Простите меня, ваше высочество, я на минуту должна оставить вас: меня дожидается граф Толстой. Но я возвращусь сюда сейчас же.
– А разве он бывает у вас? – с удивлением спросила Елизавета. – Я даже и не знала, что он знаком с вами.
– Действительно, он прежде никогда не навещал меня, но теперь… – заминалась госпожа Рамо, – он приехал ко мне, чтобы попросить через меня позволения переговорить с вами наедине по какому-то очень важному делу.
На лице цесаревны выразилось изумление.
Хотя она с самого детства знала Толстого, и он, как один из самых близких людей к ее отцу и к Екатерине, носил на руках обеих цесаревен, но никогда в жизни не говорил с Елизаветой о делах, а тем еще менее о каком-нибудь важном деле.
Цесаревна смешалась при мысли, что ей придется беседовать о таком деле с глазу на глаз с человеком, славившимся своею головою, которую, как говаривал Петр, «он давно бы отрубил, если бы она не была так умна».
– Попросите его сюда… Да о чем он будет говорить со мною? – как бы само себя спрашивала Елизавета.
– Он один из преданнейших ваших сторонников. Будьте с ним вполне откровенны и следуйте его советам. Он вам желает добра, об этом я знаю из самых верных источников, – торопливо подсказывала госпожа Рамо, уходя из комнаты, в которую вскоре затем вошел гордою и самоуверенною поступью граф Петр Андреевич Толстой.
Он был высокий и статный, уже очень старый мужчина, но казался гораздо моложе своих лет. В нем, по осанке и по голосу, виднелся еще лихой стрелецкий полковник, у которого вошло в привычку повелительно распоряжаться своими подначальными.
– Я был, цесаревна, усердным слугою твоего отца, могу даже сказать, я был самым доверенным его другом, – сказал он, целуя руку цесаревны, но без тех низких и раболепных поклонов, которые обыкновенно отвешивались в ту пору при явке к высоким особам. – Господь никогда не простил бы мне, если бы я оставил дочерей моего благодетеля-царя в несчастье и напастях, не сделав для них всего, что было бы для меня возможно.
– Знаем мы, Петр Андреич, что ты всегда служил верой и правдой нашему отцу и постоянно радел о нашей семье. Спасибо тебе за это, – шептала смущенная молодая девушка, смотря на своего гостя, к которому чувствовала какой-то бессознательный страх.
– Иди же сейчас с Аннушкой к твоей матери, – говорил или, вернее, приказывал Толстой цесаревне, – идите к ней обе и спросите ее, за что она вас хочет погубить…
Елизавета вздрогнула.
– Как погубить? – вскричала она. – Да что с тобой, Петр Андреич, сделалось?
– Дело идет о престолонаследии, – сурово проговорил Толстой.
– То есть о том, кто будет царствовать после матушки? Да с чего ты вдруг принялся хлопотать об этом? Матушка, Бог даст, будет жива и здорова. Уж ей и теперь – чтоб только не сглазить – стало гораздо лучше, – сказала Елизавета, перекрестившись и нашептывая при этом поговорки, употребляемые в таких случаях суеверными людьми. – А царствовать я не хочу ни после нее, ни после кого бы то ни было. Ты знаешь, что я и неспособна к этому; мне нужно выбирать одно из двух: или веселую, беззаботную жизнь, или монастырь, где бы я молилась с утра до вечера.
– Да тебе, царевна, и выбирать не дадут ни того, ни другого, – зловещим и угрожающим голосом проговорил Толстой. – Лишь только царица отдаст Богу душу, тебя сейчас же в монастырь запрячут, а сестру твою с мужем без дальних разговоров выпроводят отсюда. Да, кстати, как теперь пойдете к матушке, то не берите с собой герцога: он дурак и сумасброд, все дело испортит. Вы говорите только от себя самих, и тем всего сильнее тронете материнское сердце…
– Что же мы должны говорить? – задыхаясь от волнения, спросила Елизавета.
– Прежде всего упадите у ее постели на колени и со слезами просите ее, чтобы она отменила свое завещание и не назначала своим преемником великого князя и отменила бы свое согласие на брак с Марьей Меншиковой. Меншиков будет хлопотать только о том, чтобы дочь его сделалась государыней и чтобы тем утвердить свою власть над государем, а вас погубить. Особенно ты, царевна, говори матери о том, что ты, как девушка, ним в ком не будешь иметь, после ее смерти, ни защиты, ни опоры.
Цесаревна колебалась. Она схватила своею рукою руку Толстого и, сжимая ее, как будто хотела удержать его от дальнейшего разговора.
– Я знаю, – заговорил Толстой, как-то беспощадно глядя своими строгими глазами на молодую девушку, – ты боишься сделать то, чему я наставляю тебя. Ты не решаешься встревожить свою мать мыслью о смерти. Но не пугайся этого, я уже подготовил ее порядком. Помни, что бывают такие случаи в жизни, когда нужно быть решительной до последней крайности, не щадя никого. Будешь ты крепко каяться, когда потом попадешь в монастырь, да уже будет поздно, – пригрозив пальцем, сказал Толстой.
Угроза эта сильно подействовала на цесаревну.
– Ты должна знать, как круто распоряжается Меншиков со всеми, кто стоит ему на дороге. Вот хоть бы Мориц, граф Саксонский, – умышленно протягивая слова, продолжал Толстой…
При этих словах щечки молодой девушки вспыхнули ярким румянцем.
– Я пойду к сестре и с нею схожу к матушке, – проговорила, тяжело дыша, Елизавета, – а ты, Петр Андреич, подожди меня здесь.
– С Богом, в добрый час, – проговорил он.
Лишь только вышла Елизавета, в комнату влетела госпожа Рамо.
– А где же ее высочество? – спросила она Толстого, хорошо понимавшего французский язык, но с трудом говорившего на нем.
Толстой сидел в кресле, глубоко задумавшись, и, казалось, не обращал внимания на вопрос француженки. Для него наставала теперь решительная минута. Не только утверждение безусловного самовластия Меншикова, в случае кончины Екатерины, пугало его, но его страшило и само по себе воцарение великого князя Петра Алексеевича, так как он, захвативший в Неаполе царевича Алексея, считался главным виновником погибели отца будущего государя. Толстому нужно было во что бы то ни стало предотвратить грозившую ему двоякую опасность и устроить дело так, чтобы русский престол перешел к потомству Екатерины Скавронской, а не к потомству Евдокии Лопухиной, призрак которой пугал его из монастырской кельи.
«Лишь только вступит на престол великий князь, келья царицы-инокини отворится. Она приедет в Петербург и сумеет отомстить убийцам своего сына», – думал Толстой в то время, когда госпожа Рамо терялась в догадках, куда могла исчезнуть так неожиданно цесаревна.
– Ее высочество все это время была чрезвычайно печальна, она постоянно плакала и молилась долее, нежели обыкновенно, – проговорила Рамо.
– Очень понятно, – неохотно процедил сквозь зубы Толстой, – дочери, у которой умирает мать, нельзя быть веселой, и молитва в этом случае успокаивает ее.
– Императрица умирает? – в ужасе вскрикнула госпожа Рамо, всплеснув руками. – О, какое ужасное несчастье не только для России, но и для всей Европы!
Толстой не обратил внимания на взвизгивания француженки.
– Вы, госпожа Рамо, разумеется, преданы ее высочеству? – спросил он, вперив в нее испытующий взгляд.
– О, кто же не будет предан всей душой этой милой и доброй девушке. Она…
– Довольно!.. – прервал Толстой. – Рассуждений от вас теперь не требуется.
Госпожа Рамо замолчала.
– Вы, кажется, очень близки с госпожою Каро, гофмейстериной великой княжны Натальи Алексеевны?
– Да, госпожа Каро родом из…
– Довольно!.. – перебил снова Толстой. – Вы должны будете съездить к ней сегодня же и разведать через нее обстоятельно, как приняла великая княжна известие о помолвке своего брата на княжне Меншиковой…
– Ах, предположение об этом браке так сильно возмутило цесаревну Елизавету. Ее высочество…
– Довольно! – махнул рукой Толстой. – Полученные вами сведения вы должны будете передать только мне лично, а от всех прочих вы должны сохранить их в тайне… Понимаете?
– О, как вы доверчивы, граф, к женщинам! Вы не так, как все мужчины… – начала было любезничать госпожа Рамо.
– Довольно! – крикнул Толстой. – И помните, что если проболтаетесь хоть невзначай о моих с вами беседах, то дорого поплатитесь за вашу болтливость.
– О, будьте насчет этого совершенно спокойны. Я знаю, что в России il existe ce gu' on appelle le «застенок», – как бы дрожа от озноба, проговорила госпожа Рамо. – C'est affreux! C'est affreux!** – повторила она, пожимая плечами.
></emphasis> ** Я знаю, что в России существует то, что называется «застенок»… Это ужасно! Это ужасно! (фр.)
В душе госпожа Рамо была, однако, чрезвычайно довольна даваемым ей от Толстого поручением. Ей очень хотелось бы плести придворное кружево, тем более что на сцене в Париже ей приходилось не раз играть и королев, и таких знатных дам, от которых до известной степени – разумеется, только на театральной сцене – зависели судьбы царств и народов. До сих пор, однако, ей не удавалось применить к делу ни своих способностей, ни своей ловкости по этой части, так как Елизавета, при которой она состояла, была совершенно вдали не только от всяких политических дел, но и не любила даже слушать, когда заходила о них речь в ее присутствии. Теперь же госпожа Рамо горделиво думала о том, как она впоследствии, возвратившись на родину, может хвастаться тем, что «дирижировала» государственными делами в России и играла политическую роль.
Елизавета вернулась к себе со своею старшей сестрой. У обеих глаза были красны от слез, но видно было, что они уже несколько успокоились от волнения.
– Чем же, царевны, кончилось у вас дело? – нетерпеливо спросил Толстой.
– Матушка сказала, – принялись объяснять они своему покровителю, – что она не может изменить своему слову, данному по фамильным расчетам и что брак Меншиковой с великим князем должен непременно состояться, но что это нисколько не изменит ее тайных намерений относительно престолонаследия. Она добавила к этому, чтобы мы были совершенно спокойны и не тревожили ее, да не тревожились бы и сами… Как же не верить? Рассуди сам, Петр Андреич, ей обманывать нас не из чего…
Судорожное движение передернуло лицо Толстого. Он крякнул и медленно перевел дыхание.
– Отлично Меншиков успел подстроить все дело, – пробормотал он себе под нос. – Прощайте, благородные царевны. Я сделал все, что мог, и на том свете перед вашим отцом за вас в ответе не буду, – громко сказал он, уходя из комнаты Елизаветы.
В тот же день вечером от приехавшей к нему тайком госпожи Рамо он получил известие, что, по словам гофмейстерины великой княжны, Наталья Алексеевна чрезвычайно огорчена помолвкою брата с дочерью Меншикова и что она готова на все, чтобы только расстроить этот брак. Она, – передавала госпожа Рамо, – предчувствует, что родство с князем будет не к добру.
«Пока жива Екатерина, великая княжна ничего не может сделать, но потом она пригодится: можно будет воспользоваться ее влиянием на брата, и рано или поздно через нее удастся устроить пагубу Меншикову», – размышлял Толстой.
XX
Болезнь императрицы началась в январе 1727 года, и во время этой болезни Меншиков беспрестанно посещал государыню. В те же дни, когда болезнь, по наблюдениям врачей, начинала принимать опасный оборот, он вовсе не выезжал из Зимнего дворца и оставался там ночевать, сторожа приближение последних минут императрицы. В марте здоровье ее несколько поправилось. Меншиков был в полной силе, и перед ним по-прежнему раболепствовали и весь двор, и герцог Голштинский, которому он во время болезни его тещи не раз намекал о той крутой расправе, какая может последовать с его королевским высочеством. Герцогу было известно, что только по усиленной просьбе государыни князь согласился отложить на время приведение в исполнение заготовленного им указа о прекращении выдачи герцогу назначенных ему с острова Эзеля доходов. Меншиков начинал заговаривать с герцогом, что не худо было бы его высочеству отправиться со своею супругою восвояси, так как пребывание его в Петербурге может довести Россию до разрыва с Данией, и что хотя эта последняя и не страшна сама по себе, но зато поддержка ее Англиею может иметь для русских самые прискорбные последствия и возбудить даже европейскую войну. Около этого же времени стали замечать, что из всех бывших в Петербурге иностранных дипломатов Меншиков ближе всего сошелся с графом Рабутиным, которого он не раз вводил в спальню к больной государыне, где они втроем подолгу беседовали. Люди, знавшие положение дел, ввиду этого приходили к заключению, что дело идет о передаче престола великому князю.
Наступал, по-видимому, час решительной борьбы с временщиком, и противники его силились отнять у него заблаговременно ту власть, которая должна была после смерти Екатерины упрочиться за ним, как за будущим государевым тестем.
После свидания Анны и Елизаветы с их матерью, происходившего по наущению Толстого и ничем положительным не кончившегося, Толстой в кругу часто к нему собиравшихся его сторонников старался о том, чтобы не допустить вступления на престол великого князя и отстранить не только власть, но и всякое влияние Меншикова. При мысли, что Петром станет руководить личный недруг его, Толстого, будущее представлялось ему еще мрачнее.
«На кого мне теперь опереться и с кем мне союзиться? – часто и подолгу размышлял Толстой. – Самый смелый и решительный человек, Ягужинский, теперь в Польше; а будь он здесь, он ни над чем не задумался бы и прямо сказал бы императрице, что она делает не то, что следует, что она губит своих дочерей и своего любимого зятя. Головкин* слишком осторожен и в это дело из боязни вмешиваться не станет. Остерман? – подумал, улыбнувшись, Толстой. – Но он в один день успеет перебежать несколько раз с одной стороны на другую и перехитрить всех. Решительно нет никого, на кого бы можно было положиться. Среди придворного бабья тоже никого не отыщешь, да и не умею я с ними не только ладить, но и говорить – это уж дело Рабутина, он на это молодец. Я и с Рамосшей-то не мог столковаться как следует, а попробуй-ка завести дело с такой бойкой бабой, как, например, княгиня Аграфена, так и сядешь на мель».
Долго Толстой перебирал в голове тех, кто бы мог при настоящем положении дел быть его союзником из самых видных лиц, но, не находя подходящих людей среди них, остановился на личностях второстепенных и собрал у себя вечером небольшой кружок своих сторонников для решительных с ними переговоров.
– Данилыч, – говорил один из среды их, генерал Иван Иванович Бутурлин*, почтенный и храбрый воин, деливший и труды, и славу, и неудачи на ратном поле с Петром Великим, – Данилыч теперь что хочет, то и делает, и меня, служаку старого, обидел, команду отдал мимо меня младшему, к тому же и адъютанта отнял… И откуда он такую власть взял? Разве за то он меня обижает, что я ему много добра делал, о чем он и сам хорошо знает, – а теперь все забыто! Так-то он помнит, кто ему добро делает! Пусть он не думает, что князь Дмитрий Михайлович, его брат, князь Борис Иванович Куракин* и присные их допустят, чтобы он властвовал. Напрасно думает он, что они ему друзья. Как только великий князь вступит на престол, то они и скажут ему. «Полно, миленький, и так ты долго уже над нами властвовал! Поди-ка прочь!» Если бы великий князь сделался, по воле ее величества, наследником, то князь Борис Иванович, как близкий его родственник, тотчас прикатил бы сюда и принялся бы хозяйничать. Меншиков сам не ведает, с кем ему следовало бы знаться. Хоть князь Дмитрий Михайлович и маслит, и льстит ему, но пусть он не думает, что князь ему верен. Делает это Голицын только для своего интереса.
– Да что ж вы-то молчите? – запальчиво крикнул Девьер, недавно возвратившийся из Курляндии, куда он ездил по делу Меншикова, и в настоящую минуту довольно уже подпивший. – Меншиков овладел всем Верховным советом. Посадили бы вы меня туда, так я порядком бы ему задал!
Как будто не обращая внимания на эти толки, Толстой заговорил от себя, обращаясь к Бутурлину, Девьеру и сидевшему до сих пор безмолвно Андрею Ивановичу Ушакову*:
– Если великий князь будет на престоле, то бабку его возьмут из монастыря, и она будет мстить за мои к ней грубости, будет дела покойного императора опровергать, все захочет перевернуть на старый лад и порядки, заведенные Петром Алексеевичем, отменит. Пойдет у нас все по-старому, а старое никуда не годится. Конечно, и теперь у нас многое еще не хорошо, но все же уже не так скверно, как велось прежде. Пожил я порядком, с лишком восемь десятков, и многое на своем веку видел; отличить хорошее от дурного сумею… Воцарится великий князь, так и пропадут все труды его славного деда.
– Конечно, конечно, – заговорили Бутурлин и Девьер, – случиться это может, но все-таки главное зло не в великом князе, а в женитьбе его на дочери Меншикова. Вот чему противостоять следует. Хотя и будет царствовать еще государыня, но, пользуясь ее болезнию и ослаблением, будет править Меншиков, и он примется радеть более в пользу своего будущего зятя, чем в пользу Катерины Алексеевны и ее дочерей. А если что случится с царицей, то он, конечно, дремать не будет и справится с цесаревнами прежде, чем они успеют опомниться.
– А которую же из них выбрать на престол? – спросил Толстой.
– Да обе они одинаково хороши, – отозвался Девьер. – Больше мне нравится Анна Петровна: нравом она изрядна, умильна и приемна, и ум превеликий, много на отца походит; и Елизавета тоже изрядна, только будет посердитее Анны.
– Елизавета-то будет посердитее Анны? Что ты, Мануил Антонович! – прервал Бутурлин.
– Знаю, знаю, почему она тебе больше нравится, – засмеялся Девьер, – братец-то твой троюродный, Александр Борисович Куракин, больно ей приглянулся, так тут тебе, пожалуй, рука будет. В Питере теперь все говорят об этом.
– Не привык я, брат, кривыми путями идти, – обиделся старик. – Не стать бы мне было у такого молокососа и заискивать. Мне уж шестьдесят седьмой год идет, а ему только тридцать будет. Да притом мы хоть и в недалеком родстве, а дружбы особой между собою не ведем.
– Не в том дело, – вмешался Толстой, – нужно хлопотать о цесаревне Елизавете по важным государственным соображениям. Муж Анны стал бы пользоваться Россией для того, чтобы при ее помощи получить шведский престол, и вовлек бы нас в войну; а если бы даже и не рассчитывал на это, то все же он для нас непригоден. Он начал бы стараться только о своих выгодах и на каждом шагу вмешивался бы во внутренние дела, а человек-то он и глупый, и малодушный, да и вертит им граф Бассевич, как захочет.
– Положим, что это и так, да как же освободить Елизавету от ее сопротивника, если царица захочет назначить своим наследником Петра Алексеевича? Кроме того, говоря по правде, ему и по первородству, и как особе мужеского пола должен принадлежать престол, – заговорил молчавший до этого времени мрачный Андрей Иванович Ушаков.
Толстой насупился. Замечание Ушакова скорее признавало, нежели отвергало право великого князя на престол.
– Да что ж мешает объявить всенародно, что коль скоро царевич Алексей Петрович отрекся добровольно от престола, да и родитель его отстранил его от наследия, то, значит, и потомство царевича подлежит отлучению от всяких прирожденных ему прав? Если отец не имел уже их, то, стало быть, ему и нечего было передать ни своему сыну, ни нисходящему от сего последнего потомству.
– Что-то уж больно хитро ты толкуешь, Петр Андреевич. Словно ты конфискацию престола учредить намерен, – сострил Ушаков.
– Ну, если это не годится, – с живостью перебил Толстой, – так и другую меру принять можно: великий князь еще мал, пусть поучится, как это делают другие принцы и как сделал его блаженной памяти дед, а тем временем цесаревна Елизавета пусть коронуется и утвердится на престоле.
Присутствующие сомнительно покачали головою.
– Если устранить его таким способом, то он, как возмужает, станет добиваться престола. Народ будет на его стороне, да, пожалуй, и войско за него заступится. Того и гляди, начнется междоусобица, – заметил Ушаков.
– Справедливо ты рассуждаешь, Андрей Иванович, – поддакнул Бутурлин, – неохотно войско бабам служит. Надобно, чтоб государь – как это делывал покойный царь – сам лично начальствовал над воинством, был бы иногда впереди его в сражении, а иной раз даже и сам бы на приступ хаживал. А женская персона разве сможет так делать? Куда она пригодна? Да тут одного смеху не оберешься.
– А отчего бы не сделать так, как придумал Андрей Иванович Остерман: женить великого князя на Елизавете, да вот и всему конец? – заявил Девьер.
– Виданное ли это дело, чтобы женить племянника на родной тетке? Остерман измыслил такой кровосмесительный брак на немецкий лад, а у нас на Руси он будет противен законам и божеским, и человеческим, – сказал Ушаков. – Притом Елизавета на много лет старше Петра. Значит, и подбор неподходящий. Не ведется у нас, чтобы жених был значительно моложе невесты, разница же у них в годах больно велика…
– Нужно также спросить, пойдет ли еще она за великого князя. Головка-то ее не им занята. Статься может, все еще о Морице думает. Впрочем, это хорошо, потому что из-за него к Меншикову недружбу питает и, значит, против него у царицы будет, – заметил Бутурлин.
– Пытался я, государи мои, подействовать через нее на Екатерину Алексеевну, да никакого толку из того не вышло. Ходила по этому делу к царице и Анна Петровна, да попусту. Меншиков уж слишком силен при ее величестве, – говорил Толстой, – его не сокрушишь. А царевича все-таки на престол пускать не следует: многим из нас через него погибель произойдет. Как вырастет, так многое из прошлого припомнит.
– Да ты думаешь, Петр Андреевич, что Данилычу против Петра Алексеевича идти можно? Как же! – начал снова Ушаков. – Послушал бы ты, что в народе говорят. Говорят, что великий князь – истинный царь, что императрица повезет его в Москву короновать императором. А нижегородский-то архимандрит Исайя* и поминает уже его благочестивейшим государем вместо императрицы, а когда ему запретили это, то он сказал: «Хоть мне голову отсеките, а я его так буду поминать, потому что он истинный государь и наследник». Грамотеи иначе и не зовут Меншикова, как Годуновым, и говорят, что он хочет извести царевича Петра, как тот извел царевича Дмитрия, а потом самому сесть на престол. Волей-неволей тут сторону Петра Алексеевича потянешь. Нужно было народу показать, что такого дьявольского замысла нет. Вот он и выдает за него свою дочь.
Долго еще толковали между собою сторонники Толстого, но ничего решительного не постановили, а между тем дело быстро приближалось к развязке.
XXI
Около Зимнего дворца, стоявшего в ту пору на том месте, где ныне находится Эрмитаж, было заметно какое-то беспокойное движение. Прохожие останавливались перед ним с крайним любопытством и, как бы желая видеть, что в нем происходит, засматривались на его окна. Другие прохожие, то в одиночку, то небольшими кучками, останавливались у дворцового подъезда, как будто поджидая, что кто-нибудь выйдет оттуда и вынесет какую-нибудь весть. Караулы проходили мимо дворца и сменялись на главной кордегардии* без барабанного боя. Кареты медленным шагом проезжали вдоль того фасада дворца, который был обращен на Неву, и сидевшие в них мужчины и дамы выглядывали из окон, как бы желая подсмотреть или подслушать что-нибудь. Не только около Зимнего дворца, но и во всем Петербурге проглядывали какое-то ожидание и смущение. Встречавшиеся на улицах говорили между собою шепотом, робко озираясь кругом, из опасения, чтобы кто-нибудь не подслушал их разговора, так как речь велась о болезни государыни, а болезнь ее, по ходившей, хотя и очень сдержанной, молве, должна была окончиться плачевным исходом.
– Поезжай сейчас же к графу Толстому, – приказывал сильно взволнованным голосом герцог Голштинский своему адъютанту, дожидавшемуся его в приемной императрицы, – и попроси его не медля приехать к генералу Ушакову, а от него ступай к барону Остерману и скажи ему то же самое.
Проговорив это наскоро, герцог поспешно, через длинный ряд дворцовых комнат отправился в спальню императрицы, а расторопный адъютант, вскочив на ожидавшую у подъезда верховую лошадь, поскакал исполнять приказание его высочества. Скачущий во всю прыть верхом адъютант не мог бы в тогдашнюю пору возбудить в шедших по улицам людях никакого говора, так как посылка адъютантов верхами, даже по неважным делам, была тогда самым обыкновенным способом сообщений между чиновными лицами, имевшими их в своем постоянном распоряжении. Но теперь, когда все были настроены на мысль о близкой кончине государыни, прохожие, завидевшие мчавшегося во весь опор адъютанта герцога, предполагали, что случилось что-нибудь чрезвычайно важное, и догадывались, что, вероятно, императрице очень нехорошо, а быть может, что она уже и скончалась.
Действительно, у поправившейся в конце марта 1727 года императрицы открылась 10 апреля сильная лихорадка. Болезнь быстро развилась, и тогдашняя медицинская знаменитость Петербурга, Блюментрост*, объявил под секретом близким к государыне лицам, что дни ее сочтены и что не сегодня-завтра она должна скончаться. Встревоженный таким сообщением герцог послал своего адъютанта к Толстому, Ушакову и Остерману, желая их видеть и переговорить, как следует поступить в этом случае; но нетерпение одолевало его, и он сам отправился в коляске к Ушакову, а Толстой между тем, не застав Ушакова дома, пошел во дворец к герцогу пешком. Герцог встретил его на дороге, посадил в коляску и привез к себе во дворец. К приезду сюда герцога подоспел и Ушаков, узнавший, что герцог поехал во дворец, взяв с собою попавшегося ему навстречу Толстого.
– Императрица больна безнадежно, – проговорил очень плохо по-русски подавленный печалью герцог. – Если она, Боже сохрани, скончается, то Меншиков станет управлять всем государством. Это непременно будет, если мы заранее не примем мер к тому, чтобы устранить от престола великого князя. Я делал уже намеки на это государыне, но она промолчала…
Толстой и Ушаков, не отвечая ничего на заявление герцога, вопросительно переглянулись друг с другом.
Они, как участники в деле погубления царевича, лучше других понимали те побуждения, которые заставляли Екатерину назначить наследником великого князя в обход своих дочерей. Тут со стороны ее не было никаких политических побуждений и никаких соображений о законности прав великого князя на престолонаследие. В Екатерине, ввиду приближающейся смерти, заговорили угрызения совести. Много ли, мало ли принимала она прямого участия в погибели царевича, но теперь в предсмертный час для нее нужно было искать душевного успокоения и примирения с тем, чью мать она окончательно разлучила с отцом, предпочитавшим дочерей сыну.
– Нельзя ли уговорить императрицу, чтобы она объявила наследницею одну из своих дочерей, иначе мы все пропадем, – сказал тревожным голосом Ушаков.
«Вы, ваше королевское высочество, служите этому помехой, главной помехой», – порывался было сказать Толстой герцогу.
Он понимал, что императрице трудно решиться объявить своею наследницею младшую дочь, отдав ей таким образом предпочтение перед старшей; между тем если назначить наследницею старшую дочь, то ничтожный, но высокомерный и ненавидимый русскими супруг Анны в случае вступления ее на престол наделал бы много бед России.
Но Толстой не решился высказать напрямик этой справедливой мысли, и совещание противников воцарения Петра кончилось ничем. Они ожидали какого-нибудь дельного совета со стороны лукавого Остермана, но возвратившийся адъютант герцога доложил ему, что барон никак не может прибыть к его высочеству и сильно сожалеет, что жестокий припадок подагры не только не позволяет ему выехать со двора, но даже и встать с постели. К этому адъютант добавил, что во время его разговора с Остерманом барон стонал, а по временам даже и громко вскрикивал, ссылаясь на невыносимую боль в ноге. Осторожный старик понял, что, отправившись теперь к герцогу на совещание, он очутится между двух огней: между партией герцога Голштинского и цесаревен, с одной стороны, и партией Меншикова и великого князя – с другой.
«Бог весть, которая из них возьмет верх, но, во всяком случае, пристав к одной из них, навлечешь на себя непременно ненависть другой. Останусь-ка я лучше дома, под предлогом болезни, а потом уже, смотря по обстоятельствам, примкну к той иди другой стороне. Так будет лучше», – весьма основательно рассуждал Остерман.
В душе, однако, он сочувствовал своему питомцу, но только под условием, чтобы Меншиков утратил свою власть, причем были у него и личные виды, так как он надеялся приобрести первенствующее влияние, которое, однако, и при Петре должен был удержать за собою Меншиков, если бы состоялся предполагаемый брак княжны Марии с будущим государем.
Уклонился также Остерман и от присутствия в Верховном тайном совете, где должен был решиться вопрос о престолонаследии, в случае кончины царствующей государыни, и где большинство членов было на стороне великого князя, предполагая, что таким мнением они угрожают разом и императрице, и Меншикову и что они могли бы оказаться в неприятном положении лишь тогда, когда бы одолела партия герцога Голштинского; но рассчитывать на это было очень трудно.
В то время, когда относительно скорой кончины Екатерины не оставалось уже никакого сомнения, ее дочери, герцог и приближенные к ней лица в ожидании роковой развязки собрались в комнате, близкой к спальне государыни. В этой комнате была поставлена теперь постель, на которой спала Елизавета, желавшая быть и днем и ночью недалеко от своей умирающей матери.
Сюда 16 апреля, при вести, пронесшейся по дворцу, о том, что императрица кончается, стали собираться ее приближенные. Елизавета, удрученная печалью, горько плакала, сидя на постели; рядом с нею, заливаясь слезами, сидела Софья Скавронская, хорошенькая племянница императрицы, предназначенная ею в невесты Петру Сапеге. Плакала также, стоя у стола близ постели, и Анна Петровна.
Неподвижно и молча сидели в углу той же комнаты великий князь и его сестра. Сейчас же можно было заметить, что они составляли как бы особую семью от семьи Екатерины.
Вдруг двери в эту комнату с шумом распахнулись, и в нее с веселым выражением лица вошел генерал-лейтенант граф Девьер.
– Чего, девицы прекрасные, вы тут плачете! – весело крикнул он и, подбежав к постели, схватил за талию Скавронскую и поднял плачущую девушку с постели. – Пойдем со мной танцевать!
И с этими словами он принялся насильно вертеть Софью.
– Что ты делаешь, Антон Мануилович! – крикнула в испуге Софья Карловна. – Такая ли теперь пора! – лепетала она сквозь слезы, вырываясь от расходившегося танцора.
– Не надобно плакать, не надобно! – наставлял он, не отнимая руки от ее талии. – А ты о чем печалишься? Выпей лучше рюмку вина, – проговорил он, обращаясь к Елизавете Петровне и усаживаясь рядом с нею на постели.
Елизавета оттолкнула от себя забывшегося Девьера и разрыдалась еще более.
Девьер, несколько опомнившись от полученного им толчка, вскочил с постели.
– А ты что так пригорюнился? – начал он, подойдя к великому князю и потащив его к кровати, с которой встали Елизавета и Софья.
Они подошли к Анне Петровне, которая, закрыв лицо платком, громко рыдала и, казалось, не обращала никакого внимания на то, что происходило кругом нее.
– Поедем со мной кататься в коляске, – говорил Девьер, дружески трепля по плечу великого князя. – Тебе со мною будет лучше, а государыне живой не быть. Поверь мне. Да с чего ты вздумал жениться? – вдруг захохотал Девьер. – За твоей женой станут волочиться, а ты примешься ревновать. Вот умора-то будет! – разразился громким смехом Девьер. – А знаешь что? Не женись-ка на Маше, а женись вот на ком, – проговорил он, показывая глазами на Елизавету.
Петр невольно взглянул на свою тетку, и двенадцатилетний подросток вдруг почувствовал какое-то неведомое ему прежде волнение. Перед ним стояла девушка обворожительной красоты. В эту минуту Елизавета была еще прелестнее, чем всегда. Прислонившись к стене спиною и опустив вниз сложенные руки, она тяжело дышала высоко поднимавшеюся, полною грудью. Ее большие голубые глаза, блестевшие обыкновенно приманчивой поволокой, блестели теперь еще и слезами. Густые светло-русые локоны выбивались роскошными прядями из-под наброшенного на голову белого кисейного платочка, а пунцовые губки, на которых постоянно играла веселая улыбка, оттенялись теперь выражением грусти и страдания. Петр был поражен красотою тетки, а Девьер между тем слегка подталкивал его локтем, как будто лакомя его видом обворожительной девушки. Затем Девьер принялся, улыбаясь, нашептывать что-то на ухо великому князю.
– А ты все еще плачешь? – вдруг крикнул он, подскочив к Анне Петровне и отнимая платок от ее глаз.
Великая княжна Наталия в сильном смущении смотрела на все, что делалось перед нею, и в ее умной головке раздражительно и болезненно мелькала мысль о том, что станется с ее братом и с нею самой и какие придется им испытывать унижения в будущем. Она порывалась несколько раз встать с места, но ее удерживала боязнь, что расходившийся Девьер наделает ей разных неприятностей. Наконец, воспользовавшись тем, что Девьер пристал к Анне Петровне, она вскочила со стула и быстро подбежала к брату, сидевшему на кровати и продолжавшему пристально смотреть на Елизавету. Она схватила его за руку и потащила вон из комнаты, но в дверях столкнулась с Меншиковым, который, не входя еще в комнату, услышал, что там происходило.
– Ты, Наташа, – ласково-поучительным голосом сказал он ей, – не слушай никого. Иди отсюда и будь при бабушке вместе со мной. А ты, негодяй, что тут делаешь?.. – громко крикнул он, обращаясь к своему зятю и сильно топнув на него ногою. – Тебе здесь не место! Вон отсюда!..
Девьер как будто ошалел от такого неожиданного окрика и смиренно стал выбираться из комнаты, где он так развязно балагурил.
– Я научу тебя, Антошка, как ты должен уважать членов императорского дома! – уже не проговорил, а как-то проревел «светлейший».
Меншиков расспросил у остановившихся в испуге у дверей великого князя и его сестры о том, что здесь происходило, и Наталья Алексеевна простодушно рассказала ему все, что ей пришлось видеть и слышать. С таким же вопросом он обратился и к цесаревнам, и к Софии Скавронской, которая в свою очередь не скрыла ничего из того, что с ними проделывал Девьер.
«Так вот оно что! – подумал Меншиков, выслушав все данные ему показания. – Этот негодяй Антошка вздумал расстраивать помолвку моей Маши с великим князем! Дорого он поплатится мне за это».
Ободрив цесаревен и Скавронскую надеждою на выздоровление императрицы, князь, насупившись, пошел медленными и осторожными шагами в ее опочивальню.
Спустя два дня после этого канцлер граф Головкин получил от имени императрицы секретный указ с следующею запискою от «светлейшего»: «Извольте собрать всех определенных к тому членов и объявить указ ее величества и, не вступая в дело, присягать, чтоб поступать правдиво, и никому не манить, и о том деле ни с кем нигде не разговаривать, и не объявлять никому, кроме ее величества, и завтра поутру его допросить, и что он скажет, о том донести ее величеству, а розыску над ним не чинить».
Полученный Головиным указ и записка относились к Девьеру.
XXII
Неприветливо и мрачно выглядело Белое море. Был исход августа месяца, и в этой полосе России наступала уже ранняя осень. На море не разыгрывались сильные бури и не разражались ураганы, непродолжительная борьба с которыми доставляет своего рода наслаждение; но зато над ним висели постоянно серые тучи, а густой туман и неустанно моросивший дождь застилали унылую даль.
В это время по волнам моря плыло небольшое, неуклюжее судно стародавней, но надежной постройки и неприспособленное к быстрому ходу. Судно это направлялось из Архангельска в знаменитую Соловецкую обитель. У руля стоял кормчий с длинными седыми волосами и такою же бородой. На нем была большая меховая шапка и нагольный* тулуп; он зорким глазом следил за направлением судна и казался опытным и смелым моряком. Да он действительно и был таким, так как, несмотря на мирскую его одежду, это был инок Соловецкого монастыря, постригшийся там после того, как он, пожелав принять «ангельский чин», покинул занятие мореходством, как занятие, доставлявшее выгоды, и начал служить без всякой мзды только угодникам Божиим Зосиму и Савватию.
Богоугодным делом считались его труды, потому что он обыкновенно перевозил богомольцев, желавших посетить отдаленную обитель, но теперь на его долю пришлась другого рода работа. Судно, которым он управлял, не перевозило богомольцев, так как в эту позднюю, относительно беломорского прибрежья, пору никто уже не отправлялся в путь на Соловки. Притом и с первого взгляда на судно, которым правил инок-кормчий, можно было догадаться, что оно не предназначено для переезда благочестивых странников. На палубе его расхаживал часовой с ружьем на плече, а из люка вылезали время от времени солдаты, чтобы сменить с караула своего товарища, стоявшего на часах, или посмотреть на будоражившееся от ветра море. Небольшие окошки, пробитые в кормовой части этого судна, были заделаны крепкими железными решетками.
На носовой части судна лежали, завернувшись в тулупы, двое молодых монастырских послушников, расправлявшие или убиравшие – когда было нужно – по команде кормчего паруса. Но теперь этим помощникам не предстояло никакой работы: ветер дул хотя и довольно сильно, но постоянно и ровно, так что никакой перемены парусов не требовалось и они могли спокойно вести свою беседу. Предметом же ее были узники, которых везли теперь из Архангельска в Соловки.
– Говорят, что один из них был в Питере самый важный вельможа, был граф, а теперь сделался ничем, стал ниже последнего мужика. Другой тоже был знатный господин…
– А ты не видал их в лицо? – спросил товарищ.
– Да как же их увидишь? Кроме того, что их посадили к нам на баркас ночью, и привели-то их с закутанными лицами, в низко нахлобученных шапках, а кругом них шли солдаты и не позволяли никому не только останавливаться, но даже и подходить близко.
– Вишь что! А как же они прозываются? – с любопытством спросил послушник.
– Да кому же это известно? Даже и отец архимандрит знать этого не будет. Заключат их, как обыкновенно заключают знатных бояр, под именем «известной персоны». Вот и весь сказ.
– Ну, уж отец архимандрит совсем иная статья. Он у нас всему голова, ему и военная команда, и сержанты, и офицеры, пребывающие в монастыре, – все подначальны.
– А если и будет знать, так все-таки нам ничего не скажет…
В это время кормчий, соображаясь с переменою в направлении ветра, крикнул послушникам, чтобы они прибрали один парус, и те опрометью кинулись исполнять его приказание.
Морской путь на Соловки был однообразен и печален. На нем только по временам встречались в открытом море утлые суда, и находившиеся на них пловцы перекрикивались с теми, которые были на баркасе, но не получали от них никакого ответного отклика, так как им приказано было молчать безусловно и не только не вступать в разговоры с встречающимися пловцами, но даже ни слова не отвечать на их вопросы.
Но вот на темно-серой завесе неба чуть-чуть забелела святая обитель, к которой направлялось судно, и спустя несколько часов оно пристало к высокому берегу острова. Путь был кончен, но узников не выводили еще на берег, ожидая прибытия отца архимандрита, который не только священнодействовал, но и военачальствовал на острове.
Узники сквозь решетку могли рассмотреть часть крепких монастырских стен, с которых еще не слишком давно, во дни царя Алексея, гремели пушки, направленные на царскую рать, приходившую усмирять непокорную обитель. Воспоминание об этом крамольном времени еще свежо сохранилось в местных преданиях. Посещавшие Соловки богомольцы с любопытством слушали рассказы о том, как смиренные прежде иноки не захотели – защищая русскую старину от московских новшеств – признавать над собою ни царской, ни патриаршей власти; как они вооружились сами и привели в оборонительное положение, превратили в грозную твердыню свою обитель; как тогдашний архимандрит, начальствовавший над монастырскою ратью, ходил по стенам обители, кропил святою водою расставленные на них пушки и, целуя их, приговаривал: «Голубушки-голландушки, не выдавайте нас! По Бозе и по святых его угодниках соловецких вы первые наши защитницы». Под грохот этих орудий не раз происходила кругом монастырских стен сеча монастырской братии с стрельцами и царскими ратными людьми, которые, попятившись от развоевавшихся монахов, не решались уже ходить на приступ и держали монастырь в тесной осаде в продолжение семи лет. Наконец среди монашеской братии нашелся изменник, показавший осаждавшим тропинку, по которой они, не подвергаясь смертоносным выстрелам с монастырских стен, пробрались тайком в обитель и внезапно напали на беспечно покоившихся за надежными стенами ратников, считавших себя в полной безопасности от нападения врага с той стороны, с которой оно было произведено так неожиданно.
Таинственным узникам, привозимым теперь в Соловецкую обитель, было, впрочем, не до таких исторических воспоминаний; много было у них и своих личных, и семейных воспоминаний о том, чем они были прежде и что они оставили в Петербурге и что было теперь отдалено от них на огромное расстояние и морем, и сушею.
Вереница этих горьких дум была прервана шумом на палубе над их головами. Сопровождавшая их военная команда засуетилась; растворились широкие монастырские ворота, и в них, сопутствуемый двумя монахами, показался отец архимандрит, отдавший приказание о выводе с баркаса привезенных узников, которые и вышли на берег, окруженные солдатами.
Не обращая как будто никакого внимания на своих будущих затворников, архимандрит пошел впереди них, звякая болтавшимися у него в руках на ремешке большими ключами. Все делалось молча; слышались только мерные шаги конвойных да удушливый кашель одного из арестантов, который по походке казался изнуренным тяжелою болезнью, тогда как другой шел бодро, подняв вверх голову.
Из святых ворот команда и узники, следовавшие за архимандритом, прошли несколько особых ворот и крытых проходов и вошли в мрачный коридор, проведенный вдоль внешней монастырской стены. Здесь архимандрит, перебирая ключи и сняв два из них с ремешка, отворил одним из этих ключей замок железной двери, а шедший с ним монах, с усилием отодвинув железный засов, сильно толкнул дверь рукой и ногой, и перед глазами узников явилась небольшая келья с глубокими сводами, с высоко пробитым вверху, в толстой стене, небольшим окном, заслоненным железными решетками. Архимандрит, указав офицеру глазами на одного из узников, приказал ввести его в эту келью. Тогда оба они, откинув высокие воротники своих шуб и сдвинув со лба вверх на голову шапки, бросились друг к другу, крепко обнялись и несколько раз поцеловались.
– Прощай, батюшка, и, быть может, прощай навсегда, – проговорил, рыдая, младший из них.
– Не плачь, Иван, – твердым голосом сказал старик. – Видно, Господу Богу не угодно было, чтобы мы одолели нашего соперника. Господь смирил мою гордыню, а ты тут ни при чем. Но что делать – и ты должен безропотно покориться Его святой воле. Благослови меня, преподобный отче, на мое новое житие, – проговорил он, сняв шапку и протянув к архимандриту сложенные в горсть и закованные в кандалы руки для получения благословения.
Архимандрит, смотря на него с сдерживаемым состраданием, исполнил его желание, и он твердою поступью вошел в назначенную ему келью. Жалобно заскрипела дверь на ржавых петлях, тоскливо простонал вдвинутый в пробой засов, щелкнул три раза надежный замок, и архимандрит, попробовав плечом, хорошо ли заперта дверь, отдал от нее ключ офицеру, с крепким наказом не допускать к заключенному никого без особого разрешения его высокопреподобия, не позволять ему ни с кем разговаривать, а также не позволять держать у себя ни бумаги, ни перьев, ни чернил.
Сделав десяток шагов вперед по коридору и миновав бывшие по одной стороне коридора три запертые двери, архимандрит остановился перед следующею дверью. Она также отворилась, и в келью был введен другой узник. Хотя по виду он был гораздо моложе первого, но казался совершенно обессиленным. Страшный кашель душил его, и он, шатаясь, переступил через порог назначенного ему обиталища, от которого веяло ужасом и смертью…
XXIII
В то время, когда заточенные – по указу императрицы Екатерины, или, вернее сказать, по воле Меншикова – на всю жизнь в Соловецкий монастырь граф Петр Толстой и сын его граф Иван томились в мрачных, молчаливых и тесных кельях этой обители, в которую издавна отправляли важных государственных преступников и еретиков, – прежний единомышленник графа Петра против Меншикова, граф Антон Мануилович Девьер, вытерпел еще более.
Отправленный в застенок Петропавловской крепости, о котором недаром с таким ужасом и с сильною дрожью во всем теле говорила, только по слухам, госпожа Рамо, Девьер при допросе подвергся страшной пытке. Раздетый донага, с вывороченными за спину и крепко стянутыми руками, он был поднят на виску с привязанною к ногам колодою. При поднятии его на блоке к потолку от привешенной к ногам его тяжести, на которую, вдобавок, упирался ногою палач, руки страдальца, вытягиваемые еще более веревкою, продетою через блок и которую тянули два помощника палача, выходили медленно из суставов и поднимались над головою; кости его хрустели, жилы растягивались, а сильно натянутая кожа готова была лопнуть. Но этим не окончились мучения графа: палач в продолжение виски нанес ему по спине 25 ударов кнутом, и от этих ударов лилась кровь и отрывалось кусками мясо…
Измученный этою страшною пыткой Девьер был, после добавочного битья кнутом, сослан в Сибирь. Будучи не в силах переносить истязаний, он объявил о своих «неистовых» разговорах – относительно престолонаследия цесаревною Елизаветою и относительно брака княжны Меншиковой – с Толстым, Бутурлиным, Ушаковым, князем Иваном Алексеевичем Долгоруковым и некоторыми другими – и все они, по злобе на них временщика, потерпели наказания: Бутурлин был сослан на безвыездное житье в деревню, Ушаков определен «в команду» куда следует, а князя Долгорукова велено было, «отлучив от двора и унизя чином», отправить в полевые полки.
Из всех виновных самому жестокому наказанию подвергся Девьер.
– Ты, – говорил на первом допросе графу Девьеру Головкин, – по высочайшему указу, обвиняешься в том, что во время прежестокой болезни государыни, «пароксизмуса», когда все доброжелательные подданные в превеликой печали были, будучи в доме ее императорского величества, не только не был в печали, но и веселился и плачущую Софью Карловну Скавронскую вместо танцев вертел. Да ты же, Девьер, сел на кровать и посадил с собою его высочество великого князя и нечто ему на ухо шептал. Да ты же, Девьер, не встал против ее высочества цесаревны Елизаветы Петровны и, не отдав должного рабского респекта, со злой своей предерзостью, сидя на той же кровати, говорил ее высочеству: «О чем печалишься, выпей рюмку вина». Да ты же, Девьер, перед ее высочеством Анной Петровной, когда она была в печали и слезах, по рабской своей должности не вставал, и респекта ей не отдавал, и смеялся о некоторых персонах. Да ты же, Девьер, его высочество с собой в коляске кататься звал и говорил, что его высочество сговорен жениться, что за его невестой будут волочиться, а его высочество ревновать будет.
– Я, – отвечал Девьер, еще перед пыткой утративший свою обычную бойкость и развязность, – не помню теперь, вертел ли я Софью Карловну. Цесаревна Елизавета Петровна сама никому не велела вставать. Великому князю значащихся в обвинении слов не говорил, а прежде говорил часто, чтобы его высочество изволил учиться, а то, как надел кавалерию, стал худо учиться, а еще как сговорят жениться, станет ходить за невестою и будет ревновать и учиться не станет.
– Ведомо нам, Антон Мануилович, что ты издавна был превеликий балагур и что в таковых поступках как бы главная твоя должность состояла, несмотря на твой высокий ранг и на твою позицию; но до такого пустомельства ты никогда прежде не доходил. Да это, следует сказать, и не пустомельство, а оскорбление высочайших персон и предерзостный кондуит в доме ее императорского величества, где все, во всякий час дня и ночи, должны оберегательно содержать себя в рабском респекте, а ты что наделал? – покачав сожалительно головою, заключил граф Головкин. – Расскажи нам поистине, не утаил ли чего-нибудь при своих прежних показаниях?
Обвиняемый пытался было оправдываться, но путался в своих словах, и все его показания были крайне бестолковы.
Последствием допроса, сделанного Девьеру в комиссии, и данных им здесь показаний было предъявление Меншиковым комиссии следующей, написанной от имени императрицы, записки: «Мне о том великий князь сам доносил самую истину, я и сама собой присмотрела его в его противных поступках и знаю многих, которые сообщниками его были, и понеже оное все чинено было от них к великому возмущению, того ради объявить Девьеру, чтобы он объявил своих сообщников».
Нечего, кажется, и говорить, что эта записка была написана не кем иным, как секретарем Меншикова, по его приказанию, и что «светлейший» заранее наметил тех, кого непременно должен был назвать Девьер при произведенной над ним жестокой пытке.
Приговор над Девьером и над указанными им сообщниками состоялся от имени императрицы 6 мая. Шурин не удовлетворился пыткою и ссылкою своего зятя, но в конце указа об исполнении над ним приговора добавил: «Девьеру при ссылке учинить наказание – бить кнутом».
XXIV
– Вот до чего дошло дело!.. – в волнении вскричала княгиня Марфа Петровна, встречая приехавшего к ней в сильном смущении Рабутина. – Меншиков стал добираться и до нас.
– Я приехал успокоить вас, – говорил Долгоруковой Рабутин. – В этом деле нет ничего важного для племянника вашего мужа. Это пустяки!
– Как нет ничего важного? Ведь я сейчас узнала, что князя Ивана отдалили от двора и высылают из Петербурга в полки, которые у нас называют «полевыми», – вставила княгиня это русское слово в свою французскую речь, на которой разговаривала с Рабутиным. – Вы, граф, находитесь в таких добрых отношениях с князем Меншиковым, вы можете уговорить его, чтоб он изменил этот приговор над молодым человеком, можно сказать, над мальчиком. Для всей фамилии моего мужа такой приговор очень прискорбен, потому что он прежде всего показывает ее бессилие при дворе.
Рабутин пожал плечами.
– Вы знаете, княгиня, – заминаясь, заговорил он, – что нет ничего в мире, чего бы я не был готов сделать для вас, но отчего же вы не предупредили меня об этом прежде? Я постарался бы предотвратить это горе, а теперь уже поздно.
– Я не сделала этого потому, что мой муж и его братья были вполне уверены, что Меншиков не посмеет тронуть никого, кто носит их имя. Они слишком надменны, чтобы унижаться с просьбами перед кем-нибудь, и я прошу вас так, что никто из них не знает о моей просьбе.
– Очень жаль, что в настоящую минуту дела, как кажется, поправить невозможно. Я приехал к вам прямо из дворца. Там все в тревоге: думают, что императрица не проживет даже до вечера. Она безнадежна…
– Но с кем же в случае ее смерти придется поздравить Россию?
– Разумеется, с императором Петром Вторым, – самодовольно отозвался Рабутин. – Мы удачно плели наше кружево. Однако мне вовсе не до дипломатических дел, когда видишь тебя, Марта, – вдруг нежным голосом заговорил Рабутин, обнял крепкою рукою тоненькую талию княгини и поцеловал ее в губы. – Право, с тобой забываются и дипломатия, и дворы, и кабинеты, и депеши, и престолонаследие…
– В самом деле? – весело перебила Марфа Петровна и, положив обе руки ему на плечи, в свою очередь поцеловала его и ласково потрепала рукою по щеке.
– Я напишу в Вену, что ты так много содействовала своим влиянием при дворе… Ах, досадно, что в деле Девьера и Толстого замешан Долгоруков! – как будто спохватился Рабутин. – Тут что-то неладно, как-то не вяжется одно с другим: получает всю власть Меншиков, а Долгорукова отдаляют от двора.
– А я так думаю, что тут нет ничего неладного. Во-первых, в одной и той же семье могут быть разномыслия по политическим вопросам. Племянник моего мужа мог быть врагом Меншикова, но муж мой, а тем более я могли не разделять его неприязненных чувств к князю и его образа мыслей. Во-вторых, приговор над князем Иваном и над другими обвиняемыми состоялся еще от имени Екатерины, следовательно, для Меншикова не представляется ничего щекотливого, если он отменит этот приговор от имени Петра, а это прежде всего показало бы, что при новом царствовании Долгоруковы пользуются известным значением. Понимаешь?
– Как не понять тебя, мой друг, – говорил Рабутин, покрывая поцелуями руки княгини. – Да если бы я не понял твоих слов рассудком, то понял бы сердцем, – нежничал дипломат. – Ты отлично мне разъяснила суть дела, и теперь я буду настаивать в Вене, чтобы твоему отцу выслали оттуда поскорее диплом на графское достоинство. Я напишу туда, что заслуги его дочери дают ему на это полное право. Ах да, я и забыл передать присланный вам, княгиня, из Вены подарок. Вот он.
И с этими словами Рабутин вынул из бокового кармана своего кафтана продолговатый футляр, обделанный в красивый сафьян.
– Из Вены?.. – лукаво улыбнувшись, спросила княгиня.
– Уверяю вас, что из Вены, – также с улыбкой отвечал Рабутин.
– Право, какой у вас милый и добрый император и как он внимателен к ничтожным заслугам дам. Недаром я к нему так расположена, – сказала Марфа Петровна, рассматривая вынутое из футляра ожерелье, игравшее радужными переливами драгоценных камней. Она быстро встала с места, подошла к зеркалу и надела его на шею. – Его величество должен быть человеком с большим вкусом, – добавила она, любуясь в зеркале и поднесенным ей подарком, и самой собою.
– Да, он любитель и знаток всего изящного, – ответил Рабутин.
– А еще кому он прислал подарки?
– Из дам получила только княгиня Волконская. Впрочем, она предпочла взять вместо подарка червонцы. А что касается мужчин, то на них венский кабинет давно тратил, да и тратит значительные суммы, а император даже намерен сделать князю Меншикову небывалый еще для русских подарок. Он хочет пожаловать ему в Силезии герцогство Козельское. Великолепное имение! И мне поручено разведать, как Меншиков примет предназначенный ему подарок.
– Ну вот и прекрасный случай исполнить мою просьбу относительно князя Ивана. Отец и дядя его не захотят сами принижаться перед Меншиковым, но будут очень рады, если это сделается помимо них, а я уже потом скажу им, что это устроил ты, вследствие случайного нашего разговора, без моей даже просьбы. Они, конечно, сделают вид, что недовольны твоим вмешательством в их семейные дела. Не обойдется, пожалуй, и без выговора мне за мою неуместную болтливость, но, повторяю, что в душе они будут очень довольны. Так ты исполнишь мою просьбу? А вот тебе заранее моя сердечная благодарность, – сказала княгиня, обнимая Рабутина за шею и целую его в лоб.
Употребление с обеих сторон в разговоре Рабутина с Долгоруковой слова «ты» указывало на близость их взаимных отношений, развившуюся постепенно при частых их свиданиях. Муж Марфы Петровны, быть может, и догадывался об их обидной для него слишком тесной дружбе, но, как человек слабохарактерный, он не мог собраться с силами, чтобы отвадить Рабутина от беспрестанных посещений. Ему отчасти – по духу того времени – даже было лестно близкое знакомство такой «знатной персоны», какою сделался в Петербурге граф Рабутин, участвовавший теперь в частных совещаниях императрицы вместе с самыми приближенными ее советниками. Притом и сам муж Марфы Петровны, заурядный камергер, плохо соблюдал супружескую верность, и жене его были известны любовные похождения князя с разными замужними женщинами, мужья которых не преследовали его за это. Брат его, князь Алексей Григорьевич, жил в открытой связи с княгинею Трубецкою и, вдобавок еще, колотил ее мужа, когда тот начинал горячиться и вступаться за свою супружескую честь. Авраам Лопухин нисколько не стеснялся говорить о своей жене, как о любовнице Левенвольда. Любовные похождения графини Ягужинской были у всех на виду. Все знали также о связи Чернышевой и Румянцевой. Вообще, хотя никто из русских не вел скандальной хроники при тогдашнем петербургском дворе – как она велась наблюдателями нравов при версальском и других европейских дворах, – но все-таки суровый историк, князь Щербатов*, в сказаниях своих «О повреждении нравов в России» делает несколько резких указаний на распущенность тогдашнего петербургского общества по части любовных дел, а сообщения иностранных дипломатов своим дворам обнаруживают немало прегрешений, содеянных русскими барынями в ту пору, к которой относится наш рассказ.
– Подождем, что будет завтра. Нынешний день, как утверждают врачи, – роковой день для Екатерины, – говорил Рабутин, расставаясь с своей Мартой.
На этот раз врачи не ошиблись в своем предположении, так как через несколько дней труп бедной латышской крестьянки лежал среди торжественно-печальной обстановки на великолепном одре, покрытый императорскою мантией…
XXV
В то время, когда императрице оставалось жить лишь несколько часов и когда обе цесаревны, став на колени в ногах ее постели, громко рыдали, герцог Голштинский незаметно вышел из ее спальни, сел в карету и приказал как можно скорее ехать к своему министру, графу Бассевичу.
– Где вы, мой любезный Бассевич? – кричал растерявшийся герцог, входя к министру, который, заслышав голос своего государя, поспешил к нему навстречу. – Если вы теперь не поможете нам, то мы вконец пропали!.. – говорил торопливо герцог, завидев Бассевича.
На умном лице министра появилось выражение озабоченности.
– Что угодно приказать вашему королевскому высочеству? – спросил он твердым и ровным голосом, и голос этот составлял совершенную противоположность дрожавшему и прерывавшемуся голосу герцога, который заикался, глотал слова, так что даже трудно было понять его.
– Ни я, ни жена моя – мы оба ничем не обеспечены; императрица кончается, а между тем никакого завещания в нашу пользу не составлено, – задыхаясь от волнения, сказал герцог.
– Прошу вас, государь, сесть и успокоиться. Быть может, нам удастся поправить беспечность императрицы. Отдохните немного и извольте ехать во дворец, а я не замедлю туда приехать, – говорил почтительно министр, провожая герцога, который несколько ободрился.
Он, безусловно, верил в ум, находчивость и ловкость своего министра, который, приехав вместе с ним в Петербург, не только хотел устроить все дела герцога самым выгодным образом, но замышлял еще, приобретя полную доверенность государыни, управлять посредством ее и всею Россией.
Проводив герцога, Бассевич поспешил к Меншикову, которого он застал совершенно спокойным.
«Незачем мне ехать во дворец, – думал он в это время, – достаточно той грозы, какую я нагнал на моих врагов. Расправа с Толстым и Девьером показала им, что я сумею уничтожить своих противников, а вместе с тем и военная сила, находящаяся в Петербурге, в моих руках, и когда придет время, я распоряжусь так, как найду для себя более удобным».
Уверенный в своем могуществе, Меншиков принял ничтожного в его глазах голштинского министра не только высокомерно, но и презрительно.
– Что вам нужно? – равнодушно спросил он Бассевича.
– Я к вашей светлости по делу о завещании умирающей императрицы.
– Лучше бы вам не вмешиваться в наши дела; мы, русские, сумеем вести их нисколько не хуже, чем вы с вашим герцогом.
– Если бы, ваша светлость, шел вопрос только о государственных делах России, то я никогда не позволил бы себе никакого вмешательства, но здесь идет вопрос о судьбе дочерей того великого человека, которому вы обязаны вашим счастьем. Неужели, светлейший князь, вы откажетесь обеспечить их участь? Будьте их отцом, – трогательно говорил Бассевич, – и, так сказать, замените им мать, которая как будто забыла их перед смертью.
– Я вам прямо скажу, что ни та, ни другая цесаревна не будет на русском престоле. Вы должны помнить, кто посадил на престол их мать. И теперь я могу сделать то же самое с кем захочу. Я прикажу занять дворец и смежные с ним улицы войсками и сделаю то, что пожелаю…
Бассевич был поражен тою самоуверенностью, с какою говорил Меншиков, и, поняв, что борьба с ним невозможна, пошел на уступки, желая, по крайней мере, хоть несколько поддержать значение герцога и цесаревен и обеспечить хоть до некоторой степени их будущность.
– Не смею оспаривать справедливости ваших слов, но позволю себе только заметить, что ваша светлость окружены врагами и завистниками, которые, конечно, не дремлют вообще и особенно теперь, в такой решительный час; так не лучше ли будет повести дело так, чтобы оно представлялось вполне законным и за вами была бы вполне обеспечена власть, столь спасительная для государства?
Слова Бассевича, хорошо научившегося во время своего пребывания в России говорить по-русски, подействовали на Меншикова, тем более что он считал графа человеком чрезвычайно умным и проницательным.
– А вы, господин Бассевич, как я замечаю, славно говорите по-русски, – уже ласковым голосом проговорил Меншиков.
– Я старался усвоить себе русский язык. Язык этот, как язык славянский, мне не чужой, потому что я сам славянин по происхождению, хотя мои предки и онемечились. Помня мое происхождение, я люблю Россию, как славянскую страну, и желаю ей блага, а оно поставлено в прямую зависимость от воли вашей великокняжеской светлости.
Лесть приятно подействовала на надменного временщика.
– Садитесь, господин граф, – благосклонно сказал он Бассевичу, – и скажите, что же следует сделать.
– Должно сделать завещание от имени умирающей императрицы. Нужно составить такое завещание, которое законным образом обеспечивало бы то высокое положение, на которое вы, по вашим заслугам, имеете неоспоримое право.
На лице Меншикова выразилось удовольствие.
– Но кто же составит такое завещание? – спросил он. – Уж если составлять завещание, то оно должно быть согласно с волею государыни и удовлетворять всех, кого оно будет касаться, – с притворной заботливостью сказал Александр Данилович.
– Я предвидел это, светлейший князь, и составил «концепт»*, а теперь прошу позволения прочесть его вам.
Меншиков утвердительно кивнул головою, а Бассевич, вынув из кармана бумагу с проектом завещания, наскоро набросанного им по отъезде от него герцога, начал уверенным голосом читать его Меншикову, который сидел возле стола, облокотившись на него рукою, и, внимательно прислушиваясь к читаемому, только по временам поправлял некоторые русские слова, неправильно произносимые Бассевичем.
По прочтении первой статьи завещания, в которой говорилось, что, согласно воле императора Петра I, Россия должна помогать герцогу для получения им отнятых у него шлезвигских владений, а также способствовать достижению им шведского престола, Меншиков только недовольно буркнул, не сделав, однако, никаких возражений. Не предъявил он никаких замечаний и против той статьи, в которой говорилось, что цесаревны должны получить все бриллианты, принадлежавшие их матери, все ее «мобилии»* и капиталы, а также и быть обеспечены выдачею каждой из них известной суммы на счет государства. Буркнул, однако, князь по прочтении той статьи в подготовленном Бассевичем завещании, в которой говорилось, что до совершеннолетия великого князя Петра Алексеевича – который назначался «сукцессором»* Екатерины – государством должен управлять Верховный тайный совет, членами которого долженствуют быть обе цесаревны, занимая в совете первые места. К этому прибавлялось, что Верховный тайный совет должен будет состоять из девяти персон, что совет этот имеет полную власть, но только не может изменить закона о «сукцессии», которая в случае бездетной кончины Петра переходит к цесаревне Анне и ее «десцендентам»*, а по кончине ее и в случае неимения ею детей – к цесаревне Елизавете и ее «десцендентам», и что совет должен решать дела большинством голосов и никто один повелевать в нем не может.
Слушая эту статью, Меншиков нахмурился было, но вскоре морщины со лба его исчезли.
«Что за важность, – подумал он, – что никто один повелевать не может. Это так пишется в бумаге, а на деле выйдет, конечно, совсем иное. Ведь и теперь я не имею законного права повелевать, а, однако, могу делать все, что захочу, а когда просватаю дочь за государя, то уже никто мне, как царскому тестю, ни в чем препятствовать не может».
Ввиду этих соображений Меншиков не прерывал дальнейшего чтения и не сделал никакого возражения.
– Вот нужно было бы тут вставить о помолвке светлейшей княжны, высокоурожденной дочери вашей Марии Александровны, с великим князем Петром Алексеевичем, но сделать это без нарочитого позволения со стороны вашей светлости я не решился: это было бы дерзким вмешательством в дела фамилии вашей, – с почтительною важностию промолвил Бассевич.
На лице Меншикова скользнуло выражение удовольствия.
– Отчего же нельзя? Очень можно; императрица насчет этого изъявила уже словесно свое согласие и, конечно, не отменит его. Да вот что, отец родной, – ласково сказал Меншиков, – оставь эту бумажонку у меня. Я велю ее сейчас же переписать, а ты меж тем посоветуй герцогу, чтобы он подписал эту бумагу, не упрямясь, безотговорочно да от себя посоветовал бы и супруге своей, и ее высочеству цесаревне Елизавете сделать то же самое. Да скажи им еще, что если с их стороны пойдут против меня нелады, то я с ними толковать долго не буду, а распоряжусь по-своему. Прибавлю еще одно: после того, как герцогиня будет награждена всем, что будет ей следовать по завещанию, пусть герцог подобру-поздорову выбирается отсюда. Жаль мне будет с тобой расстаться; захочешь, оставайся у нас посланником. Герцог же здесь никому не нужен, никто из нас его не любит, да и не доверяет ему, потому что он со временем будет королем шведским и начнет строить против нас козни.
Бассевич, откланявшись почтительно князю, отправился во дворец, чтобы исполнить поручение «светлейшего», а Меншиков послал за своим секретарем и за Сапегой. Секретарю он объяснил, какие нужно сделать изменения, добавления и перестановки в переданном ему завещании, и приказал поскорее переписать набело, но вдруг в глубоком раздумье он приостановился.
– Эх, братец, не хорошо, что твой почерк многие знают. Не хотел бы я, чтобы потом заговорили, будто от меня идет завещание.
– Не беспокойтесь об этом, ваша светлость, я могу писать разными почерками и напишу так, что на меня и не подумают, – бойко ответил Яковлев.
– Да вот что еще, братец: припиши-ка девятым пунктом, что регентство имеет учинить брак ее высочества цесаревны Елизаветы Петровны с герцогом Голштинским, епископом Любским… Больно уж он ей нравится. «Нужно это вставить, тогда она не переча подпишет завещание», – подумал Меншиков.
К тому времени, когда было принесено секретарем Яковлевым переписанное им набело завещание и Меншиков, выслушав его, одобрил, к «светлейшему» подъехал Сапега, которого князь считал теперь пригодным человеком, вследствие того родства, какое установлялось между Сапегами и государыней.
– А у меня, ясновельможный Иван Францевич, есть до тебя дело, – сказал князь и, позвав секретаря, приказал ему прочесть Сапеге завещание, объясняя пану Яну некоторые статьи и подробности завещания по-польски и по-русски.
Слушая завещание, Сапега только утвердительно, с полным равнодушием кивал головою, но когда секретарь, окончив чтение, по приказанию князя удалился, то Сапега укорительно взглянул на Меншикова.
– А что же, ясновельможный Александр Данилович, ты забыл меня, своего старого приятеля? – с грустию проговорил он.
– Как забыл?
– Отчего же ты не написал, что регентство должно выдать племянницу императрицы за моего сына? Ведь и на это, как тебе известно, есть согласие императрицы.
– Эх, пан Ян, до того ли мне, – отвечал Меншиков, – это дело само собою сладится. А теперь нужно, чтобы, когда это потребуется, ты подписал завещание без всяких отговорок. Ведь ты какой ни на есть, а все-таки российский генерал-фельдмаршал и андреевский кавалер, и тебе должно быть лестно, что я пригласил тебя участвовать в таком великом государственном деле. А не хочешь, так я и без тебя могу обойтись.
– Хорошо, хорошо, – отвечал фельдмаршал, – только уж и ты поторопись свадьбой.
– Разумеется! Мне Скавронскую беречь не для кого.
С заготовленным завещанием Меншиков поехал во дворец. По тогдашнему обыкновению, все в Петербурге вставали очень рано, и хотя было только семь часов утра, но в Зимнем дворце все были уже на ногах, да, собственно, там и не ложились в эту ночь спать, ожидая каждую минуту кончины государыни. Не входя в ту комнату, в которую переместилась на время болезни матери Елизавета, князь приказал госпоже Рамо вызвать к себе цесаревну и, не говоря ничего, повел ее в кабинет императрицы.
– Эту бумагу следует тебе, цесаревна, подписать за государыню, – твердо и решительно сказал Меншиков, подводя Елизавету к письменному столу.
– Что это такое? – спросила она.
– Завещание ее величества.
В смущении, дрожащими руками взяла Елизавета эту бумагу и стала читать ее вполголоса. Меншиков пристально следил за нею и заметил на лице девушки нерешительность; но лицо ее вдруг оживилось и зарделось ярким румянцем, когда она дошла до той статьи завещания, в которой поручалось регентству «учинить ее брак с епископом Любским». Она, вся взволнованная, быстро протянула руку, чтобы взять перо.
«Ого! – улыбнувшись, подумал Меншиков: как ей хочется быть немецкой архиерейшей. Знал же я, чем ей угодить».
Подсмеивался, впрочем, над браком Елизаветы, задуманным Екатериною, не один только Меншиков, но и все русские: так им казалась странной женитьба «епископа», или «бискупа», как называли его в Петербурге. Едва ли кто-нибудь из русских понимал толково, кто такой был этот неожиданно появившийся в Петербурге красавец щеголь в парике с длинными локонами, в кружевах, бархате и шелке, при шпаге на боку, называвшийся и принцем, и епископом.
Дело в том, что известный своею обширною торговлею город Любек издавна принадлежал Голштинскому дому, а потом, при господстве католичества в Германии, составлял пожизненное владение римско-католического епископа, пользовавшегося княжеским достоинством. Когда же в Германии водворилось протестантство и католические епископства были уничтожены, то Любек был обращен в светское владение, удержавшее за собой прежнее название епископства, и был отдан одной из линий Голштинского дома. Представитель этой линии, князь-епископ, двадцатидвухлетний – скорее убогий, нежели богатый – юноша приехал в Петербург в надежде заключить здесь такой же выгодный брак, какой пришелся на долю его однородца, герцога Голштинского. Надежда жениха-епископа, по-видимому, готова была осуществиться. Он не только чрезвычайно понравился Екатерине, но и Елизавета влюбилась в него, как говорится, по уши, и вскоре была помолвлена с ним.
«Видно, Бутурлина-то совсем позабыла», – продолжал думать Меншиков в то время, когда Елизавета, присев к столу, не без заметного, но вместе с тем и приятного для нее волнения подписала за Екатерину завещание, составленное от имени этой последней. Меншиков взял бумагу, вложил ее в тот пакет, в котором она лежала прежде, и попросил Елизавету достать печать государыни. Поданною ему печатью он запечатал конверт и сказал цесаревне, чтобы они сделала на нем надпись: «Его королевскому высочеству герцогу, моему возлюбленному сыну. Распечатать в первом же заседании Верховного тайного совета». Затем «светлейший» сообщил Елизавете, что теперь дело покончено, что завещание императрицы будет исполнено в точности и что он сам станет наблюдать за ненарушением статей этого завещания, и в особенности той, которая относится к «сукцессии».
Когда цесаревна вышла из той комнаты, в которой она подписала завещание, Меншиков приказал позвать к себе любимую камер-фрау* императрицы, Крамер, от которой – как было известно при дворе – у Екатерины не было никаких секретов.
– Когда – чего Боже сохрани – скончается Катерина Алексеевна, то ты, Марья Ивановна, отдашь эту бумагу герцогу, но отдашь не иначе как в присутствии моем и тех знатных персон, которые тогда во дворец соберутся. Если бы же тебя спросили, кто отдал тебе эту бумагу, то говори, что сама государыня приказала тебе вынуть ее из-под подушки и отдать тому, кто на пакете написан. Исполни же мое приказание в точности, никому ни в жизнь не разболтай, а я тебя в свою очередь не забуду, – внушительно говорил Меншиков.
После того «светлейший», свидевшись с ожидавшим его во дворце Бассевичем, повторил, чтобы Бассевич не забыл внушить герцогу и герцогине быть во всем послушными перед ним, Меншиковым, а затем, возвратившись к себе домой, послал приказ начальствовавшим в Петербурге над войсками лицам, чтобы полки были готовы выступить с заряженными ружьями из своих «светлиц» по первому данному от него повелению и направились бы к Зимнему дворцу, где он приказал усилить караул.
XXVI
В светлую майскую ночь, с 6-го на 7-е число, стала по Петербургу распространяться молва, что императрицы уже нет на свете. Говорили, однако, об этом шепотом и с большой опаской. Вскоре по улицам Петербурга потянулись, по приказу Меншикова, полки, направляясь к Зимнему дворцу.
Офицеры и солдаты знали, что они идут приносить присягу новому государю, но кто будет царствовать – того никто не знал, да и все боялись спрашивать об этом. Лазутчики Меншикова шныряли в толпе и старались заговаривать с народом о предстоявшей перемене, но все со страхом удалялись при первом слове. Они приставали и к шедшим ко дворцу солдатам, но получали от них один и тот же крайне осторожный ответ: «Ничего знать не могим». Шайкой этих неудачных разведчиков руководил секретарь Меншикова, Андрей Яковлев, который еще и прежде, желая проведать, что говорят в народе о «светлейшем», переодевался в мужицкое платье и шлялся по кабакам, рынкам, базарам и баням, которые в то время были самым любимым сборищем праздного петербургского простонародья.
– Ах ты, Господи, жаль-то как царицу-матушку! И кому-то теперь присягать мы будем? – прикидываясь простаком, говорил княжеский секретарь.
– Кому начальство прикажет, – отвечали ему солдаты.
– Кому велят, тому и присягнем, – отвечали обыкновенно простолюдины или – что случалось еще чаще – делали вид, будто ничего не слышат.
– Нужно будет присягать тому, – наставительно внушал Яковлев, – кому прикажет светлейший князь Александр Данилович Меншиков; пока у нас нет государя, он – человек начальный, всем он – голова.
– Ладно, пусть будет так, – уступчиво соглашались слушатели и пятились от него подальше, подозревая, что он, должно быть, из сыщиков или из гулящих людей, готовый сейчас закричать «слово и дело»*.
Войско между тем окружило Зимний дворец и прекратило всякое движение по прилегавшим к нему улицам. Ко дворцу пропускали только «знатных персон», которых, независимо от одежды, лент и звезд, легко было узнать по числу лошадей, запряженных в экипаж, и по ливрейным лакеям. Только люди чиновные ездили шестерней цугом; малочиновные четверней, а еще менее чиновные – только парою.
Никто, однако, не видел проезжавшей по улице и окруженной вершниками кареты светлейшего князя, которая по своей богатой отделке, по зеркальным стеклам и в особенности по золотой, поставленной на верху ее кузова княжеской короне резко отличалась от всех других, хотя тоже роскошных карет и была давно известна всем жителям Петербурга. Ее знал каждый мальчуган, и при ее приближении все спешили снимать шапки. Меншикову оказывался такой же почет, как и государыне и членам царской фамилии.
Теперь «светлейший» не проезжал по улице в своей великолепной карете, потому что он еще спозаранку был во дворце и с лихорадочною торопливостью, ввиду близкой развязки, делал свои распоряжения. Он послал, между прочим, за графом Головкиным и Остерманом; но этот последний, по своему обыкновению, не явился, ссылаясь на мучившую его подагру и втайне рассчитывая, что при теперешних запутанных обстоятельствах лучше всего держаться в стороне до тех пор, пока вопрос о престолонаследии разрешится так или иначе.
«Тогда и будем знать, у кого искать, – рассуждал сам с собою предусмотрительный барон, – а то теперь, чего доброго, попадешься впросак».
Приехали во дворец по зову Меншикова также и главные его сторонники. Они собрались в приемный зал, а сам «светлейший» безотлучно оставался в опочивальне императрицы.
Над Петербургом в это время расстилался легкий сумрак непродолжительной майской ночи. Нева как будто заснула и казалась неподвижной, и среди тишины, окружавшей дворец, до стен его доносились всплески весел переезжавших через реку яликов, а изредка и лошадиный топот по плавучему мосту, перекинутому близ дворца. Золотая игла над Петропавловской церковью медленно гасла, освещаемая вечернею зарей. Ее розовый отблеск отражался на окнах дворца, в которых начали слабо мелькать огни зажигаемых свечей.
За Невой послышался протяжный бой часов на Петропавловской крепости, отсчитавших последний час в жизни Екатерины. Они пробили девять, и куранты их заиграли заунывную молитву. В то же время стал доноситься через реку барабанный бой вечерней зори на крепостной кордегардии.
Не успели еще пробить часы за Невой первой четверти десятого, как из спальни императрицы вышел в приемную с понуренной головой князь Меншиков. Из отворенных дверей спальни несся плач, вой и громкое всхлипывание. Там рыдали с жалостными причитаниями ближайшая прислуга императрицы и обе ее дочери. Елизавета металась из стороны в сторону, припадая головой к постели своей умершей матери. Герцог поддерживал за талию и утешал свою плакавшую навзрыд жену. Софья Скавронская и две маленькие сестры ее стояли как растерянные; они как будто боялись, что из той роскоши и почета, в которые они попали случайно, по милости императрицы, возвратятся снова в прежнее ничтожество.
Участливо, с набегавшими на глаза слезами смотрели на умершую Екатерину дети цесаревича Алексея. Они не были привязаны к Екатерине и даже не могли любить ее, но вид смерти не мог не тронуть их, как неизвестное еще им зрелище, да и раздававшиеся кругом их плач и рыдания неизбежно должны были повлиять на их детские еще души. Великий князь готов уже был расчувствоваться и заплакать; но сдержанная и чуждая всякого притворства Наталья стояла на месте как вкопанная и, склонив голову, только шепотом молилась за свою умершую нареченную бабушку.
Между тем в приемную вошел Меншиков.
– Матушка наша, благочестивейшая государыня императрица Екатерина Алексеевна преставилась, – сказал он взволнованным голосом. – Да упокоит Господь Бог душу ее в селениях праведных!
Все молча перекрестились, и затем кто начал плакать навзрыд, кто принялся хныкать, кто выть, кто вздыхать, выражая громко свое сожаление о потере, постигшей отечество.
Меншиков, заложив за спину одну руку, величаво стоял среди приемной, обводя спокойным взглядом всех присутствовавших, в числе которых были и представители иностранных держав: Рабутин, Вестфален, шведский посол генерал Цедергольм и голландский резидент де Дье.
«Светлейший» молчал, как бы давая время увлечься первому впечатлению, произведенному сообщенным им печальным известием. В это время из спальни вышла в приемную камер-фрау императрицы, Крамер, и, всхлипывая, подала запечатанный пакет герцогу, а тот почтительно передал его Меншикову.
– Это не ко мне, а к вашему высочеству, – равнодушно сказал «светлейший», возвращая пакет герцогу. – Но так как на пакете есть приписка, чтобы он был вскрыт в Верховном тайном совете, то благоволите передать его господину канцлеру, а затем распечатать пакет и прочесть, что написано в бумаге, будет его дело. А ты, Гаврила Иванович, распорядись собрать назавтра, в восемь часов утра, Верховный тайный совет. Распорядись также, чтоб к этому времени здесь, в приемной, собрались президенты и члены всех коллегий и весь штатский генералитет. Ты, Иван Матвеевич, созови сюда все адмиралтейские чины, – продолжал он, обращаясь к великому адмиралу. – Ты же, преосвященный владыка, – сказал он архиепископу тверскому Георгию Дашкову*, – созови Святейший синод. Заседание совета будет, как обыкновенно, происходить в апартаментах государыни, а постановление его будет объявлено всем собравшимся чинам в этой приемной.
Все раболепно поклонились «светлейшему», который приказывал теперь как первенствующая особа, отстранив и герцога, и цесаревен, и великого князя от всякого участия в своих личных распоряжениях.
XXVII
На другой день, 7 мая, к назначенному времени собрались во дворец все те лица из чинов военных и гражданских, которые должны были быть созваны по распоряжению князя Меншикова.
– Гаврила Иванович, – сказал он Головкину, – вскрой этот пакет и прочти громогласно ту бумагу, которая в него вложена.
Канцлер исполнил приказание князя и начал читать «тестамент»* императрицы.
Для Анны Петровны и для герцога этот «тестамент» был уже известен в общих чертах, так как Елизавета, подписавшая его за свою мать, сообщила им об этом. Самой же Елизавете незачем даже было теперь слушать то, что предварительно читала она, и потому она безучастно относилась к тому, что происходило вокруг нее. Но когда Головкин дошел до той статьи, в которой поручалось регентству выдать ее замуж за князя-епископа, лицо ее вспыхнуло, и она украдкой обвела глазами присутствовавших, которые все пристально смотрели теперь на смутившуюся еще более молодую девушку. Герцог и в особенности герцогиня, казалось, были недовольны тем, что они слышали, но ни она, ни он, запуганные предварительно Меншиковым через Бассевича, не проронили ни слова против «тестамента», который и был беспрекословно признан подписанным покойной государыней.
Положение Петра, воцарившегося неожиданно для него самого, тотчас изменилось. Все полагали, что императрица назначит себе преемницей одну из своих дочерей, и потому не спешили оказывать ни великому князю, ни его сестре раболепных знаков внимания, а сам великий князь как будто старался спрятаться за своих теток и за герцога, не ожидая для себя ничего доброго. Когда же канцлер дочитал до того места, где сукцессором Екатерины назначался великий князь, то он бросился обнимать свою сестру. Великая княжна схватила его руку, со слезами на глазах поцеловала ее и потом крепко сжала ее в своей руке, не желая отпустить от себя брата.
Когда канцлер окончил чтение «тестамента» и против него не было предъявлено никаких возражений, то Меншиков с глубоким поклоном почтительным движением руки пригласил нового императора на середину залы и, став перед ним на одно колено, поцеловал его руку, пожелав ему царствовать долго и благополучно и подражать деяниям и подвигам своего великого деда, отца отечества.
После Меншикова стали приносить поздравления герцог и герцогиня, не преклоняя колени, но только целуя руку государя, на что он отвечал легким поцелуем. Дошла очередь до Елизаветы. Прежде чем успела она взять его руку, он крепко обнял свою красавицу тетку и начал целовать ее в алые губки и в зардевшиеся щечки.
Остерман, его воспитатель, подметил это сердечное движение мальчика.
«Значит, я наладил хороший брак», – подумал он, вспоминая свой прожект о слиянии двух отраслей в потомстве Петра Великого; но как человек, посвящавший себя некогда изучению педагогики, да и теперь любивший ее, он впал тотчас же в глубокое раздумье.
«Не хорошо, что в императоре-отроке проявляются такие порывы чувственных вожделений. Это доказывает, что в нем развиваются пылкие страсти в слишком раннем возрасте. Я помню себя в его годы: ни о Минхен, ни о Лизхен я еще не думал в его пору и, бывало, краснел и стыдился, когда они начинали ласкать меня, как красивого мальчика. Не те здесь нравы: здесь не то что в тихом нашем Бокуме. Впрочем, нечего и удивляться: великий князь видел вокруг себя много соблазнов. Его развращали на каждом шагу. Один безобразник Девьер просветил его так, как было бы впору, пожалуй, и двадцатилетнему юноше, да и физически он развит не по летам».
И Остерман, выросший в благонравном доме своего отца, протестантского пастора, принялся размышлять о своей целомудренной жизни, которую он соблюл до самой могилы. Он не увлекался никогда мимолетною любовью к женщинам и оставался неизменно верен своей суровой супруге, которая, с своей стороны, платя ему тем же самым, держала его в ежовых рукавицах.
Между тем как Остерман вдавался в размышления о вредном влиянии дурных примеров на юношество, поздравления императора лицами, находившимися в приемной, окончились. В числе лиц, поклонившихся впервые новому государю, оказались и некоторые дамы, бывшие наготове, по первому известию о провозглашении нового царствующего лица, приехать во дворец для всеподданнейшего поклонения. Незаметный и даже, так сказать, загнанный прежде внук Петра явился теперь во всем торжестве царственного величия. Слезы во дворце немедленно иссякли, потому что тех, кто искренно оплакивал Екатерину, было немного, а те, кто плакал, рассчитывая тем заслужить благорасположение цесаревен – из которых та или другая могла вступить на престол, – поняли несвоевременность и, главное, всю бесполезность своих и искренних, и притворных слез. Можно сказать, что теперь все сияли радостью, смотря на нового государя, на лице которого отражались кротость и добродушие и выглядывавшего и по росту, и по осанке уже не мальчиком, а зрелым юношей.
Когда окончились поздравления в приемной, Меншиков попросил императора показаться перед войсками и велел растворить настежь двери балкона, выходившего на ту площадь, на которой стояло войско, в ожидании, кому оно должно будет принести присягу. Солдаты вспоминали, как с небольшим два года тому назад они также были собраны на этой же площади и думали, что преемником царя Петра I будет объявлен внук Петра, когда совершенно неожиданно была провозглашена государыней Екатерина Алексеевна. Так и теперь они толковали о том, что, вероятно, будут присягать одной из царевен, когда вдруг на балконе показался великий князь. Герцог хотел было пройти на балкон, чтобы там стать рядом с государем, но Меншиков, приудержав его не совсем вежливо, появился на балконе сзади императора, немного поодаль от него. На площади, при виде нового царя, громко грянул введенный в ту пору в русском войске приветственный латинский клич «vivat», заимствованный от поляков. По знаку, данному с дворцового балкона, выходившего на Неву, началась в Петропавловской крепости пальба из пушек, а на нее отозвались выстрелы из орудий, расставленных на валах тогдашнего Адмиралтейства, находившегося на том же месте, где и нынешнее, но имевшего вид крепости.
Знатные персоны, бывшие в приемной, отправились по приглашению канцлера в дворцовую церковь для принесения присяги воцарившемуся государю; ему же стало присягать и войско, расставленное на площади. По отслужении в церкви молебствия о благоденственном житии, здравии и спасении благочестивейшего императора Петра Алексеевича открыто было торжественное заседание Верховного тайного совета.
Здесь Петр II сел на вызолоченных императорских креслах, поставленных на возвышении под бархатным балдахином, убранным золотою бахромой и с такими же кистями; по правой стороне этого возвышения сели на стульях герцогиня Анна Петровна, ее муж, великая княжна Наталья Алексеевна и великий адмирал граф Апраксин; по левой стороне разместились, также на стульях, цесаревна Елизавета Петровна, князь Меншиков, канцлер граф Головкин и князь Дмитрий Михайлович Голицын. Остерман – болезнь которого прошла мгновенно после того, как он узнал через посланное его шурином Стрешневым письмо о назначении Петра императором, – поспешил во дворец и, войдя вместе с другими в залу заседания Верховного тайного совета, стал, в качестве бывшего обер-гофмейстера великого князя, справа подле императорского кресла. Все прочие оставались на ногах, за исключением архиепископа ростовского Георгия Дашкова и фельдмаршала Сапеги, которые также «были почтены стульями».
Когда все заняли указанные им места, секретарь Верховного тайного совета, Степанов, еще раз прочел завещание покойной императрицы, и затем совет постановил: «Записать в протокол, что все по тому тестаменту должно исполнять».
Протокол этот был подписан не одними членами Верховного совета, но и всеми лицами, находившимися в собрании.
В длинном ряду этих подписей стояла седьмою подпись Сапеги, подписавшегося по-польски «Jan Sapieha».
В тот же вечер кабинет-секретарь Макаров* известил главноначальствовавшего в Москве старика графа Мусина-Пушкина, что «7 мая, в девятом часу утра, собрались в большую залу вся императорская фамилия, весь Верховный тайный совет, Святейший синод, сенаторы, генералитет и прочие знатные воинские и статские чины и что по тестаменту ее императорского величества учинено избрание на престол российский новому императору наследственному государю, его высочеству великому князю Петру Алексеевичу».
XXVIII
В 1717 году в газетах Западной Европы, обращавшей уже внимание на Россию, и в особенности – на прославившегося, а отчасти и лично известного европейцам ее государя Петра I, сообщались сведения о разладе его со своим старшим сыном, царевичем Алексеем, который убежал от грозного отца и отдался под покровительство римско-немецкого императора Карла VI, женатого на родной сестре умершей уже жены царевича, Софии-Шарлотты, принцессы Брауншвейг-Вольфенбюттельской.
«Кажется, что наступают для меня благоприятные коньюнктуры», – подумал, прочитав это известие, бывший в то время в Гамбурге русским резидентом Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.
Он заходил по своему кабинету все более и более ускорявшимися шагами. Волнение его возрастало, но вскоре оно несколько утишилось, и он, присев к письменному столу, стал писать по-латыни письмо, с таким обращением к тому лицу, которому оно предназначалось:
«Serenissime et augustissime altissitudent princeps gratiosissime Domine Zarewicz»**.
></emphasis> ** Светлейший и державнейший величайший государь и милостивейший господин царевич.
Затем излагалось следующее:
«Так как отец мой, брат мой и вся фамилия Бестужевых пользовались особенною милостию Вашею, то я всегда считал обязанностию изъявить мою рабскую признательность и ничего так не желал от юности, как служить вам, но обстоятельства не позволяли. Это принудило меня для покровительства вступить в иностранную службу, и вот уже четыре года я состою камер-юнкером у короля английского. Как скоро верным путем я узнал, что Ваше высочество находится у его цесарского величества, своего шурина, и я теперь замечаю, что образовались две партии, притом же воображаю, что Ваше высочество, при нынешних очень важных обстоятельствах, не имеете никого из своих слуг, я же чувствую себя достойным и способным служить в настоящее важное время, посему осмеливаюсь Вам писать и предложить Вам себя, как будущему царю и государю, в услужение. Ожидаю только милостивого ответа, чтобы тотчас уволиться от службы королевской и лично явиться к Вашему высочеству. Клянусь всемогущим Богом, что единственным побуждением моим есть высокопочитание к особе Вашего высочества».
Написав это письмо сгоряча, двадцатичетырехлетний Бестужев начал колебаться, раздумывая, следует ли отправить его по назначению. Но вскоре честолюбивые соображения придали ему решимость.
«Посылать это письмо к царевичу действительно опасно, но я состою в службе короля английского, а Англия не выдавала и не выдаст никого из тех, кого обвиняют иностранные правительства; тем более не выдаст она меня. Между тем я нисколько не сомневаюсь, что рано или поздно, а царевич все-таки будет государем, и я, пробыв несколько лет в изгнании, возвращусь на родину, почтенный его доверенностью за мою преданность в самую трудную пору его жизни. Не только милости, но и широкая государственная деятельность будут предоставлены мне государем. Кроме того, передаваясь на сторону царевича, я делаю угодное римско-немецкому цесарю, который воздаст мне за это благодарностью, а в случае надобности предоставит мне у себя надежное убежище, где я, вместе с царевичем, и буду выжидать благоприятной для нас перемены. Во всяком случае, я выдвинусь вперед, сделаюсь заметным человеком и не буду оставаться в том ничтожестве, которое теперь томит меня».
Полученное от Бестужева письмо царевич имел осторожность сжечь, и потому Бестужев остался в стороне от дела, вследствие которого люди, выражавшие царевичу гораздо менее преданности, чем Алексей Бестужев, поплатились жестоко. Когда же после смерти царевича Бестужева вовсе не тронули, то он совершенно успокоился, но страшное честолюбие по-прежнему грызло его. Заведя в бытность свою в Вене знакомство с влиятельными при австрийском дворе лицами, а в том числе и с графом Туном, он поддерживал с ним политическую переписку, и в одном из своих писем к графу высказал мысль о необходимости гарантирования петербургским кабинетом «прагматической санкции». Он, а не кто другой, придумал эту меру, которую потом так ловко выдал Тун Карлу VI за свою собственную.
Вел также Бестужев деятельную переписку и с сестрой своей, княгиней Аграфеной Петровной Волконской, которая обо всем, что делалось по части внешней политики в Петербурге вообще, и при тамошнем дворе в особенности, сообщала своему брату, а тот, в свою очередь, передавал в Вену полученные им от сестры известия. Когда же в Петербург был отправлен Рабутин, чтобы подготовлять престолонаследие в пользу сына покойного царевича, то ему, как на деятельную в этом случае сотрудницу, было указано на Волконскую. Опасаясь переписываться с сестрою прямо, Бестужев свои к ней письма пересылал первоначально в Вену, и уже оттуда они шли в Петербург, пересылаемые в виде депеш на имя австрийского посланника.
Сторонники великого князя старались упрочить при нем свое влияние, но желание их, чтобы Волконская получила место обер-гофмейстерины при великой княжне Наталии, до сих пор еще не исполнялось. Рабутин пытался несколько раз заговорить на этот счет с Меншиковым, но «светлейший», опасаясь происков княгини, отклонял этот разговор. Когда же воцарился Петр II, то желание иметь на него влияние сделалось еще заманчивее. Бестужев принялся хлопотать в этом направлении в Вене, и в одном из писем, присланных им не через Рабутина, а через датского посланника графа Вестфалена, княгиня Аграфена Петровна прочла следующие строки:
«Как к Рабутину отсюда писано, так и к венскому двору, дабы он, Рабутин, инструктирован был стараться о вас, чтобы вам при государыне великой княжне Наталье Алексеевне обер-гофмейстериной быть, такожде чтоб наши друзья – Абрам Петрович Ганнибал и Исак Павлович Веселовский достойнейше вознаграждены были. Вы извольте, согласно с помянутым Рабутиным, о том стараться. Что же принадлежит до брата нашего и до меня, то я намерен потерпеть, дондеже вы награждение свое, чин обер-гофмейстерины, получите, и помянутые друзья наши, ибо награждение мое через венский двор никогда не уйдет от меня. Согласитесь с Рабутиным о себе и о вышеописанных друзьях наших, такожде о родителе нашем прилежно через Рабутина стараться извольте, чтоб он пожалован был графом, что Рабутин легко учинить может».
Действительно, Рабутин был теперь весьма сильным человеком у Меншикова. Содействие Волконской нужно было графу для получения венским двором таких сведений, которых он сам, как иностранец, не мог добывать из верных русских источников. Он очень желал бы угодить Волконской, но у него на душе лежало две просьбы такой женщины, которой он не мог отказать по сердечному к ней влечению и которая могла быть ему полезной и в плетении придворных кружев, хотя и не в такой степени, как Волконская. Он подумывал даже, не лучше ли будет, вместо Аграфены Петровны, пристроить на должность обер-гофмейстерины княгиню Марфу Петровну Долгорукову.
«Прежде всего мне нужно устроить Дела моей дорогой Марты, а когда я их покончу, то примусь за дела Волконской; разом всего не сделаешь. Какая досада, – думал Рабутин, – что я не говорю по-русски так свободно, как Бассевич, а Меншиков не понимает ни по-французски, ни по-немецки, ни по-латыни, так что приходится с ним объясняться через переводчика или доставлять ему свои мемориалы в переводе на русский язык. Вот тут-то и выходит всегда беда, так как между ним и мною существует посредник, а при таком условии трудно вести вполне откровенную беседу». Рабутин усмехнулся и сел писать мемориал, который должен был быть передан «светлейшему» в русском переводе.
Начав свой мемориал высокопарными похвалами Меншикову и заявлениями о сочувствии венского кабинета к царю России и лично к светлейшему князю как к мудрому правителю и высказав вообще мысль, что заведование в течение долгого времени государственными делами известных уже деятелей упрочивает доверие в международных сношениях, Рабутин намекнул на то, что призвание снова к иностранным делам вице-канцлера барона Шафирова было бы приятно австрийскому кабинету. Затем, в виде дружеского совета, он предложил призвать ко двору государя представителей знатных фамилий, в особенности тех фамилий, которые ведут свое начало от древних русских владетелей.
В заключение Рабутин предложил свои услуги князю напомнить в Вене – если его светлости будет это угодно – о скорейшем пожаловании ему герцогства Козельского.
Меншиков, которому – как, впрочем, и всему Петербургу – были известны близкие отношения Рабутина с домом Долгоруковых, тотчас догадался, о какой знатной фамилии идет речь в мемориале Рабутина, и, сообразив, что сближение его с Долгоруковыми будет для него не бесполезно, не затруднился с своей стороны исполнить желание Рабутина. Через несколько дней состоялся указ о назначении князя Алексея Григорьевича Долгорукова ко двору императора и о возвращении из «полевых» полков его провинившегося сына. Что же касается возвращения из Архангельска барона Шафирова, куда он был назначен для «китоловного» промысла, то Меншиков, опасаясь этого хитрого и пронырливого человека, отложил это дело до тех пор, пока он не расправится с другими своими недругами. Он приказал сообщить Рабутину, что он, Меншиков, в свое время постарается получить относительно Шафирова согласие Верховного тайного совета, без воли которого он такого рода делами распоряжаться не может, а вместе с тем приказал поблагодарить Рабутина за его готовность похлопотать о пожаловании ему в скорейшем времени герцогства Козельского.
Для того кружка, которым в Петербурге руководила княгиня Аграфена и действия которого главным образом направлял из Копенгагена через Вену ее брат Алексей Петрович, вступление на престол не дочерей Екатерины, а великого князя Петра было уже само по себе значительным торжеством. Теперь кружок этот мог бы действовать вполне успешно, если бы возможно было отстранить Меншикова, а этого-то именно и добивалась Волконская.
Расчет ее на великую княжну Наталью Алексеевну был вполне верен. Император все более и более подчинялся влиянию этой замечательно-умной девушки, руководимой Остерманом. Он во всем ее слушал и не скрывал от нее никаких тайн. «Каждый раз, – писал однажды Петр по-латыни Остерману, – как я с собою рассуждаю, сколько много надлежащее воспитание императора содействует безопасности и благоденствию народа, не могу не принесть неизменной признательности светлейшей княжне, моей любезнейшей сестре, которая меня поучает полезными увещаниями, помогает благоразумными советами, из которых каждый день извлекаю величайшую пользу, а мои верные подданные ощущают живейшую радость. Как могу я когда-либо забыть столько заслуг ко мне? Воистину, чем счастливее будет некогда мое государство, тем более, признавая плоды ее советов, поступлю так, что она найдет во мне благодарного брата и императора».
Писал ли это император-отрок по собственному своему влечению или нет, но, во всяком случае, в письме этом остались следы его собственной работы, так как к русскому тексту были подобраны им латинские слова. Несомненно, что в этой рукописи проявились следы привязанности и послушания брата сестре, и чем более распространялась молва о любви императора к великой княжне и о тесной дружбе с нею, тем сильнее рвалась Аграфена Петровна сделаться близкой к Наталии.
Волконской казалось, – а она в этом случае не ошибалась, – что ей легко будет подчинить себе молодую девушку, с которой она умела так искусно обращаться и которая с своей стороны оказывала ей искреннее расположение; и потом уже, – думала Аграфена Петровна, – не трудно будет влиять и на послушного ей брата – императора.
XXIX
– Тебя, Наташа, надобно поздравить, – сказал Левенвольд, входя к Лопухиной и дружески целуя ее.
– С чем?
– Фамилия твоего мужа снова входит в силу, и ты будешь знатной-презнатной госпожой.
Наталья Федоровна улыбнулась.
– Сейчас я узнал, что распорядились об освобождении царицы Авдотьи Федоровны из Шлюшинской крепости*.
– Давно было пора это сделать. Внук ее царствует в России уже третий месяц, а родная его бабка, насильно постриженная, даже и не живет в монастыре, а сидит в крепости, – раздражительно сказала Лопухина.
– Меншиков и то с неохотой выпустил ее оттуда, да и многие из придворных и знатных персон теперь струсили: боятся, что царица будет им мстить за сына. Она знает их всех наперечет.
– Пожалуй, что и так; много она и сама натерпелась от них всяких бед и позора. Ведь вот в тот год, как была расправа царя из-за царевича со всеми близкими к нему, а между ними и Лопухиными, я вышла замуж. Шла я за Василия Степановича, как ты знаешь, против воли, но как завидовали мне тогда все! Двоюродный брат царицы, богатый боярин знатного рода – женится на Наталье Балк! Вот счастливица! – говорили все. Но прошло месяцев семь, и какая страшная беда разразилась над нами…
– Оставь вспоминать об этом, Наташа, – сказал Левенвольд, обняв ее и крепко целуя. – Теперь многое против прежнего переменилось, и хоть не совсем хорошо, что вся власть в руках Меншикова, но все-таки лучше, что не вступила на престол Анна Петровна, а то от мужа ее никому житья не было бы.
– А еще лучше, что не стала царствовать Елизавета, – перебила с живостью Лопухина.
– Почему же? Она такая добрая и приветливая.
– Знаешь что, Рейнгольд: я с тобой совершенно согласна, но странно, – я чувствую к ней какой-то невольный, непреодолимый страх; мне все кажется, что когда-нибудь она будет причиною моего несчастия. Сама я вижу, что она прехорошенькая и премиленькая девушка, а поди же! Боюсь ее, – боюсь, хотя и уверена, что она ничего не может мне сделать: у нее нет ни власти, ни силы. Да мне и самой невольно хочется дразнить ее чем-нибудь.
– Ты и так невольно ее дразнишь. Я помню, когда на обручении Сапеги за тобой стал ухаживать Александр Борисович Бутурлин, как гневно она смотрела на тебя. Это был не обыкновенный ее милый и кроткий взгляд, нет – в глазах ее было что-то жестокое, беспощадное. Удивился я тогда, откуда у нее могла появиться такая злость.
В то время, когда происходила откровенная беседа Наташи с ее возлюбленным, к Лопухиной совершенно неожиданно приехала княгиня Волконская. Аграфена Петровна, узнав об освобождении из Шлиссельбурга царицы Евдокии Федоровны – или инокини Елены, разумеется, тотчас же сообразила, что при дворе явится новая сила в лице Лопухиных, ныне опальных; что бабушка будет иметь, по крайней мере хоть на первых порах, влияние на своего внука и что это влияние очень удобно будет обратить против Меншикова. Она не знала, была ли известна бывшей царице преданность Бестужевых-Рюминых к ее сыну Алексею, так как, несмотря на свое восторженно-преданное письмо, брат княгини не был привлечен к делу царевича. При таком исходе этого дела царица, пробывшая в заточении почти тридцать лет, не могла ни знать, ни ведать о том самопожертвовании, на которое решался Алексей Бестужев. Нужно было довести об этом подвиге до сведения ее и указать ей на Бестужевых как на людей, которые были бескорыстно преданы ее погибшему сыну в самую злосчастную для него пору, когда они не могли ожидать для себя ни милостей, ни почестей. Вместе с тем можно было предвидеть, что ближайшие родственники старицы Елены войдут в силу и что двоюродный ее брат, Василий Степанович Лопухин, муж Натальи Федоровны, – хотя личность сама по себе ничего не значащая, – может сделаться если и не силой, то все-таки очень удобным передатчиком всего того, что захотят внушить царице со стороны. Борьба между петербургскими палатами светлейшего князя и московским Вознесенским монастырем, назначенным для жительства царицы-старицы, представлялась не только возможной, но и неизбежной. Следовательно, теперь была самая благоприятная пора, чтобы подготовить в доме Лопухиных рычаги, пружины и нити, посредством которых можно было бы действовать во вред Меншикову, и это представлялось тем удобнее, что распоряжение об освобождении царицы из Шлиссельбурга содержали пока в тайне, так что приезд Волконской не представлялся каким-то заискиванием у Лопухиных. Соображая все это, княгиня сделала вид, что она еще ничего не знает о предстоящем переезде бабки императора в Москву, и предположила вести свою беседу с таким оттенком.
– Ну вот, Аграфена Петровна, и на вашей улице праздник, как говорят русские, – сказал, здороваясь с Волконскою, Левенвольд, хорошо научившийся говорить по-русски и любивший вставлять в свою речь русские поговорки.
– Какой, батюшка, праздник, когда злодей по-прежнему властвует! – сказала Волконская тем полураздражительным, полушуточным тоном, который невольно пробивается у людей, чем-нибудь внутренно довольных, но желающих показаться огорченными.
– А как же? Ведь тетушка-царица едет из Шлюшина в Москву, – сказала Лопухина.
– Будто бы? Так теперь тебе нужно низко, низко кланяться, – и княгиня шутливо отвесила поклон в пояс. – Да, впрочем, что в том толку, – притворяясь равнодушной, продолжала она, – и бабушка, и внук словно чужие друг другу. Они даже ни разу в жизни не виделись. Да и больно сурова бабушка-то, не сумеет она его приласкать да приручить к себе. Он, пожалуй, дичиться ее будет, а главное – голиаф-то не допустит их родственно сойтись. Ведь вот забрал государя к себе в дом, держит его взаперти и делает с ним все, что захочет. Никто с ним не сладит. Царь и бабушку-то знать не захочет, да ни ее к внуку, ни внука к ней Меншиков и не допустит.
– Этого-то он, пожалуй, сделать и не посмеет, – заметил Левенвольд. – А только вот что нужно: лишь только Петр Алексеевич сойдется с бабушкой, тотчас же воспользоваться этим, чтобы поскорее спровадить «светлейшего» подальше. Вы обе знаете по-немецки, так я скажу вам, что у нас, немцев, есть в ходу такая поговорка:
Pfluke die Rose, wenn sie bluht.
Schmiede das Eisen, wenn es gluht**.
></emphasis> ** Рви розы, пока цветут, куй железо, пока горячо (нем.).
– Да ведь и у нас, у русских, есть такая же точно поговорка: «Куй железо, пока горячо». Только о розах в ней ничего не упоминается. Это, впрочем, вы, немцы, мастера по части сантиментов… Где нам срывать розы! Хорошо, если бы хоть железо успевали ковать вовремя, а то и этого не умеем сделать. Вот и теперь, чего доброго, упустим время. По-моему, нужно устроить так, чтобы император тотчас поехал к бабушке, да с ней и отправился бы в Москву. Там ее, страдалицу, с радостию примут, а она может уже побудить внука послать из Москвы указ об отставке Меншикова. В Москве его боятся сильно, там еще помнят, как он рубил стрельцам головы.
– Прекрасно ты, Аграфена Петровна, говоришь, а только забываешь главное: ведь император, как малолетний, сам по себе пока ничего сделать не может, а указ должен быть дан от Верховного совета; в Верховном же совете кто и распоряжается, как не один только Меншиков – всему он там заводчик и голова. И прежде он был силен, а теперь стал куда еще сильнее. Уж как, кажется, благосклонна была к нему покойная государыня, а все-таки генералиссимусом сделать его не решалась, а теперь он сам взял на себя этот чин и, значит, начальствует над всеми военными силами и на земле, и на море… Да, вдобавок к тому, и дочь свою обручил с императором.
– Ведь уж и в церквах ее поминают, как высокообрученную невесту, и теперь в «светлейшем» видят не только первого что ни на есть вельможу, но и тестя государева; а от бабки он отвадит Петра. Говорят, он все пугает государя ею, как страшною старухой, называет ее бабой-ягой. Да и мало ли чего он наскажет Петру! И разве мудрено мальчика сбить с толку.
– Вот потому-то и нужно, чтобы кто-нибудь умело подсоседился к царице Авдотье, а то ведь если медлить да никогда ни на что не решаться, так ничего и не выйдет, – сказала Волконская.
– Совершенно справедливо, – подхватил Левенвольд, в противность своему прежнему мнению о бесполезности действовать через старую царицу, – у русских есть славная насчет этого пословица: «Волков бояться, так и в лес не ходить».
– Дельно ты рассуждаешь, Рейнгольд Карлович. Вот хоть бы тебе, Наташа, как по фамилии Лопухиной, пробраться к царице да там хорошо бы подкопнуться под самовластца, – хитро подмигнув, сказала княгиня.
Волконская хотя и понимала, что родная племянница кавалера Монса, и притом прикрытая тем же самым фамильным прозванием, какое до своего замужества носила сама Евдокия, а вдобавок еще и жена двоюродного ее брата, если и не встретит слишком радушного приема у царицы-затворницы, то все же мстительному чувству старицы Елены она доставит своего рода удовольствие, так как красавец Монс, на погибель себе, жестоко отомстил Петру, ослепленному Екатериной.
– Нет, я напрасно поеду к тетушке, – сказала Наталья, отрицательно покачав головою, – во-первых, меня к ней не допустят, а во-вторых, скажу тебе, Аграфена Петровна, по правде, что я и не способна на это дело, не сумею я повести его и, быть может, испорчу все.
«Надобно бы тебе поучиться хорошенько у Рабутина. Посмотрела бы ты, какой бойкой сделалась бы у него в руках, Наташа», – подумала Волконская, но не возразила ничего против отказа Лопухиной.
– А, Боже мой, что с царевной-то Елизаветой сделалось! – круто переменила она разговор. – Вчера я ее видела, так совсем узнать нельзя: бледнешенька, словно из гроба встала; глаза впали, исхудала, точно месяц в тяжелой болезни пролежала.
– Еще бы! По своем «архиерее» наплакаться не может, – с довольною улыбкой подхватила Лопухина. – Помяни мое слово, Аграфена Петровна, поплачет она еще несколько дней и опять в кого-нибудь влюбится.
– Пожалуй, снова в Бутурлина; это с вами, милостивые государыни, хоть и редко, но все же случается, – заметил шутливо Левенвольд.
– Слишком ветрена она. Она, кажется, никого от чистого сердца постоянно любить не может, – проговорила Наталья Федоровна, нежно взглянув на Левенвольда и как бы желая сказать ему: «Она не то что я».
– Жаль «бискупа», – начала Волконская, называя жениха Елизаветы так, как его прозвали в России, – человек он был молодой и красивый, а все-таки ты, любезный мой Рейнгольд Карлович, не обижайся, если при тебе скажу: слава Богу, что брак этот не состоялся. На что похоже – обоих зятьев из немцев покойная Катерина Алексеевна выбрала. Положим, это само по себе еще и не беда, если бы герцог людям русской породы аттенцию* оказывал, а то он их и знать не хочет. Я и сама к немцам попривыкла; есть между ними хорошие люди. Да вот хоть бы и ты, Рейнгольд Карлович: хоть ты и немец, а все же ты человек хороший. Не слишком долго живешь в России, а не только что по-русски говорить как следует научился, но и много русских поговорок знаешь. А герцог Голштинский по-русски ни слова сказать не умеет и только скалит зубы или, пыхтя, отворачивается, когда с ним заговорят по-русски. Ну, а бискуп смахивал в этом случае на своего сродственника и в письмах своих к Катерине, как его помолвили, подписывался: «Ihr zweiter holsthinischer Sohn»**. Видишь, какую Голштинию захотел завести в России!
></emphasis> ** Ваш второй голштинский сын (нем.).
– Скоро хозяйничание голштинцев должно будет кончиться. Меншиков настаивал, чтобы герцог с женою уехали в свои владения, а на днях через Бассевича решительно объявил, чтобы герцог уезжал из Петербурга, и приказал уже снаряжать яхту для отвоза его с женою в Киль, – сказал Левенвольд.
Хотя княгиня Аграфена Петровна вовсе не была сторонницей голштинской партии, но сообщение Левенвольда произвело на нее неприятное впечатление, так как отъезд герцога и герцогини доказывал, что Меншиков вполне чувствовал свою силу и мог, вопреки признанному всеми, хотя и подложному завещанию императрицы, нарушить самую существенную часть этого акта, касавшуюся «сукцессии». В силу личного его распоряжения Анна Петровна – первенствующий член Верховного тайного совета – исключалась из числа членов регентства, а вместе с тем упрочивалось еще более самовластие Меншикова.
XXX
Двор императора-отрока естественно должен был разниться от того, что он представлял сперва при императоре Петре, а потом – при Екатерине. Разумеется, что ни при нем, ни при ней он не мог отличаться той утонченностью, какой отличался, например, версальский двор, и тем этикетом, какой соблюдался при других европейских дворах. Собственно, при Петре никакого двора не было, и при нем не состояло никаких придворных чинов, кроме гофмаршала, заведовавшего хозяйственною частью; но при Екатерине были и гофмейстеры, и церемониймейстеры, и камергеры, и камер-юнкеры, а также гофмейстерины, статс-дамы и фрейлины. При дворе Петра Второго мужские придворные должности не только остались, и даже число их увеличилось, но вся обстановка двора изменилась. Государь, в качестве малолетка и воспитанника, жил в доме Меншикова, так что, собственно, весь двор состоял при светлейшем князе, дочери которого, после обручения старшей из них с императором, стали занимать места не только выше царевен «Ивановных», но и выше цесаревны «Петровны». Вообще после отъезда герцогини Анны уже никто не мог тягаться с Меншиковым. Вельможи все более и более приучались не только повиноваться, но и раболепствовать перед ним. С своей стороны он довольствовался наружно выказываемым ему беспредельным уважением и, считая себя всемогущим, думал даже о том, чтобы посадить и мужское свое поколение на императорский престол, и с этою целью вошел в тайные переговоры с Рабутиным. Независимо от этого предстоявшее бракосочетание императора должно было бы изменить настоящую обстановку двора, так как при молодой государыне явились бы молодые дамы и девицы и двор оживился бы хотя на время балами и увеселениями и перестал бы быть таким сумрачным, каким был при Меншикове, неохотнике до светских увеселений.
С изменением личного состава двора изменилось бы до некоторой степени и направление в ходе внутренних дел и во внешней политике. Явились бы новые любимцы и любимицы; иные лица получили бы силу, иные слышались бы советы, внушения и речи, и тогда государственная деятельность могла принять иной оттенок, начиная от совета государственных людей и кончая сплетнями придворной прислуги. Это случалось при всех европейских дворах: вкрадывавшиеся в доверие лица нередко производили крутой поворот, а иногда и неожиданный перелом во всех отраслях государственного управления. То же самое бывало и у нас.
Всюду в летописях придворной жизни, в какой бы то ни было стране – в летописях этого мира страстей, исканий, наговоров и подкопов – замечается влияние женщин. Не говоря уже о знаменитых «метрессах», действовавших иногда с большим произволом, чем не только министры, но и сами государи, – в придворной жизни сосредоточивается еще множество второстепенных и даже мелочных влияний со стороны женщин, влияний, очень часто незаметных, но действующих гораздо сильнее, нежели предоставленная кому-либо по праву первенствующая власть.
Хотя сам Меншиков не поддавался прямо влиянию ни своей жены, ни тех женщин, ласками которых он пользовался, но тем не менее и в его суровое правление женщины усердно плели «придворное кружево», и если не могли опутать его сетью, то все же порой расставляли силки, в которые он попадался. В особенности усердно трудилась над этим Волконская.
Муж ее, хотя и представитель одного из знатнейших русско-княжеских родов, не имел, однако, сам по себе никакого значения, но зато княгиня, отличавшаяся умом, ловкостию и решительностию действий, работала неустанно и – к чести ее надобно сказать – не как переметчица, переходящая с одной стороны на другую, смотря по тому, где оказывалась сила. Постоянной ее задачей было доставить корону великому князю Петру Алексеевичу. Задача эта была исполнена, но теперь достижение такой цели она не могла считать удачным, так как власть ненавистного ей «Данилыча» усилилась еще более, а между тем Меншиков не возвышал ни ее отца, ни ее братьев и самой ей не давал того значения, каким она хотела бы пользоваться.
Не успев в своем подстрекательстве, направленном на Долгорукова, Аграфена Петровна отправилась проведать великую княжну Наталью Алексеевну. Княгиня попала к ней в такое время, когда она занималась с Остерманом, который, как любитель педагогии, хотел свой взгляд на воспитание применить к драгоценному кладу, попавшемуся ему под руку в лице умной и любознательной девушки. Остерман был привязан к ней всем сердцем, – привязан тем чувством, которое иногда так тесно, так дружески связывает воспитателя с теми, которых он готовит для жизни. Он видел в Наталье предмет своей гордости и наслаждался постоянно мечтами о той поре, когда его дорогая питомица, перейдя в зрелый возраст, будет руководствоваться теми началами, которые он так усердно и так доброжелательно внушал ей. Он с чувством предвкушаемого самодовольства представлял себе, как будут все удивляться ее уму, ее знаниям, а сама она будет сознавать, что своим духовным развитием обязана Остерману. Не упустил, конечно, при этом Остерман из виду и того, что великая княжна, пользуясь неотразимым влиянием на царственного брата, подготовит своему любимому наставнику самое почетное место при дворе, а он, благоприятствуемый обстоятельствами, начнет управлять всем и тогда расправится с ненавистным ему Меншиковым, которому он теперь наружно уступал и перед которым даже раболепствовал, хотя в душе и ненавидел его. С каким удовольствием он разрушил бы предстоящий брак императора с княжною Меншиковой и заменил бы этот союз осуществлением предположенного им лютеранско-супружеского союза Петра с Елизаветой! Так как в этом случае он вдавался уже в область политики, то добросовестность его, как педагога, улетучивалась, и он думал только об исполнении придуманной им задачи, не обращая внимания на способы ее разрешения. Здесь он из философа Платона обращался в лукавого политика Макиавелли*.
Несмотря на свою хитрость, притворство и бессердечие там, где вопрос касался дел политических или где Остерману приходилось вращаться в придворном омуте, он был вполне безупречен, как главный воспитатель императора и его сестры; в этом случае с самой строгой нравственной точки зрения он смело мог сказать: «Следуйте тому, что я говорю вам, но не подражайте тому, что я делаю».
Беседы вице-канцлера, а вместе с тем и педагога с его царственными питомцами продолжались обыкновенно подолгу, но как принимались эти беседы – в том была существенная разница. Мальчик заметно тяготился ими; он слушал рассеянно рассказы Остермана и выражал нетерпение, когда тот начинал пускаться в наставительные поучения. Совсем иное – к радости воспитателя – обнаруживала девушка: она внимательно прислушивалась к его рассказам, очень хорошо приноравляемым к ее возрасту и высокому ее положению. Казалось, она боялась проронить хоть одно слово и с редкою пытливостью просила у наставника объяснений или обращалась к нему с вопросами, зарождавшимися в ее разумной головке.
Приехавшей во дворец Волконской пришлось на этот раз в ожидании выхода Остермана из учебной комнаты великой княжны провести некоторое время с гофмейстериной Натальи Алексеевны, госпожою Каро.
– Давно ли вы видели вашу приятельницу, госпожу Рамо? – спросила Волконская у госпожи Каро.
– Довольно давно, – как-то неохотно отвечала та, сделав при этом кислую гримасу. – Положение госпожи Рамо, как кажется, нынче изменяется к лучшему весьма заметно, – не без оттенка зависти продолжала она, – ей покровительствует светлейший князь, а вам, конечно, известно, как много значит его высокое покровительство кому бы то ни было.
Волконская стала с любопытством прислушиваться к словам своей собеседницы, которая не могла сообщить ей ничего важного. Болтливая Рамо расхвасталась о том, будто бы ей князь Меншиков дает весьма важные политические миссии – и хотя все эти миссий заключались только в посылке для разведок к самой госпоже Каро, но компаньонка Елизаветы, умалчивая, разумеется, об этом, наговорила своей знакомке три короба разных небывальщин, под видом намеков и недомолвок, и тем самым возбудила в ней зависть, показав, вдобавок к тому, браслет, будто бы подаренный ей Меншиковым за оказанные ею услуги.
– О, я не думаю, чтобы князь стал оказывать особое благоволение госпоже Рамо, – сказала с умыслом Волконская. – Принцесса Елизавета не занимает теперь такого положения, чтобы нужно было кому-нибудь заискивать ее внимания и расположения. С отъездом из Петербурга своей сестры и зятя она чувствует это очень хорошо, и госпожа Рамо не может иметь никакого влияния.
– Вы так думаете, княгиня, и знаете, я с вами согласна, – и при этом лицо француженки просияло плохо скрытою радостью.
– Ваше положение, милая госпожа Каро, совсем иное: вы находитесь теперь около особы, которая после царствующего императора занимает первое место.
– О, да, да! – покачивая значительно головою, вторила Каро.
– Но вы не знакомы с Россией, а если бы взялась руководить вами какая-нибудь русская дама и вы захотели бы следовать ее указаниям, то могли бы играть при дворе значительную роль, далеко не ту, какую вздумала играть госпожа Рамо. Как я сожалею, что я не способна быть вашей помощницей в подобных случаях! Да к тому же я и не мешаюсь в политику, это не мое дело, – отмахиваясь обеими руками, проговорила Волконская.
Госпожа Каро была затронута за живое. В ней прежде всего промелькнула мысль о торжестве над ее приятельницею.
– Меня, как женщину, непосредственно надзирающую над великой княжной, руководит несколько барон Остерман. По временам он дает мне наставления, – сказала госпожа Каро.
– Какие же, например, дает он вам наставления? – равнодушно и даже несколько насмешливо спросила Аграфена Петровна, стараясь не придавать никакой важности своему вопросу.
– Так, например, на днях барон говорил мне, чтобы я внушила косвенным образом великой княжне, что если августейший брат ее заговорит с ее высочеством о цесаревне Елизавете, то чтобы принцесса Наталья хвалила ее и не отвращала бы его от сближения с нею.
«Ого! – подумала княгиня. – Я узнаю тебя, Андрей Иванович, в этом наставлении: ты все еще рассчитываешь на возможность брака племянника с родной теткой и, сам оставаясь в стороне, хочешь влюбить своего питомца в цесаревну и тем самым расстроить брак императора с княжною Меншиковою… Задумано куда как ловко: действовать через Наталью Алексеевну – средство весьма надежное».
Аграфена Петровна намеревалась было выпытывать далее словоохотливую француженку, когда дверь в учебную комнату отворилась, и из нее вышел Остерман с великою княжной. Наталья Алексеевна держала за руку своего наставника и как будто ласкалась к нему, а он с умилением и даже с благоговением посматривал на свою ученицу. Тотчас можно было видеть, что между ними существуют самые задушевные отношения.
– Так ты, голубчик Андрей Иванович, доскажешь мне в следующий раз. Мне всегда тебя так приятно слушать.
– Хорошо, хорошо, мой дружок… Исполню приказание вашего императорского высочества… – вдруг вместо ласкового, как бы отеческого голоса почтительным тоном заговорил Остерман, увидав, что в комнате находится постороннее лицо.
– Ваше высочество… ваше высочество! – передразнивала его великая княжна. – Прощайте, господин высокородный барон, прощайте! Когда же я буду иметь счастие видеть вас снова? – смеясь, говорила она ему вслед.
«Вот в ком вся сила: в нем, в этом немецком поповиче, – подумала княгиня, – вот с кем хорошо было бы сблизиться».
Но прежде чем Волконская успела кончить эту мысль, Наталья Алексеевна подбежала к ней.
– Ах, княгинюшка, как я рада тебя видеть! – вскричала она, бросившись целовать гостью.
«Вот с кем хорошо было бы мне сблизиться, – подумал в свою очередь Остерман. – Наташа подрастает, а в эту пору в головке девушки является множество вопросов, о которых мне, как мужчине, иногда не совсем удобно беседовать. Хорошо было бы приблизить к ней Волконскую. Она женщина умная и ловкая, мы вдвоем занялись бы развитием этой необыкновенной девушки и сделали бы из нее чудо целого света. Да, кстати, она и недруг Меншикова», – добавил мысленно сообразительный Остерман.
Думая об этом, он отвесил Волконской низкий поклон и подошел к ее руке.
– Занятия, а по временам и тяжкие недуги лишают меня чести засвидетельствовать вашему сиятельству мои низкие респекты столь учащенно, колико я желал бы сего, и я в высшей мере почел бы себя счастливым, если бы ваше сиятельство соизволили мне назначить время, когда бы я мог воспользоваться вашей беседой. Для определенного часа я отложу все мои занятия и превозмогу все мои недуги.
– Милости прошу, Андрей Иванович, пожаловать ко мне хоть завтра вечерком, – отвечала Волконская приветливо.
– Всенепременнейше воспользуюсь вашим милостивым разрешением, всенепременнейше, – повторил, раскланиваясь, Остерман.
– Пойдем, пойдем ко мне, Аграфенушка, – пригласила к себе великая княжна Волконскую. – Прощай, мой голубчик! – крикнула она вслед уходившему Остерману.
XXXI
На другой день вечером Остерман приехал к Волконской. У него был уже составлен план, каким образом сделать ее сперва союзницей, равной себе, а потом исподволь подчинить ее своему влиянию и обратить ее в полезное для себя орудие против Меншикова.
После обычных сетований на усталость от трудов и на утомление от хлопот, а также на свои недуги – хотя они в это время далеко не были так мучительны и изнурительны, как изображал их хитрый вице-канцлер, – Остерман хотел приступить к тому делу, для которого он, собственно, и приехал.
С своей стороны княгиня несколько попридержала его, и, чтобы затронуть самый любимый его конек, она заговорила с ним о воспитании императора. До сих пор как будто сонливый и вялый, Остерман вдруг встрепенулся. Он воодушевился и с заметным удовольствием принялся рассуждать об этом предмете.
– Мне так редко приходится говорить о сем святом деле, – воодушевленно заговорил педагог по призванию, – что я радуюсь каждому случаю развивать мои мысли о воспитании его величества. Я иноземец, я не прирожденный сын России, но я с благоговением сознаю те великие обязанности, которые она возложила на меня – приготовить ей мудрого правителя.
– О старании твоем, Андрей Иванович, по этой части все знают и отдают тебе полную справедливость, – заметила Волконская.
Остерман приятно улыбнулся.
– Надобно отдать справедливость не мне одному, – заговорил Остерман, отлично выучившийся по-русски, – но и великому деду императора, а отчасти и князю Меншикову, что они старались сделать великого князя достойным его высокого призвания. Петр Алексеевич хотел добыть ему хорошего учителя Зейкина, но тот жил у господина Нарышкина* и так успешно обучал его сына, что Нарышкин ни за что не хотел его отпустить от себя. Тогда государь послал Зейкину уже не вежливое приглашение, как в первый раз, а указ: «Определяем, мол, вас учителем к нашему внуку, и когда сей указ получишь, вступи немедленно в дело». Когда же Александр Львович и этим указом пренебрег, то государь приказал Макарову написать другой указ такого содержания: «Нарышкин Зейкина не отпускает, – начал с расстановкою Остерман, тыча указательным пальцем правой руки в ладонь левой, как будто пиша, – притворяя удобь возможные подлоги, а я не привык жить с такими, которые не слушаются смирно, того ради объяви сие письмо, что ежели Зейкин по указу не учинит, то я не над Зейкиным, но над Нарышкиным то учиню, что доводится преслушникам чинить». После того Зейкин, боясь ехать к царю, выбрался тайком за границу, в Венгрию, а я был назначен на его место.
– А ты-то, Андрей Иванович, чему учишь императора? – перебила Волконская, желавшая еще более расположить к себе Остермана таким приятным для него вопросом.
– Чему я учу? – с расстановкой переспросил Остерман, вынув из кармана золотую табакерку и медленно понюхивая взятую оттуда щепотку табаку, которым, по обыкновению, осыпал свой потертый и покрытый разными пятнами кафтан. – Учу я его, во-первых, древней истории. Читаю ему вкратце главнейшие случаи прежних времен, перемены, приращение и умаление разных государств, причины тому, а особливо добродетели правителей древних с воспоследовавшею потом пользою и славою представляю. Затем буду читать ему о правительствующей фамилии каждого государства, интересах, форме правительства, силе и слабости. Учить его буду также географии, математическим операциям, механике, оптике. Каждая из этих наук…
Волконская, видя, что педагог вице-канцлер намерен приступить к дальнейшему изложению относительно значения и пользы всех этих наук, почувствовала охоту зевнуть. Она поспешно распахнула веер, который в ту пору дамы постоянно держали в руках или около себя на столе и в гостях, и дома, и зимою, и летом, и быстро закрыла им лицо, чтобы Остерман не заметил ее зевка – этого несомненного признака начинающейся скуки.
– Распределены у меня и забавы, – излагал барон. – Они следующие: концерт «музыческий», стрельба, игра под названием вальягтеншпиль*, биллиард, рыбная ловля и танцевание.
– А с кем же его величество всего охотнее танцует? – спросила хозяйка, желая поскорее пресечь надоевшее уже ей изложение Остерманом его педагогических приемов.
– С ее высочеством цесаревной Елизаветой, – самодовольно улыбнулся Остерман.
– А ведь дельный ты, Андрей Иванович, тогда «прожект» сочинил – поженить их.
Остерман несколько смутился, так как этот прожект он писал в ту пору, когда княжна Мария Меншикова была помолвлена за Сапегу, и, следовательно, предполагаемый брак великого князя нисколько не противоречил видам Меншикова. Тем не менее Остерман и теперь хотел расстроить брак императора, но расстроить так, чтобы тут его «прожект» был ни при чем, а дело сделалось бы само собою. Он находил нужным оставаться в стороне до тех пор, пока Петр влюбится без ума в Елизавету и под влиянием ее, а также и Натальи Алексеевны уклонится от брака с нареченной невестой. Остерман, считая себя знатоком юношеского сердца, был уверен, что любовь возьмет верх над всеми другими чувствами. «Тогда, – думал он, – Меншиков будет бессилен, бояться мне его будет нечего, и я снова пущу в ход мой прожект».
– Жаль мне, что прожект мой признали тогда неподходящим ни к вашим церковным уставам, ни к вашим русским обычаям. Видано ли дело, закричали все, чтоб у православных племянник женился на тетке! Оно, пожалуй, что и так: заговорили бы потом, что дети их от незаконного сожительства рождены. Народ ваш стоек в своих обычаях и предрассудках, его сразу не настроишь. Так зачем же теперь им любиться попусту?
Остерман глубоко вздохнул и поднял глаза к потолку.
– Знаешь что, княгиня Аграфена Петровна, – вдруг заговорил он твердым голосом, уперев в Волконскую свой лукавый, но вместе с тем и приятный взгляд, – следует тебе быть настороже. У меня, как у вице-канцлера, бывают в руках кой-какие цидулки, которые могут тебе повредить у «светлейшего». Ведь мне о твоих отписках с братцем известно.
Княгиня с ужасом посмотрела на Остермана.
– Впрочем, успокойся, Аграфена Петровна: Меншикову я тебя не выдам, а делаю только тебе угрозу на тот конец, чтобы ты не разболтала никому того, что я скажу тебе сейчас. Положим, что я буду в твоих руках, но буду только голословно, а ты и теперь в моих руках, да не просто, а с поличным; так не лучше ли нам действовать совокупно. Если бы ты могла, княгиня, внушить ее высочеству «инструировать» своему брату, чтобы он как можно больше любил Елизавету Петровну, но не только как свою тетку, но как чужую девушку-красавицу, то это было бы полезное дело. И вот почему: ни одна из придворных девиц не может иметь свободного доступа к императору и позволять себе вольное с ним обращение, да ни одна и не решится на это, боясь «светлейшего». Елизавета же – другое дело. Стоит ей только влюбить его в себя, и она отобьет от него невесту, а вместе с тем уничтожится и Меншиков. Начать прямо охуждать Марию нельзя. Петр куда как упрям, он станет делать наоборот, а если влюбить его в Елизавету, то он будет сам против затеянного брака, и уж, конечно, никто его не приневолит.
– Да он еще слишком молод, чтобы влюбляться, – заметила Волконская.
– Молод, чтобы влюбляться! – засмеялся Остерман. – А обручиться не молод? Да скольких парней у вас в России женят на четырнадцатом году? Гаснер*, – продолжал поучительным тоном Остерман, – в известном сочинении своем о «Равновесии души и плоти» совершенно верно замечает, что половая любовь возникает в девушках и в юношах тем ранее, чем быстрее развивается их физика, а стоит только взглянуть на императора, так тотчас же можно видеть, что природа работает над ним с изумительной быстротой. Какой у него рост, какая осанка! Кто скажет, что ему идет четырнадцатый год? У него пробивается уже и ус, а это физиологический признак известной зрелости.
– Этак, пожалуй… – не договорила княгиня.
– Да ты, чего доброго, матушка Аграфена Петровна, думаешь, что я хочу влюбить его на ваш русский «манер» – сейчас обниматься да целоваться? Нет, я хочу влюбить его на наш немецкий манер, и я думаю, что он на это должен быть способен, потому что он по матери – немец. Я хочу поместить в его сердце так называемый нашими немецкими поэтами идеал, который он должен носить в сердце, и носить постоянно, мечтать о своей возлюбленной во всей чистоте и непорочности юношеского духа. У нас, в Неметчине, такая любовь к наиблагороднейшим девицам в большом употреблении. Там юноша и двадцати лет только смотрит на свою милую и вздыхает перед ней, не смея даже прикоснуться к ней до тех пор, пока они не соединятся браком. Вот как я хочу влюбить его величество в тетку, а не по-вашему…
– А если?.. – и Волконская снова не договорила.
– Ну что ж! Я хоть и против вашего русского манера любиться до свадьбы, но им обняться и поцеловаться можно. Шкандалу в том никакого не будет: во-первых, они близкие между собою родные, а во-вторых, тут есть политические конъюнктуры. Господин Пуфендорф* в сочинении своем, – а сочинение это было любимой книжкой покойного государя, значит, книжка эта дельная, потому что он пустяков читать не любил, – господин Пуфендорф говорит, – начал поучительным голосом излагать Остерман, вытянув при этом ноги, положив на колени платок и табакерку и закрыв глаза, – господин Пуфендорф говорит, что в политических акциях должно иметь особые конъюнктуры, кои наипаче в превысшем градусе содержимы быть могут для блага государства. Господин Пуфендорф говорит, что высокие потентаты по самой субстанции их высокой прерогативы наивящему между собою аккорду подлежат. Тот же господин Пуфендорф излагает далее, что коликое попечение партикулярным людям…
Волконская с досадою увидела, что Остерман из области любимой им педагогики попал в область столь же любимой им политики и, что поэтому ей придется Бог весть сколько времени слушать без перерыва его ученые рассуждения. Она нетерпеливо вертелась на креслах, но остановить Остермана было бы чрезвычайной для него обидой, особенно после того сближения, которое началось между ним и хозяйкой, и она, снова прикрыв лицо веером, только позевывала, слушая нескончаемую рацею* своего гостя.
В заключение своей продолжительной беседы они порешили, что княгиня еще раз навестит великую княжну, а Остерман, с своей стороны, поторопит Рабутина, чтоб этот последний хлопотал у Меншикова о скорейшем назначении Аграфены Петровны обер-гофмейстериной при Наталье Алексеевне.
XXXII
Когда через несколько дней после беседы с Остерманом «инструированная» им Аграфена Петровна приехала в Зимний дворец, то она застала великую княжну печальной и задумчивой. Опершись локтем на окно и положив на ладонь голову, Наталья Алексеевна смотрела на Неву, которая в этот день, при сильном морском ветре, под нависшими над ней серыми тучами, бурлила и торопливо перебрасывала одну через другую темно-зеленоватые волны с белыми, пенистыми хребтами.
Наталья Алексеевна встретила свою гостью с искреннею приветливостью, но далеко уже не с тою шумною радостью, какая проявлялась в ней, когда перед этим приезжала к ней Аграфена Петровна. По выражению ее кроткого лица и по не свойственной ей вялости легко можно было заключить, что она или нездорова, или удручена каким-то сильным горем.
На канапе в той же комнате сидела, надувшись, у стола госпожа Каро и занималась каким-то вязаньем. До приезда княгини она несколько раз пыталась заговорить с великой княжной, но та отвечала ей сухо и отрывисто, и госпожа Каро поняла, что ее питомица находится в том дурном расположении духа, какое по временам находило на нее и под влиянием которого она становилась молчаливою и печальною и желала, чтобы ее оставили в покое. Под стать ей и госпожа Каро делалась в это время пасмурной, но не из сочувствия к Наташе, а потому, что словоохотливой француженке не с кем было болтать, а это было для нее весьма чувствительною мукою. Кроме того, в таких случаях страдало еще и ее самолюбие, как воспитательницы. Она видела, что у молодой девушки есть что-то на душе, но что она не желает поделиться своей тоскою с тою, которая должна была быть так близка к ней. Госпожа Каро тщетно ожидала трогательно-драматической развязки: ей ужасно хотелось, чтобы русская царевна, заливаясь слезами и задыхаясь от них, бросилась к ней на шею и, покрывая ее поцелуями, поведала ей, как единственной своей советчице и утешительнице, о причинах своей тоски и печали. Госпожа Каро полагала, что у Nathalie может быть какая-нибудь сердечная тайна, и как бы приятно было сделаться хранительницей такой тайны царственной отроковицы! Какое бы широкое поле открылось в этом случае для много мнившей о себе француженки, сколько цветистого красноречия можно было потратить на утешения, наставления, вразумления, и на выражение сочувствия, и – что важнее всего – на рассказы о себе самой, приукрашенные воображением и притоком искусственной чувствительности!
– В какую дурную погоду выбралась ты ко мне, Аграфена Петровна, – сказала ласково великая княжна.
– Желалось мне очень проведать ваше высочество.
– Спасибо тебе, княгинюшка, – отозвалась Наталья Алексеевна, не удержавшись от названия Волконской тем титулом, употребление которого она обыкновенно не допускала, когда к ней обращались такие близкие ей лица, как Аграфена Петровна. – Посмотри, – добавила она, – как несутся и пенятся волны. Не правда ли, какой отличный вид?
– Вы любите смотреть на них?..
– Люблю, да только я больше смотрю на Васильевский, или – как ныне повелел его именовать «светлейший» – Преображенский. Видишь отсюда тот дом, где живет Петруша? Вот куда я смотрю; а в ту сторону я боюсь и взглянуть: мне тотчас же приходит на мысль мой несчастный отец, – и великая княжна тяжело вздохнула.
– Да ты, мой светик, – участливо сказала княгиня, – и не смотри туда: и без того ты сегодня что-то уж очень грустна. Что с тобой?
Наталья Алексеевна показала глазами на госпожу Каро. Хотя воспитательница, или – как ее называли для большей важности – гофмейстерина, ее высочества понимала по-русски даже и в самом обыкновенном разговоре очень немного, но ее навостренные уши и ее взгляд, внимательно следивший за каждым движением разговаривавших, стесняли Наталью Алексеевну, которой хотелось поговорить по душам с посетившей ее гостьей.
– Вы, ваше высочество, давно не видали княгиню Долгорукову? – слегка подмигнув, спросила Волконская.
– Которую? Марфу Петровну? Да мне говорили, что она не совсем здорова, – ответила Наталья Алексеевна.
– Ее высочество желает знать о здоровье княгини Марты Долгоруковой, – обратилась по-французски Волконская к госпоже Каро. – Вы, любезная госпожа Каро, доставили бы большое удовольствие великой княжне, если бы съездили навестить княгиню. Карета моя в вашем распоряжении.
– Вам угодно, ваше высочество, чтобы я съездила к княгине Марте Долгоруковой? – спросила Каро, не догадавшаяся уйти прежде, а теперь понявшая, что ее вежливым образом выпроваживают отсюда, и обидевшись тем, что получила приказание не непосредственно от великой княжны.
Наталья Алексеевна, заметно смущенная, кивнула головою; госпожа Каро не торопясь собрала свое рукоделье и, поклонившись почтительно ее высочеству, вышла из комнаты, не очень дружелюбно поглядев на Волконскую, сделавшую вид, что она внимательно смотрит в окно, а потому и не замечает ухода француженки.
– Пойдем в ту комнату, – сказала Наталья, взяв под локоть Волконскую.
– Так отчего ты, Наташа, сегодня такая грустная? – спросила княжна.
– Мне приснился страшный сон.
– Какой?
– Я видела, будто меня хотят выдать замуж, и знаешь за кого? – за сына Данилыча.
– Сны, моя голубушка, как толкуют старые люди, не всегда бывают вещие и часто сбываются наоборот. Спроси об этом Андрея Ивановича. Он все знает. Сон ему свой рассказать можешь. А наяву-то что этот варвар Меншиков выдумать не может! Впрочем, теперь уж и поздно: коль скоро твой братец женится на его дочери, то ты за его сына выйти замуж никак не можешь.
– Знаю я это, Аграфена Петровна; по церковному закону так, но вот Андрей Иванович на днях мне рассказывал, что господин Пуфендорф справедливо рассуждает, что персоны из правительствующих фамилий к партикулярным людям приравниваемы быть не могут; что таким персонам и Церковью разрешается то, что другим всем по общим правилам возбраняется, и что таковые персоны, пользуясь отменными перед прочими прерогативами, должны приносить самих себя в жертву политическим конъюнктурам для пользы государственной… А я-то и с мыслию об обручении Петруши с Марией сжиться не могу. Была бы я на его месте, не позволила бы я собой так распоряжаться, как распоряжаются им, – вспылила великая княжна.
Волконская внутренно радовалась таким гневным порывам молодой девушки, но находила пока нужным вести дело с большою осторожностью.
– Его величество еще очень молод и, по воле покойной государыни, находится под опекою «светлейшего». Разумеется, Катерина Алексеевна не была ему кровной матерью и прав родственных на него иметь не могла, но, как самодержавная царица, могла распорядиться перед своею кончиною, как ей было благоугодно. Придет время, станет и его величество править самодержавно и тогда будет делать что хочет, а теперь его и надоумить-то некому. Остерман хоть и любит вас обоих всею душою, но ничего поделать не смеет: он человек беспомощный, боится «светлейшего», он только и дышит по его милости.
– Да кто же его не боится! – вскрикнула раздраженно Наталья. – Помнишь, ты, Аграфена Петровна, мне однажды, еще при нареченной бабушке, пригрозила как-то, что и я за неистовые речи могу попасть в монастырь.
– Помню, но ведь тогда, касатик мой, совсем иная пора была. Тогда царица была к вам недоброжелательна, а теперь на престоле твой родной брат. Он не даст тебя в обиду, нужно только втолковать ему кое-что.
– Не даст меня в обиду! Как же он не даст меня, когда его самого обижают, а он ни одним словом перечить не смеет. Сколько раз я хотела ему сказать, чтобы он задал страху Меншикову, да боюсь, что потом ему еще хуже будет. Держит его Данилыч словно в неволе, редко когда ко мне отпустит. Все говорит, что некогда ему ко мне разъезжать, учиться должен. Когда же я к нему приеду, так соглядатаи от нас ни на шаг не отходят: все подсматривают да подслушивают, так что я с ним не могу от сердца и слова перемолвить.
– Да ты попыталась бы через тетушку Елизавету. Она и постарше тебя, и куда как бойка. Она за словом в карман не полезет. Она шуточками сумеет подбить Петрушу, чтобы он стал «светлейшему» коготки показывать, а то, пожалуй, чего доброго, сон твой наяву сбудется. Надобно сделать так, чтобы он полюбил ее как можно больше и стал бы ее во всем слушаться.
– Не хочу я, чтобы Петруша кого-нибудь любил и слушался больше меня! – запальчиво вскричала великая княжна.
– Ты, Наташа, совсем другое дело: ты родная ему сестра, и он всегда любить и слушать тебя будет, а к Елизавете он только внимательнее станет. Начни ему хвалить ее и говорить, что она такая раскрасавица, какой нигде не отыщешь. Ты тут обманного ничего не скажешь: Лиза и вправду девушка добрая, веселая, а что она красавица, так против этого никто спорить не может. Притом хвалить кого-нибудь никогда не грех. Вот дурное о ком-нибудь говорить – это дело иное, это точно не годится, – поучительно заключила Волконская.
Наталья Алексеевна внимательно слушала все, что так убедительно говорила ее собеседница.
– А и в самом деле, – сказала она, – когда я увижусь с Петрушей, то скажу ему, чтобы он почаще виделся с тетей Лизой; ему будет с ней веселье, а то он все скучает.
– Разумеется; да и «светлейший» ей не станет препятствовать бывать хоть каждый день.
Наладив с великой княжной дело так, как наставлял Остерман, Волконская хотела было от себя самой еще более усилить вражду молодой девушки к притеснителю ее брата. Она соображала, как бы ловчее перейти в разговору о страшной смерти отца Наталии и выставить Меншикова главным виновником его погибели. Однако она сообразила, что пока еще опасно заходить слишком далеко: во-первых, Меншиков в большой силе и, проведав как-нибудь о таком ее разговоре с великой княжной, может отправить ее, Волконскую, в застенок; во-вторых, она не хотела расстраивать вконец и без того взволнованную девушку новым сильным потрясением, тем более что Наталия, разговорившись с Волконской, как будто несколько повеселела.
– Так сон мой не сбудется? – улыбнувшись, спросила Наталья Алексеевна. – Так за кого же мне выходить замуж? Остерман рассказывал мне, что прежде в Российском государстве царевны всегда оставались в девушках, потому что царям дочерей своих за подданных, как за своих холопов, выдавать замуж не приходилось, а иностранные принцы жениться на них не хотели, потому что они были девушки необразованные. Должно быть, он говорил мне это, чтобы заохотить меня к учению. Но что же за радость выйти замуж за иностранного принца, который сам, как, например, герцог Голштинский, живет из милости на чужих хлебах? Впрочем, тетка Ивановна вышла и за владетельного герцога, а тоже живется ей не сладко: всю жизнь должна ухаживать за Меншиковым, а он ей и замуж за Морица выйти не позволил.
– Не в богатстве и почестях счастье, Наташа, – поучительно начала Волконская. – Вот сестра герцогини Курляндской, царевна Прасковья, была замужем за приватным человеком Дмитриевым-Мамоновым, а как счастливо она с мужем всю жизнь провела. И когда он, ехавши в карете от обедни, вдруг ни с того ни с сего умер, то она по нем долгое время с ума сходила, да, кажется, никогда и утешиться не могла.
Между Волконской и великой княжной завязалась беседа о разных житейских мелочах. Княгиня говорила умно и складно, и заметно было, что молодую девушку занимала эта беседа, так как ей приходилось слышать многое, чего она прежде не знала. Великой княжне еще более захотелось теперь, чтобы Волконская была безотлучно при ней, и она обещала княгине сказать брату, чтобы он настоятельно попросил Данилыча о назначении княгини обер-гофмейстериной.
Лишь только уехала Аграфена Петровна, как к великой княжне пришла жившая также в Зимнем дворце Елизавета Петровна, тоже «инструированная» Остерманом.
Она тотчас же завела речь о «Петруше». С глубоким сочувствием отзывалась она о его тяжелом и подневольном положении и жаловалась на то, что племянник так мало обращает на нее внимания, что он никогда не приласкается к ней, как будто она чужая, почему и она отдаляется от него, тогда как ей часто хочется утешить его и посоветовать что-нибудь полезное для него.
Само собою разумеется, что такая речь Елизаветы подходила как нельзя более к тому, что внушала великая княжна Аграфена Петровна.
XXXIII
С большим удовольствием проводил Рабутин свое время в Петербурге, хотя этот город далеко не представлял западноевропейским людям тех удобств, развлечений и увеселений – как в общественных собраниях, так и в частных домах, – какие они могли найти для себя даже в Дрездене и в Варшаве, не говоря уже о блестящем и шумном Париже, где издавна господствовала такая кипучая общественная жизнь. Образ препровождения времени в Петербурге слагался мало-помалу на европейский лад, но далеко не с тем изяществом и тою утонченностью, какие были усвоены в столицах Западной Европы. Главным недостатком для любителей жизни, обставленной всеми удобствами, было отсутствие в Петербурге хорошо устроенных помещений. Только немногие знатные персоны, окончательно осевшие в новой столице, да некоторые богатые иностранные негоцианты, торговавшие при петербургском порте, успели построить удобные дома, но эти дома отдавались внаймы очень редко, только по какой-нибудь особой случайности. Любители вкусно поесть могли иметь в Петербурге хороший стол, так как сюда начали наезжать и немецкие кухенмейстеры, и французские метрдотели. Даже Петр Великий – человек сам по себе крайне неприхотливый в пище и неразборчивый на нее – держал при себе пользовавшегося большою известностию за свое искусство иноземца Фельтена, приготовлявшего изысканные обеды и ужины для гостей, бывавших за царским столом. Общественные увеселения в Петербурге были весьма ограниченны, если, конечно, исключить те своеобразные пиршества и торжества, которые задавал Петр I по разным случаям в своем «парадизе»* и которые, как и заведенные им «ассамблеи», оканчивались обыкновенно лихими попойками. Общественные зрелища были в новой русской столице редки; иногда лишь давали здесь свои представления заезжие из-за границы комедианты, фокусники и акробаты. Независимо от этого жившие в Петербурге иностранцы, составлявшие небольшой кружок, отдельный от русских, развлекались музыкою, танцами, увеселительными загородными поездками и катаньем по Неве.
С своей стороны Рабутин, хотя человек и привыкший к свету, не искал шумных развлечений. Частые, почти ежедневные свидания с Мартой, в которую он был очень сильно влюблен, он считал для себя высшим наслаждением, для которого он готов был забыть и блеск двора, и рассеянную жизнь в европейском обществе. Деятельность на дипломатическом поприще могла также вполне удовлетворить графа Рабутина. В короткое время он успел сделаться первенствующим из всех представителей иностранных держав при русском дворе. Этому способствовало не только его высокое звание, как цесарского посла, и притом отправленного, как тогда выражались, к родственной державе, но и те личные отношения, которые он, при своем образовании, уме и ловкости, сумел установить в Петербурге. Его здесь всюду принимали не только с большим почетом, но и с чрезвычайным радушием; всюду он был любезным и желанным гостем. Он умел умно и увлекательно рассуждать с людьми дельными, мило пошутить и посмеяться с весельчаками и балагурами, каких в ту пору было очень много среди петербургской знати; он в состоянии был вести ученые беседы и с теми иноземцами, которые начали приезжать в Петербург для поступления в состав только что учрежденной здесь – по плану Петра – «академии де-сианс»*. В кругу своих товарищей дипломатов он считался ярким светилом. Кроме того, он отличался уменьем любезничать с дамами, и они чувствовали к нему особенное расположение, хотя, к своему сожалению, и знали, что сердце Рабутина принадлежало другой.
Казалось, что для Рабутина в Петербурге сложилось все как нельзя лучше. При жизни императрицы Екатерины он сделался одним из самых приближенных к ней лиц и, несмотря на то что был иностранный дипломат, допускался в частные ее собрания даже и тогда, когда она лежала больная в постели. Меншиков, при всей своей безграничной надменности, относился к Рабутину – в котором он и сам нуждался – с постоянным уважением и в обращении с ним не допускал тех резкостей и выходок, какие он позволял себе в отношении других иностранных агентов. Император-отрок и сестра его оказывали Рабутину искреннее дружелюбие, так как им было известно, что он поддерживал их права и вообще заботился об их судьбе. Нравился он и цесаревне Елизавете, как приятный и веселый собеседник. Короче, ему жилось в Петербурге превосходно.
Порученные Рабутину венским кабинетом дела чрезвычайной важности удалось окончить с успехом: Россия согласилась признать «прагматическую санкцию», задуманную Карлом VI, в России воцарился Петр II, родной племянник жены императора Елизаветы-Христины, и, наконец, с Россиею был заключен выгодный для Австрии оборонительный союз. Все это, разумеется, приписывалось в Вене умению Рабутина вести отлично самые трудные дела. Там он был намечен как один из способнейших дипломатов Австрии, и блестящая будущность открывалась ему, не дошедшему еще в эту пору до сорокалетнего возраста.
В исходе августа месяца 1727 года Рабутин, и без того часто посещавший Долгорукову, еще более участил свои посещения. Муж ее отправился надолго в свою подмосковную усадьбу, а между тем в пользу Рабутина присоединились еще и особые обстоятельства: в настоящее время от Долгоруковой он мог получать драгоценные известия о том, что делается при дворе, или, вернее сказать, около Меншикова.
– После того как князь Алексей Григорьевич представил императору своего сына Ивана, – рассказывала Марфа Петровна приехавшему к ней Рабутину, – этот молодой человек сделал большие успехи. Императору князь понравился с первого раза, а теперь государь сходится с ним все ближе и ближе. Князь уже постоянно обедает и ужинает с ним, проводит в его комнате целые дни, и, по-видимому, они в скором времени сделаются неразлучными друзьями.
– Но, кажется, между ними в годах значительная разница?
– Да, особенно при слишком еще молодых летах императора. Князь Иван старше его лет на семь, но Петру именно и приятно иметь около себя товарища, который был бы постарше его. С некоторого времени государь желает выставлять себя уже не мальчиком, а юношей. Должно полагать, что такое желание, – свойственное, впрочем, вообще всем подросткам, – усилилось в нем под влиянием его сестры. Она внушает ему, что коль скоро он император, да притом еще и обрученный жених, то значит – он уже не мальчик; что поэтому он должен держать себя как мужчина и не подчиняться безусловно чужой воле…
– Если это так, то очень ясно, что во внушениях такого рода заключаются намеки на самовластие светлейшего князя. Надобно будет, дорогая моя Марта, подумать, какого образа действий мне теперь держаться. До сих пор я был в самых лучших отношениях с Меншиковым. В Вене очень ценили эти отношения, а если случится какой-нибудь переворот и дела здесь пойдут неудачно, то я должен буду оставить Петербург, а это было бы для меня ужасно. Я даже боюсь подумать об этом, и ты, конечно, знаешь почему, – говорил Рабутин, страстно обнимая хорошенькую женщину.
– Кто знает, быть может, все будет к лучшему, – тихо промолвила она, медленно вздохнув, а потом ободрительно взглянув на Рабутина, – если князь Иван войдет в особенную силу у императора. Он очень смышленый молодой человек, но одна беда, что он страшный кутила и отчаянный волокита. Я как-то, по родству, была одно время ласкова к нему, а он, представь себе, стал за мною волочиться, позабыв, что я прихожусь ему теткой.
Рабутин улыбнулся, но нельзя было сказать, чтоб улыбка эта выражала удовольствие. Напротив, в ней был оттенок раздражения, вследствие ревности, кольнувшей его.
– Да он не одних только женщин любит, но любит и вино, и карты, и кутежи всякого рода. Жаль, что он человек ветреный, а то в будущем он, может быть, и очень пригодился бы мне.
Рабутин и Долгорукова призамолкли на минуту.
Она с грустью думала о том, что скоро, быть может, ей придется расстаться с человеком, которого она так страстно полюбила. Он также подумывал о том, что ему нужно будет покинуть Петербург и разлучиться с Мартой, которую он любил так, как, судя по его изменчивости, он никогда никого не мог любить. Все его дипломатические соображения были далеко, и он думал только о женщине, с которою так тесно сблизился и сжился.
– А ведь я настоящий дипломат, – вдруг, шутя, как будто выйдя из забвения, заговорил он, – я не болтлив, и вот тебе доказательство. У меня есть для тебя две чрезвычайно важные новости, в особенности одна из них, но ты видишь, что я до сих пор не обмолвился относительно их ни полсловом…
– Приучаешься понемногу секретничать со мною, – улыбнувшись, заметила Долгорукова.
– Одна новость – та, что сегодня утром князь Меншиков спрашивал моего откровенного мнения о браке своей младшей дочери с принцем Ангальт-Дессауским. Я еще и прежде слышал, что для устройства этого брака приехал сюда какой-то таинственный сват, под видом немецкого негоцианта. Что для принца Ангальтского нельзя и желать лучшего брака – это не подлежит никакому сомнению. В Германии владетельных принцев так много, что им скоро придется жениться на банкирских дочерях и даже на простых мещаночках, а Меншикова все-таки светлейшая княжна, невеста чрезвычайно богатая, и главное, коль скоро состоится брак императора с ее сестрою, то стоимость ее, как невесты, поднимется куда как высоко, и тогда самый значительный владетельный германский принц и даже любой курфюрст почтет за особенную честь получить ее руку. В таком смысле я высказался князю и мог заметить, что мои, в сущности самые простые, соображения пришлись ему по душе как нельзя более. Он, видимо, был чрезвычайно доволен тем, что его фамилия получает такое важное значение и в Европе, вне пределов России.
Известие это не представляло для Долгоруковой никакой важности, и она выслушала его молча.
– А другая новость какая? – спросила она.
– Меншиков хочет женить своего сына на великой княжне, – отвечал Рабутин.
– Ну, уж этого не будет! – вскричала Марфа Петровна. – Наталья вовсе не то, что ее брат. Она никому не поддается, а чтобы она желала выйти за сына Меншикова – это весьма сомнительно. Да притом если дочь его будет женою императора, то следующий, предполагаемый князем брак, по нашим церковным законам, невозможен.
– Да и у нас, у католиков, такой брак может состояться только в крайних случаях, не иначе как с разрешения святейшего отца, по особо уважительным причинам. Но Меншиков хочет настаивать на этом и просил меня узнать в Вене, как там будет принят такой союз.
Долгорукова пожала плечами.
– Я полага… Ой! – вдруг болезненно вскрикнул Рабутин, схватившись правою рукой за сердце.
Марфа Петровна в испуге взглянула на него. Он был бледен, как мертвец.
– Что с тобой, Густав, что с тобой? – растерявшись, спрашивала она, трогая его за плечо.
Он не отвечал ничего и сидел в креслах неподвижно, закрыв глаза и свесив голову.
Она принялась тормошить его все сильнее и сильнее, но напрасно: он не подавал никаких признаков жизни.
Рабутин, – как было сообщено потом в Вену, – скончался внезапно от разрыва сердца. К этому сообщению было присоединено сожаление российского двора о преждевременной кончине столь достойной персоны, поддерживавшей те добрые отношения, в каких находились между собою Россия и Австрия.
В доме Долгоруковых поднялась тревога, и в городе заговорили о странной смерти австрийского посла с прибавкою разных догадок. Секретаря австрийского посольства не оказалось в это время в Петербурге. Он еще накануне с вечера уехал в Тосну на охоту с одним из своих приятелей.
Меншиков потребовал к себе своего секретаря Яковлева.
– Возьми с собой актуариуса* из иностранной коллегии, потребуй офицера от полиции и сейчас же отправляйся с ними в квартиру графа Рабутина. Перешарь там хорошенько, забери все его бумаги и привези их прямо ко мне. Жилье его опечатай, а к дверям приставь караул. Да смотри, сделай все и скорее, и исправнее.
Яковлев, не медля ни минуты, бросился исполнять приказание «светлейшего», и вскоре забранные из кабинета Рабутина секретные бумаги были уже на письменном столе Меншикова, а вслед за тем они были переданы доверенному лицу для перевода их на русский язык.
«Вот теперь я узнаю многое, – думал Меншиков, потирая руки. – Наверно, тут откроются разные проделки моих недругов, а также и шашни Остермана. А жаль Рабутина: с ним можно было вести дело, и во многих случаях он был мне не бесполезен».
XXXIV
Был еще очень ранний час мрачного сентябрьского утра, когда истомленная бессонницей княгиня Аграфена Петровна собиралась наконец заснуть хоть немного. Все это время она была в страшной тревоге. Едва ли кого-нибудь – за исключением, конечно, княгини Марфы Петровны – так сильно поразила неожиданная смерть Рабутина, как Волконскую. Она находилась с ним в самых близких деловых сношениях, получала через него письма политического содержания от своего младшего брата, остававшегося по-прежнему на должности русского посла в Копенгагене, и через Рабутина продолжала передавать свои известия из Петербурга в Вену, приноравливаясь к донесениям, делаемым туда Рабутиным. Он и она предварительно совещались об этом, но так, что решающий голос оставался за нею, и поэтому можно сказать, что она собственно руководила взаимными отношениями обеих держав. Вместе с Рабутиным она усердно старалась о возведении на престол Петра II, но между ею и представителем Австрии при русском дворе существовало разномыслие относительно того положения, какое занял теперь Меншиков, которому она старалась повредить во мнении венского кабинета, а через этот кабинет повлиять и в Петербурге. С своей стороны Рабутин, не имевший никакого повода враждовать с Меншиковым, действовал очень осторожно и своими депешами ослаблял те впечатления, которые были производимы в Вене известиями, получаемыми от Алексея Петровича Бестужева. Рабутин сообщал, что к отзывам о Меншикове, идущим из Петербурга, примешиваются иногда личные счеты, и вследствие того этот разряд известий требует некоторых поправок и разъяснений.
Как бы то, впрочем, ни было, но Волконская, потеряв в лице Рабутина человека, который служил поддержкою ее политических стремлений и которого она считала опорою при осуществлении ее личных желаний, упала духом, но не потеряла вконец бодрости, бывшей ее прирожденным свойством. Ей стоило только собраться с силами и встрепенуться, чтобы снова приняться за прежнюю работу.
Непродолжителен, однако, был сон Аграфены Петровны, и она, оставаясь в постели, припоминала все подробности вчерашней своей беседы с великою княжной. Волконская заметила, что Наталья Алексеевна стала бодрее, чем была при последнем их свидании, и что вместе с тем раздражение ее против Меншикова и желание высвободить из-под его власти своего брата сделалось еще сильнее. Наталья рассказала княгине, что последовала ее совету относительно похвал Елизавете, и ей показалось, что Петруша слушал эти похвалы с большим удовольствием.
– Как жаль, что по нашему закону, – говорила она Волконской, – нельзя устроить той свадьбы, какую задумал Остерман. Наверно, Петруша вскоре полюбил бы Лизу и отказался бы от той невесты, о которой он и теперь вспоминает с такой неохотой.
– О свадьбе напрасно и говорить, – засмеялась Волконская. – Пусть он на время только полюбит всем сердцем Лизу, так он откажется от Меншиковой, а там не трудно будет его убедить, что эта любовь была только ребяческой шалостью, о которой ему следует забыть, как императору, призванному к великим подвигам. Впрочем, дело идет, собственно, не о женитьбе и не о любви, а только о том, чтобы избавить его от Меншикова. Где же это видано, чтобы подданный мог повелевать своим государем, забываться перед ним, разлучать его с теми, кто ему близок? Нужно почаще повторять его величеству, что он государь самодержавный, что только ему одному дано от Бога право приказывать всем и каждому, а ему приказывать не смеет никто.
– Я просто-напросто скажу Петруше, – запальчиво заговорила Наталья, – чтобы он приказал забрать из дома Меншикова все свои вещи и переехал бы ко мне в Зимний дворец.
– Хорошо бы было так сделать, – поддакнула Аграфена Петровна. – Действительно, на что похоже: государь, точно из милости, живет на хлебах в чужом доме, а не в своем дворце!..
– И я посмотрю, – горячилась Наталья, – кто посмеет снова взять его отсюда.
– Никто и не посмеет этого сделать. А начнет Меншиков чинить какое-либо грубиянство против высочайших особ, так разве государь не может приказать, чтобы его арестовали и отправили куда-нибудь подальше? Поверь мне, Наташа, что за него никто не вздумает заступиться, а все будут только радоваться, что стряслась над ним беда; никто его не любит, все до единого ненавидят его. Даст он ответ на Страшном суде Богу. Много тяжких грехов у него на совести. Вот хоть бы и твой отец, царевич, – дай ему Господь царство небесное, – разве не Меншиков погубил его?
– Но ведь если пострадает он, то с ним вместе пострадают и жена его, и вся его семья, ни в чем не повинные, – проговорила грустно Наталья.
– Так что же делать: делили с ним его славу, его могущество и знатность, так должны делить и все его невзгоды. Как быть! Ведь если Данилыч распоряжается так самовластно с царствующею персоною мужского пола, то он, укрепясь союзом с высочайшим домом вашим, начнет еще отважнее распоряжаться женскими персонами. Не допустил же он царевну Ивановну выйти замуж за графа Саксонского, а какое он имел на то право? Сватает он теперь цесаревну Елизавету по своему усмотрению, а затем очередь дойдет и до других: выдаст кого ему вздумается замуж за какого-нибудь немецкого принца, да потом и вышлет из России, как выслал Анну Петровну, и станет сам государем.
Намек Волконской был, конечно, слишком ясен.
– Ну, я не позволю ему распоряжаться мною, – вспылила Наталья.
Она вскочила с кресла и сильно топнула ножкой. Лицо ее горело румянцем, и в глазах засветился гневный огонек.
Оставаясь в постели, княгиня припомнила себе весь этот разговор и обсуждала сама с собой, что в нем было недосказанного и что нужно будет еще дополнить и усилить при следующей беседе с великой княжною, когда дверь в спальню княгини осторожно приотворилась, и в нее заглянула старушка, бывшая в доме Бестужевых-Рюминых нянею княгини.
– Спишь или проснулась уже, матушка? – почти шепотом проговорила старушка.
– А что?
– Какой-то приказный к тебе пришел и говорит, что ему неотложно нужно тебя видеть, – прошептала старуха тревожным голосом.
– Да разве он не мог прийти попозднее, когда я встану? А нет, так теперь подождать может.
– Сказывает, что сейчас же нужно с тобой поговорить. Я ему сказала, что ты еще почивать изволишь, а он ничего и слушать не хочет, стоит на своем, чтобы его немедля к твоему сиятельству допустили.
Княгиня сначала думала, что к ней – как это нередко случалось – пришел какой-нибудь проситель, ищущий у нее милости или покровительства; но такого рода просители обыкновенно смирно и вовсе не назойливо поджидали в сенях, в людской или на улице того времени, когда их впустят. Они рассказывали прислуге о своих делах и нуждах, рассчитывая на благоприятные наставления со стороны домашней челяди, знавшей нрав и привычки своих господ. Между тем пришедший теперь приказный не только не заводил такой беседы, но на вопрос высланной к нему от княгини няни заявил, что он имеет такое важное дело, о котором должен сообщить лично самой только княгине, да и то с глазу на глаз.
Ввиду такой настойчивости приказного, княгине не оставалось ничего более, как только, набросив на себя шлафрок*, выйти к нему.
– Ты с чего, батюшка, вздумал забираться ни свет ни заря к знатным персонам и будить их? – строго спросила княгиня, окинув суровым взглядом убого одетого приказного.
Суровый взгляд знатной барыни не смутил, однако, его, и заметно было, что он как будто чувствовал свое превосходство над княгиней.
– Прежде чем бранить меня, тебе следовало бы благодарить Антипа Захарыча Всемогущенского, – сказал спокойно приказный. – Он пришел к тебе, чтобы предотвратить от тебя великую напасть, а ты толкуешь ему о знатных персонах. Да что они теперь значат? Тфу!.. – отплюнулся приказный.
– Ты, однако, не забывайся и помни, с кем говоришь, – гневно прикрикнула княгиня. – Должно быть, из кутейников*, из посадских или из холопов будешь.
– Оно точно, что я из кутейников буду. Куда нам с вами, знатными барами, равняться… Да знаешь что, сиятельнейшая княгиня Аграфена Петровна: ты сегодня большая барыня, а через несколько деньков, пожалуй, ниже моей супружницы Агафьи Семеновны станешь. Пожелаешь быть на ее месте, да не сможешь…
Княгиня словно обезумела и вопросительно смотрела на приказного, не понимая, что он говорит, и как бы ожидая разъяснения его загадочной речи.
– Сказать тебе попросту: через час-другой явится к тебе секретарь из Тайной канцелярии и возьмет тебя под арест.
Волконская пошатнулась на месте и бессознательно, чтобы не упасть, ухватилась рукою за дверь, около которой стояла.
– Так вот что, голубушка, сделай: если у тебя есть какие непригодные письма и бумажонки, то ты прибери их подальше, а то, быть может, у тебя на дому все перероют и перешарят и, что есть писаного, заберут, а потом станут рассматривать и рассуждать, нет ли каких улик или чего-либо наводящего подозрение на тебя или на тех персон, с которыми ты дружбу или только знакомство водила, и если что неприглядное окажется, то и их следом за тобою притянут, а там куда как жутко будет: и кости поломают, и спину кнутом исполосуют. Не посмотрят на то, что ты знатная персона, – с каким-то плохо скрываемым удовольствием добавил приказный.
– А почему же ты это знаешь? – дрожа вся, как в лихорадке, спросила княгиня.
– Потому что я состою на службе в Тайной канцелярии и ненароком взглянул на тот указ, который о тебе сегодня на рассвете писали. Дай, думаю, сбегаю к княгине, авось она своей милостивой подачкой не оставит бедного человека, у которого на руках семеро деток, мал мала меньше…
Княгиня быстро вышла в спальню, схватила со стола три рублевика и сунула их в протянутую руку приказного, который с удовольствием услышал, как серебряные рублевики, редко бывавшие у него, звонко брякнули в его пустом кармане.
– Премного благодарим, ваше сиятельство, – сказал приказный, низко кланяясь княгине и хватая ее руку, чтобы поцеловать ее. – Помяни меня своею милостию, ежели все пройдет благополучно и ты останешься в силе, – пробормотал он, уходя от нее.
Но Аграфене Петровне было не до благодарности и просьб приказного.
– Няня! Няня!.. – громко, испуганным голосом закричала она, вбежав в спальню и торопливо вытаскивая ворох бумаг из так называвшегося тогда «нахтиша» – столика, который ставился у постели и в котором обыкновенно дамы того времени хранили свои драгоценности.
– Возьми эти бумаги, – суетливо говорила она поспешившей на зов ее няне, суя ей в руки бумаги, – возьми и запрячь их как можно подальше; снеси пока хоть на чердак, но так укрой их там, чтобы никто не видел, а потом сожги их, да и сожги так, чтобы никто не подсмотрел. Я пропала, совсем пропала! – вскрикнула она, схватившись в отчаянии за голову. – И откуда такая беда пришла!
Няня не могла понять, о чем идет дело, но, повинуясь безоговорочно княгине, взяла носовой платок, разостлала его на постели княгини и принялась укладывать поданные ей бумаги, чтобы бережно завязать их.
Княгиня торопила ее, быстро выдвигала все ящики один за другим и шарила в столиках и в комодах, опасаясь, не попали ли туда письма ее брата, полученные через Рабутина из Копенгагена, или черновые отписки.
Едва лишь Аграфена Петровна успела кончить эту тревожную работу, а няня унести, тайком от всех, узелок с письмами на чердак, как в спальню княгини с испуганным лицом вбежала ее горничная.
– Матушка княгиня! Никак, в доме у нас беда случилась!.. Сыщики, что ли, с солдатами идут к нам в ворота.
Волконская в испуге опустилась на кресло и, мелко крестясь, шептала:
– Помяни, Господи, кротость царя Давида и всю правду его!.. Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его!
Но на этот раз душевный упадок княгини был непродолжителен. Она тотчас сообразила, что арест ее производится по распоряжению Меншикова и что ему, конечно, будет известно, как ею была принята эта неожиданная мера.
«Не нужно увеличивать его торжества, – промелькнуло в голове Волконской. – Надобно показать, что я не так боюсь его, как он думает. Гибнуть так гибнуть!»
Она упала на колени перед киотом, читая молитвы собственного сложения, вызванные нагрянувшей бедою, и, собравшись с силами, твердою поступью вошла в комнату, где ожидал ее секретарь с подьячим, а в дверях виднелись четыре мушкатера* с ружьями у ноги.
– Что тебе, сударь, от меня угодно? – спросила она, стараясь придать своему голосу оттенок спокойствия и равнодушия, и, смерив глазами с головы до ног почтительно стоявшего перед нею секретаря Тайной канцелярии, опустилась в кресла.
– Указ насчет вашего сиятельства при мне имеется. Извольте его выслушать стоя, так как он от имени его императорского величества.
– Знаю я эти порядки.
Волконская встала с кресел и, сложив на груди руки и гордо подняв вверх голову, остановилась среди комнаты.
– «Указ его императорского величества из Тайной канцелярии секретарю Дементию Прокофьеву, – откашлявшись, начал ровным голосом читать секретарь. – Приказывается тебе, забрав с собою капрала и трех мушкатеров, с подьячим, отправиться в дом княгини Аграфены Петровой дочери Волконской и объявить ей его императорского величества указ о взятии ее под крепкий караул. Содержать же ее, Аграфену, в собственном ее доме, приставив при дверях ее покоев и при воротах воинский караул. Никого к ней, Аграфене, не пускать, самой же ей быть в своем доме безотлучно. Ссылок и отписок с нею отнюдь никому не допускать, а какие к ней письма или цидулы явятся, то оные отбирать и, не читая и не вскрывая их, представлять немедленно в вышепрописанную канцелярию; и содержать ее, Аграфену Волконскую, таким порядком до тех мест, пока против сего указа какой-либо отмены не воспоследует».
Через несколько дней строгого ареста к княгине приехал секретарь «светлейшего» Яковлев и объявил ей, чтобы она ехала в Москву и оттуда – на безвыездное житье в своих деревнях.
Арест Волконской объяснили тем, что из бумаг Девьера добыты были некоторые слабые указания на близость ее с врагами «светлейшего», но ничего уличающего ее не оказалось, так что на этот раз княгиня отделалась довольно счастливо.
Одновременно с Волконской были удалены в сибирские города, под видом служебных поручений, Маврин и Ганнибал, и в Петербурге из близких ей людей остался один только Егор Пашков.
XXXV
Хотя с отъездом в Москву Волконской Меншиков и избавился от дальнейших происков со стороны одного из самых опасных своих врагов, но те внушения, какие успела сделать она Наталье Алексеевне, сохранили свою силу, а стечение разных обстоятельств способствовало их развитию и все сильнее убеждало великую княжну в справедливости и даже необходимости применить на деле то, что советовала Волконская.
Под влиянием сестры Петр все более и более начинал сознавать свое вполне зависимое от Меншикова, оскорбительное положение.
«Да что, в самом деле! Кто он мне – отец, дед, старший брат или дядя? Откуда он взял надо мною такую власть? Отец мой не мог переносить притеснений своего родного отца, которому Меншиков, конечно, не чета и который, вдобавок к тому, был самодержавный государь. А я-то из-за чего остаюсь в рабстве у такого выскочки, который наделал столько зла моему отцу и готов бы был извести меня, если бы мог занять мое место? Если он теперь так повелевает мною, то что же будет, когда я женюсь на его дочери? Тогда он станет думать, что он действительно заменяет мне отца», – рассуждал Петр.
Отголоски на такие мысли он встречал, разумеется, в речах своей сестры и князя Ивана Долгорукова, который все более и более делался близким ему человеком, и близость эта начинала переходить в любовь и тесную дружбу.
Остерман, с своей стороны, тоже, как будто неумышленно, подливал масла в огонь. Он заставлял ленивого мальчика учиться, ограничивал его забавы и прогулки, ссылаясь на то, что это воля «светлейшего», и, придавая в это время своему лицу выражение сожаления, тем самым давал чувствовать своему питомцу, что он, Остерман, пожалуй, и рад бы дать ему побольше свободы, но что он сам человек подначальный. Дразнила также своего уже раздраженного племянника и Елизавета, насмехаясь над тем, что его держат в такой тесной неволе. Здесь затрагивалась уже самая чувствительная струна, – здесь оскорблялось самолюбие влюбленного мальчика, которому, конечно, хотелось прежде всего казаться в глазах полюбившейся ему девушки взрослым человеком, считаться ее ровесником если и не по летам, то хоть по той самостоятельности, которая составляет право каждого юноши, а тем более императора.
Обстоятельства, вызвавшие падение Меншикова, слишком известны. Главным поводом к тому было вмешательство его в отношения Петра к Наталье, как брата и государя к сестре, а вместе с тем и великой княжне – второй особе после императора, и Волконская могла порадоваться, узнав в один из своих тайных приездов в Москву, что Петр последовал ее внушениям, дошедшим к нему через его сестру. Вспыливши на Меншикова, он топнул на него ногою, крикнув: «Я покажу тебе, что я император, и научу тебя повиноваться!»
Падение и ссылка Меншикова были радостно приветствованы всеми, кто мог сознавать или чувствовать его произвол и его могущество. Этой радости вторили бессознательно и другие, потому только, что радоваться чужой беде гораздо более свойственно людям вообще, нежели сочувствовать чьим-либо удачам и счастью.
Между тем Аграфена Петровна, жившая как изгнанница под Москвой в деревне и не предвидевшая еще близкого падения «голиафа», продолжала и в ссылке строить ему козни.
Новодевичий монастырь в Москве, куда Меншиков под караулом перевел царицу Евдокию, становился теперь такою обителью, которая делалась целью политических исканий. Многие хотели быть там «в кредите», рассчитывая на любовь и почтительность внука к бабушке. Хотя Меншиков и старался предотвратить их сближение, не допуская бывшую царицу до свидания с внуком, но тем не менее все были уверены, что час такого сближения наступит и что царица отомстит, посредством своего влияния на внука, тем, кто погубил его отца; а в числе таких людей, несомненно, должен быть намечен и светлейший князь.
В Новодевичьем монастыре насильно постриженная инокиня сбросила с себя монашескую рясу и клобук, заменила данное ей при пострижении имя Елены своим прежним именем и называлась уже не старицей, а царицей. Все политические друзья Волконской стали указывать на царицу, как на самую надежную опору для торжества их кружка. Даже сосланный в Тобольск Маврин писал Волконской, между прочим, следующие строки: «Прошу, чтобы вы труд приложили за меня, а ныне будет случай изрядный, как здесь слышно, что его императорское величество изволит прибыть в Москву и, конечно, с бабушкою своею будет видеться, и тут можно обо мне, бедном, вспомнить».
Вообще многие теперь ожидали, что «бабушка» будет им ворожить и что имена таких счастливцев станет ей подсказывать княгиня Аграфена Петровна.
В то время, когда все это происходило, двое холопов, убежавших из дома Волконских, явились в Тайную канцелярию и донесли, что княгиня Аграфена Петровна, которой за ее продерзости велено жить в деревне безвыездно, ездит тайно под Москву, в Тушино, для свидания с подозрительными людьми и пишет письма в Москву и другие места.
«Да и от отца ее, – доносили холопы, – человек, приехавший из Митавы, привез ей письма, зашитые в подушку».
Двор в это время был уже в Москве; туда же перебрался и Верховный тайный совет, по распоряжению которого Аграфена Петровна была тотчас же схвачена и допрошена в его заседании.
Влияние Натальи Алексеевны на брата в это время стало уже слабеть. Другие заступники и заступницы Аграфены Петровны тоже потеряли свою силу, но все же, благодаря ходатайству Долгоруковых через Марфу Петровну и Лопухину, Волконскую и ее друзей осудили не так строго, как этого следовало бы ожидать. Ее не приговорили ни к отсечению головы, ни к битию кнутом. Допросы обошлись без пытки в грозном застенке, и Верховный совет постановил только сослать ее до указа в дальний женский монастырь и содержать ее там безысходно под надзором игуменьи.
В вину ей было поставлено следующее: «Княгиня Волконская и ее приятели, – говорилось в постановлении совета, – делали партии и искали при дворе его императорского величества для собственной пользы делать интриги и теми интригами причинить при дворе беспокойство и, дабы то свое намерение сильнее в действо произвесть могли, искали себе помощи через венский двор и так хотели вмещать постороннего государя в домовые его императорского величества дела, и в такой их Волконской и брата ее Алексея откровенности может быть, что они сообщали тем чужестранным министрам и о внутренних здешнего государства делах; сверх же того, проведовали и о делах и словах Верховного тайного совета».
По воцарении Анны Ивановны Волконская была освобождена из монастырского заключения, но изведанная ею беда отбила у нее охоту «делать интриги», да и делать их с такими целями, с какими это делала она прежде, не представлялось уже удобств. Приходилось заискивать у Бирона, и сам Алексей Петрович отлично умел устраивать это и без помощи сестры.
XXXVI
Все могущественнее и могущественнее после ссылки Меншикова становились Долгоруковы; но они не мирволили сторонникам Волконской, и еще до суда над княгиней Егор Пашков писал ей в Москву: «Ежели взять нынешнее обхождение, каким мучением суставным преходят люди с людьми. Ныне слышишь так, а завтра иначе; есть много таких, которые ногами ходят, а глазами не видят, а которые и видят, те не слышат; новые временщики привели в великую конфузию, так что мы с опасением бываем при дворе, всякий всякого боится, и крепкой надежды нигде нет».
Князья Долгоруковы, сын Иван и отец Алексей, хотели устранить всякое постороннее влияние на императора и стремились утвердить над ним свое преобладание, но при этом отец приходил в столкновение с сыном, так как каждый из них намеревался господствовать один исключительно. Но до времени им не следовало доводить дело между собой до разрыва, так как наперед нужно было устранить влияние тех лиц, которые казались одинаково опасными и тому, и другому. Нужно было прежде всего отдалить брата от сестры, – тут приходилось пустить в ход наговоры, – а затем нужно было рассорить императора с теткой, которой он стал было подчиняться; для этой цели были весьма пригодны: Бутурлин, так как Елизавета чувствовала к нему самую пылкую страсть, и хорошенькая княжна Екатерина Алексеевна, которая должна была заменить в сердце императора его юношескую, или, так сказать, ребяческую, любовь к красавице тетке.
– Сегодня все утро Наташа опять нюнила, – с досадою сказал Петр входившему князю Ивану. – Люблю я ее, но приставанья ее ко мне начинают уже надоедать. Она постоянно твердит мне одно и то же: говорит, чтоб я учился, занимался государственными делами, не веселился бы в «кумпаниях» и не ездил так часто на охоту. Как будто я сам не знаю, что я когда мне делать!
– Ее высочество, – с притворным сочувствием начал князь Иван, – заботится о вас выше всякой меры, она желает вам только добра, и не ее, конечно, вина, если она по своей неопытности дает вам советы неудачно. Хотя ее высочество немногим старше вас, но она полагает, что это дает ей право располагать вами, пожалуй, как сыном, как ребенком…
– Я сам все это очень хорошо знаю и понимаю, да ведь всему же, Иванушка, есть конец и мера. Она видит, что я ее не очень слушаюсь, ну и отстань; сказала раз, сказала два, да и довольно, а то всякий раз лезет с одним и тем же и принимается всхлипывать и плакать, думает, что вот так сейчас своими слезами и проймет меня. Знаю я женские слезы! – с видом знатока женского сердца добавил император.
– Суть дела, ваше величество, впрочем, и не в мере внушений и советов, а в том, от кого, собственно, они идут. Пусть бы ее высочество сама от себя говорила: вам, конечно, разумную сестрицу вашу слушать не стыдно. Вам известно было бы, что она наставляет вам от чистого сердца.
– А то как же? – вскричал удивленный Петр.
Долгоруков насмешливо улыбнулся.
– А Остерман-то на что? Этот хитрый немец сам к вам приставать боится, так и подучает ее высочество говорить то, что ему самому сказать хочется. Думает: пусть государь на нее сердится, а я буду в стороне.
– А что, ведь и то правда, Иван Алексеевич. Мне Остерман то же самое говорит, только слова его мне до сердца не доходят, как доходят сестрицыны речи. Ах, если б ты, Иванушка, знал, как я ее люблю! Иной раз от нее, голубушки, и отойти не хочется, вот так бы, кажется, весь день и просидел бы около нее неотходно…
– Жаль, что этого вашему величеству никак нельзя делать. Вы – мужчина и царствующий государь; у вас должны быть и иные занятия, и иные развлечения; а ее высочество девушка, ей и следует сидеть дома, да и веселиться на другой лад, а не так, как вы.
– Ну, а тетя Лиза? Та ни от одной нашей гулянки никогда не откажется.
– О ней что и говорить – разудалая девушка. Да ведь она и постарше будет ее высочества. Она девица возрастная, да уж и не молоденькая. А и бесстрашная тоже она какая! Намедни Александр Борисович Бутурлин рассказывал, что он с ней как-то вдвоем поехал кататься в лодке по реке Москве вечером; кругом никого не было, и уж почти совсем стемнело, так что в случае беды и помощи подать было бы некому, а она как примется с ним в лодке резвиться…
– Да как же она с ним резвилась? – с торопливым беспокойством спросил Петр, и лицо его вспыхнуло гневной краской.
– Ну, уж я этого не знаю, – улыбнулся Долгоруков.
– А скажи мне, Иванушка, по душе, нараспашку: что, она его любит?
– Кто ж это знает? – улыбнулся опять Долгоруков.
– Ну, а обо мне что она говорит?
– Сам я насчет этого ничего не слыхал, а стороной рассказывают, будто бы она ваше величество очень любит, но только считает еще малюткой, которого забавлять следует. В особенности же посмеивается над тем, что рано, мол, вы за женским полом приволакиваться стали, что вы хотя и царствующий государь, но на любовь вашу ни одна девушка вам не ответит: больно еще вы молоды.
– А как ты, Иванушка, думаешь об этом?
– Думаю, что, глядя на такого молодца, как вы, у каждой девушки забьется сердечко.
Петр самодовольно улыбнулся и приосанился.
– Я, впрочем, уж и знаю такую, – начал было Долгоруков, но, как будто спохватившись, что сказал это опрометчиво, замолчал. – А сегодня, ваше величество, денек хороший выдался… – повернул он разговор в другую сторону.
– Не о деньке теперь речь, а о том, кто эта девушка? Коли что сболтнул, хотя бы нехотя, все-таки договаривай.
– Не решаюсь сказать…
– Уж не сестра ли твоя Катенька?.. А ведь она девушка хоть куда! Угадал я?
Долгоруков молчал.
– Она? Я приказываю тебе говорить! – повелительно крикнул император.
– Простите ее дерзновение, ваше величество, – низко кланяясь, пробормотал Долгоруков.
– Какое же тут дерзновение? Вот сказал бы, что я ей не нравлюсь, что я ей противен, так это точно было бы «неистовое слово», – рассмеялся Петр.
– Сорвалось у меня о ней первое слово так себе, невзначай, а теперь, пожалуй, я и рад тому. Она спит и бредит вашим величеством и жалеет только, что вы государь самодержавный, а не какой-нибудь знатный боярский сын, который был бы ей ровня.
– Как будто боярская дочь, да еще княжна Долгорукова, мне не ровня? Да родная моя бабушка, Евдокия Федоровна, была из боярского рода, прабабушка Наталья Кирилловна, да и прапрабабка Стрешнева – тоже. И разве первый царь из нашего рода не был женат на Долгоруковой…
– Все это так, но теперь требуется вам в супруги какая-нибудь немецкая принцесса…
– Это все Остерман толкует; говорит, что такую невесту мне нужно из-за каких-то, как он их называет, «конъюнктур». Очень мне нужны его конъюнктуры! Я женюсь на той девушке, которая мне полюбится, а не на той, которую станут мне навязывать. Я это уже и доказал Данилычу. Никто мне поперечить ни в чем не смеет!.. На той неделе я побываю у вас в Горенках, а ты за это, дружище, привези ко мне на следующую охоту свою сестренку.
– Она у нас такая робкая, такая нелюдимка, ваше величество.
– Да чего же ей у меня бояться? Никто ее обидеть у меня не посмеет. Кажется, будет у нее хороший защитник, – самодовольно добавил Петр.
В это время вошел, после доклада дежурным камер-юнкером, вице-адмирал Степан Васильевич Лопухин. По его виду тотчас же можно было догадаться, что этот далеко не старый человек пожил на своем веку порядком. Изнуренный подагрою, он еле волочил ослабевшие ноги.
– Как поживаешь, дядя? – спросил Петр Лопухина, слегка обнимая его рукою, в то время как тот спешил поцеловать ее.
– Ох, плохо, плохо, ваше величество! Старые грешки отзываются, подагра одолевает, с трудом ноги волочу, – уныло жаловался Лопухин.
– Да ты смотри, Василий Степанович, не надоумили ли тебя Остерман и Наташа говорить мне это в поучение? А чего доброго и бабушка тоже? – полушутя-полусердито заметил государь. – Пожалуй, ты заодно с ними. Что, в самом деле, им до меня за дело! Поживу, сколько Бог даст, но зато в свою волю.
– Государыня-бабушка точно что печется о здравии вашего величества и сильно скорбит о том, что вы столь редко изволите посещать ее…
– Скажу тебе, дядя, по правде, что мне с ней куда как скучно. Глядит она как-то сумрачно, исподлобья и все охает да печалуется.
– Натерпелась она много горя, ваше величество, куда как много натерпелась. Вам это обстоятельство известно.
– Теперь уже не то, так из чего же мне слушать ее хныканья? У меня и так сжимается сердце, когда я вспоминаю о погибели моего отца.
И Петр быстро махнул перед лбом рукою, как будто отгоняя от себя тяжелые мысли.
Долгоруковы своевременно постарались устранить влияние бабушки и с этою целью выставили старуху царицу в самом неприглядном виде перед ее внуком. Подстрекая в нем любопытство и вместе с тем вызывая с его стороны настойчивые требования, чтобы ему все было рассказано без утайки, они как будто нехотя проговаривались об ее кознях против его деда и об ее отношениях к Глебову* и успели внушить отроку какую-то боязнь к бабке, которую он считал черною женщиною не только по одежде, но и по душе. Он старался как можно реже видеться с нею и не заводить с ней никаких разговоров о прошедшем, тогда как она при каждом с ним свидании начинала речь о своем тридцатилетнем заточении, хотя, по ее словам, она не была ни в чем виновна перед своим грозным и несправедливым супругом.
– Затем оставайся здоров, дядя Василий Степанович, – сказал, небрежно кивнув головой, император. – Некогда мне теперь, пришел час браться за указку; как увидишь бабушку, так скажи, что я при тебе пошел учиться оптике и механике. Понимаешь?
И Петр весело засмеялся.
XXXVII
Близились октябрьские сумерки, когда к Москве подъезжал император Петр со своею многочисленной охотой, в которой считалось до шестисот гончих собак. Соразмерно с таким громадным числом псов было, разумеется, и число охотников. Значительная часть их принадлежала к числу простых псарей и доезжачих, но немало также было и более или менее родовитых московских бояр и сыновей боярских. Представители этого боярства страстно любили охоту и считали ее самым подходящим развлечением для лиц боярской породы. Давно уже не было таких великолепных потех под Москвою, какие начались теперь снова. Петр I не любил вовсе этой забавы. Теперь наступили иные времена, и около императора только и слышались толки о собаках и рассказы о разных приключениях и случайностях, бывавших на охоте. Обыкновенно Петр возвращался с удачной охоты очень довольным, но на этот раз, несмотря на то что немало русаков было приторочено к седлам охотников, он был что-то очень сумрачен. Еще в продолжение охоты было заметно, что он тревожно следил за кем-то и не раз, останавливая на всем скаку своего коня, затягивал повод и то оглядывался по сторонам, то поворачивался лицом назад.
Начавшаяся еще во время охоты метель разыгрывалась все сильнее; клубы снега поднимались с земли, как пыль, а слегка порошивший снежок падал все гуще и вместе с сумерками застилал не только даль, но и предметы, бывшие на небольшом расстоянии.
– А где Лиза? – тревожно оглядываясь и сдерживая коня, спросил император ехавшего несколько позади него князя Ивана Долгорукова.
Князь насмешливо улыбнулся; Петр нахмурился еще более.
– Должно быть, цесаревна поотстала. Верно, не слишком прыткого коня дали ей на сегодняшнюю охоту, а то ее высочество обыкновенно скачет впереди всех.
– Как не прыткого коня? Да я сколько раз сегодня видел, как она заскакивала вперед, – перебил раздраженно Петр Алексеевич.
– А вот куда делся Александр Бутурлин? Я его что-то тоже не вижу. Что он, поотстал или ускакал вперед? Бутурлин! Бутурлин! Александр Борисович, где ты? – как будто не обращая внимания на слова государя, приподнимаясь на стременах и вертясь во все стороны, звал князь Иван.
– Бутурлин! Бутурлин!.. Ау!.. – слышалось в толпе охотников, следовавших за императором, но на этот клик, громко повторившийся в оголившемся от листьев соседнем лесу, не было никакого отклика.
– И его что-то нет, – пожав плечами, как будто про себя проговорил Долгоруков.
На лице императора появилось выражение досады. Сильно взмахнув арапником, он помчался вперед во весь опор, и удары копыт его коня явственно выделялись среди общего конского топота, сливавшегося в один общий гул.
Император ускакал уже довольно далеко, когда по одной стороне охотников, ехавших плотною гурьбою, мелькнула как стрела промчавшаяся вперед наездница. Она сидела в седле по-мужски. Бархатный вишневого цвета кафтанчик плотно охватывал ее стройный стан, а из-под собольей шапочки ветер развевал пряди русых кудрей.
– Постой, постой, Петруша! – кричала она звонким, но прерывавшимся от быстрой скачки голосом. – Постой, я к тебе еду!
Но император, заслышавший, казалось, по ветру голос наездницы, не только не сдержал своего коня, но, напротив, погнал его еще быстрее.
– Ну, как хочешь! – равнодушно проговорила Елизавета. – Обойдусь я без тебя.
Она остановила своего коня и принялась вытирать платком смоченные снегом щеки, горевшие от быстрой езды ярким румянцем, и затем медленно подъехала к охоте. Между бывшими здесь наездницами по своей красоте и по своему богатому наряду выдавалась одна девушка, к которой князь Иван относился чрезвычайно дружески и которую он называл просто Катей.
При въезде в Москву личный состав охоты заметно уменьшился; псари со сворами собак взяли в сторону на охотничий двор, и вскоре по улицам Немецкой слободы послышался веселый лай псов, возвращавшихся домой. Лица же, удостоившиеся быть приглашенными на охоту, отправились в Слободский дворец. Среди них шел оживленный говор, очень часто прерываемый веселым смехом, и только одна Елизавета, ехавшая от всех в стороне, не принимала, против обыкновения, никакого участия в этой общей веселости. Теперь в числе возвращавшихся с охоты гостей оказался и красавец Бутурлин, приотставший в то время, когда его спохватился Иван Долгоруков.
В Слободском дворце был заготовлен роскошный и обильный охотничий пир. Столовые палаты были ярко освещены множеством восковых свечей, а на столах блистала золотая и серебряная посуда. Император-отрок явился здесь величавым хозяином, и каждый и каждая из приглашенных за царскую трапезу старались удостоиться его ласкового слова или хоть милостивого взгляда.
Все почтительно стояли около стола, ожидая приглашения государя. Ближе всех находилась к нему Елизавета, занимавшая обыкновенно во время пирушек первое подле него место, как по родственным своим отношениям к государю, так и по тому особому расположению, какое он с некоторого времени постоянно ей оказывал.
– Князь Иван! – громко крикнул государь. – Садись подле меня слева, а сестрица твоя пусть сядет справа, а ты, Лизавета Петровна, уступи ей свое место. Она у меня в гостях еще в первый раз, – добавил император, почти не обращая внимания на свою красавицу тетку, вспыхнувшую от гнева.
– Я не посмею сесть на место ее высочества, – робко проговорила княжна Екатерина, кланяясь в то же время в пояс цесаревне.
Император хотел что-то сказать, но Елизавета поняла, что лучше всего предупредить вторичное приглашение Петра и показаться совершенно равнодушной.
– Если ты не сядешь на мое место, так я тебя силой посажу, – притворно-веселым голосом проговорила Елизавета и, взяв княжну за плечо, усадила ее в кресло возле императора. – Садись, княжна Катерина; мне уж больно надоело сидеть на этом месте, а для тебя это будет новинка. Я помещусь вот здесь, – добавила она, усаживаясь подальше от племянника.
Император быстро обвел глазами залу и, увидев Бутурлина, остановил на нем свой не то гневный, не то насмешливый взгляд.
– А ты, Александр Борисович, садись возле тетки. Вот теперь всем будет ладно, – сказал он.
Почти все, а в особенности князь Иван, поняли, что такое приглашение было явной насмешкой.
Прочие гости расселись, кто куда попал, и, проголодавшись порядком на охоте, усердно принялись за еду, а кто и за выпивку. Первое время, – как это всегда бывает за многолюдными обедами и ужинами, – все молчали, потом начали шептаться с соседями, далее перекидываться словами с сидевшими поодаль, и наконец поднялся общий говор. Заметно было, что ужинавшие настолько уже попривыкли к императору, что не стеснялись его присутствием, да и сам он допускал в этих случаях полную свободу.
– Что ты, Александр Борисович, поотстал сегодня от нас на охоте? – спросил Иван Долгоруков Бутурлина. – Или конь плохой был у тебя?
– Беда со мной случилась, – равнодушно отозвался Бутурлин, – подпруга ослабела; седло стало съезжать набок, так я должен был соскочить с лошади, чтобы подтянуть подпругу.
– Вот что! А я думал, не приключилось ли с тобой чего иного: не свалился ли ты с коня; это часто бывает, когда кто садится на чужого, – усмехнулся Долгоруков.
– Это правда, – подхватил Петр, очень довольный насмешкой своего друга.
– Ну, Петруша, – колко заметила Елизавета, – Александр Борисович не какой-нибудь слабенький подросток и на коне удержаться сумеет.
Петр понял намек и, раскрасневшись, опустил глаза в тарелку.
– Хочется мне, Петруша, сегодня от души выпить за твое здоровье; впрочем, я и всегда так пью, – продолжала веселым голосом Елизавета. – Ты знаешь, как я тебя люблю, да ведь и ты меня, – добавила она нежным, чарующим голосом, – и поцеловаться тетке с племянником на людях не стыдно. Поцелуемся же!..
Говоря это, она взяла кубок с венгерским, подошла сзади к Петру и обняла его за шею, опершись роскошною грудью на его плечо.
– За твое здоровье, Петруша, – проговорила она, наклонившись, чтобы поцеловать императора, и в эту минуту пряди ее локонов скользнули по лицу мальчика.
В сильном волнении он вскочил с места, обнял Елизавету и крепко-крепко расцеловал ее. Князь Иван сильно насупился.
– Вот ведь ты, тетя, какая добрая и рассудительная, а я думал, что ты на меня гневаешься за то, что я княжне Катерине Алексеевне такой почет оказал, – с детским простодушием проговорил император, возбужденный теми ласками, которые оказала ему красавица тетка.
– Вот еще выдумал! – развязно перебила Елизавета. – Стану я обижаться теми глупостями, какие взбредут на ум такому мальчугану! За это и вихор можно надрать. Не забывай, что я тебе тетка, – шутливо пригрозила она ему своим белым тоненьким пальчиком.
Четырнадцатилетний юноша растерялся вконец. В словах Елизаветы слышались и ласка, и злая насмешка. В голове Петра, затронутой уже крепким венгерским, перемешались и любовь, и ревность, и чувство сильного оскорбления. Быстро промелькнули в его мыслях и внушения сестры его, так часто напоминавшей ему, что он император и должен охранять достоинство того высокого сана, в который облек его Господь Бог. Он не нашелся, однако, ничего сказать и молча, как бы чувствуя свое принижение, уселся на прежнее место.
«Хорошо, что это случилось, – подумал князь Иван, – в свое время можно будет воспользоваться этим случаем, чтобы окончательно рассорить его с Елизаветой».
XXXVIII
В болезненном забытьи сидела в своей комнате в Слободском дворце на канапе Наталья Алексеевна, протянув на нем ноги и кутаясь в теплую душегрейку, когда вошел к ней брат.
– Ну что, Наташа, как тебе сегодня? Лучше? – с участием спросил он, ласково поцеловав ее в голову.
– Не беспокойся обо мне, голубчик, болезнь моя пройдет; болезнь пустая – мучит меня лихоманка. Садись рядышком со мною.
Он сел возле нее, а она положила голову на его плечо.
– А у меня, Петруша, есть к тебе моя обычная просьба: побереги себя. Посмотри, как ты похудел и побледнел. Страшно мне за тебя становится! – И на глазах ее навернулись слезы.
Петр недовольно крякнул, но не сказал ничего, хотя и подумал: «Уж как мне надоели эти наставления!»
– Я не надолго зашел к тебе, сестрица. Хочу сегодня присутствовать в Верховном тайном совете.
– Ты мне всегда так говоришь, чтобы меня утешить, а сам в заседаниях никогда не бываешь, – кротко проговорила Наталья Алексеевна.
Петр сделал порывистое движение. Он хотел сказать что-то резкое, но, взглянув на кроткое лицо своей сестры, изнуренное болезнью, почувствовал к ней сильное сожаление.
«Чего доброго, ей, моей голубушке, и жить-то остается недолго», – подумал он и со слезами на глазах начал целовать ее руки.
– Буду, буду тебя слушаться, сестричка. Знаю я, что только полезное для меня ты советуешь, – сказал он.
Тем не менее он быстро встал с места и, наскоро простившись с нею, поспешил не в заседание Верховного совета, а к ожидавшей его веселой компании.
Наталья залилась горькими слезами.
«Пропащий он будет человек. Добрый он мальчик, но нет у него собственной воли, а Долгоруковы, пользуясь его слабостию, увлекают его в разные потехи и расслабляют и его ум, и его здоровье».
Она долго плакала, и это с нею случалось не редко. Изнурительная лихорадка, подорвавшая ее крепкое в прежнее время здоровье, стала переходить в скоротечную чахотку. Теперь нельзя было узнать прежней молодой девушки, от которой когда-то веяло силой и здоровьем. На впалых щеках являлись, вместо румянца, багровые пятна, глаза потеряли прежний блеск, нос заострился, и на губах мелькала теперь уже не прежняя кроткая, а страдальческая улыбка. Сухой, отрывистый кашель не давал ей покою ни днем ни ночью, и можно было с уверенностью сказать, что она не долголетняя жилица на земле.
В то время, когда в том же дворце, в покоях ее брата шли веселые пирушки, она томилась и тоскою, и болезнью в своем унылом одиночестве.
22 ноября 1728 года, поздним вечером, в то время, когда Петр веселился с близкими своими приятелями, ему прибежали сказать, что великая княжна кончается.
Он побледнел, вскочил с места и остановился посреди комнаты, как будто не зная, что ему теперь делать, а потом, опомнившись, опрометью кинулся в комнату Натальи.
На постели, разметавшись, лежала молодая девушка. С головы ее, закинутой на подушке, рассыпались светло-русые локоны, а полуоткрытым ртом она с трудом переводила дыхание, и от напряжения грудь ее высоко поднималась. Видно было, что она не могла уже дышать и не в силах была сделать какое-нибудь движение.
С громким рыданием Петр упал на колени у постели сестры и целовал ее безжизненные уже руки. Быстро промелькнуло в голове его их общее детство, отчетливо вспомнились ему нежные заботы, дружеские советы и те постоянные ласки, какие оказывала ему когда-то бесценная Наташа. Вспомнились ему и те огорчения, какие он делал ей. Он понял теперь всю цену понесенной им невозвратимой потери. Когда кончина великой княжны сделалась несомненной, он метался около постели покойницы в отчаянии, доходившем до безумия.
– Я ни за что не останусь в Москве, я велю дотла сжечь этот дворец! Я не хочу, чтобы что-нибудь напоминало о моей дорогой Наташе! – кричал в исступлении Петр, заливаясь слезами, и никакие утешения не могли остановить его рыданий.
Не один, впрочем, Петр оплакивал кончину своей так горячо любимой сестры. Плакали все, кто знал ее, а испанский посол герцог де Лирия, получивши известие об ее кончине, писал в Мадрид о безвременно почившей девушке, что «она была драгоценнейший перл России».
Прошли первые дни душевного потрясения и самой жгучей скорби, но Петр продолжал тосковать о сестре. Он долго не решался хоронить ее, как будто жалея навсегда расстаться с дорогим ему существом, и прах великой княжны опустили в могилу только в конце января следующего года.
«Вам, ваше величество, – говорили ему Долгоруковы, – следовало бы оставить Москву хоть на время. Переезжайте в Измайлово, там ничто не будет напоминать вам вашу страшную потерю».
Петр послушался этих внушений, согласных с первым его сердечным порывом. Слободский дворец был покинут; он опустел и казался каким-то зловещим, заклятым домовищем.
В оживившемся с пребыванием государя Измайлове стало мало-помалу стихать горе, так ужасно на первых порах поразившее царя-отрока. Начавшаяся там исподволь сперва веселая, а потом и разгульная жизнь стала отвлекать Петра от томившей его тоски. Все реже и все слабее являлась в его памяти Наташа, и вскоре он совсем забыл своего самого преданного, а быть может, и единственного друга…
Все хлопоты княгини Аграфены Петровны пропали напрасно. Она не достигла своей цели – быть господствующею, хотя бы и посредственно, личностью в государстве. Смерть великой княжны положила конец ее придворным исканиям. Призатих на время и ее братец, выжидая в Копенгагене того вожделенного времени, когда он будет властвовать, и надежды его не обманули: при императрице Елизавете он сделался всемогущим человеком.
Без участия Волконской и ее брата сплели верховники уже не придворное кружево, а государственные сети, в которых, однако, они запутались сами на свою погибель. Спустя с лишком десять лет после этого русские боярыни принялись снова плести придворное кружево, но оно вышло у них непрочно, как паутина, и дорого обошлось оно им, потому что было забрызгано их собственною кровью…
ТЕРЕМИТРОН (Евгений Карнович и его исторические романы)
Россия. Конец XX века… Странное, зыбкое время, и странен, невнятен наш мир. Ушел в небытие порядок вещей, определявший жизнь нескольких поколений. В умах воцарилась растерянность, и в поисках опоры мы обращаемся к единственному, что представляется неизменным, что не в силах изменить ни злая воля, ни людское безумие – к нашему прошлому. Растет в цене историческое знание, из забвения, из тайников общественной памяти извлекаются имена и события, о которых не желало знать оптимистически дремучее невежество людей, озабоченных строительством «светлого будущего».
Увы, давно известно, что прошлое ничему не учит, что невозможно усвоить его уроки, но из века в век не оставляет человечество надежда обрести смысл своего существования, понять свою историю. Ныне, в смятении перед новым и небывалым, современники примеряют свою эпоху то к Смуте с ее самозванцами и бродящими по стране «воровскими шайками», то к пленительному XVIII веку, когда, по счастливому выражению историка Соловьева, мир дивился «новорожденной загадочной империи».
Растеряв традиции, утратив память о прошлом, мы поневоле с благодарностью вспоминаем имена тех, кто стоял у истоков исторического просвещения в России, кому русское общество навеки обязано сохранением своего духовного наследства. Перебирая великие и малые имена, отдавая дань литературным и политическим пристрастиям, мы неизбежно приходим к фигуре Евгения Петровича Карновича, русского писателя XIX века, сейчас почти забытого, отодвинутого в тень его великими современниками, но оставившего непреходящий след в истории русской литературы. Писателя, чья слава впереди.
Евгений Петрович Карнович родился 28 октября 1824 года в селе Лупандине близ Ярославля. Сын богатого помещика, он рос в уютной атмосфере родового гнезда, его первые впечатления – волжские просторы, неторопливая усадебная жизнь с ее годовым, самой природой и дедовскими обычаями установленным круговоротом. Затем – домашние учителя, которым юноша был обязан отменной гуманитарной подготовкой, знанием основных европейских языков, равно как латыни и древнегреческого, воспитанным вкусом к чтению и склонностью к изящной литературе. Судьбе было угодно, чтобы нравственное и интеллектуальное становление будущего писателя совпало с исторически кратким, неповторимым и прекрасным временем высочайшего духовного взлета дворянской усадебной культуры, временем, исподволь подготовленным петровскими преобразованиями, манифестом «О вольности дворянства» и екатерининской заботой о воспитании «новой породы людей». Литературная деятельность Евгения Карновича пришлась на иные, пореформенные, годы, когда померкло очарование дворянских гнезд, началось оскудение дворянства и жизнь словно готовилась к безвозвратному уходу из старых усадеб. На скрещении старого и нового, на очередном переломе русской истории жил и творил писатель, главным содержанием творчества которого стало прошлое России.
Карловичи – хороший дворянский род. Евгений Петрович в зрелые годы много занимался дворянским родословием и выводил своих предков из средневековой Чехии. Более достоверно, что некий Антон Васильевич Карнович занимал в XVII веке место войскового товарища в малороссийском казачьем войске. Наибольшую известность получил Степан Ефимович Карнович, бригадир и любимец Петра III. При воцарении император произвел его в генерал-майоры голштинской службы и пожаловал в графы герцогства Шлезвиг-Голштинского. «Достославная революция» 28 июня 1762 года, которая привела к власти Екатерину II, а ее незадачливого супруга лишила короны и жизни, навсегда оборвала карьеру генерал-майора Карновича. Ни он, ни его потомки не пользовались графским титулом.
Одаренным человеком был внук Степана Ефимовича, Ефим Степанович Карнович, богатый ярославский помещик. Он слыл передовым сельским хозяином, пропагандировал огородничество и травосеяние, одним из первых в России начал сеять в своем имении Гора-Пятницкая клевер и занялся полевым разведением картофеля. В льноводстве он достиг таких успехов, что был высочайше награжден бриллиантовым перстнем. Его хозяйство считалось образцовым, и немецкий путешественник барон Гакстгаузен, прославившийся исследованием николаевской России, уделил ему много внимания. Среди начинаний Е.С.Карновича было и основание Ярославского общества сельского хозяйства. Будущему писателю он приходился дядей, но было бы ошибкой сказать, что «судьба Евгения хранила».
Отец Евгения Карновича вел хозяйство нерасчетливо. После его смерти дела оказались настолько расстроенными, что молодой Карнович должен был заботиться о средствах к жизни. По невнятному семейному преданию, он отказался от всякой помощи богатого дядюшки. В 1844 году, окончив Петербургский педагогический институт, Евгений Карнович поехал в Калугу, где стал учителем греческого языка в гимназии. В те годы провинциальная Калуга была одним из центров духовной жизни России, в местном обществе царила прославленная Смирнова-Россет, воспетая Жуковским и Пушкиным, Хомяковым и Лермонтовым. Из писем к ней, «калужской губернаторше», составились знаменитые «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя. Губернская жизнь небогата впечатлениями, и образованные люди невольно тяготеют к взаимному общению, однако молодой учитель гимназии умел остаться незамеченным. Он жил скромно, много занимался литературной работой. В 1845 году в петербургских журналах были напечатаны его переводы комедий Аристофана «Облака» и «Лизистрата». В 1849 году Карнович был переведен на службу в Виленский учебный округ, где провел следующие десять лет. В занятиях словесностью наступил долгий перерыв, но время не было потрачено впустую. Карнович выучил польский язык, узнал и полюбил историю Польши и ее героев. В 1859 году он женился, вышел в отставку по домашним обстоятельствам и переехал в Петербург, где прожил до конца своих дней. Отныне главным делом для него стала литература.
Карнович работал быстро и много, был трудолюбив, обладал обширными знаниями и начитанностью, что заметно выделяло его среди большинства российских литераторов. В короткое время он стал желанным сотрудником многих периодических изданий. Круг его интересов определился не сразу: он выступал как публицист и критик, писал статьи по статистическим и юридическим вопросам, составлял исторические очерки, пробовал силы как беллетрист.
Еще в 1857 году он начал помещать в «Санкт-Петербургских ведомостях» очерки и рассказы из старинного быта Польши. Читатели их заметили и оценили, и вскоре они стали печататься «Библиотекой для чтения» и некрасовским «Современником». Позднее Карнович составил из этих очерков одну из лучших своих книг, на страницах которой наряду с шальными польскими магнатами, очаровательными грешницами, последним польским королем Станиславом Понятовским и героическим Тадеушом Костюшко действует персонаж будущего романа «Самозваные дети» Карл Радзивилл, незабываемый «пане-коханку». Любопытна характеристика, которую Карнович дает в «Очерках и рассказах из старинного быта Польши» человеку, судьба которого долгие годы занимала писателя: «Он любил шутить с другими, но не оскорблялся, если и с ним поступали так же. Стараясь не отличаться в образе жизни от убогой шляхты, Радзивилл сам очень часто чистил в несвижской конюшне своих лошадей; седлал и запрягал их; славно пил, много ел, не любил карт и сек без милосердия всех евреев, которые продавали их. Он не делал ни шагу без огнива, нескольких карманных часов, шнипера для пускания крови, табакерки, четок, печатки, запонки, кошелька для денег, пустого мешочка, зажигательного стекла, складного ножа и сабли. Он чрезвычайно боялся чертей и привидений и, лежа в постели, крестился беспрестанно». Согласитесь, нарисована колоритная фигура!
В 1862 году Карнович стал издавать журнал «Мировой посредник», который был задуман как важное подспорье в проведении крестьянской реформы. Принципиально не принимая «умозрительных и миросозерцательных теорий», отвергая модные тогда идеи «общинного социализма», издатель стремился помочь «помещичье-крестьянскому делу», будучи уверен, что только в равновесии между хозяйственными интересами помещиков и крестьян, во взаимном сближении этих сословий, в создании предпосылок их гражданской равноправности можно найти «ручательство за наше общественное благоустройство». «Мировой посредник» был в высшей степени полезным изданием, он действительно сближал, а не разделял деятелей по крестьянскому вопросу, и Карнович по праву занял видное место в русской общественной жизни. Тяготение писателя к общественной деятельности не было ни вынужденным, ни поддельным, он в полном смысле слова был общественным человеком. Любопытно простое перечисление обществ, деятельным членом которых он состоял: Императорское географическое, Петербургский статистический комитет, для пособия нуждающимся литераторам и ученым, для распространения просвещения между евреями, для пособия бедным женщинам, Тюремный комитет. За исполнение почетной должности директора Тюремного комитета Карнович был в конце жизни произведен в действительные статские советники.
Умер Евгений Петрович Карнович 25 октября 1885 года. Литературное подвижничество не принесло ему богатства, и он был похоронен на средства Общества для пособия нуждающимся литераторам.
Современники знали Карновича прежде всего как видного публициста. Он долгие годы был постоянным сотрудником петербургской газеты «Голос», где помещал передовые статьи по внутренним вопросам. Газета занимала исключительное положение в русской журналистике, ратовала за «деятельную реформу», предостерегала против «скачков и бесполезной ломки».
Для общественных настроений Карновича характерно постоянное сетование на слабое распространение юридических знаний в русском обществе (эта мысль получила развитие в публицистике начала XX века), он высказывался за разумное сочетание административной централизации с местной самостоятельностью, был противником тех, кого он в печати называл «нетерпеливцами» и кто в действительности исповедовал революционную программу.
Публицистом Карнович был не только влиятельным и проницательным, но и подчас весьма своеобразным. Руководствуясь семейными преданиями, он сожалел, что не было «отдано должной справедливости Петру III за его либеральные и гуманные стремления». Петр III – либерал и гуманист! Казалось бы, очевидный парадокс, но Карнович напоминал читателям, что именно этот император манифестом «О вольности дворянства» начал раскрепощение сословий, уничтожил Тайную канцелярию и приказал «сыщикам главным и всяким другим – не быть». Ясно, что при таком подходе писателя к короткому царствованию Петра III он должен был недолюбливать Екатерину II. Такой взгляд, надо признать, необычен для автора, много писавшего о русской истории, но отражает своеобразие исторического мышления Карновича. Мягкий и терпимый человек, он был подлинным гуманистом и, к примеру, осуждал политику московских князей и царей, «чересчур любивших» умаление человека.
Сумев сказать свое слово в богатой именами русской публицистике, твердо отстаивая либеральные ценности, Карнович, однако, не придавал этой стороне своей деятельности самодовлеющего значения. По складу ума и характера, по свойствам таланта, по влечению сердца он был прежде всего историческим романистом. Он стремился не наставлять и поучать, а просвещать и развлекать. Когда-то, желая привлечь внимание читателей к полузабытой книге, он написал: «О политике в этой книжке нет ни полслова. Быть может, это самое обстоятельство и есть одна из главных причин, почему упомянутая книжка читается легко и приятно». С полным правом этот отзыв можно отнести к тому, что составляет сердцевину творческого наследия Евгения Петровича Карновича – к его историческим романам.
Войдя в литературу очерками старинного польского быта, Карнович не спеша, с большим уважением подходил к тому, что сам называл тайнами русской истории. Его влек XVIII век, век сильных страстей, незаурядных личностей, дворцовых интриг, внезапных возвышений и трагических падений. Век, который принес славу его предкам. Век, который составил славу России.
Во времена Карновича русская историческая наука находилась на подъеме: блистали имена Соловьева, Костомарова, Бестужева-Рюмина… Читатели серьезных исторических сочинений открывали для себя неведомый мир. Но их, читателей, было немного, язык ученых трудов был сух, изложение педантично и требовало напряженной работы ума. Большая часть публики предпочитала оставаться в неведении. Да и сами ученые-историки не стремились к занимательности. Соловьев с гордостью отметал всякие свидетельства о временщиках, фаворитах и «случайных людях»: «Несогласно с характером нашего сочинения упоминать о делах и людях темных, не имевших влияния на ход исторических событий».
Карнович судил иначе. Год за годом он помещал в журналах статьи и небольшие исследования о Бироне и принце Морице Саксонском, об авантюристе Калиостро и другом авантюристе – шевалье д'Эоне, который с одинаковым искусством носил как мужское, так и женское платье, о леди Кингстон и архимандрите Фотии. Исторические разыскания Карновича охотно печатали «Русская старина», «Исторический вестник», «Русская мысль», «Отечественные записки», «Древняя и новая Россия», «Неделя», «Новь». Со временем он смог составить интереснейшие книги – «Исторические рассказы и бытовые очерки» и «Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий». До настоящего момента не утратило своего значения экономико-историческое исследование «Замечательные богатства частных лиц в России», где ценные исторические сведения поданы в формы легкой и занимательной.
К середине 1870-х годов Карнович стал известным историком-популяризатором, признанным знатоком XVIII века. Работал писатель с подлинным увлечением, в поисках редких изданий много путешествовал по Европе, искал и находил доступ к фамильным архивам (в частности, он установил добрые отношения с австрийской ветвью рода Разумовских), следил за новинками исторической литературы, сумел получить доступ к секретным документам русского двора. В высших сферах доверяли Карновичу, его такту, умению обойти щекотливые моменты. В воспроизведении деталей он не знал себе равных, будь то убранство царского двора, туалет коронованной особы или просто описание детского костюма: «На мальчике были надеты: суконный коричневый кафтанчик, французского покроя, с полированными стальными пуговицами; такого же цвета короткое исподнее платье, белый казимировый камзол и кожаные черные башмаки, с высокими каблуками и большими стальными пряжками».
В 1878 году Карнович завершил свой первый роман – «Мальтийские рыцари в России». В художественном произведении он сохранил стремление оставаться верным истории, соблюдать точность в описании внешней обстановки, держаться фактов, не допуская вымыслов и прикрас. Он писал, опираясь на исторические документы, дневники и записки частных лиц. Среди героев романа император Павел, митрополит Сестренцевич, Кутайсов, Пален, иезуит Грубер. Даже любовная линия, составляющая основное содержание романа, восходит к подлинным событиям – взаимоотношениям графа Литты и прекрасной Скавронской.
Карнович не доверял интуиции и пренебрегал художественным вымыслом, что выделяло его (и продолжает выделять) среди исторических романистов. Разумеется, подобная манера письма ставит перед автором дополнительные сложности, ибо нелегко сочетать стремительное развитие интриги с неспешным ходом истории, живость изложения – с протокольной верностью фактам. Писатель сознательно избрал такой путь и ни в одном из последующих романов не сошел с него. В России Карнович нашел благодарного читателя. Его исторические повести и романы пользовались устойчивым успехом, неоднократно переиздавались (особенно «Мальтийские рыцари»), а в начале XX века «Собрание сочинений Евгения Карновича», куда вошли его лучшие художественные произведения, служило наградой гимназистам за успехи в овладении науками.
Русская критика уделяла писателю значительно меньше внимания: из его произведений трудно было извлечь обличительную тенденцию, уникальность же и достоверность сообщаемых им фактов, их умелая композиция, незаурядное стилистическое мастерство ускользали от внимания. Определенную роль здесь сыграло и то обстоятельство, что вслед за Карновичем, историком-первооткрывателем, писателем-просветителем, к темам, которые он разрабатывал, обратились и другие исторические романисты. В блеске поддельных диалогов, в сплетении неправдоподобных интриг затерялись скупые и выверенные страницы исторической прозы Карновича. Новая эпоха, наступившая в России в XX веке, казалось, совсем заставила забыть об этом писателе. Его открывали для себя лишь немногие профессионалы пера, подчас бесцеремонно бравшие из его книг сюжеты и образы.
Обращаясь к событиям русской истории XVIII века, Карнович в короткое время, в последние семь-восемь лет своей жизни, создал впечатляющий цикл романов, где изобразил, как и кем, какой ценой и какими трудами строилась новая Россия, великая Российская империя. Историческая эпопея масштабна, она охватывает разные стороны русской жизни, но в центре внимания автора прежде всего высокая политика, борьба за власть, столкновение придворных партий и дворцовые интриги. Карнович – великолепный знаток тайной истории, мастер, умевший как заинтриговать читателя, поведав ему старинные секреты, так и в необходимых случаях набросить завесу скрытности, помня, что он рассказывает о событиях, прямо затрагивающих правящую в России династию. Хронология романов впечатляет: от правления царевны Софьи, от столкновения боярских партий Нарышкиных и Милославских автор доводит повествование до вызывающей жалость фигуры Павла I, безоглядно идущего навстречу собственной гибели.
Историческое повествование «На высоте и на доле», подзаголовок которого «Царевна Софья Алексеевна», предложенное вниманию читателей, дает картины жизни семьи царя Алексея Михайловича, бояр, духовенства, стрельцов и простого народа. Карнович сумел рассказать и о патриархе Никоне, и о недолгом царствовании высокопросвещенного Федора Алексеевича, и о восхождении Софьи к вершинам власти, и о ее политическом падении. Боярские заговоры, стрелецкие бунты, тайные убийства и жестокие казни – вся суровая реальность русской истории была воссоздана Карновичем.
«На высоте и на доле» – едва ли не лучший роман писателя. Интрига начинается с названия, немного загадочного для современного слуха, и развертывается легко и стремительно. Карнович умело держит читателя в напряжении, и даже со школьной скамьи зная исход борьбы Софьи и Петра, оживляя в памяти блистательный рассказ о том времени Алексея Толстого, втайне надеешься: вдруг фортуна не отвернется от царевны, она сохранит преданных сторонников и любовь Голицына. Образ Софьи Алексеевны, привлекательный и зловещий одновременно, призван выразить одну из заветных мыслей Карновича: женщина делает историю. Обреченная всем укладом старой русской жизни на затворничество в тереме, она – до петровских преобразований, до разгульных петровских ассамблей, где собирались «персоны обоего пола», – встала рядом с троном, именно к ней сходились нити управления. Так и видится ее фигура, стоящая за высокой спинкой двойного трона малолетних царей (уникальный экспонат Оружейной палаты). В дни царских приемов она нашептывала свою волю в небольшое окошечко, расположенное над головой младшего из сидевших на троне – брата Петра.
Царевна Софья Алексеевна – первая русская женщина нового времени. Именно она начала череду женских царствований XVIII века, женской борьбы за власть и влияние. Она первая, с открытым лицом, нарушая все каноны, вошла, как равная, в мир высокой политики, в мир мужчин. Не случайно она столь внимательно изучала примеры женского властолюбия, почерпнутые из римской и византийской истории, не случайно и Карнович так много пишет о том поистине небывалом перевороте, что совершила Софья в сознании старого русского общества.
Мужчина слаб, зависим, он игрушка в руках женщины, когда та находится у трона. Талантливый честолюбец Василий Голицын, вознесенный Софьей на небывалую высоту, ученый воитель Шакловитый, другие персонажи романа – все они повинуются правительнице и верны ей до той поры, пока власть не ускользает из ее рук.
Мотив «женщина и трон» звучит во всех романах Карновича, как бы выделяя его среди русских исторических писателей, для которых более характерен интерес к шпаге, а не к изящному женскому рукоделию. Яркий пример тому – роман «Придворное кружево», интрига которого вращается вокруг двух петербургских дам – Марфы Долгоруковой и Аграфены Волконской, своими замысловатыми поступками державшими в напряжении русский двор. Карнович детально воссоздает атмосферу беспощадной борьбы сильных людей петровского времени – и женщин, и мужчин, что началась со смертью великого императора.
Действие романа начинается в Петербурге 1726 года, и этот город по праву становится одним из главных действующих лиц всех последующих произведений Карновича. Автор проводит своих героев по улицам и площадям новой столицы, следит за ее ростом, удивляется ее великолепию, его писания точны и узнаваемы доныне.
Роман «Любовь и корона» также продолжает женскую тему. Карнович повествует о борьбе за власть правительницы Анны Леопольдовны, которая невольно стала послушным орудием в чуждых России руках, и цесаревны Елизаветы Петровны, поставленной перед выбором: трон или монастырь.
Обычное для автора искусное описание интерьеров и придворных туалетов, знание характеров, образа жизни и взаимоотношений персонажей, не вымышленных, но подлинных исторических лиц, хронологическая точность сочетаются в романе с тонким юмором, колоритным языком, позволяющим глубже войти в атмосферу придворного быта, ярким описанием душевных переживаний героев. Несомненной удачей автора стал образ правительницы Анны Леопольдовны, молодой женщины, созданной для мирной семейной жизни, которую дьявольскими дворцовыми интригами побуждают против ее воли к борьбе за власть и которая гибнет, не обретя ни радости любви, не упоения властью.
Гибель Анны Леопольдовны и приход к власти Елизаветы Петровны кажутся в романе игрой случая, но, с точки зрения Карновича, большие события слагаются из цепи малых, он верит в случай, в могущественную роль мелких происшествий и подробностей частной жизни. Любовь в его романах неотделима от политики, и глубоко закономерной представляется последняя фраза «Мальтийских рыцарей»: «Главным двигателем дел в России были несколько слов, случайно сказанных очаровательною женщиною влюбленному в нее до безумия мужчине».
Первым годам елизаветинского царствования посвящен роман «Пагуба», где продолжены некоторые сюжетные линии, намеченные в «Любви и короне». Снова столкновение европейских интересов, «русской» и «немецкой» партий, что в конечном счете вылилось в «дело Лопухиных», кровавый исход которого омрачил безмятежное правление Елизаветы Петровны. «Пагуба» – не лучшее произведение Карновича, оно не включалось в собрание его сочинений, но любопытно, что его герои возродились в популярном телесериале о молодых гардемаринах.
Еще один роман Карновича – «Самозваные дети» – произведение странное. Перед нами не роман, а как бы его фрагменты, рассказывающие о приключениях и печальной судьбе молодой девушки, которую считали дочерью императрицы Елизаветы Петровны и чаще всего называли княжной Таракановой. Карнович говорил, что «все отдельные эпизоды его сочинения согласуются с дошедшими до нас письменными источниками». Любопытно, что писатель имел возможность лично обратиться к жившей в Вене графине Разумовской, но оказалось, что в семействе Разумовских не сохранилось никаких письменных свидетельств и никаких особых преданий ни о браке императрицы Елизаветы Петровны с графом Алексеем Разумовским, ни о детях, будто бы рожденных от этого брака.
После долгого перерыва книги Карновича возвращаются к читателю. Изменились литературные вкусы, изменились представления о былых временах, и, пожалуй, произведения писателя могут показаться старомодными. Но не утратили значимости исторические факты, рассыпанные по страницам его книг, не кажется смешной любовь к России и к русской истории, и сильнее прежнего осознается глубинная связь с прошлым. Хочется надеяться, что возвращение Евгения Петровича Карновича – осознанная потребность нашего времени. Нелишне, обратившись к его книгам, понять, что непрост ход русской истории, что не было в ней «доброго старого времени» и даже галантный XVIII век был полон крови, интриг и предательств. Зная об этом, мы обязаны сохранять надежду и веру, ту надежду и ту веру, что некогда водили пером хорошего русского писателя Карновича.
Н.И.ЦИМБАЕВ
КОММЕНТАРИИ Придворное кружево
Роман был издан в 1884 г. в Петербурге, неоднократно переиздавался. Вошел в Собрание сочинений 1909 г.
С. 216. П л е т е н и е к р у ж е в со времен средневековья составляло любимое занятие знатных дам. Как в Европе, так и в России они нередко достигали вершин искусства. Существовало множество сборников узоров, особо ценились собственные оригинальные рисунки. В России плетение кружев – «женское замышление» – было в большом почете. Русское кружево имело совершенно самобытный, оригинальный характер как по богатству применяемого материала, так и видам работы.
К а н а п е (фр.) – небольшой мягкий диван с приподнятым изголовьем.
Г р о д е т у р о в ы й к а ф т а н ф р а н ц у з с к о г о п о к р о я – фрак из очень плотной шелковой ткани – гродетура (фр.).
П л ю м а ж (фр.) – опушка из перьев на шляпе; треуголки с плюмажем носили дипломаты и военные, последние вплоть до николаевского времени.
Ф о р е й т о р (нем.) – верховой в упряжи четверней или шестерней; в упряжи парой или тройкой форейтора не полагалось. Гайдуки стояли на запятках кареты; они должны были быть высокого роста, одевались в венгерскую, гусарскую или казачью одежду.
Г е р а л ь д и к а – историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов; в России начала развиваться при Алексее Михайловиче; в 1726 г. при Академии наук была образована кафедра геральдики.
Р а б у т и н Густав – граф, по словам С.М.Соловьева, «в то время занимал самое видное место в Петербурге между представителями европейских дворов»; был внуком печально известного французского писателя Рабютена-Бюсси (1618—1693), чья жизнь была разбита появлением его книги «Histoire amoreuse des Gaules» («Любовные истории галлов»), после которого он был посажен в Бастилию. Внук постарался отмежеваться от опального деда.
С. 217. К а р л VI (1685—1740) – император Священной Римской империи, австрийский государь с 1711 г.; значительно расширил владения Габсбургской монархии; покровительствовал царевичу Алексею Петровичу.
В а ш е й а в г у с т е й ш е й г о с у д а р ы н е – жене императора Карла VI, Елизавете-Христине, тетке Петра II.
С. 217. Г а б с б у р г с к и й д о м – династия Габсбургов существовала с конца XIII в. до 1918 г. Ее владения постоянно расширялись путем многочисленных войн и династических браков.
С. 219. Д о ч ь в и ц е-к а н ц л е р а б а р о н а П а в л а И в а н о в и ч а Ш а ф и р о в а – здесь случайная описка автора, который на протяжении всего романа так называет Петра Павловича Шафирова (вызвана, возможно, тем, что имя Шафирова в исторических документах или, к примеру, у С.М.Соловьева часто стоит рядом с именем генерал-прокурора Павла Ивановича Ягужинского). Отец Петра Павловича Шафирова, по словам обер-прокурора Сената Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева, был «жидовской природы» (этот момент не раз обыгрывается в романе) и «служил в доме боярина Богдана Хитрово, а по смерти его сидел в шелковом ряду в лавке, и о том многие московские жители помнят». Шафиров же утверждал, что его отец «еще при царе Федоре Алексеевиче в чин дворянский произведен», а «его величество Петр Великий сам отца моего знать и жаловать изволил». П.П.Шафиров (1669—1739) был крупным дипломатом, заключал множество выгодных для России международных договоров; при Петре I попал в опалу, сослан в Нижний Новгород, где получал на всю семью 33 копейки в день, возвращен Екатериной I и снова занялся дипломатической деятельностью.
К о к л ю ш к и – специальные палочки для плетения кружев с утолщением (кокой) на конце.
С. 220. Н ы н е ц а р с т в у ю щ а я г о с у д а р ы н я – Екатерина I Алексеевна (1684—1727), императрица всероссийская с 1725 г.; отличалась «замечательной женственностью и почти мужской отвагой»; ее фантасмагорическая судьба вызвала к жизни множество разноречивых суждений.
В е л и к и й к н я з ь П е т р А л е к с е е в и ч – Петр II (1715—1730), сын Алексея Петровича и принцессы Софьи-Шарлотты Вольфенбюттельской, внук Петра Великого; провозглашен императором после смерти Екатерины I.
С. 221. К н я г и н я А г р а ф е н а П е т р о в н а – дочь графа Петра Михайловича Бестужева-Рюмина, сестра знаменитых братьев: графа Михаила (1688—1760) – дипломат, министр-резидент, посол в Швеции, Польше, Пруссии и графа Алексея (1693—1766) – государственный деятель, дипломат, вице-канцлер, с 1744 г. – канцлер, по словам С.М.Соловьева, «самый даровитый и самый честолюбивый из всего семейства»; в замужестве Волконская, жена князя Никиты Федоровича, «была душою кружка, который сосредоточивался около двора великого князя Петра».
С. 222. Н а т а ш а Л о п у х и н а – Наталья Федоровна, жена князя Степана Васильевича, двоюродного брата царицы Евдокии, вице-адмирала и губернатора Астрахани, славилась выдающейся красотой, образованностью и любезностью, на балах затмевала Елизавету Петровну, что и положило начало вражды последней к Лопухиным.
С. 223. Л е в е н в о л ь д Карл Рейнгольд (1693—1758) – граф, обер-гофмаршал, фаворит Екатерины I, средний из братьев Левенвольдов. Старший, Карл Густав (ум. 1745) – граф, обер-шталмейстер при Анне Иоанновне. Младший, Фридрих Казимир – граф, камергер.
К н я ж н а В а р в а р а Ч е р к а с с к а я – дочь князя Алексея Михайловича Черкасского (1680—1742) (о нем подробнее см.: Карнович Е. Любовь и корона, М., 1993, с. 485), камер-фрейлина, считалась самой богатой невестой в России, была сосватана за старика князя Антиоха Кантемира, который отказался от женитьбы, и выдана за графа Петра Борисовича Шереметева с приданым в 70000 душ, что положило начало громадному «шереметевскому состоянию».
С. 224. К о д н о й и з д о ч е р е й и м п е р а т р и ц ы Е к а т е р и н ы – у Екатерины I было две дочери: Анна (1708—1728), жена Фридриха-Карла, герцога Голштейн-Готторпского, и Елизавета (1709—1761), будущая императрица.
С. 226. В е л и к а я к н я ж н а Н а т а л ь я А л е к с е е в н а – сестра Петра II, годом его старше, остроумная, любившая чтение, с самостоятельным характером; стояла на пути планов Долгоруковых; огорчения из-за брата пагубно сказались на ее впечатлительной натуре, а нездоровая обстановка в старинном дворце усугубляла болезненное состояние; один Остерман любил ее, но ничем не мог помочь.
Г о ф м е й с т е р и н а (нем.) – придворная дама, надзирающая за фрейлинами.
С. 232. М а р и я-Т е р е з и я (1717—1780) – дочь императора Карла VI; ее вступление на престол Габсбургской империи (1740) вызвало войну за Австрийское наследство; в 1745 г. императорский титул перешел к ее мужу, Францу I. В правление Марии-Терезии проводились прогрессивные буржуазные реформы, развивались просвещение и культура, общество готовилось к восприятию идей просвещенного абсолютизма.
К у р ф ю р с т (нем.) – титул владетельного князя в немецких землях, первоначально означавший, что его носитель имел право голоса при выборе императора Священной Римской империи.
С. 233. К е с а р ь (лат.) – император, в описываемое время – краткое наименование российского и австрийского императоров.
С. 235. П р а в а Бранденбург-Гогенцоллернского д о м а – бранденбургские земли были переданы Гогенцоллернам в 1402 г. Сигизмундом (сыном Карла IV, 1316—1373, императора Священной Римской империи), с чего и начинается история Прусского королевства.
С. 238. Э г е р и я – нимфа римской мифологии, иносказательно – добрая советница и хранительница.
С. 239. Л е н н о е п р а в о – в средневековой Европе – правовая норма владения землей мелкими дворянами на условиях военной службы сеньору.
С. 241. Л ю д о в и к XIV (1638—1715) – Бурбон, король Франции, галантный и «абсолютный без возражения» (Сен-Симон), устроил двор на зависть и удивление всем современным государям.
С. 243. М о н с Виллим Иванович (1688—1724) – брат Анны Монс, дочери золотых дел мастера (по другим данным, виноторговца) из Немецкой слободы в Москве, многолетней фаворитки Петра I. Управлял вотчинной канцелярией Екатерины I, считался ее близким другом и был казнен по видимости «за плутовство и противозаконные поступки».
К а м е р-ю н г ф е р а (нем.) – камеристка.
С. 244. Г р а н и т н а я к р е п о с т ь – Петропавловская крепость; начало строительства крепости, 16 мая 1703 г., считается днем основания Петербурга; с первых десятилетий XVIII в. утратила военное значение и использовалась как страшная политическая тюрьма.
Н а п р а в о м б е р е г у Н е в ы – речь идет о постройках на правом берегу того рукава Большой Невы, который омывает Васильевский остров с севера.
Д в у х э т а ж н о е д л и н н о е з д а н и е – дворец Меншикова строился в 1710—1720 гг. под руководством архитекторов Д.Фонтана и И.Шеделя; по размерам и богатству превосходил городские дома Петра.
С. 246. Ц а р е в и ч А л е к с е й (1690—1718) – старший сын Петра I от Евдокии Лопухиной. Слабый характер царевича крайне возмущал кипучего энергией отца, противоречия между отцом и сыном и столкновения политических партий привели к гибели Алексея.
Яковлев А н д р е й Я к о в л е в и ч – служил в астраханском Духовном приказе; астраханским губернатором Артемием Петровичем Волынским «за вины» записан в солдаты, но вскоре сумел добиться доверия Меншикова и долгие годы был его приближенным секретарем; после опалы Меншикова возвращен в Астрахань.
С. 248. З а и к о н о с п а с с к а я а к а д е м и я – учреждена в 1682 г. в одноименном мужском монастыре в центре Москвы на Никольской улице; в 1814 г. переведена в Троице-Сергиеву лавру.
Ф е о ф а н Прокопович (1681—1736) – русский церковный и политический деятель, идейный соратник Петра I, едва ли не единственный, по его мнению, «между духовными лицами человек с обширною ученостью, с блестящими дарованиями и вполне сочувствующий преобразованиям»; автор политико-философских трактатов, проповедей, исторических сочинений, стихов, сторонник идей естественного права.
С. 249. Е п а н ч а – широкий плащ без рукавов, бурка.
С. 250. С а п е г а Я н Казимир (ум. 1730) – из боярско-магнатского и княжеского рода Сапег, известного в истории, гетман великолитовский; в Северной войне (1700—1721) был сначала на стороне Карла XII, после Полтавской битвы перешел на сторону Петра I; после падения Меншикова примкнул к Долгоруковым; известен умением быстро приспосабливаться к поворотам переменчивой судьбы.
Битва п р и К а л и ш е – сражение Северной войны, в котором союзные русские и польские войска под общим командованием Меншикова разбили шведскую армию генерала Мардефельда. День Калишской битвы, 18 октября 1706 г., был объявлен Петром I «викториальным днем» и ежегодно отмечался торжествами.
С. 250. Л е щ и н с к и й С т а н и с л а в (1677—1766) – польский король в 1704—1711 и 1733—1734 гг. Вдохновитель прошведских магнатских кругов, он, после поражения Карла XII под Полтавой, эмигрировал во Францию, где выдал дочь Марию, красавицу полячку, за Людовика XV. О Лещинском говорили, что он «не просто одна персона, а с целым королевством французским связан», а «по природному французов легкомыслию и склонности к интригам, – писал русский дипломат П.И.Ягужинский, – от сего рода, кроме пакости, ожидать ничего невозможно».
С. 251. П е т р (1711—1771) – сын Яна Сапеги, фаворит Екатерины I, женился на ее племяннице Софье Скавронской, распродал ее приданое и увез в Литву 2 миллиона тогдашних серебряных рублей.
С. 252. А н а л о й (аналогий, налой) (греч.) – высокий столик с наклонной столешницей для чтения стоя.
А г р а ф (или аграфа) (фр.) – брошь, застежка, запонка.
С. 253. М а г н а т е р и я (лат.) – польское высшее дворянство.
С. 255. «П р е д и к а» (лат.) – вступительное слово, предисловие.
С. 256. Л е д и Р о н д о (1699—1783) – жена английского резидента в России в 1728—1739 гг. лорда Клавдия Рондо, ею написаны любопытные письма о нравах российского двора.
С. 258. К у а ф ю р а (фр.) – сложная прическа, обычно женская.
С. 260. М а в р и н Семен Афанасьевич – воспитатель Петра II в 1721—1727 гг.; до этого был пажом Екатерины I, по ее указанию и получил место при великом князе; был членом кружка кн. Волконской и служил связующим звеном между двором и кружком.
П а ш к о в Е г о р Иванович (ум. 1740) – состоял членом того же кружка, в юные годы был денщиком Петра I, потом губернатором в Астрахани и членом военной коллегии; после разгрома заговора выгнан из коллегии и сослан в Воронеж вице-губернатором.
Г а н н и б а л А б р а м П е т р о в и ч (ок. 1697—1781) – сын эфиопского князя, с 1706—1707 гг. при русском дворе; крестился в православие, восприемниками были царь Петр и королева польская; любимец Петра, генерал-аншеф с 1759 г.; блестящий военный инженер; прадед А.С.Пушкина.
С. 261. А в г у с т II (1670—1733) – курфюрст Саксонский и король польский в 1697—1706 и 1709—1733 гг., после Северной войны пользовался покровительством Петра I.
С. 262. С о б е с с к и е – дворянский род, восходящий к XVI в., польские политические деятели и военачальники. Ян Собесский (1624—1696) – известный полководец, ставший польским королем, по мнению современника, потому, что «многих панов задарил, а иных застращал, приведши под Варшаву войско коронное». Л е щ и н с к и е – великопольская дворянская семья, давшая Польше выдающихся политических и военных деятелей.
С. 262. П я с т ы – польская княжеская и королевская династия; первый исторически достоверный король – Мешко I (ок. 960—992); в XVII – XVIII вв. в Польше пястом именовался поляк – кандидат на престол.
И н д и г е н а т (фр.) – выражение недовольства, возмущения.
М о р и ц (1696—1750) – граф Саксонский, чаще маршал Саксонский, побочный сын Августа II; в молодости крайне легкомысленный; серьезно изучал военное дело, талантливый военачальник; возведен в звание маршала Франции Людовиком XV, получил звание «marechal general des camps et des armees du roi» (великий маршал армий и гарнизонов короля), которое до него носил только прославленный маршал Тюренн (1611—1675); оставил замечательный трактат о войне и военном деле, значительно опередивший время (мысль об обязательной воинской повинности, о замене хлеба сухарями и шляп – касками и пр.).
С. 263. Р е п н и н Василий Аникитич (ум. 1748) – военный деятель, генерал-фельдцейхмейстер, заведовал шляхетским кадетским корпусом.
Г р а ф Б а с с е в и ч Геннинг Фридрих (1680—1749) – президент Тайного совета герцога Голштинского, кавалер ордена св. Андрея Первозванного; посол голштинского двора при Петре I; автор интереснейших записок о политической жизни России с 1713 до 1725 г.
С. 264. Г р и г о р и й Д о л г о р у к о в – здесь речь идет об И в а н е Алексеевиче Долгорукове (1708—1739), который в 1726 г. был сделан гофюнкером Петра II; его рука проставила подпись на подложном завещании Петра Алексеевича. Отец его, Алексей Григорьевич (ум. 1734), был в том же, 1726 г. по ходатайству Меншикова назначен воспитателем Петра II. За всеми Долгоруковыми стоял «опытный и хитрый, оборотливый и образованный» Василий Лукич Долгоруков (1672—1739) и руководил ими.
С. 265. И в а н – здесь: Ян Сапега.
О с т е р м а н Андрей Иванович (Генрих Иоганн, 1686—1747) – генерал-адмирал, вице-канцлер, член Верховного тайного совета, дипломат, воспитатель Петра II, влиятельнейший государственный деятель при дворе Анны Иоанновны; имел славу великого политика, недоброжелатели говорили, что он действует «дьявольскими каналами»; при Елизавете Петровне в 1741 г. был сослан в Березов.
К и т а й с к и е м а т е р и и – китайка, бумажная ткань, вывезенная из Китая.
П л е й е р Отто Антон – австрийский дипломатический агент в России в 1692—1718 гг., автор любопытных донесений; донесение о царевиче Алексее Петровиче наделало много шуму и было причиной отозвания Плейера.
С. 266. Г е о р г (1660—1727) – с 1698 г. курфюрст Ганноверский, с 1714 г. английский король Георг I, основатель Ганноверской династии.
Г р а ф К е н и г с м а р к – саксонский генерал, брат Марии-Авроры, матери Морица Саксонского, убит в 1694 г.
С. 267. Л е в е н г а у п т Адам Людвиг (1659—1719) – шведский генерал, граф, военачальник в Северной войне, муж сестры Марии-Авроры.
С. 269. Г р а ф Ф л е м м и н г Яков Генрих (1667—1728) – саксонский генерал, способствовавший избранию Саксонского курфюрста Августа королем Польши.
С. 272. С е м и г а л и я – область в герцогстве Курляндском.
Ч е н с т о х о в с к а я к р е п о с т ь – неточное название отлично укрепленного монастыря в Польше, где хранится особо чтимый католиками образ Ченстоховской Божьей Матери.
С. 273. К е т л е р ы – знатный род немецких рыцарей, один из представителей которого, Готгард Кетлер, был последним магистром Ливонского ордена (до 1561 г.). После распада ордена Кетлер стал владетельным герцогом Курляндии, положив начало правящей династии, угасшей в начале XVIII в.
С. 274. Г о ф м е й с т е р (нем.) – придворный сановник, надзиравший за придворными чинами и служителями.
Б е с т у ж е в-Р ю м и н П е т р М и х а й л о в и ч (1664—1742) – обер-гофмейстер вдовствующей герцогини Анны Иоанновны для заведования ее делами; как она писала в письме к Петру II, он «расхитил управляемое им имение и ввел ее в долги неуплатные»; дипломат, русский резидент в Курляндии.
С. 278. К о н ъ ю н к т у р а (лат.) – совокупность условий в их взаимосвязи, сложившаяся обстановка, положение вещей в какой-либо области.
С. 279. И н ф л у э н ц и я (нем.) – влияние.
Д е с п е р а ц и я (нем.) – отчаяние, безнадежность.
С. 280. П о т е н т а т (нем.) – монарх, властитель.
З в а л и п о п р о с т у т о л ь к о «И в а н о в н а» – эту жалобу Анны Иоанновны на приниженное и тяжелое положение ее и сестре в молодости Карнович не раз обыгрывает в романах: см. Карнович Е. Любовь и корона. М, 1993, с. 14, 482.
С 286. Г р а ф Т о л с т о й – см. примеч. к с. 84 романа «На высоте и на доле».
Г р а ф Д е в ь е р Антон Эммануилович – генерал-адъютант Петра I, генерал-майор, обер-полицеймейстер, а сначала скороход и денщик Петра, женатый на Анне, сестре Меншикова, известен крайней развязностью, вульгарностью и грубостью, бьи «пугалом петербуржцев».
С. 299. К н я з ь Г о л и ц ы н Д м и т р и й М и х а й л о в и ч (1665—1737) – один из самых выдающихся государственных деятелей XVIII в.; учился в Италии «для наук воинских дел»; аристократ до мозга костей, он не мог простить Петру I брака с Мартой Скавронской; поддерживал Анну Иоанновну, но, когда она объявила себя самодержицей, сказал: «Пир был готов, но гости были недостойны его! Я знаю, что я буду жертвой».
С. 309. Я г у ж и н с к и й Павел Иванович (1683—1736) – незнатного происхождения, возведен в графское достоинство в 1725 г., соратник Петра I, был прозван его «глазом» за бесцеремонную правдивость, с которой он говорил о том, что видел; исполнял различные дипломатические поручения, был кабинет-министром, долгие годы генерал-прокурором Сената; противник Меншикова.
С. 318. Г о л о в к и н Гавриил Иванович (1660—1734) – первый в России государственный канцлер, князь, родственник царицы Натальи Кирилловны; доверенное лицо Петра I; хранитель духовного завещания Екатерины I о назначении ее преемником Петра II; после смерти Петра II сжег завещание, по которому престол передавался потомкам Петра I, и стал сторонником Анны Иоанновны; искуснейший царедворец, при четырех царствованиях сумел сохранить свое звание; владел целым Каменным островом в Петербурге, многими домами и имениями, но прославился чрезвычайной скупостью.
С. 319. Б у т у р л и н И в а н И в а н о в и ч (1661—1738) – военачальник, отличился в битве со шведским флотом у Гангута; сыграл заметную роль в короновании Екатерины I после смерти Петра, отдал знаменитый приказ бить в барабаны в гвардейских полках, стоявших вокруг дворца для поддержки Екатерины.
К н я з ь К у р а к и н Б о р и с И в а н о в и ч (1676—1727) – свояк Петра I (были женаты на сестрах Лопухиных), известнейший дипломат; проявлял незаурядный ум, большую опытность и политический такт; один из самых образованных людей того времени; задумал написать полную историю России, но успел составить только подробное оглавление и «Историю о царе Петре Алексеевиче и ближних к нему людях 1682—1694»; по его завещанию построен «странноприимный дом князей Куракиных» (военная богадельня) в Москве.
У ш а к о в А н д р е й И в а н о в и ч (1672—1747) – граф, генерал, сенатор, сын бедного дворянина, начальник Тайной розыскной канцелярии; «управляя Тайной канцелярией, – по словам современника, – он производил жесточайшие истязания, но в обществах отличался очаровательным обхождением и владел особенным даром выведывать образ мыслей собеседников».
С. 322. И с а й я – нижегородский архимандрит, в 1766—1770 гг. ректор Петербургской семинарии, известен в церковных кругах «весьма изрядными речами».
С. 323. К о р д е г а р д и я (фр.) – караульное помещение.
С. 324. Б л ю м е н т р о с т Иван-Богдан (Деодат; 1676—1756) – родился в Москве, учился в Германии; медик при русском дворе и в русской армии; был неуживчив с людьми и часто робок; при Анне Иоанновне впал в немилость и быстро пришел в бедственное состояние, был вынужден просить императрицу о вспомоществовании.
С. 329. Н а г о л ь н ы й (тулуп, шуба) – мехом внутрь, кожей наружу, не покрытый тканью, одежда черни.
С. 339. К н я з ь Щ е р б а т о в Михаил Михайлович (1733—1790) – общественный и государственный деятель, историк, аристократ, убежденный противник и обличитель Екатерины II и ее фаворитов, автор знаменитого сочинения «О повреждении нравов в России» и фундаментальной «Истории Российской от древнейших времен».
С. 342. К о н ц е п т (лат.) – букв.: общее понятие.
М о б и л и и (фр.) – движимое имущество.
С у к ц е с с о р (фр.) – преемник, наследник.
Д е с ц е н д е н т (фр.) – потомок.
С. 346. К а м е р-ф р а у (нем.) – дворцовая служительница, ведавшая внутренним обиходом и гардеробом государыни.
С. 347. «С л о в о и д е л о» – см. примеч. к с. 49 романа «На высоте и на доле».
С. 350. Д а ш к о в Г е о р г и й (ум. 1739) – из старинного дворянского рода Дашковых, архимандрит Троице-Сергиевой лавры, епископ ростовский, потом архиепископ; был неучен, смотрел на науку как на забаву, но любил придворные интриги и слыл их знатоком.
Т е с т а м е н т (фр.) – завещание.
С. 354. М а к а р о в Алексей Васильевич (1674/75 – 1750) – тайный кабинет-секретарь Петра I; очень незнатного происхождения, но по положению около Петра имел важное влияние на государственные дела; с ним вынуждены были считаться и члены царского дома, и священнослужители высокого ранга, и иностранные дипломаты; бьи тайным советником и у Екатерины I.
С. 360. Ш л ю ш и н с к а я к р е п о с т ь – простонародное название Шлиссельбургской крепости, которая стоит на Ореховом острове у истока Невы с 1323 г., когда ее основали там новгородцы. До 1611 г. она называлась Орешком. Шведы, захватив крепость, переименовали ее в Нотебург; в 1702 г. она была возвращена России и получила нынешнее название. Потеряв военное значение, с начала XVIII в. служила тюрьмой с крайне суровым режимом.
С. 364. А т т е н ц и я (фр.) – внимание, предупредительность.
С. 368. М а к и а в е л л и Никколо (1469—1527) – итальянский политический деятель, автор знаменитого сочинения «Государь», где обосновывал дозволенность любого преступления во имя высших интересов государства.
С. 372. Н а р ы ш к и н Александр Львович (1694—1745) – племянник царицы Натальи Кирилловны, двоюродный брат и любимец Петра I, директор морской академии; в свое время придворные слухи числили его женихом царевны Анны Петровны; когда много позже Петр II охотился поблизости от его имения, Нарышкин не захотел поклониться ему, говоря: «Я сам таков же, как он, и думал на царстве сидеть, как он».
С. 373. В а л ь я г т е н ш п и л ь – букв.: игра с погоней и выбором, по-видимому горелки.
С. 375. Г а с н е р Иоганн Иосиф (1726—1779) – иезуит, удачливый заклинатель бесов, широко известный в Европе, привлекал толпы народа со всей Германии и Австрии; император Иосиф II был вынужден приказать ему покинуть Регенсбург, где тот жил; написал загадочный трактат о равновесии души и плоти.
С. 376. П у ф е н д о р ф – см. примеч. к с. 44 романа «На высоте и на доле».
Р а ц е я (лат.) – скучное наставление, поучение.
С. 383. П а р а д и з (фр.) – частое название дворцовых или усадебных строений, парковых ансамблей, отличавшихся особой изысканностью и пышностью.
С. 384. А к а д е м и я д е-с и а н с (фр.) – Академия наук.
С. 387. А к т у а р и у с – в петровской Табели о рангах – низший, 14 класса, чин, равнозначный коллежскому регистратору.
С. 391. Ш л а ф р о к (нем.) – халат, спальная одежда.
С. 392. К у т е й н и к – пренебрежительное прозвище лиц церковного причта.
С. 394. М у ш к а т е р – в описываемое время в России – солдат, обученный ружейной стрельбе и вооруженный мушкетом.
С. 402. Г л е б о в Степан Богданович – стольник, офицер гвардии, был близок с опальной царицей Евдокией Лопухиной, на дознании показал; «Привел меня в келью к ней духовник ее, и подарков к ней чрез оного духовника прислал я, и сшелся с нею в любовь»; казнен в 1718 г.
Примечания
1
Объяснение слов и выражений, помеченных «звездочкой», см. в комментариях в конце издания. – Ред.
(обратно)


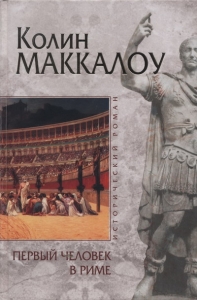
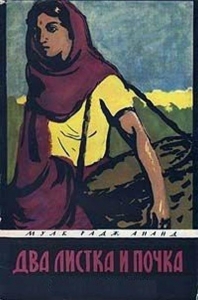

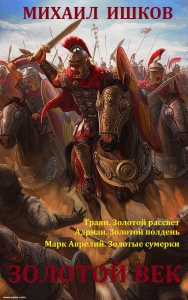
Комментарии к книге «Придворное кружево», Евгений Петрович Карнович
Всего 0 комментариев