Евгений Петрович Карнович На высоте и на доле: Царевна Софья Алексеевна
I
– Когда я была еще в отроческом возрасте, явилась на небе чудная звезда с превеликим хвостом, и звали ее в народе «хвостушею». Бывало, лишь зайдет солнце, и она чуть-чуть, как пятнышко, покажется на востоке, потом замерцает ярче, а ночью засияет на темном небе светлее всех звезд. Смотрела я подолгу на нее, и о многом думалось мне, но знаешь ли, отче, мне тогда становилось очень страшно…
Так говорила царевна Софья Алексеевна[1] стоявшему перед нею монаху, который с большим вниманием прислушивался к каждому ее слову.
– Ты звездочет, так скажи мне, что за звезда являлась тогда? – спросила пытливо царевна.
– Подобные звезды нарицаются с греческого языка кометами, что будет значить волосатые звезды. Называются они также звездами прогностическими, или пророческими, – наставительно отвечал монах.
– Из чего же сотворены они? – перебила с живостью молодая девушка.
– Из того, что по-латыни зовется материею, а по-гречески эфиром; эфир же для создания такой звезды, или кометы, был сперва сгущен силою Божиею, а потом зажжен Солнцем.
Софья слово в слово повторила это объяснение.
– Так ли я уразумела твою речь? – спросила она.
– Ты совершенно верно пересказала мои слова, благородная царевна, – одобрительно и с выражением удовольствия на лице отозвался монах.
– А зачем же являются такие звезды? Ты знаешь или нет?
– Тайны Божии непроницаемы для нас, смертных человеков. Всего наш ум объять не может, но как убедились мудрецы, как толкуют умные люди и как поучает история, кометы являются на небеси во знамение грядущих событий. Ходят оне превыше луны и звезд, никто не отгадает их бега по тверди небесной, никто не ведает, где и когда они зарождаются, где и когда они исчезают, – поучал монах царевну.
– Ты говоришь, что кометы являются во знамение грядущих событий, а каких же? Расскажи мне о том, отец Симеон*, – сказала царевна. – Да ты, верно, уж устал стоять, присядь, – ласково добавила она.
Царевна вела эту беседу с монахом в своем тереме. В той комнате, где они теперь были, шла вдоль одной из стен лавка, покрытая персидскою камкою*. В переднем, или красном, углу этой комнаты стоял под образами стол с положенными на нем книгами, а подле него было большое, с высокою резною спинкою, обитое синим бархатом дубовое кресло, на котором сидела Софья Алексеевна. По тогдашнему обычаю, на это единственное во всей комнате кресло, кроме царевны, как хозяйки терема, также навещавших ее царя, царицы, членов царского семейства и патриарха, никто не мог садиться. Все же мужчины и женщины, как бы знатны и стары они ни были и как бы долго ни шла у них беседа с царевною, должны были во все время разговора оставаться перед нею стоя и только изредка, в виде особой милости, им дозволялось садиться на лавку поодаль от царевны.
Монах низко поклонился Софье Алексеевне, благодаря ее поклоном за чрезвычайный оказанный ему почет, и затем присел на лавку.
– Явление комет предвещает разные события, – начал он. – Чаще же всего предвещают они бедствия народные, в числе коих три бедствия полагаются главными: война, мор и голод. Предвещают кометы и о других еще бедствиях, как-то: о потопе, о кончине славного государя и о падении какого-либо знаменитого царства. О наступлении всех таких событий надлежит угадывать по тому, где впервые комета появится, на востоке или на западе, куда она свой хвост поворачивает и куда сама направляется, в какую пору наиболее блестит она, какого цвету бывает ее сияние, сколько главных лучей идет от нее и многое сверх того еще наблюдать должно. Для познания всех предвещаний, делаемых кометою, нужны, царевна, и мудрость, и книжное учение, и многолетняя опытность.
– Ты, отче, я думаю, все небесные явления легко уразуметь можешь!.. Какой ты счастливый! – как будто с сожалением о себе самой и с завистью к своему ученому собеседнику проговорила царевна.
– Где все уразуметь мне, грешному человеку!.. Но, впрочем, слава Господу, сподобил он меня понимать многое, – скромно заметил монах.
Наступило молчание. Монах, как казалось, размышлял сам с собою, а царевна, опершись рукою на стол и склонив на ладонь голову, обдумывала те вопросы, которые хотелось ей предложить своему наставнику. Во время беседы любимая постельница царевны, Федора Родилица, родом украинская казачка, стояла, прислонившись спиною к стене. С видимым любопытством старалась она прислушаться к происходившему между царевною и Симеоном разговору; но заметно было, что многое она не могла взять в толк, и, поутомившись порядком, начинала позевывать и беспрестанно переминалась с ноги на ногу.
– Ты бы, Семеновна, пошла да отдохнула, придешь ко мне после, – сказала царевна постельнице.
Родилица, приложив под грудь вдоль пояса правую руку, отвесила ей низкий поклон и тихими шагами вышла из комнаты.
– Ведь наука гаданья по звездам называется астрологиею? Так?.. – спросила Софья монаха по уходе постельницы.
– Ты верно говоришь, благородная царевна, – отвечал он.
– А гадание, составленное по течению звезд, зовется гороскопом?
– И это верно изволишь называть, – перебил Симеон.
– Видишь, преподобный отче, я все помню, чему ты наставляешь меня, – не без некоторого самодовольства заметила Софья.
– Недостоин я, смиренный, такой славной ученицы, как ты, благоверная царевна! Сердце мое радуется, когда я смотрю на тебя, и дивлюсь я твоему уму-разуму и твоей жажде к познаниям.
На лице Софьи мелькнуло удовольствие при сделанной ей похвале.
– А ведь по звездам можно гадать больше, чем по кометам? – спросила она.
– Речь твоя разумна! Кометы предвещают только важнейшие, чрезвычайные, так сказать, народные или политические события, тогда как по сочетанию звезд и планет можно предсказать судьбу каждого человека, – глубокомысленно заметил наставник.
– Скажи мне, отче, но скажи по сущей правде, известно ли тебе, что при рождении брата моего, царевича Петра Алексеевича*, был составлен гороскоп, и не знаешь ли ты, что было предречено царевичу астрологами? – полушепотом спросила Софья, не без волнения ожидая ответа на этот вопрос.
– Слышал я, – отвечал нерешительно монах, – будто бывшему здесь в Москве голландскому резиденту Николаю Гейнзию* писал нечто из Утрехта земляк его, профессор Гревий*. Ведомо мне также, что государь, твой родитель, посылал к знаменитым голландским астрологам приказ, чтобы они составили гороскоп новорожденному царевичу. Много золота он заплатил им за это. Предсказали же они царевичу, что он в монархах всех славою и деяниями превзойдет, что соседей враждующих смирит, дальние страны посетит, мятежи внутренние и нестроения обуздает, многие здания на море и на суше воздвигнет, истребит злых, вознесет трудолюбивых и насадит благочестие, где его не было, и там покой приимет. Слышно также, что и епископ Димитрий*, увидев звезду пресветлую около Марса, предсказал твоему родителю, что у него будет сын, что ему наречется имя Петр и что не будет ему подобного среди земных владык.
Царевна с заметным беспокойством прислушивалась к рассказу своего собеседника, который, приостановившись немного, таинственно, чуть слышным голосом добавил:
– Но за то век его будет непродолжителен.
Софья как будто встрепенулась при этих словах.
– А что пророчат звезды о моей судьбе? – тревожно спросила она. – Ведь ты, отец Симеон, обещал составить мой гороскоп.
– До сих еще пор сочетание планет и течение других светил небесных не благоприятствовали мне и я не мог начертать весь твой гороскоп. Я знаю пока только то, что ты, благоверная царевна, будешь на высоте, – торжественно-пророческим голосом проговорил монах.
Софья быстро поднялась с кресел, щеки ее вспыхнули ярким румянцем, и она уперла свои смелые глаза на Симеона, который быстро приподнялся с лавки.
– А разве я теперь не на высоте, а на доле?* – гордо и раздраженно спросила она. – Разве я не московская царевна, не дочь и не внучка великих государей всея Руси? Мачеха моя, царевна Наталия Кирилловна*, никогда не отнимет и не умалит моей царственной чести…
– Не о высоте твоего рождения говорю я, благоверная царевна, – спокойно перебил Симеон. – На эту высоту поставил тебя Господь Вседержитель, так что ты тут ни при чем. Я говорю о другой высоте, о той, какой ты сама, при помощи Божией, можешь достигнуть…
Тяжело дыша, прислушивалась Софья к словам монаха.
– О какой же высоте говоришь ты? – резко спросила она. – Разве я могу стать еще выше? Разве у нас, в Московском государстве, для женского пола, кроме терема да монастыря, есть что-нибудь другое? Разве есть у нас такой путь, на котором женщина может вознестись и прославиться? Ты, отец Симеон, хотя родом и из Польши, но давно живешь в нашей стороне, и пора бы тебе ознакомиться с нашими обычаями и знать, что на Москве не так, как у вас в Польше…
– Знаю, хорошо знаю я все ваши московские обычаи, – заговорил монах. – Ведомо мне, что они совсем иные против того, что ведется в Польше и в других чужеземных государствах; да разве, сказать примером, хотя бы в греческой стране, в Византии, где женский пол был в такой же неволе, как и у вас, немало прославилось женщин из царского рода.
– Садись, отче, – сказала Софья Симеону, опускаясь сама опять в кресло, – и расскажи мне о них что-нибудь.
Монах сел на лавку на прежнее место.
– Я расскажу тебе, благоверная царевна, о дщери греческого кесаря Аркадия*, о царевне Пульхерии*. Жила она двенадцать веков тому назад. По смерти отца ее правление империею греческою перешло к брату ее Феодосию; он был скорбен главою, а она была светла умом и тверда волею. Стал при нем управлять царством пестун его Антиох, родом перс, но царевна не стерпела этого: она удалила Антиоха от царского двора и начала править за своего брата. Нашлись, однако, у нее враги и повели дело так, что брат царевны, наущенный ими, приказал заключить ее в дальний монастырь. Она сошла с высоты, но не долго пребывала на доле. Вскоре возвратилась она в царские чертоги, снова взяла власть над братом и правила царством до самой его кончины…
– Что же сталось с нею потом? – торопливо перебила Софья, с напряженным вниманием слушавшая повествование монаха.
– По смерти брата царская власть осталась в ее руках, но так как в Византии не было обычая, чтобы замужняя женщина, а тем паче девица, заступала место кесаря, то Пульхерия взяла себе в супруги прославившегося и добродетельного полководца Маркиана*, но власти ему не дала. Осталась она и в браке с ним девственницею и со славою управляла царством до конца своей жизни.
– Но ведь, кроме нее, были и другие женщины, которые правили царством; я помню, ты рассказывал мне о королеве аглицкой Елизавете; да в нашем царстве, как значится в «Степенных книгах»*, прославилась благоверная великая княгиня Ольга…*
– Ну, вот видишь, благородная царевна, значит, и в Российском царстве были именитые жены…
– Иные тогда, как видно, были обычаи, женский пол был тогда свободен; царицы и царевны не сидели взаперти в своих теремах, как сидят теперь. Знаешь ли, преподобный отче, как я тоскую!.. Что за жизнь наша! Смотрю я на моих старых теток, и думается мне, как безутешно скоротали оне свой век: никаких радостей у них не было! На что мне все богатства, на что мне золото и камни самоцветные, когда нет никакой воли? Разве так живут чужестранные королевны?
– Что и говорить о том, благоверная царевна. В вашей царской семье жизнь повелась иным обычаем; царевен замуж за своих подданных родители не выдают, а иностранные принцы в Москву свататься не ездят.
– А меж тем где же найдешь для мужа лучшее житье, как не у нас на Москве? – улыбнувшись, перебила Софья. – Вот посмотри, чему поучают у нас, – сказала она, взяв со стола переплетенные в кожу рукописные поучения Козьмы Халкедонского*. – «Пытайте, – начала она читать, – ученье, которое говорит: жене не вели учити, ни владети мужем, но быти в молчании и покорении. Раб бо разрешится от работы господския, а жене нет разрешения от мужа». Поучают также у нас, что от жены древнезмийный грех произошел и что с него все умирают. Выходит так, что наш пол во всем виноват, а мужской из-за нас неповинно страдает…
– Это древнее учение, сила его ослабела, – возразил Симеон.
– Да, у просвещенных народов, а не у нас; ты сам не мало раз мне говорил, что народ наш еще не просвещен, – заметила Софья.
– Не просвещен-то он не просвещен, это так, а все же у вас людей разумных и книжных наберется немало, только нет им ходу, да и мало кто знает о них. Вот хотя бы Селивестр Медведев…* какой умный и ученый человек! Соизволь, царевна, чтобы я привел его к тебе, ты побеседуешь с ним и на пользу и в угоду себе.
– Я не прочь от знакомства с такими людьми, приведи его ко мне; он, статься может, вразумит меня многому, а тебе, преподобный отче, приношу мое благодарение за то, что ты наставляешь меня всякой премудрости, и божеской и людской. Принеси мне еще твоих писаний, читаю я их с отрадою, а теперь иди с Богом.
Монах стал креститься перед иконою и потом поклонился в ноги царевне, которая пожаловала его к руке, а он благословил ее. После этого Симеон вышел, а царевна, оставшись в креслах, глубоко задумалась: рассказ о царевне Пульхерии запал в ее мысли. Ей казалось, что положение этой царевны было во многом сходно с тем, в каком она сама находилась.
II
Непритворно сетовала Софья Алексеевна перед Симеоном на свою долю. Жизнь московских царевен была для нее невесела и казалась гораздо хуже, чем жизнь девушки-простолюдинки, пользовавшейся до замужества свободою в родительском доме. Чем выше было в ту пору общественное положение родителей девицы, тем более стеснялась ее свобода, а царевны в своих теремах жили в безысходной неволе. Можно с уверенностью сказать, что ни в одном из тогдашних русских монастырей не было столько строгости, воздержания, постов и молитв, сколько в теремах московских царевен. Во всем этом могло быть немало и лицемерия, а при нем еще тяжелее становилось строгое соблюдение исстари заведенных порядков. Царевен держали настоящими отшельницами: они тихо увядали, осужденные на жизнь вечных затворниц. Им были чужды тревоги молодой жизни, хотя бы сердце и подсказывало порою о любви, о которой, впрочем, они могли узнавать разве только по сказкам своих нянюшек, болтавших по вечерам о прекрасных царевичах. Вероятно, впрочем, что на большинство царственных отроковиц и сказки с любовным содержанием производили самое слабое впечатление. Привыкнув от раннего детства к своему затворничеству в тереме, царевны ограничивали свои помыслы лишь потребностями заурядного домашнего обихода; сердечным их порывам не было ни простора, ни исхода; им не на кого даже было направить их девичьи мечты и грезы, если бы они случайно встревожили и взволновали их.
Из посторонних мужчин никто не мог входить в их терема, кроме патриарха, духовника да ближайших сродников царевен, притом и из числа этих сродников допускались туда только пожилые. Врачи, в случае недуга царевен, не могли их видеть. Из теремов царевны ходили в дворцовые церкви крытыми переходами, не встречая на своем пути никого из мужчин. В церкви были они незримы, так как становились на особом месте в тайниках, за занавесью из цветной тафты*, через которую и они никого не могли видеть. Редко выезжали царевны из кремлевских хором на богомолье или на летнее житье в какое-нибудь подмосковное дворцовое село, но и во время этих переездов никто не мог взглянуть на них. Царевен обыкновенно возили ночью, в наглухо закрытых рыдванах* с поднятыми стеклами, а при проезде через города и селения стекла задергивались тафтою. Они не являлись ни на один из праздников, бывавших в царском дворце. Только при погребении отца или матери царевны могли идти по улице пешком, да и то в непроницаемых покрывалах и заслоненные по бокам «запонами», то есть суконными полами, которые со всех сторон около них несли сенные девушки. В приезд царевны или царевен в какую-нибудь церковь или в какой-нибудь монастырь соблюдались особые строгие порядки. В церкви не мог быть никто, кроме церковников. По приезде же в монастырь все монастырские ворота запирались на замки, а ключи от них отбирались; монахам запрещалось выходить из келий; службу отправляли приезжавшие с царицею или царевною попы, а на клиросах* пели привезенные из Москвы монахини. Только в то время, когда особы женского пола из царского семейства выезжали из монастыря, монахи могли выйти за ограду и положить вслед уезжавшим три земных поклона.
В детстве царевен холили и нежили, но все их образование оканчивалось плохим обучением русской грамоте. Одна царевна Софья Алексеевна составляла исключение в этом отношении. Вырастали они, и начиналась для них скучная и однообразная жизнь в теремах. Утром и вечером продолжительные молитвы, потом рукоделья, слушание чтений из божественных книг, беседы со старицами, нищенками и юродивыми бабами. Все же мирское их развлечение ограничивалось пискливым пением сенных девушек да забавами с шутихами.
Затворничество царевен было так строго и ненарушимо, что, например, приехавший в Москву свататься к царевне Ирине Михайловне* Вольдемар*, граф Шлезвиг-Голштинский, прожил в Москве для сватовства полтора года, не видев ни разу, хотя бы мельком, своей невесты. Затворничество в семейной жизни московских царей доходило до того, что даже царевичей никто из посторонних не мог видеть ранее достижения пятнадцати лет.
Вот как современник этого нелюдимого быта, Котошихин*, очертил его: «Царевны имели свои особые покои разные, и живуще яко пустынницы, мало зряху людей и их люди, но всегда в молитве и в посте пребываху и лица свои слезами омываху, понеже имеяй удовольства царственные, не имеяй бо себе удовольства такого, как от Бога вдано человеком». Это мнение бытописателя объясняется тем, что «государства своего за князей али за бояр замуж выдавати царевен не повелось, потому что и князи и бояре есть их холопи и в челобитье своем пишутся холопьями, и то поставило бы в вечной позор, ежели за раба выдать госпожу; а иных государств за королевичей и князей не повелось для того, что не одной веры и веры своей отменяти не учинять, ставят то своей вере в поругание, да и для того, что иных государств языка и политики не знают и от того им было бы в стыд».
Живя в избытке и в тишине с успокоившимися, а может быть, и никогда не возбуждавшимися страстями, эти царственные отрасли еще в нестарые годы тяжелели телесно и окончательно тупели умственно. Свыкшись с детства с неволею, они не замечали ее и обыкновенно умирали в преклонных летах, много напостившись, и немало раздавали милостыни.
У царевны Софьи Алексеевны были на глазах примеры такой жизни, казавшейся ей томительною и невыносимою. В то время, когда она подрастала, в царской семье было девять безбрачных царевен. Из них две ее тетки были уже почтенные старушки. Они только молились да постились, отрешась от всего мирского и думая единственно о спасении души. Из сестер-царевен шесть были от первого брака ее отца с Марией Ильиничной Милославской; из них Анна постриглась и скончалась в монастыре. А от второго брака царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной была одна только дочь Наталья Алексеевна. Из всех царевен три были моложе Софьи. Все они, и старые и юные, безропотно покорялись своей участи. Одна только царевна Софья, умная, страстная и кипучая нравом, не хотела поддаться своей доле и с самых ранних лет рвалась душою из тесного терема на простор.
По смерти царя Алексея Михайловича сел в 1676 году на московский престол старший его сын Федор*, болезненный шестнадцатилетний юноша, и тогда уже пошла по Москве молва, будто бы покойный государь хотел передать верховную власть, помимо старших своих сыновей, Федора и Ивана, болезненных и неспособных, самому младшему сыну, царевичу Петру. Москва приписывала это намерение проискам молодой царицы Натальи Кирилловны, которая хотела устранить от престола своих пасынков и доставить его своему родному сыну Петру, в то время только четырехлетнему отроку, отличавшемуся и здоровьем и бойкостью. При царском дворе шли тогда интриги и происки между представителями двух фамилий, родственных царскому дому, между Милославскими и Нарышкиными, и каждая из этих фамилий старалась о том, чтобы предоставить корону царевичу, принадлежащему или к семейству Милославских, или к семейству Нарышкиных. Обе эти семьи имели своих приверженцев среди боярства, но ни одна не пользовалась расположением среди чиновного люда и любовью в народе. Дворцовые интриги могли бы прекратиться, если бы у царя Федора был сын, прямой наследник престола, но он, после смерти одного сына, остался бездетен от первого брака с Агафьей Семеновной Грушецкой*, и не было у него пока детей от второго его брака с пятнадцатилетнею Марфой Матвеевной Апраксиной*; слабость же его здоровья была плохою порукою за его долголетие, и теперь в тереме царицы Натальи Кирилловны зрели замыслы на случай кончины царя Федора.
Чем больше подрастала царевна Софья, тем тяжелее становилась для нее затворническая жизнь. В будущем не виделось ничего отрадного, а воспоминания о минувшем детстве хотя и могли быть приятны, но и они уже не тешили молодой девушки с пылкими страстями, с умом, все более и более развивавшимся и требовавшим не теремной обстановки, а живой, кипучей деятельности.
В памяти царевны оживали порою ее детские годы, проведенные в роскошных кремлевских палатах и в тенистых садах села Коломенского, но и эти воспоминания отравлялись воспоминанием о той неволе, в какой держали ее в ту пору, когда надоедливые мамы и няни носили на руках, как бы не доверяя, что она умеет ходить.
Присмотрелась царевне и пышная полуазиатская обстановка московского двора, и не нравилась она Софье потому, что в ней на каждом шагу проглядывали стеснения и неволя женщины под строгим охранением стародавних московских обычаев.
Бывало, царица, мать Софьи, совершая «богомольные подвиги», отправится в монастырь; засадят молоденькую царевну в наглухо закрытую колымагу, а ей между тем хотелось бы посмотреть, что делается за стенами терема. Подсмеивалась тайком царевна и над странным поездом, сопровождавшим царицу-мать при отправке на богомольные подвиги. Впереди, сзади и по бокам царицыной колымаги ехали тогда попарно горничные девушки верхом, сидя в седлах по-мужски, одетые в пестрые длинные платья и с желтыми сапогами на ногах, в высоких шляпах из белого войлока, с алыми на них лентами и с такими же кистями, а лица этих молодых и старых наездниц были плотно закрыты густыми покрывалами. Весь склад московско-царской жизни, лишенный всякого умственного движения, приходился ей не по душе. Не любила царевна проводить время в пустых толках с обычными посетительницами теремов, не по ней были занятия рукодельями, и редко заглядывала она в мастерскую палату, где множество женщин и девушек шили наряды царице и царевнам и изготовляли воздухи*, пелены* и облачения для патриарха, архиереев, церквей и монастырей. Царевна томилась и изнывала, сознавая, как бесцельно и бесплодно проходит ее молодая жизнь. Вечные прятки от людей, удаление от всего, что давало простор мыслям и чувствам, сильно смущали ее, и любимою мечтою Софьи было – порвать те путы, которые приготовило ей на всю жизнь ее царственное рождение.
III
Уже несколько дней обычный ход жизни в Кремлевском дворце заметно изменился. Государь не вставал, по обыкновению, ранним утром в четыре часа. Не ожидали царский духовник, или крестовый поп, и царские дьяки его выхода в Крестовую палату, где он каждый день совершал утреннюю молитву, после которой духовник, осенив его крестом, прикладывал крест к его лбу и щекам и кропил святою водою, привозимою из разных монастырей в вощаных сосудцах. В Крестовой палате, перед устроенным в ней богато и ярко вызолоченным иконостасом, теплились теперь только лампады, а не зажигались восковые свечи разных цветов, как это делалось во время царской молитвы. В отсутствие царя духовник его и царские дьяки пели в Крестовой палате молебны о выздоровлении государя, после чего, по заведенному порядку, царский духовник клал на аналой икону того праздника или святого, который приходился в этот день, но не читались там поучительные слова и жития святых, которые слушал ежедневно царь, сев по окончании молитвы на кресло, стоявшее в виде трона посреди Крестовой палаты. Такие отступления от установленного порядка показывали, что государь был так болен, что не мог подняться с постели.
О тяжком недуге царя свидетельствовало и то, что, по установившемуся обычаю, один из ближних людей отправлялся в покои царицы спросить ее о здоровье, но сам государь не ходил теперь по утрам в терем своей супруги. Не собиралась теперь и царская дума в Грановитой палате, и хотя и съезжались во дворец на ежедневный поклон государю бояре и думные люди, но они не могли видеть его светлые очи и довольствовались лишь спросом о здравии. Не являлся Федор Алексеевич и в столовой избе, где обедал прежде или один или с супругою, а порою и приглашал к своей трапезе некоторых ближних людей. Вообще, во дворце многое шло не по заведенному порядку. В опочивальне, под шелковым пологом, лежал теперь царь Федор Алексеевич. Почти безвыходно, то в изголовье, то в ногах у него, сидела царевна Софья Алексеевна. Она с нежною внимательностью сестры ухаживала за ним, стараясь угодить больному и успокоить его ласками и участием.
– А кто отведывал новое лекарство? – спросил он слабым голосом у стоявшей около него царевны.
– Я блюду постоянно твое царское здоровье, и не дали тебе, милый братец, еще ни одного лекарства, прежде чем не отведали его или я, или ближние люди. Можешь спокойно принять и это, мы и доктору пить его приказывали! – успокоительно говорила царевна.
– Пью я, ваше царское величество, все лекарства! – отозвался на ломаном русском языке царский врач Данила Иевлевич фон Гаден* и, с этими словами вынув из-за пазухи своего черного кафтана, сшитого на немецкий покрой, серебряную ложку, налил в нее лекарства до самых краев и, хлебнув, крепко поморщился.
– Отпусти мне, Господи, мой тяжкий грех за то, что я принимаю лекарство из рук поганого жидовина! – набожно прошептал царь. – Грешим мы тем, что верим в человеческое врачевание, а не возлагаем надежду на помощь Всевышнего, – добавил он, обращаясь лицом к царевне.
– Греха в том нет, братец-голубчик. Ведомо, конечно, тебе, чему поучает апостол Павел. Он прямо пишет: аще болен, помазуйся елеем и позови врача, – вразумляла Софья своего брата.
– Приготовленное мною лекарство успокоит внутренности вашего царского величества. Оно составлено из веществ, имеющих самую целебную силу; в него положен и рог единорога, – докладывал Гаден.
Говоря это, он взбалтывал бывшую в руках его сткляницу и, посмотрев ее на свет, налил лекарства на золотую ложку и подошел к государю, между тем как царевна приподняла с подушки голову брата и поддерживала его за спину.
Царь осенил себя трижды крестным знамением. Гаден поднес к губам его ложку, а он, пристально и недоверчиво посмотрев на «жидовину», с видимым отвращением хлебнул поданную ему микстуру и, снова трижды перекрестясь, в бессилии опустился на постель.
Гаден тихонько вышел, а царевна встала около брата на колени и, взяв его свесившуюся с постели руку, со слезами целовала ее.
– Светик ты мой ненаглядный, братец ты мой родимый! Пошли тебе Господи скорее исцеление. Встань поскорее с одра скорби в утешение и на защиту нас, твоих единоутробных! Как усердно, и день и ночь, молю я о тебе Господа нашего Иисуса Христа и его пречистую Матерь! – говорила царевна, продолжая целовать со слезами руку брата.
– Ведаю, милая сестрица, твою любовь ко мне и плачу тебе ею же взаим, – говорил тихо царь, тронутый участием сестры. – Ты безотходно остаешься при мне, не как другие. Вот хотя бы матушка-царица в кой раз пришла бы навестить меня, а то совсем забыла!.. Чем я ее царское величество мог прогневать, да и как я дерзну сделать что-нибудь подобное, когда покойный наш родитель заповедал нам любить и чтить ее, как родную мать? – сетовал Федор Алексеевич, оскорбленный невниманием к нему мачехи Натальи Кирилловны.
На это сетование не отозвалась царевна ни полсловом, но по выражению ее лица можно было заметить, что ей не любы были такие почтительные и нежные речи царя о молодой мачехе.
– Прикажи-ка, сестрица, позвать ко мне князя Василия, – добавил он, смотря на Софью.
Румянец вспыхнул на щеках молодой царевны; с трудом преодолела она охватившее ее волнение и, поспешно встав с колен, неровным голосом передала приказание Федора постельничему, стоявшему в другой комнате у дверей царской опочивальни.
Царь, казалось, впал в забытье. Закрыв глаза, он тяжело дышал, а Софья, вернувшись в опочивальню, села в изголовье его постели.
Спустя немного времени дверь в царскую опочивальню тихо отворилась, и на пороге показался боярин.
При появлении его щеки царевны зарделись сильнее прежнего. Вошедший в царскую опочивальню боярин был высок ростом и статен. Он был, впрочем, далеко уже не молод; с виду было ему лет под пятьдесят, и седина довольно заметно пробивалась в его густой и окладистой бороде. Легко, однако, было заметить тот страстный взгляд, каким впилась царевна в пожилого боярина. Она так засмотрелась на него, как засматривается молодая девушка на полюбившегося ей юношу-красавца.
Помолившись перед иконою и отдав земной поклон перед постелью государя, боярин остановился поодаль от нее, ожидая, когда царь подзовет его к себе.
– Хочу я поговорить с князем Василием о царственных делах, а такие дела не женского ума работа. Уйди отсюда на некоторое времечко, сестричка, – ласково сказал Федор сестре.
Поцеловав снова руку брата и перекрестив его, она пошла из опочивальни, но на пороге приостановилась и обернула назад голову, чтобы взглянуть еще раз на боярина, и украдкою кивнула головою, как бы стараясь ободрить его этим знаком.
В передней царского дворца, которая в ту пору соответствовала нынешней приемной зале и в которую пошла теперь Софья, были в сборе все бояре, явившиеся во дворец, чтобы наведаться о царском здоровье. Боясь нарушить тишину, господствовавшую в царских палатах, они, рассевшись на лавках, шептались между собою, и заметно было, что между ними не было общего лада, так как одни искоса и с недоверием посматривали на других. Теперь в царской передней собралось все, что было на Москве богатого и знатного. С беспокойством ожидали бояре вестей о здоровье государя, предвидя, что кончина его вознесет одних и низложит других, что одни воспользуются милостями, других поразит опала.
Неожиданный приход царевны в переднюю удивил и смутил бояр. Появление ее в таком собрании, где были только мужчины, показалось необычайным нарушением не только придворных порядков, но и общественного приличия. В особенности изумило то, что лицо царевны не было покрыто фатою в противность обычаю, которого, как тогда думалось, нигде и ни в каком случае нельзя было нарушить. Изумленные бояре сперва исподлобья посмотрели на царевну, а потом вопросительно переглянулись друг с другом. Софья, однако, не смутилась и, в свою очередь, смело смотрела на них, так что они, приподнявшись поспешно с лавок, приветствовали царевну раболепными поклонами.
Не обращая на поклоны внимания, царевна остановилась посреди передней.
– Здравие его царского величества, по благости Господа Бога, улучшилось в эту ночь, – громким и твердым голосом заявила она. – Великий государь повелел сказать вам милостивое слово и приказал отпустить по домам.
В ответ на это последовали снова низкие поклоны, которые в ту пору были в таком обычае, что, например, боярин князь Трубецкой*, выражая однажды свою благодарность царю Алексею Михайловичу за оказанные ему милости, положил сразу перед государем тридцать земных поклонов.
Но и на повторенные поклоны царевна не отвечала никаким приветствием. Холодность и важность ее смутили бояр.
– Пошли, Господи, великому нашему государю скорое выздоровление! Молим пресвятую Богородицу Деву и святых Божиих угодников о долголетии и здравии его царского величества! – заговорили бояре и стали один за другим выходить из передней; но между ними не трогался с места один только боярин, Лев Кириллович Нарышкин*.
– Что же ты не едешь домой? – строго спросила его Софья. – Ведь тебе, как и всем другим боярам, сказано уже о государевом здоровье…
– Не затем только, чтобы узнать о здоровье его царского величества, прибыл я сюда, – отвечал смелым, почти дерзким голосом Нарышкин. – У меня, царевна, есть еще и другая надобность.
– Какая? – резко перебила Софья, смерив суровым взглядом боярина с головы до пяток.
– Благоверная царица, великая государыня Наталия Кирилловна повелела мне наведаться, может ли она навестить его царское величество, и так как ты, государыня царевна, соизволила объявить, что здоровье его царского величества…
Софья не дала Нарышкину докончить его слов.
– Точно что здоровье государя-братца стало лучше, – перебила она, – да все же ему еще пока не под силу вести беседу с царицей-матушкой. Слышишь, что я говорю? Так и доложи ее царскому величеству.
По губам боярина пробежала насмешливая улыбка, а Софья сделала несколько шагов вперед, чтобы выйти из передней.
– Думается мне, – заговорил ей вслед Нарышкин, – что если к его царскому величеству есть доступ другим сродникам, то отказ в этом царице Наталии Кирилловне будет непристоен.
Царевна быстро повернулась к Нарышкину. Лицо ее выражало сильный гнев.
– Что ты говоришь? – спросила она его раздраженным голосом.
– Говорю я, благоверная царевна, что никому не следует забывать, что царица Наталия Кирилловна, по вдовству своему, старейшая в царской семье особа и что, по супружеству своему, она тебе, твоим братьям и сестрам заступает родную мать.
– Не тебе учить нас почтению к царице! – воскликнула Софья, топнув ногою о пол. – Хотя ты и царский сродник, но не забывай, боярин, что ты остался все тем же нашим холопом, каким родился, и должен всегда памятовать, с кем ты говоришь. Ступай отсюда! – крикнула она громче прежнего, показав Нарышкину на выходную дверь повелительным движением руки.
Как ни казался сперва тверд и надменен боярин, но он опешил при грозном на него окрике царевны и, отвесив ей низкий поклон, смиренно выбрался из передней на Красное крыльцо, на котором оставались еще бояре, державшие сторону царицы Наталии Кирилловны и поджидавшие Нарышкина.
– Что скажешь, Лев Кириллович? – спросил Нарышкина боярин князь Черкасский*, когда Нарышкин в сильном смущении появился на Красном крыльце.
– Пойдите да поговорите-ка с царевной Софьей Алексеевной! Как же, допустит она царицу к государю! Видно, что у них на уме свое дело. Да и обманула нас царевна: говорит, что здоровье государя лучше, а Гаден сказывал, что много, если царь еще дней с пяток или с неделю проживет. Посмотрите, что они изведут его царское величество, – зловеще добавил Нарышкин.
– А царевна-то сегодня? Каково? Надивиться не могу ее бесстыдству! – говорил Одоевский*, покачивая головою.
– Что и говорить! – отозвался князь Воротынский*. – Слыхано ли дело, чтобы когда-нибудь царевна, да еще с открытым лицом, выходила к мужчинам!
– Никакого женского стыда в ней нет, а помните ли, как прошлым летом, когда царица Наталья Кирилловна, проезжая по Москве, приподняла только занавеску в своей колымаге, как вся Москва заговорила и укоряла царицу за небывалое у нас новшество! А царевна-то что делает?
Бормоча и шушукаясь между собою, бояре нарышкинской партии спустились медленно с Красного крыльца и поехали домой.
Выпроводив Нарышкина из передней, царевна осталась там, поджидая выхода князя Василия Васильевича Голицына* из государевой опочивальни. Она догадывалась, о чем царь желал поговорить с князем, и сильно билось у нее сердце в ожидании, что скажет ей Голицын, который наконец показался на пороге передней. По лицу его было заметно, что беседа с государем расстроила его. Увидев Голицына, Софья бросилась к нему навстречу.
– Не удалось на этот раз, царевна! – сказал Голицын, печально покачав головою и с выражением безнадежности разводя руками. – Ссылается государь на волю покойного своего родителя и говорит, что после его кончины следует быть на царстве царевичу Петру Алексеевичу.
– Это дело Нарышкиных! – запальчиво вскрикнула Софья.
– Видно, ты, царевна, плохо сторожишь от них государя, – слегка улыбнувшись, заметил Голицын.
– Сторожу я его хорошо, от зари и до зари сижу при его постели! Не теперь, а давно Нарышкины опередили нас в этом деле. Они, как только скончался батюшка, пустили по Москве молву, будто он завещал престол царевичу Петру. Он, пожалуй, и вправду сделал бы это, если бы в ту пору, когда он отходил, пустили к нему нашу мачеху. Она сумела бы уговорить его, ведь ты знаешь, какую власть взяла она над нашим родителем…
– Просто-напросто околдовала его! – перебил Голицын.
– Полно, князь Василий! Нам нужно думать теперь о том, чтобы одолеть Нарышкиных не волшебством, а другими способами, и мне кажется, что стрельцы и раскольники могут пособить нам лучше всяких знахарей и кудесников…
– Ты правду говоришь, царевна! – как-то радостно вскрикнул Голицын. – Стоит только нам привлечь к себе Москву, а следом за ней наверно пойдет и все государство…
В это время в переходе, ведшем в переднюю, послышались чьи-то шаги. Царевна и князь быстро двинулись в разные стороны. Она вошла в опочивальню брата, а он в глубоком раздумье вышел на Красное крыльцо.
IV
Глубоко в памяти подраставшей Софьи Алексеевны запечатлелся суровый и величавый облик Феодосьи Прокофьевны Морозовой*, жены боярина Глеба Ивановича*. Царь Алексей Михайлович отменно жаловал и особенно чествовал эту знатную боярыню, деверь которой, боярин Борис Иванович Морозов, был женат на Анне Ильинишне Милославской, родной сестре царицы Марии Ильиничны*, и следовательно, приходился свояком государю. Каждый день боярыня Морозова приезжала вверх к царице Марии Ильиничне, чтобы вместе с нею слушать позднюю обедню. По нескольку раз в неделю бывала она за царицыным столом и редкий вечер не проводила с государынею, запросто беседуя с нею. Казалось, судьба дала Феодосье Прокофьевне все, чтобы она была счастлива в земной своей жизни: она была богата и знатна, и вся Москва говорила о ней, как о боярыне разумной, сердобольной и благочестивой. Морозова была дочь боярина Соковнина*, она вышла замуж за далеко не равного ей по годам Глеба Ивановича, так как ему во время брака было уже пятьдесят, а ей только минуло семнадцать лет. Но брак этот был удачен: молодая жена любила и уважала своего пожилого мужа, а он, как говорится, души в ней не слышал. Тридцати лет овдовела Морозова и жила первые годы после своего вдовства, как следовало жить богатой боярыне. Было у нее восемь тысяч крестьян, разного богатства считалось более чем на двести тысяч рублей, а в московских ее покоях прислуживало ей более четырехсот человек. Ездила она по Москве в карете, украшенной мусиею (мозаикою) и золотом, на двенадцати аргамаках* с «гремячими цепями», а около кареты ее ехало и бежало, по тогдашнему обычаю, множество дворовой челяди: иногда сто, иногда двести, а иногда даже и триста слуг. Но вдруг боярыня, ни с того ни с сего, перестала навещать родных и знакомых.
– Видно, больно возгордилась, уже слишком честят ее в царских палатах! – заговорили родные и знакомые.
Вскоре, однако, они увидели, что, отзываясь так, они сильно ошибались, потому что Морозова перестала показываться и во дворце, а между тем молва о добрых делах ее становилась в Москве все громче и громче.
– Совсем позабыла ты нас, Федосья Прокофьевна! – приветливо укорял царь Алексей Михайлович Морозову при встрече с нею.
– Прежней дружбы со мною вести не хочешь, – ласково выговаривала ей царица Марья Ильинична, когда боярыня, по необходимости, в праздники или в день своего ангела, с именинным калачом приезжала к царице.
На эти милостивые слова она не отвечала ничего и только смиренно кланялась царю и его супруге.
Скончалась царица Марья Ильинична, и царь позабыл на время о Морозовой, но когда наступило время второго его брака с Натальей Кирилловною, он вспомнил и указал Морозовой, как старейшей по покойному ее мужу боярыне, стоять первою между боярынями и говорить «царскую титлу».
С извещением о таком милостивом почете отправился к Морозовой царский стольник.
– Не буду говорить я царскую титлу, – отозвалась с недовольным видом Морозова, вместо того чтобы с радостью принять оказанную ей честь.
– Так и прикажешь сказать государю? – спросил изумленный стольник.
– Так и скажи, – решительно отвечала она.
Царский посланец только пожал плечами и поехал с дерзким ответом к государю.
– Нешто обидел я ее чем-нибудь? – спросил сам себя царь, как бы теряясь в догадках о причине отказа Морозовой, и отправил к ней ее седовласого дядю, боярина Михаила Алексеевича Ртищева*.
– Скажи бабе, чтобы не дурила, – было коротким поручением царя второму посланцу.
– Не велел тебе, племянница, его царское величество дурить, – сказал приехавший к Морозовой Ртищев. – И воистину ты дуришь! С чего не хочешь говорить царскую титлу на бракосочетании великого государя?
– Потому не хочу говорить, что мне придется назвать его благоверным, а какой же он благоверный, коль идет во сретение антихристу? – с негодованием отвечала боярыня.
Дядюшка, заслышав это, раскрыл от удивления рот и вытаращил глаза.
– Чего так смотришь на меня? Разве он благоверный? Еретик он! Могу ли я поцеловать у него руку? А в палатах его могу ли я уклониться от благословения архиереев? Нет, дядюшка, лучше пострадать, чем иметь сообщение с никонианцами, – сказала Морозова и, закрыв лицо руками, отчаянно замотала головою.
– Говоришь ты неправду! Святейший патриарх Никон* – муж великий и премудрый учитель, и новые книги, которые при нем напечатаны, правильны, – вразумлял Ртищев племянницу. – Оставь распрю, не прекословь великому государю и властям духовным. Видно, протопоп прельстил тебя?
– Нет, дядюшка, – с улыбкою перебила Морозова, – неправду говорить изволишь, сладкое горьким называешь. Протопоп* – истинный ученик Христов!
– Ну, поступай, как знаешь! – с досадою проворчал Ртищев. – Только берегись, смотри, чтобы не постиг тебя огнепальный гнев великого государя.
С этою угрозою старик приподнялся с кресла и поехал во дворец.
– Больна, ваше царское величество, боярыня Морозова, да так больна, что и со двора выехать не может, – доложил лживо Ртищев, спасая свою племянницу от государева гнева.
– Больна, так что ж тут поделаешь! Другой предназначенная ей честь достанется, – заметил кротко царь и пригрозил ездившему к Морозовой стольнику отдуть его батогами, чтобы он впредь на боярыню Федосью Прокофьевну облыжно не доносил.
В то время, когда боярыня беседовала с дядею, в подклети, то есть в нижнем жилье ее хором, шла другая беседа.
– Будет тебе, протопоп, лежать! Ведь ты поп, а стыда у тебя нет! – так говорил лежавшему на постели, одетому в подрясник мужчине стоявший посреди комнаты в одной грязной рубашке, с длинными растрепанными волосами и со всклоченною бородою парень лет за тридцать. – Посмотри на меня, днем я работаю во славу Господню, а ночью полежу да встану и поклонов с тысячу отброшу.
– Юродствуешь ты, Федька, дурь и блажь на себя напускаешь. Неужто ты мнишь тем угодить Господу Богу? Думаешь ты, что годится день-деньской шляться да разный вздор молоть, а ночью вскакивать да земные поклоны класть. Жил бы ты, как живут все люди, лучше бы было, – спокойно отвечал Аввакум Петрович.
– Нешто ты, протопоп, не знаешь, что Бог повелел пророку Исаии ходить нагу и босу, Иеремии возложить на выю клады и узы, а Иезекиилю возлежать на правом боку сорок, а на левом сто пятьдесят дней? Все это ты знаешь, да тебе бы только лежать, а я пророк и обличитель… Ты вот и молиться-то не охоч, сам лежа молитвы читаешь, мне же велишь за тебя земные поклоны класть, а я и от своих спину разогнуть не могу.
– Как же! Рассказывай! – насмешливо перебил Аввакум. – Богу достоит поклоняться духом, а не телодвижениями, а кто любит Христа, тот за него пострадать должен. А разве мало я настрадался? Был я, как ты знаешь, в великой чести, состоял при Казанском соборе протопопом, церковные книги правил, беседовал не только с боярами и патриархом, но и с самим царем, а предстала надобность, так от страданий не уклонился. Когда я был отдан под начало Илариону*, епископу рязанскому, каких только мук не натерпелся я! Редкий день не жарил меня епископ плетьми, принуждая к новому антихристову таинству, а батогам так и счету нет. Сидел я в такой землянке, что в рост выпрямиться не мог, тяжелые железы с рук и ног моих не снимали. А в Сибири сколько страданий я перенес, да и не один, а была со мной моя протопопица! Где мы только с ней не блуждали! Не раз хищные звери устремлялись на нас, и только Господь охранял нас своею благодатью. Вот такие страдания подобают человекам, а не дурачества вперемежку с молитвой.
Федор присмирел и присел на пол на корточки. Охватив колени обеими руками, он начал качаться из стороны в сторону.
– Вот хотя бы ты, Федор, вместо того чтоб попусту юродствовать, вышел бы на площадь, разложил бы костер, да и сжег бы на нем новые книги! – начал опять Аввакум.
– А что, и вправду! Завтра же сделаю! Да где только таких книг достать? – привскочив с полу, крикнул юродивый.
– Где достать? Да боярыня их хоть целый воз закупит!
– Ай да ладно! Пышь! Пышь! – весело выкрикивал Федор, подскакивая на одной ноге по комнате.
– И коли пострадаешь, так пострадаешь за дело, – внушал Аввакум. – Вот Киприан тоже юродствовал, да смел был, за то и сподобился мученической кончины, когда ему в Пустоозерском остроге голову отрубили. Страдальцем за истинную веру стал, а ты что?
– Погоди, протопоп! Придет и моя череда! – продолжая подпрыгивать, крикнул Федор.
Он не ошибся, так как его вскоре за упорство в староверстве повесили в Мезени.
Об Аввакуме, нашедшем себе убежище по возвращении из Сибири в доме Морозовой, часто толковали и в царских хоромах и в кремлевских теремах, как о ревностном поборнике раскола. Давно слышала о нем царевна Софья и наметила его в числе людей, которые должны были служить орудием ее замыслов.
V
Проводив Ртищева, Морозова принялась за обычные занятия, а их у нее было не мало: всеми делами обширного своего как городского, так и деревенского хозяйства заправляла она сама, да сверх того были у нее и другие хлопоты. Дом ее был полон посторонними людьми, которых она у себя приютила. Кроме Аввакума, Федора и Киприана, жило у нее еще несколько юродивых мужчин и женщин, а также пять инокинь, изгнанных из монастырей за приверженность к древнему благочестию. Проживали у нее также сироты, старицы, странницы, захожие черницы и калеки. Одних нищих кормила у себя боярыня человек по сто каждый день. Словом, благочестие господствовало в доме Морозовой, а чтение священных книг и молитвенное пение немолчно слышались в ее обширных хоромах.
Много добрых дел творила она на стороне: выкупала с правежа* должников, щедрою рукою раздавала милостыню нищим, посещала колодников; ездила она также и по церквам и монастырям, оскверненным никонианами, но делала это, как говорила она, только «из приличия». Не довольствуясь благочестивыми подвигами, она захотела постричься в монахини, хотя ей встречалось в этом случае особое затруднение: сын Морозовой подрастал и предстояло вскоре справлять его свадьбу, на которой ей пришлось бы быть хозяйкою, а в иноческом чине этого делать не подобало.
– Пусть будет, что будет, а о душе надобно пещись прежде всего, – сказала боярыня и решилась постричься, несмотря на то что от такого намерения отклонял ее Аввакум.
И тайно от всех ее постриг бывший игумен Домфей, один из ревностнейших расколоучителей. Аввакум и после этого сохранил свою прежнюю силу над боярынею-инокинею, и любила она часто и подолгу беседовать с ним.
– Не наделил их Господь разумом, – говорил однажды протопоп боярыне. – Оба царевича и все царевны куда как тупы рассудком, одна царевна Софья Алексеевна заправская умница и чем более подрастает, тем более крепнет умом. Сказывал мне не раз князь Василий Васильич Голицын, что не может надивиться ее светлому разуму, все она в толк взять может. Как заговорят с нею о делах государственных, так она складнее всякого боярина и думного дьяка рассуждает, да и к книжному учению она куда как прилежит. Поверишь ли, матушка, что она писание Сильвестра Медведева вчерне поправляла и на многие погрешности ему указала и недомыслия его разъяснила! Послушала бы ты, что о ней князь Иван Андреевич Хованский* рассказывает. Да и вообще слышно, что такой разумной девицы никогда в целом свете еще не бывало…
– Вот бы ее от никонианства отвратить да преклонить бы на нашу сторону! Царевна ведь! – перебила Морозова.
– Велика важность, что царевна! – с презрением отозвался протопоп. – Пожалуй, и ты Бог весть что о себе думаешь? Али ты лучше нас тем, что боярыня? Помни, что одинаково над нами распростер Бог небо, одинаково светит нам месяц и сияет солнце, а все прозябающее служит мне не меньше, чем и тебе, – говорил протопоп, повторяя в главных чертах свое основное учение.
Протопоп призадумался. В голове его зашевелилась обычная, не дававшая ему покоя мысль.
«Богу достоит поклонятися духом, – думал он. – Ошибки в церковных книгах сами по себе небольшая еще беда, и по таким книгам и даже вовсе без книг может молиться тот, кто захочет. Книги – только предлог, чтоб поднять народ против государственного и мирского строения».
– Нет, матушка, нам нужна не царевна, а ее душа, ведь и у нее такая же душа, как и у меня, а душа человеческая – не игрушка. Справим мы наше мирское дело и без царевен. Тот, кто на земле пребывал на доле, пребудет по смерти на высоте.
– О царевне Софье Алексеевне я заговорила, отец протопоп, потому только, что твоя пречестность сам навел меня на мысль о ней своими речами, – робко извинялась Морозова.
– Ни кого и ни на что не навожу я моими речами, – резко отозвался суровый Аввакум, а сам между тем подумал: «Как бы все-таки хорошо было, если бы удалось уловить в сети раскола умную и бойкую Софью Алексеевну!»
Как ни таила Морозова свою принадлежность к расколу, но молва об этом дошла наконец до царя. Проведал он также, что она привлекла к расколу и сестру свою, боярыню княгиню Евдокию Прокофьевну Урусову*. Подшепнули великому государю и о том, почему боярыня Морозова несколько лет тому назад не захотела сказывать на свадьбе его величества «царскую титлу». Узнав об этом, «тишайший царь» пришел «в огнепальную ярость» и отправил снова к боярыне дядю ее Михаила Алексеевича Ртищева. На этот раз дядя поехал не один, а взял себе на подмогу свою дочь Анну, двоюродную сестру Федосьи, которую прежде так нежно любила Морозова.
Боярин заговорил племяннице свои прежние речи, но встретил с ее стороны ту же непреклонность. Заговорила после него Анна.
– Ох, сестрица, – сказала она, – съели тебя старицы. Как птенца отучили тебя они от нас; не только нас презираешь, но и о сыне своем не радеешь, а надобно бы тебе и на сонного его любоваться, над красотою его свечку поставить! Сколько раз и великий государь красотой его любовался…
– Не прельщена я старицами, – сурово отвечала Морозова. – Творю я все по благости Бога, которого чту целым умом, а Христа люблю более, чем сына. Отдайте моего Иванушку хотя на растерзание псам, а я все-таки от древнего благочестия не отступлю. Знаю я только одно: если я до конца в Христовой вере пребуду и сподоблюсь за это вкусить смерть, то никто не может отнять у меня моего сына; в царствии небесном соединюсь я с ними паки.
Ртищев убедился, что попусту будет уговаривать упорствующую племянницу. Он распрощался с нею, поехал к царю и доложил обо всем по правде, боясь, что теперь и помимо него государь проведает.
Алексей Михайлович нахмурил брови.
– Ступай к боярыне Морозовой, – обратился он к бывшему при докладе Ртищева князю Троекурову*, – и скажи, что тяжко ей будет бороться со мною. Один кто-нибудь из нас одолеет, и наверно одолею я, а не она!
Вернулся князь Троекуров от Морозовой и коротко и ясно донес государю, что боярыня покориться не хочет и новых книг не принимает.
Заговорили в теремах об ослушании Морозовой перед царскою волею.
– Вишь ведь какая упорная!.. – повторяли женщины, окружавшие Софью Алексеевну. – Только боярыня, а как упорствует, никого себе в версту не ставит!
Чутким ухом прислушивалась девятнадцатилетняя царевна к рассказам о Морозовой.
«Вот и женщина, – думалось ей, – а по твердости нрава и по смелости не уступает мужскому полу. Не будь только робка, а наделаешь много», – добавляла мысленно царевна, и пример Морозовой ободрял молодую девушку в ее намерении действовать решительно и отважно, если бы представился к тому случай. Захотелось ей также узнать и о расколе, которого так крепко держалась Морозова, и с вопросом об этом обратилась она однажды к князю Ивану Андреевичу Хованскому, который тоже слыл в Москве тайным врагом никониан.
– Тут, благородная и пресветлейшая царевна, выходят разные церковные препирательства, – отвечал уклончиво князь Иван на вопрос царевны о различии между новою и старою верою. – Ведать об этом должен духовный чин, а не мы, миряне. Думается, впрочем, одно: в том, что зовут ныне у нас расколом, кроется небывалая народная сила, и что если она поднимается, то трудно будет одолеть ее мирским и духовным властям. Вознесет она того, кто будет ею править…
Такой отзыв Хованского о расколе зародил в ней мысль воспользоваться, когда придет пора, этою грозною силою.
VI
Почти с год оставил царь Морозову в покое, как вдруг до него дошел слух, что она не называет его благоверным.
– Не именует меня благоверным, стало быть, не признает моей царской власти! – вспылил он и отправил к Морозовой боярина князя Петра Семеновича Урусова с повторительным требованием, чтобы она покорилась.
Сообщил Урусов царское повеление своей снохе и грозил ей страшными бедами.
– Почто царский гнев на мое убожество? – смиренно отвечала Морозова. – Если царь хочет отставить меня от веры, то десница Божия покроет меня. Хочу умереть в отческой вере, в которой родилась и крестилась.
– Не покоряется боярыня твоему царскому величеству, – печально доложил Урусов царю.
– Не покоряется? Так разнесу я ее вконец! – грозно крикнул великий государь и гневно затряс своею темно-русою бородою.
Урусов, выйдя из дворца, поспешил домой, чтобы через свою жену предупредить Морозову о предстоящей ей беде. Но с бесстрашием выслушала боярыня эту грозную весть.
– Матушки и сестрицы мои во Христе Иисусе! – заговорила она, собрав около себя всех живших в доме ее монахинь и странниц. – Наступил час пришествия антихристова, беда движется на нас, идите вы все от меня, куда вас Господь наставит, а я одна буду страдать за вас.
– Ты одна не останешься, я с тобою до конца пребуду! – заливаясь слезами и кидаясь на шею сестры, вскрикнула княгиня.
Между тем сильно струхнувшие старицы и странницы, позабрав наскоро свои мешки и котомки и получив от боярыни денежную и съестную подачку, с плачем и жалобными причитаниями выбрались из ее хором и разбрелись по Москве и за Москву во все стороны.
Стало вечереть, на колокольнях московских церквей отзвонили ко всенощной. Загородили в Москве улицы на ночь рогатками, и все успокоилось, как будто замерло в городе. Отходя ко сну, боярыня и княгиня сотворили усердную и продолжительную молитву, после которой Морозова легла в постельной, а княгиня в соседней комнате. Они крепко спали, когда вдруг на улице около хором послышался шум, а следом за тем раздался сильный стук в воротах, в которые колотили несколькими палками с настоятельным требованием, чтобы тотчас же отсунули затвор.
– Царская посылка к нам прибыла! – в ужасе вскрикнула проснувшаяся боярыня.
Она хотела вскочить, но ноги у нее от страха подкосились, и она снова опустилась на постель.
– Не бойся, сестрица! – отозвалась из другой комнаты тоже проснувшаяся княгиня. – Христос с нами! Сейчас приду к тебе, положим начало нашим страданиям.
Княгиня спешно вошла в постельную.
Пока отворяли ворота и слышались тяжелые шаги шедших по лестнице людей, обе сестры клали на прощанье одна перед другою земные поклоны, а потом, благословясь друг у друга, легли на прежние места.
Вскоре дверь в постельную отворилась, и при тусклом свете лампад боярыня увидела перед собою седобородого архимандрита Чудова монастыря Иоакима* в сопровождении думного дворянина Лариона Иванова.
– Встань, боярыня! – повелительным голосом сказал вошедший архимандрит. – Я принес тебе царское слово.
Боярыня не отозвалась на эту речь и даже не пошевелилась.
– Встань, говорю тебе! – прикрикнул Иоаким. – В присутствии духовного лица лежать тебе не приличествует.
– Я больна, – пробормотала Морозова.
– Ну, перемогись, а все-таки встань. Говорю тебе не от своего имени, а от имени благоверного великого государя.
– Какой он благоверный! – вспылила Морозова, быстро привскочив в постели, и затем снова опустилась на нее.
– Говорить так тебе негоже, – внушительно заметил архимандрит, – да и лежать теперь не след; не можешь стоять по болезни, так хотя посиди на постели.
– Не встану и не сяду, – отозвалась упорно Морозова и с этими словами отвернулась на постели от архимандрита.
– Добром с тобою, как видно, ничего не поделаешь; спрошу благоверного государя, как повелит он поступить с такою ослушницею.
– Какой он благоверный! – сердито проговорила Морозова.
Архимандрит сделал вид, что не слышал этих предерзостных слов.
– Посмотри, кто там, в другой горнице, – приказал он думному дворянину.
– Ты кто такая? – окликнул Иванов, заглянув в соседнюю комнату и увидав там лежавшую на лавке женщину.
– Я жена боярина князя Семена Петровича Урусова, – отозвалась княгиня.
– А спроси-ка ее, как она крестится? – приказал Иоаким Иванову.
Княгиня быстро соскочила с лавки и, вбежав опрометью в постельную, остановилась перед архимандритом.
– Сице* верую! – закричала она, подняв руку, сложенную в двуперстное крестное знамение.
Архимандрит только крякнул и значительно покачал головою.
– Сторожи-ка их здесь, не пускай никуда, а я отправлюсь к его царскому величеству испросить, как велит он поступить с ними, – сказал Иоаким дворянину.
С этими словами архимандрит вышел, а Иванов остался караулить боярынь.
Когда архимандрит пришел в царские палаты, пробило четыре часа утра, и царь Алексей Михайлович был уже на ногах. Архимандрит доложил царю, чем кончилась его посылка, и рассказал, как Морозова крепко сопротивляется царскому велению, прибавив, что и княгиня Урусова оказалась непокорна.
– Истинно ли ты говоришь? – спросил, удивившись, царь. – Не думаю я, чтобы так было. Слышал я, что княгиня смиренна и не гнушается нашей службы, а про боярыню я давно знаю, что люта и сумасбродна.
– Сестра боярыни, – возразил Иоаким, – не только уподобляется ей, но еще злее ругается.
– Так возьми их обеих под караул да допроси хорошенько слуг Морозовой! – распорядился царь.
Архимандрит из царских палат отправился снова в хоромы боярыни Морозовой.
– Велено отогнать тебя от дому; полно жить на высоте, сойди долу! – торжественно заявил он, входя в постельную. – Встань и иди отсюда!
Боярыня лежала и безмолвствовала. Как настоятельно и грозно ни приказывал ей встать с постели архимандрит, она, казалось, не обращала никакого внимания.
– Нечего делать! – сказал он Иванову. – Приходится забирать ее силою.
Думный дворянин отворил окно, крикнул во двор, и на зов его вошли в постельную несколько стрельцов.
По приказанию архимандрита они приподняли с постели полновесную боярыню и, посадив ее силою в кресла, понесли из хором.
На поднявшийся шум прибежал наверх молодой боярин Иван Глебович. Он хотел было проститься с матерью, но его не допустили, и он мог только положить ей вслед земной поклон.
Княгиня не упорствовала. Она беспрекословно подчинилась приказу архимандрита идти в людскую хорому, в которую втащили на креслах и Морозову. Там по приказанию архимандрита заковали им руки в тяжелые железа, а на ноги надели конские железные путы и держали их так два дня под крепким караулом. На третий день приказано было доставить их в Чудов монастырь, в так называемую вселенскую, или соборную, палату. Княгиня пошла пешком, а упорствовавшую Морозову понесли на креслах. Толпа народа валила за нею, и в этой толпе шел разноречивый говор: одни осуждали Морозову за упорство, а другие, напротив, превозносили ее мужество и стойкость.
VII
Во вселенской палате ожидал боярыню и княгиню крутицкий митрополит Павел*, а также сановные люди церковного и мирского чина. Там сопротивление Морозовой началось с того, что она оказывала властям презрение и неуважение и не хотела говорить с ними стоя. Как ни бились, чтобы заставить ее стоять, но ничего не могли поделать. Приподнимут ее, а она опустится и присядет на кресло или на пол. Станут держать ее под руки, она рвется, мечется и отбивается.
– Я помню честь и породу Морозовых, – кричала она, – и перед вами стоять не буду.
Власти наконец уступили Морозовой, допустив, скрепя сердце, чтобы она сидела в кресле.
– Прельстили тебя старцы и старицы, с которыми ты так любовно водилась, – начал свое пастырское увещание Павел, – покорись царю и вспомни сына.
– Не от старцев и стариц прельщена я, – бойко возразила Морозова, – а навыкла от праведных рабов Божиих истинному пути и благочестию. Ты вспомнил мне о сыне, но знай, что я живу для Христа, а не для сына.
Долго бился Павел с обеими боярынями, но чем более продолжались увещания, тем упорнее делались они обе и тем дерзновеннее становились их речи.
– Дьявол тебя погубил, сдружился ты с бесами, мирно живешь с ними, любят тебя они! Скольких ты порубил и пожег христиан, скольких низвел в ад! – с торжественным укором говорила Морозова, обращаясь к епископу рязанскому Илариону, мучителю Аввакума.
Истомились порядком духовные власти и, убедившись, что приходится отказаться от дальнейших увещаний, постановили: предать непокорных боярынь мирскому суду. Тогда повели их в монастырскую подклеть. Там, в мрачном подвале, под низко нависшими сводами, с окошечками, заслоненными толстыми железными решетками, стояли на полу две большие, тяжелые деревянные колоды, так называемые «стулья», со вделанными в них железными цепями, на конце которых были железные ошейники, или огорлия.
– Вхожу я в пресветлую темницу! – радостно проговорила Морозова, когда ее ввели в подклеть.
Ее подтащили к колоде и приподняли с полу огорлие.
– Слава тебе Господи, что сподобил меня, грешную, носить узы! – сказала Морозова, перекрестясь и целуя огорлие, которое стрельцы надели на шею боярыни, заперев его на большой висячий замок.
– Не стыжусь я поругания, а веселюсь во имя Христа, – добавила она, когда холодное железо плотно охватило ее шею.
После этого обеих боярынь, вместе с колодами, взвалили порознь на дровни. Сестры поняли, что их хотят разлучить.
– Поминай меня, убогую, в твоих молитвах! – крикнула на прощанье Морозова сестре.
И действительно, из Чудова монастыря Морозову повезли на печерское подворье, а Урусову в Алексеевский монастырь. Когда первую провозили мимо кремлевских палат, то она, думая, что царь смотрит на нее в окно, умышленно привстала на дровнях и беспрестанно крестилась двумя перстами.
На подворье Морозову посадили в темный подвал. Железный ошейник скоро протер ее нежную и белую шею до кровавых мучительных ран, а оковы изъязвили ей руки и ноги. Боярыня, однако, не роптала и не смирялась, а скорбела лишь о том, что короткая цепь и тяжелые оковы не допускали ее класть земные поклоны. В свою очередь и княгиня упорствовала. Сидя в Алексеевском монастыре, она, в противность воле царской, не хотела ходить в церковь, и ее, «как мертвое тело», носили туда на рогоженых носилках.
– Зачем волочите меня! – вопила она. – Не хочу я молиться с вами.
Скоро об упорстве Урусовой заговорили в Москве, и в Алексеевский монастырь стала съезжаться московская знать, а также стало сходиться множество народа, чтоб смотреть, как «волокут» княгиню в церковь.
Минул почти год со времени заточения обеих сестер, когда на патриарший престол вступил Питирим*. Игуменья Алексеевского монастыря доложила вновь поставленному святейшему владыке о том соблазне, какой причиняет Урусова своим упорством, а кстати напомнила и о Морозовой. Новый патриарх, мирволивший расколу, завел с государем речь о заточенных боярынях.
– Советую твоему царскому величеству, – сказал Питирим государю, – отдать вдовице Морозовой дом да дворов сотницу за потребу, а сестру ее, княгиню, отдал бы ты князю; так приличнее будет. Дело их женское, что они смыслят?
– Давно бы я так сделал, да не знает твое святейшество лютости боярыни. Надругалась она, да и ныне надругается надо мною. Не веришь, так испытай сам; позови ее к себе и узнаешь, какова она; и когда вкусишь неприятное, тогда я и сделаю, что повелит твое владычество.
На другой день после этого разговора Морозову представили снова во вселенскую палату перед патриархом.
– Приобщись, боярыня, – сказал кротко святитель, – по тем служебникам, по которым причащается благоверный великий государь и его благочестивое семейство.
– Не у кого мне приобщаться, – резко отозвалась Морозова.
– Как не у кого? – с удивлением спросил патриарх. – Попов в Москве много.
– Много, да истинных нет! – перебила боярыня.
– Ну, так я приобщу тебя, – уступчиво предложил патриарх. – Я вельми пекусь о тебе.
– Да разве есть какая разница между тобою и ими? – вскрикнула с негодованием Морозова. – Все вы еретики. Никон был еретик, и вы ему подобны. Ты исполняешь только веленья земного царя! Отвращаюсь от тебя и не хочу твоего приобщения!
Так как Морозова во время разговора не хотела стоять перед патриархом, то стрельцы поддерживали ее по сторонам, так что она висела у них на руках. Патриарх между тем приказал облачить себя и хотел помазать Морозову елеем.
Увидев эти приготовления, она быстро выпрямилась во весь рост и, подняв вверх сжатые кулаки, зазвенела цепями.
– Не губи меня, грешную, отступным маслом! – неистово ревела она. – Неужели ты хочешь одним часом погубить весь мой труд? Отступись, а не то опростоволошусь, сорву с головы убрус!* Осрамлю и тебя и себя, – угрожала Морозова, так как, по тогдашнему обычаю, женщине позорно было показаться, а мужчинам видеть ее с непокрытою головою.
– Вражья ты дочь! – пробормотал патриарх. – Отныне я и сам отступаюсь от тебя, – торжественно на всю палату возгласил он, выведенный из терпения решимостью Морозовой опозорить патриаршие седины.
Вкусив неприятное, патриарх обо всем происходившем в Чудове монастыре доложил государю.
– Сожжем ее, владыко, в срубе! – заревел в ярости «тишайший» царь Алексей Михайлович. – А тем временем я сумею распорядиться с нею, – добавил он, грозно пыхтя от гнева при своей царственной тучности.
Между тем к страдавшим за древнее благочестие боярыням присоединились и их прежние сопричастницы.
При разброде из дома Морозовой стариц и странниц успели между ними скрыться инокиня Мария и старица Меланья, до такой степени влиявшая на Морозову, что последняя, как она сама говорила, «отсекла перед Меланьею вконец свою волю». Беглянок этих успели, однако, захватить и теперь их привезли на ямской двор, куда доставили также боярыню и княгиню. Когда там их всех собрали в пыточную избу, то туда вошли бояре: князь Воротынский, князь Яков Одоевский и Василий Волынский*.
Зловеще выглядывала пыточная изба: устроенная посреди нее дыба, лежавшие на полу веревки, ремни, цепи, плети и кнуты показывали, что здесь занимались мучительскими делами, и, вдобавок к этой обстановке, наводившей ужас, один из палачей разводил огонь на кирпичном полу избы под сделанной в потолке трубою.
– Что ты, Федосья Прокофьевна, понаделала? – сказал, сострадательно покачивая головою и обращаясь к Морозовой, князь Воротынский. – От славы дошла до бесчестия. Вспомни только, какого ты рода!
– Не велико наше телесное благородие, – отвечала равнодушно Морозова на укорительное увещание Воротынского, – а слава земная – суета. Вспомни только, что Сын Божий жил в убожестве и был распят жидами. Что же после того значат все наши страдания? Обещалась я Христу и не хочу изменить ему до последнего вздоха. Не страшны мне ни изгнание из дому, ни узы, ни царский гнев, ни истязания…
Воротынский, смешавшись, замолчал и, исполняя царское повеление, приказал приступить к пытке.
Палачи подвели к дыбе Марию, обнажили ее по пояс, стянули ей назад руки ремнями и, прикрепив к ним конец веревки, шедшей с потолка по блоку, стали поднимать Марию на встряску. Завизжал блок, и заскрипела на нем веревка, на которой тянули к потолку страдалицу; послышался отчаянный визг, захрустели суставы. Между тем один из палачей, привстав с зажженною в руках лучиною на чурбан, стал водить ею по голой спине несчастной.
– Это ли христианство, чтобы так людей мучить! – вскрикнула Морозова и сильно рванулась к Марии, но тяжелые оковы и короткая цепь с колодою удержали ее на месте.
Первый допрос кончился. Марию спустили с дыбы и вытащили во двор. Наступила очередь Морозовой; с нее сняли цепи и ошейник, крепко затянули ей ремнем руки за спиною и ремнем же связали ноги; после этого ее приподняли на дыбе, а палач начал задавать ей встряски, состоявшие в том, что он ставил на ремень, которым были связаны ноги боярыни, свою ногу и сильными ударами по ремню оттягивал вниз висевшую на дыбе Морозову. От таких ударов руки, стянутые назад, выходя из суставов, заходили все выше за спиною и стали потом подниматься над головою пытаемой. Полчаса провисела Морозова на дыбе, и в это время истязатели то увещевали, то допрашивали ее, но она и среди жестоких мук не отвечала им ничего, а только славословила имя Христово.
– Ремень протер мне кожу до жил, – проговорила она, когда ее спустили с дыбы, взглянув на свои руки, около кистей которых и без того уже были язвы, натертые оковами, а теперь явились и кровавые раны.
Морозову вытащили также во двор и положили на снегу так, что в ногах у нее пришлась Мария, за которую палачи принялись теперь снова. Они били ее в пять плетей сперва по спине, а потом по животу, а между тем бояре угрожали Морозовой, что и ей будет то же самое, если она не откажется от ереси. Но она и сострадалица ее оставались непреклонными. Измученную Морозову отвезли снова на печерское подворье, куда неожиданно привели к ней Меланию.
– Уже дом твой, матушка, готов, – заговорила она радостно Морозовой. – Вельми он добр, целыми снопами соломы уставлен. Отойдешь ты скоро в блаженство!
– Знаю, что ты говоришь, Меланьюшка. Пойду я в жертву Христу, как свечка. Ничего я не боюсь. Испытала я разные страдания, не испытала только сожжения, пусть же испытаю и огненную смерть!
Не лгала Меланья, говоря Морозовой о том доме, который ей был приготовлен, и не ошиблась боярыня, предугадывая, что ее сожгут.
Царь, действительно, порешил сжечь Морозову на страх еретикам, и на так называемом Болоте, в московском пригороде, был уже приготовлен сруб для этой страшной, обычной, впрочем, в то время казни. Меланью водили на Болото, а потом впустили к Морозовой, чтобы она напугала боярыню. Когда, однако, дело не шутя пошло о сожжении Морозовой, то бояре «не потянули» в сторону царя, и он, в угоду им, отменил свой указ, повелев отвезти Морозову в Новодевичий монастырь и содержать там ее под крепким караулом «и каждодневно волочить к церковному пению». Меланью же и другую сподвижницу Морозовой, старицу Иустину, сожгли, и у раскольников сохранилось предание, что в час сожжения Меланьи и Иустины они наяву в видении предстали Морозовой с радостными ликами в сияющих ризах. Сожгли также в Боровске и бывшего холопа Морозовой, за то что он добросовестно сохранил часть богатства, принадлежавшего опальной боярыне.
Твердость духа в Морозовой поддерживал протопоп Аввакум, который, несмотря на строгость надзора, успевал доставлять заточенным свои послания. Называя Морозову и сестру ее ангелами земными, столпами непоколебимыми, камнями драгоценными, звездами немеркнущими, он поучал их не бояться убивающих тело, а потому не могущих уже ничего сделать. «Мучьтесь за Христа хорошенько, – писал протопоп, – не смотрите вперед, не оглядывайтесь назад. Побоярили на земле довольно, нужно попасть в небесное боярство».
Много наслышалась в тереме царевна Софья о страданиях Федосьи Морозовой, и неукротимая духом боярыня представлялась ей образцом женской твердости, хотя бы твердость эту и приходилось применить к другим целям. Наслышалась она немало и о протопопе Аввакуме, и ей очень желалось познакомиться с этим отважным вожаком раскола, вступившего в смелую и упорную борьбу как с царскою, так и с церковною властью.
VIII
– Что приведется нам делать, когда не станет государя? Притеснят нас мачеха и Нарышкины, житья нам от них не будет, погубят они нас. Сказал Гаден, что братцу жить осталось лишь несколько дней, а я объявила боярам, что ему лучше стало! – Так шепталась царевна Софья Алексеевна с дальним родственником своей матери, боярином Иваном Михайловичем Милославским*, поседевшим в крамолах, а теперь, по уважению к старости и родству, забравшимся, как гость, в терем царевны.
– Ты разумно поступила, царевна, пусть кончина государя застанет наших недругов врасплох, а сами мы подготовимся на тот случай, когда совершится воля Божия… А видала ли ты сегодня, царевна, князя Василия Васильевича?
При этом имени царевна несколько смутилась, а опытный глаз Милославского подметил ее смущение.
– Знаю, царевна, что он тебе мил, – сказал, не стесняясь, Милославский. – Да и кто же укорит тебя за это? Князь Василий человек уже старый, да и любишь ты его не девичьим сердцем. Какая это любовь! Он боярин умный, всегда благой совет подать может, держись его.
– Поговорим лучше о деле, – с живостью перебила царевна, стараясь замять начатый разговор. – Я спрашивала тебя: что нам делать, когда по воле Божией не станет государя-братца?
– Просто объявить царем Ивана Алексеевича*. Ведь престол принадлежит ему и по праву первородства. Слыхано ли дело, чтобы можно было обойти старшего!
– Да ведь братец Иванушка хил, неразумен и почти что слеп. Куда же он годится? – заметила Софья.
– А ты на что, государыня царевна? – смело и глядя в упор на Софью проговорил Милославский. – Разве ты за него править царством не сможешь?
Царевна встрепенулась, гордо и самоуверенно взглянув на Милославского.
– Пусть Нарышкины затевают что хотят, да и мы не оплошаем. Козни их я давно знаю. Вспомни, царевна, что еще при кончине царя Алексея Михайловича сродник их, боярин Матвеев*, уговаривал государя, чтобы он обошел обоих старших братьев и объявил своим наследником царевича Петра Алексеевича. Дело к тому и шло, да мы тогда помешали, не пустили царицу Наталью Кирилловну к государю перед его кончиною. Стащили с постели царевича Федора Алексеевича, еле он мог тогда подняться, и посадили его на всероссийский престол. Помешаем и теперь. Мы всю Москву против нарышкинского отродья восставили и изведем его вконец! – злобно добавил Милославский. – Знаешь, благоверная царевна, иди-ка в царскую опочивальню, не отходи напоследки от государя, а если что проведаешь, то пришли вечерком ко мне Родилицу, да и я, быть может, передам тебе с нею кой-какие весточки.
Милославский поклонился царевне, но, уходя от нее, он вдруг в раздумье остановился.
– Видно, ты, Иван Михайлович, позабыл мне что-нибудь сказать? – спросила царевна.
При этом оклике Милославский вздрогнул и медленно возвратился к Софье Алексеевне.
– Не знаю, говорить ли тебе, царевна, что у меня теперь на уме; пожалуй, тебе страшно будет. Ты, чего доброго, не решишься на то, что необходимо придется сделать, – проговорил как-то нехотя боярин.
– Видно, ты плохо знаешь меня, Иван Михайлович, – бодро отозвалась царевна, – убеди только меня в необходимости, а я решусь на все.
Боярин вытащил из-за пазухи своей ферязи* сложенный лист бумаги и подал его Софье Алексеевне.
– «Бояре Иван Кириллович, Кирилл Полуэктович, Афанасий Кири…» – начала читать Софья, развернув лист. – К чему ж ты это написал? Все они наши заклятые враги; их и без тебя я хорошо знаю, – сказала царевна, устремив смелые глаза на Милославского и возвращая ему бумагу.
– Разумеется, ты их и без меня знаешь, царевна, да не ведаешь только, что с ними нужно сделать, – загадочно возразил Милославский.
– Нужно настоять у братца-государя, чтобы он отправил их поскорее в ссылку, – перебила Софья, – да это трудно будет добиться: он больно уж добр.
Иван Михайлович улыбнулся.
– Что ссылка, царевна! – махнув небрежно рукою, возразил он. – Разве из нее люди не возвращаются? Помяни мои слова: как только посадят царевича Петра Алексеевича на престол, так в сей же час Артамон Матвеев явится снова в чести и в славе. Разве ссылкою можно отделаться от врагов? Отделываются от них… смертью! – решительно проговорил Милославский с сильным ударением на последнем слове.
Царевна вздрогнула.
– Испугалась? – насмешливо заметил Милославский. – Неужели ты думаешь, что если Нарышкины возьмут верх, то они дадут нам пощаду?
С усиленным волнением слушала царевна внушения своего клеврета*. Двадцатичетырехлетняя девушка, хотя и не рожденная с кротким и сострадательным сердцем, колебалась поддаться тому страшному искушению, в которое вводил ее беспощадный советник.
– Зачем ты, Иван Михайлович, говоришь об этом? Расправлялся бы ты сам, как знаешь, а меня зачем на такой страшный грех наводишь? – говорила с выражением неудовольствия взволнованная царевна.
– Говорю я тебе вот почему: первое, если ты будешь во власти, то, чего доброго, почтешь верных тебе людей за злодеев и вздумаешь казнить их за то только, что они, поусердствовав тебе, избавят тебя от твоих недругов. Второе, не дрогнет ли, царевна, твое женское сердце, когда начнется кровавая расправа? Ты не будешь знать, пора ли или не пора еще окончить ее, и, пожалуй, захочешь рано прекратить ее, а тогда враги твои останутся в живых на твою же погибель. Теперь, когда я показал тебе перепись, ты можешь быть уверена, что, кроме тех, о которых я тебе в ней заявил, никто больше не погибнет. Других не тронут. Прямого твоего согласия на истребление Нарышкиных и их соучастников я от тебя не требую. Довольно с меня, если ты только не будешь перечить. Не забывай, царевна, что если мы не расправимся с нашими недругами, то они расправятся с нами смертельным боем, а на тебя, царевна, наденут черный клобук…* А он молодую голову куда как крепко жмет! – насмешливо-угрожающим голосом добавил Милославский.
– Делай что хочешь, – твердо проговорила царевна, – и знай, что передо мною никто в ответе за Нарышкиных и их единомышленников не будет!
Сказав это, она рванулась в сторону, как бы желая освободиться от дальнейшего разговора с боярином.
– Помни же слова твои, благоверная царевна, и не отступись от них! А теперь сторожи хорошенько государя и если усторожишь его, то, статься может, все уладится мирно.
От царевны Милославский через Спасские и Иверские ворота выехал на Царскую, нынешнюю Тверскую, улицу. Улица эта по своим постройкам не многим отличалась от других местностей тогдашней Москвы. По ней, рядом с убогими избами, лачужками и незатейливыми домиками, стояли вперемежку большие деревянные хоромы бояр, которые жили и в государевой столице, словно у себя в вотчине, в деревенском раздолье. За боярскими хоромами широко расстилались сады и огороды, во дворах были людские и конюшни и множество разных хозяйственных построек. Каждый боярский дом был окружен плотным высоким забором с наглухо запертыми и день и ночь воротами. В конце Царской улицы, около нынешней Тверской площади, заметно выделялся из ряда других построек большой, в два жилья, каменный дом, и ярко блистала на нем в солнечные дни гладко полированная медная крыша.
Шумно, по тогдашнему обычаю, двигался по Царской улице боярский поезд. Слуги, ехавшие верхом и бежавшие с палками в руках, все без шапок, перед рыдваном Ивана Милославского, кричали во всю глотку: «Гис! Гис!» – предупреждая всех встречных, чтобы они сторонились и давали дорогу ехавшему боярину. Развалясь в рыдване на мягких бархатных подушках, Милославский тихо подъезжал к каменному боярскому дому. Не торопливо, с важностью, свойственною знатным людям того времени, вылез он из своего рыдвана и, поддерживаемый по сторонам слугами, стал медленно подниматься по широкой каменной лестнице, украшенной стенною живописью.
Дом с медною крышею, в который приехал теперь Иван Михайлович, не слишком отдавал стародавнею Москвою, Заметно было, что живший в нем боярин успел уже порядком освоиться с иноземными новшествами. В больших окнах просторных и высоких палат была вставлена не слюда, а стекла; стены были обиты шелком и обоями из тисненной золотом кожи. Вместо обычных в ту пору, шедших вдоль стен лавок была расставлена по комнатам немецкая и польская мебель: изящно точенные стулья и кресла, столы на выгнутых и львиных ножках с мраморными и мозаичными досками. Стены были увешаны картинами и гравюрами иностранных художников. Убранство комнат дополняли шандалы, жирандоли*, стенные и столовые часы, подзоры или драпировка над окнами и дверями и богатые ковры, бывшие, впрочем, в большом употреблении и у тех бояр, которые жили на старый лад. Особенно роскошною и затейливою отделкою отличалась одна палата с сорока шестью окнами. В этой палате среди потолка было изображено позолоченное солнце и живописные знаки Зодиака. От солнца на трех железных прутах висело белое костяное паникадило* о пяти поясах, а в каждом поясе было по восьми подсвечников. По другую сторону солнца был изображен посеребренный месяц. Кругом потолка в двадцати больших вызолоченных медальонах были нарисованы изображения пророков и пророчиц. На стенах палаты висело в разных местах пять больших зеркал, из которых одно было в черепаховой раме. Весь дом князя Василия Васильевича блистал роскошью, и недаром французский путешественник Невиль* писал, что дом Голицына был великолепнейший в целой Европе.
В то время, когда подъезжал Милославский, хозяин, сидя за столом, заваленным книгами и рукописями, с большим вниманием читал в латинском подлиннике сочинение знаменитого Пуфендорфа*, стараясь изучить из его творений трудную науку государственного правления. Он был одет по-домашнему в шелковой однорядке*, но, узнав о приезде Милославского, поспешил надеть ферязь, длинный и широкий кафтан из атласа, так как встретить знатного и почетного гостя только в однорядке, без ферязи, было бы, по тогдашним понятиям, в высшей степени неприлично.
Милославский, войдя в комнату, перекрестился и поцеловался с хозяином, который, приняв гостя с видимою приветливостью и обычною вежливостью, не слишком был рад в душе его неожиданному посещению.
– Просим вашу милость садиться, – сказал Голицын, уступая гостю свое кресло.
– Как поживаешь, князь Василий Васильевич? – спросил, усаживаясь в кресло, Милославский. – Ты все умудряешься чтением?
– Нужно читать, Иван Михайлович, всего своим умом не осяжешь, а европейские народы могут дать каждому не мало от плодов своего просвещения. Вот я теперь читал главу из писания Пуфендорфа «О гражданском житии, или О поправлении всех дел, яже належат обще народу», – отозвался князь, садясь насупротив гостя.
– Хитро что-то, уж больно хитро, – заметил нелюбознательный гость, – да и пользы-от большой нет. Вот погоди, как придет нарышкинское царствие, так умным людям ни ходу, ни житья не будет, – поматывая с угрожающим видом головою, перебил Милославский.
– Почему ж, боярин, ты думаешь, что придет их царствие? – нахмурясь, спросил Голицын.
– Потому, что царю Федору Алексеевичу жить не долго, а по кончине его Нарышкины посадят на престол царевича Петра Алексеевича. Молод он больно, того и смотри, что Наталья Кирилловна захочет быть правительствующею царицею, да, пожалуй, и будет. Шибко она что-то зазналась; забыла, видно, как до брака в Смоленске в лаптях ходила.
Слушая Милославского, князь, с выражением неудовольствия на лице, тяжело отдувался.
– А что ж хозяюшки-княгини не видать? – спросил, помолчав немного, Милославский. – Видно, я у тебя в доме обычной чести недостоин? – шутливо добавил он.
Милославский заговорил об этом, потому что княгиня, вопреки обычаю, не выходила к нему, как к почетному гостю, чтобы с низкими поклонами поднести ему на подносе чарку водки.
– Будь, Иван Михайлович, милостив к моей княгине; неможет она что-то все эти дни, а потому и должной чести тебе не оказывает. Не взыщи с нее за это, боярин!
– Знаю, знаю я ее немоготу, – подмигивая Голицыну, подхватил Милославский. – Просто-напросто ты, князь Василий Васильевич, стародавних наших обычаев не любишь. Сам от них уклоняешься, да и супругу свою к тому же неволишь. Впрочем, и то сказать, в нынешние времена и сам женский пол от многого себя освобождает. Вот хотя бы, например, царевна Софья Алексеевна: по нерасположению своему к старым порядкам с тобою сходствует и недаром так возлюбила тебя…
– Ставлю себе в отменную честь, коль скоро удостоиваюсь внимания государыни царевны, – скромно заметил Голицын, – великого разума она девица! Во время теперешней болезни государя мне часто приходится встречаться с ее пресветлейшеством в опочивальне государя, и соизволяет она нередко удостоивать меня своей беседы, причем я всегда дивлюсь ее уму.
– Ты, князь Василий Васильевич, только и толкуешь, что об уме царевны, а о девическом ее сердце никогда не подумаешь.
– Да какая же мне стать думать о сердце царевны! – усмехнулся Голицын.
– Не сказал бы ты того, что теперь говоришь, князь Василий Васильевич, если бы знал, как оно лежит к тебе, – таинственно прошептал Милославский.
– Негоже тебе, Иван Михайлович, вымышлять такие бредни; да и неучтиво так издеваться надо мною. Я человек уже не молодой, не моя пора уловлять девичьи сердца, а о сердце царевны я не дерзнул бы никогда и помыслить.
– Да и дерзать то нечего, коли оно само к тебе рвется, – проговорил Милославский.
Голицын медленно приподнялся с кресел.
– Оставь, боярин, эти пустые шуточные речи, – начал он, сурово посматривая на Милославского и слегка потирая ладонью свой лоб, между тем как перед ним живо представились и те взгляды, которые подолгу останавливала на нем царевна, и та краска, которая, при встрече с ним, кидалась ей в лицо, и то смущение, которое овладевало ею, когда она начинала заводить с ним речь.
Голицын давно заметил все это, но, беседуя с Софьей лишь о делах государственных и об ученых предметах, он, годившийся ей, при тогдашних ранних браках, почти в деды, не думал вовсе ни о любви, ни о том, что ему принадлежит сердце царевны. Он полагал, что Софья смущается перед его умом и его знаниями и что никакой сердечной привязанности тут не может быть. В старинном русском быту романические затеи вовсе не существовали, да и Голицын никогда не был ходоком по любовной части. Теперь же Милославский своими странными речами надоумил его и открыл тайну, которую он не мог даже подозревать без насмешки над самим собою.
– Затолковались мы, Иван Михайлович, о чем бы и не след нам было говорить; мне уж вторая полсотня жизни идет. Да и не о том теперь думать надлежит; из твоих слов вижу, что смутные времена подходят, – сказал спокойно Голицын.
– То-то и есть, а потому нам крепко царевны Софьи Алексеевны держаться нужно; впереди всех нас ее на высоту следует поставить, а то сокрушат нас Нарышкины.
– Нужно нам, – начал поучительно Голицын, – царственный закон соблюсти и не царевну возносить, а посадить, в случае чего, береги Бог, по порядку старшинства на московский престол ее брата, царевича Ивана Алексеевича.
– Да разве Иванушка-царевич на что-нибудь годен? Может он только мух летом ловить, да и тех, пожалуй, прозевает, ничего он почти не видит, – с дерзкою насмешкою проговорил Милославский. – Впрочем, – уступчиво добавил он, – что за беда! Совет боярский при нем учредим, не век же и боярству в законе быть.
Голицын хотел что-то возразить.
– Знаю, знаю наперед, – поторопился Милославский, – что ты, князь Василий Васильевич, против боярства идешь. Ну, что же, ради тебя и уступочку сделаем. Царевич Иван Алексеевич государем станет, а царевна Софья Алексеевна пусть царицею хотя и не будет, а только за брата царством править станет. Почитай, что это тебе с руки будет! – насмешливо добавил Иван Михайлович.
Князь сделал вид, будто не слышал последних слов боярина, который теперь со злобою начал перебирать Нарышкиных и всех бояр, державших сторону царицы Натальи Кирилловны, перемешивая эту переборку многочисленных недругов с шутливыми намеками на любовь царевны к князю.
Голицын только морщился. Он хорошо знал коварный характер сотоварища по боярской думе и отвечал ему уклончиво и нерешительно.
– Вдвоем, впрочем, мы, князь Василий Васильевич, не можем столковаться как следует, а вот приезжай ко мне в четверг хлеба-соли откушать. Окажи мне, боярин, такую великую честь! – сказал, низко кланяясь, Милославский, расставаясь с Голицыным, поблагодарившим его за приглашение.
IX
Боярин Иван Михайлович Милославский, потомок литовца, выехавшего в Россию в 1390 году*, принадлежал, в царствование Федора Алексеевича, к числу старейших бояр как по летам, так и по времени пожалования боярством. Он всегда был охотник мутить, и любимым его занятием было строить разного рода подвохи и козни. Когда же в последние три-четыре года жизни царя Алексея Михайловича Милославский, под влиянием наговоров царицы Наталии Кирилловны, был оттерт от двора, то молодая государыня и ее родственники сделались предметом его непримиримой и ожесточенной ненависти. Он только и думал о том, чтобы, как говорилось в старину, извести их.
В противоположность князю Голицыну Милославский жил по старинному обычаю, не заводя никакой иноземной новизны, а потому съехавшиеся к нему на званый обед гости находились среди той же незатейливой обстановки, среди которой жили и сами они, и их деды и прадеды. Стены обширных, но низких хором Милославского не были обиты дорогими тканями, но были обтянуты холстом, выбеленным известью, и увешаны только иконами. В комнатах не было никаких отделок и украшений, а также никакой другой мебели, кроме столов и лавок да нескольких простой работы кресел для самого боярина и его немногих почетных гостей.
Обед, за который сели гости Ивана Михайловича, стряпался в стародавнем московском вкусе, и из всего иностранного можно было найти за столом старого боярина только хорошее венгерское вино, которым он теперь и угощал весьма радушно своих гостей, рассчитывая, что после обильной выпивки они будут посговорчивее и легче поддадутся его внушениям. Как и всегда, они не отставали друг от друга, и к концу обеда почти у всех порядочно уже шумело в голове, а языки развязывались все более и более. Все гости Милославского прилежали хмельного пития, как тогда говорилось, за исключением трезвого и воздержного Голицына, который, ссылаясь на нездоровье, уклонялся насколько мог от потчевания и приневоливания со стороны хозяина дома. Во время обеда велась беседа о предметах самых обыденных и порою вспоминалось о прошлом.
– Покойный государь, царь Алексей Михайлович, – рассказывал Милославский, – был великий постник. Хотя в мясные и рыбные дни любил покушать, и за столом его бывало в эти дни до семидесяти блюд, но зато в постные дни был воздержен всем на диво; ни единый монах так строго не держал постов, как его царское величество. В Великом посту в целые сутки съедал он по кусочку черного хлеба с солью, по соленому огурцу или грибу и выпивал только по стакану полпива*. На Страстной же, в понедельник, среду и пятницу, ничего не вкушал и во весь Великий пост только два раза кушал рыбу. Выходило так, что в год он постился восемь месяцев.
– Да и насчет молитвы он крепко усердствовал, – подхватил Воротынский, – хотя и был вельми тучен, но ежедневно, а иной раз даже и сряду без передышки, по тысяче поклонов клал; а в большие праздники и до полутора тысячи отбросает; пот с него, бывало, ручьем катит, а он знай себе кланяется! Любил царь и иконопись; после смерти его осталось восемь тысяч двести икон.
– Кроткий и благодушный был государь! – заметил Милославский, с удовольствием вспоминавший дни своего особенного почета.
– Ну, не скажи этого, боярин, – возразил ему князь Иван Андреевич Хованский. – Бывал иной раз царь Алексей Михайлович с большим норовом и не раз с нашею братиею, боярами, кулачно расправлялся. Какой стих на него находил! Забыл разве, как однажды он своего старого тестя, боярина…
– Что вы тут зеваете! – вдруг крикнул Иван Михайлович на прислуживавших за столом холопов. – Службу у боярского стола покончили, так ротозеять тут нечего!
По приказу боярина холопы повалили из столовой избы, а он встал с места и, притворив дверь, посмотрел, не остался ли там кто-нибудь подслушивать боярские речи. Доносы и тогда были в Москве в большом ходу, и бояре крепко побаивались своих холопов, которые очень часто кричали на них государево «слово и дело»*, объявляя, что господин их вел худые речи о государе, царице или их семействе.
– Вспомнил я, – продолжал Хованский, обратившись к возвратившемуся на свое место Ивану Михайловичу, – о боярине Илье Даниловиче, как он единым похвалялся перед государем, что если бы царь поставил его первым воеводою, то он взял бы в полон короля польского. При мне то было. «Как, слышь ты, страдник, худой человек! – крикнул царь на своего тестюшку*. – Своим искусством в ратном деле похваляешься! Когда же ты ходил с полками? Какие победы оказал ты над неприятелем? Или ты, бестолковый, смеешься надо мною?» Да так с последним словом заушил его, а там хвать его за бороду, да и ну трепать. Мало того, в пинки его принял, да так в двери и спровадил…
Бояре весело захохотали.
– Непригожие были эти дела для боярской чести, – насупясь, заметил Голицын.
– Говоришь ты – непригожее дело, – подхватил снова Волынский, – а сам-то у бояр наиглавнейшую опору их чести отнял, местничество отменил, разрядные книги сжег, – укорял он Голицына.
– Не я все это сделал, – обращаясь к говорившему, вразумительно возразил Голицын, – сделали это выборные люди по царскому указу, а я только, по должности моей, правдивый доклад об их мнении государю представил. Да и что же было местничество, как не пустая только боярская забава, коли государь нет-нет да и прикажет быть всем без мест? Все равно обычай этот вскоре бы сам по себе вывелся, так не пригоднее ли было порешить с ним по приговору выборных? И разве местничество служило в ограду истинной чести боярства? – с жаром продолжал объяснять Голицын. – Из-за него только лишние батоги по боярским спинам ходили, а от заушений, трепанья бороды и пинков никого оно не спасало. Жил я в Польше и знаю, что там король не только сенатора или знатного пана, но и шляхтича простого пальцем тронуть не может, да и в других странах тоже ведется. А у нас, господа бояре, не такие порядки…
– Постой, заведутся хорошие порядки, как станут править царством Нарышкины! – подхватил Семен* Волынский, один из самых преданнейших друзей Милославского.
В то время, когда Голицын говорил толково и уверенно, плотно подъевшие и порядком подвыпившие бояре, казалось, не обращали на его речь особого внимания. Обычный послеобеденный сон начинал одолевать их, и кто из них сидел как осоловелый, поклевывая носом все чаще и чаще, кто, подперев руки на стол и поддерживая ладонями щеки, лениво позевывал и жмурил глаза; кто, положив локоть на стол и свесив на него голову, готовился всхрапнуть, а кто собрался даже разлечься врастяжку на лавке. Сонливость эта, однако, мгновенно исчезла, как только послышалось имя Нарышкиных. Все встрепенулись и навострили уши. Видно было, что обсуждение общих государственных порядков не слишком занимало их, но зато вопрос о личном положении и о будущности затрагивал каждого за живое.
– Против своеволия Нарышкиных можно и боярский совет учредить, – зевнув протяжно и проведя раскрытою ладонью со лба по лицу и по длинной бороде, сказал князь Воротынский.
– Как же! Так тебе сейчас на это волю и дадут, да еще, пожалуй, и твою милость в совет призовут! – насмешливо отозвался Волынский. – Нет уж, коли Нарышкины одолеют, то скрутят так, что и духу не переведешь!
– Ну, еще посмотрим, как им это удастся! Что за важное дело, что на их стороне патриарх, духовный чин и большинство бояр; ведь зато на нашей стороне весь черный народ! – подхватил Милославский.
– Не надейся на число, Иван Михайлович, – спокойно отозвался Голицын. – Припоминается мне, как разумно на такой случай говаривал боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин*. Бывало, с ним кто заговорит так, как ты теперь изволишь говорить, а он и отвечает: «Во всяком деле сила в промысле, а не в том, что людей собрано много; и людей много, да промышленника нет, так ничего не выйдет».
– Дельно, дельно говоришь, князь Василий Васильевич! Разумные речи повторяешь. Каким делом без смышленого заводчика управишься? – подхватил Хованский. – Вот хотя бы ты, Иван Михайлович, в нашем деле на первое место стал, – добавил Хованский, обращаясь к Милославскому.
– Да и то уж я хлопочу давным-давно и могу сказать по чести, что успел кое-что сделать. Решить только нужно, к чему наш замысел вести? – сказал Милославский. – Сговориться нам больно трудно: что человек, то разум.
– Как к чему вести? Известное дело: посадить на престол царевича Ивана Алексеевича, а если он править неспособен, то приставить к нему царевну Софью Алексеевну! – заявил Хованский.
– Воистину, что так, достойна она править царством. Блаженной памяти царь Алексей Михайлович, родитель ее, неоднократно говорил, что она «великого ума и самых нежных проницательств, больше мужеска ума, исполнена дева», – заявил Иван Михайлович.
Опершись рукою на стол и позаслонив глаза ладонью, князь Голицын внимательно слушал толки своих собеседников о царевне, не принимая, однако, в них никакого участья.
– Ну, а что же ты, князь Василий Васильевич, молчишь? – окликнул его Милославский. – Согласен или нет с тем, что говорит князь Иван Андреевич!
– Не моего завода это дело, – сказал Голицын, вставая с места и собираясь уехать домой. – Ты в нем, Иван Михайлович, и хозяйствуй как знаешь, а от ответа за него, в случае какой беды, я не уклоняюсь и никого никогда не выдам, вот тебе мое в том рукобитие.
Бояре вкруговую ударились по рукам и затем, потолковав еще с Милославским и порасспросив его о сторонниках царевича Ивана Алексеевича, порешили «выкрикнуть» его царем, и во дворце и на площади, а Нарышкиных к первенству не допускать.
X
В тринадцать часов дня, по старинному русскому счету часов от восхода солнца, или в четыре часа пополудни, 27 апреля 1682 года, в четверг на Фоминой неделе, раздались над Москвою с Ивановской колокольни тоскливые удары большого колокола.
– Никак, гудит «Вестник»? – заговорили в Москве, прислушиваясь к протяжному и редкому благовесту. – Знать, царь умер? – с изумлением спрашивали москвичи друг у друга, так как им хотя и было известно о болезни Федора Алексеевича, но никто не ожидал такой скорой кончины двадцатичетырехлетнего государя.
Догадывавшиеся о смерти царя не ошибались. Действительно, теперь звонили в колокол, называвшийся «Вестник», который каждый раз оповещал население столицы о смерти государей. Вскоре к одинокому его благовесту стал присоединяться заунывный перезвон московских церквей, и народ со всех сторон густыми толпами повалил в Кремль. Туда же, в царские палаты, спешили в колымагах или неслись верхом бояре, думные и разных чинов служилые люди. Вскоре весь Кремль наполнился народом.
После непродолжительных приготовлений тело государя вынесли из опочивальни и поставили среди Крестовой палаты. Эта палата славилась своими издалека привезенными святынями: в ней был в ту пору камень, на котором стоял Иисус Христос, читая молитву «Отче наш». Там же были: печать от гроба Господня, иорданский песок и «чудотворные» монастырские меды. В этой палате родился царь Федор Алексеевич, так как, по тогдашнему обычаю, царицу выносили в Крестовую палату, чтобы там она разрешалась от бремени. В Крестовой палате бояре, по старшинству, подходили к усопшему и прощались с ним, целуя его руку. За боярами следовали окольничие*, дьяки, дворяне и жильцы* и вся дворцовая прислуга, а затем стали пускать в палату, для прощанья с государем, и простой люд. Между тем на Благовещенской площади поднимался говор о том, кому быть царем, и среди народа шныряли какие-то люди, которые то шепотом, то вполголоса, то громко говорили – одни, что надлежит быть царем Ивану Алексеевичу, а другие, что нужно посадить на царство Петра Алексеевича. Народ, однако, молчал в недоумении, не принимая ни стороны Ивана, ни стороны Петра. Он вяло и равнодушно и только с чувством обыкновенного любопытства выжидал, что будет далее. Между тем в царских хоромах происходило совсем иное: там разыгрывались страсти, там шла борьба за верховную власть.
Отдав лобзанье покойному государю, духовный чин, бояре и чиновные люди собрались в так называвшейся Ответной палате, где обыкновенно цари принимали и отпускали иноземных послов. Посреди этой палаты стоял теперь аналой, на котором лежало Евангелие и за который встал патриарх Иоаким, положив левую руку на Евангелие, а в правой держа крест.
– Царь Феодор Алексеевич, – начал патриарх, обращаясь к присутствовавшим, – отошел в вечное блаженство. Чад по нем не осталось, но остались братья, царевичи Иоанн и Петр Алексеевичи. Царевич Иван шестнадцатилетен, но одержим скорбью и слаб здоровьем. Царевич же Петр десятилетен. Из них кто будет наследником престола российского? Кого наименуем в цари всея Великия, Малыя и Белыя России? Единый или оба будут царствовать? Спрашиваю и требую, чтобы сказали истину, как перед престолом Божиим. Кто же изречет по страсти, да будет тому жребий изменника Иуды.
– Быть народному избранию! Сами по себе решить это дело не беремся, – заговорили бояре, причем как сторонники Милославских, так и сторонники Нарышкиных надеялись, что преданные им люди успели уже подготовить народ в их пользу.
С крестом в руке, предшествуемый духовенством и сопровождаемый боярами, вышел патриарх на Красное крыльцо. Народ на площади мгновенно смолк, все как будто притаили дыхание в ожидании, что изречет святейший владыка.
– Известно вам, благочестивые христиане, – начал громким, но старчески-дребезжащим голосом патриарх, – что благословенное Господом царство Русское было под державою блаженной памяти государя царя Михаила Федоровича, а по нем державу наследовал блаженной памяти царь Алексей Михайлович. По его преставлении был воспреемником престола государь царь Феодор Алексеевич, самодержец всея Руси. Ныне же изволением Всевышнего перешел он в бесконечный покой, оставив братьев, царевичей Иоанна и Петра Алексеевичей. Из них, царевичей, кому быть царем всея России? Да объявят о том свое единодушное решение!
В то время, когда патриарх произносил эту речь, в плотно сомкнувшейся толпе, занявшей место у самого Красного крыльца, начинал уже слышаться все более и более усиливавшийся говор: «Быть на престоле царевичу Петру Алексеевичу!» – и едва лишь окончил патриарх свое обращение к народу, как в этой толпе раздались громкие крики: «Быть царем Петру Алексеевичу! Хотим Петра Алексеевича!»
Но вместе с этими возгласами раздались на площади и другие: «Не хотим Петра Алексеевича, хотим Ивана Алексеевича! Быть ему царем!»
Крики эти неслись из огромной ватаги, которая сперва бежала опрометью к Красному крыльцу, но потом, увидев, что там место уже занято, отчаянно напирала сзади на толпу, требовавшую на царство Петра. Подбежавшая к Красному крыльцу ватага пускала в ход толчки, локти, кулаки; подававшиеся из нее вперед молодцы хватали за шиворот заслонявших им дорогу к Красному крыльцу и силились оттащить их, но те, в свою очередь, осаживали напиравших и отплачивали своим противникам кулачным отпором.
– Напирай, наваливай! – вопил в бешенстве дворянин Максим Сунбулов*, предводительствовавший подбежавшею ватагою. – Страдники вы эдакие, из-за вас я опоздал! – кричал он в отчаянии следовавшей за ним толпе, завидев, что патриарх собирается уже уходить с Красного крыльца в царские палаты.
С уходом патриарха поднялся шум, произошла страшная давка. Одни хотели перекричать других, и имена Ивана и Петра слились теперь в общий, но уже бесполезный вопль.
Дрожа от волнения и страха и крепко прижав к себе десятилетнего Петра, стояла в Крестовой палате, около гроба царя Федора Алексеевича, величавая и стройная царица Наталья Кирилловна и с трудом сдерживала сына, который хотел вырваться и бежать на Красное крыльцо, чтобы взглянуть, что делается на площади.
– Приветствую твое пресветлое царское величество, – сказал боярин Кирилла Полуэктович Нарышкин*, обращаясь к царевичу Петру, и с этими словами он поклонился в ноги своему внуку.
Царица быстро отстранила к деду своего сына. Бледное лицо ее покрылось румянцем, и радостно заблистали ее большие черные очи. Она упала на колени, творя с молитвою земные поклоны. То же стал делать и Кирилла Полуэктович, а за ним и его внук.
– Иди, благоверная царица, на Красное крыльцо, там ожидают тебя и великого государя патриарх и весь синклит*, – сказал он, почтительно становясь позади своей дочери, которая, ведя под руку сына, пошла медленным шагом на Красное крыльцо. Когда она там появилась с новоизбранным царем, площадь огласилась страшным радостным ревом, среди которого слышалось, однако, и имя Ивана, которого также звали из толпы на царство.
Патриарх, осенив крестом царя-отрока, благословил его на царство, а затем святейший владыка, духовный чин, бояре и бывшие на Красном крыльце служилые люди принесли поздравление Петру Алексеевичу, «великому государю и царю и самодержцу всея Великия, и Малыя и Белыя России».
Если царица Наталья Кирилловна, не будучи в состоянии осилить себя, волновалась и страшилась в ожидании, чем кончится избрание, то царевна Софья Алексеевна, в противоположность ей, казалась спокойною и не поддавалась страху. Иван Михайлович Милославский уверил ее в успехе дела. В то время, когда площадь кипела и шумела, царевна сидела у постели своего старшего, хворого брата, который не заботился и не думал о том, призовет его или нет народ к царской власти. По временам царевна подходила к открытому окну и внимательно прислушивалась к доносившемуся до нее с площади гулу, с нетерпением ожидая той торжественной и радостной для нее минуты, когда ей придется, подняв с постели брата, явить его народу с Красного крыльца, как великого государя.
Прежде чем патриарх успел объявить на Красном крыльце об избрании царем Петра Алексеевича, из толпы бояр поспешно и незаметно выскользнул Милославский и побежал к царевне. Когда он вошел к ней, его смущенный и растерянный вид показал Софье, что дело ее кончилось неудачею.
– Иди скорее, благоверная царевна, на Красное крыльцо! Ты там нужна! – торопливо проговорил Милославский.
– Должно быть, братца Петрушу избрали царем? – проговорил равнодушно царевич Иван, с трудом всматриваясь больными и подслеповатыми глазами в Милославского.
На вопрос царевича не обратили внимания ни боярин, ни царевна, которая поспешила выйти из братской опочивальни.
– Максимка Сунбулов нам изменил, – говорил на ходу Милославский Софье, – но дело наше вконец еще не пропало. Будь только мужественна, царевна, и не уступай Нарышкиным, они лишь временно осилили нас!
– На праотеческий всероссийский престол избран великий государь царь Петр Алексеевич, – объявил патриарх появившейся на Красном крыльце царевне.
Гневный огонь вспыхнул в ее глазах.
– Избрание неправо! – крикнула она, обведя грозным взглядом патриарха, царицу и бояр, и быстро повернулась, чтобы уйти в палаты.
– Не начинай смуты, умоляю тебя именем Божиим! – тихо проговорил патриарх вслед уходившей Софье, которая сделала вид, что не слышит мольбы патриарха.
Выдержала себя перед людьми Софья, а Иван Михайлович, после долгих убеждений, уговорил даже ее пойти поздравить царя Петра Алексеевича с воцарением, чтобы не подать повода к дальнейшим подозрениям. Но когда она после этого удалилась в свой терем и там осталась одна, то залилась слезами, осыпая проклятиями и мачеху и Нарышкиных.
В это время власть избранного государя утвердилась, на верность ему приводили к присяге бояр, окольничих, стольников, дворян, стряпчих и всех служилых людей. Все беспрекословно присягали Петру. В одном только приказе стрельцы отказывались целовать крест царю Петру Алексеевичу, но посланные к ним из дворца окольничий, думный дворянин и дьяк уговорили и их присягнуть Петру.
В тот же день началось возвышение Нарышкиных. Великий государь постановил в спальники Ивана, Афанасия, Льва, Мартемьяна и Федора Кирилловичей, а также Василия Федоровича Нарышкиных. Он же снял опалу с Артамона Сергеевича Матвеева и послал к нему указ о возвращении в Москву немедленно. Освобождены были из ссылки и четверо Нарышкиных, им также велено было прибыть в Москву. В противоположность этим милостям объявлено было первым любимцам покойного царя: боярину и чашнику Языкову*, двум братьям Лихачевым* и ближнему стольнику Языкову*, чтобы во время выходов великого государя их не видали. Опала эта была недобрым предвестием для сторонников Милославских, которые дружили прежде с опальными царедворцами.
На другой же день кончины царя Федора Алексеевича, то есть 28 апреля, происходило его погребение. Обряд этот совершали патриарх, девять митрополитов, пять архиепископов, два епископа и все бывшие в Москве архимандриты и игумены. Погребальное шествие открывали шесть стольников, они несли обитую золотою объярью* крышку царского гроба. От них ее приняли на Красном крыльце стольники. Гроб, покрытый золотою парчою, несли также стольники на носилках, обитых бархатом, а при входе в Архангельский собор их заменили священники. За гробом шли: царь Петр Алексеевич, царица Наталья Кирилловна и царевна Софья Алексеевна, а другую вдовую царицу, Марфу Матвеевну, несли в креслах спальники и бояре, которые, как и царское семейство и все другие чиновные и служилые люди, были одеты в «печальной», то есть в черной, одежде. За гробом шел народ, с зажженными восковыми свечами, розданными на счет царской казны.
– Дивно, что так спешно государя хоронят! – говорил в толпе один старик. – Того иногда прежде не водилось. Бывало, дадут собраться из окрестных мест множеству народа и съехаться отвсюду духовным властям и служилым людям. Чего так теперь торопятся? Чего доброго, заживо его похоронят.
– Нешто не знаешь, что на погребение царя Алексея Михайловича набралось столько народу в Москву, сколько прежде никогда не бывало. Принялись тогда душить, резать и грабить; так что в день его похорон нашли в Москве более ста ограбленных и убитых. Вот для того-то, чтобы того же и ныне не случилось, и поторопились поскорее похоронить государя, – вразумлял старика подьячий.
– Нет, тут что-нибудь да неладно, – отозвался кто-то из толпы, а старик, сомнительно покачав головою, вопросительно взглянул на окружавшую толпу, среди которой поднялись разные толки.
Появление Софьи, как сестры-царевны, на погребении ее брата было в Москве первым еще случаем. Все дивились этому и в особенности тому, что молодая царевна шла не только пешком, но и не заслонилась «запонами» и даже с отброшенною с лица фатою. Изумление бояр и разных чинов служилых людей возросло еще более, когда царь и царица, не оставшись на отпевании, тотчас после обедни ушли из собора, а между тем царевна Софья оставалась в соборе до тех пор, пока не засыпали могилы.
Лишь только царица вернулась в свой терем, как к ней явились монахини, посланные тетками и сестрами покойного государя.
– Благоверная царица! – заявила старшая из этих посланниц. – Царевны кручинятся и скорбят, что ты на отпевании их племянника и братца остаться не изволила.
– Сынок мой больно устал, мал он еще; невмоготу ему было на ножках стоять, – отвечала царица на этот укор за невнимание ее к пасынку.
Совсем иначе отзывались в теремах царевен о Софье Алексеевне:
– Вот она братца любила, так поистине любила. В горести не помнила даже, что и делала; для него и своей царственной скромности не поберегла и на отпевании осталась до конца. Не то что мачеха! – умиленно почмокивая губами, говорили приживалки, которыми были наполнены терема царевен.
Возвращаясь одна из Архангельского собора, царевна, закрыв ширинкою* лицо, громко всхлипывала, сопровождая свои слезы обычными в то время причитаниями.
– Извели братца нашего злые люди, – плакалась Софья, идя посреди расступившегося перед нею народа. – Нет у нас ни батюшки, ни матушки, братца нашего Ивана на царство не выбрали! Умилосердитесь, православные, над нами, сиротами; если мы в чем провинились перед вами, отпустите нас в чужие земли к королям христианским!
Эх вы, сиротинки горемычные! – подхватывали на пути царевны московские торговки и бабы, расчувствовавшись от ее причитаний, и принимались сами реветь и нюнить.
Слова и слезы царевны не прошли даром, и уж на другой день заговорили в Москве и принялись ахать и охать о царевиче Иване Алексеевиче и об его сестрах, предсказывая, что изведут их злые люди. После похорон Федора Алексеевича, по существовавшему в ту пору обычаю, в опочивальне умершего царя сидели, в продолжение первых девяти суток, денно и нощно, около его постели очередными сменами бояре, окольничие и дьяки, а священники и дьячки беспрестанно читали Евангелие и Псалтырь. Такие же смены и такое же чтение было, в течение всего Сорокоуста, и в Архангельском соборе у могилы новопреставившегося. Каждый день отправлялись по нем панихиды как в этой древней усыпальнице государей московских, так и в кремлевском дворце, в так называемой Панафидской палате, а по монастырям ежедневно на счет царской казны кормили монашествующую братью и нищих за упокой души царя Федора Алексеевича.
XI
Давно уже принялись проказничать и своевольничать на Москве стрельцы, регулярное пешее, а частью и конное войско, заведенное еще в 1551 году царем Иваном Васильевичем Грозным и постепенно умножавшееся в своей численности, так что при воцарении Петра Алексеевича в Москве было уже до 15 000 стрельцов. В стрельцы вступали вольные люди, жили они в разных местах Москвы отдельными большими слободами, обзаводясь семьями. Установился обычай, что сын стрельца, достигнув юношеского возраста, делался стрельцом; а из посторонних в стрелецкое войско принимались только люди «резвые и стрелять гораздые» и притом не иначе как по свидетельству и одобрению старых стрельцов. Обязанности стрельцов в мирное время были следующие: держать в Москве караулы, гасить пожары и при встрече иноземных послов становиться на месте их проезда в два ряда. Особенным почетом среди стрелецкой рати пользовался так называвшийся «выборный», или «стремянный», полк. Он состоял из конников и постоянно сопровождал государя при его выездах из Москвы, почему и назывался еще «государевым» полком. Военная служба была, кроме походного времени, легка для стрельцов; много оставалось у них досуга, и они стали заниматься торговыми и различными промыслами, не платя, однако, за это наравне с посадскими никаких податей и пошлин. Большая часть стрельцов сделалась благодаря этому людьми достаточными и даже богатыми, да и кроме того жизнь их была обеспечена правительством, так как раненые, увечные и престарелые стрельцы рассылались на кормление по монастырям. Стрельцы выделялись из местного населения столицы и жили с ним не в ладах. Они беспрестанно задирали мирных жителей Москвы, а также оскорбляли их жен и дочерей, и трудно было найти на них управу, так как у них был свой особый суд, Стрелецкий приказ, а для своих внутренних полковых распорядков они, подражая казакам, завели круги, на которых и решали дела большинством голосов.
Не худо жилось бы московским стрельцам, если бы их не притесняли начальники: полковники отбирали у стрельцов их сборные деньги, захватывали их земли, не доплачивали им царского жалованья, не выдавали сполна хлебных запасов, обращая и то и другое в свою пользу, били стрельцов нещадно батогами, принуждали и их самих, и их жен и дочерей работать в своих огородах, косить сено, строить в своих деревнях дома, мельницы и плотины, не отпуская их с работы даже в Светлую неделю*. Полковники заставляли стрельцов одеваться слишком щеголевато, требуя, чтобы они покупали на собственный счет цветные кафтаны с золотыми нашивками, бархатные шапки и желтые сапоги, хотя им шла одежда из царской казны. Особенно между всеми полковниками отличался корыстолюбием, произволом и жестокостью Семен Грибоедов*. Он довел свой приказ до того, что в самый день смерти царя Федора Алексеевича подчиненные Грибоедову стрельцы подали государю на него челобитную. Грибоедов был тотчас же сменен, и на другой день его били кнутом, а двенадцать других полковников были биты батогами.
При воцарении Петра стрельцы не произвели никаких беспорядков, но потом между ними начали ходить толки о том, что если бы был другой царь, то им было бы несравненно лучше жить. В стрелецких слободах начали появляться теперь какие-то таинственные личности, из которых мужчины шушукались со стрельцами, а женщины громко и бойко болтали со стрельчихами. И те и другие возбуждали стрельцов против бояр, бывших на стороне царицы Наталии Кирилловны и царя Петра Алексеевича, в особенности же против Нарышкиных.
– Кабы ваши мужья да сыновья знали царевну Софью Алексеевну, то Нарышкиным и боярам, их согласникам, ее в обиду ни за что бы не дали! – говорила постельница Родилица, беседуя в одной из стрелецких слобод со стрельчихами.
– Нешто они крепко ее притесняют? – с участием спросила одна из стрельчих, выслушав Родилицу.
– А то как же? Спуску небось не дадут! Ныне все в их власти. Мало того что притесняют, да и извести ее, голубушку, хотят, а она-то и есть истинная доброжелательница всему стрелецкому войску! – говорила жалобно постельница.
Стрельчихи покачали головами.
– Думаете вы, сударушки, что царь Феодор Алексеевич вольною смертью живот свой покончил? Как же! – загадочно проговорила Родилица.
Стрельчихи навострили уши.
– Отравил его яблоком проклятый жидовина-дохтур, что гадиной прозывается… А как покойный-то государь его, злодея, ласкал и жаловал! Бывало, не только его самого, да и жену его, треклятую жидовицу, чем только не обдарит: и золотом, и соболями, и бархатом!
– Что и говорить! Ведь недаром же ты в царских палатах живешь, ты все должна знать досконально, – заметила одна из стрельчих.
– А что же эту окаянную гадину за его злодейство не сожгут на Болоте в срубе? – спросила другая стрельчиха.
– Как доберешься до него? Не по своей охоте он злодейство учинил, а по уговору от Нарышкиных; они и защитят его! – вразумляла Родилица.
– Вправду ли, Федора Семеновна, говорят, что царевна Софья Алексеевна премудрая девица? – спросила первая из говоривших с постельницею стрельчих.
– Уж больно премудра: все читает да пишет или с людьми учеными толкует, – был ответ Родилицы.
– Вот бы ей самой сесть на царство!.. – сболтнула одна из стрельчих. – При ней бы и нашему женскому полу повадно и вольготно было.
– Стрелецкие полки бы из баб завели! – весело подхватила другая.
Стрельчихи захохотали.
– Не смейтесь, сударушки! – заговорила строгим голосом самая старая из них. – Дней пяток тому назад заходила к нам в слободу благочестивая странница из смоленской стороны и пророчила, что вскоре на Москве наступить бабье царство.
– Оно так и быть должно, – подхватила Родилица. – Ходил к царевне монах Семен, из Полоцка был он родом, ныне он покойный, так и тот по звездам небесным вычитал то же самое. Да говорят еще…
– Никак, мой муженек домой бредет? – крикнула вдруг стрельчиха-хозяйка, взглянув в окно и увидев приближающихся к избе мужчин. – Он и есть! Вишь, как запоздал, а идет с ним московский дворянин Максим Исаевич Сунбулов; часто он в наших слободах бывает и диковинные речи ведет: пророчит разом и о бабьем и антихристовом царствии. Кто тут разберет!
– Не призамолкнуть ли нам, сударушки, нашею речью да не затянуть ли песню? – спросила старая стрельчиха. – А то, чего смотри, Кузьма Григорьевич осерчает.
– Чего призамолкнуть? – бойко запротиворечила ей Родилица. – Совсем супротив того делать нужно: толкуйте стрельцам, чтобы выручали они из беды благоверную царевну Софью Алексеевну. Расскажите им, что ее извести хотят, а при ней было бы стрельцам житье вольное, да толкуйте им, что и царя Феодора Алексеевича Нарышкины извели отравою и что то ж самое хотят учинить и с царевичем Иваном.
Стрельчихи, однако, невольно замолчали на некоторое время при приближении хозяина дома, выборного стрельца Кузьмы Чермного*, и его спутника Сунбулова.
– На тебя, Кузька, понадеялся я крепко, а ты, окаянный, что со мной сделал? А теперь мне из-за тебя житья от Ивана Михайловича нет: все бранит да корит, что мы запоздали выкрикнуть царевича Ивана, говорит, что я один все дело сгубил, изменником обзывает! – говорил Сунбулов.
– Не унывай, Максим Исаевич, – ободрял Кузьма Сунбулова. – Дело поправить успеем, у нас в слободах теперь много насчитаешь народа, который хочет постоять за царицу. Не перевелись у нас еще и такие молодцы, что с Разиным по широкой Волге плавали, хотят они стариной тряхнуть!
– Со стариной-то они пока пусть поудержатся; преж всего законного наследника на царство посадить надо. Коли станет стрельцам привольно при царе Иване Алексеевиче да при его сестре царевне Софье Алексеевне, так незачем будет и стариной тряхнуть, разве только себе на погибель! – заметил Сунбулов.
– Дельно ты, Максим Исаевич, говоришь. Не окажешь ли ты мне честь великую, не зайдешь ли ты ко мне чарку водки выпить? – сказал Чермный, снимая шапку и кланяясь дворянину.
– Некогда, брат Кузьма, теперь не время; зайду к тебе вдругорядь, – отвечал Сунбулов. – Помни же наш договор: как сегодня схватим мы тебя в потемках на улице, да как будто примемся тебя бить, то ты и кричи во всю глотку: «Боярин Иван Кириллыч! Помилуй меня, бедного человека! Помилосердуй надо мною. Чем я, Иван Кириллыч, твою милость прогневал?» Тогда и мы со своей гурьбой примемся кричать: «Что прикажешь, Иван Кириллыч, с ним делать! Отпустить его, что ли, Иван Кириллыч?» Сразумел?
– Как не сразуметь, дело понятное, – улыбнулся Чермный. – Сказывают, боярин Иван Михайлович Милославский и не то еще творит; нарядится, говорят, бабой, сядет где-нибудь на перекрестке или на крыльце, да и ну плакаться бабьим голосом: «Изобидили, изувечили, искалечили Нарышкины меня, человека Божьего, ни за что ни про что!» Народ-то около него соберется, а он примется еще пуще прежнего голосить. Кто его с закрытой рожей признает? Под фатой-то бороды не увидишь. А в народе меж тем начнут жалоститься и заговорят: «Эх вы, бояре, бояре, от душегубцев Нарышкиных защитить нас не умеете! Из-за чего они так убогую старуху изобидили?»
– Смотри, Кузя, коли уж знаешь, так никому не проболтайся! – предостерег Сунбулов.
– Ни, ни! – подхватил Чермный. – И тебе-то я только по тайности открыл. Знаю я еще и то, – продолжал стрелец, – что охочие люди за полученные от боярина Ивана Михайловича деньги нарочно под лошадей нарышкинских бросаются. А в народе вопль поднимается: «Вишь как Нарышкины своевольничают, скоро в Москве весь народ христианский перетопчут да передавят!..»
Говоря между собою, Сунбулов и Чермный подошли к воротам избы и, пошептавшись немного друг с другом, расстались до завтрашнего дня. Стрелец вошел к себе в избу.
– Здоровы, бабы! – крикнул он, снимая с себя охабень*. – Чай, пустяки болтаете? Почитай, что вас тут Федора Семеновна мутит! – шутливо сказал он, кланяясь одной только постельнице. – Вашей чести, Федора Семеновна, мое почитание!
– Не мутит, а умные речи заводит, говорит о наступлении на Москве бабьего царства, – отозвалась хозяйка.
– Видно, вас мужья еще мало плеткой хлещут? Знать, побольше захотелось? Вот ужо я своей задам! – шутливо по-прежнему продолжал Чермный.
– Задай, Кузьма Григорьич, да только поскорей, а то, чего доброго, и запоздаешь, как запоздал намеднясь на площадь, – подсмеиваясь, перебила молоденькая стрельчиха. – Поторопись, родной, а то как бабье царство настанет, то мы из-под власти вашей все выйдем. Сказывают, что и в пророчествах о том написано, – говорила, хорохорясь, стрельчиха.
– Молчи, баба, не в свои дела путаешься! – вдруг крикнул сердито Чермный, раздосадованный тем, что стрельчиха ему напоминала о позднем приходе на площадь. – Ступайте, бабы, по домам! Чего здесь без толку галдить! Чай, досыта наболтались, – выпроваживал Чермный гостей своей жены.
Стрельчихи, одна за другою, повыбрались из избы. Осталась одна Родилица, и с нею начал втихомолку беседовать Чермный, выслав сперва свою жену из горницы.
Потолковав с Чермным, Родилица отправилась к боярину Ивану Михайловичу Милославскому, чтобы пересказать ему о том, что ей привелось услышать в стрелецкой слободе, но она не застала его дома, так как Иван Михайлович уехал к царевне.
XII
Милославский беседовал с Софьей Алексеевною в ее тереме, где находился также князь Василий Васильевич Голицын. Они оба поместились на лавках вблизи царевны, сидевшей в креслах.
– Ты говоришь, князь Василий Васильевич, что если поднимется во всем народе смута, то от того произойдет одно лишь государственное нестроение, а пользы не будет; каждый тогда станет тянуть в свою сторону, и сами заводчики дела не будут знать, за что им тогда приняться… И кажется мне, что ты прав, – рассуждала Софья Алексеевна.
– И не по сему только одному не подлежит поднимать народа, но и потому еще, что он будет безоружен и ничего не поделает, если станут против него стрельцы с пищалями и с пушками. Попусту только перебьют много народу.
– Нет, князь Василий Васильевич, по-моему, коль скоро заводить смуту, так уже заводить ее всенародную! Во время ее и заводчики сумеют справиться со своим делом, а коль скоро народ не будет на нашей стороне, не станет кричать да бурлить, то и скажут, что мы посадили на царство Ивана Алексеевича недобрым согласием, не по народному избранию, а токмо насильством, – говорил внушительно Милославский, большой охотник до смут и крамол.
– Ни о каком насильстве тут и слова быть не может: престол московский принадлежит, по праву первородства, благоверному царевичу Ивану Алексеевичу, – начал Голицын, – и избранию тут не должно быть и места; нужно лишь взять царевичу свое право мирным порядком.
– Мы – старшее племя! – перебила с живостью Софья. – Не мы, а над нами учинили насильство! С какой стати царица Наталья Кирилловна правит государством? Сказывают, указы от имени великого государя, а за великим государем во все глаза присматривают мамы да няни! Нечего сказать, хорош великий государь! – насмешливым и раздражительным голосом говорила царевна. – А братец Иванушка человек в полном возрасте. Мог бы и сам царством править. За что же обошли его?
– Дело только в том, благоверная царевна, чтобы устранить от власти Нарышкиных, а Петра Алексеевича с престола сместить никак нельзя; теперь поздно уже думать об этом, так как ему все Российское царство присягу на верность принесло. Станем мы поднимать народ против него, так дурной покажем обычай: ни во что присягу государю ставить начнут.
– Что же, князь Василий Васильевич, по твоему разумению, следует теперь делать?.. – спросила в недоумении царевна.
– А вот, пресветлейшая царевна, что мне приходит на мысль, – начал с расстановкою Голицын. – Всего бы лучше учредить двоевластие…
– Двоевластие? Что же это такое? – торопливо спросила Софья.
– Пусть будут разом два царя, – сказал Голицын.
– Экую ты, князь Василий Васильевич, небывальщину вымыслил, – засмеялся Милославский. – Преотменный ты выдумщик!
– Вовсе не небывальщину и вовсе не выдумщик, – спокойно возразил Голицын. – История поучает нас, что в древности у спартанцев было всегда по два царя. В Греческой империи было тоже два совместно царствовавших кесаря: кесари Аркадий и Гонорий; оба они правили империею одновременно и правили со славою.
– Больно уже много начитался ты разных мудреных книг, князь Василий Васильевич, да и крепко ты любишь всякие новшества. А что скажут бояре в ответ на такую затею? – заметил Милославский.
Софья не вмешивалась в начавшееся препирательство между двумя собеседниками и только внимательно прислушивалась к их речам. Новость предложения, сделанного Голицыным, поразила ее, и она, по своему обычаю, уклонилась от участия в разговоре, который пока был для нее неясен, выжидая, чтобы ей выяснилось дело и она могла бы сказать что-нибудь разумное.
– Не трудно будет втолковать боярам всю пользу такого двоевластия. Нужно будет разъяснить им, что именно от того произойдет. Так, если один царь заболеет, то другой царством править может. Если один царь пойдет на войну, то другой останется на Москве, чтобы ведать гражданским урядом.
– Пожалуй, что ты и дело говоришь! Да, почитай, что и для боярства тогда лучше будет: если кто попадет под опалу одного из государей, так останется в чести у другого, – сказал Милославский.
– Смущает меня тут только одно, князь Василий Васильевич, – вмешалась наконец царевна. – При двоевластии один царь и его сторонники смогут осилить другого, и тогда власть осиленного царя, пожалуй, ни во что превратится. Вот хотя бы, примером сказать, что может случиться у нас. Положим, что так или сяк посадим мы Иванушку на царский престол, да какая от того польза будет, если на царстве все-таки Петр Алексеевич останется? Ведь тогда и над Иванушкою Нарышкины силу заберут.
– Ну, нет, царевна, этому не бывать! – почти вскрикнул Голицын, быстро приподнявшись с лавки. – Досталась бы только единожды власть в руки, а уже выпускать ее не годится! Тогда нужно, да и можно будет побороть всех противников!
Говоря это, Голицын горделивым движением вытянул вперед правую руку и слегка помахивал ею то вверх, то вниз, как будто принижал тех, кто захотел бы приподняться перед ним. С сильным биением сердца и со страстным выражением в глазах смотрела царевна на стоявшего перед нею величавого боярина, у которого и в осанке, и в движениях, и во взгляде, и в голосе было что-то обаятельное для нее. В нем, как ей казалось, олицетворились теперь и ум, и твердость, и та самоуверенность, которая дает господство над другими.
– Чем более мирным способом достанется царский престол царевичу Ивану Алексеевичу, – продолжал Голицын, – тем будет лучше для всех. К чему кровавые побоища? Зачем междоусобия? Если раз мы поднимем чернь, то трудно уже будет усмирить ее; придется пустить тогда в дело и казни и пытки, а и те и другие только ожесточат народ против нового государя. Разве мало и теперь стонет людей в застенках? Неужели же еще прибавлять страждущих!..
В продолжение этой речи Милославский слегка откашливался, как будто готовясь возразить Голицыну, и с насмешливою улыбкою посматривал на него.
– Как же, князь Василий Васильевич! Так вот добром с Нарышкиными и поладишь! Дашь им теперь спуска, так потом они тебе за то не дадут его. Отблагодарят они тебя в свое время по чести, – сказал Милославский.
– На то, Иван Михайлович, дал Господь Бог человеку разум, чтобы он сумел справить каждое дело без насильства. Если стрелецкое войско подаст общую челобитную, чтобы быть на царстве государю Ивану Алексеевичу, да сделает это мирным обычаем, так поверь, что несравненно лучше будет. Нарышкины побоятся стрельцов и тем охотнее уступят, что и царь Петр Алексеевич на престоле останется, а там уже можно будет сладить и с ним без кровопролития. Умоляю тебя, боярин, не допускай народного мятежа, при котором не будут отличать правого от виноватого. Вспомни мое зловещее предсказание!
Когда Голицын договаривал последние слова, в терем вошла Родилица, обращавшаяся совершенно свободно как с царевною, так и со всеми близкими к Софье Алексеевне боярами.
– Была я у твоей милости, – заговорила она, кланяясь Милославскому, – да проведала, что ты здесь, так сюда побежала. Совсем ноженьки отбила, в двух слободах перебывала сегодня.
С этими словами она, как бы обессилев, медленно опустилась на пол и села на нем, вытянув вперед ноги.
Неприветливо взглянул Голицын на постельницу. Он присел на лавку и, сложив на коленях ладони, понурил голову.
– Многое множество стрельцов хотят постоять за царевича Ивана Алексеевича и за тебя, царевна, и за весь ваш старший род, да и не из рядовых только стрельцов, а и из чиновных! Меж их полковник Озеров да полуполковник из кормовых иноземцев, как бишь его…
– Цыклер, что ли? – подсказал Милославский.
– Он и есть; да из стрелецких выборных, Борис Федорыч Одинцов, Обросим, как звать по отчеству не знаю, а по прозванию Петров, да Кузьма Григорьич Чермный. Последний куда как отважен, с ним часто я видаюсь, да и у всех других по нескольку раз перебывала. Не с ними, впрочем, веду я особенно речи, а больше все с их бабами, те мужей подбить сумеют. Сказывала я им, чтобы они, Иван Михайлович, пожаловали к тебе завтра в ночную пору, ты с ними лучше столкуешься. Много делают мне они таких запросов, на которые я и ответить не сумею… Сказывали, что пишут челобитную.
Слушая Родилицу, Милославский одобрительно кивал головою.
– Ну, вот видишь, князь Василий Васильевич, дело по твоему желанию направляется. Начинают стрельцы не с мятежа, а с челобитной, а затем, если дело повернется на что иное, так уж не наша в том вина будет. Значит, добром с Нарышкиными поладить не успели.
– Дай-то Господи, чтобы избавились мы от кровавых мятежей, не лежит у меня к ним сердце! – отозвался Голицын.
– В слободах, – принялась опять болтать скороговоркою Родилица, – серчают крепко на царицу Наталью Кирилловну за то, что они Матвеева из ссылки возвращают. «Несдобровать ему, говорят стрельцы: пусть только покажется, разговаривать с ним долго не станем».
– Да и нам-то он не на радость едет, примется по-старому воротить всем, – с досадою промолвил Милославский.
При упоминании о Матвееве царевна нахмурилась. Нахмурился и Голицын.
– Что тут поделаешь? С ним, наверно, и без посторонних подущений стрельцы сами по себе скоро расправятся, у них к нему ненависть большая, – заметил Иван Михайлович. – Ну, скажи теперь, князь Василий Васильевич, статочное ли было бы дело, если бы вдруг стрельцы пошли на Матвеева, а мы за него, врага нашего, вступаться бы вздумали? Ведь это, почитай, все равно что себе самому заранее могилу рыть добровольно.
– Горько сознаться, а приходится сказать, что есть и правда в твоих речах, Иван Михайлович, – печально проговорил Голицын. – Пусть будет, что будет, скажу только и пресветлейшей царевне и тебе, боярин, что в кровопролитии участвовать я не отважусь; на душу грех тяжкий ляжет. Не хочу быть повинен в крови христианской.
– Ну, как знаешь! – проворчал себе под нос Милославский. – А думается мне, что боронить себя от врагов греха никакого нет. Не давать же себя на расправу своим недругам? Приму я все на свою совесть, – добавил он, успокаивая Голицына, – да и царевна ни в чем перед Богом в ответе не явится: все, что будет нужно, сделаю я сам.
– Так и порешим на этом. Пусть Иван Михайлович, как он знает, оберегает честь и здравие благоверного царевича Ивана Алексеевича. Прощайте, бояре, пора мне пойти к царице Наталье Кирилловне. Стараюсь я теперь поступать, чтоб ни в чем меня в подозрение не взяли.
– И разумно делаешь, государыня царевна, – одобрил Милославский.
Милостиво отпустив от себя бояр, Софья крытыми переходами пошла из своего терема к мачехе.
У царицы Натальи Кирилловны собирались также в ту пору по два раза в день на совет бояре, державшие ее сторону, и почти безотлучно находилась при ней вся многочисленная семья Нарышкиных.
Чуяло сердце царицы что-то недоброе; нарышкинские разведчики и соглядатаи шныряли по Москве и приносили из города в царицын терем нерадостные вести. Подумывали сторонники Натальи Кирилловны, как бы захватить главных злоумышленников, но опасно было сделать это: чего доброго, раздражили бы всех еще больше, и стрельцов и народ. Не решаясь пока ни на что, царица и преданные ей бояре с нетерпением поджидали приезда в Москву Артамона Сергеевича Матвеева, твердо надеясь, что он даст им всем разумный совет. Промедление на несколько дней не представляло, по-видимому, особой опасности, так как хотя тревожные слухи и носились по Москве, но не было еще никаких явных признаков, что взрыв уже готов. Да и некому было взяться за дело решительно; среди сторонников царицы Натальи Кирилловны не находилось таких людей, которые отважились бы прямо пойти навстречу опасности; все думали только о том, как бы уклониться от угрожающей беды, а не о том, чтобы предупредить ее неожиданным ударом.
Царевна вошла в горницу царицы, и бывшие там женщины, монахини и приживалки, низко поклонившись ей, вышли, оставив их с глазу на глаз.
– Здравствуй, матушка царица! – сказала Софья, входя к своей мачехе и почтительно целуя ее руку. – Всенижайший сыновний поклон принесла я тебе от братца-царевича. Лежит он в постели, да и сама я что-то недомогаю, никак, огневица* напасть на меня хочет. Видно, и мне слечь придется…
– Побереги тебя Господь Бог, Софьюшка, – с притворным участием сказала Наталья Кирилловна.
Софья присела на низенькую скамью у ног мачехи.
– А что слыхать на Москве, Софьюшка? – спросила царица, смотря пристально своими черными глазами на падчерицу и как бы стараясь смутить ее своим взглядом…
– Где мне что знать! Сижу у себя взаперти, ни с кем не вижусь и ни с кем не знаюсь. Вот и святейший патриарх забыл меня совсем; никто ко мне не заглянет. Все нас позабыли, как братец Федя Богу душу отдал, – жаловалась царевна.
– Вот, Софьюшка, кажись, ведь какой ты смиренницею живешь, никого не затрагиваешь, ан, смотришь, злые люди между нами ссору завести хотят: толкуют, что из-за твоих искательств переполох на Москве затевают, – заговорила царица, сдерживая свое волнение.
Софья слегка вздрогнула, но тотчас же оправилась.
– Выдай мне, матушка, того, кто смеет это говорить, – спокойно сказала она, – зачем тебе злых людей боронить? Если что из-за них потом выйдет, так сама же ты виновата будешь: зачем злодеев нам на пагубу укрываешь!
И царевна с этими словами смело взглянула в глаза мачехи.
Царица в свою очередь смутилась.
– Да кого же мне тебе выдавать? Молва по Москве такая ходит, как тут кого уловишь и уличишь? Сказываю я тебе только то, что на миру твердят, – проговорила она, стараясь придать своему голосу оттенок равнодушия.
– Говорят на миру! – насмешливо повторила вдруг вспылившая Софья и быстро вскочила со скамейки. – Да знаешь ли ты, матушка, что говорят о тебе самой на миру? Говорят, что ты всех нас извести хочешь!
– Опомнись, безрассудная, что ты сказала! Ты винишь меня в смертном грехе! – вскрикнула царица, приподнимаясь с кресел. – Забыла ты, видно, негодница, что завещал вам покойный родитель!
– Забыла, видно, и ты, что завещал тебе он! – задыхаясь от гнева, вскрикнула Софья. – Завещал он тебе любить и оберегать нас, а разве ты так поступаешь с нами? Ты гонишь братца Иванушку в могилу, а меня и сестер моих спроваживаешь в монастырь…
Вскрикнув, царица почти что упала на кресло и заплакала навзрыд. Царевна, окинув мачеху взглядом, исполненным ненависти, и не простившись с нею, пошла в свой терем.
«Нечего нам более от них ждать; погубят они нас, если мы не обороним себя вовремя», – думала царевна.
Возвратясь в свой терем, она тотчас же на лоскутке бумаги написала:
«Мешкать не годится; принимайся, Иван Михайлович, за дело».
Записку эту царевна отправила с Родилицею к Милославскому. На другой день после стычки Софьи с Натальей Кирилловной по кремлевским палатам пошел слух, что царевна сильно заболела, заперлась в тереме и не пускает к себе никого, даже из самых близких к ней людей. Наталья Кирилловна успокоилась, полагая, что до приезда Матвеева Софья и ее согласники ничего не успеют сделать. А между тем Милославский деятельно работал. Он по нескольку раз в день пересылался через Родилицу с царевною, сообщая ей, что дело идет как нельзя лучше.
XIII
С несказанною радостью встретила Наталья Кирилловна возвратившегося из ссылки боярина Артамона Сергеевича Матвеева, ближайшего друга ее покойного мужа, который звал Матвеева почетным именем «Сергеич». При виде его в памяти царицы оживали ее детские и девичьи годы. Вспоминала она, как ее, еще маленькою девочкою, привезли из Тарусы, где было у ее отца небольшое поместье, в Москву на воспитание к родственнику Нарышкиных, Матвееву, как ее поразил тот дом, в котором жил боярин. Дом этот отличался по своей отделке и обстановке слишком резко от домов других бояр и, подобно дому князя Василия Васильевича Голицына, был устроен на европейский образец. Боярин Матвеев слыл на Москве человеком разумным и ученым. Он любил чтение и беседу с книжными людьми, не только из русских, но и из иностранцев, и постоянным его собеседником был ученый грек Спатарий. Ходила даже молва, будто Матвеев знает тайную силу трав и занимается чернокнижием, и повод к этой последней молве подавал, между прочим, служивший у Матвеева араб Иван.
– Дьявол идет! – кричали, бывало, в Москве, когда араб, или по-тогдашнему «мурзин», появлялся на улице. – Вишь ведь, черный какой! Черт губастый!
– Да ведь он тоже крещеный! – заметит иногда кто-нибудь, защищая слугу Матвеева от уличных оскорблений и насмешек.
– Что в том, что он крещеный? Рожа все та же черная осталась, значит, и в крещении не отмылся!
Давно бы над ним учинили в Москве что-нибудь недоброе, если бы нападки на него не сдерживались его богомольем. Крещеный негр часто ходил в церковь Николы в Столбах, в приходе которой жил его боярин. Став в церкви к стороне, он усердно молился и тем ослаблял злобу суеверов.
Любил боярин Матвеев толковать и с раскольниками, а также и состязаться с Аввакумом, к которому он нередко хаживал вместе с Семеном Полоцким. Вскоре, однако, протопоп разошелся с боярином.
– Ты ищешь, – сказал ему при одном споре Аввакум, – в словопрении высокой науки, а я прошу ее у Христа моего со слезами. Како же могу я иметь общение с тобою: мы разнимся, яко свет и тьма.
Вообще, раскольники не жаловали Матвеева за склонность его к новшествам. Не любило его и стрелецкое войско, зная, что боярин был строг и не снисходительно посматривал на распущенность и своеволие стрельцов. Едва лишь Матвеев возвратился в Москву, как вражда готовилась снова подняться против него, хотя стрельцы и встретили его с хлебом-солью. «Но, – как писал впоследствии его сын, – принос стрелецкого хлеба и соли был ядением ему, боярину, меду сладкого на остром ноже».
Живо напомнил приезд Матвеева царице ее неожиданную высокую судьбу.
Царь Алексей Михайлович часто, в противность тогдашним понятиям, требовавшим сколь возможно большого отчуждения государя от подданных, езжал к боярину, который, не блюдя исконного московского обычая, не скрывал от взоров бывавших у него гостей ни своей жены, ни жившей в его доме Натальи Кирилловны. При первой же встрече сильно приглянулась царю эта молодая, красивая и стройная девушка, и он, шутя, пообещал Матвееву приискать ей жениха.
Прошло после этого несколько дней, и Алексей Михайлович снова навестил Матвеева.
– Я нашел твоей родственнице жениха, – сказал государь.
– Кто же он таков? – спросил нерешительно боярин.
– Царь Алексей Михайлович! – было ответом на этот вопрос.
Матвеев повалился в ноги государю и умолял отстранить от него эту высокую честь, ссылаясь на то, что, вследствие царского брака с его родственницею и воспитанницею, у него, Матвеева, явится много завистников, и уговорил царя справить сватовство по старинному обычаю. Тогда собрали со всего государства в Москву дворянских девиц и поместили их в царевниных теремах. Только перед светлыми очами великого государя, одного из всех мужчин Русской земли, могли откинуться девичьи фаты. Царь вдосыть насмотрелся на своих хорошеньких подданных, но остался верен прежнему своему выбору: Наталья Кирилловна была объявлена невестою государя, а вместе с тем и наименована благоверною царевною и великою княжною московскою, так что государь как будто вступал в брак с девицею царской крови.
Отложил тогда Алексей Михайлович в сторону все государственные и земские дела и начал с своим синклитом мыслить только о том, кого в какой «свадебный чин» избрать? В чин этот нужны были сановные лица «в отцово и материно место», нужны были они в «сидячие бояре и боярыни», в «поезжане», в «тысяцкие», в «дружки», в «свахи», в «свешники», в «конюшенный чин» и в «дворецкие». И боярам, и боярыням, и вообще служилому чину при отправлении «царского веселия» нашлась бы почетная работа. Вся родовитая Москва переполошилась, все только и думали, кого куда царь соизволит назначить. Поднялись местнические счеты не только между мужчинами, но и между их супружницами, каждому и каждой хотелось занять более видную должность. Долго пришлось бы возиться царю с этим делом и решать местнические споры по разрядным книгам, а потому он, избегая проволочек, покончил все дело своею царственною властью очень просто: он повелел быть всем без мест, затем, не соображаясь уже со служебною знатностью того или другого рода, приказал расписать всех по местам, с прибавкою, чтобы «в те дни, когда у него, великого государя, будет радость, в том чину, кому где указано быть, были бы готовы без лет, не по роду и не по чинам». Не лишним счел государь задать на всякий случай и острастку, прибавив в своем указе: «А как будет у него радость и в те дни будет кто из бояр, и окольничих, и думных, и ближних людей учинять в свадебном деле породою своею, местами или чином какую смуту, и в том свадебном деле учинится помешка, и того за его ослушание и смуту казнить смертью без всякого милосердия, а поместья и вотчины взять на него».
Показалось, однако, великому государю недостаточным и это для сохранения, при его «радости», должного порядка и благочиния. Поразмыслил он и о том, что будет после его свадьбы, и потому в своем указе повелел сделать еще и следующую прибавку: «Также и после свадьбы никому никого никакими словами о свадебных чинах не поносити и в случай не ставити, кто кого в чину выше был, а буде кого учнет поносити, а себя высити и про то сыщется, и тому быть от великого государя в опале и в наказании».
Настращав порядком своих верноподданных, великий государь спокойно принялся справлять свой «свадебный чин», а Наташа между тем перешла на житье в царские хоромы, к царевнам-сестрам своего жениха.
Накануне царской свадьбы справили в столовой избе Кремлевского дворца ужин, во время которого Наташа чувствовала уже себя царицею, так как она сидела с государем за особым столом, тогда как бояр и боярынь, которые еще так недавно смотрели свысока на безвестную доселе семью Нарышкиных, усадили за особые столы, поодаль от будущей государыни. Перед ужином крестовый протопоп благословил крестом царя и царевну и «велел им меж себя учинить целование». Зарделись щечки девушки от этого первого поцелуя чужого мужчины, и смутилась она, когда дородные бояре и такие же боярыни принялись кланяться ей в ножки, поздравляя ее нареченною невестою великого государя.
Благословился на другой день Алексей Михайлович у патриарха, отпели для его царского величества молебен, после которого отправили панихиду по его отцу и его сродникам, и пошел он потом в Архангельский собор, к гробам прежних царей московских, «испросить у них прощение».
Но вот наступил и день брака Наташи с великим государем. К этому дню обили большую палату Кремлевского дворца бархатом, разостлали в ней на полу турецкие и персидские ковры, устроили посреди палаты царское место, чтобы сидеть на нем жениху и невесте, а перед царским местом поставили стол, а кругом этого стола другие столы, за которыми сидели бы бояре и боярыни; покрыли столы камчатными скатертями и положили на них хлеб и соль.
Забилось сердце боярышни-царевны, когда ее, одетую в царское одеяние, ввели под руки боярыни в эту палату и посадили там на особое место. Донесли тогда государю, что все пришли и устроились. Помолился он усердно перед иконами, благословил его духовник, благословили посаженые отец и мать, и отправился он в большую палату к своей невесте. Коровайники понесли перед ним хлеб и соль, а за ними пошел протопоп, за протопопом царь, а за царем бояре.
Вошел в палату великий государь, а царевна встала со своего места, и оглянула она жениха так зорко, как никогда еще не оглядывала его прежде, и показался он ей не слишком молодым и не очень пригожим, но зато сановитым и важным, и хотя дородность в мужчине не считалась в ту пору изъяном, но все-таки, как думалось Наташе, жених уже больно тучен, так что он с трудом на ходу двигается. Но зато приветливо и кротко смотрели его глаза из-под собольего околыша высокой царской шапки, блиставшей алмазами и жемчугом. Бело и нежно было его добродушное лицо; величаво и пышно разлегалась на драгоценных царских бармах* его темно-русая густая борода. Ослепительно великолепен был и весь наряд державного жениха, шитый из золотой парчи и украшенный такими же кружевами, а все одеяние его сияло разноцветными лучами, которыми с разными переливами так причудливо играли алмазы, изумруды и рубины, как будто отягчавшие великого государя в его царственном облачении.
Помолился царь и в палате, помолилась с ним и невеста, и благословились и он и она у своих посаженых отцов и матерей, и сели они на царское место оба на одной бархатной подушке. Вслед за ними сели по своим местам бояре и боярыни и весь свадебный чин.
Поднялся со своего места духовник, поднялись с подушки царь и царевна, встали с лавок и все сидевшие за столами, и начал протопоп читать громко «Отче наш». Окончил он молитву, и стольники принесли в палату кушанья и поставили их на столы. Усердно, начиная с главного «действователя», отца протопопа, все принялись за еду. Только дружкам и подружьям женского пола не до того теперь было. Подошли они к отцу и матери невесты и благословились у них, чтобы расчесывать косу Наташи. Заслонили на это время и ее и жениха пологом из розовой тафты, который держали свешники, а за пологом свахи сняли с царевны девичий венок, и вот густыми прядями рассыпались по плечам ее черные волосы, и тогда свахи принялись расчесывать и «укручивать» ее косу.
Покончили свахи-боярыни с косою невесты и надели ей на голову покрывало с вышитым на нем крестом, и тогда начались раздача и посылка подарков от невесты: от имени ее стали подносить ширинки, то есть носовые платки. Ширинки были из белой тафты, шитые золотом, серебром и шелком. Не забыли при этом подарками и отсутствовавшего патриарха и от имени невесты отправили к святейшему владыке несколько кусков белого полотна.
Царь и его невеста не прикасались к яствам, так как они весь этот день должны были поститься, да и свадебному чину не дали кончить обеда, потому что начались сборы к венцу. Посаженые отцы и матери благословили царя и царевну иконами в золотых окладах, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, а потом отец и мать невесты подвели ее к царю и сдали ему ее. Государь взял невесту за правую руку и повел ее в одну из дворцовых церквей. Духовник предшествовал им, кропя святою водою все переходы, чтобы избавить брачующуюся чету от волшебства, колдовства и чародейства. В это время во всех московских церквах раздался трезвон и началось молебствие о здоровье царя и царевны, а также о счастливой будущности их супружеского союза.
В церкви государь и невеста встали вблизи алтаря на разостланную для них золотую объярь, а сваха отслонила от лица невесты шелковую фату. Царя с одной стороны стал поддерживать под руку дружка, а царевну – сваха.
Окончился обряд венчания, и протопоп стал поучать, как следует жить супругам.
– Жене у мужа быти в послушенстве, – внушал он, – и друг на друга не гневаться, разве некия ради вины мужу поучити ее слегка жезлом, зане же муж жене, яко глава на церкви, и жити вам в чистоте и богобоязни, неделю и среду и пяток и все посты постить, и к церкви Божией приходить, и подаяния давать, и с отцем духовным спрашиваться почасту, той бо на вся блага научит».
Преподал отец протоиерей в этом подлинном своем слове еще и особую статью о супружеской любви в великие праздники.
Сказав поучение, протопоп передал царю невесту и велел им поцеловаться, а царские дьяки грянули многолетие благоверной государыне царице Наталье Кирилловне. Молодую между тем закрыли снова фатою, и начались поздравления. После поздравлений царь с царицею вернулись в столовую избу, и там, в присутствии их, и весь свадебный чин принялся за продолжение прерванного обеда. Когда же принесли стольники третье яство, жареного лебедя, то царь встал, встала и царица, а протопоп благословил новобрачных, которые отправились в опочивальню, предоставив боярству и всему свадебному чину есть и пить вдоволь, а около той хоромы, куда удалились новобрачные, стал разъезжать на лихом коне конюший с обнаженным наголо мечом, не допуская никого приблизиться к царским хоромам. Порядком должен был поумаяться этот конный царедворец, так как ему пришлось разъезжать вплоть до рассвета.
В эту брачную ночь в царском дворце шло необычайное веселье: в продолжение ее играли на трубах и сурнах*, били что есть мочи в литавры, как в сенях, так и на дворе, на котором «для светлости» жгли большие костры дров. Отпраздновали свадьбу Натальи Кирилловны и обедами и подарками; царя дарили бояре и боярыни бархатами, узорчатыми камками, атласами и объярями, а царицу, вдобавок ко всему этому, еще и соболями и золотыми перстнями с дорогими каменьями, а также и серебряною посудою. По случаю царского веселья были посланы из дворца в монастыри стольники, стряпчие жильцы с милостынею и с молебными деньгами, и в течение нескольких недель кормили на счет царской казны изобильною трапезою чернецов* и черниц, выдавая каждому и каждой из них сверх денег еще по полотенцу и по два платка. Ходили царь и царица по богадельням и тюрьмам, облегчая участь колодников и раздавая щедрую милостыню как им, так и вообще убогим и нищим, и, по свидетельству современника, истратили на это «множество тысяч».
Припоминала царица Наталья Кирилловна и радость своего супруга по случаю рождения ею царевича, которому, вследствие особого предвещания юродивого, дали имя Петр – имя, не бывшее еще в царском семействе. Припоминала она, как царь на радости стал тогда ходить пешком в «цветном» платье по монастырям, творить многие добрые дела сверх обычных и угощать бояр водкою, фряжским и ренским вином*, яблоками, дулями*, коврижками и инбирем.
Царь, читавший в переводах иностранные «куранты», то есть газеты, порадовался и тем предзнаменованиям, какие он в них нашел; так, он узнал, что в день рождения царевича Петра король французский* перешел за Рейн, а султан турецкий* через Дунай; после чего первый из них завоевал четыре бельгийские области, а второй Каменец и всю Подолию.
Были, впрочем, в жизни царицы и тяжелые дни, хотя и неизвестно, доходило ли когда-нибудь дело до «жезла», употребление которого царю разрешал при совершении его брака духовный отец, могший, по собственному его о себе самом отзыву, «наставить на вся благая». Известно только, что огорчения Натальи Кирилловны происходили от положения ее, как мачехи, среди взрослой семьи, которая осталась после царицы Марьи Ильиничны и в которой самою непокорною личностью оказалась падчерица Натальи Кирилловны, царевна Софья Алексеевна. В эти тяжелые дни ободрял, утешал и успокаивал царицу ее сродник, боярин Матвеев, с которым разлучили ее Милославские, но теперь обстоятельства, к радости вдовствующей царицы, изменились, так как опальный боярин с великою честью возвращался в Москву и в нем она должна была найти и твердую опору, и надежного советника.
XIV
С обычною для той поры боярскою пышностью въезжал Матвеев в Москву, которую он, как изгнанник, должен был оставить семь лет тому назад. Раздумывая о своей ссылке, он скорбел о том невежестве, в каком находились тогда его соотчичи. Еще в исходе XVII столетия подозрения в порче, в отраве и в волшебствах были весьма часты в Московском государстве, и каждый человек, занимавшийся в то время не только такими «отреченными» или проклятыми науками, какими считались тогда алхимия и астрология, но даже медициною, считался сознакомившимся с нечистою силою. Таким подозрениям давалась большая вера и в царских чертогах, а опасения насчет отравы на каждом шагу высказывались постоянно около царя и его семейства. Так, чашник, подносивший напитки, и кравчий, резавший государю пищу, должны были, прежде чем станет пить или кушать государь, отведывать напитки и «надкушивать» яства. В случае болезни царя ближние бояре должны были принимать подаваемое ему лекарство. Подозрительность относительно отравы и порчи до того господствовала при московском дворе, что все служившие при нем люди давали присягу не покушаться на жизнь государя и его семейства отравою и не портить их волшебством и нашептыванием. Опасения предусматривались до таких мелочей, что, например, давалась клятва не наводить чар ни на седло, ни на стремена, ни на уздечку, которые надевались на царских коней. Во всем чудилась тогда отрава и порча, все могло пропитаться ими, и потому против этого принимались самые тщательные предосторожности. Стирку белья, употреблявшегося в царском семействе, доверяли только самым надежным женщинам, а возили его полоскать на реку запечатанным царскою печатью и покрытым красным сукном, под охраною такой знатной боярыни, на благочестие и преданность которой к царскому дому можно было вполне положиться. Ладанки, кусочки мощей, крестное знамение и святая вода считались лучшим противодействием всякому дьявольскому наваждению.
Милославские поспешили воспользоваться такою подозрительностью и таким легковерием на пагубу ненавистного им боярина Матвеева. В особенности они мстили ему за то, что он уговаривал царя Алексея Михайловича, чтобы он, обойдя двух старших царевичей, Федора и Ивана, рожденных от Милославской, благословил на царство младшего своего сына, царевича Петра, рожденного от Нарышкиной. По наущениям Милославских доктор Берлов донес, что Матвеев хотел отравить царя Федора Алексеевича, что он вызывал нечистых духов, которых видел живший в его доме карлик Захарка, и что, кроме того, боярин не отведывал лекарств, подносимых царю, отчего здоровью его царского величества немало вреда причинилось. Справедливо или ложно, но пустили также молву о том, что Матвеев держал у себя не только лечебник, писанный цифирью, но даже и черную книгу.
Оговоренный боярин должен был считать себя еще весьма счастливым, что, при таких тяжких обвинениях, его не только не сожгли в срубе, но даже и не подвергли пытке, а только по лишении боярства и чести и по взятии всего имущества на государя отправили на житье к берегам Ледовитого моря.
Заглянул боярин Матвеев по приезде в Москву в свой прежде великолепно убранный дом. Дом был теперь пуст, все было из него повыбрано, высокая, чуть не до пояса трава, крапива и полынь разрастались привольно каждое лето во дворе покинутого дома, где, как верили москвичи, гуляла и тешилась на просторе нечистая сила, привыкшая посещать по ночам прежнего хозяина дома.
Когда проезжал по московским улицам «Сергеич», многие недружелюбно посматривали на него и уже толковали о том, как бы от него избавиться народным скопом, «вольным обычаем».
– Эй, Митюха, не толкуй об этом! – наставительно крикнул старый кузнец своему молодому работнику, заговорившему о том, что нужно-де снова посбыть так или иначе строгого боярина, добавляя, что так как его добром наверно не выдадут, то отчего бы и не взять его силою. – Из-за такого дела мне всю жизнь ковылять приходится, – наставительно добавил старик.
– Нешто тебе, дядя, досталось когда-нибудь? – спросил парень, тряхнув кудрями.
– Да и не одному мне. Вспоминать-то я не охоч об этом, но тебе в науку, пожалуй, и расскажу.
Кузнец бросил на пол тяжелый молот и присел на скамейку.
– Ты, почитай, еще и не родился, когда был коломенский «гиль»*, – начал он, отирая с лица рукавом рубашки капли крупного пота. – Тебе который год?
– Кажись, семнадцать.
– Ну, так, значит, в ту пору ты еще соску сосал, а потом, видно, ничего не слыхивал.
– Нет, дядюшка, слыхал что-то, да перезабыл.
– Так слушай же, что было. Вел войну царь с польским королем, и денег у царя на жалованье ратным людям не хватило. Вот и надумались тогда делать медные деньги и пускать их в народ, вровень с серебряными. Пошли на первый раз такие деньги ходко, а потом вдруг все вздорожало. Деньги оказались негодные, и не стали крестьяне возить в города ни сена, ни дров и никаких запасов. Настала тогда на все дороговь великая, и появились воровские деньги, оловянные и медные, ртутью натирали да и давали темному народу за серебряные.
– А ты, дядюшка, таких денег не делывал? – спросил Митюха.
– Делывал бы, так разве бы так жил? В ту пору кто делал воровские деньги, так поставил себе дворы каменные и большущие деревянные хоромы, понаделал себе и женам платье боярского обычая. Многие в том воровстве попадались, да откупались; брали с них откуп, да настоящими деньгами, и брали-то не одни сыщики и приказные, а и бояре, хотя бы тогдашний царский тесть Илья Данилыч Милославский! А кто откупиться не успел, была тем тяжкая расправа! Ой, тяжкая! Горло заливали свинцом, отсекали руки, ноги или пальцы и калеками в дальную ссылку отправляли, а отсеченные руки и ноги, на страх другим, прибивали к денежным дворам. Бывало, в иной день по сотне отхваченных топором рук и ног гвоздями приколотят.
– Тем дело и покончилось? – спросил молодой работник.
– Хуже было! Государь велел казнить тех, кто посулы брал, а тестю своему, да и другим боярам, дал пощаду, маленько только погневался на них. Ну, вот народ и взбудоражился. Собрался на Лобном месте у рядов да и принялся толковать: «За что-де боярам спуску давать? Расправимся с ними сами!» Ну и принялись грабить. Царя на ту пору в Москве не было, жил он в Коломенском. «Пойдем, братцы, в Коломенское!» – крикнул кто-то, да и взаправду пошли. Царь слушал обедню в тот час, когда к нему в село, а потом и во двор привалили «гилевщики»; не смутился, одначе, он и достоял до конца обедню, попрятались только от страху царица, царевичи и царевны в своих хоромах.
– А что ж царя-то боронить никто не стал? – перебил работник.
– А разве царь знал, что гиль будет! При нем, разумеется, находился заурядный караул, а больше не было. Только уж тогда, когда проведали бояре, что гилевщики пошли в Коломенское, тогда послали из Москвы и стрельцов на подмогу царскому караулу. Ну и было же тут!
– А ты что же, дядя, в те поры делал?
– Да что делал? Обороняться мне было нечем, так и я следом за другими побег, а меня на бегу какой-то окаянный стрелец как мазнет пулей в ногу, так я тут же и присел! Спасибо товарищам, не выдали меня, кое-как приволокли к Москве, да месяца три укрывался я потом от сыска, пролежал под крышей да хромым на весь век и остался. Стал потом говорить, будто на работе сильно ногу попортил. Да мне хотя и непопусту досталось, а то были и такие, у кого на уме ничего не было, пошли так себе, поглазеть, а и им досталось за один уряд!
– А что ж поделали с виновными? – спросил парень.
– Да в тот же день около Коломенского повесили сотню разного народа, а достальных пытали и жгли, кнутом били, разжженным железом клали на лицо знамение «буки» в указ того, что бунтовщики были…
– Чу! Дядя, никак, всполох бьют, – крикнул парень.
– Оно и есть, – сказал старик, вслушиваясь к начинавшему гудеть вдалеке набату.
– Да, слышь, никак, и в слободе-то в барабаны ударили!
Хозяин и работник выбежали из кузницы, а между тем гул набата и барабанный бой усиливались все более и более.
Это было 15 мая 1682 года.
XV
Настало ясное и жаркое майское утро; по голубому небу не пробегало над Москвою ни одного облачка. Неподвижен был воздух, но к полудню какая-то невидимая сила начинала по временам поднимать на пустых улицах Москвы небольшим дымком пыль и кружила ее на месте, что по народной примете должно было предвещать сильную бурю. В Москве около полудня все стало тихо: прекратилась в городе и езда и ходьба, так как около этой поры наступал тогда для всех обеденный час. Собравшаяся в Кремлевском дворце боярская дума уже оканчивала свое заседание, которое в этот день продолжалось долее обыкновенного. На нем, после долгого отсутствия, находился и боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Дума рассуждала о том, какие следует принять меры, чтобы пресечь ходившие по Москве тревожные слухи, и тем самым предотвратить то, пока еще глухое волнение, которое, как ожидали бояре, может, чего доброго, перейти в народное возмущение. Все бояре надеялись, что умный и рассудительный Матвеев подаст при настоящих затруднительных обстоятельствах спасительный совет. Но Матвеев, ссылаясь на то, что лишь трое суток как прибыл в Москву, отозвался, что не успел еще ознакомиться с положением дела. Поэтому он уклонился и просил отложить окончательное решение вопроса на несколько дней. Заметно было, что Матвеев был не только озабочен, но и грустен, хотя благоприятный переворот в его судьбе должен был радовать и веселить его. Какое-то тяжелое предчувствие безотчетно томило возвратившегося в Москву боярина. Хмуро и озабоченно выглядывали и его сотоварищи по думе; и они как будто чуяли что-то недоброе, зная, что между стрельцами давно уже идет глухой ропот, но ободряли себя тем, что до возмущения дойдет еще не так скоро и что между тем успеют принять меры, которые предупредят опасные замыслы в среде недовольных.
Окончив заседание в думе, бояре, один за другим, стали медленно спускаться с Красного крыльца, когда до их слуха долетел гул начинавшегося набата.
– Знать, где-нибудь загорелось, – сказал князь Яков Никитич Одоевский. – Слава Богу, что тишь стоит в воздухе, скоро погасят.
Бояре стали оглядываться по сторонам, но на ясном небе ни в одной стороне не было видно дыма, который при каждом пожаре так скоро поднимался черными клубами над тогдашнею Москвою сплошной деревянной постройки.
Следом за набатом послышался отдаленный рокот барабанов.
– Должно быть, стрельцы спешат на пожар, – проговорил боярин Шереметев*.
Действительно, барабанный бой оповещал о приближении стрельцов, но спешили они не на пожар, а в Кремль, куда их вовсе не ожидали.
В то время, когда бояре заседали в думе, стольник Александр Милославский и стрелецкий голова Петр Толстой* во всю прыть прискакали на конях в одну из стрелецких слобод.
– Нарышкины задушили царевича! – кричали они, мчась по слободским улицам.
Стрельцы повыбегали из изб, барабаны ударили сборную повестку, а в приходских церквах, стоявших по слободам, забили в набат. Стрельцы схватили знамена, ружья, копья и бердыши*, а пушкари принялись впрягать под пушки лошадей.
– Нарышкины удушили царевича! – кричали стрельцы, передавая один другому весть, привезенную Милославским и Толстым.
– Бояре хотят произвести между нами розыск и главных виновников казнить смертью, а прочих сослать в дальние города. Хотят они истребить вконец наше стрелецкое войско. Покажем им, что этому не бывать! Пойдем в Кремль, изведем изменников, – говорили влиятельные стрельцы своим товарищам.
В то время, когда стрельцы готовились двинуться на Кремль, огромная и плотная толпа окружила Александра Милославского, который передавал ей подробности о кончине царевича.
– Иван Нарышкин*, – рассказывал он, – надел на себя царскую одежду и шапку и сел на престол, при своих сродниках и согласниках, и похвалялся перед ними, что «ни к кому царская шапка так не пристала, как ко мне». Царица Марфа Матвеевна и царевна Софья Алексеевна захватили его в этом воровстве и принялись корить за продерзость при царевиче Иване Алексеевиче, когда тот пришел в палату на учинившийся шум. Как вдруг Нарышкин вскочил с престола, кинулся на царевича да тут же и задушил его!
То же самое рассказывал другой толпе и Петр Толстой.
– Вспомните, православные, какой сегодня у нас день! Сегодня ведь празднуется память святого мученика царевича Дмитрия* Углицкого, и сегодня же явился другой царевич-страстотерпец! – говорил Толстой.
Стрельчихи быстро разносили по слободам страшную весть, и теперь все слухи, которые рассеивали сторонники Милославских, начали громко и с полною уверенностью повторяться на все лады и притом с разными произвольными прибавлениями.
– Царевич Иван Алексеевич был наш законный государь, никогда он не отказывался от престола, сплели эту молву Нарышкины! Нужно наказать их за все их злодейства! – твердили разъяренные стрельцы.
С громкими криками, с распущенными знаменами, при грохоте двухсот барабанов и в сопровождении нескольких пушек подходили они к Кремлю с разных сторон.
Не успевшие сойти еще с Красного крыльца бояре в недоумении от гула набата и барабанов приостановились на площадке лестницы, а бояре, поехавшие прежде них, стали возвращаться назад во дворец.
– Нет проезда, весь Белый город полон стрельцами! – крикнул воротившийся ко дворцу боярин князь Урусов Матвееву, который хотел было сойти по лестнице, чтобы сесть в колымагу. – Не езди, боярин, плохо будет! Да несдобровать и всем нам.
Матвеев опрометью кинулся вверх к царице Наталье Кирилловне, чтобы предупредить ее об опасности, за ним в испуге бросились и все бывшие на Красном крыльце бояре, надеясь найти в царских палатах убежище от подходивших к Кремлю мятежников.
Предуведомив царицу о приближении стрельцов, Матвеев послал за патриархом, приказал бывшему в карауле стремянному полку охранять дворец и распорядился, чтобы немедленно заперли все кремлевские ворота. Но было уже поздно: стрельцы, пройдя Земляной город, плотною гурьбою ввалились в Кремль с неистовым ревом и с оглушительным барабанным боем, и перед опустевшим Красным крыльцом запестрели теперь их алые, синие, малиновые и голубые кафтаны, замелькали разноцветные шапки и заблистали на ярком солнце ружья и копья. Стрельцы, идя на царский двор, разоделись по-праздничному; на многих из них были бархатные кафтаны и цветные сапоги, преимущественно желтого цвета; у некоторых были на кафтанах золотые нашивки и шли через плечо золотые же перевязи, на которых висели бердыши, остро отточенные сабли, изогнутые наподобие полумесяца. Следом за привалившею толпою показались тяжело грохотавшие пушки. Стрельцы, по современному сказанию, стали теперь перед царским дворцом «во всем своем ополчении».
В воздухе между тем сильно парило, становилось все душнее и душнее, а вдали стала надвигаться на Москву черно-синяя туча. Начали пробегать по временам быстролетные, но все более и более усиливавшиеся порывы ветра, развевая стрелецкие белые с двуглавым орлом знамена и все громче и громче шелестя ими.
На несколько мгновений все стихло на площади. Стрельцы как будто призадумались, что им теперь делать? Было тихо и во дворце; там слышался только робкий шепот среди бояр и царедворцев, пораженных ужасом. Стрельцы между тем отряжали в царские палаты своих выборных к великому государю.
– Слушайте, братцы, кого нужно нам потребовать на расправу, – крикнул выступивший вперед стрелецкий выборный Кузьма Чермный.
– Князя Юрия Алексеевича Долгорукова*, – начал читать он по бумаге, – князя Григория Григорьевича Ромодановского*, Кирилу Полуэктовича Нарышкина, Артамона Сергеевича Матвеева, Ивана Максимовича Языкова, Ивана Кирилловича Нарышкина, постельничего Алексея Тимофеевича Лихачева, казначея Михаила Тимофеевича Лихачева и чашника Языкова. С Лихачевыми и Языковыми нужно нам расправиться за то, что они не берегли здоровья царя Федора Алексеевича, – добавил он и затем принялся читать далее: – Думных дьяков: Иванова, Полянского, Богданова и Кирилова и стольников: Афанасья, Льва, Мартемьяна, Федора, Василья и Петра Нарышкиных*. Так, что ли? – спросил в заключение Чермный окружавших его стрельцов.
– Так! Так! Они царские изменники и наши недруги, – завопили стрельцы. – Князь Григорий Григорьевич мучил нас в Чигиринском походе*. Боярин Языков всячески притеснял нас, вступаясь за наших начальников!
В это время солнце все чаще и чаще стало прятаться за обрывками, предшествовавшими по небу набегавшей большой туче. На площади пронесся сильный порыв ветра, подняв густые, высоко взвившиеся клубы пыли. Упало несколько крупных капель дождя, и послышались глухие раскаты грома.
Не успели еще выборные вступить на лестницу Красного крыльца, как с нее стал спускаться престарелый боярин, князь Михаил Алегукович Черкасский*.
– Зачем вы, страдники, пришли сюда? – строго спросил он у стрельцов. – Проваливайте отселе, тут вам не место.
– Небось твое тут место? – насмешливо отозвался один из стрельцов. – Трогают тебя, что ли?
– Проваливай сам отселе, татарская рожа! – крикнули вдруг другие стрельцы.
Боярин грозно посмотрел на них, но, прежде чем он успел сказать еще что-нибудь, шелковая ферязь затрещала на нем, и попятившийся от стрельцов боярин в одно мгновение очутился от напора стрельцов на Красном крыльце с оторванным рукавом и располосованной вдоль спины ферязью, возбуждая разодранною одеждою громкий хохот.
– Видно, и надеть тебе нечего, что в лохмотьях ходишь? Принимайся-ка, боярин, на старости за иглу! – насмехались вслед ему стрельцы.
Появление Черкасского в изодранной ферязи в Грановитой палате, где собрались и жались в кучку около царя, царицы, царевича и царевны Софьи дрожавшие от страха бояре, возбудило ужас.
– Не дадут они нам никому пощады! – зловеще вскрикнул боярин князь Одоевский.
– Сходи ты к ним, князь Василий Васильевич, – сказала царица Наталья Кирилловна, обращаясь к князю Голицыну. – Ты вразумишь их.
Софья вздрогнула. Она хотела возразить что-то, но удержалась и, отойдя в сторону, встревоженная и взволнованная, присела на лавку.
– Пойду и молю Бога, чтобы он помог мне моим словом одолеть их безумство! – перекрестившись, сказал твердым голосом Голицын.
– Стыдно славному стрелецкому войску творить такие бесчинства! – выкрикнул Голицын, став на последней ступеньке лестницы. – Или хотят стрельцы на все Московское государство прослыть изменниками?
Стрельцы не дали далее говорить Голицыну.
– Не мы изменники, а вы, бояре, изменники; мы пришли сюда затем, чтобы взять тех, кто извел царевича!
– Не извели царевича! Милосердием Божиим он здравствует по-прежнему! – отозвался Голицын.
– Рассказывай! – крикнули стрельцы. – Мы лучше твоего знаем! Убирайся-ка, боярин, подобру-поздорову! Ничего с нами не поделаешь, а станешь долго толковать, так еще хуже будет!
Без успеха вернулся Голицын с Красного крыльца в Грановитую палату.
– Пошел бы ты к ним, князь Иван Андреевич, – сказал Матвеев Хованскому. – Авось они тебя послушают.
– Иди, иди! – подхватили бояре. – Они все тебя любят, ничего дурного с тобою не сделают.
При появлении Хованского на Красном крыльце прошел на площади между стрельцами одобрительный говор.
– Зачем вы, ребятушки, пришли сюда? – спросил ласково Хованский, обращаясь к выборным, стоявшим отдельно от толпы. – Нешто мне не верите и через меня бить челом великому государю не хотите?
– Как не верить тебе! Да трудить тебя, боярин, не посмели, – простодушно отозвались некоторые из стрельцов.
– Так скажите мне теперь, зачем вы сюда пришли?
– Пришли мы к великому государю ударить челом, чтобы указал он выдать нам изменников, – отвечали с поклоном выборные.
– Кто же изменники?
– Возьми, боярин, эту роспись и представь ее от нас великому государю. Коли ты ее возьмешь, так и выборных мы посылать не станем. По ней он узнает, кто изменники, – сказал Чермный, почтительно подавая Хованскому недавно прочитанную перед стрельцами бумагу.
Хованский взял бумагу и пошел с нею в Грановитую палату.
– Вот боярин так боярин! – одобрительно кричали ему вслед стрельцы. – Говорит толком, не грозит, а выспрашивает ласковым обычаем!
И, говоря это, они разбрелись по площади, терпеливо, по-видимому, ожидая, какой указ даст великий государь по их челобитной.
В Грановитой палате началось теперь совещание. Царевна заглянула в список, и на лице ее выразилась радость: в росписи не было никого из близких ей людей.
– Великий государь, – заголосил вышедший на Красное крыльцо дьяк, – указал объявить вам, что тех бояр, которых вы требуете, у него, великого государя, в царских палатах нет.
– Нет так нет! Мы и сами опосля отыщем, куда они схоронились, а теперь пусть нам покажут царевича; хотим увериться, жив ли он? – заголосили стрельцы.
Прошло немного времени, и на площадке Красного крыльца показались жильцы с метлами и с корзиною песку.
– Знать, патриарх хочет выйти, – заговорили стрельцы, так как, по существовавшему обычаю, перед ним всегда мели дорогу и посыпали ее песком.
Действительно, спустя немного показался протодьякон с большим крестом, а следом за ним, в низком белом клобуке и «пестрой» рясе, медленно выступал патриарх Иоаким. За ним шла царица, с лицом, закрытым фатою. Неровным шагом приближалась она к золотой решетке, отделявшей площадку лестницы от входа, ведя за руку царя Петра Алексеевича, рядом с которым плелся царевич Иван Алексеевич. За царскою семьею нерешительно и робко двигались бояре, а между ними и оборванный князь Черкасский.
– Вот благоверный царевич Иван Алексеевич! – сказал патриарх, выдвигая его вперед и ставя у самой решетки Красного крыльца.
– А вот царь Петр Алексеевич! – в смущении проговорила царица Наталья Кирилловна. – Оба они, благостию Божиею, здравствуют, и в доме их нет изменников.
– Это не царевич Иван Алексеевич! – гаркнул один из стрельцов.
– Нам нужно его поблизости рассмотреть! – подхватили на площади другие, и при этих криках несколько стрельцов приподнялись на плечах товарищей сбоку лестницы и перескочили за решетку.
Царица и бояре в страхе попятились назад.
– Ты ли это, царевич? – спрашивали стрельцы, дотрагиваясь и ощупывая Ивана Алексеевича.
– Аз есмь и никто не изводил меня, – тихо проговорил царевич.
– Царевич жив! – крикнули с Красного крыльца смотрельщики-стрельцы своим товарищам.
– Теперь он жив, а наутро злодеи изведут его! Нужно перебить бояр-изменников! – заревели стрельцы на площади в ответ на сделанное с Красного крыльца извещение.
Толпа при этих криках сперва грозно заколыхалась на площади. Царица, ее сын, царевич, царевна Софья, патриарх и бояре кинулись в ужасе в царские палаты, тесня и давя друг друга, а ватага стрельцов, наклонив перед собою острые копья, дружным натиском, с оглушительным ревом бросилась на опустевшее Красное крыльцо. В это время загрохотало несколько пушечных залпов, направленных на дворец, и затрещали ружейные выстрелы. Задребезжали и зазвенели выбитые и треснувшие стекла, а испуганные стаи воробьев, голубей и галок взвились над крышею дворца и тревожно заметались под черною тучею. В это же мгновение молния серебристыми зигзагами промелькнула по туче, заволокшей все небо и нагнавшей почти ночную тьму. Ярко освещенная молниею, ревевшая толпа вдруг остановилась и притихла. Все сняли шапки и стали набожно креститься, когда вдруг над головами стрельцов грянул резкий и сухой удар грома, рванул сильный ветер, загудел, завыл и застлал всю площадь высоко взлетевшею пылью. Хлынул проливной дождь, и под шумом разыгравшейся бури толпа с диким завыванием ринулась к царским чертогам.
XVI
Среди смятения, охватившего Благовещенскую площадь и достигшего уже до порога Грановитой палаты, отважно выступил перед разъяренными стрельцами показавшийся на Красном крыльце боярин, князь Михаил Юрьевич Долгоруков, начальник Стрелецкого приказа.
– Негодники, изменники! Как осмелились вы ломиться в государево жилище? – крикнул на них Долгоруков. – Прочь отсюда!
Бессильна и бесполезна, однако, была эта угроза. Заслышав ее, рассвирепевшие стрельцы не только не присмирели, но ожесточились еще более. Они схватили Долгорукова и, раскачав его за ноги, с криком: «Любо ли?» – сбросили с Красного крыльца на копья, подставленные их товарищами.
– Любо! Любо! Любо! – закричали стрельцы, стоявшие внизу и, подхватив на копья Долгорукова, скинули его с них на землю и принялись неистово рубить его бердышами. Под сильными и остервенелыми ударами стрельцов брызгала во все стороны кровь, отлетали клочки мяса и отскакивали обрубки членов распростертого на земле боярина.
Не окончилась еще кровавая расправа с Долгоруковым, когда толпа стрельцов, поднявшаяся по другой лестнице, быстро добралась до сеней Грановитой палаты.
– Остановитесь! Грех и срам вам так разбойничать! – кричал Матвеев, пытаясь удержать нахлынувших стрельцов перед Грановитою палатою, в которой укрылась теперь царица с царем и с царевичем.
– Нам тебя-то и нужно! – завопили стрельцы, хватая за бороду Матвеева.
– Не трогайте его!.. Именем Бога прошу вас, оставьте его, – кричала в отчаянии царица Наталья Кирилловна, обняв руками шею старика.
– Отступись от него, царица! Выдай его нам мирным обычаем, а не то силою отберем его от тебя! – сурово сказал один из стрельцов, отдергивая руку царицы от шеи боярина и отстраняя ее самое от него.
В беспамятстве она громко зарыдала, а стрельцы мигом оттеснили ее от своей жертвы, втолкнув царицу в Грановитую палату. Они повалили Матвеева на пол и за волосы, за бороду и за руки потащили его к перилам Красного крыльца.
– Я не выдам его вам! – крикнул боярин, князь Михаил Алегукович Черкасский, бросаясь врастяжку на поваленного Матвеева и силясь заслонить его собою от наносимых ему ударов.
– Пошел, старина, не мешай! – крикнул какой-то стрелец на Черкасского.
Он вытащил из-под него Матвеева, а его самого отбросил сильным толчком в сторону.
– Отпустите его! – закричал умоляющим голосом патриарх, прибежавший на Красное крыльцо.
Но стрельцы не обратили на этот возглас никакого внимания. Они быстро оттерли Иоакима от Матвеева и, расступившись перед патриархом, пропустили его в Грановитую палату, а Матвеева выволокли на Красное крыльцо.
– Кидай его вниз! – бешено заревели стрельцы и, раскачав Матвеева, с веселыми криками и с дружным хохотом сбросили его с крыльца на стрелецкие копья.
– Любо! Любо! Любо! – ревели бывшие внизу их товарищи и, поймав Матвеева на острия копей, сбросили его потом на землю и принялись уже полумертвого рубить, как рубили Долгорукова, на куски своими острыми бердышами.
– Пора нам разбирать, кто нам надобен! – озлобленно кричали стрельцы, вламываясь в Грановитую палату, но она была пуста; все бояре и царедворцы разбежались, укрываясь где попало. Царица, царь и царевич также скрылись из палаты во внутренних покоях дворца.
– Сбежали страдники! – злобно кричали стрельцы.
До тех пор, пока стрельцы не появились на пороге Грановитой палаты, царевна Софья оставалась там, вместе с мачехою и обоими братьями. Она была тверда и спокойна, но уклонилась от всякого вмешательства в происходившие перед глазами ее неистовства. Когда же стрельцы вбежали в Грановитую палату, она протеснилась через толпу и крытыми переходами пробралась в свой терем.
Следом за нею вбежал туда Голицын. Он был бледен, и, в противность строго соблюдавшегося обычая, на голове его не было высокой боярской шапки.
– Выйди, царевна, на Красное крыльцо! Попытайся остановить безумных! Они послушают тебя! – торопливо закричал Голицын, падая на колени перед Софьей.
Царевна равнодушно улыбнулась и положила свои руки на плечи князя.
– Пусть изведут всех… Был бы только ты жив, князь Василий! – проговорила она и, нагнувшись, поцеловала его в голову.
Голицын быстро вскочил с колен.
– Не дивись тому, князь Василий! Приходит конец моей тяжелой неволи. Я вхожу теперь на высоту, на которую возведу и тебя! – проговорила она, страстно смотря на изумленного боярина.
– Но, царевна… – задыхаясь от волнения, начал Голицын.
Он не успел договорить, как в переходах, прилегавших к терему Софьи, послышались неистовые крики стрельцов.
– Они бегут сюда! – побледнев и сильно задрожав, вскрикнула царевна. – Уходи со мною! Я укрою тебя!
Она кинулась к Голицыну и, толкнув его к дверям своей крестовой палаты, заперла за собою двери.
– Тут живет царевна Софья, – крикнул стрельцам Кузьма Чермный, войдя с товарищами в терем царевны, – искать нам у нее некого. Не укроет она у себя ни Нарышкиных, ни их согласников.
Стрельцы, однако, позамялись, не желая обойти без обыска и терема царевны.
– Нечего здесь времени попусту терять! – прикрикнул строго Чермный. – Других, кого взять нужно, упустим. Ступай, ребята, за мной!..
Между тем на Красном крыльце толпа стрельцов продолжала неистовствовать, сбрасывая при криках «Любо! Любо! Любо!» своих недругов на подставляемые внизу копья. Такой страшный конец испытали уже стрелецкие полковники Горошкин и Юренев, а также дьяк Иванов и стольник, его однофамилец.
Другая толпа, забравшись вовнутрь дворца, рассыпалась по всем хоромам.
– Ищи бояр! – кричали стрельцы.
И при этом во всех покоях, и даже в теремах царевен, обыскивали чуланы, забирались на чердаки, заглядывали во все углы, тыкали копьями даже в перины царевен, подозревая, что в этих перинах укрывался кто-нибудь; осматривали под лавками и забирали тех, против которых у них была какая-нибудь вражда. Входили они и в дворцовые церкви, копьями шарили под престолами, протыкали их насквозь и сдвигали с места. В особенности доискивались они Нарышкиных, из которых братья царицы Лев, Мартемьян и Федор, а также и отец ее спасались в этот грозный для них день в тереме царевны Натальи, оставшемся, на их счастье, без обыска.
– Не найдем сегодня, так придем завтра, – угрожали стрельцы.
– Эй ты, уродина! – вдруг крикнул один из стрельцов, увидев прижавшегося в углу карла царицы Натальи, по прозванию Хомяка. – Ты должен знать, где схоронились царицыны братья?
– В церкви Воскресения Христова, – пробормотал карлик.
– Веди нас туда, – потребовали стрельцы и пошли следом за своим провожатым.
Стуча копьями и гремя бердышами, ввалились они, не снимая шапок, в церковь Воскресения, одну из многих церквей, находившихся в царском дворце. Сурово, казалось, смотрели там на дерзких крамольников потемневшие лики икон и трепетно, от сильного движения воздуха, дрожали огоньки теплившихся лампад. Внушительная обстановка храма не подействовала, однако, нисколько на разъяренную толпу.
– Обманул ты нас! – крикнули стрельцы на карлу, оглянув кругом церковь и никого не видя в ней, но карла дрожащею рукою указал им на алтарь.
Мигом распахнули они и боковые двери и царские врата, вбежали в алтарь, сбросили всю утварь с престола, опрокинули его, и тогда под престолом показался бледный, трепещущий средний брат царицы, Афанасий Кириллович.
– Тебя-то мы и искали! Теперь от нас не уйдешь! – с бешеною радостью завопила толпа и поволокла Нарышкина на церковную паперть. Здесь началась страшная рубка бердышами, и через несколько минут окровавленные куски Нарышкина летели вниз с Красного крыльца при громких раздавшихся на площади криках: «Любо! Любо! Любо!»
Поутомились наконец стрельцы от своего кровавого и опустошительного набега на царское жилище. День между тем начал склоняться к вечеру, и в ярком блеске заходило весеннее солнце, озаряя своими прощальными лучами ужасающую картину. Страшная буря быстро пронеслась над Москвою, оставив следы в огромных лужах грязи, в которой теперь около царских палат лежали рассеченные и изувеченные трупы. Кроме этих трупов, на Благовещенской и Ивановской площадях валялись убитые или издыхали в муках подстреленные боярские лошади, лежали разбитые и опрокинутые боярские колымаги, а около них были убитые и раненые слуги, сопровождавшие в Кремль своих бояр. Ударив отбой в барабаны, стрельцы принялись расставлять кругом Кремля сильные караулы и оцепили ими его так, что никому нельзя было ни пробраться в него, ни выбраться оттуда. Окружили они также караулами и Китай и Белый город.
С самого начала мятежа Красная площадь и Лобное место кипели народом, который и в обыкновенное время толпился там с утра до позднего вечера. На этой площади стояли тогда, как стоят и теперь, торговые ряды, а также находились пирожные, харчевни и выносные очаги. Там же были устроены особые палатки, в которых продавали квас и пекли пшеничные оладьи. Особенно много было палаток около церкви Василия Блаженного. Из окон иных харчевен целый день валил дым, так как печи были без труб и дым выходил в окна, а между тем в них без устали жарили рыбу. В этом обжорном ряду, кроме съестной продажи, велась еще и деятельная торговля с рук разными дешевыми вещами, и потому там народу было всегда тьма-тьмущая. Когда раздался барабанный бой и в особенности когда загудел набат на Иване Великом, толпы народа с Красной площади кинулись в Кремль. Они запрудили собою все ворота и частью добрались даже до самого Красного крыльца. Столпившийся здесь народ выражал свое сочувствие стрелецкой расправе, дружно подхватывая крики стрельцов: «Любо! Любо! Любо!» – и в одобрении им высоко над головами помахивая своими шапками.
– Расступись!.. – вдруг крикнули стрельцы народу. – Давай дорогу, боярин поедет!
Ужасен был на этот раз боярский поезд: он оставлял за собою широкий кровавый след. Стрельцы волокли по земле через Спасские и Никольские ворота тех, кто были обречены ими на смерть, на Красную площадь и там рассекали их на части бердышами.
Чернь радостно приветствовала эту расправу, но с особенным восторгом кинулась она вслед за стрельцами, когда они направились разносить Холопий приказ.
– Ни холопства, ни кабалы теперь нет, и впредь им никогда не бывать! Все теперь люди вольные! Дана всем от нас полная воля, все прежние крепости и кабалы разодраны! – кричали стрельцы, разметывая и выбрасывая из окон разорванные на клочки царские указы, книги и дела ненавистного народу Холопьего приказа. Громко и весело вторила чернь этим крикам, считая себя навсегда свободною от холопской и кабальной зависимости от бояр и богатых людей.
Во время разгрома стрельцами и чернью Холопьего приказа пронесли мимо него на носилках, связанных из стрелецких копий, труп юноши, иссеченный, облитый кровью, с пробитою головою и с отрубленною рукою.
– Убили ни в чем не повинного боярина, Федора Петровича Салтыкова, сына Петра Михайловича*, – толковал жалостно народ, шедший впереди, кругом и позади носилок: – Смотри, как всего его искровавили!
– Такой грех уж вышел, – объясняли стрельцы народу, – метили не на него, он никому зла не сделал, а почли его за Ивана Кирилловича Нарышкина, который был из намеченных, да ухоронился!
Пришли стрельцы с обезображенным трупом в дом боярина Салтыкова.
– Помните, братцы, уговор! Только бить смертно, а ничьих домов и ничьего добра не грабить! – кричали они друг другу. – Беда тому, кто чужое возьмет!
– Помним! Помним! – отзывались в толпе стрельцы и действительно, несмотря на разгул и убийства, нигде не прикасались ни к чьей собственности.
– Боярина нашего мертвого принесли! Стрельцы убили его! – заголосила прислуга, когда внесли убитого Салтыкова в дом его отца.
Петр Михайлович в испуге выскочил на крыльцо.
– Прости нам, боярин! – сказали стрельцы, снимая перед ним шапки. – Слезно мы тебя молим! Ненароком сына твоего мы убили. Не его хотели мы извести, а Ивана Кириллыча, а боярчонок сам к нам под руки подвернулся. Отпусти нам вину, боярин! – повторяли стрельцы, кланяясь Салтыкову в землю.
Заскрежетал зубами от злобы старый боярин, и горячие слезы покатились у него из глаз, но делать было нечего, нужно было присмиреть.
– Бог простит! – проговорил он, задыхаясь от плача.
– Вот так-то будет лучше! Прощай, боярин! Не гневайся на нас, тебя мы не тронем! – кричали стрельцы, выходя со двора Салтыкова.
– Пойдем, братцы, теперь к князю Юрью Алексеевичу Долгорукову, ведь его сына мы с Красного крыльца спустили. Нужно и у него прощенья испросить! – насмешливо кто-то крикнул в толпе.
– И то дело, пойдем! – заревела толпа.
Восьмидесятилетний князь Юрий Алексеевич был разбит параличом и уже давно не вставал с постели. Стрельцы, удерживаясь от шума, тихо вошли в его опочивальню.
– Отпусти нам, боярин, смерть твоего княжича! С запалу убили мы его и пришли к тебе с повинною! – сказали стрельцы.
– Знать, на то было попущение Божие! – проговорил притворно-смиренным голосом Долгоруков, стараясь одолеть свою ярость против убийц.
– Коли не гневаешься на нас, боярин, так докажи, вели угостить! – заявили стрельцы.
– Прикажу сейчас дворецкому, сам-то я встать не могу!
– Да и не нужно тебе вставать; по что тебе, старику, трудиться! – подхватили стрельцы. – И без тебя, боярин, мы угощением в твоем доме справимся. Только прикажи. Спасибо тебе! – благодарили стрельцы, расставаясь с Долгоруковым.
Из княжеского погреба немедленно выкатили на двор несколько бочек водки, пива и меда, и началась шумная попойка.
– Здравия и многолетия желаем князю-боярину! Милостив он и не злобен!.. – орали стрельцы, выходя после обильного угощения с княжеского двора.
Не успели они еще отойти далеко от дома князя Юрия Алексеевича, как вдруг приостановились, и среди толпы поднялись сперва оживленные толки, а потом и ужасный шум.
– Грозить вздумал нам! – неистово завопили в толпе. – Слушайте, братцы, что он говорит! – кричали друг другу стрельцы, указывая на стоявшего посреди них холопа, выбежавшего из дома Долгорукова вскоре по уходе пировавших там стрельцов. – Пересказывай-ка! – крикнули они холопу.
– Как вы ушли от боярина, – начал холоп, – так прибежала к нему его княгиня и ну плакаться о своем сыне и ругать вас ворами и изменниками. А он-то ей сквозь слезы и молвит: «Не плачь, княгинюшка, знаешь русскую поговорку: хотя-де они щуку и съели, а зубы-то ее целы. Если Бог поможет, – сказал боярин, – то все они, воры и бунтовщики, по Белому и Земляному городам будут перевешаны». Так-таки и сказал. Сам своими ушами я слышал.
– Вот он каковский! – завопили стрельцы. – Прощает, а сам думает, как бы вконец извести нас! Бери его на расправу!
С страшным ревом поворотила толпа к дому Долгорукова. Боярин слышал, как стрельцы отбивали ворота и ломились во двор, но он без чужой помощи не мог подняться с постели, чтобы укрыться где-нибудь, а между тем слуги к нему не являлись. Лежа на постели, он творил молитву, когда стрельцы уже не «тихим обычаем», а с шумом и бранью явились в его опочивальню. Короток был их расчет с престарелым боярином. Кто схватил его за бороду, кто за волосы. Сдернули его с постели и поволокли по лестнице. Глухо застучало по деревянным ступенькам его бессильное тело. Стрельцы вытащили Долгорукова на двор, принялись там за бердыши, и мгновенно изрубленное в куски тело боярина было брошено в навозную кучу.
Другие стрелецкие ватаги чинили между тем беспощадную расправу в иных местах Москвы. Одна из них направилась за Москворечье, убивая на пути встречных служилых людей и тех холопов, которые пытались оборонять своих господ. С веселым разгулом пришла она к Ивану Фомичу Нарышкину и мигом порешила с ним своими бердышами.
К вечеру стали стихать неумолчно раздававшиеся в продолжение целого дня вопли, крики, барабанный бой и набат, а к ночи в Москве все стихло, перекликалась только стрелецкая стража. Взошел на ясном небе полный месяц. Тоскливо, серебристым светом озарял он Кремлевский дворец, который стоял теперь, окруженный стрелецким караулом, с разбитыми стеклами, вышибленными оконными рамами и с выломанными дверями. При лунном свете еще затейливее, чем днем, представлялась масса строений, составлявших дворец. Разнообразные эти строения частью скрывались в тени, частью резко выдавались, облитые сиянием месяца. Свет месяца то отражался ярким сиянием на вызолоченных крестах, гребнях и маковках, венчавших отдельные здания дворца, то расстилался широкою полосою по белой их жести, придавая странные очертания множеству дворцовых крыш, гладких и чешуйчатых, то покатых, то построенных над башенками и вышками в виде бочек, скирд сена и шатров, с поставленными над ними двуглавыми орлами, львами, единорогами, драконами и флюгерками. На стенах дворца выдавались узорчатые карнизы и лепные надоконники с колонками, столбиками, зубчиками и городками. Дворец казался какою-то беспорядочною громадою, в которой отражалась смесь всего, что только могло придумать самое прихотливое воображение зодчего.
XVII
Тихо приотворилась дверь из крестовой палаты в опочивальню Софьи, в то время когда царевна, не сняв еще с себя своей денной одежды, задумчиво сидела на постели. При легком скрипе двери она слегка вздрогнула.
– Знать, Иван Михайлович или князь Иван Андреевич, – подшепнула стоявшая около нее Родилица и, подбежавши к двери, заглянула за нее. – Оба они и есть!
– Войди, Иван Михайлович, войди и ты, князь Иван Андреевич, – отозвалась Софья, не поднимаясь с постели. – Изморилась я сегодня!
– Попомнят-таки этот денек Нарышкины! – с выражением удовольствия сказал Милославский, входя в опочивальню. – И завтра опять то же будет.
– Стрельцы готовы стоять за царевича Ивана Алексеевича, и по чести сказать должно, что с истинною прямотою стоят за него: били только его лиходеев, да и у тех добра не тронули. Поджогов тоже нигде не произвели, да и кабаки целый день почитай что пустыми оставались. Стрелецкое смятение было совсем не то, что мятежи прежнего времени, когда черный народ только и думал о том, как бы награбить, перепиться да пустить «красного петуха» по всей Москве! – докладывал царевне Хованский.
– А что, князь Иван Андреевич, много на Москве добитых? – не без волнения спросила Софья.
– Кто их в точности теперь сочтет! Слышно, что из чиновных людей стрельцы за Кремлем убили князя Юрия Алексеевича Долгорукова да за Москворечьем, говорят, изрубили Ивана Фомича Нарышкина; а о здешних ты, я чаю, царевна, сама хорошо знаешь, – отвечал Хованский.
– Побили бы и больше, да многие успели ухорониться, – прибавил Милославский.
– Трусы бояре! – с презрением заметила Софья. – Все кинулись вразброд и себя-то отстаивать не посмели!
– Будешь тут трус, когда бьют беспощадно! Да и кто же не струсил? Вот хотя бы князь Василий Васильевич! Из книг много он о геройстве начитался, а как дело дошло до настоящей расправы, так и он Бог весть где ухоронился! – насмешливо сказал Милославский. – Пойди-ка отыщи его теперь.
– Князь Василий Васильевич мужественно действовал, – с заметным смущением проговорила Софья, – да и что он один мог поделать!
– Вот тем-то и все отговариваться станут! – перебил насмешливо Милославский.
– Ну, а назавтра как? Опять придут стрельцы ко дворцу, как прикажешь действовать? – спросил Хованский царевну.
Софья призадумалась; заметно было, что она боролась сама с собою.
– Смешное дело, князь Иван Андреевич, что ты вздумал спрашивать у ее пресветлости, как действовать! Известно, нужно извести всех Нарышкиных! – вмешался Милославский.
– Нет, Иван Михайлович, не так ты говоришь, – перебила царевна. – Если уже изводить кого-нибудь, так изведите разве только старшего брата царицы. Он прямой мой ненавистник.
– А с Кириллом Полуэктовичем что же поделаем? – спросил Хованский.
– Пускай стрельцы потребуют его пострижения, – отвечала царевна, под влиянием кротких внушений, сделанных ей заранее Голицыным.
– Быть по-твоему, благоверная царевна. Да скажу я тебе, что бы ни произошло завтра, ты не пугайся: ни тебя, ни царевича, ни сестер твоих, царевен, никто не изобидит! – с уверенностью сказал Хованский, уходя от Софьи.
Между тем в другой части Кремлевского дворца царица Наталья Кирилловна заливалась горькими слезами. Все ей чудилось, что стрельцы снова наступают на дворец, и страшно ей было за своих кровных. При начале возмущения отец царицы с некоторыми из своих родственников укрылся сперва в тереме царевны Натальи, а потом в деревянных хоромах царицы Марфы Матвеевны, примыкавших глухою стеною к патриаршему двору. Их провела туда царицына спальница Клушина, которая одна только и знала, где утаились Нарышкины.
– Узнают они вас по волосам, – сказал Иван Кириллыч прятавшимся вместе с ним стольникам Василью Федоровичу, Кондрату и Кириллу Алексеевичам Нарышкиным. – Больно длинны вы их носите, остричь нужно! – И он, схватив ножницы, живою рукою остриг своих сродственников.
Постельница провела их всех в темный чулан, заваленный перинами, и хотела затворить за ними дверь.
– Не запирай! – крикнул ей молодой Матвеев, сын боярина Артамона Сергеевича. – Хуже наведешь подозрение; скорее искать не станут, коли дверь отворена будет.
В сильном страхе жались там Нарышкины, когда до них стал долетать сперва гул набата, а потом и барабанный бой.
– Наступил наш смертный час! Пришел нам конец! – крестясь, говорили они.
Действительно, вооруженные стрельцы ввалились в Кремль и прямо подошли к Красному крыльцу, отделявшемуся от площади золотою решеткою.
– Подавайте нам Кирилла Полуэктовича, Ивана Нарышкина, думного дьяка Аверкия Кирилова да дохтуров Степана-жида и Яна! – кричали они.
Смело, в сопровождении Хованского и Голицына, вышла теперь Софья к волновавшимся стрельцам.
– Ни Кирилла Полуэктовича, ни Ивана Кирилловича, ни дохтура Степана у великого государя нет! – объявила она.
– Если их нет, – закричали стрельцы, – то мы придем за ними завтра, а теперь пусть государь укажет выдать нам Аверкия Кирилова да Яна.
Царевна поднялась наверх. Стрельцы продолжали кричать, требуя немедленной выдачи Кирилова и Яна, и спустя несколько времени оба они, беззащитные и трепещущие, появились на крыльце. Стрельцы встретили их с диким воем и не дали сойти с лестницы, как кинулись на них. Сперва подняли их на копья, потом сбросили вниз с лестницы и тут же, на месте, изрубили в куски бердышами.
– За Кириллом Полуэктовичем и Иваном Нарышкиным придем мы завтра, – угрожали они.
Между тем несколько ватаг, отделившихся от толпы, повторяли и сегодня в хоромах царицы, царя, царевича и царевен такой же тщательный обыск, какой производили они там накануне.
Обмерли и не смели дышать Нарышкины и Матвеев, когда стрельцы проходили мимо того чулана, где они спрятались.
– Коли дверь отворена, – кричали некоторые из них заглядывавшим в чулан товарищам, – знатно, что наши здесь были и изменников не нашли. Ступай дальше!
Не все, однако, стрельцы были так доверчивы; некоторые из них тыкали копьями в подушки и перины, не видя, однако, Нарышкиных и Матвеева, притаившихся в это время за приотворенною дверью.
– Нарышкиных нигде нет! – оповещали стрельцы своих товарищей.
– Если сегодня их здесь нет, так за Кирилою Полуэктовичем и Иваном Кирилловичем придем завтра! – кричали в толпе и, расставив по-вчерашнему кругом дворца и всего Кремля крепкие караулы, двинулись в Немецкую слободу отыскивать доктора Степана Гадена.
Сильно переполошились обитатели Немецкой слободы, мирные немчины. Немало жило их там в ту пору, и никто прежде не обижал и не затрагивал их. Занимались они в слободе более всего ремеслами. Жены и дочери их проводили время не по-московски, сидя взаперти, а ходили по гостям и веселились с мужчинами. У немцев бывали пирушки и танцы под веселые мотивы их родного вальса*. Разревелись теперь немки, завидев наступающую на слободу грозную стрелецкую силу. Страх их был, однако, напрасен. Стрельцы не тронули никого из немцев.
– Никак, братцы, жидовина-дохтур нам навстречу плетется! Харю-то его жидовскую я признаю издалека! – крикнул один стрелец, указывая рукою на нищего, спокойно шедшего сторонкою улицы около домов, с бьющим в глаза еврейским типом лица.
– Он, проклятый, и есть! – поддакнул другой стрелец, пристально вглядываясь в нищего. – Стой-ка, приятель, ведь ты Степан, или Данила, Иевлич! – заревел он, загораживая дорогу оторопевшему нищему. – Что-то больно скоро ты обнищал?
Нищий побледнел и затрясся всем телом.
– Забирай его! – крикнули стрельцы, окружив доктора Гадена, который, проведав еще накануне о возмущении стрельцов и о делаемых ему угрозах, переоделся нищим, запасся сумою и убежал в подгородный лес, а теперь, проголодавшись, пришел в Москву, чтобы запастись чем-нибудь съестным.
От ужаса у Гадена была лихорадка.
– Были мы у тебя в доме и нашли там сушеных змей. Зачем их, поганый жидовина, ты сушишь? На извод, видно, православных да на дьявольские чары? – говорили ему стрельцы.
Гаден невнятно бормотал: «Spiritus armorciae, conserva radicis et cichori», бессознательно твердя латинские названия самых употребительных в ту пору лекарственных снадобий, и растерянным взглядом, точно помешанный, обводил стрельцов, которые привели его в Кремль и сдали там под стражу своим товарищам, находившимся в карауле в царском дворце.
Несмотря на буйства стрельцов, день 16 мая миновал в Кремле гораздо благополучнее, но зато в стрелецких слободах производилась теперь страшная расправа.
– Любо ли? – кричали стрельцы, втаскивая на каланчи или высокие сторожевые башни и раскачивая там за руки и за ноги не любимых ими начальников.
– Любо! Любо! – вопили им в ответ снизу, и при этих криках летели стремглав с каланчей на копья стрельцов несчастные, обреченные на смерть, которых тут же рассекали на части бердышами.
Наступил третий день стрелецкого смятения, и опять рано поутру загудел 17 мая над Москвою набат, а на улицах раздался грохот барабанов. В одних рубахах и почти все без шапок, но с ружьями, копьями и бердышами, двинулись стрельцы из своих слобод к Кремлю проторенною ими в эти дни дорогою.
Расположились они опять перед Красным крыльцом и отправили вверх выборных бить челом великому государю, чтобы указал он выдать им Кирилла Полуэктовича Нарышкина, сына его Ивана и доктора Степана.
Долго медлили во дворце ответом. Наконец на Красном крыльце показалась царевна Софья, но уже не одна, а в сопровождении своих сестер, рожденных от царицы Марии Ильинишны.
Стрельцы встретили царевну сдержанным ропотом, который, впрочем, затих, когда она заговорила.
– Для нашего многолетнего государского здоровья простите Кирилу Полуэктовича, его сына Ивана и дохтура Степана, – сказала царевна, низко кланяясь стрельцам; вместе с нею поклонились им и ее сестры. – Пусть Кирила Полуэктович пострижется в монашеский чин, а на жизнь его не посягайте.
Стрельцы принялись толковать и спорить между собою, а царевны, стоя неподвижно на площадке Красного крыльца, ожидали их решения. Но вот шум затих, и перед толпою стрельцов выступил Чермный.
– Для тебя, благоверная государыня царевна Софья Алексеевна, – громко сказал он, снимая шапку и кланяясь царевне, – мы прощаем Кириллу Полуэктовича. Пусть идет в монастырь. Любо ли? – спросил он, обращаясь к стоявшей позади него толпе.
– Любо! Любо! – заголосили они.
– А Ивана Кириллыча простить мы не можем: зачем надевал он царскую шапку и садился на престол? Не можем мы простить и дохтура Степана: он извел отравою великого государя царя Федора Алексеевича. Пусть нам и того и другого выдадут мирным обычаем, не то возьмем их силою. Любо ли? – снова спросил Чермный стрельцов.
– Любо! Любо! – было ответом.
– Нам, благоверная царевна, – заговорил другой выборный, Петр Обросимов, – о выдаче дохтура и просить было бы не след. Он и без того наш, мы его сами изловили и сюда привели!
Крики усиливались все более и более, когда царевны ушли с Красного крыльца в хоромы.
Царица Наталья Кирилловна в это время сидела в своем покое в креслах. Закрыв ширинкою лицо, она громко рыдала. Безмолвно около нее стояли ее отец и старший брат, бледные, напуганные и не знавшие, что им делать; позади кресел находились духовник царицы и несколько бояр, захваченных во дворце первым стрелецким набегом и потом не успевших выбраться оттуда через сторожевую стрелецкую цепь.
– Отмолила я, матушка, у стрельцов твоего родителя! – сказала Софья, входя в царицыну палату; Наталья Кирилловна бросилась обнимать царевну, а потом кинулась на шею своему отцу. – Требуют только его пострижения.
Кирилла Полуэктович вздрогнул.
– А еще чего они требуют? – спросил он прерывающимся голосом.
– Требуют выдачи твоего сына Ивана, – произнесла царевна таким твердым голосом, в котором слышался окончательный и неизменный приговор.
С пронзительным криком обняла царица своего брата.
– Не выдам я Иванушку, не выдам! Пусть лучше убьют меня злодеи! – кричала она в исступлении.
– Не выдавай меня, сестрица! – молил Нарышкин, упав перед царицею на колени и охватывая ее ноги.
– Ты слышишь, матушка, как там кричат? – хладнокровно сказала царевна, обращая движением руки внимание мачехи на окно, из которого неслись озлобленные возгласы против Ивана Нарышкина. – Ничего, матушка, с ними не поделаешь!
Испуганно и дико обвела глазами царица всех окружавших ее; потупив глаза в землю, они молчали, никто не изъявлял желания отстаивать Ивана Нарышкина, и Наталья Кирилловна поняла, что жребий ее брата решен бесповоротно.
Медленными шагами пошла молча царица из своей палаты в церковь Нерукотворенного Спаса, ближайшую к Золотой решетке. Перед этою решеткою стрельцы волновались все сильнее и сильнее, настоятельно и с угрозами требуя немедленной выдачи Ивана Кирилловича. Следом за царицею пошли и все бывшие с нею в палате.
– Помолись, братец, всемилостивому Спасу, исповедайся и причастися Святых Тайн. Быть может, Господь Иисус Христос и Его Пречистая Матерь защитят тебя! – проговорила, заливаясь слезами, царица.
Молодой боярин положил среди церкви три земных поклона, после чего духовник царицы повел его в алтарь и там наскоро исповедал, причастил и помазал миром.
Когда он вышел из бокового притвора, царица с отчаянным воплем кинулась к нему навстречу, но он, протянув вперед руки, остановил ее перед собою:
– Аз на раны готов, и болезнь моя передо мною есть выну! – проговорил он спокойно. – Государыня царевна! – продолжал он, обращаясь к Софье. – Бесстрашно иду я на смерть и желаю только, чтоб моею невинною кровью прекратились все убийства.
Затем молодой боярин стал прощаться со всеми, бывшими в церкви. Крепко обнял он сестру-царицу и, рыдая, припал головою к ее трепетавшему плечу. В это время от неистовых криков стрельцов, казалось, дрогнули своды церкви.
– Подавайте нам Ивана Нарышкина, а не то мы сами придем за ним! – вопили они.
– Не медли, боярин! – сказал тихо Нарышкину князь Яков Никитич Одоевский, слегка отвлекая его от сестры.
Царица словно опомнилась от глубокого сна и, раскрыв большие черные глаза, с изумлением взглянула на Одоевского.
– Сколько тебе, государыня, не жалеть, – продолжал тот дрожащим голосом, – а отдавать его будет нужно. Да и тебе, Ивану, – проговорил Одоевский, обращаясь к Нарышкину, – отсюда поскорее идти надобно. Не всем же нам умирать из-за тебя одного…
– Вот ему великая заступница! – сказала царевна, перебивая Одоевского и подавая взятый ею с аналоя образ Божьей Матери. – Увидят стрельцы эту святую икону, устыдятся и отпустят его невредимым.
При этих словах Софьи надежда на спасение брата несколько оживила царицу. Она передала ему икону, которую он, поддерживая обеими руками, понес на груди. Нарышкин стал сходить с лестницы, по бокам его шли, рядом с ним, с одной стороны царица, а с другой – царевна. За ними спускались с лестницы немногие бояре, бывшие в этот день около царицы. За этою небольшою толпою, одетою в парчу и в шелк, медленно, на ослабевших от страха ногах, тоже спускался с лестницы нищий в лохмотьях, лаптях и с торбою, перекинутою через плечо. Он был окружен стрельцами, но никто не обращал теперь на него внимания, все смотрели только на юношу-боярина, на прекрасном лице которого выражение невольного ужаса смешивалось с выражением горделивой твердости.
Царица обманулась в своей последней надежде на спасение брата. Едва распахнулись двери Золотой решетки, как толпа стрельцов с яростью кинулась на Нарышкина. Царица рванулась вперед, желая кинуться на выручку брата, но голос ее замер, ноги подкосились, и она, обеспамятев, зашаталась. Царевна поддержала ее, а бояре, взяв ее, полумертвую, под руки, повели наверх.
– Неспроста нужна ему смерть! Тащи его в Константиновский застенок!.. Пытать его станем, зачем он на царство сесть домогался? – кричали стрельцы.
Следом за Нарышкиным, осыпаемым браною и ругательствами, поволокли и жидовину-доктора, над которым стрельцы издевались и потешались, заливаясь веселым, громким хохотом.
– Что, брат, жидовская харя, попался к нам! Вот сейчас узнаешь, как мы лихо лечить тебя станем. Что же не благодаришь нас за ласку? – трунили над несчастным.
Ошалелый Гаден принялся кланяться стрельцам на все стороны.
– Вишь ведь, он и вправду нас благодарит! – захохотали стрельцы. – Ну-ка, поблагодари еще!
Привели боярина и доктора к одной из кремлевских башен, в которой помещался Константиновский застенок. Здесь были готовы к услугам стрельцов и дыбы, и кнутья, и ремни, и цепи, и веревки, и клещи, и жаровня, и все это тотчас же пошло в дело.
Пытки кончились, и измученных страдальцев, еле живых, поволокли на Красную площадь.
– Ведут! Ведут! – раздалось на площади, когда из Спасских ворот показался отряд стрельцов, с криками и с барабанным боем направлявшийся к Лобному месту.
Там стрельцы остановились и обступили плотным кругом брошенного на землю Нарышкина, совершенно обнаженного, с истерзанною от ударов кнута спиною, с прожженными боками и с вывихнутыми руками и ногами.
– Любо! – дружно крикнули они, и среди этого зловещего крика страдалец высоко взлетел на копьях над головами своих мучителей, а оттуда тяжело рухнулся на землю. Засверкали и застучали над ним бердыши, отлетели разом голова, руки и ноги, началась ожесточенная рубка, и через несколько минут раздробленное туловище и отсеченные члены обратились в кровавое крошево человеческого мяса, которое смешалось с бывшею на площади грязью; голова же была воткнута на копья и высоко поднялась над толпою.
Такою же мученическою смертью погиб и не повинный ни в чем доктор, наклепавший, впрочем, сам на себя при невыносимых пытках невозможные даже преступления, совершенные будто бы им при содействии нечистой силы. Быть может, выставляя с нею свой тесный союз, он хотел только напугать стрельцов последствиями ее мщения, если они убьют его.
Удовлетворенные вполне выдачей Нарышкина, стрельцы, расправясь с ним, подступили снова к царским хоромам.
– Дай Бог здоровья и долголетия царю-государю! – кричали они. – Мы свое дело сделали, а теперь пусть он, великий государь, управится с остальными злодеями. Рады мы теперь умереть за великого государя, царевича и царевен.
Выражая в таких восклицаниях свое удовольствие, стрельцы сняли расставленные около дворца караулы и возвратились в свои слободы.
Перед закатом солнца послышался снова на улицах барабанный бой. Все вздрогнули в ожидании новых смятений и бед, но на этот раз все обошлось благополучно. Теперь грохот барабанов созывал москвичей на площади, торжища и перекрестки для выслушивания царского указа о том, что дозволяется хоронить убитых. Указ этот был издан по распоряжению царевны Софьи Алексеевны. Работы было немало, но трудно было признать родных и знакомых в обезображенных и рассеченных на куски трупах. Бояре со своими слугами и разного чина люди бродили теперь по Москве, стараясь по каким-нибудь приметам добраться до тех, кого они искали.
Но прежде чем появился этот указ, с особым усердием занимался таким печальным делом богомольный арап Иван. Он отыскал куски рассеченного трупа своего боярина, собрал их в простыню, принес в дом и, созвав ближайших родственников убитого, а также служителей Никольской церкви, что на Столбах, предал останки своего господина честному погребению. Хвалили даже и стрельцы такую бескорыстную и опасную преданность черного раба, которому они не препятствовали нисколько заботиться о похоронах их бывшего врага, боярина Артамона Сергеевича Матвеева.
Не забыли стрельцы отца царицы, и 19 мая явились снова перед дворцом; но на этот раз они были без оружия и мирно били челом великому государю о пострижении его деда, и великий государь повелел постричь Кирилла Полуэктовича Нарышкина, назначив быть при его пострижении боярину князю Семену Андреевичу Хованскому и окольничему Кириллу Осиповичу Хлопову. Нарышкина, окруженного стрелецкою стражею, повели в Чудов монастырь. Там его постригли под именем Киприана и на другой день отправили на Белоозеро в Кириллов монастырь.
XVIII
В это бурное время, когда, по словам одного современника, «бысть ослабление рук у всех людей», когда все правительственные власти бездействовали и даже скрылись, а царица Наталья Кирилловна не решилась показаться, боясь, чтобы и ее не увели в монастырь, – в это время смело выступила царевна Софья Алексеевна. Она «мудрыми и благоуветливыми словами» уговаривала стрельцов каждый день, чтобы они жили мирно по-прежнему и служили верно, чтобы страхов, всполохов и обид никому не делали. Влияние царевны на стрельцов сделалось теперь слишком заметно, и сама она убедилась, что может располагать ими для достижения своей цели. Чтобы прикрыть на первый раз свои единоличные распоряжения, она стала являться повсюду в сопровождении царевен, своих теток и сестер, так что, казалось, сбылось пророчество стрельчих: в Москве наступило бабье царство.
– Повелела бы, царевна, ведать Стрелецкий приказ боярину князю Ивану Андреевичу Хованскому, – говорил Иван Михайлович Милославский, беседуя с Софьей и рассчитывая на дружбу и преданность к нему князя Ивана. – Стрельцы его отменно любят и не иначе как батюшкою называют.
Царевна призадумалась.
– Знаешь, Иван Михайлович, когда ты начинаешь говорить о князе Иване Андреевиче, мне словно чуется что-то недоброе, как будто какой беды я боюсь от него! – нерешительно проговорила она.
– И полно, благоверная царевна, он всегда в твоих руках будет, а меж тем он нам нужен. Князь Иван нам близкий человек, он стрельцов до новой смуты не допустит, да и другим с своею стрелецкою ратью гилевать не позволит. Притом же он и в расколе влиятелен, а ведь того и смотри, что и раскольники поднимутся!
В воспоминании царевны ожил отзыв Хованского о расколе, который он называл грозною народною силою.
– Много уж будет силы у князя Ивана, хлопот бы он нам не наделал, – сказала она озабоченно.
– Окажется у него много силы, так и отберем ее, – ответил Милославский с уверенностью, подействовавшей на Софью.
– Хорошо, Иван Михайлович, по совету твоему, я укажу князю Ивану Хованскому быть начальником Стрелецкого приказа, – сказала Софья. – Посматривай только за ним хорошенько, полагаться крепко на него нельзя, старая он лисица…
– Статься может, что ты, государыня царевна, в речах моих о Хованском сомневаешься, так поговори с князем Васильем Васильевичем. Человек он породы знаменитой. Тебе, верно, слышать приводилось, что один из его прапращуров женился на польской королевне и вместе с нею сел на королевский престол.
Царевна слегка встрепенулась.
– Рассказывал мне покойный Симеон, что один из рода Гедиминовичей, от которых происходит князь Василий, по имени Ягелло*, великий князь литовский, женился на королевне Ядвиге и что от него пошло родоначалие королей польских. Но что же из этого?
– Да так, к слову пришлось…
И он и царевна замолчали.
«К чему он заговорил об этом? – думалось Софье. – Ведь князь Василий женат, да и царь Петр сидит на престоле, а братец Иванушка в загоне… Как все это далеко еще даже до первого шага!»
– Что призадумалась так, государыня царевна? – заговорил Милославский, придавая своему вкрадчивому голосу выражение участия. – Тягчат, видно, царственные дела, нужно бы тебе иметь для них оберегателя. Разделить бы с кем-нибудь державные твои заботы…
– И я разделяю их с братом, царевичем Иваном Алексеевичем. Он должен быть на престоле московском! – резко и твердо проговорила царевна.
– И сядет через несколько дней, – отозвался уверенно Милославский. – Князь Иван Алексеевич совладает с этим делом.
Не долго после этого шла беседа боярина с царевною. От Софьи Милославский отправился к Голицыну, с которым уже предварительно говорил о назначении князя Хованского начальником Стрелецкого приказа. После того Милославский навестил Хованского и, передав ему о предстоящем начальстве над стрельцами, условился о том, как должны будут действовать они для доставления престола царевичу Ивану.
23 мая явились в Кремлевский дворец выборные от всех стрелецких полков. При виде их болезненно заныло сердце царицы Натальи Кирилловны, не успевшей еще наплакаться над ссылкою своего отца и смертью брата. Выборные заявили собравшейся в Грановитой палате боярской думе, что стрельцы и «многие чины» Московского государства хотят видеть на престоле обоих братьев. Для напуганного стрельцами боярства достаточно было такого простого заявления стрельцов, чтобы склонить думу к немедленному исполнению их требования. Но выборные сочли не лишним высказать про запас еще и такую угрозу, что если кто-нибудь из бояр воспротивится желанию стрельцов, то они придут с оружием, мятеж поднимется не малый, и будет он, пожалуй, еще страшнее прежнего.
Бояре явились в терем царевны, чтобы известить ее о требовании стрельцов.
И на этот раз она вышла к ним не одна, а в сопровождении своих сестер-царевен. Если Софью радовала захваченная верховная власть, то радовало ее и то, что она сделала крутой и неожиданный переворот в затворнической жизни московских царевен. Вырвавшись сама из тесного терема, она вывела за собою и сестер.
– Надлежит вам рассмотреть челобитную стрельцов и доложить о ней великому государю. Призовите в думу святейшего патриарха, духовные власти и выборных от чинов Московского государства. Пусть все они сообща обсудят дело, – сказала царевна, окидывая гордым взглядом бояр.
Покорное молчание и низкие поклоны были ответом на повеление царевны.
Перед этим собранием, как бы некоторого рода Земским собором, созванным на третий день после прихода стрельцов с челобитного, князь Василий Васильевич Голицын красноречиво и убедительно изложил доводы о пользе царского двоевластия. Насколько убедились его доводами думные и выборные люди, неизвестно, но известно только, что никто не решался прекословить требованию стрельцов, особенно ввиду сделанной ими угрозы. И потому все единогласно порешили: быть благоверному царевичу Ивану Алексеевичу на московском престоле вместе с братом его, великим государем царем Петром Алексеевичем.
– Кого же мы будем считать первым царем? – запросил патриарх собрание. – Отдадим ли мы преимущество первенству рождения или же первенству избрания?
– Быть первым царем великому государю Ивану Алексеевичу, – крикнули стрелецкие выборные. – Он старший брат, обходить его не можно.
Вслед за ними повторило тот же клик и все бывшее в Грановитой палате собрание.
Этим решением, как казалось, удовлетворено было желание стрельцов.
– Чтобы не было смятения, – толковали они по наущению Хованского, – пусть великий государь Иван Алексеевич будет первым царем на отцовском престоле и учинит себе честь первенства, а великий государь Петр Алексеевич, как молодший, пусть станет вторым царем. Мы же, всех полков стрельцы и люди, будем служить и прямить обоим великим государям.
Донесли царевне Софье о решении собора.
– Быть тому можно, – сказала она. – Когда приедут иноземные послы, выходить к ним и принимать их будут оба государя. Петр Алексеевич будет водить войска против неприятелей, а царь Иван Алексеевич станет править Московским государством.
– Быть тому! – повторили и другие царевны, отправившиеся вместе с Софьей Алексеевною и с боярами поздравить вновь нареченного государя.
– Первенства я не желаю, – проговорил болезненным и тихим голосом Иван Алексеевич. При этих словах Софья строго взглянула на брата.
– Впрочем, да будет воля Божия, – пробормотал великий государь, смутившийся от взгляда сестры.
– В том-то и есть воля Божия! – перебила его Софья. – Выборные не сами собою говорят, но наставляемые Богом.
Ударили в большой колокол Успенского собора, и оба царя пошли рядом в Грановитую палату. Там все присутствовавшие стали подходить к руке царя Ивана Алексеевича, а царские дьяки усердно голосили многолетие новому великому государю.
– Не все еще кончено, – сказал Иван Михайлович, явившись после этого торжества к Софье Алексеевне, – и ты, государыня царевна, должна взойти на высоту; стрельцы сделают свое дело.
Краска удовольствия разлилась по лицу Софьи. Облик царевны Пульхерии все чаще и чаще начал мелькать перед нею, а рядом с этою царевною являлся и добродетельный Маркиан в виде князя Василия.
Милославский, князь Иван Хованский и постельница Родилица принялись снова радеть в стрелецких слободах в пользу Софьи Алексеевны.
– Слышно, – заговорили стрельчихи, подбиваемые Федорой Семеновной, – что царь Иван болезнует о своем государстве, да и царевны сетуют.
И говорившие это стрельчихи принимались разъяснять своим мужьям, что между царями-братьями начались смуты и раздоры, что царя Ивана Алексеевича обижают и притесняют, а для царевен настала плохая жизнь.
– Нужно прекратить смятение в царских палатах, – внушал своим товарищам выборный стрелец Кузьма Чермный, и словам его начали вторить сторонники его: Борис Одинцов, Цыклер и Обросим Петров, полагая, что в этом случае необходимо участие стрельцов и заступничество за царя Ивана и царевен.
Заговорили в стрелецкой слободе о новом походе на Кремлевский дворец и с ненавистью принялись толковать о «медведице», называя этим прозвищем царицу Наталью Кирилловну.
– Плох царь Иван Алексеевич, он болен и хил, сам царством править не может, нужен ему помощник, а кому же и быть ему в помощь, как не царевне Софье Алексеевне? – внушал Хованский стрельцам, которые и распространили его речь между товарищами.
Прошло три дня после провозглашения царем Ивана Алексеевича, и стрельцы, собравшись снова перед Красным крыльцом, отрядили своих выборных к великим государям с челобитною, в которой просили, чтобы правительство царством Московским, ради ранних лет их величеств, вручить сестре их, благоверной государыне царевне Софье Алексеевне. Скоро в ту пору все делалось по требованию стрельцов, а потому оба царя, патриарх, духовные власти, бояре, думные и служилые люди, а также и выборные от московских сотен отправились, не медля, в терем царевны.
Сдерживая охватившее ее волнение, царевна равнодушно, как казалось, встретила явившихся к ней просителей. Все они ударили ей в землю челом, за исключением царей, сделавших перед сестрою три низких поклона.
– Пришли мы к тебе, государыня царевна Софья Алексеевна, бить челом, чтобы ты соизволила принять правление царством Московским, за малолетним возрастом великих государей, братьев твоих, – заговорил патриарх Иоаким, обращаясь к Софье Алексеевне.
– Не женских рук такое великое государское и земское дело, святейший владыка, – отозвалась царевна. – Нет у меня к тому делу ни навыка, ни познаний, да и в государстве Московском то не за обычай.
– Пресветлейшая государыня царевна! Соизволь исполнить волю Божию и желание всего московского народа! – просительно заговорили все присутствующие и снова упали ниц перед будущею правительницею. – Снизойди, государыня царевна, на рабские мольбы наши! Не оставь нас, великая государыня, в скорбях и печали! Ты, единая, утвердишь у нас покой и тишину…
Долго слышались мольбы, и несколько раз колени и лбы усердно стукались об пол царевнина терема, где прежде редко и тихо раздавались шаги мужчин, с большим трудом допускаемых туда, как в недоступное святилище, да и то лишь по уважению родства с царевною и преклонных лет. Совсем иным стал теперь девичий терем Софьи Алексеевны. В нем перед многочисленным собранием мужчин стояла молодая царевна с лицом, не покрытым фатою, а разных чинов московские люди – эти исконные притеснители женского пола, поучавшие его «жезлом», – покорно, умиленно, со слезами на глазах просили, чтобы она стала править Российским царством!
«Теперь я на высоте! – подумала торжествующая царевна, и вспомнилось ей пророчество Симеона. – И не сойду я отсюда долу», – с уверенностью и твердостью мысленно добавила она.
– Уступаю я, – заговорила царевна, обращаясь к присутствующим, – мольбам всего народа и дозволяю думным людям докладывать мне обо всех государственных делах для совершенного во всем утверждения и постоянной крепости и повелеваю писать имя мое наряду с именами государей-братьев, нарицая меня великою государынею, благоверною царевною и великою княжною всея Великия, Малыя и Белыя России.
От сильного, радостного волнения готов был перерваться звонкий голос царевны, но она осилила себя и довела речь до конца.
– Желаем здравия великой государыне!.. Пошли ей Господи многолетие! – воскликнули челобитчики, и снова застучали перед царевною их лбы и колени.
– Да наставит тебя Господь на путь правых! – произнес торжественно патриарх, благословляя царевну, поцеловавшую его святительскую десницу. – Выкрикни многолетие благоверной царевне! – приказал патриарх стоявшему близ него протодьякону.
Смело обвела царевна своими умными и проницательными очами всех окружавших ее, и охватил ее легкий радостный трепет при сознании, что теперь все покорствует перед нею.
XIX
Рассвет раннего летнего утра проникал в небольшую низенькую горенку, пропитанную запахом ладана и деревянного масла*. Горенка эта была наполнена предметами, относящимися к отправлению богомоления. В ней на простом белом столе лежали груды увесистых книг в кожаных с медными застежками переплетах и с закладками из лент. На стене висели образа, черные ременные лестовки* и разноцветные ладанки*; в переднем углу горенки местился большой киот, на верхушке которого, под вербами, стояло множество стекляниц со святою водою и просвиры всевозможных величин, а перед почерневшими от времени и копоти иконами теплилось несколько неугасаемых лампад и, вдобавок к лампадам, были прикреплены к самым доскам икон желтые восковые свечи. Кроме стола с книгами и небольшой скамейки, в этой горенке не было никакой другой обиходной комнатной рухляди, а под образами, головою к киоту, был поставлен белый тесовый гроб. В этом домовище* лежал кто-то, окутанный саваном, полы которого, сдернутые вместе, закрывали лицо покоившегося во гробе. Размеры гроба и прислоненной близ него крыши, с начертанным на ней черною краскою крестом, показывали, что покойник должен был быть человек рослый и плотный.
Вдруг в дверь горенки кто-то постучался. Стук все более усиливался, и наконец покойник зашевелился, повытянулся, приподнялся и, отбросив с лица саван, начал лениво протирать глаза, потом несколько раз перекрестился, зевнул и не торопясь вылез из гроба.
– Подожди! – крикнул он, отвечая на продолжавшийся стук; при этом он снимал с себя саван и надевал поверх белой рубашки старый черный подрясник из самого грубого сукна, а затем вздел на свою лысую голову порыжелую от времени остроконечную бархатную скуфейку.
– Эк ты как, отче Сергий, заспался! Или всегда так подолгу дрыхнешь? – спрашивал за дверью грубый голос.
– Какое заспался? С вечера до поздней ночи радел Господу Богу, так вот сон и одолел меня, и прилег-то я только перед самою зарею.
Говоря это, вставший из гроба откинул щеколду от двери, и в ней показался стрелец громадного роста, упиравшийся головою под самый потолок горенки.
Стрелец подошел к Сергию под благословение, а потом начал креститься перед образами. То же вместе с ним стал делать и хозяин.
– Пришел я к тебе с поклоном от нашей братии стрельцов: просят тебя в их круг пожаловать, – заявил расстриженному иноку Сергию выборный стрелец Обросим, или Амбросий Петров.
– Идти-то к вам боязно, человек я тихий и смирный, а ваши-то молодцы больно шумят, – отозвался Сергий.
– Эй, батька, не робей! Не все ли тебе равно: ведь в стрельцы тебя не возьмем; ты, чай, и пищаль-то зарядить не сумеешь.
– Отстреливаюсь я от моих врагов божественною пищалью, а в мирской пищали и нужды мне не настоит, – проговорил Сергий, указывая стрельцу на стол, заваленный книгами и рукописями.
– А что, батька, чай, бока-то в гробе порядком отлежал? – продолжал подсмеиваться стрелец, заглянув в не обитый ничем гроб. – Для чего никакой подстилочки туда не положишь? Хотя бы сенца аль соломки?
– Не кощунствуй, Петр Гаврилыч! Пришел антихрист, а разве ты ведаешь, когда наступит конец миру. Не вспоминают об этом лишь нечестивые никониане, а нам, ревнующим об истинном древнем благочестии, постоять за него следует.
– Вот о том, чтобы ты постоял за него, я и пришел к тебе от нашей братии, – перебил Петров.
– В чем же дело?
– Нужно будет написать государям и государыне Софье Алексеевне челобитную, чтобы допустили они нас, православных, препираться с никонианами о вере.
– Изволь, такую челобитную я напишу, а потом что же будет? – пытливо спросил Сергий.
– Станем всенародно спорить с никонианами и одолеем и их и патриарха их! – с уверенностью отвечал стрелец.
– Какой он патриарх, он «потерях», потерях бо он истинную веру, – с насмешкою проговорил Сергий.
– Ловкое словцо ты вымолвил, «потерях»! Так оно и есть, – весело засмеялся стрелец. – Столковаться, впрочем, с тобою самолично я обо всем не смогу, а приходи к нам. Ведь не смуту хотим мы учинить, а к христианскому подвигу готовиться, и не ваше ли монашеское дело приуготовлять к тому нас, несведущих мирян?
– Коли так, то приду сегодня, если успею челобитную написать, а теперь Богу молиться нужно, – сказал Сергий, расставаясь со своим гостем.
После долгой и усердной молитвы и после сотни отброшенных поклонов Сергий присел на скамью и, облокотясь на стол, принялся обсуждать сам с собою, в чем должна состоять стрелецкая челобитная об истинной вере.
«Нужно первее всего постоять за «аз», – думал Сергий, – читалось прежде в символе веры «рожденна, а не сотворенна». С чего же никонианцы выпустили бывшую промеж этих слов букву «аз»? Потом, – соображал Сергий, – надлежит восстановить в чине богоявленского водоосвящения слова «и огнем». Молились прежде об освящении воды Духом Святым и огнем, а никониане «и огонь» из книг вычеркнули; хотели, значит, огонь в Божьем мире извести…»
Продолжая глубокомысленно рассуждать о предстоящей задаче по составлению челобитной от имени стрельцов, Сергий находил, что нужно будет разрешить вопросы «о сугубой аллилуе», о «хождении по солонь» и о «двуперстном знамении» в том смысле, в каком принято было это до водворения в православной Церкви никоновских новшеств. Задавался он также и вопросами о том, зачем никониане вместо «благословен грядый» стали петь «обретохом веру истинную», как будто прежде истинной веры не было; почему архиереи носят жезлы с «проклятыми» змеями и надевают клобуки, как бабы. Воззрения его на способы умиротворения Церкви далее этих вопросов не шли, и в этом случае он не был похож на других смелых и пылких вождей раскола, которые придавали своему учению не одно только религиозное, но и политическое значение.
Обдумав содержание челобитной, Сергий принялся писать ее, прося в ней великих государей и великую государыню взыскать старую веру, в которой российские чудотворцы, великие князи и благоверные цари Богу угодили, и потребовать от патриарха и от властей духовных ответа, отчего они священные книги, печатанные до Никона, при первых благочестивых патриархах, возненавидели, старую и истинную веру отвергли и возлюбили новую, латино-римскую?
Написав челобитную, Сергий отправился к стрельцам. Стрельцы собрались на сход. Сергий начал там читать свое сочинение. Умилились стрельцы, слушая челобитную, наполненную скорбью и сетованиями о падении в Московском государстве древнего благочестия.
– Мы и за тленное голов наших чуть не положили, а из-за Христа-света отчего не умереть? – кричали они, вспоминая о первом своем приходе в Кремль, и повели Сергия к своему начальнику, князю Ивану Андреевичу Хованскому.
– Вот, батюшка, – говорили они, кланяясь вышедшему к ним на крыльцо боярину, – привели мы к тебе инока Сергия, поспорит он с никонианами.
Хованский подошел к Сергию под благословение, а затем поклонился ему в ноги и, приняв от него челобитную, возвратился в свои хоромы, чтоб прочитать ее прежде подачи государям.
Нахмурился при чтении ее боярин. Сочинение Сергия показалось ему слабым и не соответствующим тем широким замыслам, какие имел Хованский, рассчитывая на возмущение раскольников.
– Ты, отче, – сказал Сергию боярин, вышедший снова на крыльцо, – инок смиренный, тихий и не многоглаголивый. Не станет тебя на такое трудное дело, как препирательство с никонианами. Надобно против них ученому человеку ответ держать.
– Хотя я, боярин, и немногословен, но надеюсь на Сына Божьего и верую, что он может и немудрых умудрить, – возразил Сергий.
– Так-то так, а все-таки…
Хованский приостановился и призадумался. Видно было, что он не решался поручить Сергию борьбу с никонианами.
– Да не позвать ли на такое дело попа Никиту*? – подсказал Хованскому кто-то из стоявших около него стрельцов.
– И точно что позвать! – радостно вскрикнул как будто спохватившийся Хованский. – Так это он совсем у меня из головы вышел? Знаю я этого священника гораздо, не раз беседовал я с ним. Против него никонианам нечего будет говорить, он сразу уста им заградит. А мне самому дело это не за искус. Божественного писания вконец я не знаю; измлада навык к воинскому, а не к духовному чину… Но верьте мне, не будут вас по-прежнему казнить, вешать и жечь в срубах. Бога призываю во свидетели, что рад стоять за вас! Доложу челобитную вашу великим государям, чтобы они назначили собор, – сказал Хованский, отпуская от себя стрельцов.
Стрельцы верили князю, да и нельзя было не верить ему. Со вступлением его в заведование Стрелецким приказом начали государи оказывать стрельцам небывалые милости. Повелели они выдать им из государевой казны жалованье, которое не додано им было их полковниками за прежнее время; пожаловали им по десяти рублей на человека и указали собирать эти деньги со всего государства, а для чеканки их отбирать у частных людей серебряную посуду; раздали им также дворы и животы бояр и думных людей, взятые на государя, после того как владельцы и тех и других были убиты в стрелецком мятеже; прибавили им жалованья, ограничили их службу одними городами, простили все бывшие на них недоимки и запретили наказывать плетью без царского разрешения. Удовлетворили их требование и относительно ссылки тех лиц, которые при восстании стрельцов были обречены на смерть и которые успели спастись от избиения. Но особенная награда была оказана стрельцам 6 июня 1682 года, когда великие государи указом своим благодарили стрельцов «за побиение за дом Пресвятыя Богородицы» и наименовали их «надворною пехотою», строго запретив называть их изменниками и бунтовщиками. В память же их подвигов приказано было поставить каменный столб, с прибитыми к нему жестяными листами, а на листах этих означить имена убитых стрельцами бояр с прописанием их вин, как против государя, так и против стрельцов.
Уйдя от Хованского, стрельцы рассыпались по подмосковным посадам, населенным раскольниками, извещая их о предстоящем соборе и убеждая их постоять единодушно за истинную древнюю веру.
Покончив беседу со стрельцами и войдя в хоромы, князь Иван приказал позвать к себе своего сына, князя Андрея.
– Ну, сынок! – начал старый князь, важно поглаживая свою седую бороду, и приказал Андрею сесть возле него. – Ты знаешь, что мы идем из рода Гедиминовичей, великих князей литовских и королей польских, а древние родословцы, через князей полоцких, доводят родоначалие наше до первого российского государя Рюрика и до святого равноапостольного великого князя Владимира, крестившего Русскую землю.
– Ведомо мне это, князь-батюшка, – отвечал молодой Хованский, слышавший беспрестанно от отца о древности и знатности рода Хованских, но далеко не так гордившийся этим, как его тщеславный родитель.
– Веду я речь к тому, что нам, князьям Хованским, не след оставаться в заурядном боярстве и надлежит подняться на ту высоту, какая свойственна нашей знатной породе. Время теперь наступило такое, что достичь того будет не трудно. Будь только разумен и помогай отцу всеми силами.
– Готов я, родимый батюшка, исполнять во всем твою родительскую волю! – почтительно проговорил князь Андрей.
– И за то благословение Божие будет над тобою во веки веков. Слушай же, выбрось из головы всю прежнюю дурь. Не чета тебе та невеста, которую ты подобрал себе, не дам я тебе моего благословения на брак с нею! – сурово сказал старик.
Молодой князь не возражал и только печально понурил голову.
– Не такую невесту найду я тебе, – проговорил старик.
Князь Андрей в сильном волнении взглянул на отца.
– Готовлю я тебя в женихи царевне Екатерине Алексеевне, и, буде воля Господня станет, от тебя должно пойти поколение государей московских.
Князь Андрей вздрогнул и в изумлении посмотрел на отца.
– Повторяю тебе, что ты, по породе, достоин такого супружества, но надлежит тебе отстать от нечестивых никониан и присоединиться к древнему благочестию, – продолжал старик.
– Не понимаю я, батюшка, разности между старою и новою верою. Кажись, вся распря идет из-за книжных переправок, никто, однако же, с достоверностью не знает, которые из книг истинны?
– Истинны старые книги! – сердито проворчал старик. – Да и опричь того, по старым богослужебным книгам должная честь воздается боярству. По служебнику, изданному при царе Борисе Федоровиче, молились «о боярах, иже землею Русскою пекутся». Молились, значит, о нас, боярах, а по служебнику, напечатанному при патриархе Филарете*, молитва эта оставлена!
– Если ты, батюшка, желаешь, то я стану молиться и по старым книгам, – предупредительно отозвался князь Андрей.
– Желать мне самому нечего, а желаю я для спасения твоей души. Да беседуй почаще с отцом Никитою, – сказал старый князь, увидев подходящего к княжеским хоромам Пустосвята.
Князь Андрей был сильно озадачен предположением своего отца о браке его с царевною Екатериною Алексеевной, но не решался, да и не успел заговорить с ним об этом, так как старик пошел навстречу к Никите и, приняв распопа с особым почетом, сообщил ему, чтобы он завтра, 23 июня, пришел рано поутру со своею богохранимою паствою на Благовещенскую площадь и остановился бы перед Красным крыльцом.
XX
– Не след допускать, чтобы государи венчались на царство по новым книгам. Ляжем все до одного на месте, а этого учинить не дозволим! – раздраженно толковала толпа раскольников, направлявшаяся из-за Яузы к Кремлю.
Хотя толпа эта была безоружна, но тем не менее она подступала к царскому дворцу грозною бурною тучею. Впереди нее, в истасканном подряснике, с всклоченною бородою и растрепанными длинными волосами, шел известный всей Москве расстриженный суздальский поп Никита, по народному прозванию Пустосвят. Он нес в руках крест и, часто оборачиваясь назад, исступленными глазами обводил толпу, ободряя ее и ускоряя ее движение.
– Чего стали? Вали вперед смелее! Ведь идем умирать за истинную веру! Или страх обуял? К нечестивым никонианам приобщиться хотите? – кричал Никита на двигавшуюся за ним ватагу народа.
За Никитою шли бывшие иноки Сергий и Савватий. Первый из них нес Евангелие, а второй – огромную икону с изображением Страшного суда. На пути толпа увеличивалась пристававшими к ней как раскольниками, так и никонианами, и когда она подошла к Красному крыльцу, то достигла громадных размеров.
– Зови их в ответную палату, – сказал жильцу бывший уже во дворце Хованский, увидев приближавшуюся толпу. Жилец спустился с лестницы, чтобы исполнить приказание князя, который, вместе с другими боярами, пошел в ответную палату, чтобы поджидать там прихода главных расколоучителей. По зову жильца вошли в палату Пустосвят, Сергий и Савватий, и из всех находившихся в палате бояр один только Хованский подошел к кресту, бывшему в руках Никиты.
– Зачем, честные отцы, пришли вы сюда? – спросил Хованский вошедших ересиархов.
– Пришли мы побить челом великим государям о старой православной вере, чтобы велели они патриарху и властям служить по старым книгам, а в новых книгах мы затеи и многие грехи обличим, – в один голос отвечали расстриги боярину.
– А челобитная при вас есть?
– Есть.
– Подавайте ее сюда, я покажу ее великим государям. – И, взяв челобитную из рук Сергия, Хованский пошел с нею вверх.
– Указали великие государи быть собору в среду, через три дня после царского их венчания! – объявил Хованский, возвратившись в ответную палату.
– Не подобает тому быти, – заворчали честные отцы. – Коли собор после венчания произойдет, так, значит, цари венчаться будут по новым книгам. Какое же это венчание? Еретическое оно будет.
– Будут венчаться по старым книгам, – утвердительно сказал Хованский, незаметно подмигнув Пустосвяту.
– Ну смотри, боярин, великий грех, непрощенный, берешь ты на свою душу, коль что да не так выйдет. Смотри! – предостерегал Хованского Пустосвят.
– Не придется брать мне на душу никакого греха! Будет так, как я вам говорю, – успокаивал князь, выпроваживая расколоучителей из ответной палаты, в которой государи обыкновенно принимали и отпускали иноземных послов.
– А чтобы не допустить до греха, так я сам принесу патриарху просвиры. Пусть на них он и отслужит обедню, – добавил Никита.
– Ладно, ладно! – уступчиво отвечал Хованский. – Не опоздай только, батька!
Накануне дня венчания царей в Успенском соборе было приготовлено так называемое «чертежное» место, с устроенным на нем помостом о двенадцати ступенях, крытых алым сукном. От этого места и до входных дверей разостлали две дорожки: одну для государей из «рудо-желтого»* бархата, а другую для патриарха из бархата вишневого цвета.
25 июня 1682 года, ранним утром, торжественно загудели колокола всех московских церквей, возвещая о наступившем дне венчания на царство великих государей Ивана и Петра Алексеевичей, а в восемь часов утра государи пошли из своих хором в Грановитую палату. Предшествовали им окольничие и ближние люди, а за ними шли царевичи сибирские и касимовские и медленно выступали сановитые бояре в парчовых ферязях и высоких бобровых и собольих шапках. Заняв в Грановитой палате свои царские места, государи начали жаловать в бояре, а также в окольничие и думные дворяне. Новопожалованные, которым объявляли о такой милости думные дьяки, отправились на казенный двор, чтобы принести оттуда царские регалии: шапки, скипетры и державы. Все эти знаки царского достоинства были сделаны совершенно одинаковые для каждого из обоих братьев.
Величаво, вслед за боярами, принесшими царские регалии, вошел в Грановитую палату князь Василий Васильевич Голицын.
– Время приспело вам, великие государи, идти во святую соборную церковь! – доложил он царям, отдав им при этом глубокий поклон.
Государи поднялись со своих мест и пошли в собор, а архимандриты, предшествуя им, понесли туда Мономаховы шапки на золотых блюдах, а также скипетры и державы. В соборе государи стали на «чертежное» место; здесь митрополиты надели на них царские облачения и шапки, а патриарх дал им в руки скипетры и державы, и тогда стали им петь многолетие, как всем собором, так и на клиросах; а между тем патриарх, духовные власти, бояре, окольничие и ближние люди стали «здравствовать им, великим государям, на их превысочайшем престоле».
Окончилось поздравление, и началась обедня. После «Херувимской»* государи сошли с «чертежного» места и по «золотным бархатам» приблизились к царским вратам, где патриарх надел на них золотые цепи с животворящими крестами, служившие также знаками царского сана. Перед причащением государи приложились к иконам и потом низко поклонились присутствовавшим в церкви на все стороны. Растворились царские врата, митрополиты сняли с царей шапки, а патриарх помазал миром* у каждого из государей лоб, щеки и сердце. После этого он ввел их в алтарь, и на время их причащения затворились царские врата. Причастившись в алтаре, цари встали опять на «чертежное» место, и, когда обедня кончилась, патриарх приблизился к ним, осенил их крестом, дал каждому в руки жезл и стал поучать их от слов евангельских и апостольских.
При звоне колоколов цари вышли из Успенского собора. Весь Кремль был тогда наполнен народом, но никаких восклицаний не слышалось, так как в ту пору уважение к царскому величеству выражалось лишь благоговейною тишиною; да и восклицать было бы не слишком удобно, потому что весь народ при появлении государей должен был пасть и лежать ничком.
Идя по пути, устланному алым сукном, среди повалившихся на землю и безмолвствовавших подданных, великие государи направились сперва в Архангельский собор, а потом в Благовещенский. При входе их туда царевичи сибирские Григорий и Василий Алексеевичи осыпали их у самых дверей по три раза золотыми монетами, которые в золотых мисах подавали царевичам стольники. В то же время с соборных папертей бояре бросали народу золотые и серебряные деньги, и таким образом было разбросано сорок тысяч тогдашних рублей.
Прежде чем началась обедня в Успенском соборе, через плотную, окружавшую его толпу с отчаянными усилиями пробивалось несколько человек, желая во что бы ни стало дойти до собора.
– Пропустите нас! Дайте пролезть! Умилосердитесь! Истинная вера гибнет! – кричал исступленным голосом один из протискивавшихся, поднимая высоко над своею головою небольшой узел из белого чистого холста, в котором были завернуты просфоры; он был в рясе, с надетыми поручами и эпитрахилью*.
– Ошалел ты, что ли, батька! Куда так ломишься! Не доберешься ты до собора, – отозвался в толпе один из посадских, глядя на распопа* Никиту, который побагровел и весь в поту настойчиво протискивался вперед.
– Несу к патриарху просвиры! Пустите! Вера православная гибнет!.. – жалобно вопил задыхавшийся Пустосвят.
Но все его крики, просьбы, увещания и ругательства были напрасны. Неподвижно стояла перед ним плотная и равнодушная толпа. И вдруг на Ивановской колокольне ударили к «Достойной»*.
– Запоздал я! – взревел дико Никита и, побледнев, рванулся как бешеный вперед, но снова встретил неодолимый отпор. – Погибла истинная вера! Еретики венчали царей по новым книгам! Отныне они неблагочестивые!
Обойдя кремлевские соборы, государи вернулись в Грановитую палату. Там сели они на своих престолах, а царевичи сибирские и касимовские положили к их ногам венцы своих царств, поклонившись три раза в землю перед великими государями. Ни словом, ни движением не ответствовали московские самодержцы на такое выражение верноподданства иноземных царевичей. Старший царь, подслеповатый, с нахлобученною на глаза Мономаховою шапкою, казалось, дремал, утомленный продолжительным торжеством этого дня; но бодро и смело посматривал на всех отрок Петр с высоты своего престола, выражая быстрыми взглядами и порывистыми движениями избыток кипевшей в нем жизни.
В Крестовой палате и патриарх воздал царям поклонение в землю, но ему они ответили тем же, а потом, взяв его под руки, повели и посадили на патриарший престол.
Приняв поздравления от бояр и всяких чинов людей, государи угощали в столовой избе бояр, окольничих, думных и ближних людей водками и ренским вином. Тем и окончилось в Кремле торжественное венчание на царство Ивана и Петра Алексеевичей. Но зато громко принялись толковать о нем среди раскольников.
– Не истинно было нынешнее царское венчание. Служили не по старым книгам, молились не о «совокуплении», а о «соединении» Церквей; просили не «умножения», а «изобилия» плодов земных; в «Херувимской» пели не «всякую ныне житейскую отверзем печаль», а «всякое ныне житейское отложим попечение», в «символе веры» пели не «несть конца», а «не будет конца» и пропустили «аз», – гневно говорили раскольники, указывая и на другие отступления от древнего благочестия и отвергая ввиду этого действительность помазания обоих государей на царство.
– Что же ты, отец, не принес в собор своих просвир? – выговаривал, в свою очередь, Хованский пришедшему к нему в тот же день Никите. – По всем сторонам я тебя высматривал, да так-таки и не видел. Сам виноват!
– Виноват не я, а паскудница просвирня. Замешкала она больно и задержала нас, а когда мы прибежали на площадь, то протискаться к собору не было мочи, мы уж запоздали. А тут и нечестивые никониане с злым умыслом не пускали нас дальше, да еще издевались над нашим усердием! Что теперь, благоверный боярин, прикажешь нам делать?
– Подожди, отец, собора, скоро он будет, и мы постоим на нем за древлее благочестие; только вы не опаздывайте да не сробейте!
– С чего мы опаздывать и робеть будем? На собор не опоздаем, ведь там дело без просвирни обойдется! Только ты, боярин, не выдавай нас!
– Не выдам вас, а притворствовать мне пока нужно. Когда проведает правительствующая царевна, что я с вами заодно, так будет тогда моя погибель. Недолюбливает она вас крепко и за любовь мою к вам отнимет у меня начальство над стрельцами, а тогда никакой силы у нас под рукою не будет, – пояснял Хованский.
– Ладно, ладно, благоверный князь! Мы на тебя, как на каменную гору, упование наше возлагаем! – заявили Никита и его товарищи, расставаясь с боярином.
XXI
Патриарх московский и всероссийский считался после царя «начальным» человеком во всем государстве. Если низложение Никона, заспорившего было с царем Алексеем Михайловичем, и показало громадный и даже безусловный перевес верховной светской власти над верховною духовною властью, то все же по делам собственно церковным патриарх был и после этого первенствующим лицом во всей Русской земле. Такое первенство принадлежало и патриарху Иоакиму, несмотря на то что он не отличался ни обширным умом, ни твердостью характера. В его правление Церковью время было бурное. Прежняя патриаршая всероссийская паства распалась теперь на два духовных, враждебных одно другому стада. Над одним стадом по-прежнему оставался пастырем патриарх, а другим овладели противники его, раскольники, и, кроме того, независимо от раскола, прокладывалась в православную Церковь и латинская ересь, распространителем которой был прежде наставник царя Федора Алексеевича и царевны Софьи Симеон Полоцкий, вскормленник польских иезуитов, а после смерти его скрытным ревнителем этой ереси стал Сильвестр Медведев, ученик и друг Симеона, сближавшийся теперь все более и более с царевною-правительницею.
При таких обстоятельствах не легко и не сладко было жить старику Иоакиму, и не мало накопилось разного рода забот и огорчений под его низеньким белым клобуком. Сверх хлопот по делам церковным приходилось ему, хотя и безуспешно, увещевать буйных стрельцов, а после этого, под тайным руководством князя Ивана Андреевича, принялись наступать на патриарха еще более опасные для него враги – раскольники.
Крепко поморщился святейший владыка, когда 3 июля явился к нему из царского дворца посланец князя Хованского с приглашением от имени государей – прибыть безотлагательно в Крестовую палату для объяснений по челобитной о вере, поданной великим государям выборными от стрелецкого войска.
– Ох уже эти стрельцы! И в дела веры вмешиваться начинают! – охал и ворчал пастыреначальник, собираясь исполнить царское повеление.
Еще до зова патриарха во дворец явился туда Никита Пустосвят с выборными и заявил, что ему нужно видеть боярина князя Ивана Андреевича Хованского.
– Что нужно тебе от меня, честной отец? – спросил он Никиту.
– Пришли они постоять за истинную веру, – было ответом на этот вопрос, причем Никита, указав на стрелецких выборных, тотчас же спрятался между ними.
– Да все ли вы готовы стоять за нее? – спросил Хованский выборных.
– Не только стоять, но и костьми лечь! – отвечали они.
Три раза повторял Хованский этот вопрос и три раза получал на него один и тот же решительный и единодушный ответ.
– То дело святейшего патриарха, – сказал Хованский, выслушав заявление стрельцов, – и я послал звать его в Крестовую палату; идите и вы туда.
Выборные пошли, но вдруг палата наполнилась народом, так как следом за ними ворвались и сопровождавшие их раскольники, а в числе их и Никита.
– Пришли они спросить твое святейшество, за что отвергнуты старые книги? – сказал Хованский вошедшему в Крестовую палату патриарху, указывая ему на выборных.
– Не подобает вам, чада мои и братья, – начал поучительно патриарх, обращаясь к стрелецким выборным, – судить и простого человека, а кольми паче архиерея. Вы люди чина воинского, и вам это дело не за искус: нашею архиерейскою властью оно разрешается и вяжется. Мы на себе Христов образ носим, я вам пастырь, а не наемник, я дверьми вошел в овчарню Господню, а не перелез в нее, как тать, через ограду.
Долго бы, по всей вероятности, говорил святейший владыка со стрельцами в таком поучительном смысле, если бы из толпы их не выступили смелые книжники, предводимые Никитою.
– Пришли мы спросить тебя, за что предаешь ты богочтителей проклятию? За что отсылаешь ты их в дальние города? За что велел ты Соловецкий монастырь вырубить, а монахов за ребра вешать? Дай ответ на письме, почему ты старые книги выкинул? – заговорили расколоучители.
Патриарх хотел сказать им что-то в ответ, но замялся, зашамкал губами и стал слегка откашливаться.
– Да что тут толковать! Выходи, старче, препираться с нами на Лобное место! – нагло и хвастливо крикнул Никита.
– Статочно ли препираться на площади о делах церковных! – возразил патриарх, и от сильного негодования белый клобук затрясся на его голове.
– Знать, старина, ты струсил! Что же? Так и не пойдешь? – подзадоривали раскольники Иоакима.
Не говоря ни слова, патриарх пошел из Крестовой палаты, сопровождаемый насмешками своих дерзких противников.
– Святейшему патриарху на Лобное место ходить незачем, великие государи указали быть собору пятого числа сего месяца в Грановитой палате, – заявил Хованский выборным.
Обо всем, что происходило в Крестовой палате, дошло тотчас же до сведения царевны-правительницы.
«Не напрасно подозревала я Хованского, недоброе он затевает!» – подумалось ей.
Между тем раскольники стали деятельно подготовляться к предстоящему собору. Они ходили по стрелецким слободам, побуждая стрельцов рукоприкладствовать под челобитною, которую следовало подать государям при открытии собора. Нападали они на православных священников и избивали их до полусмерти.
– Мы против челобитной отвечать не сумеем, а если к ней руки приложить, то и ответ должно будет дать. Сумеют ли сделать это и старцы? Чего доброго, намутят они только. Это дело не наше, а патриаршее, – заговорили стрельцы, не сочувствовавшие расколу вообще и в особенности подаче челобитной.
Проведала об этом царевна-правительница и, по совету Голицына, решилась противодействовать влиянию Хованского на раскольников; но, опасаясь с первого же раза раздражить как их самих, так и множество стрельцов, их единомышленников, она допустила состояться собору.
Настало 5 июля 1682 года, день, для того назначенный.
Не успел еще патриарх отслужить в Успенском соборе молебствие об утишении и умиротворении святой Божьей Церкви, обуреваемой расколами и ересями, как до него стал доходить постепенно усилившийся на Соборной площади шум, который вскоре усилился до того, что пришлось приостановить службу.
– Выйди ты к ним, отец Василий, и уйми нечестивцев. Чего они бесчинствуют перед храмом Господним! – гневно сказал патриарх, обращаясь к протопопу Спасской церкви.
– Того… святейший владыко… оно того… – замялся и забормотал протопоп, оробевший ввиду предстоявшего ему опасного поручения.
– Чего того? – передразнивая протопопа, сердито прикрикнул патриарх. – Ступай, коль приказываю. Вот тебе обличение на Пустосвята, прочитай его им.
Неохотно поплелся отец Василий в шумную толпу, и сильно екнуло его сердце, когда он, выйдя на паперть Успенского собора, взглянул на площадь.
Вся площадь была сплошь покрыта народом, на который сзади напирали новые прибывающие ватаги. По площади ходил и смешанный гул и громкий говор. Над головами бесчисленной толпы то поднимались, то опускались старые закоптелые иконы, огромные подсвечники с пудовыми свечами, ветхие книги, аналои и скамейки. Над волновавшеюся площадью высоко виднелся Пустосвят, взобравшийся на устроенные подмостки, а около него стоял его неразлучный спутник, Сергий.
– Пусть они идут к нам! Гони их из хлевов и амбаров! – рычал Никита, указывая на кремлевские храмы. – Чего они не выходят на Лобное место препираться с нами!
Протопоп колебался, идти ему или нет в это шумное сонмище. Он видел, что теперь временная его паства состояла не из мирных овечек, а из бешеных волков. Протопоп решился не идти и, остановясь на паперти, начал там наскоро читать отпечатанное накануне по указу патриарха отречение от раскола, которое дал на соборе Никита и в котором он просил прощения за отпадение в ересь. Не успел, однако, отец Василий прочесть даже наскоро двух строк, как стрельцы подхватили его, полумертвого от страха, под руки и потащили к подмосткам, на которых голосил Пустосвят. Раскольники с остервенением кинулись на протопопа.
– Не трожь! – крикнул Сергий. – Пусть читает обличение, нам только этого и нужно. С него мы и спор с никонианцами заведем.
Толпа послушалась Сергия, расступилась и поставила Василия на скамейку подле Никиты.
– Читай, батька! – закричали со всех сторон протопопу.
Дрожащим и прерывающимся голосом принялся он за чтение, но тотчас же на площади поднялся такой страшный шум, что нельзя было расслушать ни полслова, а стоявшие несколько поодаль от протопопа раскольники начали спускать с правого плеча накинутые на опашку кафтаны и вынимать из-за пазухи каменья, готовясь половчее метнуть ими в злосчастного обличителя.
– Всуе, отче, будешь трудиться. Видишь, никто тебя не слушает, – сказал Сергий Василию. – Слезай-ка, брат, подобру-поздорову со скамейки да посмотри, как будут внимать нам, ибо мы не собою глаголем, а от божественных писаний.
Говоря это, Сергий потянул Василия за полу рясы, живо стащил со скамейки и сам взобрался на его место.
Толпа, увидя, что Сергий собирается говорить, мгновенно смолкла; камни были спрятаны опять за пазуху, а кафтаны натянуты на плечо.
Воспользовавшись вниманием, с каким раскольники слушали Пустосвята о силе двуперстного знамения и о нечестивом поклонении четырехконечному кресту, отец Василий проворно шмыгнул от скамейки и успел здраво и невредимо пробраться в Успенский собор, где и донес патриарху, что с раскольниками никак сладить нельзя, почему и святейший поспешил поскорее выбраться из собора и удалиться в свои хоромы.
Кончил свое поучение Сергий, и снова раздался на площади громовой голос Никиты.
– Пойдем, православные, препираться с патриархом. Осквернены церкви никонианцами! Наступило царство антихриста! – ревел Пустосвят, ведя толпу за собою к Красному крыльцу.
– Пусть выйдет к нам патриарх! – неумолчно голосила толпа.
В кремлевских палатах господствовали теперь ужас и смятение. Бодрствовала одна лишь правительница, порываясь выйти сама на Красное крыльцо, чтобы увещевать раскольников.
– Пошли к ним, благородная царевна, на Лобное место патриарха, и они с ним уйдут из Кремля, а сама к ним не ходи, не пускай к ним и государей. Убьют они вас всех, – запугивал Софью Хованский. – Умолите ее пресветлость не выходить на Красное крыльцо, не пускайте туда и государей; не ровен час, беда будет!
– Нет! – отвечала она. – Не оставлю я без защиты Церкви и верховного ее пастыря. Если препираться о вере необходимо, то быть собору в Грановитой палате, туда пойду и я. Кто хочет идти со мной? – смело спросила Софья.
Решимость царевны придала бодрость всем находившимся в палате.
– Я пойду с тобою! – откликнулась царица Наталья Кирилловна, не желая дать царевне Софье случай одной показать свое бесстрашие.
– Пойду и я! – с живостью проговорила двадцатидвухлетняя царевна Мария Алексеевна, младшая сестра Софьи от одной с нею матери.
– Нешто не пойти ли и мне? – как бы про себя проговорила Татьяна Михайловна.
– Пойдемте! – воскликнула Софья и, взяв тетку и сестру за руки, повела их в Грановитую палату. Между тем Хованский вышел на площадь. Он объявил народу волю царевны и звал «отцов» в Грановитую палату.
– Сама царевна хочет выслушать вашу челобитную, не идти же ей к вам на площадь! – вразумлял Хованский раскольников, не желавших пойти во дворец.
– Государь царский боярин, – возразил Сергий Хованскому, – идти нам в палату опасно, не было бы над нами какого вымысла и коварства. Лучше бы изволил патриарх здесь перед всем народом свидетельствовать священные книги. Как пустят в палату нас одних, что мы там станем делать без народа?
– Невозбранно никому идти туда! Кто хочет, тот и ступай! Кровью Христовою клянусь, что вас никто не тронет, – говорил Хованский.
– Идем, православные! – воодушевленно крикнул Никита.
XXII
Внушительно и великолепно для того времени выглядывала Грановитая палата, бывшая главною приемною комнатою Кремлевского дворца. На стенах этой палаты, расписанных цветами, узорами и арабесками, были нарисованы по золоту изображения всех великих князей и царей московских, а на сводах палаты были картины из Ветхого завета и из русской истории. На находившихся в ней разных поставцах ставили в торжественных случаях хранившуюся на казенном дворе золотую и серебряную посуду, изобилие и ценность которой так дивили иностранцев и давали им высокое понятие о громадных богатствах московских государей. В Грановитой же палате стоял древний трон московских государей, сделанный из слоновой кости и золота. При введении царского двоевластия в Грановитой палате поставили для обоих государей одно, общее царское место, ступени которого были обтянуты багряным сукном и на помосте которого находились два царских трона, богато вызолоченных и обитых пурпуровым бархатом. На эти троны сели царевны Софья Алексеевна и Татьяна Михайловна, а в креслах, поставленных на ближайшей к тронам ступени, поместились царица Наталья Кирилловна, царевна Марья Алексеевна и патриарх. Около царского места, справа расселись на скамьях митрополиты и весь Священный собор, а слева – бояре, думные люди и выборные стрельцы. Между тем священники и дьяконы огромными ворохами несли в палату старые и новые книги, а также древние рукописи, славянские и греческие, на которые думали ссылаться отцы собора для поражения своих противников.
Радостно и торжествуя в душе, смотрела царевна Софья на это небывалое еще в Москве собрание, на котором не только явились царица и царевны с отброшенными фатами, но на котором женщины занимали первенствующее царское место. Предрассудки насчет женской неволи, искони гнездившиеся в московских теремах, были теперь окончательно уничтожены. Женщины, благодаря отважности царевны Софьи, добились не одной свободы, но и права участвовать не только в государственных, но даже и в церковных делах. И справедливо гордилась двадцатичетырехлетняя девушка тем, что такой быстрый и резкий переворот в судьбе русской женщины произошел по ее почину. Не хотела, однако, она остановиться на первых шагах своего победного шествия и замышляла идти все дальше и дальше и стать самой на такой высоте, которая была бы в Московском государстве без примера в прошедшем и, быть может, осталась бы без подражания в будущем. Жажда безграничной власти и блестящей славы манила вперед честолюбивую царевну, и Софья не знала, где и когда придется ей остановиться в ее смелых стремлениях и пылких мечтаниях.
Раздумывая о заманчивой будущности, сидела царевна на царском престоле, когда сильный шум и крики, раздавшиеся в дверях Грановитой палаты, заставили ее встрепенуться.
В двери палаты врывалась толпа, таща с собою с площади огромную чашу со святою водою, иконы, свечи, аналои, просфоры, книги и скамейки.
На пороге палаты началась страшная давка, и вдобавок к этому раскольники затеяли на Красном крыльце драку с никонианскими попами. Стрельцы едва разогнали подравшихся, заступаясь, впрочем, за раскольников и порядком помяв бока неприязненным им богословам.
Буйный вход раскольников в царское жилище предвещал бурю, но, казалось, царевна была готова выдержать бестрепетно все ее порывы, и вот, среди шума и стука, раздался ее звонкий и твердый голос.
– Для чего так дерзко и так нагло пришли вы в царские чертоги, как будто к иноверным и не знающим Бога государям? – спросила она.
Все с изумлением посмотрели туда, откуда несся этот смелый и строгий голос. Там стояла молодая девушка в блестящем царственном облачении. Густые темные волосы выбивались длинными прядями из-под надетого на ее голове и сиявшего драгоценными камнями золотого венца с двенадцатью, по числу апостолов, закругленными зубцами. Лицо ее не поражало прелестью женственной красоты, но в нем выражались ум и мужество. Щеки царевны горели румянцем негодования, а глаза сверкали гневным блеском. Все приутихли. Видно было, что строгий женский голос, раздавшийся так неожиданно под сводами Грановитой палаты, подействовал на непривычную еще к нему толпу сильнее, нежели мог бы подействовать на нее повелительный и грозный окрик мужчины.
– Пришли мы, – заговорил на первый раз смиренно Пустосвят, – к великим государям побить им челом об исправлении православной христианской веры. Пришли мы просить, чтобы царское рассмотрение дала ты нам с новыми законодавцами, чтобы Церковь Божия была в мире и соединении, а не в мятеже и разодрании.
Царевна взглянула на патриарха и подала ему знак глазами, чтобы он отвечал Пустосвяту.
– Не ваше то дело, – заговорил Иоаким, – судить о том надлежит архиереям. У нас вера старого православия. Мы от себя ничего не внесли, но все от божественных писаний заимствовали, вы же грамматического разума в книгах не коснулись.
– Мы пришли не о грамматике с тобою толковать, – резко перебил Никита, – а о церковном догмате. Ты, старик, отвечай только на вопросы.
Шепот негодования прошел по палате при такой дерзости, оказанной Пустосвятом первосвятителю. Царевна готовилась сдержать своею угрозою позабывшегося перед патриархом распопа, но холмогорский архиепископ Афанасий предупредил ее.
– Так ли ты дерзаешь, негодник, говорить со святейшим владыкою! – крикнул на всю палату архиепископ.
– А ты зачем выше главы ставишься? Не с тобою я говорю, а с патриархом! – отвечал Пустосвят, с презрением взглянув на оторопевшего архиерея.
Софья не выдержала.
– Да ты как смеешь говорить со святейшим патриархом? – крикнула она на Никиту. – Разве ты забыл, как отцу нашему, царю Алексею Михайловичу, святейшему патриарху Питириму и всему Освященному собору принес повинную, а ныне снова за прежнее дело принялся?
– Оно точно, что принес я повинную, – равнодушно и лениво поглаживая бороду, отвечал Пустосвят, – да принес я ее между топором и срубом, а ответом на мою покаянную челобитную была тюрьма. А за что? И сам я того не ведаю.
– Молчать! – грознее прежнего крикнула царевна.
Никита не унялся окончательно, но продолжал что-то сердито ворчать.
– Ты, страдник, и замолчать не хочешь! – вмешался снова холмогорский владыка, но на этот раз вмешался весьма неудачно.
Разъяренный распоп заскрежетал зубами и кинулся на архиепископа.
При нападении Никиты на Афанасия все в ужасе вскочили с мест.
– Вы видите, что делает Никита! – вскрикнула Софья.
– Не тревожься, государыня царевна, он только рукою его от себя отвел, чтобы прежде патриарха не совался! – успокаивал хладнокровно Софью какой-то раскольник.
В палате начался теперь общий переполох, среди которого с сильным стуком и треском валились на пол скамейки, аналои, свечи, книги и иконы. Выборные стрельцы кинулись на исступленного Никиту и с трудом оттащили его, но большой клок из бороды преосвященного остался в руках изувера. Утрата значительной части бороды, впоследствии не заросшей, расстроила благообразие святительского лика, и Афанасий стал брить бороду. Он был единственный безбородый иерарх в нашей Церкви, и Петр Великий отменно любил его за это и чрезвычайно ласкал, вспоминая, что Афанасий утратил часть своей бороды в борьбе с расколом.
После нападения распопа на архиепископа едва удалось восстановить тишину в Грановитой палате. Стрельцы с трудом сдерживали за руки Никиту, который тяжело дышал и снова рвался врукопашную с кем-нибудь из отцов собора.
– Читай их челобитную! – приказала царевна дьяку.
Дьяк принялся исполнять отданное ему приказание, но чтение прерывалось беспрестанно дерзкими возгласами раскольников и поднимавшимися вслед за ними ожесточенными спорами с обеих сторон. Царевна то взглядом, то движением руки, то словами унимала расходившихся через меру богословов.
– Еретик был Никон! – вдруг гаркнул какой-то раскольник. – Никон поколебал душою царя Алексея Михайловича, и с тех пор благочестие у нас пропало!
В порыве страшного гнева вскочила царевна со своего кресла.
– Такой хулы терпеть нельзя! – вскрикнула царевна. – Если патриарх Никон и отец наш были еретики, значит, и мы тоже. Выходит, что братья наши не цари, а патриарх не пастырь Церкви, и нам не остается ничего иного, как только покинуть царство и идти в иные грады…
С этими словами правительница стала спускаться со ступеней трона.
– Пора бы, государыня, вашей чести идти в монастырь! Полно вам царством мутить! Нам бы цари наши здоровы были, а и без вашей милости место пусто не будет! – заговорили в толпе. – Пора бы вам на вашу разумную головку черный клобучок надеть да засесть в келейку, – подтрунивали раскольники над Софьей.
Гневно озираясь кругом и тяжело дыша, остановилась царевна посреди Грановитой палаты. Духовные власти, бояре, думные люди и стрелецкие выборные обступили ее.
– Преложи, благоверная царевна, гнев на милость! Прости невеждам за их продерзность и грубиянство! Соизволь по-прежнему править царством Российским! – говорили они, готовясь упасть ей в ноги.
– А по правде-то сказать, не женского ума дело царством править, – громко позевывая на всю палату, сказал кто-то в толпе с тем равнодушием и с тем спокойствием, которые так свойственны русскому человеку в самых торжественных и в самых затруднительных случаях.
Насмешка эта, в которой прозвучало полное пренебрежение к женщине, долетела до слуха царевны. Задетая этими словами за живое, она побледнела от гнева и, не говоря ни слова, быстро повернулась назад и, через расступившуюся перед нею толпу, взошла тихою и твердою поступью на помост и там снова села на прежнее место.
– Читай дальше челобитную, – равнодушно приказала она дьяку.
Дьяк принялся снова за свое дело. Читал, читал, но нелегко было ему одолеть целых двадцать столбцов, тем более что и теперь, как и прежде, чтение беспрестанно прерывалось криками и спорами, но уже далеко не столь яростными, как при начале собора. Стало вечереть. Наконец чтение челобитной окончилось. Все поумаялись порядком: кому хотелось поесть, кому выпить, кому соснуть. Царевна воспользовалась усталостью собора.
– За поздним временем заседать долее собору нельзя, указ сказан будет после! – громко и твердо объявила она.
Послышалось было слабое выражение неудовольствия, послышалось и насмешливое шушукание. Но царевна поднялась с места, встали за нею также и все прочие, участвовавшие в соборе. Царевна, ее сестры и их мачеха отправились в свои хоромы, а густая толпа, громко толкуя, повалила из Грановитой палаты на Красное крыльцо и, сойдя с него, вступила на площадь и потянулась из Кремля. Впереди нее горделиво выступал Никита, высоко держа поднятую вверх руку со сложенным двуперстным крестным знамением.
– Тако веруйте! – голосил он. – Тако творите! Всех архиереев попрахом и пострамихом.
Его сопровождали шесть чернецов «волочаг»*, тоже возвещавших народу о торжестве древнего благочестия над новою верою. Дойдя до Лобного места, толпа остановилась, раскольники расставили там иконы, свечи, аналои и скамейки, и Никита долго поучал народ истинному православию. Затем с громким пением раскольники двинулись за Яузу. Там встретили их колокольным звоном, и они, отслужив молебен в церкви Спаса, что в Чигасах, разбрелись по домам, радуясь своей победе.
XXIII
Следуя советам Голицына, царевна велела, чтобы назавтра были у нее в хоромах выборные от всех стрелецких полков. Они явились, и царевна вышла к ним, окруженная сестрами и боярами.
– Ужели вы променяете нас на шесть расстриг и предадите поруганию православную Церковь и святейшего патриарха? – сказав это, царевна приложила к глазам ширинку и громко заплакала. – Стыдитесь, вы отборное царское войско, а якшаетесь с глупою чернью, которую мутят побродяги. Или хотите, чтобы я ушла от правления? Так что же, я уйду!
Слезы молодой царевны, ее вкрадчивый голос и складная речь сильно подействовали на выборных.
– Нет, государыня царевна, не хотим мы, чтобы ты уходила от правления! – заговорили они. – За старую веру мы не стоим: она не нашего ума дело.
Удовольствовавшись на первый раз таким ответом, царевна пожаловала стрелецких пятисотенных в думные дьяки, допустила выборных к ручке, угостила их из царского погреба, приказала раздать денег и пообещала всем стрельцам новые милости и награды.
Обласканные и награжденные, а потому и чрезвычайно довольные царевною, возвратились выборные в свои слободы и принялись отдалять своих товарищей от раскола, но рядовые стрельцы с негодованием слушали их внушения.
– Посланы вы были говорить о правде, – упрекали они выборных, – а творите неправду, пропили вы нас на водках и на красных винах.
Ропот между раскольниками-стрельцами усиливался все более и более, но царевна не теряла бодрости. Она звала поочередно к себе стрельцов, на которых указывала ей Родилица, как на людей, готовых постоять за новую веру, выходила к ним, подолгу разговаривала с ними, и число приверженцев ее в слободах быстро множилось. Прошла лишь неделя со времени бурного собора, происходившего в Грановитой палате, как правительница решилась нанести жестокий удар расколу. Она потребовала от преданных ей стрельцов, чтобы они представили на расправу Никиту Пустосвята и главных его сообщников. Стрельцы исполнили это требование.
– Я не хочу сама решать его участь, не хочу также, чтобы Никиту судили бояре и приказные люди. Осудят они его хотя и правильно, да потом в народе примутся говорить, что они сделали мне это в угоду, – сказала царевна и приказала предать распопа «городскому» суду, составленному из одних только выборных.
Суд в тот же день порешил Никиту, признав, что он за хулу на святую православную Церковь, за оскорбление царского величества, святейшего патриарха и за нападение на архиепископа подлежит смертной казни.
– Не на меня падет его кровь, а на его судей, – спокойно сказала царевна, приказывая привести в исполнение смертный приговор, постановленный над Никитою, и 11 июля 1682 года, лишь только начало восходить солнце, на Болоте, под ударом топора, отскочила от туловища голова Пустосвята.
Главного его сообщника, Сергия, заточили в Спасский монастырь в Ярославле, некоторых разослали по разным монастырям, а прочие приверженцы в ужасе разбежались.
Москва притихла, но замыслы Хованского начали сильнее прежнего беспокоить Софью, а рассорившийся с ним неизвестно почему Иван Михайлович Милославский сделался вдруг непримиримым его врагом и решился рассчитаться с ним, по своему обычаю, путем коварства и подкопов.
– Ты знаешь, царевна, – начал он нашептывать правительнице, – крепко обманулся я в князе Иване Андреевиче. Просил я же тебя за него, чтобы соизволила ты дать ему начальство над стрельцами, а теперь вижу, что ты была права, когда остерегалась его. Слишком силен и непокорен он стал: мутит стрельцов, царских указов не исполняет. Кажись, пора бы отнять у него силу.
Наговоры Милославского сильно подействовали на Софью, и без того уже предубежденную против Хованского, но увещания Голицына ослабляли влияние этих наговоров. Стали доходить до Милославского слухи, что Хованский грозит ему. Милославский струсил и выбрался поскорее из Москвы в свою вотчину, настращав царевну при отъезде из Москвы преступными замыслами Хованского.
Все громче и громче начали распространяться по Москве слухи, будто бы Хованский, при содействии преданных ему стрельцов, имеет намерение захватить верховную власть в свои руки. Возмущения стрельцов оправдывали, по-видимому, достоверность таких слухов. Стрельцы называли Хованского отцом и батюшкою и выражали полную готовность умереть за него. Но самонадеянный и опрометчивый Хованский сильно вредил самому себе.
– Мною держится все царство, – спесиво говорил он боярам, – не станет меня – и в Москве будут ходить в крови по колена.
Заговорили в Москве о том, что Хованский хочет убить патриарха, извести царский корень, оставив в живых только царевну Екатерину Алексеевну, чтобы женить на ней своего сына Андрея, что он хочет восстановить старую веру и перебить бояр. Хотя и не все противники Хованского придавали веру этим грозным слухам, тем не менее по злобе к нему усердно распространяли их; и многие бояре, в особенности же Иван Милославский, постановили погубить Хованского. Но, прежде чем они обдумывали, как им действовать, он сам решился идти навстречу их замыслам.
Казнь Пустосвята произвела среди стрельцов-раскольников глухой, сдержанный ропот, и Хованский воспользовался им. На третий день после этой казни стрельцы, по наущению Хованского, явились перед Красным крыльцом и потребовали выдачи тех бояр, которые считались недругами их главного начальника. Предлогом к тому выставлялось намерение этих бояр перевести стрелецкое войско. Правительница решительно отказала стрельцам в таком требовании, пригрозив, в случае их упорства, крутою с ними расправою.
– Детки! – сказал стрельцам Хованский, выходя из боярской думы, где состоялось решение об обуздании строгостью своевольства стрельцов. – И мне из-за вас грозят бояре, ничего не могу я поделать! Как хотите, так сами и промышляйте.
Стрельцы вняли этому внушению и стали «промышлять». Начались опять между ними волнения. Послышались снова набат и барабанный бой и грозные крики: «Любо, любо, любо!» – в ответ на предложение заводчиков мятежа отобрать ненавистных бояр у государей силою. Но теперь было уже не прежнее время. Правительница бодрствовала, она ободряла бояр и противопоставляла волновавшимся стрельцам своих приверженцев. Смятения продолжались два дня, но Софья одолела.
Когда волнение улеглось, Софья 19 августа поехала из Москвы в село Коломенское, любимое местопребывание ее отца, где он построил обширный дворец самой затейливой архитектуры. В этом селе проводила часто царевна свое детство и теперь отправилась туда, чтобы привести в исполнение свой смелый замысел, который должен был обеспечить за нею державную власть. Как живо чувствовалась царевне резкая перемена в ее судьбе, когда она, подъезжая к Коломенскому полновластною правительницею обширного царства, вспомнила о прежнем своем подневольном положении, доходившем до того, что даже попытка приподнять из любопытства край тафтяной занавесы у окна колымаги считалась грехом и преступлением.
Из Коломенского правительница потребовала к себе преданный ей стремянный полк.
– Не отпущу я его из Москвы, назначен он для похода в Киев, – отвечал Хованский, как будто не ставя ни во что повеление правительницы.
Но Софья настоятельно приказала исполнить ее требование, и Хованскому пришлось уступить царевне.
Находясь в Коломенском, Софья Алексеевна продолжала править государством, так как большая часть бояр поехала туда вместе с нею, другие же разъехались на летнее время по своим поместьям и вотчинам, так что из всех знатных лиц оставался в Москве один только Хованский.
Наступило первое число сентября. В этот день, по старинному церковному летосчислению, праздновалось в России новолетие, или Новый год. Праздник новолетия справлялся в Москве с особенною торжественностью.
1 сентября каждого года народ с самого раннего утра толпился на площади между Архангельским и Благовещенским соборами, и на ней, в присутствии царя, служили молебен. Патриарх, духовенство и вельможи поздравляли государя с Новым годом, а один из бояр говорил ему речь, наполненную похвалами и благодарениями за прошедшее время, а также пожеланиями и надеждами на наступивший новый год. После того все московское духовенство, с крестами, иконами и хоругвями, отправлялось к Москве-реке на водосвятие. Двенадцать стрелецких приказов, или полков, сопровождали этот торжественный крестный ход. В нем участвовал и государь в полном царском облачении. Он шел пешком, вели его под руки стольники, а за ним стряпчие несли полотенце, стул и подножие, или скамейку для ног. Они же, под охраною спальников, несли и так называемую «стряпню», то есть шапку, рукавицы и прочие принадлежности вседневной царской одежды, так как по окончании водосвятия царь снимал с себя торжественное облачение и возвращался во дворец в английской карете, запряженной в шесть лошадей, над головами которых развевались, по немецкому обычаю, пучки разноцветных страусовых перьев. Карета и упряжь блистали золотом. Возницы, правившие с коней, а не на вожжах, были одеты в бархатных кафтанах и с такими же шапками на головах. За государем во время крестного хода шли бояре, а за ними служилые и торговые люди. За небытностью в Москве государей царевна приказала Хованскому, как первому в Москве знатному сановнику, участвовать в этом церковном торжестве. Боярин-раскольник ослушался, уклоняясь от такого слишком поразительного знака уважения к новой вере, и Софья решилась отнять у него за это начальство над Стрелецким приказом.
Занятая этою мыслью, она сидела в своем тереме, когда явившийся к ней стрелецкий полковник, Акинфий Данилов, подал ей бумагу.
– Найдена она была у передних дворцовых ворот, – доложил царевне полковник.
Софья взяла бумагу и в сильном волнении начала читать. На наружной подписи значилось: «вручить государыне царевне Софии Алексеевне, не распечатав». Бумага эта оказалась подметным письмом, в котором какой-то стрелец и двое посадских, не называя себя по имени, но указывая свои особые приметы, извещали правительницу, что князь Иван Хованский намерен объявить обоих государей еретическими детьми, убить их, а также царицу Наталью Кирилловну и царевну Софию, женить на одной из царевен своего сына Андрея, а остальных постричь. Хованский, как говорилось в подметном письме, имел намерение расправиться и со служилыми людьми, и с боярами, побить и тех и других за то, что они старой веры не любят и заводят новую, и когда от всего этого замутится царство, то сделать так, чтобы его, Ивана Хованского, избрали в цари, а в патриархи поставить того, кто любит старые книги.
В памяти правительницы мгновенно ожили рассуждения Голицына о политическом значении раскола, противоставшего еретическому исправлению церковных книг по повелению властей царской и патриаршей. Ожили и последние внушения Милославского о тех опасностях, какими может угрожать царскому правительству Хованский, забравший так много силы в расколе и столь любимый стрельцами.
Немедленно царевна собрала совет из бывших в селе Коломенском бояр. В ту пору подметным письмам придавали вообще большую веру, особенно в тех случаях, если было нужно или хотелось кого-нибудь погубить. Почти все члены временного совета, собравшегося в Коломенском, были заклятые враги Хованского, да и укрывались они там, потому что опасались его враждебных замыслов. Бояре порешили, что подметное письмо выставляет не выдуманные, а истинные намерения Хованского, и предложили правительнице разослать немедленно окружные грамоты во Владимир, Суздаль и другие города, чтобы призвать тамошних дворян к Москве на защиту царского семейства.
– Ты здесь, великая государыня, не в безопасности, – заговорили бояре Софье Алексеевне, – при родителе твоем приходили сюда гилевщики, и большой переполох они наделали. Надлежит на время укрыться великим государям и тебе, благородная царевна, в ближайшем надежном месте, – и, как на такое подходящее место, бояре указали царевне на Саввин-Сторожевский мужской монастырь*, построенный на реке Москве, в полуторах верстах от Звенигорода.
Монастырь этот стоял на горе и был некогда сторожевым укреплением против нашествия Литвы и крымцев. Он был обведен каменною стеною с башнями и бойницами. Туда, по совету бояр, немедленно отправилась Софья со всем царским семейством, и туда же прибыл из своего подмосковного поместья боярин Иван Михайлович Милославский, проведавший, что против его врага, князя Ивана, правительница принимает решительные меры.
XXIV
Еще весьма недавно, покуда железные полосы не легли между Москвою и Троицко-Сергиевскою лаврою*, путь этот напоминал стародавнюю московскую богомольную Русь. По нему почти всегда тянулись нескончаемою вереницею ходившие в лавру или возвращавшиеся оттуда пешие богомольцы. Но в исходе XVII столетия местность эта была еще люднее, как потому, что вообще народ был в ту пору набожнее, так и потому, что по этой дороге цари и царицы московские предпринимали по нескольку раз в год благочестивые шествия, или так называемые «походы», в Троицкую лавру, и ни одной из всех великорусских обителей не приводилось встречать так часто царственных богомольцев, как часто встречала их обитель святого Сергия Радонежского. Не проходило в царском семействе ни одного ни радостного, ни печального события без того, чтобы русские государи и их супруги не отправлялись на поклонение мощам угодника. Царские походы в Троицкую лавру отличались всегда пышною обстановкою. Хотя государи и государыни ходили пешком, но тем не менее их всегда сопровождал многочисленный и разнообразный конный поезд, в особенности если вместе с царем отправлялась в лавру царица с семейством. Кроме длинного ряда колымаг, рыдванов и обозных телег, царский поезд состоял из стрельцов стремянного полка, сопутствовавших государю в качестве телохранителей, бояр, окольничих, стольников и ближних людей, ехавших на конях; всадники эти были одеты в парчу, шелк и бархат. К ним присоединялись царицыны поезжане, ехавшие тоже верхом по-мужски с закрытыми лицами. Многочисленная придворная прислуга, ехавшая и при обозе и шедшая при государе, государыне и их семействе, открывала и замыкала царский поезд, который двигался медленно, соблюдая строгий порядок и тишину, и несколько раз останавливался для отдыха на подхожих станах, в числе которых считалось и государево село Воздвиженское с его путевым деревянным дворцом. На прочих же станах для кратковременного царского пребывания были устроены так называемые вышки.
В сентябре двигался тоже по московско-сергиевской дороге царский поезд, но на этот раз была заметна необычайная спешность в его движении. Колымаги, в которых сидели порознь оба государя, царица и царевны, ехали быстро, по дороге поднимались клубы пыли от мчавшихся во всю прыть всадников; на распутьях выставлялись сторожевые караулы. Сопровождаемые боярами и ратными людьми, государи въехали в Троицкую лавру, которая обратилась тотчас же в военный стан, напоминая этим Смутное время, бывшее до воцарения Романовых. Ни царевны, ни царица не скрывались уже теперь, как прежде, от монахов, которым тоже не было запрета выходить из келий во время их пребывания.
Спустя трое суток по приезде государей по дороге из Москвы в Троицкую лавру двигался другой, тоже большой поезд, но уже далеко не столь многолюдный, как царский. С этим поездом ехал начальник Стрелецкого приказа, боярин князь Иван Андреевич Хованский. Он ехал вполне довольный своею судьбою, так как в бытность свою в Москве получил от великих государей милостивую грамоту «со многою похвалою прежних служб его» и с изъяснением, что «за те его прежние службы он и сыны его достойны высокого назначения, и милости, и чина, и деревень». В этой же грамоте указано было Хованскому приехать, не мешкав, в село Воздвиженское для выслушания царского повеления о принятии ехавшего в Москву сына малороссийского гетмана Самойловича*.
Доехав до села Пушкина, боярин сделал там привал. Он пообедал и в разбитом для него шатре, под горою, за крестьянскими избами, между гумнами, спокойно заснул после обеда, думая о той милостивой встрече, какая ему готовится в Воздвиженском. Но приятный послеобеденный сон боярина был внезапно прерван шумом, поднявшимся около его шатра. Бывшие с ним сорок человек стрельцов и многочисленная прислуга в испуге засуетились.
– Вставай живее, князь Иван Андреевич! Спасайся скорее! Беда! – торопливо крикнул один из выборных стрельцов, вбежав в княжеский шатер.
Не успел еще Хованский опомниться спросонья, как в шатер к нему вошел окруженный царскими ратными людьми боярин князь Иван Михайлович Лыков.
– Собирайся проворнее, князь Иван Андреевич! – повелительно сказал Лыков. – Великие государи указали мне привезти тебя под караулом в Воздвиженское.
Хованский хотел сказать что-то, но в это мгновение на него кинулось несколько служилых людей и, крепко скрутив его веревками по рукам и по ногам, вытащили из шатра, бросили в телегу и повезли, обеспамятовавшего от ужаса, в Воздвиженское.
Поступая так круто с Хованским, Лыков исполнял в точности приказание, данное ему царевною-правительницею по наущению Милославского.
– Трудно будет взять Хованского добром из Москвы; стрельцы отчаянно будут стоять за него. Вымани его, царевна, из Москвы и прикажи боярину князю Лыкову схватить его на дороге. Лыков на него злобствует и спуску не даст, – говорил Милославский царевне, и по его совету была послана в Москву Хованскому зазывная грамота, и в то же время был отправлен навстречу ему князь Лыков.
Лыков опасался напасть открытою силою на Хованского, предвидя со стороны бывших с ним стрельцов упорную защиту их любимого начальника. Поэтому он посылал вперед по московской дороге разведочные отряды, которые следили тайком за Хованским и дали знать, когда представилась возможность напасть на Хованского врасплох.
– А где князь Андрей Иванович? – спросил Лыков, забирая Хованского, у его прислуги.
– Его милость недалече отселе, в своей вотчине на Клязьме, – ответили Лыкову, который немедленно отправился туда, чтобы захватить и молодого князя.
Князь Андрей мог также дать сильный отпор Лыкову, так как у него в вотчине находились и стрельцы, и множество вооруженного народа из его дворовых холопов, но, узнав, что отец его уже захвачен, он сдался без малейшего сопротивления. Его также связали и вместе с отцом повезли в Воздвиженское.
Обрадовался Милославский, увидев, что Хованского так легко поймали в расставленную западню. Желая поскорее избавиться от своего лиходея и опасаясь, что при розыске Хованский может оговорить и его, Милославский повел дело так, что еще до привоза Хованских в Воздвиженское участь их была решена окончательно и боярами и правительницею.
Едва лишь привезли Хованских в Воздвиженское, как их без всяких расспросов прямо повели за село для объявления смертного приговора. Казнь над ними должна была, по настоянию Милославского, совершиться немедленно, хотя было 17 сентября – день именин царевны Софьи.
– Господа бояре! – говорил испуганный и смущенный старик Хованский своим товарищам по царской думе, собравшимся теперь присутствовать при его казни. – Выслушайте от меня о главных заводчиках с самого начала стрелецкого мятежа, от кого он был вымышлен и учинен, и их царским величествам милостиво донесите, чтобы дали нам с теми заводчиками очные ставки. Если же то все, как говорят мои враги, наделал мой сын, то я предам его проклятию.
– Поздно теперь толковать об этом! – крикнул Милославский. – Великие государи порешили казнить тебя за твои злодейства смертью. Выслушай-ка лучше свой приговор.
Изумленными глазами смотрели Иван Хованский и его сын на Милославского и других бояр, в то время когда с них снимали кафтаны, отрывали вороты их рубашек и связывали им назад руки, а заменявший палача стремянной стрелец пробовал пальцем только что отточенное лезвие простого деревенского топора.
Окончились все приготовления к казни, и выступил в середину составившегося около Хованского круга дьяк Федор Шакловитый* и начал читать громким голосом написанный им заранее приговор о винах Хованских.
В приговоре этом старик Хованский обвинялся в том, что он «всякия дела делал по своим прихотям, не докладывая государям», «что он государеву казну истощил и выграбил, всему же государству тем учинил великое разорение и людям тягость», «что он учинил великим государям бесчестие», «держал мучительно за решетками и за приставы многих людей мучительно», «чинил жестокие правежи», «многих людей обесчестил, изувечил и разорил», «царское величество преслушался». Затем в приговоре, читанном Хованскому, объявлялось, что он говорил при государях и боярах, «будто все государство стоит по его кончину, и когда его не будет, то не спасется никакая плоть», что он, «совокупя проклятых раскольников, Никиту Пустосвята с товарищами, ратовал на святую Церковь» и «оберегал их от казни». Винили его и в том, что он не отпускал стрельцов против башкир и калмыков, а также и в Коломенское, что он не был «у действа нового лета и тем своим непослушанием то действо опорочил, святейшему патриарху досаду учинил и от всех народов в зазор привел». Обвиняли старика Хованского и в том, что он делал изветы на дворян новгородских, «облыгал надворную пехоту», а сам говаривал ей смутные речи. В заключение упоминалось о подметном письме, с которым «сходны были воровские дела и измена Хованского».
Кроме того, старик Хованский и его сын обвинялись еще и в том, что они при великих государях и при всех боярах «вычитывали свои службы с великою гордостью, будто никто так не служивал, как они», тогда как, – говорилось в приговоре, – всюду, где ни бывали Хованские, «государских людей своевольством своим и ослушанием их государских указов и безумною своею дерзостью они напрасно теряли и отдавали неприятелям». Обвинялись оба Хованские и в том еще, что «в палате дела всякие отговаривали против их государскому указу и Соборному уложению с великим шумом, невежеством и возношением, и многих господ своих и всю братию бояр бесчестили и нагло поносили и никого в свою пору не ставили, и того ради многим граживали смертью и копиями».
Слушая этот длинный и разнообразный приговор, старик Хованский только отрицательно покачивал своею седою головою, а сын его пожимал по временам плечами и вопросительно взглядывал на отца.
– И великие государи, – возгласил Шакловитый, окончив чтение обвинительных статей, – указали вас, князь Иван и князь Андрей Хованских, за такие ваши великие вины, и за многие воровства, и за измену – казнить смертью.
Старик Хованский понял, что всякие оправдания будут теперь напрасны. Молча, со злобным укором оглянул он бояр, исполнителей казни, подошел к заранее приготовленной плахе и положил на нее свою голову. Один стрелец схватил его за волосы, другой махнул топором, и отсеченная голова упала на землю, а подле нее рухнулось туловище.
С воплем кинулся молодой Хованский к плахе, с трудом нагнулся он со связанными назад руками, поцеловал сперва бледную голову отца, а потом его грудь, выпрямился горделиво во весь рост и, так же молча, как его отец, положил свою голову на плаху, уже залитую родною кровью. Стрелец махнул топором в другой раз, и голова князя Андрея отделилась от тела.
Третьим взмахом топора была отсечена на той же плахе голова Бориса Одинцова, одного из самых преданнейших людей Хованского.
Обезглавленные трупы обоих князей были положены в один гроб и ночью отвезены в село Городец, находящееся в недальнем расстоянии от Воздвиженского.
Вздрогнула и побледнела царевна, узнав о казни Хованских. К устрашавшему ее призраку красавца-юноши Нарышкина прибавились еще три новые тени. Не слишком, однако, поддавалась она страху, оправдывая себя в совершенных казнях необходимостью спасти Церковь и государство и успокаивая себя тем, что приговоры об этих казнях были поставлены не ею, а боярами. Двадцатичетырехлетнюю девушку-правительницу, решительную и властолюбивую, гораздо более смущали не призраки мертвецов, а живые люди.
В числе стольников царя Петра Алексеевича был младший сын Ивана Хованского, князь Иван. Узнав о казни отца и брата, он тотчас вскочил на коня и без оглядки помчался в Москву из Троицкой лавры. К ночи он был уже там. Прискакав в стрелецкую слободу, он приказал ударить набат и сбор. Проворно на этот тревожный призыв сбежались стрельцы к съезжим избам.
– Отца и брата моего, князя Андрея, убили бояре, без розыска, без суда и ведома царского! Переведут они и вас, – кричал Хованский собиравшимся около него стрельцам.
Начавшийся в стрелецкой слободе набат все далее и далее расходился над Москвою, и снова грозно загремели в ней стрелецкие барабаны. Стрельцы кинулись в Кремль и обставили его кругом орудиями, взятыми с пушечного двора.
– Хотят нас вырезать бояре всех до последнего младенца, а дома наши сжечь, – кричали озлобленные стрельцы, толпясь перед патриаршими палатами.
– Пойдемте, братцы, сами против бояр! Чего нам ждать, когда они нападут на нас! – говорили смелейшие, подбивая своих товарищей к походу в Троицкую лавру.
– Надо прежде поговорить с патриархом, он без царя начальный человек в Москве. Потребуем от него, чтобы он разослал в украйные города грамоты с приказанием тамошним служилым людям идти к Москве на нашу защиту, – советовали некоторые из стрельцов своим слишком горячившимся товарищам.
На этом совете остановились, и выборные отправились к патриарху, который вышел к ним в Крестовую палату.
– Не смущайтесь, чада мои, прелестными словами, ждите царского указа и самовольно к царям в поход не ходите! – начал увещевать святейший Иоаким.
– Ведай, старче, – закричал ему один из выборных, – что если ты с боярами за одно мыслишь, то мы убьем и тебя, никому пощады не дадим!
Патриарх увидел бесполезность дальнейших увещаний. Со страхом удалился он в свои хоромы, а стрельцы между тем безвыходно толпились в Крестовой палате, все сильнее и сильнее негодуя на патриаршую «дурость».
– Пойдем на бояр! – вопили они в палате.
– Успеем еще, подождем царского указа! – унимали другие.
Наступила ночь. Набат продолжал гудеть. Стрельцы вооружались и укрепляли Кремль. Переводили туда свои семьи, перекапывали улицы, строили надолбы и ожидали нападения служилых людей, бывших при царях в Троицкой лавре. В то же время и там укреплялись против ожидаемого нападения стрельцов: втаскивали на раскаты пушки, расставляли стражу по зубчатым стенам монастыря. Высылали на дорогу разведочные отряды и устраивали в оврагах и лесистых местах засады для наблюдения за движением стрельцов в случае их похода из Москвы. Во всех этих распоряжениях Софья принимала деятельное участие, вверив оборону лавры князю Василию Васильевичу Голицыну с званием ближнего воеводы.
Напрасны, однако, были все эти приготовления. Стрельцы пока не двигались на лавру.
Софья между тем принимала все меры для утишения стрельцов. Она послала в Москву указ о казни Хованских и думного дворянина Голосова* для объяснения со стрельцами.
– Скажи им, – говорила царевна, отпуская в Москву Голосова, – чтобы за Хованских не заступались. Скажи им также, что суд о милости и казни поручен от Бога царям-государям, а им, стрельцам, не только говорить, но и мыслить о том не приходится. Объяви также стрельцам через патриарха, что им опалы не будет, если принесут повинную и пришлют в лавру по двадцати человек лучшей своей братьи от каждого полка.
– Зачем нам идти в поход к государям? – заговорили стрельцы после того, как им был прочитан указ о казни Хованских. – Сами государи наших лиходеев изводят. Вот ведь и князю Ивану Андреевичу отрубили голову за то, что он «облыгал» нас, надворную пехоту, перед государями, а сам мутил нас своими речами. Казнь его праведна.
Быстро переменилось мнение стрельцов об их погибшем, прежде столь любимом начальнике. Принялись теперь стрельцы порицать Хованского и за то, и за другое и, наконец, порешили, что мстить за него боярам не приходится. Стали они также убеждаться и в том, что на них из лавры нападать не желают. Преданные царевне люди внушали стрельцам, чтобы они вполне успокоились. Стрельцы присмирели и стали просить патриарха, чтобы он уговорил государей возвратиться в Москву.
27 сентября выборные отправились в лавру и на пути встречали сильные отряды дворян и служилых людей. Окруженная в укрепленном монастыре и теми и другими, смело и грозно заговорила правительница с прибывшими к ней стрельцами. Теперь она вышла к ним одна, без царевен, лишь с немногими боярами, не возбуждавшими к себе в стрельцах особой ненависти.
– Люди Божии, как вы не побоялись поднять руки на благочестивых царей? Разве забыли вы крестное целование? Посмотрите, до чего довело ваше злодейство: со всех сторон ратные люди ополчились на вас. Вы именуетесь нашими слугами, а где ваша служба, где ваша покорность? Раскайтесь в ваших винах, и милосердные цари помилуют вас; если же не раскаетесь, то все пойдут на вас.
Выборные повалились царевне в ноги, заявляя, что у стрельцов нет злого умысла ни против царей, ни против бояр. Правительница отпустила их всех из лавры, а в Покров привезена была туда челобитная, в которой стрельцы клялись служить верно государям, без измены и шаткости, прежних дел не хвалить и новой смуты не заводить. 5 октября стрельцам, созванным в Успенский собор, было объявлено царское прощение, но правительница ожидала, пока они совсем успокоятся, и только 6 ноября она и все царское семейство вернулись в Москву, а 6 декабря думный дворянин Федор Леонтьевич Шакловитый был назначен начальником Стрелецкого приказа, со званием окольничего. Возвышение его было и неожиданно и чрезвычайно быстро.
Стрелецкие и раскольничьи смуты, подавленные царевною, придавали молодой девушке все более и более самоуверенности и твердости. Все сильнее и сильнее чувствовала она власть, бывшую теперь в ее руках, и, по выражению одного современника, правила государством «творяще, яже хотяй».
По возвращении в Москву из лавры она начала деятельно заниматься государственными делами. При этом главным пособником и постоянным ее руководителем стал князь Василий Васильевич Голицын. В то же время царевне пришел на память разговор с Милославским о том, что ей для государственных дел нужен «оберегатель», и она повелела Голицыну именоваться и писаться «новгородским наместником, царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегателем и ближним боярином».
XXV
– Ты, Митька, сбегал бы на Ивановскую колокольню посмотреть на солнце; кажись, сегодня оно ясно взойдет! – говорил строитель Спасского монастыря, что за Иконным рядом, Сильвестр, в мире Семен Медведев, вставши на рассвете и выглянув в окно своей кельи.
– Отчего же не посмотреть? Давно я этого не делал, может быть, что-нибудь и новое увижу, – отвечал на это приказание нечистым русским говором живший при келье строителя мирянин Дмитрий Силин и, схватив проворно картуз, побежал смотреть на солнце.
Вскоре после него вышел из кельи и отец строитель. Осмотрев, все ли в порядке в его богохранимой обители, он вернулся в келью и начал там рыться в бумагах и книгах, а спустя некоторое время вернулся в его келью побывавший на Ивановской колокольне Силин. Он шел по монастырскому дворцу приунылый, понурив голову.
– Ну, что же ты видел? – спросил его торопливо Сильвестр.
Митька молчал.
– Верно, что-нибудь нехорошее, – добавил строитель.
– Так и есть, да только не пугайся, превелебный отец; это, должно быть, только временно, потом будет лучше, – успокаивал Силин.
– Да кто тебе сказал, что я боюсь? Рассказывай, что такое! – и Сильвестр опустился в кресла, готовясь выслушать сообщение Митьки.
– Видел я, – заговорил смело Силин, – что у государей царские венцы на головах, у князя Голицына было два венца, один царский – тот мотался на спине, а другой брачный – тоже мотался, да только на груди, а сам боярин стоял темен и ходил колесом; ты, отец, тоже был темен, как и он, царевна печальна и смутна, а Федор Леонтьевич стоял, повесив голову…** ></emphasis> ** Подлинные слова Силина.
– Что ты за вздор несешь? Да как же боярин будет вертеться колесом? – перебил насмешливо отец строитель.
– Да вот поди же, вертелся, а как, я показать тебе этого не смогу. Да и мало чего не может быть на земле, а бывает в солнце; ведь у князя не мотается же два венца, а в солнце я их видел, – с уверенностью возразил Силин.
– Верно, ты так же умеешь хорошо смотреть в солнце, как умеешь лечить. Покойный отец Симеон вызвал тебя из Польши, чтобы ты вылечил глаза царевичу Ивану Алексеевичу; ты взялся за это, а что сделал? – с пренебрежением сказал Сильвестр.
– Да кто его вылечит? Разве знал я, живучи в Польше, что он почти слепой, да и лечить-то его не потреба, скоро он умрет, – возразил Митька.
– Болтай-ка побольше, так тебя отлично проучат в приказе Тайных дел. Хвастунишка ты и враль! Ступай, я позову тебя, когда будет нужно.
Митька вышел. Хотя же Сильвестр и говорил с ним не только равнодушно, но и насмешливо, но по уходе его крепко призадумался.
«А ведь, пожалуй, – размышлял он, – Митька и правду сказал. У князя Василия могут быть два венца: царский за спиною, который достать трудно, и брачный на груди, который достать ему легче. Да и колесом в иноскательном смысле он вертеться может, то есть может действовать как колесо в огромной государственной махине… Эх, эх! Что-то будет? Не сочинить же так ловко самому Митьке, глуп он!»
Он стал перечитывать и поправлять с особенною тщательностью те места своих записок, в которых говорилось о царевне Софье.
– «Премудрый Бог, – читал вполголоса Сильвестр, – яко Сый, все в себе объем, и в длани своей концы земные держай, благоволил в промысле своем удивляти людей, да и ненадеющиеся, надежду имевши, возглаголют: яко есть Бог, сотворивший вся и оною твариею промышляяй и яко и древние роды чудодействуя жены мудрыя. К пособию правлению царства благочестивейшего царя и великого князя Петра Алексеевича, в юных его летех воздвиже сестру его, благородную царевну и великую княжну Софью Алексеевну, ей же даде чудный смысл и суждение неусыпным сердца своего оком непрестанно творяще к российскому народу великий труд».
Сильвестр продолжал прочитывать и поправлять свои сказания, когда к нему в келью вошел высокий и статный мужчина, лет около тридцати пяти, щегольски разодетый. Пышный наряд вошедшего мужчины как нельзя более соответствовал его представительной наружности.
– Спасибо тебе, земляк, что не зазнаешься и не забываешь меня, – приветливо сказал монах вошедшему к нему Шакловитому.
– С чего же мне перед тобою, отец Сильвестр, зазнаваться? Перед другими, пожалуй, что и зазнаюсь вскорости, а тебе я слишком много обязан! Пошли мне твои советы на пользу, да и теперь я пришел к тебе посоветоваться! – сказал гость, дружески поцеловавшись с хозяином.
– А что, Федор, думал ли ты, живя со мною в Новоселках, что дойдешь когда-нибудь до такой великой чести в царствующем граде Российского государства? Помнишь, как мы, бывало, с тобою иной раз в пустынный Курск завернемся, так и там никто на нас смотреть не хотел. Впрочем, я-то и теперь только смиренный иеромонах, а ты уже стоишь на чреде боярской…
– Погоди, Сильвестр, – сказал одобрительно Шакловитый, – станешь и ты скоро на такую высоту, о какой тебе и не думалось.
– Нешто и я доберусь до пестрой патриаршей ризы? – полушутя и полууверенно спросил монах.
– Отчего ж не добраться, если только удастся то, что задумал я и о чем пришел потолковать с тобою? – проговорил твердо окольничий.
– А что же такое ты задумал?
– Задумал я женить князя Василья Васильевича на царевне Софье Алексеевне, объявить его царем, самому стать при нем первым лицом, а тебя, земляка, поставить патриархом московским и всея Великия, Малыя и Белыя России.
Сильвестр добродушно засмеялся.
– Смел ты больно!.. Хватит ли у тебя на то сил? – спросил он с выражением сомнения.
– Сил-то как не хватить, когда стрельцы у меня под рукою! А хватит ли у меня уменья без твоих разумных советов?
– Ведь вот какие диковинные затеи у тебя в голове! Об них небось мы не только не смели сами помыслить, когда служили вместе в приказе Тайных дел подьячими, да еще ловили и пытали таких затейщиков! – смеясь, проговорил Сильвестр.
– Прежняя служба пошла мне впрок, на ней ко многому я присмотрелся и многому научился; да времена-то теперь не те: из простого приказного попал я в окольничие, из бедного стал богатым; царевна пожаловала мне много вотчин и отписной двор в Белом городе на Знаменке. Неужели же остановиться на этом и не попытаться идти далее? – говорил Шакловитый.
– Ну, так если уже ты пришел ко мне, Федор Леонтьевич, за советом, скажу тебе вот что: нужно, чтобы царевна венчалась на царство и объявила себя самодержицею, тогда власть ее не только будет равно власти ее братьев, но, как старшая между ними, она будет первою царствующею особою. А о браке князя Василия с правительницею пока не думай. Еще Бог знает кто может быть ее суженым! – сказал загадочно Сильвестр.
Шакловитый вопросительно взглянул на него и призадумался, а монах замолчал.
– Да кто же, кроме князя Василья, может быть достоин ее руки? – заговорил Шакловитый.
– Ну, Федор Леонтьевич, в истории разные случаи бывали. Да и что тебе за нужда идти в сваты? Выбрать мужа будет делом самой царевны, а ты только устрой при помощи стрельцов так, чтобы она венчалась на царство, а без этого ничего не выйдет. Подрастет царь Петр и отнимет у нее правление. Смотри, каким орлом этот малолеток и теперь уже выглядывает! Не даст он царевне долго оставаться с ним в одном гнезде, выживет ее оттуда.
Черные глаза Шакловитого злобно сверкнули, и судорожная дрожь подернула его губы.
– Ну, это еще посмотрим! – насупясь, промолвил он. – Хотя орел и знатная птица, да ведь и ее общипать можно!.. А что, отец Сильвестр, погадал ты мне на звездах?
Сильвестр вздрогнул, медленно приподнимаясь с кресел. «Ох, ох! Плохо тебе будет!» – подумал он и, подойдя к полке, приделанной вдоль стены, достал с нее ворох бумаг и выбрал оттуда один листок.
– Вот твой жребий, – сказал он, показывая Шакловитому кусок бумаги, исчерченный кругами и линиями, исписанный цифрами со множеством вычислений и помарок и искрещенный разными непонятными фигурами.
– Ничего я тут, отец Сильвестр, в толк взять не могу! – сказал он.
– Еще бы захотел понять что-нибудь! Всему, брат, нужна наука. Разъяснить эти чертежи, фигуры и цифры может только такой звездочет или астролог, как я, – не без самоуверенной гордости заметил монах. – Смотри, – качал он, положив на стол бумагу и указывая на ней циркулем, – вот здесь будут знаки Зодиака, а здесь идут планиды, а тут звезды…
Шакловитый приготовился слушать внимательно объяснения Сильвестра, как вдруг вбежал в комнату молодой келейник.
– Боярин князь Василий Васильевич пожаловал к тебе, отец строитель! – торопливо крикнул келейник.
Сильвестр и Шакловитый взглянули в окно.
По дорожке, обсаженной по сторонам молодыми березами и ведшей к хоромам строителя, важно и медленно шел сановитый Голицын. Монах и окольничий поторопились выйти к нему навстречу, но, прежде чем успели подойти к боярину, к нему уже подбежал завидевший его Силин. Митька упал на колени перед князем и раболепно поцеловал полу его ферязи, а боярин снисходительно протянул ему свою руку, которую он тоже поцеловал.
– Поди-ко сюда, – подмигнул ему Голицын, вызывая его с дорожки на лужайку.
Заметив, что боярин хочет говорить с Митькою наедине, Сильвестр и Шакловитый приостановились.
– Ну что же, Митька, гадал ты мне в солнце? – полушепотом спросил Голицын. – Что же ты узнал?
– Ты любишь чужбину, и она тебя любит, а свою жену ты забыл, – шепнул ему на ухо Митька и, тотчас же отскочив от боярина, встал почтительно за его спиною.
Голицын как будто пошатнулся при этих словах Митьки и нахмурил брови.
– Глупости ты городишь! – сказал он ему через плечо, полуоборотя к нему свое лицо.
– Ни, не глупства, наияснейший князь, не глупства я молвлю, а правду, – смело возразил поляк.
Голицын сделал вид, что не слышит этого возражения, и пошел далее. Сильвестр и Шакловитый поспешили к нему. Боярин, сняв шапку, подошел под благословение отца строителя и приветливо кивнул головою окольничему, как близкому человеку.
Вошедшего в келью Голицына Сильвестр усадил в кресло около стола.
– А ты, отец Сильвестр, по-прежнему занимаешься отреченною наукою?* – начал князь, увидев попавшийся ему на глаза гороскоп Шакловитого. – Смотри, сожжем мы тебя когда-нибудь на Болоте в срубе за колдовство!
– Это, боярин, не колдовство, а наука, – заметил Сильвестр.
– У нас, на Москве, наука и колдовство почитаются за одно и то же, – возразил Голицын.
– Правда твоя, боярин, не только черный народ, но и служилые люди и даже боярство куда еще не просвещенны у нас. Для них разгадка тайностей природы кажется чародейством, тогда как познание таковых тайностей ведет к познанию величия Божьего! – говорил монах.
– Ну, знаешь, отец Сильвестр, по-моему, хотя в природе и есть божественные тайности, однако же бывает и колдовство, – начал поучительно Голицын, отличавшийся при всем своем уме большим запасом суеверия.
Шакловитый с напряженным вниманием, как бы переходившим в благоговение, стал прислушиваться к завязывавшейся беседе между Сильвестром и Голицыным, считавшимися в ту пору самыми умными и просвещенными людьми не только в Москве, но и во всем Московском государстве.
– Как, например, постичь то, что я однажды, в тысяча шестьсот семьдесят пятом году, сам видел в царском дворце и о чем покойный царь Алексей Михайлович указал, на память будущим векам, записать в дворцовых книгах? А видел я вот что: какой-то простой заезжий в Москву человек положит на стол ножи, а потом они вдруг на пол-аршина, а почитай, что и более, поднимутся над столом невидимою силою, да мало того, что поднимались сами, а поднимали за собою без всякой привязи и деньги, и венки из цветов. Думали все, что тут дьявольское наваждение, ан нет, совсем не то. Позволял он всем крестить ножи, читать над ними: «Да воскреснет Бог» – и кропить их святою водою, а они и после того поднимались со стола по-прежнему. Доказательно стало тогда всем, что нечистой силы тут нет, хотя, как известно, она при оплошке человека горазда действовать разными обмороченьями.
– Да, при крестном знаменье, молитве и при святой воде нечистой силе ходу не бывает, – глубокомысленно заметил Сильвестр, – тут должна быть наука.
– Вот о расширении-то ее в российских пределах и нужно нам усердствовать. К слову: когда же ты, отец Сильвестр, приготовишь привилегию на академию для поднесения ее правительнице-царевне? Ведь она ждет ее с нетерпеливостью. Ты хорошо знаешь ее ревность к наукам?
– Как не знать! Сперва от покойного Симеона слыхал, а потом и сам в том убедился. Дивлюсь ей, дивлюсь и дивиться не перестану! – с восхищением говорил Сильвестр.
– Совсем на иную стать она теремную жизнь повела, и сдается мне, что скоро придет пора, когда царством Московским будут править женщины да книжные люди, – с уверенностью сказал Голицын.
– Если Господь Бог потерпит грехи наши и продлит благословенное правление царевны, – озабоченно промолвил Сильвестр, – царь Петр подрастет…
– И изведет он нас всех! – вдруг с озлоблением крикнул не выдержавший Шакловитый.
Голицын исподлобья взглянул на него.
– Не изводить же его нам, – сказал сурово боярин.
– К чему посягать на царское величество! – перебил Сильвестр. – И без такого страшного злодейства обойтись можно. От чего бы, например, правительнице не венчаться на царство и не объявить себя самодержавною? Тогда бы она стала вровень с братьями-царями и власть ее была бы без нынешней шаткости, – сказал Сильвестр.
Шакловитый одобрительно кивал головою в то время, когда говорил монах.
– Мы здесь люди близкие между собою, – начал Голицын, – и скажу я тебе, отец Сильвестр, что мне часто приходит на мысль то, о чем ты теперь говоришь. Да подождать надо. Вот как покончим мы переговоры со шведскими послами, заключим мир с Польшею да сходим в Крым войною на басурманов, тогда прославится во всей вселенной правление премудрой царевны Софьи Алексеевны, и можно будет подумать об ее венчании на царство. А до той поры нужно только подготовлять к этому наш народ, потому что женское правление для него не за обычай.
Сильвестр и Шакловитый проводили Голицына за монастырские ворота. Против тогдашнего обыкновения бояр Голицын ездил в колымаге без многочисленной прислуги. С ним были только два вершника, которых он, разъезжая по Москве, посылал иной раз с дороги за приказаниями к разным должностным лицам. Из Заиконоспасского монастыря Голицын поехал осматривать строившуюся тогда по его распоряжению на главных улицах Москвы бревенчатую и дощатую мостовую для уничтожения в городе той грязи, которая в осеннюю и в весеннюю пору не позволяла иногда ни проехать ни пройти. Под главным надзором Голицына работа шла чрезвычайно деятельно. Заехал также Голицын и к нынешнему Каменному мосту на Москве-реке. На берегу ее, в этом месте, работа кипела еще деятельнее; тут занято было множество народу: одни свозили камень, другие тесали его, третьи устраивали на реке плотину.
– Бог на помочь! – весело смотря на кишевшую толпу рабочих, крикнул Голицын, завидев идущего к нему монаха с чертежом в руке, в сопровождении нескольких рабочих, которые шли за ним с мерными саженями, аршинами, лопатами и бечевками.
Голицын вышел из колымаги и подошел к берегу реки, приняв благословение от монаха.
– Живо, честный отец, идет у тебя работа! – сказал Голицын.
– Благодарение Господу! Задержки и препятствий пока никаких нет; кладу теперь первый устой, и, кажись, будет прочно.
– Оканчивай, оканчивай поскорее, – одобрял Голицын, – соорудишь ты мост, соорудишь себе и славу, и имя твое памятно будет в Москве вовеки, – предсказывал боярин строителю Москворецкого моста, впрочем, ошибочно, так как имя его не сохранилось в потомстве. – Говорят, – продолжал Голицын, – что я люблю иноземцев. Правда, я люблю их за познания, но если я найду знания у православного русского человека, то всегда предпочту его каждому иноземцу. Ведь вот сколько иностранных архитекторов и художников вызывалось построить мост, а я все-таки доверил тебе это дело, преподобный отец, зная, что ты своими знаниями и сметливостью по строительной части не уступишь никому из иноземцев.
Голицын хвалил и ободрял монаха-техника и возвратился домой чрезвычайно довольный тем, что предпринятые им постройки идут так успешно.
XXVI
Царевна Софья Алексеевна вошла в довольно просторную комнату, в которой стены и потолок были обиты гладко выстроганными липовыми досками, а в углу была каменка – невысокая, с большими створчатыми дверцами печь из зеленых изразцов. Около одной стены этой комнаты стояла широкая с деревянным изголовьем лавка, с набросанными на нее свежими душистыми травами и цветами, покрытыми белою как снег простынею, а подле лавки были две большие лахани и шайка из липового дерева. У другой стены была поставлена постель, прикрытая шелковым легким покрывалом, с периною и подушками, набитыми лебяжьим пухом. Пол этой комнаты был устлан сеном и можжевеловыми ветвями, с разбросанными по ним березовыми вениками, которые в огромном количестве доставлялись в Кремлевский дворец в виде оброка из царских вотчин. Комната, в которую вошла Софья, не имела окон, а освещалась несколькими привешенными к потолку слюдяными фонарями. В ней была баня, или так называемая «мыленка». Вода сюда поднималась из Москвы-реки посредством машины, устроенной для Кремлевского дворца каким-то хитрым немцем, которому царь Алексей Михайлович, как говорили, заплатил за эту не виданную еще в Москве выдумку несколько бочонков золота, а ненужная вода стекала с полу «мыленки» в реку через свинцовые трубы.
Сопровождавшие царевну постельницы сняли с нее обычную одежду и принялись мыть ее и парить, а потом она понежилась с часик на лебяжьем пуху в душисто-бальзамическом воздухе роскошной «мыленки».
По выходе из «мыленки» царевна пошла в мастерскую палату, или «светлицу», просторную комнату со многими большими окнами. Здесь до пятидесяти женщин и девушек шили постоянно наряды для цариц и царевен. В мастерской можно было насмотреться на все ткани, составлявшие тогда предмет роскоши. Там были: аксамит, или парча, с шелковыми разводами или узорами, венецианский бархат, объярь – тяжелая шелковая материя, атлас, «зуфь» – нечто вроде камлота*, тонкие арабские миткали* и кисея, привозимая из Крыма. Царевна захотела посмотреть, как идет работа по заготовке пышного царственного облачения, в котором она через несколько дней должна была принять приехавших в Москву шведских послов. В обыкновенную пору мастерицы заняты были не одним только шитьем одежды, но и заготовлением белья, а также шитьем облачения, вышивкою золотом и шелками пелен, воздухов, плащаниц и икон с мозаичных рисунков, и всеми этими предметами делались от царской семьи приношения в церкви и во святые обители. Заготовлялись также в мастерской палате разные подарки для европейских государей, турецкого султана и крымского хана. Вообще, там всегда шла самая деятельная работа под надзором ближних боярынь, царевен и самих цариц. Теперь все эти работы, для которых так называвшиеся «знаменщики» рисовали узоры, были приостановлены на время, так как вся мастерская палата спешила окончить для царевны ее великолепный наряд.
Заглянула, кстати, царевна и в кладовую, или, по-нынешнему, в гардеробную, где хранились разные принадлежности ее туалета. Там на «столбунцах», или болванах, были надеты зимние и летние шляпы царевны. Летние ее шляпы были белые поярковые* с высокою тульею; поля этих шляп, подбитые атласом и отороченные каемкою из атласа, были глянцевитые, так как они окрашивались белилами, приготовленными с рыбьим клеем. Шляпы по тулье были обвиты атласными или тафтяными лентами, расшитыми золотом и унизанными жемчугом и драгоценными камнями. Ленты эти шли к задку шляпы и там распускались книзу двумя длинными концами, к которым были пришиты большие золотые кисти. Летние шляпы составляли важную статью в наряде тогдашних московских щеголих, и у царевны Софьи было в кладовой до шести таких шляп. Здесь же хранились и зимние ее шапки с бобровыми и собольими околышами и с небольшим мыском спереди, а бархатные их тульи были сделаны «столбунцом», или, говоря иначе, имели цилиндрическую форму, и были вышиты разными узорами, изображавшими пав, единорогов и орлов не только двуглавых, но даже и осьмиглавых. Хранились также в кладовой и другие головные уборы: меховые каптуры и треухи. Каптуры – убор вроде капора с тремя широкими лопастями мехом вверх, прикрывавшими затылок и часть лица с обеих сторон, а треухи – название слишком неблагозвучное для нынешних дамских мод – были такого же покроя, как и каптуры, с тою разницею, что у них соболий или бобровый мех был подкладкою, а покрышкою служил атлас, унизанный яхонтами* и алмазами.
Кладовая была наполнена крашеными сундуками, обитыми белым железом, и коробами, в которых, при несуществовании еще в ту пору в Москве шкафов, были сложены парчовые и бархатные наряды царевны, а также и «белая ее казна», то есть носильное и спальное белье. Спрятаны были также в сундуках и коробах и другие принадлежности одежды царевны. Там были телогреи, распашное платье, которое спереди застегивалось пуговками или завязывалось лентами, рукава же телогреи не надевались на руки, но откидывались назад на спину. Шились они из тяжелой шелковой ткани и окаймлялись золотым кружевом. Хранились там и летники, и опаненицы*, и охабни, теплые на меху чулки, и «четыги» и «чедоги» – сафьянные чулки без подошв, которые царевна, как и другие богатые женщины, носила в комнатах.
Заготовляемый для царевны в мастерской палате наряд поспел к назначенному сроку, и в день приема шведских послов спальницы и сенные девушки спозаранку ожидали царевну в ее уборной. Уборная Софьи Алексеевны во многом отличалась от того, чем была бы она, если бы царевна жила в наше время, но, несмотря на то что почти два века отделяют нас от той поры, к которой относится наш рассказ, уборная московской царевны сходствовала в главных чертах с уборною современной дамы, так как и там можно было найти все, что, по тогдашним понятиям, должно было придавать особую привлекательность женской наружности.
На одном из столов, бывших в уборной, лежала поднесенная царевне ее наставником, Симеоном Полоцким, рукопись под заглавием: «Прохладные, или избранные, вертограды от многих мудрецов о различных врачевских веществах». В этом сочинении смиренный инок поучал свою молоденькую питомицу, «как наводить светлость лицу, глазам, волосам и всему телу». Надобно полагать, что автор помянутой рукописи, хотя и человек «ангельского чина», был в свое время знатоком по части косметики. Он поучал царевну, что овсяная мука, смешанная с белилами и варившаяся в воде, была лучшим умыванием «для белизны и светлости лица», что «ячмень, толченный без мякины» и варенный в воде «до великия клейкости», служит лучшим средством против загара, а развар сарачинского пшена* «выводит из лица сморщенье», что вода из бобового цвета или травы «выгоняет всякую нечистоту и придает телу гладкость», что бобовая мука, если ею тереть тело, «ставит его гладким», а «сок из корени бедренца* молодит лицо». Как лучшее косметическое средство, всесведущий отшельник рекомендовал росу, собираемую с цвета пшеничных колосьев. «Принимай корицу в брашне, – наставлял он далее царевну, – и лепостна станешь», то есть прибавляй в кушанье корицы – и будешь красавицею. Он сообщал также, что «гвоздика очам светлость наводит», и писал: «Прими на тощее сердце мушкатный орех и благолепие лицу наведешь».
Вероятно, преподобный отец нашел бы ныне не много охотниц, которые, с верою в действительность, стали бы употреблять его наружные смази, или, как он называл их, «шмаровидла», заимствуя это название из польского языка, и предлагаемые им внутренние средства для наведения светлости, гладкости и благолепия лицу, очам и всему телу; но царевна, должно быть, следовала внушениям своего мудрого наставника. В уборном ее ларце были: белила, румяны, сурмила, клей для равнения и вывода в дугу бровей. Были также в том ларце ароматы и «водки» – этим именем, никак уже не подходящим к изысканности дамского туалета, назывались в ту пору духи. Были у царевны также бальзамы и помады; и все, употребляемые как ею, так и другими царевнами и царицами, косметики заготовлялись или в аптекарской палате по рецепту врачей, или «комнатными бабками», то есть лекарками. Водки и жидкие притиранья хранились у царевны в сулейках* или стклянках, а густые или сухие притиранья – в погребцах, ящиках и коробочках или были разлиты по золотым ароматикам (флаконам), украшенным финифтью и алмазами.
В уборной царевна разделась до белой полотняной сорочки с короткими рукавами и с воротом, стянутым шнурком, и тогда начался ее туалет. Прислужницы не надели на нее ни корсета, ни юбки и никакого турнюра*. Хотя все эти принадлежности туалета были уже давно в употреблении у западноевропейских дам, но их не носили и даже не ведали еще о них московские боярыни и боярышни, телеса которых привыкли к полному, ничем не стесняемому простору.
Готовясь к торжественному приему иноземных послов, царевна, не любившая прежде пышных нарядов, одевалась теперь со всевозможным великолепием. Вместо кроеных и сшитых в светлице атласных или тафтяных чулок она надела шелковые пестрые чулки, привезенные из Германии, и чеботы-полусапожки из бархата, строченные шелком, отделанные жемчугом и золотым кружевом и на таких высоких каблуках, что носки едва касались земли. Затем подали царевне вторую сорочку из белого атласа, шире и длиннее первой и с рукавами, длиною аршин в шесть, но собранными во множество таких мелких складок, что они как раз приходились по длине рук. Рукава этой сорочки были шиты золотом и украшены драгоценными камнями. Поверх этой сорочки надели на царевну через голову царское одеяние – шубку, длинное до пят, без разреза на полы платье, с широкими рукавами, из аксамита, то есть плотной парчи, на которой вытканы были шелком двуглавые орлы. На плечи царевны накинули «ожерель» – пелерину из гладкого золотого глазета*, отделанную узорами или кружевом из жемчуга, и рубинов, и лал*, со стоячим на картонной бумаге воротником, низанным жемчугом и застегнутым спереди алмазными пуговицами. Богатый и блестящий наряд царевны дополняли: алмазные серьги, длиною в два вершка, и «мониста» – тяжелая золотая цепь с крестом, осыпанным рубинами и яхонтами. Головным убором царевны был золотой о двенадцати зубцах венец, украшенный драгоценными камнями.
Нынешних раздушенных перчаток московские дамы тогда не носили, и царевна могла явиться куда бы то ни было с голыми ручками. Имелись, впрочем, у нее про запас и перчатки, но назывались попросту «рукавицами» и надевались только в холодное время. Самыми щегольскими рукавицами считались перчатки «немецкого дела», вязанные из шелка брусничного цвета с золотою бахромою, были также «иршайные», или лайковые, шитые золотом рукавички и бархатные, низанные жемчугом. Носили в ту пору перчатки очень бережно, и как бы удивились современные нам дамы, если бы узнали, что, например, царица Евдокия Лукьяновна* носила одну пару перчаток в продолжение тринадцати лет.
По окончании туалета следовало царевне, по тогдашнему московскому обычаю, закрыть лицо фатою, большим прозрачным покрывалом огненного цвета, завязанным у подбородка, но ненавистна была Софье фата, как знак женской неволи. В первое время своей свободы она уже смело откидывала ее с лица, а теперь и вовсе не носила ее, возбуждая не только удивление, но и громкое порицание за такое неприличное новшество.
В то время когда царевна так пышно рядилась, цари, ее братья, принимали шведских послов в Грановитой палате, из которой послы, представившись государям, отправились в Золотую палату, куда пошла также и царевна, оглядевши себя перед выходом в большое венецианское зеркало. Осуждали Софью Алексеевну тогдашние богомолки и за зеркала, которые считались предметом соблазна и роскоши. Приличие не допускало держать зеркало постоянно открытым, поэтому его прятали в футляры, обитые бархатом или шелком, а висевшие на стенах зеркала закрывались тафтою. Зеркала были небольшие и вставлялись в рамки из слоновой кости, янтаря и перламутра. Царевна пошла против этого обычая, и комнаты в новом ее дворце были украшены большими зеркалами, привезенными из-за границы, и оставались незавешенными. Перестала также царевна курить в своих покоях ладаном, заменив его розовою водою и ароматными порошками, которые сжигались в серебряных курильницах.
Недаром та палата, в которую пошла царевна для приема шведских послов, носила такое громкое название: в ней все стены и потолок были расписаны золотом. Здесь правительница должна была явиться иноземцам во всем блеске своего царственного величия.
Послов повели бывшие при них приставы из Грановитой палаты по длинным переходам и крыльцам Кремлевского дворца, усыпанным просеянным желтым, белым и красным песком. По этим переходам и сеням, на пути к царевне, были расставлены стрельцы с золочеными пищалями и «терлишники», ее телохранители, одетые в «терлики», или в кафтаны с золотым позументом, с копьями в руках. Посольскую свиту не сразу допустили к правительнице, ее остановили при входе в Золотую палату. Наперед пред светлые очи царевны должны были предстать только послы, но их задержали на короткое время перед Золотою палатою в сенях, где было девять стрелецких полковников, которым царевна, по докладе ей о прибытии послов, приказала ввести их в Золотую палату.
Послы увидели правительницу, сидевшую на «государском» месте, в вызолоченных и оправленных драгоценными камнями креслах. В правой руке она держала жезл из черного дерева с серебряною рукояткою. В рукоятку жезла были вставлены часы и зрительная трубка, а украшена она была чеканным изображением льва, который дерется со змеем. В левой руке царевна держала ширинку, или носовой платок, главный предмет хвастовства тогдашних московских барынь, так как ширинки вышивались золотом, унизывались бурмицкими зернами* и алмазами и украшались по углам золотыми кистями. В ширинке высказывались весь вкус и вся роскошь женского рукоделья.
У ступеней царского места стояли по обеим сторонам кресел царевны две вдовы-боярыни в объяриновых телогрейках и с убрусами, или кисейными покрывалами, на головах; около каждой из них было по девице-карлице, в парчовых шубах, подбитых соболями, и в повязках, унизанных жемчугом. За креслами царевны, на государском же месте, стояли бояре, князь Василий Васильевич Голицын и Иван Михайлович Милославский, разодетые в великолепные ферязи с высокими бобровыми шапками на головах.
Думный дьяк Украинцев «объявил», или, по-нынешнему, представил, царевне послов, а бывший с ними переводчик заявил царевне, что послы привезли ей поклон от короля и королевы.
– Вельможнейший король, государь Каролус, король свейский*, и его королевского величества родительница, государыня Ульриха-Элеонора, по здорову ль? – спросила царевна послов через переводчика, и при этом вопросе она привстала с кресла в знак особого внимания к королю и его матери.
Послы, отчитав теперь весь королевский титул, отвечали на вопрос утвердительно; переводчик передал их ответ царевне, а она поручила послам отвести королю свейскому и его родительнице ее поклон. Послы благодарили правительницу. Выслушав их благодарность, царевна допустила их к ручке и спросила послов об их здоровье. Затем введена была посольская свита и тоже допущена была к ручке.
Не без любопытства рассматривали шведы живопись, которая украшала Золотую палату. На стене, приходившейся за креслами царевны, был нарисован на небе Спас, восседающий на херувимах. На другой стене, по правой стороне, были изображены на аллегорических фигурах: мужество, разум, чистота и правда; а по левой: блужение, безумие и нечистота, а между этими двумя противоположностями являлся седьмиглавый дьявол, над которыми «жизнь» держала в правой руке светильник, а в левой – копье. Над «жизнью» был изображен ангел – дух страха Божьего. На третьей стене, в виде ангелов, были нарисованы четыре ветра, тут же были представлены: ангел, летящий в пламени, и ангел, стреляющий из лука. На этой же стене были изображены вода, твердь небесная, солнце, заяц, волк и стрелец, человек, обвитый хоботом слона, и «всякия утвари Божии».
Не успели еще шведы присмотреться ко всем этим загадочным изображениям, смысл которых объяснялся надписями, сделанными золотою вязью, как торжественная аудиенция кончилась.
Прием шведских послов имел чрезвычайное значение, потому что Софья в этом случае явилась перед иностранцами в первый раз как царствующая особа. После этого она еще смелее пошла на высоту, которая так сильно манила ее, и по заключении мира с Польшею приняла титул «самодержицы всея Великия, Малыя и Белыя России».
Изумилась и сильно вознегодовала царица Наталья Кирилловна, узнав о таком громком титуле своей падчерицы.
– С чего вздумала она именоваться самодержицею? С чего стала она писаться сообща с великими государями? – выходя из себя, говорила мачеха-царица. – Ведь и у нас есть люди, которые заступятся за нас и дела этого не покинут? – с угрозою добавляла она.
Постельницы царевны, Нелидова и Синюкова, узнавали, что говорила царица, и передавали царевне, которая делала вид, что не обращает на ропот мачехи никакого внимания, а между тем обдумывала, как бы ей лишить мачеху всякого значения в правительстве. В свою очередь, Шакловитый деятельно принялся подготовлять стрелецкое войско к окончательному возвышению царевны, а Медведев заготовлял сочинение, в котором доказывал необходимость и право царевны торжественно возложить на себя царский венец в Успенском соборе.
– Согласится ли на это патриарх? – в нерешимости спрашивали стрельцы.
– Экая важность – патриарх! – насмешливо отзывался Шакловитый. – Не тот, так другой будет на его месте; и простого старца патриархом сделать сумеем!
– Да захотят ли бояре? – вопросительно добавляли стрельцы.
– Нашли о ком толковать! – с презрением возражал Шакловитый. – И бояре отпадут от правления, как листья с зяблого дерева.
Некоторые, однако, стрельцы наотрез возражали против намерения Шакловитого.
– Статочно ли дело царевне венчаться царским венцом! Только царю достоит такая честь, – говорили они.
Ввиду колебания стрельцов Шакловитый на время приудержался от своего замысла. Между тем сама царевна становилась все притязательнее на присвоение царских почестей и приказала в церквах «выкликать свое имя в одной статье с царскими именами» и сильно разгневалась, когда какой-то протодьякон во время богослужения по забывчивости или по неведению «обошел ее кадилом», то есть царям покадил особо, а ей этого не сделал.
В Москве с каждым днем все громче и громче стали поговаривать о намерении царевны-правительницы повенчаться на царство, и в ее воображении все яснее представлялись теперь сперва являвшиеся ей только, как в тумане, облики греческой царевны Пульхерии и ее супруга Маркиана. Осторожный Голицын сдерживал, однако, отважные стремления царевны, находя, что он, не одержав еще над внешними врагами государства блестящих побед, не совсем подходит в этом отношении к доблестному полководцу Маркиану и что ему необходимо приобрести воинскую славу, которая осенила бы его своим лучезарным блеском.
XXVII
В Кремле, этой дворцовой крепости, обведенной зубчатыми стенами с башнями и стрельницами и окопанной глубокими рвами, которые существовали еще в исходе XVII столетия, высились палаты московских государей, живших в прежнее время в деревянных хоромах. В начале XVI столетия они были разобраны, и на месте их итальянские зодчие выстроили каменный дворец, сохранив, однако, в этой новой постройке все условия старинного русского быта. И в новом здании были избы, горницы, клети, гридни, передние, палаты, терема, подклети, чуланы (последнее название носили тогда вообще все жилые покои). Каждая комната в дворцовом здании составляла как бы отдельное помещение, имея свои сени, и соединялась с другими частями жилья крытыми холодными переходами. Нижний этаж, или подклеть, нового дворца, был со сводами, и под ним были устроены погреба и ледники. При дворце были две церкви: одна Благовещения «на сенях», а другая Преображения, среди двора. Дворец этот сгорел 27 июня 1547 года, но был снова выстроен; вскоре он сгорел опять, и его отстроили вновь. В Смутное время он был ограблен и поляками и русскими. Царь Михаил возобновил его, а сын Михаила, царь Алексей Михайлович, заботливый и распорядительный хозяин, распространил и украсил жилище своего отца. После этого дворец явился жилищем, соответствовавшим для того времени своему назначению, и в особенности славилась в нем Грановитая палата с историческим перед нею Красным крыльцом, на которое вели три лестницы. Из них одна, расписанная золотом, называлась Золотою. При царе Алексее забралось в Кремлевский дворец немало принадлежностей заморской обстановки: золотые кожи, или обои, и мебель на немецкий и польский образец.
У царя Алексея Михайловича было большое семейство; тесен становился прежний Кремлевский дворец, и царь, по мере приращения своей семьи, пристраивал для нее около дворца особые деревянные хоромы. В них до 1685 года жила и Софья Алексеевна, а в этом году она перешла в построенный для нее новый каменный дворец, в котором почти все было устроено на европейский лад. Здесь обыкновенную обивку жилых дворцовых комнат, делавшуюся из холста, загрунтованного красками, заменили персидские и индийские ковры, иностранные обои с изящными рисунками и сукна пестрые, голубые и красные. В оконных рамах причудливого узора были вставлены цветные стекла или разрисованная слюда. Внутри комнат над окнами сделаны были уборы из персидского волнистого бархата, а занавеси – из шелковых тканей, обшитые золотыми кружевами и галунами. Такие же занавеси были в сенях. Они отделяли наружные входы от дверей, ведущих во внутренние покои. Мебель была расписана красками по золоту и серебру, а на столах были доски из мрамора и кипариса с перламутром.
В Москве долго толковали о той роскоши, какою окружила себя царевна-правительница, но особенный говор шел по поводу одного обстоятельства.
– Затеяла царевна Софья Алексеевна отнять бояр у великих государей; видно, совсем хочет войти в царскую власть. Если бы не замышляла этого, так незачем бы ей было заводить в своем дворце новую боярскую палату, – толковали москвичи.
Действительно, в нижнем этаже нового дворца царевны была устроена обширная и великолепная палата, обитая бархатом и назначенная для заседаний боярской думы. Переводя думу в свой дворец, Софья хотела показать, что бояре точно так же должны служить советниками и ей, как служили они в этом качестве государям-самодержцам.
– Уж больно много князь Василий Васильевич силы набрался, – говорил однажды при выходе из этой палаты боярин князь Михаил Алегукович Черкасский, недовольный Голицыным. – Да что с ним поделаешь! Царевне слишком он люб, горою стоит за него. Снова в поход против Крыма собирается, идет затем только, чтобы людей губить, а сам думает славы себе нажить*.
– Не мешай ему, пусть отправится снова в поход. Ходил раз, да ни с чем вернулся, а теперь наверно шею себе сломит. Я и другим боярам толкую: пусть они не только его от похода не отговаривают, а напротив, подбивают. Пойдет он на этот раз на свою погибель, – отвечал боярин князь Иван Григорьевич Куракин.
– Знаешь, князь Михайло Алегукович, не место, кажись, здесь говорить об этом, – заметил, боязливо озираясь кругом, боярин князь Борис Иванович Прозоровский. – Лучше соберемся мы к тебе да в сторонке потолкуем об этом.
Черкасский послушался предостережения Прозоровского и уже не обращался к боярам со своими речами, направленными против Голицына, но, бормоча что-то под нос, уселся в колымагу, зазвав к себе на совещание некоторых бояр, неприязненных царевне и ее любимцу.
Говоря о Голицыне, Черкасский и Куракин вспоминали о неудачном его походе, предпринятом в Крым с осени 1686 года. С трудом двигаясь вперед, вследствие медленного прихода разных людей, Голицын только в конце апреля следующего года проходил лежавшую на пути его степь, когда в воздухе стал проноситься запах едкой гари, а на южной стороне степи начал подниматься дым, захватывая на горизонте все большее и большее пространство, ночью же в том же месте стало показываться зарево. Запах гари, а также дым и зарево усиливались с каждым днем. Ясно было, что в степи начался пожар и что южный ветер нес его прямо на московское войско. Заметно близился этот грозный истребитель туда, где шел Голицын. Пожар рвался по направлению ветра. На захватываемом пожаром пространстве по иссохшей степной траве стелились и быстро ползли вперед черные клубы удушливого дыма, при малейшем ветре над почерневшею степью вставало пламя. Его красные языки поднимались вверх и извивались, точно огненные змеи, пепел кружился в воздухе, словно снег в сильную вьюгу. Будто горящее море, выступившее из берегов, сбирался пожар нахлынуть на войско Голицына. Измученные походом и истомленные палящим зноем и жаждою ратные люди выбивались из сил и едва дышали воздухом, раскаленным и пропитанным дымом. Голицын увидел невозможность идти далее и повернул назад, а степной пожар без устали гнался по пятам за отступавшим войском, грозя истребить его своею неудержимою и разрушительною силою.
Несмотря на неудачу этого похода, Голицын был встречен в Москве правительницею, как победитель, и такая незаслуженная встреча еще более восстановила и озлобила бояр и против него, и против его покровительницы.
– Пускай сходит еще раз в Крым, – говорили теперь они, заслышав о новом походе, замышляемом Голицыным против Крыма, и заранее радовались тем неудачам, которые, как они ожидали, и на этот раз должен был встретить любимец царевны.
– Я знаю, что меня обвиняют в неудаче первого похода на Крым, но мог ли я предузнать, что гетман Самойлович изменит нам со своими казаками и подожжет степь, чтобы погубить московское войско? – говорил Голицын Софье, оправдывая печальный исход своего нашествия на Крым. – Нужно еще раз сходить мне на басурман и одолеть их.
Царевна вздрогнула.
– Ты опять, Василий Васильевич, надолго покинешь меня! А знаешь ведь ты хорошо, как мне тяжела разлука с тобою; без тебя я все оченьки выплакала, чего только не снилось и не думалось мне! – печально проговорила Софья.
– Тяжка и мне разлука с тобою, да тяжело ведь и то, что из-за меня ходит против тебя народный ропот! – сказал твердо Голицын.
– Не со мною тяжело тебе, Васенька, расставаться, грустить ты станешь по жене, – с чувством ревности перебила Софья. – Ведь я знаю, что ты любишь ее больше, чем меня, – добавила с ласковым укором Софья, пристально смотря на Голицына.
– Есть на то апостольская заповедь, царевна, – равнодушно проговорил он.
– Зачем ты женился второй раз? – порывисто сказала Софья.
Голицын, сидя подле царевны, молчал, потупив в пол глаза.
– Что же ты ничего не говоришь? Задумался, видно, о своей княгинюшке?
– От жены у нас в Москве всегда легко избавиться, – глухо проговорил он, – пусть идет в монастырь, там ей жить будет лучше, нежели с мужем, если он невзлюбит ее. Я своей почасту говорю об этом.
– Что ж она? – торопливо, с сильным волнением спросила царевна.
– Плачет только. Впрочем, что же мне рассказывать об этом! Смутно у меня на душе от таких речей становится. Спроси у Ивана Михайловича, он все тебе расскажет, у меня от него никакой тайности нет!
Лишним было бы царевне спрашивать об этом у Милославского, который затеял теперь развести княгиню с мужем. Милославский внушал Голицыну, чтобы он убедил княгиню, рожденную Стрешневу, уйти добровольно в монастырь, и так как в то время пострижение жены освобождало мужа от брачных уз, то Милославский и рассчитывал обвенчать после этого Голицына с царевною. На эту смелую мысль навел его Шакловитый, и он, со свойственною ему беззастенчивостью, высказал об этом предположении Софье. Не доверяла, однако, она вполне Милославскому в том, что Голицын убеждал жену постричься, и решилась сама заговорить с ним об этом щекотливом предмете. Пример царевны Пульхерии и полководца Маркиана не выходил из головы Софьи, и как ни тяжело было ей расстаться с князем Василием, но она признавала необходимым доставить ему случай прославиться бранными подвигами и заставить умолкнуть злобную молву о неудаче первого его похода.
Ввиду этого второй крымский поход, под начальством Голицына, был решен правительницею.
К этому времени нелады в царском семействе усиливались все более и более. Порою можно было видеть, как из Москвы выезжали по направлению к селу Преображенскому, отстоявшему в трех верстах от столицы, телеги, наполненные стрельцами. Они останавливались вблизи этого села, и вылезшие из телег человек триста стрельцов притаивались здесь в оврагах и буераках, а наиболее решительных и смелых из них уводил с собою в село их начальник Шакловитый и располагал там на кормовом дворе.
– Смотрите, братцы, – говорил он им, – если в царских хоромах начнется крик, то вы будьте готовы, и кого вам дадут, тех и бейте, не разбирая, кто они.
Такие распоряжения Шакловитого, как вблизи Преображенского, так и в самом селе, означали, что вскоре туда приедет царевна Софья для свидания с братом Петром и с мачехою. Редко, впрочем, и неохотно она ездила туда, а принимаемые Шакловитым предосторожности показывали, что царевна, опасаясь насилия, готовилась отразить силу силою.
Покончив с Голицыным вопрос о втором крымском походе, царевна, с обычными предосторожностями, отправилась в Преображенское, чтобы предварить об этом брата и царицу. Софью считали там немилою гостьей, но царица притворно соблюдала все, даже самые мелочные обычаи тогдашнего радушного гостеприимства. С поклонами и упрашиваниями предлагались царевне и яства, и пития, и лакомства, но царевна отказывалась от всякого угощения, опасаясь отравы, и чем настоятельнее потчевали ее, тем более усиливалась ее подозрительность.
– Как знаешь, Софьюшка, так и делай, ты разумнее нас! На то ты и правишь царством, чтобы указывать другим, а Петруша тебе прекословить не станет, – с поддельным смирением говорила царица Софье в ответ на ее запрос о втором крымском походе под начальством Голицына; Наталья Кирилловна охотно, впрочем, соглашалась на это, разделяя мнение преданных ей бояр, что Голицына ждет новая неудача.
Петруша действительно, по внушению матери, не стал противоречить сестре, да, казалось, он пока и не думал вовсе о делах государственных, усердно занимаясь обучением «потешных» и редко, да и то на короткое время, приезжая в Москву из любимого им подмосковного села.
Вскоре после поездки Софьи в Преображенское стали рассылать по городам из разряда грамоты от имени обоих самодержцев и самодержицы о сборе ратных людей для похода против басурманов.
Накануне выхода войска из Москвы Голицын пришел к царевне, печальный и мрачный. Для царевны такое настроение Голицына было понятно, она приписывала его гнетущему чувству разлуки и тем тревожным думам, которые неизбежно должны были волновать Голицына при отправлении в поход, который мог или доставить ему блестящую славу, или окончательно покрыть его позором. Не ошибалась в своем предположении царевна, но была еще и другая, особая причина его душевного беспокойства. В этот день в дом князя какие-то неизвестные люди принесли наглухо заколоченный ящик, наказав прислуге представить его их боярину.
Голицын велел вскрыть при себе ящик, и когда приподняли крышку, то он в ужасе отшатнулся назад: в ящике был гроб, а в гробе лежала следующая записка:
«Вот что ожидает тебя, если поход твой в Крым будет неудачен».
Мрачное предчувствие и мучительные думы овладели Голицыным при виде такой страшной посылки и сопровождавшей ее угрозы, и напрасно царевна старалась ласками ободрить и рассеять тоску своего друга.
Настали минуты их разлуки; рыдая, обнимала Софья Голицына.
– Я оставляю тебя под охраною Феодора Леонтьевича; он со своими стрельцами обережет тебя до моего возвращения. Доверяйся ему во всем, пиши мне через него, и от него ты будешь получать вести обо мне и мои письма.
Осилив свое волнение, правительница с патриархом и боярами приехала на Девичье поле для провода войск. Болезненно замерло у ней сердце и жгучие слезы подступили к ее глазам, когда грянули барабаны и московская рать, с распущенными белыми знаменами, двинулась в дальний поход, предводительствуемая князем Василием.
XXVIII
С томительною тоскою в душе возвратилась царевна к себе во дворец и поспешила в опочивальню, чтобы там наедине выплакаться вдоволь. Нечаянно взглянула она на живопись, бывшую по той стене ее опочивальни, которая выходила в крестовую палату. Здесь было нарисовано моление царя Давида, а подле изображена была «чистая душа», в виде девицы в царском одеянии. В правой руке у этой аллегорической девицы была чаша с цветами, в знак ее недолговечной красоты, а в левой – сосуд, из которого лилась вода, означавшая обильные слезы раскаяния даже в самом ничтожном грехе. Под ногами девицы была луна, а подле нее лев, змей и дьявол. Что должны были означать эти изображения, до этого не добрались еще ученые изыскатели нашей старины, но надобно полагать, что дьявол знаменовал искушение, луна – ночное время, когда наступает час искушения, лев – ту силу, которую чистая душа должна иметь, чтобы противостать ему, а змей мог быть истолкован или эмблемою первородного соблазнителя, или, напротив, эмблемою той мудрости, которая должна охранять девицу или вообще чистую душу от грозящего ей соблазна.
Невольно остановилась царевна перед этим замысловатым изображением «чистой души». Быстро промелькнула в голове Софьи ее грешная любовь к Голицыну, ожили перед нею и страшные призраки замученного Нарышкина и обезглавленных Хованских, и ужаснулась она при мысли о тех замыслах, которые должны были вознести ее на такую высоту, какой еще ни разу не достигала ни одна московская царевна. Сильно потрясенная, вошла она в опочивальню, неровным шагом взобралась по лесенке, приставленной к высокой кровати, и, не раздеваясь, кинулась на постель, застланную бархатным одеялом с горностаевою опушкою.
Долго рыдала на постели Софья, сокрушаясь в своих грехах и скорбя о разлуке с дорогим для нее человеком. Мысли мутились в ее голове, она то хотела покинуть все мирское и навеки укрыться в монастыре смиренною инокинею, то хотела кинуться вдогонку за своим другом и вернуть его назад.
«Был бы только он со мною, – думалось Софье, – а больше мне ничего и не надо».
Печальные дни начались для царевны, и как обрадовалась она, когда получила первое письмо Голицына, принесенное ей Шакловитым, который уже и прежде был вхож к царевне как начальник Стрелецкого приказа. Засматривалась порою на него царевна. Шакловитый был мужчина представительной наружности, в лице его заметны были признаки южного происхождения: его большие темно-карие глаза смотрели то нежно, то сурово, из-под длинных черных усов виднелись свежие губы с привлекательною улыбкою, а черные, слегка вьющиеся волосы подходили к смуглому цвету его лица. Много, однако, он терял в глазах царевны при сравнении с князем Василием, умное лицо и величавая осанка которого гораздо более нравились Софье, нежели молодцеватость Шакловитого. Она беспрестанно молилась за Голицына у себя дома, ходила по монастырям служить молебны об его благоденствии.
«Свет мой братец, здравствуй, батюшка мой, на многие лета! – писала ему царевна. – И паки здравствуй! Свет мой, веры не имеется, что ты возвратишься, тогда веру поиму, как увижу в объятиях своих тебя, света моего. Велик бы мне день тот был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Свет очей моих! Мне веры не имеется, сердце мое, чтоб тебя видеть, по всем монастырям сама пеша бродила, чтоб молиться о тебе».
«Радость моя, свет очей моих! Мне не верится, сердце мое, что тебя я увижу. Если бы было возможно, я единым бы днем поставила бы тебя перед собою». Так начиналось другое письмо Софьи, тоже наполненное нежностью и ласками.
В то время, когда царевна так тосковала о князе Василии, поверенный его, Шакловитый, все чаще и чаще стал являться к царевне, то с письмом, то с вестями от Голицына, то с донесением царевне о том, что делается в Москве, или с известием о том, что намерены предпринять противники царевны. Разговоры обо всем этом все более и более сближали его с нею.
– Ты, благородная царевна, соизволила бы взглянуть хотя раз на твое стрелецкое войско; хочет оно зреть твои пресветлые очи, – говорил однажды Шакловитый Софье Алексеевне.
Правительница давно уже приняла на себя все обрядовые обязанности царей, являясь вместо братьев всюду, где, по заведенному обычаю, требовалось присутствие государя. Она принимала благословение патриарха при празднествах, первенствовала на всех торжествах и председала в боярских собраниях, принимала иностранных послов, отпускала войска в поход, а также лично жаловала чины и награды. Предложение Шакловитого понравилось царевне. В назначенный день она с большим поездом, окруженная боярами и ближними людьми, отправилась в раззолоченной карете на Девичье поле и там, войдя в разбитый для нее на высоком помосте шатер, смотрела производимые по команде Шакловитого стройные для того времени движения стрелецкой рати.
Смотр кончился. Ловко подскакал к шатру на лихом коне Шакловитый и сразу осадил его перед царевною. Шакловитый был в бархатной ферязи вишневого цвета, обложенной широким золотым кружевом; из-под ферязи виднелась голубая шелковая однорядка. Подскакав к царевне с булавою в левой руке, он правою рукою проворно снял с головы бархатную шапочку с большим околышем, султанчиком из белых перьев и большою алмазною пряжкою.
– Что повелишь объявить, великая государыня царевна, твоему верному стрелецкому войску? – спросил Шакловитый.
– Объяви ему мое милостивое слово, – величественно проговорила царевна, вместе с тем приветливо и страстно взглянув на молодцеватого наездника, который показался ей на этот раз гораздо красивее Голицына.
Тем же торжественным поездом возвратилась царевна в свой дворец.
– Оставил меня князь Василий под твоею охраною, а ты, Феодор Леонтьевич, не всегда находишься у меня под рукою, хотя и часто бываешь мне нужен. Перебрался бы ты на время в хоромы, что стоят позади моих палат, тебе сподручнее будет являться ко мне оттоль, да и дело идет теперь к лету, тебе можно будет ходить через сад, – равнодушно, как будто передавая обычное приказание, говорила царевна Шакловитому на другой день после смотра стрельцов на Девичьем поле.
Пришел май месяц. В так называемом комнатном саду царевны, устроенном на высоких каменных столбах и окруженном расписанными живописью стенами, с прудом в свинцовом водоеме, зацвели розы, сирень, гвоздика, фиалки и тюльпаны. С «ранжерейных» палат сняли стеклянные рамы, и появились в них на открытом воздухе виноград и грецкие орехи. Запели в саду в золоченых клетках соловьи, канарейки, жаворонки, щеглы и перепела. Переселился туда на летнее житье и попугай, с которым царевна любила забавляться в немногие часы досуга. Начал в этом саду все чаще и чаще показываться Шакловитый, и если май месяц зовется у поэтов порою любви, то такое название было теперь верно и по отношению к царевне. Прежняя сердечная ее привязанность к князю Василию заменилась страстною любовью к Шакловитому. Случилось то, что нередко случается и в наши дни по любовной части: поверенный заступил место своего опрометчивого доверителя.
Старомосковский быт не оставил нам романических преданий, которыми так богат запад Европы. Затворничество русских женщин уничтожало возможность любовных похождений среди высшего московского общества. Но царевна Софья выбилась из прежней неволи и могла дать свободу своей сердечной страсти. Как начиналось в давнюю пору на Руси любовное сближение, как кокетничали в былое время русские боярыни и боярышни, об этом молчат московские сказания, и только суровый «Требник» делает на это намек, предписывая, между прочим, духовным отцам спрашивать у кающихся грешниц: не «подмигивали ли» они мужчине и «не наступали ли ему на ногу»?
Шакловитый сделался теперь самым близким к царевне человеком.
– Скоро возмужает царь Петр, и скоро не станет царя Ивана. Помяни меня, царевна, что младший твой брат будет злейшим твоим врагом. «Медведица» учит его ненавидеть тебя. Нужно было извести ее еще при первом стрелецком восстании, да на беду тебе она уцелела. Изведи ее теперь! – говорил с ожесточением Шакловитый, который, пользуясь отсутствием Голицына, сдерживавшего Софью от решительных и кровавых мер, хотел покончить с царицею Натальей и ее сыном до возвращения князя из Крыма, чтобы быть первым человеком не только при царевне лично, но и во всем государстве.
– Страшно, Феодор, решиться на это, – возразила Софья.
– Так венчайся сама скорее на царство, тогда будет у тебя власть постричь и царицу и ее сына, – говорил Шакловитый.
– Отец Сильвестр мне говорит то же самое, – заметила царевна.
– А он человек разумный, и советов его слушать можно, – перебил Шакловитый. – Венчайся, царевна, скорее на царство, а Сильвестра сделай патриархом. Стрельцы постоят за тебя; все до последнего лягут они, когда будет нужно.
Царевна сомнительно покачала головою.
– Подождем князя Василья, когда он вернется со славою из похода, тогда можно будет отважиться на все, – настаивала правительница.
Выражение неудовольствия пробежало по лицу Шакловитого.
– И без него сумею я охранить тебя, царевна! – самоуверенно и не без наглости сказал Шакловитый. – Я и теперь оберегаю тебя от твоих недругов: не проходит дня, чтобы я не захватывал и не пытал их, не отсекал бы им пальцев и не резал бы языков. Знай, царевна, что если бы я не охранял тебя…
– Знаю, знаю твою верность, – заговорила, нахмурясь, Софья, недовольная самохвальством Шакловитого, и при этом в памяти ее ожил Голицын, никогда не раздражавший ее неуместными хвастливыми речами и так обаятельно влиявший на нее своим светлым и спокойным умом.
– Я прикажу Сильвестру посмотреть по звездам, – сказала царевна, – он хороший звездочет, учился у покойного Симеона.
– Звездочет он и вправду хороший. Вот хотя бы мне он пророчит, что женою моею будет та, которой предназначено царствовать, – развязно сказал Шакловитый.
– Безумный и дерзкий холоп! Как ты скоро забылся! Я знаю, к чему ты говоришь это! – вскрикнула с сильным негодованием царевна, грозя Шакловитому пальцем. – Не думай много о себе и знай, что ты служишь мне только на время пустою забавою!
Шакловитый побледнел и опешил. Неожиданная вспышка Софьи изумила его, так как много думавшему о себе Шакловитому казалось, что правительница была в его власти.
– Благоверная царевна, великая государыня! – несвязно забормотал он. – Далек я от всякого дерзновения перед твоим пресветлейшеством.
Слегка улыбнувшись, взглянула Софья на испугавшегося Шакловитого. Самолюбию ее было приятно, что такой дерзкий и отважный человек, каким слыл Шакловитый, робел и терялся от нескольких гневных ее слов.
– Дурак ты, вот что! – засмеявшись, сказала она. – Ты полагаешь, что ты ровня московской царевне? Как же! Пригож ты, правда, да зато глуп же порядком, а глупых мужчин я не люблю.
– Всепресветлейшая великая государыня! – продолжал бормотать Шакловитый.
– Я простила тебе однажды твое дерзновение, – внушительно продолжала царевна. – Вспомни, что осмелился сделать с моею «персоною».
– Без всякого злого умысла, благоверная царевна, по неосмотру учинил я то, великая государыня. Отец Сильвестр был участником в этом.
– Прощаю я тебя и на этот раз, но вперед не осмеливайся не только говорить так дерзостно, но даже и мыслить! – с этим словом царевна дала ему поцеловать руку.
Выговаривая Шакловитому, царевна напомнила ему о недавно появившемся ее портрете, или, как тогда называлось, «персоне». Шакловитый, без ведома царевны, заказал жившему в Москве хохлу-художнику Тарасевичу выгравировать портрет Софьи. На этом портрете она была изображена в царской короне со скипетром и державою в руках. Кругом портрета были аллегорические изображения семи даров Духа Святого, или добродетели царевны: разум, целомудрие, правда, надежда, благочестие, щедрость и великодушие. Под портретом были помещены вирши Медведева, общий смысл которых был тот, что как ни велико Российское государство, но все оно еще мало перед благочестивою мудростью царевны, не уступающей ни Семирамиде* вавилонской, ни Елизавете* британской, ни Пульхерии греческой делами славы. Кругом портрета была следующая надпись:
«Наитишайшая, православнейшая, Богом венчанная защитительница христианского народа, Божиею милостью царевна, великая княжна московская, госпожа Софья Алексеевна, самодержица Великия, Малыя и Белыя России, многих государств восточных, западных и северных отчична, наследница, государыня и обладательница».
Портрет этот понравился царевне-правительнице, как славословие ее добродетелей и как указание на ту высоту, которой она достигла; но не понравилась ей сделанная к портрету прибавка. Под портретом царевны было изображение великомученика Феодора Стратилата, а в день памяти этого святого были именины Федора Шакловитого. Намек на сближение с ним царевны был и ясен и дерзок. Великомученик был изображен с воинскою у ног его «сбруею», или доспехами, – трубами, литаврами, пищалями, знаменами и копьями. Такая совместность царевны и начальника Стрелецкого приказа и его горделивое о себе самомнение затронули ее за живое, оскорбили ее; между тем Шакловитый отпечатал этот портрет Софьи в громадном количестве и на бумаге, и на атласе, и на тафте, и на объяри и не только раздавал эти портреты по Москве, но и в большом числе послал за границу.
Припугнутый царевной, Шакловитый не решался завести снова речь об истреблении мачехи и ее брата Петра, но сам, без ведома ее, замышлял порешить как с ними, так и со всею семьею Нарышкиных. С этою целью он хотел зажечь разом несколько дворов в селе Преображенском, произвести там этим пожаром суматоху, среди которой, как ему казалось, легко было убить Петра и его мать. Подумывал также Шакловитый и о том, чтобы бросить в Петра ручные гранаты или подложить их под сиденье в его колымагу или одноколку. С своей стороны, и царица Наталья подготовляла и подстрекала своих приверженцев к низложению Софьи и вселяла в своего подраставшего сына непримиримую к ней вражду и беспредельную ненависть.
XXIX
Царь Петр Алексеевич продолжал в селе Преображенском заниматься со своими «потешными», которых обучал военному ремеслу при помощи иностранцев. Невзлюбили стрельцы этот початок нового царского войска и с презрением обзывали «потешных» конюхами, опасаясь, однако, что новые ратные люди скоро превзойдут их своею выправкою и навыком в военном искусстве. Быстро подрастал и заметно мужал учредитель новой московской рати, и шестнадцати лет от роду он был высокий и стройный юноша, яркий румянец играл на его щеках, густые темно-русые кудри падали на его плеча, умно и смело смотрели его черные глаза, а его живость приводила в смущение степенных московских сановников. Все предвещало в Петре, что он выйдет из ряда обыкновенных государей, а противник с большими задатками ума и твердой воли был опасен для правительницы, власть которой могла иметь только временное значение. В сравнении с бодрым, кипучим и впечатлительным Петром старший брат, хилый, болезненный, равнодушный, робкий и почти слепой, был ничтожною личностью, и не только нельзя было царевне Софье полагаться на его защиту и заступничество, но, напротив, надобно было ожидать, что он, под влиянием Петра, станет заодно действовать против своей властолюбивой сестры.
Софья видела, что ей предстоит необходимость начать решительную борьбу с младшим братом, и подготовлялась к ней, опираясь на стрельцов и поджидая возвращения Голицына из крымского похода.
– Не выдавайте меня царице Наталье Кирилловне и ее сыну, – твердила правительница часто приходившим к ней выборным стрельцам, – зачинает она против меня смуту с братьями.
– Отчего бы тебе и не принять царицу! – отвечали стрельцы, подразумевая под этими словами окончательную расправу с Натальей Кирилловной.
– Жаль мне ее, – отвечала царевна.
– Твоя воля, государыня, что изволишь, то и делай, – говорили стрельцы, готовые и постоять за Софью, и щадить ее врагов, если она сама пожелает того или другого.
– Не о себе пекусь я, боюсь за вас! Переведут они стрельцов своими «потешными», – заботливо добавила Софья, надеясь, что стрельцы и без ее участья догадаются избавить ее от мачехи и царя Петра и тем не особенно потревожат ее совесть.
Запугиваемые царевною стрельцы расходились от нее по домам, унося с собою озлобление против царицы, ее сына и «потешных».
– Хороша была бы вам пожива, если бы вы расправились с боярами, – внушал, в свою очередь, стрельцам их начальник Шакловитый. – Есть что пограбить у них. Отмолили бы потом да раздали часть взятого у бояр по церквам и по монастырям, и отпустил бы вам Господь Бог ваши прегрешения!
Сильвестр Медведев также волновал против царицы и Петра людей богобоязненных.
– Смотрите, – говорил он, – благочестивая царевна постоянно молится, а они, нечестивцы, в Преображенском на органах и скрипицах играют.
8 июля 1689 года Красная площадь была усеяна народом в ожидании, когда, по окончании обедни в Успенском соборе, начнется крестный ход, установленный в память изгнания из Москвы ляхов, а между тем в соборе произошла первая стычка Петра с Софьей.
– Не стать тебе, царевне, ходить по улицам и площадям с народом! – гневно сказал Петр, застанавливая дорогу сестре, которая, подняв местный образ и неся его сама, готовилась выйти из церкви, чтобы следовать с крестным ходом.
Презрительно и грозно сдвинув брови, взглянула она на брата.
– Говорю я тебе, не ходи! – с большим гневом повторил Петр.
Такой же взгляд царевны был ответом и на это внушение.
Царь-юноша побледнел от гнева, свирепо посмотрел на сестру, вышел быстро из собора, вскочил на коня и поехал в Преображенское, а правительница, окруженная боярами, пошла с крестным ходом; в толпе же слышалась похвала ее благочестивому усердию.
Еще более разгневался Петр, подстрекаемый матерью, когда спустя одиннадцать дней после первого столкновения с непослушавшею его сестрою правительница выехала к возвращавшемуся из похода Голицыну, для которого она устроила торжественную встречу. Здесь явилась она во всем царственном величии, принимая воевод, спрашивала их, по государскому обычаю, о здоровье и объявила им и всему войску свое милостивое слово.
Поход Голицына, в сущности, кончился не блестящим образом. Со стодвенадцатьютысячным войском он пошел на крымцев в феврале 1689 года. Стужи и снега препятствовали быстрому движению предводительствуемой им рати. Он подходил к Перекопу только в начале мая. Хан собирался зажечь степь. Голицын встретил и отбил его, но опасность не миновала. Как грозная туча, подвигались крымцы на московское войско, которое не находило ни рек, ни колодцев, ни корма для лошадей. Голицын увидел опасность, грозившую ему, и повернул назад. Татары преследовали его, но не упорно, не слишком наседая на него.
Сторонники царицы Натальи и, разумеется, во главе их царь Петр громко высказывали неудовольствие и против второго похода Голицына.
– Не хочу видеть я ни князя Василия, ни бывших с ним в походе воевод, – гневно говорил молодой царь.
Правительница, однако, настояла на своем. Всем участвовавшим в походе великие государи раздали разные награды, а Голицын, вдобавок к ним, получил и похвальную грамоту.
«Неприятели твоею службою, – сказано было в грамоте, – нечаянно и никогда не слыханно от наших царских ратей в жилищах их поганых поражены, побеждены и прогнаны. Пришли они в отчаянье и ужас, все посады и деревни пожгли и перед тобой не показались, за то милостиво тебя похваляем».
Пасмурно, однако, выглядывал теперь прежний любимец Софьи. По прибытии в Москву узнал он о многом и увидел, что если Шакловитый и не оттер его окончательно, то все же значительно отдалил его от царевны. Москва искони была усердною сплетницею, и теперь отношения царевны к Голицыну и участье в этих отношениях Шакловитого подали повод к самым разнообразным толкам и пересудам. Рассказывали, между прочим, что князь Василий, встретив, по возвращении из крымского похода, счастливого соперника в Шакловитом, призвал к себе знахаря, которому ведома была тайная сила трав, и, получив от него приворотные коренья, подсыпал их в кушанье царевне «для прилюбления» ее себе. Рассказывали также, что, опасаясь болтливости этого чародея по амурной части, Голицын приказал его сжечь в бане, чтобы не было от него «проносу».
Как бы то ни было, но теперь Голицын стал еще сдержаннее прежнего. Он советовал царевне помедлить некоторое время, не вступать в борьбу с Петром, но пылкий Шакловитый, напротив, торопил царевну, чтобы она поскорее покончила со своими недругами. Все более и более недобрые вести стали доходить до царевны о враждебных против нее намерениях, замышляемых в Преображенском, и вздрогнула Софья, когда царь Петр приказал схватить Шакловитого, хотя отлегло несколько у нее от сердца, когда вскоре после того он без всякого допроса приказал отпустить окольничего.
– Видно, заострились когти орленка, – с яростью говорил Шакловитый, – вздумал он взяться за меня, да тотчас же одумался, испугался стрельцов. А кто знает, не станет ли он еще посмелее и не доберется ли до тебя, царевна? – грозил он Софье. – Позволь покончить с ним поскорее.
Наступили темные августовские ночи. Царевна все чаще и чаще стала ходить по ночам на богомолье в разные монастыри. Стрельцы, как стража, сопровождали правительницу в этих благочестивых хождениях, и она пользовалась ими для того, чтобы говорить со стрельцами.
– Долго ли терпеть нам? Уж житья нам не стало от дядьки царя Петра, Бориса Голицына, брата Иванушку ни во что ставит, меня девкою называют, как будто я не дочь царя Алексея Михайловича; князю Василию Васильевичу голову хотят отрубить, а он добра много сделал. Надобны ли мы вам? Если же нет, то мы пойдем с братом где келью искать.
– Не кручинься, царевна, – отвечали стрельцы на горькие жалобы царевны, – постоим и умрем мы за тебя, а твоим лиходеям тебя не выдадим.
Начались снова волнения между стрельцами, каждый день происходили их шумные сборища у съезжих изб и слышались крики и угрозы. На площадях, на рынках, в банях, в харчевнях пошли разные толки. Одни опасались возмущения стрельцов, другие – нашествия на Москву «потешных». Последнего ожидали царевна и ее приверженцы.
Особенно тревожна была в Москве ночь с 8-го на 9 августа. Вооруженные стрельцы собрались на площади перед Кремлевским дворцом. Среди них мелькала царевна, сопровождаемая Шакловитым. На площади ходил какой-то зловещий гул. Собравшиеся стрельцы ждали только набата или повестки барабаном, чтобы двинуться туда, куда поведет их Шакловитый. Все они толковали о беспощадном истреблении недругов царевны.
Пройдя несколько раз по площади между стрельцами, царевна отправилась во дворец. Она вошла в Крестовую палату и, упав на колени перед образом Спаса, начала усердно молиться. Сзади нее, несколько поодаль, сумрачно стоял Шакловитый. Скрестив на груди руки, он внимательно следил за царевною, с нетерпением ожидая, когда она окончит молитву. В одному углу Крестовой палаты находился Сильвестр. Он был бледен и, творя шепотом молитву, перебирал четки, навешенные на левой руке. По временам доходил в Крестовую палату усиливавшийся на площади шум. Царевна вздрагивала, прекращала молитву и вопросительно взглядывала на Шакловитого, который успокоительно кивал ей головою, и царевна снова принималась молиться.
Софья окончила молитву и, выйдя в сени, бывшие перед Крестовою палатою, села там на лавку, приказав сесть возле себя с одной стороны Сильвестру, а с другой Шакловитому.
– Успокойся, благоверная царевна! Пустые, значит, были слухи; начинает светать, теперь они уже не нападут на нас, – заговорил Сильвестр.
– Да, нынешняя ночь прошла благополучно, – перебил Шакловитый, – а кто скажет тебе, отец Сильвестр, что они не отложили своего замысла до завтра? Позволь, государыня, порешить мне с ними. Я пойду в Преображенское, перебью всех и приведу к тебе царицу Наталью и царя Петра Алексеевича, а ты уж поступи с ними, как будет на то твое соизволение.
– Боязно отважиться на это, – нерешительно проговорила царевна. – Лучше ждать их прихода в Москву, здесь на нашей стороне будет сила.
– Горше будет, когда… – начал было Сильвестр, но в это время послышался первый удар благовеста к заутрене у одной из дворцовых церквей.
Сильвестр встал с лавки и, сняв с своей лысой головы клобук, начал креститься. Царевна и Шакловитый тоже стали креститься.
– Возблагодарим Господа, – сказал Сильвестр, – что он сподобил нас провести сию ночь без нашествия врагов наших.
– Теперь можно распустить стрельцов, – сказала царевна.
Она вышла из сеней и в сопровождении Шакловитого стала спускаться с лестницы. Истопник Евдокимов нес за нею три больших мешка с серебряными деньгами.
– Вот вам награда за вашу верную службу, – громко сказала царевна стрельцам, выйдя на площадь. – Федор Леонтьевич раздаст вам пожалованные мною деньги.
– Рады мы постоять за тебя, великая государыня! – заговорили стрельцы, получая деньги из рук Шакловитого и уходя после того с площади.
В это время подскакал к Шакловитому ездовой стрелец и, нагнувшись на коне, шепнул что-то на ухо.
Шакловитый задрожал и опрометью кинулся по лестнице, по которой уже поднималась царевна.
– Царь Петр убежал из Преображенского! – в отчаянье вскрикнул он.
– Куда? – спросила изумленная Софья.
– Никто не знает! Сейчас оттуду прискакал гонец. Я расспрошу, а между тем велю ударить сбор.
Наутро вся Москва заговорила, что царь Петр Алексеевич пропал без вести. В городе поднялась страшная суматоха; все ожидали, что он забрался куда-нибудь в сторону и оттуда начнет наступать на Москву со своими «потешными».
XXX
– Спасайся, государь! – отчаянно крикнул стольник, вбежавший в полночь в спальню царя Петра Алексеевича. – Стрельцы из Москвы идут на нас.
Царь быстро спрыгнул с постели, опрометью кинулся в конюшню, босой и в одной сорочке вскочил на неоседланного коня и помчался из Преображенского.
Во дворце началась страшная тревога. Боярин князь Борис Алексеевич Голицын, царский дядька, и несколько ближних людей спешно сели на лошадей и понеслись вслед за государем. Заслышав за собою раздавшийся в ночной тишине конский топот, Петр, при мысли о погоне, бил изо всей силы в бока своего лихого скакуна и летел без оглядки.
Едва удалось Голицыну и его спутникам догнать Петра. Они приостановились. Петр наскоро оделся в захваченное для него из дворца платье и снова помчался, опережая всех своих спутников на взмыленном, но не обессиленном еще коне.
В течение пяти часов он без отдыха проскакал шестьдесят верст и в шестом часу утра внесся в ворота Троицкой лавры. Вслед за ним примчался туда же и Голицын. Утомленный Петр не в состоянии был слезть с лошади; его сняли, внесли в келью архимандрита и там положили на постель.
– Защити меня, отец Викентий! – почти бессознательно говорил царь архимандриту. – Сестра Софья хотела убить меня! – и он громко разрыдался, рассказывая о своем неожиданном бегстве из Преображенского. Преподобный отец Викентий начал преподавать ему, как умел, душеспасительные утешения, подкрепленные текстами Священного писания, и измученный Петр вскоре крепко заснул под однообразный и тихий говор отца архимандрита.
Между тем в лавру с чрезвычайною поспешностью ехала царица Наталья Кирилловна с дочерью и беременною невесткою Евдокией Федоровною*. В лавру же торопились «потешные»; туда же из Преображенского везли пушки и скакали и верхом и в колымагах бояре и царедворцы, бывшие на стороне Петра.
Оправившись чрез несколько часов от страшного утомления, Петр приказал князю Борису Голицыну заняться укреплением мирной обители и отправил в Москву к царю Ивану запрос: зачем стрельцы собирались ночью в Кремле?
– Государыня царевна намеревалась ночью идти на богомолье в Донской монастырь, и стрельцы были собраны для охраны ее чести и здравия на этом пути, – отвечали из Москвы на запрос, сделанный из лавры.
Софья между тем сильно взволновалась, не зная, как выйти из затруднительного положения. Василий Голицын советовал ей примириться с братом. Шакловитый и Медведев, напротив, подстрекали, чтобы она не уступала, и царевна приняла этот последний совет.
Теперь главною для нее задачею было заставить царя Петра приехать в Москву, и с целью склонить его к этому она отправила в лавру боярина князя Ивана Борисовича Троекурова. В ответ на этот зазыв было повеление Петра, чтобы стрельцы шли к нему в лавру «для великого государственного дела, которое им будет объявлено, когда они по прибытии туда увидят пресветлые очи государя».
– В распрю мою с братом не мешайтесь и в лавру к нему не ходите, – объявила правительница собранным по ее приказанию стрельцам, которым сделалось известно повеление царя. – Если же кто-нибудь из вас осмелится пойти туда, тому велю отрубить голову, – пригрозила царевна, а стрельцы хорошо знали, что угрозою ее нельзя шутить.
Никто из стрельцов не посмел пойти к Петру. Софья ободрилась и склонила царя Ивана, остававшегося в Москве, чтобы он отправил в лавру боярина князя Петра Ивановича Прозоровского уговорить Петра приехать в столицу. В подкрепление этому хотя и весьма почтенному, но не слишком красноречивому послу был дан поп Меркурий. Но и боярин и поп возвратились оттуда без всякого успеха.
– Поезжай-ка ты, святейший владыка, в лавру, утиши неправедный гнев на меня брата Петра. Склони его прибыть в Москву и примириться со мною; не нам, единокровным, враждовать между собою, – поручала царевна патриарху.
– Исполню веление твое, благоверная царевна, – отвечал смиренно Иоаким.
– Да возвращайся сюда поскорее! – добавила она.
«Как же! Так вот я и вернусь! Будто я не знаю, что на мое место ты и Федька Шакловитый прочите другого, а меня хотите услать на покой в дальний монастырь!» – подумал бывший себе на уме старик, обрадовавшись удобному случаю выбраться из Москвы.
Патриарх как поехал, так и не возвращался, словно в воду канул.
Неподатливость Петра начала сильно смущать царевну. Пришла из лавры в Москву царская грамота, что «тем из стрельцов, кто не явится в лавру, быть в смертной казни». Таким образом, стрельцы очутились между двух топоров, и потому часть их решилась отправиться в лавру.
– Федькина злого умысла мы не знаем, воров и разбойников ловить рады и во всем царскую волю исполним, – объявили пробравшиеся в лавру стрельцы вышедшему к ним Петру.
– Если говорите правду, то приведите ко мне сюда первого вора и разбойника Федьку Шакловитого! – настоятельно объявил Петр и, выбрав самых надежных стрельцов, приказал им отправиться в Москву для поимки Шакловитого.
Разведчики царевны, бывшие в лавре, донесли ей, что Петр ни за что не хочет приехать в Москву и что к нему все более и более собирается ратных людей.
– Поеду я сама в лавру, он не посмеет мне ничего сделать, а я так или иначе сумею поладить с ним, – сказала Софья Голицыну, решившись повести лично переговоры с Петром.
И 31 августа она выехала из Москвы. Царевна подъезжала уже к селу Воздвиженскому, когда на дороге перед ее поездом стала вдали подниматься пыль.
– Из лавры к нам навстречу едут, – доложил царевне сопровождавший ее стольник.
Царевна приказала остановиться и готовиться к обороне на случай нападения.
Прошло несколько тревожных для царевны минут, и к карете ее подъехал стольник Бутурлин.
– Не ходи, благоверная царевна, в лавру, – доброжелательно предупредил он ее.
– Пойду! – гневно отвечала царевна и, не сказав более ни слова, отвернулась от Бутурлина.
Поезд правительницы тронулся далее. Но при самом въезде в Воздвиженское царевну остановил боярин князь Троекуров, явившийся к ней в сопровождении значительного числа вооруженных ратных людей.
– Имею к тебе, пресветлейшая царевна, царский указ, – почтительно сказал Троекуров, сняв при приближении к правительнице шапку и низко поклонившись ей.
С негодованием вырвала царевна указ из рук боярина.
В указе этом от имени Петра объявлялось, что царевне впуска в лавру не будет и что «в случае дерзновенного ее туда прихода с нею поступлено будет нечестно».
– Скажи царю Петру Алексеевичу, что после такого указа я и сама не хочу к нему ехать. Скажи также ему, что и я выдам указ, чтобы не пускать его в Москву! – приказывала Троекурову раздраженная царевна, и затем ее поезд направился обратно к столице.
Озлобленною до крайности против своего младшего брата возвратилась назад царевна. Невозможность рассчитывать на поддержку со стороны царя Ивана, который сам прятался в своих хоромах, была очевидна, и это обстоятельство вынудило царевну действовать решительно только от своего лица. Распоряжения ее начались тем, что 1 сентября стрельцы были собраны перед Красным крыльцом.
В сильном смущении вышла к ним царевна и остановилась на последней ступеньке лестницы.
– Вы тому верите, – громким голосом сказала она стрельцам, – что вам из Троицы пишут. Грамоты эти – выдумка злых людей. Зачем хотите вы выдавать добрых и верных моих слуг? Их станут пытать, а они, не стерпя, оговорят многих.
В этот день праздновалось новолетие, а потому, кроме стрельцов, около дворца собралось множество народа, ожидая торжественного выхода правительницы на молебствие. Но теперь царевне было не до внешнего царственного величия: из рук ее хотели исхитить верховную власть, которую она так ревниво охраняла от всяких притязаний со стороны брата Петра.
– Злые люди поссорили меня с братом Петром Алексеевичем, – начала она, обратившись к народу, – они подговорили злодеев разгласить о заговоре против него. Выставили они изменником Федора Леонтьевича Шакловитого только из зависти к его услугам. Брат Петр отверг меня, и я со стыдом возвратилась с дороги. Вам известно, что я более семи лет правила государством, была милостива и щедро награждала; докажите же мне теперь вашу преданность. Злодеи хотят погубить не Шакловитого, а меня; они ищут моей головы и жизни моего родного брата! – Царевна, говоря это народу, громко зарыдала. – Впрочем, если хотите, то вы все до единого можете бежать в лавру, но помните, – добавила она вдруг твердым и грозным голосом, – что здесь останутся ваши жены и дети!
В народе прошел какой-то неопределенный гул в ответ на сетования и угрозы царевны; но что говорили в толпе, разобрать было невозможно. Пристально смотря на толпу, царевна готовилась заговорить снова, если бы среди народа послышался неприязненный отклик. Между тем стоявшие вблизи царевны москвичи принялись низко ей кланяться, бормоча что-то себе под нос. Царевне казалось, что народ хочет взять ее сторону, как вдруг толпа заколыхалась.
– Раздайся! Раздайся! Пропусти! – закричали на площади. – Гонец от Троицы приехал!
Среди расступившейся толпы показался теперь стрелецкий полковник Нечаев. Он подошел к царевне, поклонился ей и встал против нее с непокрытою головою.
– Привез я тебе, пресветлейшая царевна, царский указ. Соизволь допустить меня в твои хоромы, – сказал полковник.
– Можешь ты говорить со мною и здесь, при всем православном народе! – запальчиво возразила царевна.
– Указал мне великий государь взять первого вора и изменника Федьку Шакловитого! – проговорил спокойно Нечаев.
– Никакого вора и изменника Федьки Шакловитого нет, а есть в Москве окольничий и начальник Стрелецкого приказа Федор Леонтьевич Шакловитый, – гневно перебила Софья.
– Он именно мне и нужен, – равнодушно заметил полковник, – так соизволь, государыня царевна, чтобы я забрал его…
– Схватите его! – крикнула в исступлении царевна, указывая рукою окружавшим ее стрельцам на Нечаева. – Сейчас же отрубить ему голову!
Стрельцы бросились на ошеломленного Нечаева, чтобы исполнить приказание царевны. На площади все стихло, все, притаив дыхание, с любопытством смотрели, чем кончится дело. Борьба Нечаева с напавшими на него стрельцами скоро кончилась. Распоряжавшийся стрельцами голова Кузьма Чермный тут же на площади хотел отсечь голову полковнику, но не нашлось на месте палача, и потому связанного Нечаева потащили в Стрелецкий приказ, чтобы там немедленно исполнить над ним приговор правительницы. Толпа народа повалила с площади за обреченным на казнь полковником.
Царевна возвратилась в хоромы. Шакловитый упал ей в ноги.
– Благодарствую, государыня царевна, что защитила меня! Взяли бы они меня на лютые пытки и на страшную казнь, – целуя ноги и руки царевны, говорил Шакловитый.
– Не посмеет никто тебя тронуть, пока я твоя заступница, – самоуверенно проговорила Софья. – Садись и пиши грамоту ко всем чинам Московского государства!
И она рассказала в общих словах содержание грамоты, или воззвания, которое должен был написать Шакловитый. В нем царевна жаловалась, между прочим, народу на то, что Лев Кириллович Нарышкин и его братья «к ее ручке не ходят и тем государскому ее имени ругаются», что от «потешных» многим людям чинятся обиды и насилия, что Федор Кириллович Нарышкин «забросал поленьями комнаты царя Ивана и изломал царский венец».
Шакловитый написал начерно воззвание. Царевна перечитывала несколько раз эту бумагу, делая в ней помарки и поправки. На другой день Шакловитый принялся переписывать воззвание начисто, а царевна, в сопровождении отряда стрельцов, отправилась к обедне в Новодевичий монастырь.
Ровно скрипело и прытко ходило по бумаге привычное перо бывшего приказного, когда явился в Москву новый посланец от Троицы. Не имея никаких известий ни от Нечаева, ни о нем самом, Петр отправил в Москву за Шакловитым и Сильвестром другого полковника с настоятельным требованием их выдачи. Новый посланец воспользовался уходом правительницы на богомолье и через боярина князя Прозоровского потребовал у царя Ивана выдачи Шакловитого.
– По мне, пусть забирают кого хотят, лишь бы меня не трогали, – равнодушно проговорил Иван, лежавший, по обыкновению, целый день в постели.
Прозоровский отправился с полковником и прибывшими из Троицы стрельцами в хоромы, которые занимал Шакловитый во дворце царевны. Никто из бывшей при ней стражи не посмел, да и не имел повода задержать боярина.
– Иди, Федор, спешней к великому государю Ивану Алексеевичу, он тебя к себе требует! – равнодушно сказал Прозоровский Шакловитому.
Не подозревая никакой западни в этом призыве, Шакловитый тотчас оставил свою письменную работу и побежал к государю. Но едва он показался на крыльце, как троицкие посланцы напали на него, крепко скрутили по рукам и по ногам веревками, ввалили в телегу и повезли в лавру.
Возвращаясь из монастыря, Софья узнала о захвате Шакловитого, но спасти его не было уже никакой возможности; теперь его быстро мчали по троицко-сергиевской дороге. Гневу и отчаянию царевны не было пределов.
Еще до захвата Шакловитого стрельцы навестили Заиконоспасский монастырь, чтобы схватить Сильвестра Медведева, но след его уже простыл. Он выбрался из Москвы в село Микулино и, там переодевшись в крестьянское платье, побрел, в виде странника, по смоленской дороге, пробираясь в Польшу.
XXXI
В то время, когда Шакловитый висел на дыбе в Троицкой лавре и бояре, преданные Петру, допрашивали его под ударами кнута, в селе Медведкове, на реке Яузе, в семи верстах от Москвы, укрывался от гнева Петра князь Василий Васильевич Голицын, не принимавший никакого участья в действиях царевны Софьи со времени неудачной ее поездки к Петру. Голицын, которому в мечтах царевны Софьи приготовлялся царский венец, помышлял теперь о побеге в Польшу, но невозможность захватить с собою свои громадные богатства заставляла колебаться и без того не слишком решительного боярина.
С ужасом узнал он, что Петр, хотевший пощадить Шакловитого, приказал, по настоянию патриарха, отрубить ему голову и что такой же казни, и тоже по требованию святейшего владыки, подверглись перед монастырем на московской дороге стрелецкие головы Петров и Чермный и трое рядовых стрельцов, выданные своими подчиненными и своими товарищами. С трепетом с часу на час ожидал боярин в своем роскошном поместье, что за ним явятся грозные посланцы из Сергиевской лавры, но он несколько ободрился, когда родственник его, князь Борис Алексеевич Голицын, пользовавшийся особенною благосклонностью Петра, обнадежил его, что ему будет дана пощада, если он явится в лавру с повинною. Долго не отваживался на это боярин, но наконец решился. Приехавшего к Троице Голицына не пустили за монастырскую ограду, но приказали жить на посаде. На другой день его потребовали к Петру, но он не удостоился зреть пресветлые очи государя, так как у крыльца царских палат, при многочисленном народе, думный дьяк объявил Голицыну о лишении его самого и его сына чести боярства, отписке их имущества на государя и о ссылке их с женами и детьми в Каргополь.
Софья осталась теперь одинока, и как правительница и как женщина; самые преданные ей и самые любимые ею люди были у нее отняты. Голицын был отправлен в ссылку, Шакловитый погиб на плахе, Медведев искал спасения в бегстве, Ивана Михайловича Милославского также уже не было: он умер еще четыре года назад. Стрельцы, видя решительную расправу семнадцатилетнего царя с приверженцами правительницы, стали волею-неволею переходить на его сторону, и Софья поняла, что конец ее власти близится. Противники ее действовали смело и неутомимо.
«Вручен скипетр правления прародительского нашего Российского царства, – писал в Москву из Троицкой лавры царь Петр своему брату Ивану, – двум особам, а о третьей особе, чтобы быть с нами в равенственном правлении, отнюдь не вспоминалось, а как сестра наша, царевна Софья Алексеевна, государством нашим учала владеть свою волею, и в том владении, что явилось особам нашим противное, а народу тягость, о том тебе, государь, известно. А теперь, государь-братец, настоит время нашим особам Богом врученное нам царствие править самим, понеже мы пришли есьми в меру возраста своего, и третьему, зазорному лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужескими особами в титлах и расправе быти не изволяем, на то бы и твоя, государя моего брата, воля склонилась, потому что учала она в дела вступать и в титлах писаться без нашего изволения, к тому же еще и царским венцом для конечной нашей обиды венчаться хотела. Срамно, государь, при нашем возрасте тому зазорному лицу государством владеть мимо нас. Тебя, государя-брата, яко отца, почитать готов. Писавый в печалех брат ваш Петр здравия желаю и челом бью».
С обычным равнодушием выслушал царь Иван прочтенное ему письмо Петра.
– Пусть братец Петр поступает по своей воле, – пробормотал он, повернувшись на постели с одного бока на другой.
Достаточно было противникам Софьи этих слов. Петр тотчас же приказал исключить имя царевны Софьи из имен царей, и 12 сентября 1689 года она сошла с той высоты, на которую возвел ее смелый ум. Но у нее, как у женщины, оставалась еще добытая ею свобода.
XXXII
Под Москвою, у Воробьевых гор, по берегам реки Москвы расстилается широкий дол, носивший издавна загадочное название Девичьего поля. В 1524 году, по обету великого князя Василья Васильевича, была построена здесь женская обитель. В этот «обетный» монастырь собралось много инокинь «девичьего чина», и он, в отличие от старого, уже существовавшего в Москве женского монастыря, был назван Новодевичьим. В него вступали только представительницы сильных и знатных московских родов, и бывало так, что на сто двадцать две тамошние монахини приходилось двадцать боярынь, не считая вдов и дочерей других, тоже весьма чиновных людей. В отношении иноческого жития отшельницы Новодевичьего монастыря соблюдали общие для монашествующих обеты, но была у них одна особая верноподданническая обязанность: они должны были вязать для государя носки и рукавицы, и надобно полагать, что они соблюдали эту обязанность неупустительно, так как до нас не дошли известия, чтобы кто-нибудь из державных потребителей этих рукодельных предметов встречал когда-нибудь в них недостаток. Другие монастыри также несли издревле разные натуральные повинности в пользу государева двора, доставляя туда хлеб, капусту, квас, пиво и рыбу.
Промелькнул Новодевичий монастырь и в летописных наших сказаниях; мимо него протоптали дорогу кони крымцев и ногайцев, делавших набеги на Москву, и не раз перед его оградою и даже за нею разбивали свой шумный стан и русские и вражеские рати. Новодевичий монастырь, как и другие стародавние наши обители, мог служить крепостью для обороны против неприятеля. Новодевичья обитель была обведена земляным валом и окружена высокою каменною зубчатою стеною с бойницами, стрельницами и башнями. Величаво выглядывали из-за монастырских стен большие каменные здания, а среди них высились храмы с вызолоченными главами. Внутри эти храмы отличались большим благолепием; в них были на стенах «бытейская живопись», то есть картины, представлявшие события из священной истории; расписанные столбы, обставленные образами в золотых и серебряных окладах; на иконостасе иконы, обвешанные нитями жемчуга, серьгами, перстнями и золотыми монетами и усеянные драгоценными камнями – то были вклады богатых боярынь и боярышен, вступавших в монастырь, а также богоугодные приношения доброхотных дательниц. В этот же монастырь отдавались из царских дворцов и боярских хором драгоценные иконы – походные, келейные, комнатные и выносные.
Богат был Новодевичий монастырь лугами, пожитями, лесами, рыбными ловлями и разными угодьями, и считалось за ним до 15000 крестьян. Имел он для своего обихода всякие рукоделья и ремесла. Состояли, между прочим, при нем и гробовые мастера, выгодно сбывавшие по Москве свои ходкие, постоянно требовавшиеся изделия.
В этот монастырь, в исходе сентября 1689 года, была, по распоряжению Петра, заключена на безысходное житье «за известные подыскательства» царевна Софья Алексеевна. Долго и упорно противилась она такому распоряжению брата, не желая расстаться с привольною жизнью в своих кремлевских палатах. С большим трудом настоял Петр на выезде ее оттуда.
Со времени переселения царевны в Новодевичий монастырь богохранимая обитель приняла воинственный вид. В ней завелись крепкие караулы, зорко, под главным начальством стольника князя Федора Юрьевича Ромодановского*, сторожившие невольную отшельницу, которая не унималась и за монастырскою оградою, продолжая по-прежнему именовать себя самодержецею Великия, Малыя и Белыя России.
Не в тесной и не в уединенной келье поселилась низложенная, но не постриженная еще в монашество бывшая правительница. Для нее отведено было в монастыре обширное помещение, состоявшее из ряда келий, с окнами, выходившими на Девичье поле. Смотря на него, царевна с томительною тоскою вспомнила о былом своем величии, когда на этом самом месте перед нею, полновластною повелительницею государства, двигалась многочисленная стрелецкая рать, под начальством полюбившегося ей и потом погибшего за нее Шакловитого. Мучительные воспоминания терзали властолюбивую царевну в ее безысходном заточении.
«Не вечно же будет длиться мое заточение, – ободряла себя Софья в минуту страшного отчаяния. – Симеон говорил мне, что, по предсказанию астрологов, век Петра будет не долог. Да и царевна Пульхерия была также заключена братом в монастырь, но потом возвратилась во дворец и правила опять государством со славою до конца своей жизни».
Голицын, предмет первой любви только что вырвавшейся из терема, в ту пору еще очень молоденькой девушки, был ей мил и теперь в ее монастырской неволе. Перед самым выездом из своих кремлевских палат она нашла возможность переслать ему со стольником князем Крапоткиным триста червонных и узнала от Крапоткина, что Василий Васильевич находится в бедственном положении, что место его ссылки изменено, так как его отправили не в Каргополь, как было объявлено ему прежде, а в Яренск, убогую зырянскую деревушку в нынешней Вологодской губернии, где он томился в нищете и почти умирал с голоду с своею семьею, привыкшею к удобствам и роскоши.
Живя в Новодевичьем монастыре, Софья не могла жаловаться на строгое уединение. Молельщики и молельницы по-прежнему допускались в монастырь беспрепятственно, а в большие праздники навещали ее тетки и сестры. В монастыре она была окружена своими прежними мамами, постельницами и прислужницами; но скучна и томительна была для Софьи однообразная их беседа; ей нужны были разговоры с разумными и книжными людьми, а не пустая обыденная болтовня баб.
Пользовалась царевна в монастыре большим довольством. Ежедневно отпускалось ей в келью вдоволь и яств, и питей. Каждый день выдавалось на нее по ведру приказного меду и мартовского пива и по два ведра приказного и хмельного пива, а также по два ведра браги. Этим не ограничивалось питейное, слишком избыточное продовольствие, так как на Рождество и на Пасху отпускалось еще по ведру коричневой и по пяти кружек анисовой водки. Съестное продовольствие было также изобильно, так как для царевны ежедневно присылали с царского кормового двора десять стерлядей, щуку, леща, трех язей, тридцать окуней и карасей, два звена белой рыбы, зернистую икру, просольную стерлядь и белужину. Можно было порядком насытиться от этой, хотя и постной, трапезы, и, по всей вероятности, немало инокинь порядком откормилось, благодаря пребыванию царевны в их обители. Вдоволь было также у царевны хлеба: белого, зеленого, красносельского, папошников*, саек, калачей, пышек, пирогов, левашников*, караваев, орехового масла и разных пряных зелий для вкусной приправы. Не обидел царь Петр свою сестрицу и сластями. Повелел он выдавать ей: по четыре фунта леденца белого и красного, полфунта сахару «кенарского», по пуду среднего и по четыре фунта леденцов «ряженых»*, по три фунта заграничных и конфект и сколько угодно пряников, коврижек и иной всякой сласти.
Понятно, впрочем, что никакие снеди, хотя бы приготовленные на сахаре, меде и патоке с инбирною и другими приправами, не могли усладить горечи жребия, доставшегося в удел Софье. Бездействие всего сильнее угнетало и удручало царевну, привыкшую уже к кипучей и разнообразной государственной деятельности. А чем она могла заняться в монастыре, оторвавшись однажды от однообразной и прежде уже не нравившейся ей жизни в теремах! Никогда не любила Софья женских рукоделий, а чтения на русском языке в ту пору было вообще мало, притом она перечитала уже все, да и зачем было читать, когда не с кем было потом разделить беседу о прочитанном.
Проходил год за годом, и минуло уже пять лет с того времени, как Софья, лишенная власти, въехала в монастырские ворота. Умерла в это время злейшая ее ненавистница, царица Наталья Кирилловна, но положение царевны не изменилось: каждый день тот же благовест, то же молитвенное пение и, наконец, то же самое перед глазами, а на уме и на душе у царевны совсем иное. Братец Петруша был суров и непреклонен по-прежнему, да и царевна, строптивая от природы и побывавшая уже во власти, не хотела покориться ему и просить у него пощады.
В январе 1696 года умер царь Иван, не посещавший сестры под предлогом болезни, но, вероятнее, в угоду Петру, который даже не позволил Софье присутствовать на его похоронах. Петр стал единодержавствовать, и заговорили в Москве, что молодой государь хочет все царство переделать на иностранный лад.
Среди своего отчуждения Софья отводила порою душу в беседах с сестрами, приезжавшими к ней в монастырь.
– Наш-то Петрушка все на новые выдумки и затеи лезет, свернуть бы ему поскорее шею! – говорила однажды старшая из сестер, царевна Марфа Алексеевна, разделявшая с Софьей непримиримую ненависть к Петру. – Хорошо было бы, если бы стрельцы, а за ними народ поднялись против него и ты бы, сестрица, тогда на свободу вышла. Держит он тебя, злодей, в тяжкой неволе. Толковали прежде, будто все зло от Натальи Кирилловны шло, а теперь и нет ее, а тебе, родная моя, все-таки не полегчало.
– Крепко она научила его нас ненавидеть, весь грех за наши страданья на ее душе! – сказала гневно Софья, с навернувшимися на глазах слезами.
– Господь Бог даст, все твои муки, Софьюшка, скоро кончатся. Стрельцы снова шуметь принимаются, за тебя хотят постоять, все они тебя добром вспоминают, – утешала ее царевна Марфа.
– Бояре против меня, невзлюбили они меня за то, что я им воли не давала, – перебила Софья.
– Да бояре-то не постоят и за Петрушку, роптать на него начинают за то, что с иноземцами дружит, а своих, русских, как будто презирает, – перебила Марфа.
– Надобно бы, Марфушка, со стрельцами поближе стакиваться, посылай-ко почаще в их слободы, пусть твои постельницы да другие надежные и толковые бабы со стрельчихами сходятся. Ведь и в прошлые годы я через них стрельцами распоряжалась, – наставляла сестру царевна.
– Исполняю твои советы, сестрица-голубушка. Слышно, что Петрушка в Воронеж ехать собирается, суда там строить хочет, а потом пойти войною на басурман.
– Пропасть бы ему там! – пожелала Софья.
Подобные беседы, в которых слышалась постоянная злоба против Петра и надежды на перемену к лучшему, вела Софья и с другими своими сестрами – Марией, Екатериной и Феодосией. Надежды эти, как казалось царевнам, готовы были осуществиться, когда состоявший в царской службе и пользовавшийся прежде расположением Петра иноземец Цыклер, а из русских Соковнин и Пушкин* составили против Петра заговор. Смелый их замысел был, однако, открыт, и их четвертовали: сперва отрубили руки и ноги, а потом и головы; а при производстве о них дела оказалось, что царевна Софья не была чужда замыслов заговорщиков. В 1697 году сходил Петр под Азов и, возвратясь оттуда в Москву победителем, задумал отправиться с великим посольством за границу.
– Смотри за царевною Софьей Алексеевною, да смотри, Федор Юрьевич, хорошенько, чтобы порухи какой не было. Гляди в оба, чтобы она никаких сношений за монастырскою стеною не заводила. Знаю я ее преотменно. И сидя в Новодевичьем, сумеет она наделать много бед. Не пускай к ней никого из чужих, да и за другими царевнами присматривай. Ведь и на них больно много полагаться нельзя. Хитрый народ эти бабы, сумеют они провести хотя кого. Сестрам не позволяй ездить в монастырь во всякое время, как это велось прежде, пусть приезжают только дважды в году: в Светлый праздник и в храмовый, да разве в случае тяжкой болезни Софьи Алексеевны дозволь им побывать у нее, но и тогда не оставляй их без присмотра. Молельщиков, как только служба кончится, а пуще всего баб, тури из монастыря вон, а кого в чем заподозришь, того тут же и хватай. Особенно не допущай в монастырь певчих: в церкви они поют «спаси от бед рабы твоя», а на паперти денег дают на убийство! – наказывал Петр Ромодановскому при отъезде своем за границу.
– Положись на меня, великий государь, все без тебя по монастырю в порядке будет, – самоуверенно успокаивал Петра будущий князь-кесарь и будущий грозный начальник страшного Преображенского приказа.
Кроме словесных наставлений, царь дал Ромодановскому еще и письменные, пригрозив, разумеется, что плохо ему будет, если он сделает что-нибудь против государевой воли.
Уехал царь в чужие земли, крепко положившись на Ромодановского, и, надобно сказать правду, сторожил Ромодановский царевну усердно, приглядывался и прислушивался он ко всем приходившим в монастырь, расспрашивал и разведывал, хватал тех, которые казались ему подозрительными, и вообще исполнял царские наставления со всевозможною добросовестностью, хотя подчас и становилась ему тяжела его слишком заботливая и беспокойная жизнь.
Сидел однажды Ромодановский у окошка своего жилья, отведенного в монастыре, и поглядывал на монастырский двор. Перед ним то пройдет, еле плетясь, древняя старица с потупленными глазами, бормоча что-то себе под нос, то живо шмыгнет молоденькая беличка*, в остроконечной черной шапочке, и стыдливо, будто невзначай, вскинет глазки на здоровенного князя-стольника и плутовато улыбнется.
«Ведь вот поди, – думал Ромодановский, глядя на расхаживавших взад и вперед по монастырскому двору монахинь и беличек, – живи они мирянками, такой бы свободы не имели, ходили бы они под фатою да укрывались бы от мужчин, а тут знай себе разгуливают промеж народа! Выходит, что в монастыре им вольготнее, чем было бы в супружеском или родительском доме. Да и к чему теснить люд Божий? Долга ли вся-то наша жизнь, а пожить-то каждому хочется».
Так думал стольник, не отличавшийся прытким умом, но, как видно, рассуждавший на этот раз очень толково.
В ту пору куренье табаку было не в ходу. По патриаршим и царским указам «чертово зелье» находилось еще под запретом и за попытку курить, или, как тогда говорилось, «пить» его, можно было поплатиться отрезкою носа, а потому стольник, не имея чем бы развлечься, свесившись за окошко, поплевывал вниз да мурлыкал вполголоса какую-то заунывную песню.
– Эй ты, тетка! – вдруг встрепенувшись, крикнул он, завидя шедшую по монастырскому двору карлицу. – Куда ты бредешь?
– К государыне царевне, милостивец! – бойко отвечала карлица, подняв к Ромодановскому свое безобразно-добродушное лицо.
– А от кого?
– От сестрицы ее, царицы Марфы Алексеевны.
– А как зовут тебя?
– Авдотькою, кормилец, Авдотькою.
– А что в узле тащишь?
– Стряпню, государь боярин!
– Ну, иди с Богом, – снисходительно проговорил Ромодановский.
– Да что, светик мой, караульные-то твои не хотят меня пропущать, больно уж теснят! – вздумала жаловаться карлица, ободренная обходительностью царского стража.
– Ничего, тетка, тебе ходить можно, я велю пропускать тебя. – И, свесившись снова за окошко, князь-стольник принялся от скуки за прежнее занятие.
«Пусть себе ходит! Нужно же чем-нибудь и царевне попризаняться! Не все же ей молиться или сидеть сложа руки», – думал Ромодановский.
Действительно, по приказанию царевны Марфы карлица несла Софье Алексеевне стряпню: словом этим означалось в старину, между прочим, и женское рукоделье.
С беспокойством Софья стала перебирать присланную ей от сестры посылку и между «знамениями», или узорами для вышивания, мотками шелка, нитей бисера и бус, кусками бархата, парчи и атласа нашла письмо от Марфы. Из этого письма она узнала чрезвычайно важные вести, которые дошли до ее сестер от ходивших к ним на «кормки» стрельчих. Кормки бывали у цариц по девяти раз в году, а у царевны Марфы, как и у других ее сестер, по четыре раза. Происходили они во дни поминовения покойных их родителей, и тогда в кремлевские терема набиралось каждый раз всякого бабья не менее двух сотен. Угощали на кормках сытно: в скоромные дни подавали студень, говяжьи языки, гусиные полотки, ветчину, куриц, кашу, караваи, пироги с говядиною и яйцами; в постные дни – армянскую, то есть астраханскую, паюсную и свежую икру, соленую белужину, тёшки, снетки, караваи с рыбою, грибами и кашею; подносили также вдоволь вина, пива и меду. Всего более собиралось на эти кормки стрельчих, которые свели близкое знакомство с постельницами царевны Марфы, Анною Клушиной и Анною Жуковой, и через них до Марфы дошли известия о таких событиях, о которых не знали еще бояре-правители, назначенные уехавшим в чужие земли царем ведать и вершить государственные и земские дела. Лицо царевны-узницы просияло радостью, когда из подосланного ей Марфою письма она узнала, что стрельцы, отправленные после азовского похода на литовскую границу, не захотели туда идти, что из них сто семьдесят пять человек убежали в Москву и здесь громко заговорили против царя и против бояр-правителей.
– Житья нам не стало от царя! Сперва он только пристал к немцам, а теперь и сам залетел в их сторону, а между тем мучают нас непосильною службою да никогда не бывалыми прежде «фортециями», а по милости бояр три года мы скитаемся в походах. Такое ли было наше житье при царевне Софье Алексеевне? Нужно опять посадить ее на державство, она нам повольготит.
Узнав об этом из письма сестры, царевна схватила перо и принялась писать:
«Постояли бы стрельцы за меня, а я службу их не забуду. Жаль мне их, бедных, хотят изрубить их всех бояре», – отвечала письменно Софья на извещение Марфы о начавшемся волнении между стрельцами, и карлица понесла этот ответ к своей царевне.
Князь-стольник продолжал смотреть по-прежнему на монастырский двор, и низко поклонилась ему Авдотька, проходя мимо него.
– Приходи, тетка, и в другой раз! – сказал ей почему-то особенно благодушествовавший в этот день Ромодановский. – Пропускать я тебя уже велел.
– Благодарствуем, кормилец, благодарствуем, – бормотала карлица, спокойно выходя из монастыря, охраняемого у ворот сильною воинскою стражею.
Письмо Софьи тотчас же сделалось известно стрельцам, и они поспешили отправиться из Москвы к своим полкам, остановившимся в Торопце, чтобы мутить их, поручив выборным вести сношения с царевною. Карлица продолжала ходить в монастырь, и через нее обе сестры вели деятельную переписку под самым носом оплошавшего Ромодановского, который, по обыкновению, сидел у окошка, посматривая на монахинь и преимущественно на молоденьких белиц.
Софья как будто ожила. Ей после девятилетнего заточения стали грезиться не в далеком будущем кремлевские палаты и царский венец. Она опять начала верить, что ее ждет участь царевны Пульхерии, и виделся ей Голицын в образе престарелого Маркиана. Царевна стала теперь деятельно заниматься возбуждением нового стрелецкого мятежа для низвержения ненавистного ей брата. Дело, казалось, шло успешно. За распутицею не было долго никаких известий о царе, подъезжавшем между тем к Вене. Пошел по Москве слух, что царь за границею умер, что бояре хотели задушить царевича Алексея Петровича и до того зазнались, что били по щекам его, царевича, мать, царицу Евдокию Федоровну. В Москве настало опять тревожное время, «на всех бабий страх напал», писал один из современников этой эпохи.
Софья между тем смело вела начатое дело.
«Пусть четыре стрелецких полка станут табором на Девичьем поле, – распоряжалась она в письме своем к Марфе, – и бьют мне челом идти к Москве против прежнего на державство, а если бы солдаты, которые стоят у монастыря, к Москве отпускать меня не стали, то управиться с ними и побить их, то же сделать и со всеми, кто стал бы противиться».
Стрельцы, в свою очередь, не исполняли присланного им от бояр повеления о походе на литовский рубеж, но самовольно, грозя смертью своим начальникам, двинулись к Москве для выручки из монастыря царевны. Стрельцы пошли на Москву малыми отрядами, и 6 июня 1698 года все четыре полка соединились на реке Двине, но там заколебались: идти ли им далее или нет?
«Чего стали? – писала им туда Софья. – Ныне вам худо, а будет еще хуже. Идите на Москву, про государя ничего не слышно».
– Грянем на Москву! Умрем друг за друга! Перебьем бояр, а чернь нас не выдаст. Кто не будет с нами, того посадим на копья, а на державство призовем царевну Софью Алексеевну! Коли царь жив, так не пустим его в Москву, начал он веровать в немцев, принял звериный образ и стал носить собачьи кудри! – кричали бурливо стрельцы, ободряемые Софьею.
Разинули рты и повытаращили от изумления друг перед другом глаза бояре-правители, когда нежданно-негаданно проведали, что не послушавшиеся их повелений стрельцы подходят к Москве. Выслали они против мятежников новые царские полки, при двадцати пяти пушках, под начальством боярина Шеина*, дав ему в товарищи иноземца генерала Гордона* и воеводу князя Кольцова-Масальского. Приблизившись 18 июня к стрельцам, около Воскресенского монастыря, московские военачальники вступили с ними в переговоры.
– Нечего нам с вами переговариваться! У всех у нас одна душа: ляжем за государыню Софью Алексеевну, да и только! – отвечали стрельцы.
Гордон, принявший, вместо оробевшего Шеина, главное начальство, дал им четверть часа на размышление.
– Эй, вы, батьки! Живее служите молебен о победе и одолении! – прикрикнули стрельцы на своих попов. – Стойте, братцы, что Бог ни даст! – кричали они друг другу, и едва лишь выстроились они в боевой порядок, как над их головами с шипением и свистом пролетели пущенные из царских пушек четыре ядра для их острастки.
– Пойдем, братцы, грудью напролом! – гаркнули стрельцы.
Полетели вверх их шапки, и начали они отстреливаться. Вскоре, однако, смешались и попятились назад, а преображенцы и семеновцы дружно ударили на них, кололи и рубили их, а захваченных живьем тащили в тюрьмы Воскресенского монастыря.
Круто принялись бояре расправляться с забранными в полон стрельцами, допрашивали их с пытки и с огня, но ни один из них не выдал Софьи Алексеевны.
– Спроста хотели мы стать табором на Девичьем поле, потому что оттуда слободы наши близки, – отвечали они на все пыточные допросы и молча, творя только крестное знамение, шли на смертную казнь.
Вешали бояре сразу человека по три, по пяти и перевешали, таким образом, семьдесят четыре человека, немилосердно исполосовали кнутом спины у ста сорока стрельцов, а тысячу девятьсот шестьдесят пять, менее виновных, отправили в дальнюю ссылку.
XXXIII
Пробыв уже полтора года за границею и узнав в Вене о возмущении стрельцов, Петр отложил свое дальнейшее путешествие и явился в Москву ранее, чем его ожидали бояре-правители. 25 августа, в шесть часов пополудни, он был в Москве, а на ночь уехал в Преображенское.
На другой день вельможи явились на поклон к государю. Ласково принял их двадцатишестилетний государь, многих обнимал, целовался с ними, рассказывал им о своем путешествии, а между тем бывшими у него в руках ножницами то одному, то другому отрезывал бороду, вдруг захваченную его державною рукою, освободив от этой операции только Тихона Никитича Стрешнева* да князя Михаила Алегуковича Черкасского, первого – в уважение его преданности, а второго – по уважению слишком преклонных его лет. Пошла теперь стрижка бород, а ими в ту пору всего более дорожили и всего более гордились русские люди. Спешно подбирали они с полу остриженные царем бороды и приказывали положить их с ними в гроб, чтобы не предстать на страшном судилище без бороды и хотя про запас иметь ее в руках в день ответа за все прегрешения вольные и невольные. Забыто было теперь, что на соборе, бывшем при царевом прародителе, патриархе Филарете, положили «анафемствовать» за бритье бород, как за обращение лица человеческого, созданного по образу и подобию Божиему, в «псовидное безобразие». Забыто было гонение, поднятое отцом государя, царем Алексеем Михайловичем, на бривших бороду, которых он, как отлученных от Церкви, воспретил предавать христианскому погребению. Не обращали внимания и на поучение настоящего патриарха Адриана*, который в пастырских своих посланиях поучал, что «брадобритники с одними усами подобны котам и псам».
Обрезывая бороды, царь думал и о том, что не мешает для государственного блага отрезывать и головы.
– Бабьих рук дело был последний стрелецкий бунт! Худо вы допрашивали, я допрошу лучше вашего! – гневно крикнул он, выслушав доклад бояр о стрелецком мятеже.
Голова его нервно задрожала, и судорожное подергивание, признак необузданного гнева, – появилось на его лице.
Принялся сам царь за допросы. Разосланных прежде боярами стрельцов стали свозить отовсюду в Москву и рассаживать по тамошним монастырям или в крепких оковах, или прикованными на цепи к стенам. Устроили в Преображенском четырнадцать застенков, заскрипели там ремни и веревки, затрещали блоки и послышалось тяжелое шлепанье кнута. С лишком тридцать костров курилось в то время в Преображенском, и носился около них смрадных запах от сожигаемого человеческого тела, так как пытка огнем была теперь в большом ходу.
В день именин бывшей правительницы, 17 сентября 1698 года, начался немилосердный розыск.
– Софью Алексеевну в управительство взять себе хотели? По письму ль ее вы ваше злодейское дело затеяли? – допрашивали стрельцов на пытке.
– Шли мы сами к Москве от голоду и скудости, а царевна ни в чем не виновата, – отвечали они.
Один только из них не выдержал пытки, да и то уже с третьего огня.
– Точно, что царевна писала, чтобы мы шли к Москве и, спросясь ее, стали бы табором под Новодевичьим, – пробормотал измученный стрелец Алексеев с растерзанною спиною, изломанными членами и, вдобавок к тому, с боками, поджаренными три раза на медленном огне.
– Подавай сюда баб! От них мы допытаемся, через кого сносилась со стрельцами Софья Алексеевна, – крикнул Петр, узнав о показании Алексеева.
Тотчас же захватили маму царевны Софьи, Марфу Вяземскую, четырех ее постельниц и карлицу Авдотью. Притащили также в застенки разных Любавок, Маринок, Улек, Аринок, Мавруток, Васюков, Танек, и начали раздаваться там женские взвизгиванья, вопль, плач и стоны.
– Вот все ждали бабьего царства, ан наступила гибель бабьего рода! – заговорили по Москве, узнав о расправе Петра с женщинами.
– Помилосердуйте, отцы родные! Дайте хотя опамятоваться! – кричали женщины, приходившие, по тогдашнему выражению, «в изумление» от жестоких пыток.
Все сумрачнее становился царь, по мере того как открывалось прямое и деятельное участие Софьи в последнем стрелецком мятеже. Долго он не решался увидеть и допросить виновную сестру.
«Ну, как дрогнет мое сердце, когда я увижу ее?» – думал он и только после долгой борьбы с самим собою решился отправиться в Новодевичий монастырь и там лично допросить царевну.
Молча некоторое время стояли брат и сестра, злобно смотря друг на друга. Царевна тяжело дышала, Петр чувствовал, что голос его замирает от сильного волнения.
– Писала ты то письмо, которое стрельцы от твоего имени получили на Двине? – глухо спросил он.
Софья не отвечала ничего.
– Ты слышишь, о чем я тебя спрашиваю? – грознее прежнего проговорил Петр.
– Такого письма я не посылала, и стрельцы пришли меня звать в правительство не по моему письму, а потому, что я была уже в правительстве, – задыхаясь от гнева и с горделивым воспоминанием о своем прошлом, вымолвила царевна.
– Не хочешь сознаться добровольно, так сознаешься у пытки! – не проговорил, а как будто прорычал царь и, окинув сестру свирепым взглядом, быстро вышел из ее кельи.
– Мучитель ты мой! – взвизгнула Софья, хватаясь в отчаянии руками за волосы. – Бог накажет тебя за твое злодейство!
– Не сознается, – сказал Петр приехавшему с ним вместе в монастырь Гордону и ожидавшему у крыльца государя.
– Казни ее смертью! – посоветовал сумрачно Гордон.
– Нет, Патрикий, казнить ее смертью я не буду, а пусть увидит она, к чему привели ее козни! – говорил царь, садясь на коня на монастырском дворе, и выехал он из Новодевичьего еще мрачнее, нежели туда приехал.
Еще до поездки Петра к Софье начали ставить виселицы в Белом городе и в стрелецких слободах у съезжих домов. Виселицы устраивались на двух высоких столбах с длинною поперечною перекладиною наверху. В некоторых местах виселицы располагали так, что они составляли равносторонний четырехугольник. 30 сентября начались в Москве казни, которые не только напоминали время Иоанна Грозного, но, пожалуй, и превосходили это время своим беспощадным зверством.
В этот день, рано утром, потянулись из Преображенского к Белому городу, под сильным военным прикрытием, сотни телег. В каждой из них сидели по два стрельца, в саванах, с горящею восковою свечою в руках. За телегами, с отчаянным воплем и воем, бежали жены, матери и дети обреченных на казнь. Ужасный поезд остановился у Покровских ворот, в ожидании приезда государя. Вскоре приехал он туда, в зеленом бархатном кафтане польского покроя, с маленькою шапочкою на голове. С ним явились, в качестве приглашенных зрителей, генерал Лефорт*, а также множество бояр. Все они были на конях.
– Слушать и стоять смирно! – громко крикнул царь, сделав знак рукою, чтобы замолчали. – Читай приговор! – обратился он к дьяку.
Среди глубокой тишины началось чтение приговора. При этом чтении беспрестанно слышались слова: воры, изменники, клятвопреступники, бунтовщики – названия, которые придавал приговор привезенным на казнь стрельцам. По прочтении приговора дьяк стал вызывать по очереди присужденных к казни.
Безропотно всходили они на лестницы, приставленные к виселицам; палачи накидывали им на шеи петли и сталкивали их с подмостков, и вскоре двести шесть человек или уже висели бездыханными трупами, или отходили в вечность в предсмертных корчах. После вешанья началась рубка, и пять стрелецких голов мигом отделились от туловищ.
– Этих сберечь про запас для розысков! – крикнул Петр, когда стали подводить к плахе еще других стрельцов, приговоренных также к отсечению голов.
В то время, когда на Красной площади вешали стрельцов и рубили им головы, там же нещадно били кнутом других их товарищей, признанных менее виновными. В бессознательном положении снимали их с кобылки и тут же клеймили в левую щеку, рвали ноздри и резали уши и пальцы.
Вопль и стон стоял на этом ужасном месте. С суровым равнодушием разъезжал на коне царь между плахами, виселицами и кобылками, на которых лежали притянутые ремнями стрельцы, а между тем в Преображенском и на Красной площади готовились новые, еще лютейшие казни. В этом селе, на возвышении, которое было занято торговою площадью, стояли ужасные орудия смерти, и здесь, рассказывает очевидец Корб*, «благороднейшая десница Москвы отрубила пять мятежных голов». Офицеры Преображенского и Семеновского полков взялись также за топоры. Обезглавленные трупы валялись в крови на площади, и, казалось, с завистью посматривали на них те, которых ожидали колесование и четвертование. Казни продолжались с небольшими перерывами несколько месяцев, и сбылось предсказание Долгорукова о том, что зубцы кремлевских стен будут унизаны повешенными на них стрельцами, так как стрельцов вешали теперь и на этих зубцах. Повторялись казни и в Преображенском. Там принимались за работу все: бояре, думные дьяки, палатные и служилые люди. Они неопытными, дрожащими руками наносили казнимым неверные удары, то рубя их по затылку, то рассекая им спины. Немало досталось тут всем кровавой работы, так как в один прием было отхвачено триста тридцать голов. 28 октября вешали перед церковью св. Троицы расстриженных попов, служивших молебны при наступлении стрельцов на Москву. Сюда явился царский шут в красной однорядке, с надетым поверх ее синим кафтаном с земляным поясом и в такой же шапке с лисьим околышем и в красных сапогах. Живо сбросил он с себя этот обычный шутовской наряд, оделся попом и в этой одежде то накидывал одному из расстриг на шею петлю, то, быстро отбегая от него, рубил голову другому.
Отсюда, по окончании казни, царь поехал на Девичье поле.
Накануне этого дня царевна Софья была заперта одна в келье с тремя окнами, выходившими на поле, и вот около полудня под окнами ее кельи послышался шум и раздался конский топот. С ужасом, смешанным с любопытством, взглянула царевна сквозь железную оконную решетку: по полю двигался длинный ряд телег с посаженными в них стрельцами, и в то же время показался невдалеке скачущий на коне Петр, окруженный близкими к нему людьми.
Задрожав всем телом, царевна забилась в угол кельи, и ей, точно в тяжелом забытьи, чудился громкий говор, слышались плач, рыдания, крики, а среди всего этого зловеще звучал в ее ушах повелительный голос Петра… Наконец все стихло. Софья подбежала к окну и в ужасе отшатнулась. Бросилась к другому и к третьему и быстро отскочила от них. Она вскрикнула, рванулась к двери, ударила в нее изо всей силы, но глухо отозвался удар женской руки о крепкую железную дверь, а на ее отчаянный вопль не только никто не поспешил, но даже и не откликнулся. Среди мертвенной тишины на глазах царевны было теперь потрясающее душу зрелище. Перед каждым окном ее кельи, на веревке, привязанной к бревну, укрепленному между зубцами монастырской стены, висел мертвец с посинелым, раздувшимся лицом, высунувшимся языком и выкатившимися глазами. У каждого из них правая рука была протянута к окну кельи, а в руке было вложена бумага – стрелецкая челобитная о вступлении царевны в правительство.
Настала ночь. Поднялся в небе полный месяц и навел свой бледный свет на мертвецов, которые протягивали к царевне окоченелые руки, зазывая ее на державство, а несколько далее на поле виднелось, в белых саванах, еще сто девяносто пять повешенных стрельцов.
Тянулось медленно для царевны время день за днем, а нежданные пришельцы оставались на прежних местах. Слетавшиеся к ним вороны выклевывали им глаза и рвали саваны, добираясь до мертвечины. Ветер качал трупы, становившиеся с каждым днем отвратительнее, и поотлегло от сердца у Софьи, когда зимний снег запорошил их, истрепались в клочки бывшие у них в руках челобитные, но стрельцы не отступали ни на шаг от окон царевниной кельи.
Все страшные рассказы о мертвецах беспрестанно приходили на память Софье, и ужас, нагоняемый суеверием, не давал ей покоя. Пробудились в душе царевны терзания совести при мысли, что она была виновата в гибели этих людей.
«Мы пришли к тебе, благоверная царевна, ударить челом и не отойдем от тебя, пока ты не пожалуешь к нам на державство. Мы надеялись на тебя и за тебя пострадали. Умерли мы мучениками, ты не видишь тех язв и пожогов, которыми покрыто все наше тело. Выходи поскорее к нам, великая государыня, давно мы ждем твоего царственного выхода, твоих милостей и наград!»
Петр сказал правду Гордону: он измыслил для своей сестры страшную кару, которая была для нее ужаснее смертной казни.
Вскоре после этого царевна Софья, некогда полновластная правительница государства, обратилась против воли, по принуждению брата, в смиренную инокиню Сусанну, и строже прежнего преображенцы и семеновцы стали сторожить ее в Новодевичьем монастыре.
Сестру свою Марфу отправил Петр в Александровскую слободу, и там, в Успенском монастыре, она была пострижена под именем Маргариты.
Теперь Софье, которой казался тесен и душен терем московской царевны, пришлось в течение многих лет испытывать заточение в Новодевичьем монастыре, сделавшемся ее вечною темницею. Чтобы сторожить хорошенько царевну, Петр поселил в Новодевичьем монастыре, на счет монастырской казны, трех майоров, двух капитанов и четырех поручиков; и все эти штаби обер-офицеры принялись хозяйничать во святой обители по-военному, гораздо полновластнее, чем мать-игуменья и разные должностные старицы.
Между тем повешенные и обезглавленные трупы оставались на прежних местах, а на Красной площади стояли столбы, на которых воткнуты были отрубленные головы. В начале февраля 1699 года вывезли из Москвы тысячу шестьдесят восемь трупов и разложили их грудами на двенадцати больших примосковских дорогах, а зарыли только в половине марта. Стрелецкое войско было уничтожено Петром в июле 1699 года, слободы стрелецкие разорены, а стрельчихи повысланы из Москвы.
Страшно отомстил Петр главному своему ненавистнику, уже умершему боярину Ивану Михайловичу Милославскому. Тринадцать лет лежал он спокойно в могиле, когда Петр приказал вырыть его труп и отвезти в Преображенский приказ. Когда труп откопали, голова у него оказалась цела, но сделалась величиною только в кулак, борода у Милославского выросла в могиле почти до колен, а все тело его было твердо, как камень. Этот безобразный труп от могилы до приказа везли в сопровождении палачей на тележке, в которую запряжены были шесть чудских свиней. В приказе труп рассекли палачи топорами на мелкие части, и эти куски были зарыты под дыбами во всех застенках.
– Он желал царской крови, так пусть теперь захлебнется иною кровью под дыбами! – сказал Петр, отдавая приказание о загробной казни своего врага.
На помосте, внутри соборной церкви Смоленской Божией Матери, находящейся в Новодевичьем монастыре, стоит каменная гробница, в подножие которой вделана следующая надпись: «Лета 1704, июля 3-го, в понедельник, в первом часу дня, скончалась благородная царевна и великая княжна Софья Алексеевна, от рождения 45-ти лет, 9-ти месяцев и 16-ти дней. В соборе во имя Божией Матери погребена 4-го июля».
Перед кончиною она постриглась в схимну и приняла при этом прежнее свое имя – Софья.
Участь лиц, близких царевне, была также печальна.
Сильвестр Медведев не успел пробраться в Польшу, он бьи схвачен на смоленской дороге и привезен в Москву вскоре после его побега. Его судили «царским» судом, расстригли, назвав опять Симеоном по мирскому его имени, «истязали огнем и бичьми до пролития крови» и обвинили в ереси, чародействе, намерении убить патриарха, в участье в замыслах Шакловитого, в побеге в Польшу и в наущении народа к мятежу, за что и приговорили к смертной казни.
– Не вели казнить, великий государь, Семена Медведева смертью, а отдай его мне, я обращу его из еретичества и спасу его душу! – просил Петра патриарх Иоаким.
– Возьми его, святейший владыка, и делай с ним что заблагорассудишь! – отвечал царь на эту просьбу.
«Постой же, – думал со злобным простодушием Иоаким, – ты хотел добраться до моей пестрой ризы и до моего патриаршего жезла, так доберусь же я теперь до тебя. Покажу я тебе, что значит писать еретические книги, как твоя «Манна».
Принялся патриарх обращать бывшего инока Сильвестра из ереси в истинную веру. Отрекся Семен от своих заблуждений, свалив, разумеется, свои вины на дьявола, и тогда его святейшество постановил следующее решение: «Жить Семену Медведеву под началом искуснейшего в писании мужа, не давать ему бумаги и чернил и сдать его в твердое хранило». Таким «хранилом» была назначена Троицко-Сергиева лавра. Менее полутора года прожил там Сильвестр, как обвинили его снова в ереси и чародействе, снова употребили над ним кнут и огонь и затем 11 февраля 1691 года ему, как неисправимому еретику и чародею, отсекли голову.
Долго томился в ссылке князь Василий Васильевич Голицын. Он умер в Пустозерске 13 марта 1714 года.
В 1740 году императрица Анна Ивановна тешила себя и русскую знать свадьбою своего придворного шута с калмычкою, по прозванию Буженинова. Свадьбу эту справляли в «ледяном доме», и женихом калмычки был князь Михаила Алексеевич Голицын, родной внук знаменитого любимца царевны Софьи Алексеевны.
КОММЕНТАРИИ На высоте и на доле (Царевна Софья Алексеевна)
Роман вышел в Петербурге в 1879 г., в дальнейшем не раз переиздавался. В 1909 г. вошел в Собрание сочинений Евгения Карновича, напечатанное в двух томах, десяти книгах в Москве, как приложение к журналу «Русская речь».
С. 4. Ц а р е в н а С о ф ь я А л е к с е е в н а (1657—1704) – третья дочь царя Алексея Михайловича от брака с Марией Ильиничной Милославской; была правительницей России в 1682—1689 гг. Это было время, когда, по словам историка, «за царскую корону ухватились две женщины (Софья и царица Наталья Кирилловна), одна для сына, другая для брата, с тем лишь только различием, что одна по чувству материнскому желала видеть эту корону на голове сына ради интересов сына же, другая в брате видела орудие интересов личных» (Е.Ф.Шмурло).
С. 5. О т е ц С и м е о н – Симеон Полоцкий (1629—1680), до пострижения в монахи Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович, церковный и общественный деятель; закончил Киево-Могилянскую академию, в Москве жил в Заиконоспасском монастыре, преподавал в школе. Был наставником не только у царевны Софьи, но и у других царских детей – царевичей Алексея и Федора. В 1678 г. открыл при царском дворе типографию; был активным противником раскола. Писательская деятельность поставила его в ряд с крупнейшими авторами XVII в. («Венец веры», «Жезл правления», книги проповедей); он был стихотворцем, переложил в стихи Псалтырь.
К а м к а – шелковая ткань с разводами, возможно, вообще узорчатая ткань (полотно или лен).
С. 7. Ц а р е в и ч П е т р А л е к с е е в и ч – Петр I Великий (1672—1725), единственный сын от брака царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной.
Г е й н з е й Н и к о л а й (Антоний Гейнзиус, 1641—1720) – нидерландский государственный деятель, дипломат, в войне за Испанское наследство был душой антифранцузской коалиции.
С. 7. Г р е в и й (Грефе, или Гревиус, 1632—1703) – филолог, профессор в Утрехте, издатель «Тезауруса романских древностей» (на латинском языке).
Е п и с к о п Д и м и т р и й (св. Димитрий Туптало, 1651—1709) – русский церковный деятель, канонизирован; по отзыву митрополита киевского Варлаама Ясинского, один из самых «искусных и благоразумных проповедников слова Божия».
С. 8. …н е н а в ы с о т е, а н а д о л е? – Дол – низ, нижний край; на доле – внизу.
Н а т а л ь я К и р и л л о в н а (урожд. Нарышкина, 1651—1694) – вторая жена царя Алексея Михайловича, в замужестве (с 1671 г.) прожила счастливую жизнь до смерти царя. После его смерти стала во главе партии Нарышкиных, боровшихся с Милославскими. После победы Софьи была в опале до торжества Петра над Софьей. Всеми исследователями признается ее значительное влияние на Петра.
А р к а д и й (377—408) – император Восточной Римской империи по смерти (395 г.) его отца, императора Феодосия I; брат Аркадия, Гонорий (правил в 395—423 гг.) получил Западную Римскую империю.
П у л ь х е р и я (398—453) – дочь императора Аркадия; при своем брате Феодосии II (401—450) правила государством в сане «августы»; при ней государство пережило период культурного расцвета; ее борьба с женой брата, знаменитой поэтессой красавицей Афинаидой (в крещении Евдоксией) закончилась победой Пульхерии.
С. 9. М а р к и а н (ум. 457) – император Восточной Римской империи, возведен Пульхерией на престол в 450 г. после смерти ее брата, Феодосия II; тогда же она вышла за него замуж; известен тем, что сказал знаменитому и страшному вождю гуннов Аттиле: «Золото у меня для друзей, для врагов же железо», и отказался платить дань.
«С т е п е н н а я к н и г а» – памятник русской исторической литературы; в ней была сделана попытка систематического изложения русской истории; составлена по инициативе митрополита Макария (1481—1563) царским духовником Андреем (в будущем митрополит Афанасий) в 1560—1563 гг.
О л ь г а (в крещении Елена, ум. 969) – великая княгиня киевская, жена князя Игоря, мать Святослава Игоревича, правила Киевским государством во время малолетства сына, а в значительной мере и после; канонизирована.
П о у ч е н и я К о з ь м ы Х а л к е д о н с к о г о. – Имеется в виду «Христианская топография» знаменитого византийца VI в. Козьмы Индикоплевеста, составлявшего толкования Библии и географические и астрономические описания Земли; его работа под названием «Книга о Христе, обиемлюща весь мир» была широко известна у русских.
С. 10. С е л и в е с т р М е д в е д е в (в миру Симеон, 1641—1691) – духовный писатель, учился в школе Симеона Полоцкого; позже, по указу Софьи Алексеевны, написал «Книгу о манне хлеба животного», полемическое сочинение о проблемах русской Церкви (1687).
С. 11. Т а ф т а – тонкая гладкая шелковая ткань.
Р ы д в а н, или колымага – большая карета, обычно крытая.
С. 12. К л и р о с – место в церкви для певцов, а также певцы во время службы.
И р и н а М и х а й л о в н а (1627—1679) – старшая из семи дочерей царя Михаила Федоровича (1596—1645) от второго брака с Евдокией Лукьяновной Стрешневой, сестра Алексея Михайловича. В о л ь д е м а р-Христиан – побочный сын датского короля Христиана IV (Кристиан, 1577—1648); их брак не состоялся из-за невозможности прийти к согласию в вопросах веры.
К о т о ш и х и н Григорий Карпович (1630—1667) – писатель, подьячий Посольского приказа, автор сочинения о России XVII в.
С. 13. Ф е д о р Алексеевич (1661—1682) – сын царя Алексея Михайловича от первого брака (с Милославской).
С. 14. А г а ф ь я С е м е н о в н а Г р у ш е ц к а я (ум. 1681) – из польско-русского дворянского рода, дочь Семена Федоровича, воеводы в Чернавске; М а р ф а М а т в е е в н а А п р а к с и н а – дочь стольника Матвея Васильевича, из старинного боярского рода.
С. 15. В о з д у х и – покровы на сосуды со святыми дарами. П е л е н а – вообще: ткань для покрытия чего-либо; в церкви: расшитая ткань, подвешиваемая под иконой.
С. 16. Д а н и л а И е в л е в и ч ф о н Г а д е н (он же Стефан, он же Данила Ильин, он же Данила Жидовинов) – медик, самый популярный врач при московском дворе; польский еврей, принял сначала лютеранство, потом католичество, потом православие; один из путешественников по России того времени утверждал, что благодаря фон Гадену значительно увеличилось число евреев в Москве; бьи поднят на копья и изрублен на Красной площади (1682) по подозрению в отравлении царя Федора с помощью наполненного ядом яблока.
С. 19. К н я з ь Т р у б е ц к о й – имеется в виду Алексей Никитич (ум. 1680), выдающийся дипломат при царе Алексее Михайловиче.
Л е в К и р и л л о в и ч Н а р ы ш к и н (1668—1705) – брат царицы Натальи, при Петре I – член Совета для управления государством, начальник Посольского приказа.
С. 20. К н я з ь Ч е р к а с с к и й Михаил Алегукович – во время стрелецкого бунта пытался умиротворить восставших; в правление царевны Софьи – один из главных противников Голицына; возвысился при Петре I, был популярен в народе; враги Петра I считали его достойным занять престол, а один из бунтовщиков призывал выбрать его в правительство, «так как он человек добрый».
О д о е в с к и й – князь; здесь речь идет о Якове Никитиче, управляющем Стрелецким и Аптекарским приказами.
В о р о т ы н с к и й Иван Алексеевич (ум. 1679) – двоюродный брат (по матери) царя Алексея Михайловича, в 1664 г. пожалован в бояре и дворецкие; с его смертью пресекся древний княжеский род Воротынских.
С. 21. Г о л и ц ы н В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (1643—1714) – из княжеского рода Гедиминасов, придворный Алексея Михайловича, боярин, красавец и умница, приближенный царевны Софьи, с ее падением попал в опалу; был прекрасно образован, один из немногих русских политических деятелей понимал необходимость сближения с Западом.
С. 22. М о р о з о в а Ф е д о с ь я П р о к о ф ь е в н а (ум. 1672) – самая известная раскольница времен Алексея Михайловича, чтимая раскольниками как святая, легендарная «боярыня Морозова»; жена Г л е б а И в а н о в и ч а, брата Бориса Ивановича, воспитателя и друга царя Алексея Михайловича.
М а р и я И л ь и н и ч н а (1625—1669) – первая жена Алексея Михайловича, родила 13 детей, большинство которых пережили ее.
С о к о в н и н Прокофий Федорович (ум. 1662) – окольничий, носил титул калужского «наместника»; его сын Алексей был казнен в 1697 г. за намерение убить Петра I, другой сын – Федор за преступление брата сослан в дальние деревни; дочери: Евдокия (княгиня Урусова) и Федосья (боярыня Морозова) прославились в истории раскола.
А р г а м а к – рослая и дорогая верховая азиатская лошадь.
С. 23. М и х а и л А л е к с е е в и ч Р т и щ е в – из старинного дворянского рода (по преданию, происходящего от выехавшего из Золотой Орды к Дмитрию Донскому в 1389 г. Ослана-Челеби-Мурзы, сын которого, Лев Прокофьевич, по прозванию Широкий Рот, положил начало роду), был воеводой, при Алексее Михайловиче постельником и окольничим.
С. 24. Н и к о н (в миру Никита Минов, 1605—1681) – патриарх, церковно-политический деятель; возвысился при Алексее Михайловиче, который называл его своим «собинным другом»; проводил церковные реформы по греческим образцам для укрепления церковно-политических связей России с южнославянскими странами, считал необходимым включение Церкви в государственную систему централизации; его реформы послужили причиной раскола.
П р о т о п о п Аввакум (1620/21 – 1682) – один из основателей старообрядчества, писатель, автор «Книги бесед», «Книги толкований», «Жития»; резкий противник патриарха Никона.
С. 25. И л а р и о н (ум. 1673) – с 1657 г. архиепископ рязанский и муромский, с 1669 г. митрополит; участник Большого собора 1666—1667 гг., низложившего патриарха Никона; интересно, что хотя именно он прочел на Соборе (на русском языке) приговор о низложении, отказался подписать акт, поскольку в нем были слова о подчинении власти патриаршей власти царской (из-за неправильного перевода с греческого языка).
С. 26. П р а в е ж – взыскание долга, денег с истязанием.
С. 27. Х о в а н с к и й И в а н А н д р е е в и ч – князь, по прозвищу Тараруй, казнен в 1682 г., видный военачальник, сторонник Милославских и царевны Софьи, после первого стрелецкого бунта был назначен начальником стрельцов; играл роль посредника между раскольниками и правительством; отличался жестокостью и полным отсутствием моральных устоев.
С. 28. У р у с о в а Е в д о к и я П р о к о ф ь е в н а – княгиня, сестра «боярыни Морозовой», столь же приверженная старой вере; была уморена голодом в темнице, где просидела в полной темноте два с половиной месяца (1672). Княжеский род Урусовых восходил к известному Едигею Мангиту, любимому военачальнику Тамерлана.
С. 29. К н я з ь Т р о е к у р о в – княжеский род Троекуровых был ветвью князей Ярославских; родоначальником считался Михаил Львович Ярославский, потомок Рюрика в двадцатом колене, по прозвищу Троекур; род пресекся в 1740 г.; здесь речь идет о князе Иване Борисовиче, позже начальнике Стрелецкого приказа.
С. 31. И о а к и м (1620—1690) – девятый патриарх (с 1674 г.) всероссийский, с 1644 г. архимандрит Чудова монастыря, близок к царю Алексею Михайловичу, с 1672 г. – митрополит новгородский; церковный деятель, добивался неподсудности духовных лиц гражданским властям, боролся с расколом; автор множества церковных книг.
С. 32. С и ц е – так, таким образом.
С. 33. П а в е л (ум. 1675) – митрополит сарский, подонский и козельский (митрополитом крутицким он не был); участвовал в Соборе 1666—1667 гг.; был образованным человеком, вокруг него собралась группа лучших ученых того времени; общество было помещено в Крутицком подворье, где находилась богатейшая библиотека и прекрасный голландский сад; известен как проповедник и оратор (есть мнение, что автором его речей был Симеон Полоцкий).
С. 35. П и т и р и м (ум. 1673) – восьмой патриарх московский; в патриаршество Никона митрополит крутицкий, после оставления Никоном патриаршего престола действовал самостоятельно; злейший враг Никона.
С. 36. У б р у с – платок, фата, нарядная накидка.
С. 37. В о л ы н с к и й В а с и л и й Семенович – из известного русского дворянского рода, в 1663—1667 гг. был послом в Швеции, потом воеводой в Новгороде, в описываемое время начальник Посольского приказа; известен небольшими способностями, необыкновенным умением заискивать у сильных людей и неразборчивостью в средствах.
С. 39-40. М и л о с л а в с к и й И в а н М и х а й л о в и ч (ум. 1685) – играл значительную роль в событиях первых лет царствования царей Иоанна и Петра Алексеевичей.
С. 40. И в а н А л е к с е е в и ч – Иван V (1666—1696), был крайне слаб здоровьем, кроме болезни глаз, страдал и цингой. Будучи провозглашен «первым» царем (младший брат Петр объявлен был «вторым»), отличался полной бездеятельностью, пребывал «в непрестанной молитве и твердом посте». От брака с Прасковьей Федоровной из рода Салтыковых имел дочерей Марию, Феодосию, Екатерину, Прасковью и Анну (будущую императрицу). К 27 годам он стал совсем дряхлым, был, видимо, поражен параличом.
Б о я р и н М а т в е е в Артамон Сергеевич (1625—1682) – сын дьяка, приближенный царя Алексея Михайловича, который называл его ласково «Сергеичем» и полностью доверял ему. В доме Матвеева Алексей Михайлович познакомился с его воспитанницей Натальей Кирилловной Нарышкиной. Матвеев считал крайне важным сближение России с Западом: дом его был убран на европейский манер; жена его появлялась в мужском обществе, сыну Андрею дали европейское образование; в доме держали труппу актеров из дворовых. Он погиб во время стрелецкого бунта на глазах царской семьи. Государственный канцлер граф Н.П.Румянцев впоследствии поставил ему памятник.
С. 41. Ф е р я з ь – длинная верхняя одежда, обычно мужская, с длинными рукавами, без воротника и пояса.
К л е в р е т – приспешник, приверженец.
С. 42. К л о б у к – высокий монашеский головной убор с покрывалом.
С. 43. Ш а н д а л, или шандан – подсвечник. Ж и р а н д о л ь (фр.) – фигурный подсвечник для нескольких свечей.
П а н и к а д и л о – подвесная люстра со многими свечами.
С. 44. Н е в и л ь – автор «Записок о Московии» (конец XVII в.). Бьи послан французским правительством в Россию в 1689 г. для получения сведений о внутреннем положении страны и о переговорах России со Швецией и Бранденбургом, в Москве находился под видом польского дипломата; писал также о крымских походах, о русско-китайских связях.
С. 44. П у ф е н д о р ф Самуэль фон (1632—1694) – барон, немецкий историк и правовед, профессор естественного и международного права в Гейдельберге, государственный секретарь и официальный шведский историограф; в сочинениях содержится апология государей; развивал идеи естественного права.
О д н о р я д к а – длинная однобортная мужская одежда без воротника, на пуговицах.
С. 47. М и л о с л а в с к и е – дворянский род, происходящий от литовского выходца Вячеслава Сигизмундовича, прибывшего в Москву в свите Софьи Витовтовны, невесты великого князя Василия Дмитриевича (1390).
С. 48. П о л п и в о – легкое пиво, брага.
С. 49. «С л о в о и д е л о государево» – система политического сыска в России конца XVI – XVIII вв. Каждый российский подданный был обязан донести об известных ему умыслах против царя или членов его семьи, об оскорблениях царского имени и титула, государственной измене.
С. 49. Т е с т ю ш к а – отец Марии Ильиничны Милославской, боярин Илья Данилович (ум. 1668), был стольником, наместником медынским, посланником в Константинополе (1643) и Голландии (1648).
С. 50. По-видимому, не С е м е н, а Василий Семенович. Нередкая для Карновича описка.
С. 51. О р д и н (Ордын)-Н а щ о к и н А ф а н а с и й Л а в р е н т ь е в и ч (ум. 1680) – его род (быстро угасший) был ответвлением от дворянского рода Нащокиных, по преданию, итальянского происхождения. Афанасий Лаврентьевич, прекрасно образованный, сделал блестящую дипломатическую и административную карьеру. Он управлял Посольским приказом с титулом «царственныя большия печати и государственных великих посольских дел оберегателя»; был тверд в убеждениях и совершенно неподкупен. Царь Алексей Михайлович писал ему: «Служба твоя забвенна николи не будет», а один из современников сказал, что Нащокину будет воздвигнут «благороднейший памятник в сердцах потомков».
С. 52. О к о л ь н и ч и й – придворный чин и должность в Русском государстве XIII – начала XVIII вв. Возглавлял приказы, полки. С середины XVI в. – второй думный чин боярской думы.
Ж и л ь ц ы – в XVII в. московские служилые люди, придворные служители низших рангов.
С. 54. С у н б у л о в М а к с и м Исаевич – из дворянского рода, происходящего от Семена Федоровича Ковылы-Вислова, из Литвы; воевода в Чебоксарах, потом думный дворянин; его отец, Исай Никитич, играл заметную роль в Смутное время.
С. 55. Н а р ы ш к и н К и р и л л П о л у э к т о в и ч (1623—1691) – отец царицы Натальи Кирилловны. Был небогатым дворянином, служил капитаном в Смоленске; поднят царем Алексеем Михайловичем; в 1682 г. пострижен (под именем Киприана), сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, где и умер.
С и н к л и т (гр.) – собрание высших сановников, духовных или светских.
С. 57. Я з ы к о в ы – несколько старинных русских дворянских родов, в основном происходящих от Енгулея-Мурзы-Языка, который выехал из Золотой Орды к великому князю Дмитрию Иоанновичу (1360); в числе ветвей: Лаптевы-Языковы. Здесь идет речь об Иване Максимовиче Лаптеве-Языкове, боярине, который был б л и ж н и м с т о л ь н и к о м и первым судьей в дворцовом Судном приказе, начальником Оружейной, Золотой и Серебряной палат; удален от двора Нарышкиными и убит в 1682 г. в стрелецком бунте. Ч а ш н и к Я з ы к о в – его сын, Семен Иванович. Д в а б р а т а Л и х а ч е в ы. – Один из них, Василий Богданович, стольник, автор путевых записок о путешествии с поручением от Алексея Михайловича во Флоренцию и обратно; о другом ничего не известно.
С. 57. О б ъ я р ь – волнистая шелковая ткань, муар.
С. 58. Ш и р и н к а – носовой платок.
С. 60. С в е т л а я, она же пасхальная, н е д е л я – начинается в воскресенье, в первый день Пасхи.
Г р и б о е д о в С е м е н Федорович – из русского дворянского рода польского происхождения, стрелецкий полковник. Его отец, Федор Иванович, был разрядным дьяком при Алексее Михайловиче, написал «Сокращение российской истории» в 36 главах. Из этого же рода происходит Александр Сергеевич Грибоедов.
С. 62. Ч е р м н ы й К у з ь м а – стрелец, главный помощник Шакловитого, участник заговора против Нарышкиных, в 1689 г. казнен; чермный – рыжий.
С. 64. О х а б е н ь – длинная верхняя одежда с четырехугольным воротником и прорезями под рукавами.
С. 70. О г н е в и ц а – горячка, лихорадка.
С. 76. Б а р м ы – драгоценные оплечья, украшенные изображениями религиозного характера у духовенства и государей. Надевались во время коронации и торжественных выходов.
С. 78. С у р н а (с перс.) – музыкальная трубка исключительно резкого звука.
Ч е р н е ц – монах.
Ф р я ж с к о е и р е н с к о е в и н о – фряжское – вино из Западной Европы; ренское – старое название рейнвейна, часто виноградное вино вообще.
Д у л я – груша.
К о р о л ь ф р а н ц у з с к и й – в то время Людовик XIV (1638—1715, король с 1643), «король-солнце», вел войну против Соединенных провинций (так наз. Голландская война).
С у л т а н т у р е ц к и й – Мехмед IV (1648—1687) в 1672 г. заключил польско-турецкий мирный договор, по которому к Турции отошла Подолия.
С. 81. Г и л ь – смута, мятеж.
С. 84. Ш е р е м е т е в Борис Петрович (1652—1719) – в будущем фельдмаршал, сподвижник Петра I; в 1669 г. – комнатный стольник у царя Алексея Михайловича.
Т о л с т о й П е т р Андреевич (1645—1729) – стольник при царском дворе, один из самых энергичных сторонников Милославских; впоследствии перешел на сторону Петра, но долго не пользовался его доверием; в дальнейшем удачливый военачальник, дипломат; играл решающую роль в возвращении из Неаполя скрывавшегося там со своей возлюбленной, Ефросиньей, царевича Алексея (1717); с тех пор один из самых близких к Петру лиц; в 1727 г. выступил против Меншикова, заточен в Соловецкий монастырь.
С. 84. Б е р д ы ш (польск.) – холодное оружие, широкий длинный топор с лезвием в виде полумесяца на длинном древке.
С. 85. Н а р ы ш к и н И в а н Кириллович – сын Кирилла Полуэктовича, брат Натальи Кирилловны, убит во время стрелецкого бунта.
Ц а р е в и ч Д м и т р и й (1582—1591) – сын Ивана Грозного и Марии Нагой, был вместе с матерью отправлен в Углич Борисом Годуновым; представлялся реальным соперником Годунова; ходило множество легенд об обстоятельствах его гибели 15 мая; канонизирован.
С. 86. Д о л г о р у к о в Ю р и й А л е к с е е в и ч (настоящее имя Софроний, Юрий – семейное прозвище) – боярин, военачальник, в 1670 г. возглавлял войско, направленное против Степана Разина, и разбил его; царь Алексей Михайлович предлагал ему опекунство над малолетним Федором, но Юрий Алексеевич отказался в пользу сына Михаила, который с 1676 г. был фактическим начальником Стрелецкого приказа. 15 мая Михаил был убит; утешая жену, Долгоруков сказал: «Всем им быть на плахе!» После этих слов убили и его.
Р о м о д а н о в с к и й Г р и г о р и й Г р и г о р ь е в и ч – сын Григория Петровича, известного тем, что оборонял Москву от Тушинского вора; убит во время стрелецкого бунта; убит был и его сын Андрей.
С. 87. А ф а н а с и й, Л е в, М а р т е м ь я н, Ф е д о р, В а с и л и й, П е т р – братья и родственники Натальи Кирилловны.
Ч и г и р и н с к и е п о х о д ы были предприняты царем Федором Алексеевичем для закрепления за ним Малороссии; первый (1676) и второй (1677) походы проходили при активном участии военачальника Григория Григорьевича Ромодановского.
Род князей Ч е р к а с с к и х вел начало от кабардинского владетеля Инала, происходившего от египетских султанов.
С. 96. Салтыков П е т р М и х а й л о в и ч – из боярского рода Салтыковых, по-видимому, сын Михаила Глебовича (ум. 1618), известного дипломата при Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове.
С. 102. …и х р о д н о г о в а л ь с а. – Вальс, бальный танец, ставший самым популярным в европейском высшем обществе с XIX в., происходил от народных крестьянских танцев Южной Германии, Австрии, Чехии.
С. 110. Я г е л л о (Ягайло, 1350—1434) – великий князь литовский, король польский с 1386 г., провозглашен королем потому, что женился на польской королеве Ядвиге; родоначальник знаменитой и колоритной династии Ягеллонов.
С. 115. Д е р е в я н н о е м а с л о – худший сорт оливкового масла.
Л е с т о в к и – раскольничьи четки из кожи. Ладанка – курильница с ладаном, пахучей смолой.
Д о м о в и щ е – гроб, выдолбленный из дерева.
С. 119. Н и к и т а (Никита Константинович Добрынин, Пустосвят) – сначала священник в Суздале, потом соратник протопопа Аввакума. Был отлучен от Церкви и сослан в монастырь за «прегрешения против веры», в 1676 г. возвращен царем Федором Алексеевичем. В 1682 г. призван князем Хованским для «возобновления старого благочестия». Казнен на Лобном месте и похоронен раскольниками в Гжатске, где до конца XIX в. сохранялась его могила. Его «Челобитная» написана простым и ясным языком и ставит его в первый ряд русских церковных писателей.
С. 121. Ф и л а р е т (Романов Федор Никитич, 1554/55 – 1633) – крупнейший церковный и политический деятель, патриарх, отец Михаила Романова, первого царя этой династии, двоюродный брат царя Федора Ивановича; известен неискоренимой страстью к охоте, общей для многих Романовых, и вспыльчивостью.
С. 123. «Р у д о-ж е л т ы й» – оттенок рудого цвета: рыжего, темно-красного.
С. 124. «Х е р у в и м с к а я» – церковное песнопение, начинающееся словами: «Иже херувимы».
М и р о – благовонное масло; в церкви: вскипяченное деревянное масло, с добавлением красного вина и благовоний, для совершения таинства миропомазания (правильное написание – через «ижицу»).
С. 125. П о р у ч и – короткие рукава, нарукавники у священников. Эпитрахиль (епитрахиль) – часть облачения священника, надеваемая на шею, под ризою.
Р а с п о п – расстриженный поп.
«Достойная» – церковное песнопение, начинающееся словами: «Достойно есть».
С. 137. В о л о ч а г а – бродяга; здесь: странствующий монах.
С. 143. С а в в и н о-С т о р о ж е в с к и й Рождество-Богородицкий м у ж с к о й м о н а с т ы р ь – основан князем Юрием Дмитриевичем и монахом Саввой – учеником Сергия Радонежского около 1380 г., достиг расцвета и славы при царях Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче; в 1812 г. разорен французами.
С. 144. Т р о и ц е-С е р г и е в а л а в р а – монастырь основан в середине XIV в. крупнейшим церковным и политическим деятелем Сергием Радонежским, оставшимся в народной памяти благочестивым старцем «с кроткими и тихими речами» (1321—1391). С 1744 г. – лавра; играла выдающуюся роль в культурной, военной и политической истории России.
С. 145. С а м о й л о в и ч Иван (ум. 1690) – политический деятель, военачальник, гетман сначала Левобережной, а потом и Правобережной Украины; стремился к воссоединению Украины под властью России; соратник Ромодановского и Голицына. Его с ы н у, Семену, было поручено устранить опасность для Москвы со стороны Правобережной Украины, для чего переселить все население на левую сторону Днепра.
С. 147. Ш а к л о в и т ы й Ф е д о р Леонтьевич (ум. 1689) – из мелкопоместных дворян, заменил Хованского на месте начальника Стрелецкого приказа; в определенном смысле заместил Голицына на месте друга и советника Софьи; был дипломатом: возглавил посольство к гетману Мазепе, чтобы привлечь его на сторону России в борьбе с Турцией.
С. 150. Г о л о с о в Лукиан Тимофеевич. – О нем известно только, что при Федоре Алексеевиче он был думным дьяком и дворянином, а три его сына были стольниками.
С. 157. О т р е ч е н н а я н а у к а – запрещенная Церковью.
С. 161. К а м л о т (фр.) – суровая шерстяная ткань. М и т к а л ь (перс.) – ненабивной ситец, бумажная ткань для обивки.
П о я р к о в ы й – сделанный из поярка, шерсти овцы от первой стрижки.
С. 162. Я х о н т – в узком значении: рубин; вообще: драгоценный камень.
О п а н е н и ц а (опона) – епанча, накидка.
С. 163. С а р а ч и н с к о е (сарацинское) пшено – рис.
Б е д р е н е ц – иначе гусиная травка, столистник, с целебными и магическими свойствами.
С у л е й к а, сулея – сосуд с горлышком, бутылка.
С. 164. Т у р н ю р (фр.) – сильно присборенная сзади юбка.
Г л а з е т – парча с цветной шелковой основой и золотым или серебряным узором.
Л а л – драгоценный камень.
С. 165. Е в д о к и я Л у к ь я н о в н а – вторая жена царя Михаила Федоровича, дочь незнатного дворянина Лукьяна Степановна Стрешнева (ум. 1645, через месяц после смерти царя).
С. 166. Б у р м и ц к и е з е р н а – крупные гладкие жемчужины.
Карл XI (1655—1697) – король Швеции с 1660 г., правил самостоятельно с 1672 г., был «умным и бережливым деспотом».
С. 170. Крымские походы 1687 и 1689 гг. были направлены против Турции и ее вассала, Крымского ханства; окончились для России неудачно и подорвали авторитет военачальников.
С. 181. С е м и р а м и д а (Шаммурамат, Шамирам) – ассирийская царица, мать Ададнирари III и регентша во время его малолетства (810—806 до н. э.), прославилась чудесными и загадочными похождениями и «висячими садами» – одним из «семи чудес света».
Е л и з а в е т а Тюдор (1533—1603) – английская королева, занимавшая одно из первых мест в ряду выдающихся женщин прошлого, известна умением единолично и смело управлять государством и подданными.
С. 188. Е в д о к и я Ф е д о р о в н а (1669—1730) – дочь боярина Федора Лопухина, первая жена Петра I, мать царевича Алексея; в юности была очень красивой, но, воспитанная в русском тереме, не сумела поладить с буйным Петром, была сослана в Суздаль и в 1698 г. пострижена в монахини; в 1718 г. ее перевели в Ладожский Успенский монастырь, а в 1725 г. в Шлиссельбургскую крепость.
С. 197. К н я з ь Р о м о д а н о в с к и й Ф е д о р Ю р ь е в и ч. – Петр I назначил его начальником Потешного войска, называл генералиссимусом и отдавал ему военные почести. Ему было поручено надзирать за царевной Софьей. Впоследствии, во время заграничного путешествия 1697 г., Петр вверил ему управление государством, присвоив титул князя-кесаря и Его Величества.
С. 198. П а п о ш н и к (папушник) – мягкий домашний пшеничный хлеб.
Л е в а ш н и к – пирожки без начинки или с начинкой в одном углу, испеченные на сковороде.
С. 199. «Р я ж е н ы е» л е д е н ц ы – леденцы затейливой, часто шутливой формы.
С. 200. П у ш к и н Матвей – боярин при Петре I, племянник Григория Григорьевича Пушкина, любимца царя Алексея Михайловича. За участие в заговоре сослан в Енисейск, его сын Федор казнен. Из этого же старинного дворянского рода произошел Александр Сергеевич Пушкин.
С. 201. Б е л и ч к а (белица) – постоянная обитательница монастыря, не постриженная в монахини.
С. 205. Ш е и н Алексей Семенович (1662—1700) – полководец и государственный деятель, «промыслом и усердно радетельными трудами» которого поддерживалась слава российского войска; после подавления восстания стрельцов «разбирал и смотрел у них, кто воры и кто добрые люди».
Г о р д о н Александр – шотландец, генерал русской службы при Петре I (ум. 1752), со временем вернулся на родину и написал слегка романтизированную историю Петра Великого.
С. 206. С т р е ш н е в Т и х о н Н и к и т и ч (1644—1719) – боярин, с 1689 г. пользовался особенным доверием Петра I; во время заграничного путешествия Петра вместе с Ромодановским назначен высшим управителем государства; с 1718 г. губернатор Москвы; Петр искренне любил его, называл «отцом».
С. 207. А д р и а н (1636—1700) – десятый патриарх всероссийский, автор проповедей и богословских трудов, в частности «Грамоты о бороде».
С. 209. Л е ф о р т Франц Яковлевич (1656—1699) – из семьи женевского купца, на русской службе с 1675 г. Женившись на двоюродной сестре Гордона, стал продвигаться по службе, при царевне Софье пользовался расположением кн. Вас. Голицына; с 1689—1690 гг. завоевал полную привязанность Петра, по словам историка С.Соловьева, необычайно «живой, ловкий, веселый, открытый, симпатичный, душа общества, мастер устраивать пиры».
С. 210. К о р б Иоганн-Георг – секретарь посольства императора Леопольда I к Петру I в 1698—1699 гг.; оставил знаменитый дневник с описанием стрелецкого бунта; изданный в Вене, дневник вскоре был уничтожен по требованию русского правительства.
Примечания
1
Объяснение слов и выражений, помеченных «звездочкой», см. в комментариях в конце издания. – Ред.
(обратно)



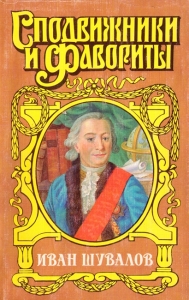

Комментарии к книге «На высоте и на доле: Царевна Софья Алексеевна», Евгений Петрович Карнович
Всего 0 комментариев