Задорнов Николай Павлович Далёкий край
РАЗГОВОР С ИСТОРИЕЙ
Так сложилось, что о значительных и ярких эпизодах нашей отечественной истории мы вспоминаем чаще всего в связи с какими-либо юбилейными датами, хотя нередко через десятилетия и века они, определяют важнейшие события современности. Дела давно минувших дней, описанные писателем Николаем Задорновым в исторической хронике «Амур-батюшка» и в цикле романов о прославленном русском капитане Г. И. Невельском, представляются необычайно актуальными вне зависимости от памятных дат и исторических юбилеев. В них отражены истоки тех перемен, которые своей грандиозностью вырываются за рамки заурядных явлений повседневности.
Размах сегодняшнего освоения Сибири и Дальнего Востока, могущество индустрии и экономики края, мощь его промышленных и культурных новостроек, а также гигантский удельный вес в общем экономическом потенциале страны выводят этот регион на передовые рубежи научно-технического и социального прогресса. Огромные эти земли и пространства еще не так давно — на исходе минувшего и на заре нынешнего веков — считались далекой и глухой окраиной России.
Романы о заселении русскими Дальнего Востока, покорении земли сибирской, об Амурской экспедиции Невельского подводят итог двухсотлетней деятельности русских людей в Приамурье, способствовавшей укреплению России на Тихом океане, в Приамурье и на Сахалине и давшей первоначальный импульс для коренных преобразований.
Этот значительный литературный труд начат автором в 1938 году в Комсомольске-на-Амуре, когда он одновременно приступил к осуществлению замыслов романов «Далекий край» и «Амур-батюшка», и завершен в Риге романом «Война за океан» в 1962 году. Он потребовал серьезной двадцатипятилетней работы, тщательного изучения исторических и архивных материалов, вобрал в себя многие интересные морские экспедиции самого писателя, большинство которых повторяло маршруты плаваний и походов героев его книг. Романы о Невельском — наиболее значительная часть этого труда — по сути дела составляют единое целое, роман-эпопею.
Выступая в сборнике «Советская литература и вопросы мастерства» (М., 1957) со статьей «Как я работал над моими книгами», Задорнов отмечал: «Личность Невельского меня весьма заинтересовала. Он действовал как передовой человек, как патриот и мыслитель, который отчетливо видит будущее своей родины, как страны, находящейся в теснейшей связи со всеми великими странами, лежащими в бассейне Тихого океана. Невельской создал целую школу моряков, практическую школу, и его экспедиция по своему значению была важнее всех до того совершенных экспедиций на Восток и на Север нашей родины».
Н. Задорнова можно назвать писателем одной темы, так как в его творчестве исторический роман занимает главное, ведущее место. Художественные интересы писателя безраздельно связаны с богатейшим, захватывающим прошлым Сибири и Дальнего Востока, изучением заселения огромных областей Амурского бассейна, отображением замечательных открытий славных русских мореплавателей, укрепивших позиции страны на Тихоокеанском побережье. Герои его книг — первопроходцы. В романе «Амур-батюшка» это крестьяне-переселенцы, обживающие край, люди, совершающие повседневный подвиг, готовые к любым трудностям и к любой непосильной работе на неведомых, диких и суровых просторах.
В морских романах о Невельском первооткрыватели — отважные русские морские офицеры и простые матросы, чьи испытания и открытия начались с того момента, когда русский парусник «Байкал» впервые вошел в устье Амура. Не только для ближайших сподвижников Невельского, местного населения гольдов и гиляков, но и для многих передовых людей эпохи парусник, занесенный океанскими штормами в амурские просторы, стал символом веры и надежды, символом большого плавания, открывающего широкие горизонты будущего.
«Ты желаешь знать, что происходит у нас на Востоке; плавание началось… Дай бог полного успеха предприятию, великому последствиями», эти слова из письма декабриста Сергея Волконского И. И. Пущину стали эпиграфом к роману «Первое открытие». В чем же видели современники Невельского «великие последствия» его «предприятий», которые многие царские сановники, да и сам царь считали заурядными, а порой и откровенно бесполезными, ненужными?
Невельской не просто доказал судоходность реки Амур, открыл России дорогу к океану, а значит, и дорогу к морскому могуществу. Своими экспедициями, всей своей трудной судьбой он утверждал передовые общественные и нравственные идеалы. Избираемые им цели всегда были прогрессивны, точны и вели к величайшим свершениям на благо Отчизны. Духовная стойкость и вдохновенное упорство объясняют исключительную плодотворность и ценность его научных и географических открытий.
Цикл о Невельском объединяет четыре самостоятельных романа: «Далекий край», «Первое открытие», «Капитан Невельской», «Война за океан». Издательство «Лиесма» предлагает читателям два первых романа этой исторической серии.
«Далекий край» начинался с повести «Мангму», написанной в 1940 году. Впоследствии она стала первой частью романа, вторая часть которого «Маркешкино ружье» была завершена автором в 1948 году. Читатели и критики сразу обратили внимание на национальный колорит, своеобразный этнографический оттенок повествования. А. Макаров в книге «Воспитание чувств» (М., 1957) отметил, что Н. Задорнову удалось раскрыть, «как уходят в самую глубь веков корни исторической дружбы больших и малых народов России». Представители малых народов отображены писателем с большим уважением, сочувствием и пониманием. В той же статье «Как я работал над моими книгами», возвращаясь мысленно к истории города Комсомольска, к истории создания романа, Н. Задорнов писал: «Там, где теперь доки и цехи судостроительного завода, однажды происходила отчаянная битва между двумя нанайскими родами… Где теперь начинается железная дорога, идущая через Сихотэ-Алинь на океан, за рекой, на озере Ливан, как раз там, где станция, были усадьбы и маленькие укрепления маньчжур. Когда-то все эти озера кишмя кишели рыбой, на берегах их рос девственный лес. Там, где теперь центр города, переселенцы охотились на тигра. Но главное опять-таки не в той экзотике, и не из-за этого хотел я написать эту книгу. Судьба маленького народа, живущего среди величайших лесов, судьба героя из этого народа молодого парня — и его любимой интересовали меня. На их примере я хотел показать попытки человека из маленького народа бороться против насилия и колонизации».
«Подлинную историю человека пишет не историк, а художник», — сказал А. М. Горький. Именно так понимает и трактует задачу автора исторических романов Н. Задорнов. Его по праву можно назвать бытописателем. Все его очерки, повести, романы основательны и привлекают не только глубиной и достоверностью материала, но и силой человеческих характеров. Положительные, добрые человеческие начала, как и сам положительный герой имеют для писателя особое значение. Именно через положительного героя несет он читателям твердость нравственных убеждений, романтизм чувств, ясное представление о чести и долге, об отношении к труду, о патриотизме и интернационализме.
В эпосе многонациональной советской исторической прозы творчество Задорнова стало заметной вехой, незаурядным явлением именно благодаря нравственной высоте его героев и книг. Очень часто понятия высокой художественности и высокой нравственности, устремленности оказываются в прямом взаимодействии, так как берут свое начало из одного истока многопланового и реалистического осмысления действительности. Полнокровное ощущение жизни, присущее Задорнову, тоже рождается в живой стихии достоверности и реализма. Для этого художника, говорить с читателем значит говорить правду.
Однажды в одной из наших бесед Николай Павлович полушутя-полусерьезно посетовал: «Наверное, я мог бы предложить читателям более захватывающие, закрученные сюжеты. Кому-то я определенно кажусь суховатым, а может быть и скучным. Слагаемые занимательного, захватывающего романа из прошлых времен мне хорошо известны. Схема занимательности проста — острый, с неожиданными зигзагами сюжет, таинственность, ошеломляющие повороты повествования, любовь, наличие детектива в интригах. Но я сознательно всего этого категорически избегаю. Жертвую остротой ощущений ради качества».
Говорят, что в каждой шутке… Впрочем, правда здесь то, что любой исторический сюжет для Задорнова — это сюжет реальной человеческой жизни, требующей понимания, точности постижения и отображения. И обязательно художественной достоверности. Ее он всегда черпал в жизни.
Работая над романами «Амур-батюшка» и «Далекий край», изучая быт людей и историю края, писатель собрал обширный и интересный материал о коренных обитателях Приамурья. Экзотика незнакомой, но не такой уж далекой жизни, внезапно обступила, словно вековая нехоженная тайга. Бродя по неведомым просторам, правя парусом древней нанайской лодки, отталкивая ее шестом от дикого берега в холодную пучину бескрайних рек, бывая в отдаленных стойбищах и поселках, он, подобно знаменитому Арсеньеву, чувствовал величие мирозданья и природы, которая его окружала. Собирая и записывая старинные предания о могучих богатырях и кровавых межродовых войнах, узнавая народные сказания, пришедшие из глубины веков протяжные песни и легенды, отправляясь на охоту на далекие заимки, слушая рассказы старых следопытов и промысловиков гольдов и нанайцев, он приобщался к чужой, удивительной судьбе, стремился увидеть природу глазами людей, обожествлявших ее, передать их духовный мир и неповторимую образность мышления.
В «Мангму» (нанайское название Амура) реализм тесно переплетен со сказочным вымыслом и сказочной стилистикой поэтических описаний. А суровая, порой страшная и дикая действительность — с легендой, навевающей то добрую грусть, то горькую печаль. Образность, притчевость повествования, определили самобытность и богатство языка романа, колоритные и яркие описания природы и людей.
Не безмятежна и не легка жизнь героев «Далекого края», пронизанная темными предрассудками, немыслимыми суевериями и жестокими обычаями родового строя. Она отражает суровый мир людей, беззащитных и перед грозной силой стихии, и перед беззастенчивым обманом торговцев, шаманов и маньчжурских колонизаторов. Мир, зажатый в тиски предрассудков и беззакония.
На примере судеб двух братьев нанайцев — Удоги и Чумбоки изображается участь малых народов Приамурья, общность человеческой беды в условиях хищнической колониальной политики Китая и других стран в середине прошлого века. Социальное неравенство, социальная угнетенность прослеживаются также и внутри двух нанайских родов, враждующих друг с другом. Примитивные на первый взгляд отношения и первобытный уклад обнаруживают тем не менее великие человеческие взлеты и падения, достоинства и пороки, обнажают глубочайшие страсти и чувства. И если Удога и Чумбока — герои добра, то противостоящие им мелкий и трусливый Писотька, хитрый шаман Бичинга, коварный старик, торговец Гао Цзо олицетворяют силы злобы и тьмы. В этом романе историческая правда тесно сплелась с яркой этнографической характерностью, реальные исторические факты, предшествовавшие появлению на Амуре Г. И. Невельского и характеризовавшие обстановку, с которой встретились первые русские исследователи, органически слились с былинным строем произведения.
Роман «Далекий край» нашел живой отклик у читателей и критики. В 1952 году он был удостоен Государственной премии СССР. Он переведен на болгарский, немецкий, румынский и чешский языки и получил высокую оценку в печати социалистических стран. Со многими героями романа читатель вновь встречается в книгах о Невельском.
От романа-притчи без достоверных исторических героев и действующих лиц Н. Задорнов словно оттолкнулся, чтобы обратиться к многоплановому, широкому по охвату исторических событий и судеб произведению и создать галерею достоверных, правдиво-точных и ярких образов. И главным в ней был образ Невельского — патриота и мыслителя, человека невероятной целеустремленности и глубочайшей порядочности, не отступившего в трудные критические минуты перед высшими сановниками империи. «Этот рыцарь первооткрытий помог мне почувствовать душу и пульс целой эпохи», — так характеризовал своего героя писатель.
Вскоре после окончания морского корпуса молодой Невельской принял участие в обучении морскому делу царского сына Константина. Но он отказался от блестящей карьеры в столице и выхлопотал себе позволение отправиться на транспорте «Байкал» в экспедицию на Камчатку. В мыслях этого храбреца «давно жили картины далекого прошлого на Амуре», он был одержим идеей возвращения России Амура, открытого, а затем оставленного русскими в XVII веке. В архивах и старых документах он нашел немало подтверждений давних открытий: «Андрюшкино, Игнашино, Монастырщина, Покровское, Озерная. Это названия деревень. Не крепости, не остроги, а деревни с землепашцами! Вот доклады, записки, описи… Вот — кучи бумаг!» Он терпеливо разбирал бумаги, исписанные славянской вязью, и мучился сомнениями: «Кто знает все это? Кому и какое дело до этого? Страшна наша история! И не собрана, не записана, как следует, никто не знает многих ее истин, которые дали бы свет новым поколениям. Историки, может быть, дойдут еще… Но когда? Дело не ждет…»
Да, он не мог и не хотел ждать. И твердостью своего решения о Камчатской экспедиции поверг в изумление тогдашнего морского министра князя Меншикова, удивил многих морских чиновников. Он не мог ждать и спешил ради дела. Он был хорошо осведомлен о растущей колониальной экспансии западных держав, о том, что их рыбацкие и китобойные суда давно уже открыто ведут промысел и бороздят русские моря на востоке. Создавалась реальная угроза захвата исконно русских земель иностранцами. Вот почему так упорно добивался Невельской разрешения на исследования, хотя он отчетливо сознавал, какие серьезные опасности и испытания ждут его впереди: «Каждое чтение новых бумаг подогревало, поджигало его воображение. Иногда им овладевало чувство, похожее на отчаяние, сможет ли он, один человек, смертный, совершить все… Он знал: голова его горячая, а действовать надо со спокойствием, — только так можно будет достигнуть цели».
Романы о Невельском, пожалуй, самые значительные и глубокие произведения Задорнова. В них воплощены не только великие события, но и великие человеческие судьбы. Многие страницы посвящены сложным и не всегда однозначным отношениям капитана Невельского с генерал-губернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым. Муравьева мы встречаем во всех трех романах о Невельском. Судьбы прославленного капитана и иркутского губернатора переплетаются очень тесно. Невельской нуждался во влиятельных покровителях, в поддержке влиятельных людей. Столичные связи Муравьева, его причастность к сильным мира сего позволяли ему в определенной мере воздействовать на царя и его окружение. Муравьев поддерживал Невельского во многих начинаниях, проектах и действиях. Но впоследствии он устранил его с Амура. Многие заслуги отважного исследователя были приписаны иркутскому губернатору, получившему титул Муравьева-Амурского. Только посмертно изданные записки Невельского, его книга «Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России», впервые опубликованная в 1878 году, помогли восстановить истину.
Роман «Первое открытие» явился как бы прологом к этой большой теме. Впервые под названием «К океану» он опубликован в журнале «Дальний Восток». В том же, 1949 году, был напечатан в Ленинграде издательством «Молодая гвардия» как третья часть романа «Далекий край». Впоследствии произведение было значительно переработано. В новой редакции роман был предложен для издания в серии «Библиотека исторического романа» издательству «Художественная литература». Он вышел под новым названием — «Первое открытие» и существенно дополнен новыми главами, среди которых «Завещания землепроходцев и старых вояжеров», «Мечты», «Под парусами», «Матросы», и другие, позволившие раздвинуть исторические горизонты повествования.
Трилогия хорошо известна читателям в Латвии. «Первое открытие», «Капитан Невельской», «Война за океан» написаны в Риге. Когда Н. Задорнов приступил к работе над ними, он отчетливо понимал, что материал выходит за рамки прежней, дальневосточной темы. Все чаще возникала мысль о переезде в Ленинград. Чтобы окунуться в материал «петербургских» романов, необходимо было окунуться в архивы. Неожиданно, как это часто бывает в жизни, «возник вариант». Сам он о переменах, имевших немаловажное значение в его творческой биографии, вспоминает так: «Н. Тихонов, возглавлявший тогда Союз писателей СССР, с ведома известного латышского писателя и государственного деятеля В. Лациса, направил меня в Ригу для руководства русской писательской секцией и для редактирования русского альманаха «Советская Латвия». Я пересек всю страну и оказался в Прибалтике, по соседству с Ленинградом, городом моей мечты. Я попал в необычную для меня среду латышских писателей. Знакомство с ними, совместная работа и дружеские творческие контакты, дискуссии, разговоры о литературе, о назначении писательского труда и роли писателя в обществе, общие литературные и издательские заботы принесли мне много пользы. Мои латышские собратья по перу, ставшие на долгие годы моими верными товарищами, совсем недавно освободились от буржуазного ига. Некоторые из них только что сняли солдатские шинели, не успели остыть от боев. За их плечами стояла Великая Отечественная война, суровые испытания, ратные подвиги. Они были настоящими бойцами, настоящими людьми».
Тесная дружба, сложившаяся у Н. Задорнова с Вилисом Лацисом, Янисом Судрабкалном, Мирдзой Кемпе, Арвидом Григулисом и другими латышскими известными прозаиками и поэтами, обогатила, подарила незабываемые встречи с личностями интересными, многогранными, незаурядно-талантливыми, подлинно творческими.
Мощное реалистическое искусство классиков латышской литературы Яна Райниса и Андрея Упита, уходящее корнями в глубины народной жизни и народных характеров, несущее прогрессивные идеи и проникнутое философски зрелым постижением действительности, оказало определенное влияние на дальнейшее развитие художественных взглядов и формирование литературных, эстетических и этических традиций прозы Н. Задорнова.
Не случайно обратился он к переводу романа А. Упита «Просвет в тучах». Эпичность этого произведения, его исторический размах, мощь его реалистических характеров, сложное поэтическое своеобразие языка — все это отвечало литературным пристрастиям и художественной концепции Н. Задорнова. Работа эта осуществлена в соавторстве. Хороший отзыв на русский текст романа дал в письме к Упиту А. Фадеев, высоко оценивший художественность и мастерство перевода.
Годы жизни и работы в Латвии тесно сдружили Задорнова и с писателями более молодого поколения. Именно с ними — И. Зиедонисом, И. Аузинем, О. Лисовской, Э. Ливом и другими — осуществил он поездку на Дальний Восток, побывал как раз в тех местах, где разворачиваются действия романов о Невельском, в Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровске, на границе с Китаем и в Охотском море.
Он уже не раз бывал здесь и раньше. Верный своему методу, Н. Задорнов неоднократно повторял маршруты экспедиций капитана Невельского. На Петропавловской косе в Охотском море он видел посты, поставленные Невельским вопреки запретам царя. Здесь жил прославленный исследователь вместе с юной женой, последовавшей за ним и разделившей с мужем трудности походной жизни, тяготы и лишения морских экспедиций. В селении Тыр на Амуре, в Корсакове на Южном Сахалине ему удавалось найти потомков родственников Невельского и его соратников, сохранивших в памяти подробности высадки в этих местах первых русских морских десантов. Ему всегда были необходимы и всегда помогали встречи с людьми. Так же необходима была для него и углубленная, кропотливая работа. Он изучал обширный исторический архивный материал, относящийся к описываемой им эпохе, разыскивал записки, воспоминания, письма, дневники современников и участников трудных морских переходов и далеких плаваний, но прежде всего записи и дневники самого Г. И. Невельского. В архивах Военно-Морского флота и библиотеке им. В. И. Ленина в Москве, в Тарту, Таллине и Ленинграде, во время поездок по Дальнему Востоку он кропотливо собирал сведения о жизни своих героев. О жизни, которая была борьбой и подвигом. Высоким подвигом духа русского человека.
В сахалинской рукописи А. П. Чехова есть место, не вошедшее в книгу «Сахалин», скорей всего из-за запрета цензуры. «История Восточного побережья замечательна тем, что делали ее люди маленькие, не полководцы, не знаменитые дипломаты, а мичманы и шкиперы дальнего плавания, работавшие не пушками и ружьями, а компасом и лотом».
По мере сил Н. Задорнов попытался рассказать об этих замечательных людях на страницах своих романов. Он хотел донести до потомков суть событий, связанных с морскими завоеваниями эпохи, равной по своему историческому значению разве что эпохе Петра I. Но если события Петровского времени вписывались в историческую летопись России согласно воле царя, то морские открытия века XIX, не менее важные для Отечества, чем завоевание Балтики, совершались как бы наперекор царю и двору.
Все исследования и открытия, сделанные Невельским на Амуре, противоречили категорической резолюции царя: «Вопрос об Амуре, как реке бесполезной, оставить». Само намерение Невельского совершить плавание на транспорте «Байкал» и остаться на Дальнем Востоке, чтобы провести там широкие научные работы, было вызовом времени, вызовом официальному мнению. Даже самые приближенные к царю люди не могли позволить себе такого. Вот как говорится об этом в романе «Первое открытие»: «Меншиков сожалел втайне, что глушит все здоровое во флоте, но, преданный царю, не желал совершать никаких неугодных ему действий. Он знал, что это плохо, но что иначе нельзя. Князь был умен, но ленив и привык, что ничему новому в чиновничьей России ходу не дают. Он стал таким же служащим, как все другие, и лишь в остротах, известных своей едкостью, отводил иногда душу.
«Науками надо заниматься там, где есть особые, назначенные государем для этой цели учреждения, которые и обязаны заниматься науками».
Гражданская смелость, настойчивость и упорство Невельского стали надежными проводниками молодого капитана на пути к достижению мечты. Он и члены его экспедиции добились невероятных результатов. На Амуре и Дальневосточном побережье были исправлены и уточнены карты, открыты удобные бухты, описаны залежи каменного угля и других полезных ископаемых, а также места обитания морского зверя. Огромный, колоссальный труд! Но разве только это? Вспомним, как заканчивается роман «Первое открытие». Чтобы проверить правильность старых описей и берестяных гиляцких карт Невельской ведет судно к Шантарским островам. Горячий сухой ветер предвещает небывалую бурю.
«…Это был ветер с океана, с широких его просторов. Казалось, что массы воздуха несутся оттуда, где жарко, где коралловые рифы, кокосовые пальмы и банановые рощи.
Сейчас, под вой жаркого океанского ветра, ворвавшегося с юга, воображению капитана представилась картина, как отсюда, с русских побережий, из новых гаваней, наш флот выйдет на океан. Флот, построенный из амурского кедра и дуба и с машинами из железа, добытого здесь же…
Но пока что… одинокий маленький «Байкал», построенный в Финляндии, швыряли огромные валы тайфуна. Мокрые сосредоточенные лица офицеров и штурманов светились в отблесках лампы…»
Да, эти люди жили, трудились, терпели лишения, преодолевали опасности и невзгоды, совершали открытия и мечтали для будущего. Их помыслы и надежды, как легкий парус, подхваченный попутным ветром, летели через годы, через десятилетия, обгоняли время, чтобы когда-то, пусть очень нескоро, но воплотиться в реальные дела. Задорнову дано было предугадать их великую историческую значительность и весомость.
«Если художник реалист, — утверждает Н. Задорнов, — то его книги будут неизменно соответствовать исторической правде, соединяя ею, как красной нитью, прошлое и будущее. Искусство есть великий летописец жизни, а правда есть его великая цель».
Читая книги о Невельском, невольно задумываешься — а знал ли сам капитан, какое огромное будущее суждено его открытиям? Догадывался ли об этом? Мечтал ли, когда экспедиция умирала от цинги и силы оставляли самых выносливых и надежных? А может быть потому и шел к цели так настойчиво и убежденно, что верил — будущее принадлежит ему. И этому краю, которому он посвятил жизнь.
Через много лет после окончания работы над циклом о Невельском, когда романы «Первое открытие», «Капитан Невельской» и «Война за океан» были изданы миллионными тиражами и завоевали большую читательскую аудиторию, писатель познакомил меня с тезисами статьи, затрагивающей все ту же «вечную» и любимую для него тему.
«Иногда кажется, что нашей истории на Дальнем Востоке уделяется недостаточное внимание. В столице нет памятников Невельскому, Муравьеву, Путятину. Не слишком много узнаешь о них и из учебников истории. А между тем Герцен писал: «Трактат, заключенный Муравьевым, со временем будет иметь мировое значение». У Энгельса есть интереснейшая статья «Успехи России на Дальнем Востоке», в которой показывается значение этого события. В наших энциклопедиях Невельской часто рекомендуется только как открыватель устья Амура. А ведь он был тем, кто переломил дипломатию и политику царского правительства, и, действуя против государственной власти и в союзе с ссыльными декабристами, вывел страну и нашу культуру в новый колоссальный мир будущего. Великий бунтарь духа, обладающий великим даром предвидения. Да, именно так… Бунтарь и пророк. Лично для меня с именем этого отважного человека связана поэтика реального морского героизма времен парусного флота».
Поистине в произведениях каждого большого писателя, как и в жизни, есть вечно живые герои. Когда книга прочитана, они не покидают нас, а остаются в нашей судьбе, в нашем сердце и памяти. Капитан Невельской и его товарищи по трудным морским походам и борьбе представляются именно такими людьми, именно такими, вечно живыми героями.
Т. Яссон
Часть первая МАНГМУ
ГЛАВА ПЕРВАЯ МАНГМУ
Мангму извечно несет широкие мутные воды к Синему Северному морю.
Мангму велик… Много рек и речек отдают свои богатства старику Му-Андури.[1] Воды из царства Лоча прозрачные, как светлые глаза, и воды желтые, из страны косатых маньчжу, стремятся к нему же.
Мангму течет повсюду. В лесах синеют его заливные озера, обросшие тростниками и кустарниками, озера на старицах, стоячие воды в зелени плавучих лопухов и кувшинок, протоки из озер в реку, из заливов в малые озерца, тихие узкие протоки в камышах и краснотале к дальним болотам в глубь диких лесов.
Шаманы гольдов знают: где-то там, в вечнозеленом лесу, есть протока в Буни — в мир мертвых…
Но никакой шаман не знает всех рек и речек, всех озер, рукавов и проток Мангму. Одно лишь ясное полуночное небо, как медное зеркало, отражает его во всем величии. Млечный Путь — отражение Мангму, говорят гольды.
Бурные воды шумят по тайге, выворачивают с корнями деревья, обдирают с них кору на шиверах, громоздят завалы оголенных коряг и стволов, а в половодье подымают их и уносят к Мангму.
Мангму — как море, разлившееся по тайге, водная страна в лесу…
Мангму богат. Калуги,[2] огромные как лодки, выпрыгивают ранним летом из его глубин. А когда осенью Морской Старик гонит косяки красной рыбы из синей морской воды в верховья горных речек, невода тянут столько рыбы, сколько звериных следов в тайге по первой пороше.
Народы лесов сбежали с гор и столпились на берегах Мангму.
Тайга…
О-би-би…
Тик-ти-ка…
У-до-до… У-до-до, — кричат птицы.
Тяжелые ветви висят над водой. Ясени, толстые, как башни, ильмы, осины, нежные изгибы синих черемух, высокие душные травы, красные и желтые саранки на длинных стеблях, чуть позелененные ветви лиственниц, подмытые умирающие деревья, как печальные зеленые знамена, склоненные к прозрачным ручьям, колючая чащоба ягодников, болота, болота, марь… россыпи дикого, замшелого камня, бурелом, черные вывороченные корневища, вздыбившиеся выше молодого леса, мертвые остовы берез в зеленой бороде лишайников, рваные лохмотья бересты, гнилые желтые пни, муравейники, развороченные медведями, вечная зелень пихтача и синь елей, овитых диким виноградом со спелыми гроздьями, карликовые дубки на угорьях и рощи громадных столетних дубов, сереброкорый бархат[3] с перистой листвой, паутина, сырость, белые кости зверей в огромных папоротниках, следы тигра… Скалы, ветер, дикий, пронзительный ветер, и кедры, могучие и рогатые, как жеребцы сохатых.
…Остроголовые леса и синь дальних хребтов, ушедших облаками в сиреневую даль…
…Ветер трясет мохнатые ветки кедров. Ветер гонит пенистые волны на Мангму. Ветер мечет дымки далеких стойбищ…
ГЛАВА ВТОРАЯ НЕЗНАКОМАЯ ДЕВУШКА
День солнечный. Удога неторопливо размахивает двулопастным веслом. Тонкая береста одноместной узенькой лодки легко держит на воде его тяжелое, сильное тело. Ленивые гребки больших рук гонят оморочку.
Жара томит.
«Быстрей поеду, а то отец, наверно, ждет!» — думает Удога. Он наклоняется к закрытому носу оморочки, который, как фартук, расстелен от его пояса. Сильный удар веслом. Оморочка идет быстрей. Еще удар. «И мама ждет…» Удар справа, удар слева. «И брат ждет!»
Оморочка мчится по воде, как стрела.
Удога разгоняет ее, поворачивает голову, клонится ухом к бересте, потом вскидывает голову, кладет тонкое и длинное весло поперек лодки и, сияя от восторга, тонко поет:
Вода журчит под оморочкой, Ханина-ранина. Солнце жарко разгорелось, Ханина-ранина. Вода поет под берестянкой…Вдруг он увидел, что на мели, напротив лесистого, высокого острова, где в одиночестве жил страшный шаман Бичинга, застряла лодка. Босая девушка стоит в воде, не может столкнуть ее.
Мель была на самой середине протоки. Вода покрывала ее, и мель была незаметна. Все жители окрестных деревень знали это место.
«Видно, из чужой деревни», — подумал Удога.
Удога схватил свое веселко. «Правда, наверно, чужая! Ах, это чужая…» Сначала шел прямо, будто мимо, потом сделал большой и красивый полукруг, да так разогнал берестянку, что она чуть не черпала воду, лежа на боку. И опять поднял весло. Чем ближе, тем тише идет его лодка. Тихо на громадной реке, и сейчас слышно, как поет вода. Да, на самом деле, незнакомая девушка…
Девушка потолкала лодку в корму руками. Но ведь это не кадушка с брусникой. Подошла к борту, попыталась раскачать.
Редко, редко и чуть-чуть гребет Удога, как бы не осмеливаясь приблизиться. Не доходя до большой лодки, его оморочка совсем замерла.
Оттуда видно — черная стрела, а над ней черная большая фигура человека. Парень, конечно. Кто бы другой стал так куролесить и гонять оморочку, выкруживать, как охотник в тайге, когда ищет след дорогого соболя. Хотя и не смотришь на все это, нет того, да и некогда, а как-то все-таки замечаешь.
А Удога видит девушку всю в солнце. От головы в необыкновенных волосах до голых колен в воде. Вся желтая. Удога смотрит с удивлением и настороженностью.
Теперь и она уставилась на него.
— Там мель! — кричит он.
Она молчит. Конечно, не много ума надо, чтобы понять, когда лодка уже на мели, что тут мель. И не много ума надо, чтобы этому учить!
— Вода часто покрывает ее, и мель становится незаметна, — говорит Удога. Он замечает — девушка совсем молоденькая и хорошенькая. — Никогда здесь не плыви. Разве ты не видела, как рябит вода?
— Помоги мне! — кричит девушка.
Удога проворно подъехал, слез в воду, отдал девушке нос оморочки. Налег грудью на тупую серую корму лодки, так что его голые ноги ушли в песок, но лодка не подавалась.
«Вот беда, как крепко села! — подумал Удога. — Стыдно будет, если я не смогу сдвинуть ее».
Парень высок ростом, широк в плечах. У него гибкое, крепкое тело. Случая не было, чтобы лодку нельзя было сдвинуть. Девушка засмеялась.
«Почему она смеется? — подумал Удога и налег на лодку изо всех сил, так что заболела грудь. — Вот беда, крепко села!»
Не жалея груди, Удога давил на корму, и еще давил, и все сильней, и упирался ногами, и перебирал ногами так, что вода забурлила. Он тужился до тех пор, пока лодка не зашуршала и не всплыла.
Тут он разогнулся и поглядел на девушку. «Волосы у нее как трава осенью».
Он знал, что светлые волосы бывают у русских и у орочон, приходивших в эти места.
Девушка приблизилась к нему и отдала веревку, за которую держала его оморочку. Мгновение посмотрела ему в лицо. У нее были черные глаза и румяные щеки.
— Какая у тебя лодка большая и тяжелая! Что ты в ней везешь? — спросил Удога.
Девушка, не отвечая, полезла в лодку.
— Почему у тебя волосы такие? Как седые!
Она молчала, спиной к нему насаживая измытое добела весло на колок к борту.
Потом взяла другое весло, подняла его. Удога видел на ярком солнце лопасть в свежих мохрах древесных волокон, обитых за день гребли водой, пухлую розовую руку, крепко державшую весло там, где кругленькое белое отверстие в резном утолщении. Девушка поставила оба весла и даже не поглядела на Удогу.
— Подожди! — сказал он.
Но девушка налегла на весла и отъехала. Течение быстро несло ее, и она гребла сильно. Теперь ее лицо стало черным. Вскоре лодка стала, как щепка, маленькой и тоже черной.
«Что это за девушка? Откуда она? Зачем была тут? Почему у нее такие волосы?..»
Удога осмотрелся.
— Э-э! Ведь тут близок шаманский остров, — снова вспомнил Удога.
Вон он, залег среди реки, весь в солнце, с песчаными буграми и обрывами, с лесами кедра, лиственницы…
На острове видна рогатая лачуга. Торчат крайние, неотпиленные жерди крыши. На них — резьба. По сторонам тропы, ведущей к дому, — два толстых мертвых дерева. Из них вытесаны плосколицые идолы с мечами на башках. Блестят сейчас две белые морды, будто высунулись страшилища из леса.
«Может быть, ездила ворожить к нашему шаману Бичинге?»
Удога залезает в оморочку, налегает на весла.
— Э-э! Вон и сам шаман куда-то едет! Кто-то везет его. Наверно, едет хоронить… Или лечить…
Лодка шамана как-то сразу оказалась вблизи Удоги. Она мчится быстро. Гребут десять гребцов. Удога упал в своей оморочке ниц. Но подглядывает.
Видно лицо шамана. Он почти слепой, сухой, с седыми косматыми волосами, в богатом халате и со множеством серебряных браслетов на руках. Держит шаманскую палку с резьбой. Его лодка проходит. Поехал куда-то… Не туда, куда девушка. И не в нашу деревню. К устью Горюна едет…
Удога поднял голову.
«Шаман уехал!»
Сразу две встречи: хорошая и плохая…
Он опять налег на весло и разогнал оморочку. День такой ясный, чистый, на душе весело. Удога улыбается.
«Кто такая и откуда?» — запел Удога.
Ханина-ранина… Ты прекрасна и светла, Ханина-ранина…Отец ждет! — удар весла.
Мама ждет! — удар весла.
Брат ждет! — удар весла.
Вот и деревня, своя деревня. Удога подъезжает к берегу и пристает к пескам. На вешалах множество жердей, унизанных рядами распластованной красной рыбы. На корчагах и на жердях растянуты невода.
Онда — небольшое стойбище. Десятка два глинобитных зимников[4] приютилось у подножья невысокого прибрежного хребта. Сразу за селением начинается дремучая тайга.
Напротив Онда, посредине реки, протянулся другой высокий остров, заросший ветлами, ильмами, осинами, кустарниками и краснолесьем. Летом на острове белеют берестяные балаганы стариков, а сами отправляются в тайгу.
Бегут радостные собаки. За ними идет отец Удоги — Ла. Он с медной трубкой в зубах, в коротком светло-коричневом халатике из рыбьей кожи. Лицо его темнее халата, а волосы седые.
Удога целует его в обе щеки.
Подходит мать Ойга. У нее кольчатые серьги в отвислых больших ушах, плоский нос. Сын целует ее.
Подбегает брат Пыжу. Удога снова целуется. Пыжу смеется, что-то шепчет ему на ухо.
— Ты набил хорошей рыбы! — удивленно говорит отец, заглядывая в лодку. Там лежит громадный таймень. — На Горюне был?.. На той стороне?
Удога поворачивается и молча идет домой.
Пыжу догоняет брата, хватает его за плечо, за шею, смеется, прыгает, толкает в спину.
Ойга берет из лодки тайменя.
Вечер у очага. Отец сидит на кане у маленького столика, поджав босые ноги так, что видны толстые черные пятки.
Все едят рыбу. Удога печален.
— Что с тобой, сынок? — спрашивает Ойга. — Ты совсем плохо ешь… Она гладит сына по голове.
Удога молчит.
Ла отрезает длинный ломоть рыбы и, втягивая ее в рот, быстро заглатывает.
Пыжу сосет рыбью голову и с любопытством таращит глаза на брата.
Удога облизывает пальцы, встает с кана, как бы не зная, что делать.
Ойга, показывая головой, пошла быстро на улицу. Ла и Пыжу чавкают у стола. Удога залез на кан и улегся. Отец все съел и вытер рот рукавом.
— Что ты, парень, все молчишь? — спрашивает он Удогу. — Наверно, проглотил что-нибудь дурное? Не чертенята ли залезли тебе в глотку?
Ойга вносит охапку хвороста.
— Ночь сегодня будет прохладная.
Вбежали собаки.
Удога вдруг поднялся резко. Собаки кинулись к нему. Одна положила ему лапы на плечи и норовила лизнуть в лицо, словно жалела и хотела спросить, что с ним.
— Я хочу жениться, отец! — поглаживая собаку, говорит Удога.
— Что? — подскочил от удивления старый Ла. Он отодвинул столик и схватил рубашку.
— Да, я сегодня увидел девушку и хочу на ней жениться.
Пыжу расхохотался.
— Э-э, парень, какая дурь у тебя в голове, — говорит Ла. — Пора собираться на охоту. Ты знаешь закон: идешь на охоту — не думай про баб и девок: удачи не будет. Это запомни на всю жизнь… Да у нас и выкуп за невесту заплатить нечем.
— Отец! — воскликнул Удога. — Эту девушку я сегодня на мели видел, помог ей сдвинуть лодку.
Ла надел рубаху. Пыжу бросил рыбью голову.
— А ты знаешь, кто она? Кто она, откуда?.. Ты знаешь? — спрашивает отец с досадой.
— Нет… — неохотно ответил Удога.
Собаки поворачивают морды, недовольно смотрят на Ла.
— И не говори об этом! Вот возьму палку и вздую тебя! Как это — ты хочешь жениться, а сам не знаешь, кто она! Да может быть, она нашего рода, и тогда тебе нельзя на ней жениться! Или из того рода, из которого по закону нам нельзя брать невест. И выкуп заплатить нечем. Ты слышишь? Или ты оглох? — спрашивает Ла. — Какой дурак! И уже жениться захотел! Вот женю тебя на кривой Чуге… На девке своего рода жениться захотел. Да может, она Самар? Она — Самар. И ты тоже — Самар! Дурак! И еще перед охотой… И платить нечем…
Отец рыгнул. Он закончил свой деловой день. Довольный и успокоенный своими словами, он как сидел, так и лег на спину, растянулся на кане.
Одна из собак тявкнула на него яростно.
Удога понимал — сейчас и в самом деле следует думать об охоте. Но девушка не выходила у него из головы.
«Почему сразу за ней не поехал? — думал он. — Надо было сразу ехать за ней на оморочке, а я растерялся… Я всегда не могу догадаться вовремя…» Удога надеялся, что он ее еще встретит.
— Мы можем пойти в лавку китайца и взять товары для покупки невесты, говорит Удога, наклоняясь к собаке, которая облаяла отца. Токо ласково лижет его щеки.
— Помни, я никогда не брал в долг у торговцев. Только я один не беру. И ты поэтому не должен.
Собака опять тявкает в ответ старику. За ней другая. Старик рассвирепел, соскочил с кана и стал пинками выгонять собак на улицу.
Удога ссутулился и закрыл глаза кулаками.
Старик насмешливо посмотрел на него, взял на кане табак, трубку.
— Да ты не беспокойся! Пока мы будем на охоте, ее купит какой-нибудь богатый старик, а ты даже знать не будешь никогда, кто она и куда уехала. Так что перестань думать глупости. — Он опять лег и закурил. — Так что можешь быть спокоен. И думай про охоту. Дурак! Да помни: говорить про такие дела стыдно, — ведь ты парень, а не девка. Это только девки тараторят целый день про любовь… А нам с тобой надо поймать соболя, чтобы купить кое-что. Ты знаешь, я никогда не беру в долг у торгашей. А нынче соболь будет, много соболей пойдет за белкой. Я только удивляюсь, в кого ты такой дурак, что тебе не стыдно говорить про такое! — вдруг с сердцем воскликнул Ла. — Да мало ли кому ты лодку можешь сдвинуть. — Он опять лег.
Не выпуская длинной трубки изо рта, старик уснул. Послышался его густой храп.
Удога уныло сидит. Собака поскреблась в дверь и пролаяла сочувственно и приглушенно. Пыжу тер нос и поглядывал на лежащего навзничь отца и на его трубку, словно ожидал, когда он понадежней уснет.
Ойга раскатывала на канах кошмовые подстилки и большие ватные одеяла, приготовляя постели сыновьям. Отец предпочитал простую сохачью шкуру, как было заведено в старину. Он не очень любил покупные одеяла и кошму, говорил, что от них нет толка.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПРОЗРАЧНАЯ РЕЧКА
Белка кочевала…
Все лето белки переплывали реку с левого берега на правый. Хозяйкам из стойбища Онда, когда они выходили на рассвете по воду, не раз случалось видеть, как мокрые зверьки отряхивались, вылезая на берег, и мчались по траве к ближайшим деревьям.
Ездовые собаки устраивали вдоль берега охоту на белок. Гольды не позволяли им жрать пойманных зверей, чтобы не привыкали. Голодные псы, чтобы избежать хозяйских побоев, ловили белок поодаль от стойбища и рвали их там в клочья.
Однажды мокрая белка, спасаясь от собачьей погони, забралась на дом охотника Ла. Сыновья Ла, Удога и Пыжу, залезли на крышу и поймали перепуганного зверька. Старик отнес его в тайгу и выпустил на елку, наказав с ним разных просьб Хозяину тайги и духам тайги — Лесным людям.
Все ожидали, что за белкой пойдут соболя. Осенью оказалось, что по всему левобережью вокруг селения Мылки не уродился кедровый орех. Белка еще большими стаями откочевывала к Онда и дальше в горы, а за белкой уходил и соболь.
Дули холодные ветры. Листья в тайге опали, опали пожелтевшие иглы лиственниц. До ледостава охотники промышляли вблизи Онда. А когда выпал снег и застыли речки, ондинцы собрались в тайгу на всю зиму.
Каждая семья направлялась на свою речку.
Старика Падеку с сыновьями и внуками знакомый гиляк повел в хребты на остров за малым морем.[5] За это он получит товары, купленные дедом Падекой у маньчжур.
Чернолицый Ногдима с неженатыми братьями пошел в верховья собственной речки, недалеко.
Седобородый Хогота с соседями из деревни Чучу поехал на нартах к заливу Хади.[6]
Кальдука Толстый и Падога еще до морозов уплыли по реке Горюн вверх, они пойдут в хребты, где все лето лежат снега. Там очень хорошие черные соболя.
Ла из рода Самаров с сыновьями, Удогой и Пыжу, направился в верховья Дюй-Бирани — Прозрачной речки, впадавшей в Мангму неподалеку от Онда.
Часто охотничьи семьи объединялись, отправляясь в далекие и опасные зимние походы. Как и обычно, постоянными спутниками Ла и его сыновей и на этот раз были их соседи и родичи, старик Уленда и его единственный сын Кальдука Маленький из того же рода Самаров.
Мохнатые остромордые псы тянули пять нарт, тяжело груженных юколой и теплой одеждой. Охотники шли на лыжах, каждый подле своей упряжки, помогая собакам тянуть нарты. Ночевали под корнями старых деревьев или под обрывами берега, где можно укрыться потеплее.
Вечерами у костра Ла рассказывал божественные сказки. Дядюшка Уленда хозяйничал: кормил собак, чинил постромки, готовил пищу и поддерживал огонь. Уленда никогда не был хорошим охотником, и поэтому на него и на Кальдуку возлагалась вся работа по хозяйству. Обычно над дядюшкой подшучивали, но сейчас никто его не трогал: перед промыслом было не до смеха. Озорник Пыжу и тот только посмеивался потихоньку в рукавицу, глядя, как дядюшка с трубкой в зубах, повязав теплым платком круглое, бабье лицо, склонился над кипящей похлебкой и, испуганно озираясь по сторонам, что-то шепчет, отгоняя от варева злых духов. Пыжу знал, что у огня не может быть нечистой силы и что дядюшка напрасно беспокоится.
Ночи охотники коротали кое-как, словно сон был чем-то ненужным, дремали где-нибудь в дупле, сидя на корточках, прикорнув друг к другу, либо, прячась от ветра, забирались под вывороченные корни деревьев.
Перед рассветом выли привязанные собаки, дядюшка вылезал наружу, и вскоре слышался его пискливый голосок, укорявший за какие-то провинности злого вожака-кобеля.
На третий день пути Самары добрались до своего старого балагана в верховьях Дюй-Бирани — Прозрачной речки.
На опушке дремучего елового леса, над ручьем, виднелся полузанесенный снегом шалаш. За остроголовыми елями, как большие сугробы, возвышались округлые белые сопки.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ СЕРДЦЕ СОБОЛЯ
Оставив собак у ручья, Ла с заклинаниями поднялся на угорье. Гольды тихо двигались по лыжне старика. Собаки перестали лаять, и в торжественной тишине слышно было лишь хриплое и тяжелое дыхание.
Отпугнув злых духов, Ла вошел в шалаш. Уленда и парни последовали за ним. Пока старик что-то бормотал, расставляя вдоль стены деревянных божков, Уленда натаскал валежника. Ла вынул из кожаного мешка бересту и разжег от родового кремня огонь…
Охотники стали молиться.
— Соболя давайте, белку давайте! — просили они.
— Сохатого пошли, чтобы все было благополучно, сделай, — кланялись они огню.
Позяней — Хозяину тайги, богу охотничьего племени — вылили в огонь чашечку ханшина. Каждый угощал Позя своими запасами. Удога и Пыжу кинули в огонь по кусочку кетовой юколы. Тут была и борикса — жирная кета со шкурой, и макори — из чистого мяса без костей, и хутку — кетовые брюшки. Уленда сжег для Позя кусочек сала с сохачьего брюха.
На другой день началось самое главное угощение богов. Из круп сварили каши и приготовили всякие кушанья.
Ла знал, как надо готовиться к добыче соболей…
На стволе толстого кедра подле балагана он вырубил топором и разукрасил ножом круглую плоскую рожу.
— Это — Сандиемафа — Старик солнца. Надо его кормить и молиться, говорил Ла. — Если Сандиемафа примет угощение и услышит молитву, то в котле, когда мы станем кушать, найдем сердце соболя.
Пять палок, воткнутых перед Сандиемафа, изображали души пяти ондинцев, жаждущих охотничьего счастья. Каждый, как умел, вырезал на палке свое лицо. Пыжу ловко выскоблил горбатый нос, а Кальдука пустил по своей палке подобие медных пуговиц, желая и перед Сандиемафа щегольнуть модной, привезенной издалека, китайской одеждой.
Перед деревом Ла поставил котел, полный горячей каши. Уленда подмешал в нее сухой кетовой икры и добавил немного перцу, которым он еще летом раздобылся у торговца Гао. На полках охотники развесили свои адоликА сетки с раскрытыми капканами для лова соболей — и луки со стрелами.
— Боги сопок и неба, кушайте! — ниц перед котлами пали гольды.
— Чтобы соболя сердце упало к нам… — шаманил Ла.
Как и многие старики, он умел шаманить. Но Ла шаманил только для себя.
Сандиемафа угощали всеми кушаньями, обильно мочили его кедровые губы аракой. Каши, соусы, жир с сохачьего брюха, кушанья из кетовых брюшков после Санди доедали сами охотники. Такими кушаньями не вредно было лишний раз угостить и деревянных идолов в балагане. Ла намочил их носатые рожицы аракой и помазал наперченной кашей. Побрызгали водкой и вокруг балагана. Сопки, кедры, сугробы, деревья, Позя, Сандиемафа, небо и сами охотники все в этот день было пьяно от сан-синского ханшина. То-то была гульба…
Вечером Самары распили хо — медную бутылку ханшина. Дядюшку Уленду, с общего согласия, назначили на все время промысла готовить пищу и следить за огнем.
Ла доедал кашу и нашел на дне котла сердце соболя.
Пыжу было усомнился: сердце ли это? Не хочет ли отец посмеяться? Что-то этот кусочек смахивал на обрезок от сохачьей брюшины, который Уленда по небрежности выбросил не в орешник, а в котел. Такая у старика привычка кидает и не видит куда.
Но отец дал бы Пыжу хорошую затрещину, если бы он вздумал высказать такие сомнения. Пыжу помалкивал. Ладно, может быть, верно, это сердце соболя…
— Нам охота счастливая будет: сердце соболя в котле… Соболя сами придут… — радовался отец.
Ла шаманил всю ночь, благодарил бога за добрые известия.
Угощение, молитвы и благодарения пришлись, по-видимому, по сердцу высшим силам. Ночью шел снежок, а наутро охотники, выйдя в тайгу, нашли на окрестных сопках множество свежих соболиных троп.
ГЛАВА ПЯТАЯ СЛЕДЫ
Однажды Ла заметил, что к его самострелу с убитым соболем подходил неизвестный человек.
— Вор!
— Вор!
— Убить его! — сказал Ла. И охотники побежали по следу. Но след какой-то странный. В одном месте кажется, что тот, кто шел на лыжах, поднялся на воздух… След прервался. Какое-то чудо. Да, так бывает не только в сказках. Такие существа ходят по тайге, а потом исчезают…
Старик и его сыновья опешили. Решили вернуться, посмотреть, что с ловушкой.
Старик ползал на коленях, смотрел на следы и понять не мог, почему чужой человек насторожил самострел сызнова, хотя зверек уже попался.
Соболя не взял… Может быть, потому, что соболь с пролыснями? Замерзая, зверек так согнулся, что на спине его под черно-пегой шерстью выкатился горб, пасть оскалилась в бессильной злобе, кровь застыла на зубах. Соболь, умирая, пытался вытащить стрелу, хватался за нее зубами. Окоченевшая горбатая тушка была пробита насквозь. Вокруг снег с пятнами звериной крови, как сахар с застывшим соком. Вкусное кушанье для собак! Псы съедали застывшую кровь, выкусывая ее вместе со снегом.
Ла подозвал сыновей. Старик и парни присели на корточки.
— Почему след был хорошего черного соболя, а попался плохой? — спросил Удога.
— Наверно, этот человек нашего соболя украл, а своего, плохого, нам подбросил, — с досадой ответил маленький горбоносый Пыжу.
— Нет, неверно! — сказал старик. — Дураки, ничего не понимаете. Хороший человек был. Не воришка.
Через тропку чужой рукой были натянуты один над другим три волоска. Нижний — совсем в снегу. Ла был беден, он никогда не ставил на тропку три волоска сразу. Конский волос дорого ценился на Мангму. У маньчжурских торговцев приходилось покупать каждую волосинку. У зверей нет таких волос, как в хвосте у лошади. А лошади у маньчжуров очень-очень далеко, и еще дальше у китайцев. И торговцы уверяют, что за последние годы хвосты у лошадей в Китае почему-то не растут и что конские волосы страшно вздорожали. А тут человек не пожалел трех волосков для чужого самострела.
Ла понимал — три волоска натягивать лучше, чем один. Если подует ветер, начнется снегопад, нижний волосок занесет, сверху останутся еще два. Соболь все равно попадется.
— Если бы украл соболя, то хорошую ловушку не поставил бы, — сказал Ла. — Хорошего бы взял и плохого не бросил…
Ла знал, кто ставит ловушку в три волоска.
— Это лочА! — сказал старик. — Это они такие ловушки любят делать. Видно по устройству.
Молодые парни переглянулись. Удога быстро поднялся и пошел вверх по тропке, читая следы и трогая их прутиком.
— А-на-на! — вдруг воскликнул он.
След оказался двойной. За крупным длинношерстным соболем прыгал тот самый пегий и лысый, что попался под стрелу. Этот пегий чего-то боялся и свой след в тайге не оставлял. Он старался след в след прыгать за хозяином тропки, но оступался.
Он, видимо, и жил тем, что крал добычу у хозяина или подъедал остатки.
Удога все понял. Лысый маленький соболь бегал по следам хороших соболей, портил их. Охотник решил его убить. Он выгнал лысого со своей речки, и тот попался на самострел Ла, приготовленный для другого зверька. Хитрец сам себя перехитрил. Теперь он, жалкий и горбатый, окоченел, скаля зубы в бессильной злобе.
Чей самострел — того добыча. Охотник оставил соболя соседям. Но чтобы не нарушать охоту на хорошего соболя, снова насторожил самострел. Он устроил это по-своему, словно поучая соседей, как лучше делать ловушку. Он выказал щедрость, не пожалел трех волосков и стрелы.
— Может быть, это Фомка? — спросил Пыжу.
— Нет, это не Фомка, — ответил отец. — Фомка охотится так же, как мы. Да он этой зимой пошел на Амгунь совсем в другую сторону. Туда ходят гиляки, и с ними приходят те двое лоча, которые убежали из своей страны и теперь живут на устье Мангму. Он пошел туда, чтобы встретиться с ними.
Фомка, сосед ондинцев, — бывший русский, поселившийся на Амуре и женатый на тунгуске. Его за русского никто не считал. «Он когда-то раньше был русским, сам забыл», — так говорили о нем. Ла знал след Фомки. Это тяжелый человек с большими лыжами. Совсем другой охотник подходил к ловушке сегодня. Этот был издалека и охотился по-своему.
— По следу, как по лицу, все видно, — сказал Ла сыновьям. — Он идет легко. На сучок никогда не наступит, — значит, глаз зоркий.
— Куда же он мог деться? Неужели взлетел?
— Нет, быть не может…
Оказалось, что охотник с разбегу спрыгнул с небольшого обрыва. Какой ловкий! Прыгнул раньше, чем доехал до отвеса.
Все разобрали по следам. И увидели на деревьях засечки. Русский звал соседей к себе.
Всем хотелось встретить этого человека и поговорить с ним. Ла поднялся и вырубил на коре дерева стрелку, показывающую дорогу к своему балагану. Так он приглашал русского к себе.
— У лоча лошадей много. Конский хвост не жалеют, — говорил Пыжу.
— В Мылках есть старик Локке. У него светлая борода, — рассказывал Ла. — Он эту бороду в косичку заплетает, потому что волосы сильно растут. У него дедушка был русский. Их род от русского идет.
Ла замотал головой.
— Маньчжуры боятся русских. У-ух, трусят!
Гольды засмеялись.
— Лоча народ рослый. У-у, такой высокий-высокий, стреляют метко, дерутся хорошо, на лыжах быстро бегают, — говорил Ла; он стал хвалить русских, как людей, которых видал редко и знакомством с которыми гордился. — Раньше, когда тут жили лоча, — хлеб рос. Когда русские ушли с Мангму — каменные столбы в тайге поставили, чтобы у этих столбов зимой встречаться с народами Мангму. У нас в верховьях Горюна такой столб был. Наши старики говорили — когда столбы упадут, лоча вернутся. Падека ходит туда охотиться, говорит — столбы уже упали. Лоча живут за горами. У них бороды большие.
Злая, бесснежная буря началась в тайге. Снег чуть не потоками льется с деревьев. Ветер подхватывает его и разносит и метет снег по насту.
— Может занести наши ловушки, — говорит Ла.
Приютились под огромным вывороченным корневищем от вековой упавшей лесины. Тут, за ветром, развели огонь. Пыжу и Удога натянули парус.
— О, как тепло! — с восторгом говорит Пыжу. — Втроем не страшно, правда, отец? И тепло…
— Ушел вверх по ключу, — говорит отец.
— Она, наверно, сверху приехала… — бормочет Удога.
— Конечно, сверху, — отвечает Ла. — Ты же видел следы, он ушел наверх и еще оставил затески на дереве. Зачем он приглашал нас к себе? Как ты думаешь?
— Но ведь мы Самары? — говорит Удога.
— Ну да, мы — Самары, — отвечает Ла.
— А ведь наверху живут люди не нашего рода. Правда, отец? Там живут люди рода Бельды?
— Какие Бельды?
— А ведь они не нашего рода…
— Ну?
— Значит, и она не Самар. Не нашего рода…
— Кто она? Не порти нам охоту, не смей говорить про глупости… Какой дурак! Сколько раз я тебя учил…
На другой день еле добрались добалаганы соболь.
Ла решил сам сходить к лоча.
Он спустился в долину. Собольих следов было много, но все замерзли, покрылись коркой. Они не были рыхлыми, свежими, да к тому же снежная пыль, падавшая с деревьев, засыпала их. У ключа в снегу, на месте исчезнувшей палатки русского, виднелся черный квадрат земли.
— Худо, худо! Ушел. Мы поздно пришли.
Старик пожалел, что не встретился с ним и не поблагодарил, незнакомый человек помог ему, сделал доброе дело и даже не показался.
Нигде не было видно его следов.
Вместо него пришли чужие охотники; сразу много их явилось.
Однажды они перевалили хребет и стали ставить сторожки на родовой речке Ла.
ГЛАВА ШЕСТАЯ ССОРА НА РОДОВОЙ РЕЧКЕ
Пыжу, устраивая петли и ловушки, набрел на след кровавого пиршества. Рысь поймала и разорвала зайца. Парень выглядел сытую хищницу на развесистом кедре и сшиб ее стрелой. Удога с собаками поймал на пустом пеньке соболя, а Кальдука и Ла принесли кабаргу.[7] Охота обещала быть удачной, и Самары благодарили своих богов за посланных зверей.
— Ты какой умный парень, — сказал Удоге отец. — Наверно, забыл про девку, потому и поймал соболя.
Но Удога не забыл встречу с девушкой. Он целыми днями думал о том, как бы найти ее летом.
Охота продолжалась благополучно, и старики были довольны сыновьями. Но вот однажды утром Ла заметил чьи-то следы на своей лыжне. Неизвестные подходили к его ловушкам, расставленным на лис по логу, и вывершили ручей… Эти ходили не затем, чтобы помогать Ла охотиться. Но добычи не тронули.
Пыжу, возвратившись на следующий день с охоты, рассказал, что он подымался на хребет и видел подле устья Сухого ключа чей-то дымящийся балаган…
— Это плохие люди пришли к нам за соболями, — решил Ла. — В тайге их встретим — «здравствуй» не скажем. Пусть знают, что эта речка наша.
На другой день Удога набрел в чернолесье на жеребца сохатого. Зверь стоял к нему жирным крупом и, завернув мохнатую морду так, что виден был лишь горбатый нос, глодал кору молодой осины.
Удога стал подбираться к нему, держа наготове лук. Лось учуял опасность — вздрогнул, его задние ноги подкосились… Зверь на миг осел, словно его стегнули бичом по крупу, вдруг рванулся и с треском помчался по густому чернолесью.
Юноша ринулся за ним. Сохатый шел крупной рысью и, несмотря на рыхлый снег, быстро удалялся. Удога прогнал его через чернолесье на болото. На открытом месте снег был покрепче, гольд побежал быстрей…
У опушки сохатый почему-то не вошел в тайгу, а испуганно метнулся в сторону и понесся вдоль окраины болота. Удога свернул было ему наперерез, но в этот миг из тайги на снега мари вылетели двое охотников в белых сохачьих одеждах, с копьями в руках…
«Э-э, так вот кто подходит к нашим ловушкам, — подумал Удога. — Будем знать теперь, кто вы…»
Это были гольды рода Бельды из большой деревни Мылки, расположенной на озере Мылки, как раз напротив гьяссу[8] маньчжурских торгашей и разбойников, приезжавших на лето.
«Торгаши куда забрались!» — замедляя бег, подумал парень и остановился.
— Скорее пятнай высокого, чего мешкаешь![9] — крикнул ему рослый седой старик с серебряным кольцом в носу.
Это был Денгура, мылкинский богач и старшина рода Бельды, подручный маньчжуров и сам заядлый торгаш, путавший долгами своих же сородичей. Другой гольд был молодой парень Писотька Бельды. Следом за ними из тайги вышли еще трое мылкинских.
— Эй, парень, — приближаясь к Удоге, насмешливо заговорил Денгура, смотри, если тебе лень бежать за высоким, то как бы не нашлись на него другие охотники. Я ведь старшина… Захочу — все возьму.
— Тяп-тяп-тяп-тя-я-я… — вдруг передразнил его ондинец. — Не хочу твою речь слушать, — и, повернувшись к мылкинцам спиной, побежал обратно в чернолесье.
Обычно на Дюй-Бирани зверовали ондинцы. Лишь изредка по звериному следу забредали туда чужие охотники. Если пришельцы оказывали ондинцам уважение, им никто не мешал брать добычу…
Ондинцы и сами в пылу охотничьей страсти пятнали зверей чуть ли не до Хунгари, и споров у них с соседями не бывало.
И на этот раз они надеялись, что, может быть, после встречи с Удогой мылкинские Бельды посовестятся и либо придут мириться, либо откочуют куда-нибудь подальше. Но Бельды жили на Сухом ключе, в полудне хода от балагана Ла, мириться не шли и охотились по-прежнему. Денгура, как видно, полагал, что ондинцы не посмеют противиться ему, деревенскому старшине, который дружит с маньчжурами и сам стал купцом. Он надеялся, что ондинцы испугаются и дадут ему меха, только бы не заводить спора.
Однако он ошибся. Ла, Уленда и их дети принадлежали к роду Самаров. Самары никогда еще ни в чем не уступали роду Бельды. Они чувствовали себя оскорбленными и решили силой прогнать Бельды со своей речки.
Через несколько дней после встречи Удоги с Денгурой младший сын Ла, ладивший поутру самострелы на соболиные следки, заметил, что из пихтача на каменный рог сопки вылез, барахтаясь лыжами в глубоком снегу, Писотька Бельды.
— Эй, проваливай отсюда! — крикнул ему Пыжу. — Здесь мои ловушки.
Писотька, не ожидавший такой встречи, остолбенел. Стыдясь отступить перед Самарой, он стал как бы в рассеянности поглядывать то под гору, в горелый лес, то на густой голый осинник, торчащий из сугробов по увалу.
— Чего башкой вертишь?! — вдруг заорал Пыжу, решивший, что Писотька делает вид, будто поджидает своих.
И, не долго думая, Самар натянул лук, заложил приготовленную для соболя стрелу тупым концом вперед и пустил поверх Писотькиной головы, так что она чуть задела белую сохачью шапку. Тут Писотька, забыв стыд, в ужасе кинулся под утесы и скатился на лыжах в падь.
Пыжу кричал ему сверху что-то обидное, но ветер относил слова. Бельды пригрозил ему копьем и побежал к своим, ощупывая разорванную стрелой шапку с вылезшими наружу клочьями меха.
* * *
Очень холодно. Тайга замерзла и опустела.
Старик Ла идет сердитый, тычет прутиком в следы, качает головой. Все следы старые, замерзли. Звери больше не ходят, залезли в норы и дупла.
Ла налегает на лыжи. Он подходит к шалашу и слышит, что там идет веселье, молодые парни играют в карты. Услыхав скрип снега, они прячут карты. Уленда спит.
— Тайга пустая! — говорит Ла, раздеваясь. — Следы замерзли, все звери спят. Только старые следы есть. Завтра пойдем домой.
Ла ударяет ногой Уленду.
— Старый дурак! Парни тут ленятся… У-у! — Он гоняет заспавшегося старика по шалашу.
Утром пятеро охотников стали дружно укладывать меха в мешки. Промысел был удачным. Одна к одной укладываются огромные серебристые и красные лисы. Пышные черные соболя. Колонки. Рыси с кисточками на ушах. Выдры. Многие шкуры вывернуты мездрой вверх. Ла выворачивает мехом вверх соболя.
— Какой большой! — говорит Пыжу.
— Да, какой плохой! — грубо перебивает его отец.
— Да, да, плохой! — спохватывается сын.
— Плохая охота была! — жалуется старик. Так полагается.
Потащили мешки из балагана. Вот уж стали укладывать в нарты, привязывать. Запрягают собак.
«Домой! Домой!» — ликуют сердца молодых.
Бельды тоже собрались домой.
Денгура, запахивая белую дорогую баранью шубу, с важностью уселся в большую красную нарту. Нарта, как кресло, со спинкой. Упряжка из одиннадцати рыжих собак. Недалеко другая нарта, около нее суетятся еще охотники.
Перед Денгурой стоит маленький, бедно одетый старичок Чакча.
— Пойди в их деревню! — властно говорит Денгура. — Скажи, вы хотели нашего Писотьку убить, все равно что убили, мы будем думать, что убили нашего.
Писотька Бельды подымает собак и вскакивает на первую нарту верхом. Нарта за нартой проносятся мимо бедняги Чакчи.
Чакча вздыхает, качает головой, берет торчащие из снега лыжи и палку. Поднимает двух тощих собак, подпрягается и тащит полупустую нарту по другой тропе.
* * *
Ла сидит у себя дома на кане, поджав босые пятки. Пылают два очага. Полутьма полна скуластых лиц.
— Он сказал, — говорит Чакча, — «вы нашего Писотьку хотели убить, все равно, что убили… Платите выкуп за убитого или будем воевать!»
— Будем воевать! — яростно кричит оскорбленный Ла.
— Ай-ай-а-а-ай! — орет Ойга. — Зачем воевать?
— Нет, отец, обязательно пойдем воевать! — горячо говорит Удога.
— Чакча! Отвези им наш ответ, — говорит Ла. — Скажи: «Вы хотели свои ловушки поставить там, где наши стояли, по нашей лыжне ходили, — все равно что обокрали нас. Будем знать, что вы воры, а мы только попугали вашего, совсем убить его не хотели, только ему шапку порвали, а вы за это грозитесь убивать нас, все равно что убили, будем думать, что убили, вас в долгу два раза считаем».
— Я сначала съезжу домой, отдохну, — отвечает Чакча.
Он уехал.
Ойга кричала на мужа, рвала на себе волосы, кидала чугунные сковородки.
— Зачем воевать, пожалей детей! У тебя два сына! Пусть войну затевает тот, у кого девки!
Чакча честно выполнил поручение и слово в слово передал ответ Самаров.
Ссора разгоралась.
Денгура с жаром взялся за дело, желая иметь повод, чтобы притеснить Самаров. Это был один из тех людей, которые любят ссоры, кляузы, тяжбы.
«Да, вот тебе и сердце соболя, — думал Пыжу. — Нет, это было не сердце соболя. Удача нам в тайге была, но соболя все же не сами к нам бежали, а мы за ними гонялись да гонялись. В тайге поссорились. Война будет… Не знаю, может, верно, это было сердце соболя, а я подумал, что кусочек от сохачьего пуза, и Сандиемафа рассердился и нагнал за это Бельды на нашу речку!»
ГЛАВА СЕДЬМАЯ ЛОЧА
Рассвета еще нет. Едва можно различить очертания низеньких жилищ, с неотпиленными жердями на крышах.
В доме Ла скребется в дверь собака.
— Сейчас выпущу тебя, Токо, — говорит Удога.
Собака выбегает, садится на снег и начинает выть. И сразу же из-под амбаров отзываются другие собаки.
Тоскующий протяжный вой сотен собак возвещает о приближении дня, хотя рассвет еще не начинался.
О чем они воют? Может быть, шаманы правы, его человеческие души живут во псах и тоскуют о своей судьбе?
Ойга высекла огонь. Кашляет Ла. Он закуривает трубку.
…Лес побелел от инея. В воздухе мгла. Обильно падает изморось. Тускло, косматым желтым пятном, сквозь мглу едва проглядывает солнце.
— В такие морозы все звери залегли в дупла и в норы. Теперь охоты нету, — говорит Ла. — Когда морозы не такие сильные будут, тогда в тайгу опять пойдем. А сейчас зверей не встретишь, только злого духа встретить можно.
Сквозь морозный туман ярко пробивается желтое косматое солнце. Еще два малых солнца по бокам его.
Прибежал Пыжу, всех всполошил. В тумане едут какие-то люди и разговаривают на незнакомом языке. Низкими, гортанными голосами, как будто лают хриплые, простуженные кобели.
Мужчины пошли на берег. Ла, насторожившись, вглядывается в туман.
— Вот они опять разговаривают, — говорит Пыжу. — Может быть, сбились с дороги? Кто такие?
Качая бедрами, подошел Уленда. За ним приплелся Кальдука. Из соседнего дома с оравой мальчишек спешит чернолицый молодой Ногдима. Ковыляет старик Падека, которого от болезни так согнуло, что он придерживается рукой за землю.
— Ну, вслушайся, отец, — просит Пыжу, — ты же знаешь все языки мира и сразу поймешь, кто едет…
Слышно, как скрипят полозья. Голоса все ближе.
— Знаешь, я не слыхал подобных слов… Они едут прямо сюда…
— Я, кажется, начинаю бояться, — говорит Пыжу.
Из густого тумана быстро появляется нарта и мчится к берегу. Она как раз под солнцем. С нее соскакивает человек с огромной рыжей бородой, в косматой рыжей шапке. Он снимает шапку, но голова его не меняет от этого цвета.
— Не бойтесь! — раздается крик на языке на-ней.[10] За рыжим шагает высокий гиляк с черными лохматыми волосами.
— Ла, здравствуй!
— Позь? Это ты?
Позь и Ла целуют друг друга в щеки.
— А это мой друг Алешка…
* * *
В доме Ла гости. На кане сидит человек с бородой цвета посохшей осенней травы, с глазами как морская вода на Нюньги-му,[11] где гиляки бьют водяных зверей копьями, загоняя их на мель.
— Лоча приехал! Лоча! — пронесся слух по деревне. Ондинцы собрались в зимник Ла.
— Уй, лоча, какой нос длинный! — переговаривались они.
— Это не ты охотился на Дюй-Бирани?
— Я.
По канам пробежал ропот изумления.
— Ты нам три конских волоска протянул? Мы хорошего соболя поймали. Следы хорошо знаешь. Зачем к нам гонял плохого соболя?
— Я и людей и зверей не люблю таких, которые чужим следом ходят, чужую добычу жрут. Следы людям портят, — ответил русский. — Когда такого хитрого зверя убьем, охотиться будет хорошо. Когда поймаем того, кто нам мешал жить дружно, — от несчастий избавимся.
— Верно, такие люди есть, — согласился Ла. — Это наши соседи мылкинские Бельды… Если их, как лысого соболя, убить, — будем жить хорошо. А ты куда дальше пойдешь?
— Домой к себе пойду.
Скоро год, как ушел Алексей Бердышов из родной забайкальской сторонки. Но не только страсть к пушному промыслу повела его на Амур.
Однажды на Усть-Стрелке[12] у атамана был в гостях исправник Тараканов и полицейские с горных заводов. Бердышов подвыпил, поспорил с ними, стал ругать горное начальство, — но это было еще ничего. Он выбранил купцов Кандинских и прошелся языком вообще по всем — и низшим и высшим.
На другой день Тараканов призвал казака к себе и велел ехать в Нерчинск. Алексей был бесстрашным человеком на охоте и при встречах с врагами, но здесь он знал — никакая храбрость не поможет, каким бы стойким он ни был, его будут без конца пытать и допрашивать, не подучил ли его кто, будут вымогать у него меха. Бердышов решил убраться с глаз долой подальше и тем временем обдумать, что делать. Он не поехал в Нерчинск, а, узнав, что один из кяхтинских купцов идет с товарищами на Тугур, нанялся к нему. Бердышов сначала хотел поселиться где-нибудь, куда никто не доберется. И он нашел такое место. Там оказалось много золота, в той горной долине. Бердышов решил идти с добычей домой. Он соскучился по семье. Он твердо решил, если к нему по возвращении опять станут придираться, уйти на Амур совсем. На всякий случай, кроме золота, он подкопил меха, надеясь откупиться от полицейских. По дороге Алексей охотился и шел все дальше и дальше. Летом из Удского края Алексей послал письмо в Забайкалье с кочующими тунгусами. В письме он извещал, что идет на Амур. Тунгусы обещали передать это письмо от рода к роду, от кочевки к кочевке и отвезти его до самой станицы Усть-Стрелки, откуда Алексей был родом.
Домой казак решил вернуться не Становым хребтом, а Амуром, о богатствах которого наслышался. Через хребет перевалил на реку Амгунь, впадавшую в Амур. За ней хребты снова поднимались в глубочайшую синь, загроможденную кучевыми облаками. Он шел и по привычке брал пробы песков. На нескольких речках нашел золото. Одна из россыпей оказалась богатейшей. Но мыть ее нечего было и думать — без припасов он умер бы с голоду. Наступала осень. Зимой Алексей охотился, продвигаясь к Амуру.
На устье Горюна он встретил человека, признавшего сразу русского в Алешке. Оказалось, что Позь знает по-русски.
Он шел с нартой, груженной товаром. Сказал, что едет торговать в землю маньчжур из земли гиляков, с устья Мангму. Сам живет на море, на мысу Коль.
Так и пошли вместе, на трех нартах. Алешке надо купить юколы на дорогу. Нужны меха, летом где-то придется купить лодку.
— Где ты по-русски научился? — спросил он гиляка.
Но Позь отмахнулся. Потом Позь спросил:
— Ты знаешь, что такое академик?
— Оленник, может?
— Тьфу! — плюнул Позь.
На ночевке Алексей переспросил:
— Про кого это ты меня спрашивал?
— Как, ты не знаешь, кто такой академик, Алешка? Ты сам-то русский? Академика не слыхал?
— Нет.
— Есть школа, там учат. Да?
— Да.
— Самый ученый — академик. Как амбань[13] над учеными. Теперь понял? Нет?
Позь удивительно хорошо говорил по-русски. Но кто такой академик, Алешка все же не понял.
— Поп, может?
— Поп это шаман. Академик как китайский ученый, который делает женьшень, карты чертит, скажет, какая будет зима.
— Ну, ученый.
— Конечно! — отвечал Позь.
В русской экспедиции, где Позь был проводником,[14] звали его Позвейн. «Он — гений в своем племени!» — говорили про Позя ученые. Позь встречал и американцев. Ездил торговать к китайцам. Отец Позя был тунгус, явившийся в землю гиляков из России. Позь бывал у русских в селениях.
Гиляк с холодным взором. Как куски черного льда его глаза. Он широкоплеч, носит хорошее оружие. Алешка предлагал ему винтовку за меха.
— Сменяй гольдам, будет выгодней! — посоветовал Позь.
* * *
— Русская земля вверху или внизу? — спрашивали гольды.
— Зачем русский домой идет вверх? Разве у них там земля?
Позь любил поговорить о русской земле.
— Русская земля и вверху и внизу, и там и тут! — воскликнул он. Большая земля! Мы целый год шли — только край ее узнали. Еще разных краев есть много. Хорошая земля! Даже такой есть край, где муку делают, где корова живет. Русская земля вот такая, — вскочил он и раскинул руки, словно собирался захватить в объятия всех сидящих в доме.
— А скоро русские придут? — спрашивал Хогота.
— Скоро придут! — отвечал Алексей. — Скоро много наших придет. Полон Амур. По-вашему — Мангу, по-нашему — Амур.
— Правду говоришь?
— Конечно, правду, вру, что ли?
— Уй, как смешно! Совсем у вас название неправильное.
— Правильное название будет не Мангу, а Мангму, — учил Ла русского, Мангму — сильная вода, богатая река. Морской черт будет Му-Амбани. Морской бог — Му-Андури…
Старики возмущенно закричали:
— Ему только пятьдесят лет, а нас учит! Мы всегда говорили «Мангу»… Мальчишка лезет со старшими спорить!
— Нет, Мангбу! — закричали из угла. — Мангбу! Мангбу!
Между гольдами начался спор, как правильно называть великую реку.
Хозяева угощали русского юколой, рыбьим жиром и лепешками.
— Почему в тайге одни только твои следы были?
— Настоящая охота всегда бывает, когда человек один охотится.
— Давай торговать, — предложил Ла.
— Давай меняться! Соболя есть?
— Есть! У-у! Есть! — обрадовались ондинцы.
За разговорами началась меновая.
Алексей Бердышов — краснолицый, голубоглазый, с жестким, худым лицом, темно-русый, косая сажень в плечах, с высокой выпирающей из-под рубахи грудью, с рыжеволосыми руками.
Удоге нравилось смотреть на Алешку. У него волосы такие же, как у девушки, которая встретилась парню летом. Алексей и Позь хотели пополнить запасы юколы.
— Мы слыхали, какие лоча, — говорил Ла. — Вниз по реке деревня есть Мылки. Там наши враги живут. Старик у них с рыжей бородой есть. Зовут его Локке. Его деды русскими были. Когда лоча жили на Амуре, его дедушка в Мылках остался. Пойдешь через Мылки, его увидишь. Чтобы тебя там не обидели, мы с тобой им кое-что передадим. Нашим посланцем будешь. Посланца закон обижать не позволяет. Когда приедешь в Мылки, спроси про старика. Он рода Бельды. Теперь его против нас воевать заставляют. Ему на бороду посмотри — сразу узнаешь, что лоча.
— Красная борода как красный тальник, — молвил Алексей по-гольдски. Ондинцы засмеялись.
— Наш бог от бедных людей родился, был рыбак, рыбу ловил, — щурясь и поблескивая глазами, говорил Бердышов, — нам за бедных заступаться велит. Мы всегда так и делали. Наш бог хороший. Старика бородатого, дедушку Николу, никогда не видал? — Алексей показал маленькую в золотой ризе икону Николая Чудотворца. — Бога нашего помощник, приятель… Русский бог. В одежде из дорогого красного серебра ходит. Хороший старик дедушка Никола…
— Передай Бельды, что летом пусть в лодках выезжают сражаться… Из луков на озере стрелять друг друга будем.
— Кто такие Бельды?
Ла рассказал.
— Вы братья, а хотите воевать! — удивился русский.
Все возмутились:
— Какие мы братья? Они — Бельды, а мы — Самары. Совсем другой род. Они плохие! Совсем чужие люди!
— Род другой, а люди одни! — Русский понял, что у Самаров с Бельды один язык и они друг у друга жен берут.
— Смотрите! Когда подеретесь — меня еще вспомните.
— Вам надо не между собой драться, а вместе маньчжуров бить, — сказал Позь. — Вот так. — Он поставил перед собой бабку и ударил ее так здорово, что она отлетела.
— Силы нету! У них ружья! — закричали Самары.
— У нас тоже ружья! На! — протянул ружье Алексей. — Возьми мое! Это ружье сделал на Шилке сосед и друг Алексея кривоногий шилкинский казак, искуснейший кузнец и оружейник, самоучка Маркешка Хабаров. Ла выменял Алешкино ружье. Отдал соболей, сушеное мясо, сто пластин юколы и упряжку собак.
— Русские хорошие! — говорил Ла, довольный меновой.
— У нас помнят, что на Амуре наши деды жили, — отвечал Алексей.
— Но я один раз слыхал, — сказал Ла, — что русские страшные. Всех ограбят. Любят воровать.
— Глупый вы народ! — сказал Позь.
«Правда, — подумал Алешка, — воров у нас много развелось». Но тут надо было своих хвалить и хвастаться.
— Конечно, наверно, вранье, — сказал он.
— А Бельды плохие! — воскликнул Ла. — По нашей речке ходили! Мы их побьем — домой вернемся, будем богатые, сильные. Жить хорошо можно будет!
— Не надо с братьями драться. Только хуже вам будет. Маньчжурские торгаши только от этого наживутся.
Но никто не хотел слушать его предупреждений.
— Маньчжуры нашего дела с Бельды не касаются!
Утром Позь и Бердышов забрали свежей юколы я пустились в путь на собаках. Толпа гольдов, стоя на берегу между зимниками и амбарами, занесенными снегом, долго смотрела им вслед.
Синие полосы стлались вокруг. Из мглы выступали низкие зимники с тяжелыми крышами в снегу.
«Эх и далеко до Шилки! — думал казак. — Что-то там сейчас?»
Давно Бердышов не был дома. Хотелось ему знать, что же делается на Шилке, в далеком родном Забайкалье.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ МАЙМА
— Араки би?[15] — весело кричал, поворачивая угду[16] кормой вперед, низкорослый косматый гольд, мокрый до пояса.
— Араки би-би… Иди сюда… — растянул человек на майме.
Одна за другой из тальников, затопленных разливом, вырывались на быстрину плоскодонные лодки мылкинцев. Гольды и гольдки, изо всех сил налегая на весла, спешили к торговому судну.
На майме слышался знакомый мылкинцам тонкий голос хозяина. Там спускали паруса, судно замедляло ход.
Могучее течение бурлило у бортов. Накрапывал дождик. Холодный, порывистый ветер всплескивал пенистые волны.
Ослабевшую майму подхватило течением и понесло к низкому берегу. Вершины затопленных тальников зашуршали о ее борта.
— Скорей, скорей! — кричал на рулевого хозяин.
Несколько плоскодонок, полных возбужденных гольдов, пристали к майме на ходу. Пренебрегая опасностью, гольды сильными ударами весел разгоняли лодки прямо на судно, ловко заворачивали их у самого борта и плыли вплотную подле маймы, цепляясь веслами и руками за ее несмоленую обшивку.
Река была в разливе. Мутные тучи вод мчались с верховьев, затопляя болотистые острова и низменности по левобережью.
Одна из сухих стариц выше озера Мылки превратилась в широкую многоводную протоку. По ней река врывалась в озеро, заливая прибрежные луга и чащу краснотала. К подводным пастбищам, в затопленные луга и кочкарники, шли на откорм косяки рыбы. Лов на новой протоке был в разгаре, когда мылкинцы заметили, что сверху плывет двухмачтовая майма.
— Ондинский хозяин едет! — радостно закричал дальнозоркий старик Локке, как только судно появилось из-за крутого мыса.
Наскоро были вытянуты сетки с добычей, и ватага лодок поплыла через затопленный тальниковый лес, напрямик к главному руслу.
Уже не первый день гольды посматривали вверх по течению: не плывет ли с товаром и водкой ондинский торговец, старый Гао Цзо, что-то запоздавший на этот раз. Еще осенью он распродал все свои товары и уехал домой, в Сан-Син.
Гао Цзо торговал в Онда, но мылкинцы, так же как и все жители окрестных стойбищ, были его постоянными покупателями, потому что старик давал товары в долг и ценил их дешевле, чем другие купцы, приезжавшие на озеро Пиван, что напротив Мылок, где летом, в гьяссу, устраивалась ярмарка. Из Онда — летом на лодках, а зимой на собаках — сыновья и работники Гао Цзо развозили товары по стойбищам, променивая их на пушнину, на калужий хрящ и раздавая в долг.
Сотни семей были в долгу у Гао Цзо, и все они полагали, что он подобрей и почестней других торговцев, и охотно несли ему свои меха.
Покупать у Гао Цзо было выгодно, но небезопасно. Старик торговал незаконно, как утверждали маньчжуры из гьяссу.
Несмотря на их старания ограничить торговлю Гао Цзо, купец делал большие обороты. Впрочем, маньчжуры не запрещали старику торговать в отдаленных деревнях, получая за это богатые взятки.
Мылкинцы не видели старика всю зиму. Надо было теперь рассказать ему новости и заодно воспользоваться случаем хорошенько выпить.
Лодки окружили майму. Борта ее облепили головы гольдов в грибообразных конических берестяных шляпах.
Рабочие на майме, мягко бегая по грудам товаров, возились с соломенными полотнищами парусов. Хозяин стоял на корме, на возвышении, слабо и визгливо покрикивая на них. Это был пожилой, присадистый китаец, одетый в простую куртку из синей бумажной дабы и грязные ватные штаны.
Седокосая плоская голова его была откинута назад, в сутулые плечи, и казалось, что Гао Цзо всегда ежится, словно на спине за воротом у него тает ком снега или льдинка.
Старик щурил свои подслеповатые глаза так узко, что они казались закрытыми, и похоже было, что Гао Цзо спит на ходу.
— Здравствуй, хозяин! — перевалился в майму широкоплечий богатырь Локке и поклонился, обнажая рыжеволосую голову.
Локке выложил на палубу пару великолепных белых гусей и три красноклювых утки-чернухи…
— Здравствуй, здравствуй! — не подымая век, потряс головой торговец и махнул рукой. Мокрые гольды полезли через борта.
— Жирной рыбы тебе привезли, сазанов… осетров… — забрался в майму Денгура.
Мылкинский староста даже на рыбалке выглядел щеголем: грязный халат его, надетый на голое тело, сшит из голубого шелка, а в носу и в ушах Денгуры висят серебряные кольца. На макушке его лысой головы торчит засаленная шапочка.
Заискивающе улыбаясь, Денгура опустился перед торговцем на колено. Гольды поснимали берестяные шляпы и, прижимая кулаки к сердцу, стали кланяться.
Гао понимал, что им надо и зачем они привезли на майму осетров.
Он что-то пробормотал, обращаясь к сыновьям.
А-Люн — розовощекий подросток, любимец отца — проворно спрыгнул с тюков и откинул лежачую дверь. Двое старших сыновей — шустрые, рослые молодцы, одетые в дабовые куртки и в кожаные улы, — полезли под настил.
Между тем гольдки стали перебрасывать в майму разную рыбу. Сиги и толстолобы запрыгали, ударяясь о палубу и раздувая трубой рты…
Сыновья хозяина вытащили из люка ящик водки и отнесли его на корму, под камышовый навес. Хозяин присел на корточки и стал ощупывать крышку, отыскивая заклеенное отверстие. Китайчонок, ползая на коленях, отдирал с ящика синюю бумагу. Гольды, жаждущие угощения, с вожделением смотрели на хозяина.
Пока Гао Цзо возился с ящиком, женщины и девушки перекидали через борт всю рыбу и отвалили от маймы.
— Отец, отец! Не забудь! — обращаясь к Локке, крикнула из лодки стройная девушка с русыми, расчесанными на пробор волосами. — Отец, кьякта мне возьми…
Это была Дюбака, дочь старого Локке.
Уже несколько раз толковала она отцу, что ей надо. У нее новый сиреневый халат. Ей хотелось бы расшить его по подолу тонкими медяшками а-чен — и морскими ракушками. А-чен — малютки-денежки — мать сняла со старой шубы, но кьякта — морские ракушки — достать можно было только у торговцев…
— Чего тебе? — спросил Локке.
— Ай-ай-ай, отец! Как не стыдно, уж забыл! Кьякта мне возьми. Смотри, ты обещал. Не забудь. Пьяный напьешься — опять все забудешь. Я сильно рассержусь.
Она оттолкнулась веслом от борта и погнала свою лодку, избегая лесин и коряг, мчавшихся по реке. Ветер трепал ее светлые волосы и короткий желтый халатик, расшитый птичками.
На халате девушки птички — души младенцев; это вышитые мечты о любви, о многих детях, о мальчиках и девочках, которых хотелось бы родить любимому.
— Ладно, ладно, возьму тебе ракушки! — прохрипел Локке, видя, что дочка уже сердится. Она нахмурила свои соболиные брови и делала какие-то знаки, разводя руками по подолу, а потом что-то показывала на пальцах. Ладно, ладно… Скорей поезжай, а то тебя унесет. Тут плохое место. Майме-то ничего, а лодке плохо — закрутит.
Между тем протока, которую, судя по ее ширине, нетрудно было принять за главное русло, окончилась. Зеленеющие острова быстро уплывали назад.
По правому берегу чернели скалистые горбовины сопок. Река, огибая скалы, образовывала обширную излучину. Из-за быков рванул ветер. По реке, ударяясь друг о друга, побежали седые волны. Дождь вокруг как рукой сняло, и стало видно, что по лесистым вершинам сопок мчатся низкие рваные облака.
В разлив река достигала на этом месте двенадцати верст в ширину. Ветер гонял на просторе тяжелые волны.
— На протоку! На протоку! — орал Локке, обращаясь к дочери. Скорей…
— Раку-у-шек! — кричала отцу девушка.
Старший сын Гао Цзо, запуская черпачок в ящик с водкой, наливал маленькие фарфоровые чашечки и подносил их гольдам по очереди.
Денгура, с жадностью осушив десяток таких чашечек, опьянел: он глупо замотал своей дынеобразной головой и вдруг повалился замертво… Средний сын хозяина схватил его за ногу и при общем смехе оттащил волоком по мокрому настилу в проход между тюками.
Несмотря на холодный ветер, ханшин согрел мокрых гольдов и развязал им языки. Они наперебой принялись рассказывать новости.
Локке решил подразнить Гао Цзо. Старик знал, что маньчжурские торгаши и разбойники страшно боятся лоча. Он сказал, что зимой в Мылки приходил человек с желтой бородой.
— Лоча! — злобно пробормотал Гао Цзо. — Сколько лет, как войска богдыхана разбили их города и крепости,[17] а они все шляются…
— Никак не хотят забыть эту дорогу. Ой, лоча! — проговорил старший сын хозяина.
— Он пришел с верховьев Амгуни, — продолжал Локке, — перевалив туда через хребты, из царства Лоча, тем же путем, которым приходят русские купцы, торгующие железными топорами. А хорошие товары! А у этого какое хорошее ружье! Он направился в верховья, на ту реку, где течет русская вода. Та вода не такая, как маньчжурская желтая вода. Русская вода из холодных гор течет, прозрачная. По дороге хотел заехать в селение русских, из своей страны бежавших…
— Разбойник, — вскричал старший сын Гао, — знает, куда ехать! Это те люди, которые убежали из страны Лоча и живут на устье Черной реки.
— Говорил, хорошо бы всех маньчжуров гонять отсюда, — посмеивался могучий Локке.
Гао взвизгнул.
А Локке все посмеивался.
— Над всем смеется, — бывало, говорили про Локке гольды. — Умирать будет, а сам все равно смеяться может. Нрав лоча!
Мать у Локке была светловолосая орочонка, но Локке знал, что одним из его предков был русский, живший очень давно в Мылках.
Гао Цзо усмехнулся. Еле слышно он заговорил. Он рассказывал гольдам разные торговые и политические новости. Все эти новости были выдумкой Гао. Старик полагал: чем грубее и страшнее выдумка, тем лучше она подействует на простых людей и тем легче будет торговать. Войска богдыхана, по его словам, убили сто тысяч мятежников и рыжих и сожгли пятьсот их кораблей. В верховьях Сунгари и на реке Нонни зимой было так много соболей, что теперь они упали в цене и сан-синские купцы, отправляющие караваны мехов в столицу и в порты южного Китая, берут их неохотно. В тайге поймали двух рыжих с крестами, которые продавали отравленную одежду. Носившие ее все умерли… Лоча, как слышно, тоже торгует отравленными вещами, от которых на теле начинаются гнойные язвы.
В Сан-Сине снаряжают войско на ста лодках, чтобы уничтожить хунхузов, живущих на Сунгари… Войско проплывет по реке, а палачи будут отрубать головы тем, кто торгует с рыжими или лоча, кто пускает их к себе в дома ночевать, продает юколу для их собак, и всем, кто хвалит их и их товары…
Тем временем майма, покачиваясь на волнах, поравнялась с широким ущельем на правом берегу реки. Там между сопок белело заливное озеро. За островами, полузатопленными разливом, виднелась загородка из жердей вокруг зимника с крышей из коры. Это и была гьяссу, где останавливались маньчжуры, приезжавшие летом.
Гао Цзо умолк, поглядывая на берег. У него затряслась запрокинутая голова, брови задергались судорожно; он злобно скривил рот и, неожиданно взвизгнув, плюнул через борт в сторону гьяссу.
Гольды громко засмеялись. Все знали, что купец терпеть не может маньчжуров.
— Крысья нора! — потихоньку вымолвил китаец и в сердцах снова плюнул.
Только когда частокол скрылся за скалистым обрывом, Гао Цзо немного успокоился.
Мылкинцы стали просить его, пока не приехал Дыген, прислать в деревню лодку с товарами. Глядя на добрые лица гольдов, старик, казалось, вдруг расчувствовался и, смахнув с закрытых глаз навернувшиеся слезы, велел налить всем им еще по чашечке водки.
— Нам в Онда нельзя поехать, — пожаловался ему Локке. — У нас в тайге ссора была с Самарами, теперь война должна быть.
Веки старика слабо задрожали. На миг он приоткрыл их и оглядел своих гостей заблестевшими черными глазами. Казалось, он не мог сдержать внезапно охватившей его радости.
— Денгура нам драться велел, — подтвердил рыжий гольд и стал рассказывать про столкновение на Дюй-Бирани.
Гао Цзо вдруг опять закрыл глаза и ссутулился.
— Денгура говорит, что мы побьем Самаров, — продолжал Локке, — они виноваты. Говорит, когда побьем, возьмем с них выкуп… А я думаю: может, не надо драться? Какое мне дело до того, хотят или не хотят они давать Денгуре меха…
— Ой! Что ты! — вскричал Гао. — Они вас всех убьют! Высосут глаза у ваших женщин и у младенцев, съедят сердца! Драться надо!
Мылкинцы в страхе переглянулись.
— Неужели они такие? — удивился Локке.
— Я-то знаю их хорошо. Торгую в их деревне. Только по необходимости там живу! Рад бы уехать от них.
— Ну так пришли лодку.
— Как могу прислать лодку в Мылки? — пробормотал старик и постучал себя сухим кулачком в грудь. — Дыген плывет сзади, мы его майму в Буриэ[18] перегнали… Он не сегодня-завтра на Пиване будет… Дыген едет — какая может быть торговля?
— Дыген едет? — вскочил на ноги Локке. — Ой-ой! — переглянулся он со своими сородичами. — Эй, староста! — Локке испуганно кинулся из-под навеса и стал тормошить мертвецки пьяного старосту. — Маньчжур Дыген едет!
— А? — очнулся наконец Денгура. — Дыген едет? — повторил он, еще не понимая значения этих слов, и, уставившись безумными глазами на Локке, присел на палубе, почесывая голую грудь.
Когда же смысл их дошел до него, старик проворно вскочил на ноги и в ужасе заметался по палубе.
Гольды кинулись к бортам и стали звать лодки, маячившие в отдалении. Все заспешили домой.
Дыген и был тот самый маньчжур, который построил гьяссу. Появившись впервые, он объявил, что приехал делать подарки от имени императора бедным людям, живущим в лесах.
Одному доставалась иголка, другому горсть крупы, третьему — зеркальце или бумажные туфли. Тут же Дыген требовал ответных подарков — по одному или по два соболя с человека. Дыген повадился в низовья. Он грабил и разорял гольдов, не имевших сил оказать ему сопротивление. Несколько подкупленных гольдов помогали ему. В их числе был Денгура из деревни Мылки. С его помощью маньчжуры заставили жителей Мылок построить на другой стороне реки ограду и зимник. Там они останавливались, но проникать дальше в низовья реки боялись. Гао Цзо ненавидел Дыгена. Сам Гао стал торговать на Амуре позже Дыгена. Маньчжур всячески теснил его и жаловался на Гао чиновникам в Маньчжурии.
Гао приходилось все терпеть и всем давать взятки, потому что он был китаец, а в Китае власть принадлежала маньчжурам.[19] Они завоевали Китай двести лет тому назад. Сам богдыхан был маньчжур. И хотя маньчжуры почти все окитаились, но они презирали китайцев и зверски терзали простой китайский народ. Гао был ловкий купец. Он не унывал и выколачивал из гольдов и из своих китайцев-работников все, что уходило на взятки Дыгену и маньчжурским чиновникам, которым приходилось платить за то, чтобы ездить на Амур, так как в то время это строго запрещалось китайцам.
Во время родовой вражды Гао подговаривал гольдов требовать друг от друга выкуп — халаты и другие дорогие вещи, которые сам привозил и продавал в этих случаях втридорога. Он ссорил гольдов между собою, заставляя их входить в неоплатные долги, и в то же время притворялся их благодетелем.
…Лодки с женщинами быстро приближались. Первой подогнала легкую угду дочь Локке, красавица Дюбака. Она вела на причале ветку[20] старосты.
— Ракушки есть? — спросила она, когда отец перелезал через борт.
— Не-ету! — пьяно протянул Локке, мягко сваливаясь с маймы в угду. Он стал укладываться между мохнатыми собаками, поджимавшими зады и недоверчиво обнюхивавшими хозяина.
Лодка за лодкой приставали к майме. Гао Цзо ежился у борта, наблюдая, как его сыновья и работники спускают пьяных гольдов в пляшущие на волнах лодки.
— Это твоя дочка? — крикнул он Локке, заметив Дюбаку. — Твоя дочка?
Торговцы засмеялись. Гольдка стыдливо опустила голову, налегая изо всей силы на весла.
Сверху видны были лишь ее непокрытые русые волосы, расчесанные на пробор. Торговцы говорили про нее что-то нехорошее. Девушка чувствовала это, но не обижалась. В ее жизни встреча с чужеземцами была редкостью. Чаще всего эти люди ездили мимо летом. Сейчас, после долгой скучной весны, так хотелось увидеть новые лица. Она не могла оставаться безразличной под любопытными взорами. Сила, казалось, прибыла в ее руках, в движениях появилась легкость, ловкость. Она ожила.
Плотно сложив красивые ноги и вытянув их в лодке, она сильно и быстро работала веслами и улыбалась счастливо и смущенно, так что румяное лицо ее казалось еще круглей и туже.
— Красивая… — оживился Гао Цзо. — Я ее что-то не видел раньше. Смотри, не показывай Дыгену, поскорей выдавай замуж…
— Моя дочь! — заорал Локке, кидая на торговца злой, ревнивый взор. До моей дочери никому дела нет! — И, схватив весло, он со зла, что она своей пригожестью привлекает слишком много взоров, шлепнул Дюбаку по спине…
На майме захохотали.
Торговцы вывалили в оморочку чуть живого Денгуру. Тот пришел в себя, отыскал под берестой в закрытом носу лодки шляпу, надел ее и, вооружившись веслом, уверенно направил оморочку вверх по течению.
Лодки отстали от судна, как выводок цыплят от бегущей клушки. Китайцы-рабочие подняли паруса, и майма, грузно покачиваясь, стала быстро удаляться. Сквозь плеск волн ветер доносил тонкие голоса торговцев.
Волны теснились, взбрызгивались, ударяясь друг о друга…
Холодный ветер раскачивал огромную мутно-глинистую воду…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ РУБАШКА
Тайга в весеннем цвету. Сквозь густую листву, как сквозь крышу, с силой пробиваются яркие лучи солнца и стоят косыми столбами между тучных стволов. Земля еще мокрая, хотя вода с нее схлынула. Вчера прошла буря с ливнем.
Ничтожными кажутся бредущие по лесу три человека. Над папоротниками видны лишь их головы в белых берестяных шляпах с наклеенными на них красными узорами.
Впереди идет Пыжу. За ним Ла вместе с Удогой несут на шесте убитого теленка сохатого.
Вдруг Пыжу приостановился, испуганно вскрикнул. Видно, как он побежал обратно, то исчезая в траве, то появляясь.
Жесткие, смуглые руки Ла приподнимают шест, Удога повторяет его движения, зверя кладут на землю.
— Отец! Отец! — подбегает Пыжу. Он со страхом озирается и показывает рукой вперед. Пыжу в коротеньком халате из синей дабы с узорами по расхлесту.
— Что там? — выкатывая глаза, тихо и яростно спрашивает старик Ла. Он хочет спросить: «Тигр? Медведь? Какое-то чудовище?»
— Убитый! Давно-давно убитый! Балана-балана…
— А-на-на! — успокаивающе восклицает отец.
— А-на-на! — как эхо повторяет Удога. Его высокий нос загорел. Желтый коротенький халат, расшитый красными и зелеными узорами, подвязан кожаным поясом.
Оставив тушу, все трое гуськом пошли по траве. На ногах у всех, в эту жаркую пору, коротенькие желтые улы из рыбьей кожи.
Среди поваленной, размытой травы виден затонувший в почве скелет человека. Он в ржавой кольчуге, как в дырявом железном мешке. Череп уткнулся в ил.
Старик Ла присаживается на корточки, поворачивает череп глазницами вверх.
— АмбА-лочА![21] — испуганно восклицают сыновья. Они смотрят со страхом.
Старик протягивает руку и рвет кольчугу из проросшей сквозь кольца травы. Она вся в глинистых листьях и мокрых корнях. Старик сразу бросает ее. Вытаскивает из ила шлем.
— Железная рубашка… Железная рубашка… — бормочет он. — Был бы похоронен, лежал бы на спине. Давно-давно его убили. Душу его никто не отвел в мир мертвых. Может быть, душа его ходит где-нибудь здесь, таинственно добавляет Ла.
Он оглядывает лес.
— Его душу давно поймали лесные черти и разорвали на клочья, если о ней никто не позаботился! — со знанием дела говорит младший сын.
— Может быть… — соглашается старик. — Пойдемте. Тут везде кости лоча разбросаны. Это такое место.
Старик поднимает тревожный взор к небу. Его глаза чисты и ясны.
— Боги неба и лесов! Дайте нам хорошую дорогу…
Охотники возвращаются к лосю, подымают шест на плечи, идут дальше в том же порядке.
На берегу реки около шалаша горит костер. Старик Ла вылил из котла кипяток, вывернул куски мяса на широкий пласт бересты. Его сыновья выбирают вареные куски получше, захватывают зубами, проводя острыми ножами у самых губ, быстро отрезают ломти и жуют.
— Отец, расскажи, как раньше люди жили? — спрашивает Пыжу.
— Говорят, раньше люди были сильнее, жили лучше. А в тайге было больше зверей, — говорит старший сын Удога.
Сейчас все трое без шляп, головы Удоги и Ла выбриты до половины. Пыжу без косы, у него лохматая голова. У старика маленькая седая косичка.
— Да, зверей было больше. Но люди никогда не жили хорошо, — задумчиво отвечает Ла. — Людям всегда было мало…
— А старики говорят, что раньше лучше было, — твердит Удога.
— Зачем слушать стариков? Они говорят, что дождь был не такой, рыба была вкуснее, зверь людей не боялся. Зима была не такая! Нет, дети, люда всегда недружно жили. Сильный всегда бил слабого, бил и еще учил, как хорошо быть честным и слушаться. Слабых заставляли грести на лодках, а сильные на них кричали, сидя за рулем.
— А-на-на! — удивляется Пыжу.
— Сильные ленились нарубить дров, посылали слабых…
— А-на-на! — восклицает Пыжу.
— Замолчи, пожалуйста, — сердится на брата Удога.
— Кто глупей, тот хуже охотится. Глупых заставляли варить обед на охоте, чинить одежду, лыжи, снасти.
Пыжу хотел что-то возразить, но тут же получил от брата подзатыльник.
— Но сильные и храбрые тоже не были счастливы, — продолжает Ла.
Старик вываливает из котла новую порцию мяса, и все снова едят. Он берет, сосет кость, выбивает из нее мозг и быстро проглатывает. Потом разбивает кость топориком. Запивает варевом. Достает трубку из расхлеста халата, а из-за пояса замшевый мешочек с табаком. На пальце делает завертку из табачных листьев, вставляет и вдавливает в трубку. Высекает огонь и закуривает.
— Отец, расскажи, как тут убивали лоча? — просит Удога.
— Эта речка такая! Тут есть много ям от старых жилищ, — говорит Ла.
— Кто жил в этих ямах?
— Раньше жил народ Ха.
— А еще раньше?
— Никто не жил.
— А позже?
— А потом амба-лоча.
— Кто такие амба-лоча?
— Страшные люди. Но их истребляли, и они убивали. Тогда было такое время, когда все друг друга убивали. Целые народы истребляли друг друга.
— Амба-лоча это лоча? — спрашивает Пыжу.
Ла и сам не мог бы толком на это ответить. Нет, это совсем другие существа.
— Вот у Локке в Мылках предки были амба-лоча. Я русского купца в тайге встретил. Он меня обманул. Я ударил его по роже и сказал: «У-у, амба-лоча!» — и он сразу испугался. Есть много сказок про амба-лоча.
Ла, посасывая трубку, откидывается.
— Лоча живут за горами. У многих из них светлые волосы, как высохшая осенняя трава. Говорят, что они все больше нас ростом, с высокими вздернутыми носами. Но ведь мы видали лоча зимой… Да, раньше здесь жили амба-лоча.
— А-на-на! — удивляется Удога.
Теперь Пыжу обернулся, насмешливо посмотрел на брата.
— У лоча звери живут при домах, как у нас собаки. Есть такой зверь, называется — корова. Лоча даже пьют ее молоко.
— А мясо едят? — спрашивает Удога.
— Да.
— Пьют молоко! — восклицает Пыжу. — А как они его получают?
— Они давят коровьи титьки.
— И не стыдно им? — изумляется Удога.
— Нет, не стыдно. Этим занимаются женщины.
— Я хотел бы посмотреть на корову, — серьезно говорит Удога.
— Хотел бы коровью титьку потрогать? — спрашивает брат.
Удога замахнулся на него, но тут же сам получил от Пыжу по затылку.
— У них, как и у маньчжур, есть лошади. Это звери с волосами для собольих ловушек. На лошадей залезают верхом и ездят, как на оленях.
— А почему и кто перебил тут так много лоча? И какая разница лоча или амба-лоча? Чем отличаются друг от друга?
— Лоча, как все люди, а амба-лоча — черти, страшные. Их нельзя было поймать. Я говорил тебе — они воевали и нападали. Шаман вызвал тучу со снегом, чтобы видны были следы… Упал снег, и тогда их догнали…
В мертвой тишине ночной тайги слышится какой-то крик. Все притихли. Только хотел Пыжу что-то сказать, как крик повторился.
— Это Ва-вух! — с суеверным ужасом говорит Ла. — Пыжу! Скорей вылей воду на костер. Когда летит черт Ва-вух, надо выплеснуть все, что варится. Огонь залить.
— Хорошо, что поели, — суетится Пыжу.
Парни бегут к реке, черпают воду берестяными ведрами, заливают костер и опять бегут за водой.
— Хватит, — шепчет старик, — Ва-вух похож на собачью голову. Дайте бубен.
Раздается тихий звон. Тишина. Новый удар бубна.
Вдруг шаманский пояс, который Ла надел в темноте, начинает светиться. Видно, как Ла, стоя на месте, пританцовывает, качая бедрами.
Всходит луна, торжественно засеребрился лес. Сыновья закрыли лица руками.
А утром, при ярком солнце лодка Ла мчалась вниз по течению горной реки. Река вздулась от прошедших горах ливней. В корме, закрытая шкурой и зелеными ветвями, лежала освежеванная туша молодого лося. Охотники в желтых рыбокожих рубашках и в коротких штанах. На носу лодки — Удога с шестом в руках. У него смуглые ноги, голые до колен, в кровавых расчесах. Пыжу на веслах. Отец с кормовым веслом. В лодке берестяные ведра, черпаки, острога, убитые утки, кожаные мешки.
Ла дремлет.
— Как ловко вчера отец вызвал луну. Как ты думаешь, почему отец не хочет стать большим шаманом?
— Поживей, поживей! — просыпаясь, бормочет отец, он отводит лодку от быстро надвигающегося на нее дерева. Кажется, он снова дремлет.
— Спит, а все видит, — говорит Пыжу.
— Эй, дураки, — в сердцах кричит Ла, — вы утопить все хотите? Хотите лодку разбить? Дураки, не мои дети, от проезжего торговца родились! — Он с силой налегает на весло.
Удога упирается шестом в скалу. Пыжу берет второй шест.
Лодка мчится быстрей, входит в узкое горло между скал. Вода грохочет. Лодку подкидывает на перекате и с силой бьет плоским дном об воду. Проносятся скалы, завалы деревьев. Течение становится тише. Река расступается.
— Вот как хорошо проехали! — говорит отец. — Оба молодцы. — Он достает трубку. — Сразу видно, что мои дети!
— Эй, вон чьи-то следы! — испуганно замечает Пыжу, показывая на берег. Он всматривается.
— Где? — спрашивает Удога.
— Кто? — тревожится Ла.
— Вон, вон следы человека, — говорит Пыжу тише и таинственней.
Песчаный берег с кручей быстро проносится. Лодка огибает лысые обрывы лесистого мыса. Охотники хватаются за оружие. Это люди, привыкшие к вечным опасностям.
— Уй, какие страшные чужие следы! Узкие, длинные, — переводя дух, говорит Пыжу.
Лодка быстро пристает к обрыву. Ла и его сыновья прикрыты вместе с лодкой большой подмытой лесиной. Они выглядывают, стоя в лодке.
Потом Удога выскакивает и с луком в руке бежит по песчаной крутизне. Он пригибается.
И вдруг раздается зловещий свист стрелы. Страшный предвестник смерти пронесся над ухом охотника.
Слышится крик, отчаянный, истошный крик на вершине холма, где-то там, откуда вылетела стрела, в зарослях кедра и елки, в молодом подлеске. Вот над кустами сверкнуло копье. Со страшной силой, прыжками, Удога кидается вверх.
А брат уже успел обежать холм и чуть не зацепил стрелка своим копьем, когда тот целился в Удогу.
— Писотька! Лови его! — кричит Пыжу и вдается в чащу, туда, где трещат ветви и треск их удаляется под обрыв к речке.
Братья кидаются грудью на ветви, закрывая лицо согнутой рукой, а в другой — поднятой вверх каждый держит свое оружие.
Хлещут ветви грабов, листья ильмов, ломаются слабые ветви ольхи и не гнется усохшая пихта.
Враг бежит.
— Эй-эй! — ревет Пыжу. Какой страшный его рев. Это от злости.
Братья выбегают на берег реки, тут ее изгиб, а по завалу удирает Писотька. Он поворачивает какую-то лесину, раздается рокот, и лесной завал начинает разваливаться, грохотать. Писотька стреляет, но опять мимо.
— Теперь всех вас убьем! Не жди пощады! — кричит Пыжу.
Стреляет Удога, и Писотька исчезает в завале. А бревна раскатываются, вода зелеными водопадами прорывается среди мертвых белых деревьев, поворачивает и крутит их корневища, как белые колеса. Писотька, кажется, погиб… Но нет, из-за реки опять летит с воем и свистом стрела и втыкается в пень.
Писотька цел, жив и стреляет.
— Тебя убьем! — кричат братья.
— Мы перебьем всех Самаров! — кричит спрятавшийся на другом берегу враг.
Удога выдернул его стрелу. Хороший наконечник, из железа.
Ла подъехал.
— Надо его лодку искать и забрать! — кричит он. — Пойдемте…
— Эй, мы твою лодку забираем! — кричит Пыжу.
По следам недолго искали. Нашлась маленькая оморочка из старых почерневших полотнищ бересты. Спрятана в кустах. Писотька отходил от нее по воде, потом вышел на песок. В оморочке нашлась хорошая острога.
— Это пригодится! — сказал Удога. — Забираем по закону, за то, что он в нас стрелял.
Самары осторожно побрели с оружием в руках. Пыжу вернулся, распорол старую оморочку ножом и толкнул ее в воду. Бросил в нее большой камень. Пусть тонет. И догнал своих.
— Самары самый крепкий, самый умный и смелый род, — учил отец сыновей, когда лодка пошла вниз, — все меняется и забывается. Своих детей учите, чему я вас учу. А то найдутся дураки, которые когда-нибудь скажут, что Самары были покорные, никогда не дрались и себя не защищали. Нет, если мы покорялись, то только для того, чтобы обмануть врагов.
— Так все люди, отец? Правда? — спрашивал Удога. — Ведь никто и никогда не хочет быть побежденным.
— Это правда. Все хотят быть победителями. Но особенно Самары. Это нам привычно. Ваш прадедушка… — Ла начал один из длинных рассказов.
— А вот я слышал, — перебил Пыжу, — что лучшая победа бывает тогда, когда нет побежденных!
— Дурак! Ты слушай, что отец говорит. Будь вежлив со старшими!
А Удога думал, что стрела пролетела около самого его уха. Он мог бы погибнуть. Да, конечно, Самары самые храбрые. Отец прав!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ДЫГЕН
…В тот год католической духовной миссией в Пекине, с ведома двора богдыхана, был послан на Амур французский миссионер Пьер Ренье.[22] Для китайского двора он должен был составить географическое описание берегов великой реки; миссия поручала ему ознакомиться с местными племенами, обитающими в ее низовьях, с их обычаями, верованиями, общественным устройством, стараться обратить хотя бы некоторых из них в христианство.
Пьер Ренье молодой энергичный иезуит, полный сил и здоровья, года три тому назад приехавший в Китай из Европы. Он владел китайским и маньчжурским языками, был честолюбив и ехал на Амур с уверенностью, что откроет этот край и положит начало его захвату.
Перед отъездом из Пекина миссионер подробно расспрашивал маньчжурских мандаринов о низовьях Амура, но узнал мало нового. Те сами ничего не знали про Амур. Это была далекая, чужая им страна, холодная, расположенная где-то на севере. Закон запрещал путешествия частных лиц в те неведомые громадные земли, лежащие между страной маньчжуров и страной русских.
Зимой по прибытии каравана в Гирин Ренье кинулся на поиски католического проповедника де Брельи. Оказалось, что он, как сказал его слуга, год тому назад отправился в путешествие на какую-то легендарную реку — приток Амура. Из Гирина по весеннему пути Ренье проследовал в Сан-Син, откуда должно было начаться его плавание по рекам. Там он встретился с викарием Маньчжурии, прибывшим из глубины провинции повидать Ренье и помочь ему снарядиться.
Викарий радушно отнесся к молодому иезуиту. Он дал Ренье много полезных наставлений и сообщил все, что сам слышал об Амуре. Он советовал достигнуть морского побережья и воочию убедиться в истинном положении вещей.
Ренье запасся в дорогу китайской бязью, дабой и безделушками, ибо, как утверждал викарий, в отдаленных областях, граничащих с Маньчжурией, не знают цены деньгам, торговля там происходит на обмен.
— Вряд ли удастся вам купить лодку или нанять проводников за деньги, говорил ему старик, — но за конец простой дабы туземцы способны исполнить самые опасные предприятия…
Между сборами миссионеры посещали ямынь[23] сан-синского губернатора. Маньчжур с почетом принимал их. При первой встрече Ренье передал губернатору письменные поручения императорского двора, и маньчжур пообещал отправить его в низовья. Он сказал, что весной туда поедет Дыген, один из маньчжурских дворян.
В глинобитном ямыне губернатора Ренье познакомился с Дыгеном. Это был весьма невзрачный, рябоватый, кривой маньчжур с редкими рыжими усами и с темной косой. Глаза его, кажется, были светлы или, может быть, бельмо на одном придавало голубизну обоим. Но Ренье и прежде часто видел маньчжур с белокурыми усами, со светло-русой головой. Они держались с важностью, всегда подчеркивая перед китайцами свое положение и превосходство. Считалось, что это народ умный и образованный. Нередко попадались маньчжуры очень высокого роста. Трудно было определить возраст Дыгена, но, по-видимому, ему было лет за тридцать.
Ренье, презиравший самого губернатора и всю его свиту, считал Дыгена совершенным ничтожеством, но обходился с ним любезно, помня о совместном путешествии. Он был уверен, что маньчжур, зная о поручении двора, будет покорно исполнять в дороге все его требования.
Когда на Сунгари прошел лед, Дыген начал снаряжать свою сампунку. Более двух недель заняла оснастка и загрузка судна. На прощание викарий советовал Ренье не доверять маньчжурам; он сказал, что путешествие Дыгена может быть нечистым делом, набег на независимые области. Он еще раз посоветовал миссионеру побольше общаться с простым народом и собирать необходимые сведения через местное население, путешествуя в низовьях на рыбацкой лодке, независимо от маньчжур.
— Христианин Талынь будет вам незаменимым помощником, — благословил викарий маленького маньчжура, сопровождавшего Пьера.
Пасмурным майским утром Ренье распростился с гостеприимным амбанем и со стариком викарием, и неуклюжее судно при попутном ветре, подняв соломенный парус и выпустив из бортов ряды весел, отвалило от базарной пристани. Маньчжуры и католический миссионер пустились в далекий путь.
Город с гнутыми крышами богатых домов и с грязным берегом, застроенным лачугами, быстро поплыл назад. Сампунка оказалась весьма ходким судном; под парусами и по течению она мчалась со скоростью современного парового корабля. Вскоре Сан-Син скрылся за мысом.
Пейзаж становился суровее. Небо хмурилось, и река темнела все более и более…
Теплый южный ветер раскачивал тальники на берегах.
Ренье долго еще смотрел туда, где в туманной мути дождя исчезли последние строения.
«Да, теперь я один, один надолго. О! Я узнаю, как грандиозна эта таинственная река северной Азии!»
Но, глядя на мутные, пенистые волны, теснившиеся вокруг судна, Пьер вдруг подумал, что обратный путь против течения будет труден… Каких усилий будет стоить каждый его фут! Ренье готов был к любым испытаниям. Проникнуть в низовья, описать неведомый Амур, на котором, кроме казаков и маньчжуров, давно уже не был никто, открыть путь в новый край иезуитам и соотечественникам — это стоило лишений.
Ветер крепчал. Под дальним берегом пошли барашки. По темным волнам лениво проползали тенета желтовато-белой пены…
На севере, куда лежал путь Пьера, над плоскими хребтами высоко в небе синели бородатые от ливней тучи…
Ренье, держась за борта цепкими руками, с удовольствием ощущал движение корабля в страну, открытие которой принесет ему славу.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ СТОЙБИЩЕ БУРИЭ
Близ устья Уссури судно пристало к небольшому гольдскому селению.
Ренье поднялся на высокие прибрежные холмы, желая осмотреть огромную площадь вод.
Над вершинами цветущих лип и дубов, росших по склону, виднелась огромная, как море, излучина, в которой сливались обе реки. Вдали зеленели острова, а еще дальше тянулся голубой, словно прозрачный, хребет.
Внизу, на этой огромной водяной площади, одиноко стояла сампунка с голой мачтой, на которой, как гусеница, улегся свернутый соломенный парус.
От сампунки отошли две лодки. Ренье посмотрел в трубу. Дыген куда-то поехал.
Когда миссионер спустился вниз, толстый маленький Сибун — помощник Дыгена, оставшийся на сампунке, — объяснил, что его хозяин должен прогнать хунхузов, появившихся поблизости.
Пользуясь случаем, Ренье познакомился с гольдами из селения и проводил время в их юртах. Между прочим, они рассказали ему, что в соседнюю деревушку приехал человек с седой косой и острым носом. Вместе с ним ездят двое работников, один из них болен цингой. Старик уговаривает народ молиться железному божку, у которого руки прибиты к кресту.
Нетрудно было догадаться, что это не кто иной, как де Брельи, спустившийся по Уссури до устья. Ренье весьма обрадовался этим известиям и послал гольдов за длинноносым человеком.
Под вечер они вернулись в сопровождении де Брельи. Миссионеры бросились в объятия друг другу…
Де Брельи был высокий худой старик с узким землистым лицом, полуседой косой и с карими глазами навыкате.
Расположившись в гольдском доме, европейцы беседовали далеко за полночь. Де Брельи согласился сопровождать Ренье в низовья. Лучшего Пьер не мог и желать.
Дни проходили, а Дыген не возвращался.
Миссионеры проводили время в беседах с гольдами. Однажды те пожаловались, что, в Фурмэ — ближайшей деревне — Дыген безобразничает, хватает женщин и девушек. Одному старику маньчжуры отрубили голову.
Де Брельи, услыхав, что совершена казнь, весьма обрадовался.
— Удобный повод для проповеди! — воскликнул он торжественно. Миссионеры отправились в деревню Фурмэ.
— Однажды за казненного китайца-христианина, — рассказывал де Брельи, я заставил казнить четырех китайцев-язычников.
Старый миссионер с горбатым носом, как большая птица, насупившись, сидел на корме и со злорадством говорил об этом.
— Только так и научишь их уважать христиан! — бормотал старик.
На берегу протоки, у подножия крутого, высокого хребта, покрытого роскошным лиственным лесом, стояли две жалкие хибарки. Это и была деревня Фурмэ.
Первое, что увидели миссионеры, выйдя из лодки, был полузакрытый соломенной циновкой безголовый труп гольда, валявшийся на прибрежном песке. Его голова была подвешена в клетке за косу к окровавленной талине.
Как только из жилищ вышли гольды, де Брельи сразу же зарыдал над трупом. Вдруг, выпрямившись, как палка, он крупными шагами двинулся на своих длинных ногах в зимник.
Дыген с оравой подвыпивших маньчжуров расположился на канах.
Появление огромного тощего старика произвело на маньчжуров сильнейшее впечатление. Дыген смутился, его плоская голова задрожала, и он в недоумении заморгал своим единственным глазом.
Де Брельи держался властно, но, разговаривая с Дыгеном, был вежлив. Обеспокоенный Дыген уехал в тот же день из деревни.
После его отъезда гольды со слезами на глазах рассказывали миссионерам, что еще в прошлом году близ их деревни какой-то человек с Уссури стрелял в маньчжурских грабителей. И вот Дыген, явившись в деревню, объявил, что он и его спутники будут жить в домах до тех пор, пока не будет найден тот, кто стрелял. Гольды были удручены. Они добывали для маньчжуров рыбу и мясо, но виноватого не нашли. Тогда Дыген придрался к одному из стариков.
— Убили вашего за непокорство, — объяснил он. — Смотрите, чтобы около вашей деревни больше никого не грабили и не убивали.
Де Брельи плакал так, что все гольды видели, как льются слезы. Он истово молился над трупом казненного, объяснив гольдам, что просит у всевышнего счастливой жизни его душе. Старик тянул к небу костлявые белые руки. Тут же он стал рассказывать гольдам о боге и о христианской религии. Те были растроганы и плакали, а некоторые из них сразу согласились креститься.
— Вы, верно, лоча? — говорили они.
Де Брельи гневно оглядел гольдов.
— Нет, мы не лоча, мы посланцы истинного бога. Слушайтесь нас во всем — и будете счастливы!
Миссионеры провели в беседах с гольдами весь день. Де Брельи научил их креститься и преподал основы поведения христианина.
Старик подарил новообращенным по медному крестику с надписью: «Подарок миссии».
— Когда русские шаманы крестят, — говорили между собой гольды, которые слыхали это от людей, побывавших за горами у русских, — то дают крест и новую рубаху. А эти почему-то рубахи не дают. Только крестик!
— А товары у них хорошие, — рассказывали гребцы, которые привезли миссионеров из Буриэ.
— Почему нам не дали? — удивлялись гольды.
Возвратившись на сампунку, Ренье объявил Дыгену, что берет с собой в путешествие к устью реки высокого старика. Де Брельи с подобающей такому случаю церемонией был представлен маньчжуру, и тот на все любезно согласился. Дыген стал пространно объяснять миссионерам, что здешние жители поголовно разбойники и что их приходится держать в строгости.
— Они всегда говорят неправду. Опасно ездить сюда — могут убить. Они напрасно жалуются, что мы их обижаем. Этому не следует верить. Мы только защищаем их от опасностей. Ездим сюда, чтобы защищать их! Здесь бывают китайские хунхузы.
— Да, да, я вижу, что они разбойники! — воскликнул де Брельи как бы с неподдельным гневом.
На другой день к деревне пристали две небольшие лодки. Хозяева их торгаши — тоже отправлялись в Мылки, куда держал путь Дыген.
Путешествие в неразграниченные земли было делом незаконным, поэтому купцы могли проникать в низовья реки, лишь давая взятки тем, кто охранял границы. Купцы жаловались миссионерам, что чиновники не имеют совести и обдирают их.
Вечером сампунка тронулась дальше. Плыли всю ночь. Маньчжуры держали наготове оружие. Работники усиленно гребли.
На рассвете путешественники увидели — Амур разбился на протоки. Одной из них прошли сампунка и лодки торгашей. Видно было, как за островами, далеко-далеко, что-то курилось — не то утренний туман, не то дымки.
— У-у! Там русских много-много! — грозя пальцем по направлению дымков, говорил толстый Сибун, — наверно, пять или шесть русских там живут. Убежали от своих и тут женились! Не хотят никому ничего платить! У них ружья бьют далеко!
— Как же вы терпите такие преступления? — спросил Ренье, слыхавший этот разговор. — Давно надо бы отрубить им головы.
Маньчжуры смутились и умолкли.
— Я слыхал, что на Амуре живут русские, — сказал он Дыгену за обедом. — Надо потребовать, чтобы вмешались военные власти. Просить амбаня.
— Амбань уже посылал солдат, — ответил пьяный Дыген, — чтобы схватить этих дурных русских.
— Ну и что же?
— Они почему-то не послушались! — ответил Дыген уклончиво и вдруг с неприязнью, искоса и остро, глянул на Ренье. — У-у, ты не знаешь, что это за народ. Уй-уй-уй! — с обидой пожаловался он.
Весть о русских и об их влиянии на Амуре приводила миссионера в дурное настроение. Красоты девственной природы, чистейший воздух, яркие краски весенних лесов и собственное здоровье теперь уж не радовали его так, как в начале путешествия.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ МИССИОНЕРЫ
Черемуха цвела над кремнистыми обрывами правобережья, когда сампунка Дыгена подплывала к Мылкам.
Чуть светало. Китаец, стоявший на носу сампунки и меривший шестом в продолжение ночи глубину, пропел рулевому, что вдали чернеет мыс Вагрон, а под ним дома Экки — последнего стойбища…
На заре ветер ослаб, и квадратные паруса бессильно заполоскались. Китайцы-рабочие взялись за длинные весла.
На корме дымился очаг. Старик повар готовил завтрак своему господину.
Ренье и де Брельи сидели в это утро подле своего тростникового шалаша на возвышении, укрытом сохатиными шкурами, и беседовали, любуясь пейзажем.
Утро было прохладное. Судно плыло в тени прибрежных скал. Где-то за горами вставало солнце. За широкой излучиной реки, над дальним берегом, ярко розовели две округлые невысокие сопочки.
Вода, отражая зарю, принимала неповторимый нежно-голубой цвет.
— Я недоволен Дыгеном. Он не отвечает толком ни на один вопрос, когда речь заходит об этом крае, — с досадой говорил Пьер. — То он чинит тут расправу, то сам боится горсти бродяг и охотников. А рассказать толком ничего не хочет. Даже не отвечает на вопросы.
— Он боится, что, разведав все о жизни в этой стране, вы будете знать слишком много и о его проделках, а возвратись в Пекин, предадите все преступления огласке, — со старческим смешком молвил де Брельи. — Это может быть одинаково опасно и для него, и для сан-синских чиновников, которые смотрят сквозь пальцы на его проделки и получают в этих грабежах свою толику:
— За дорогу я немало помучился с этим дикарем. Стоило только нашей сампунке отвалить от сан-синского берега, как Дыген стал сам не свой, напустил на себя важность.
— Маньчжуры в душе должны быть очень недовольны вашим путешествием. Этот Дыген — продувная бестия; от него, мне кажется, всего можно ожидать. Он, верно, сам не знает, что следует говорить вам. Викарий не зря советовал вам избегать маньчжуров. Кстати, отчего заболел ваш обращенный спутник? И где вы оставили его?
— Талинь? Он чем-то отравился… Я оставил его в Лаха-Сусу, где у него живет дядя-торговец. Почему вы спрашиваете об этом? Неужели вы думаете…
— Все может быть, — кивнул старик головой и замолк.
На лесистом гребне горы вспыхнуло солнце. Лес побагровел от лучей, пробивавшихся сквозь листву. Вода на быстрине словно ожила, заиграла яркими красками. Лишь утесы мрачно громоздились над рекой, бросая тень на прибрежные водовороты. Зубчатые обломки каменных пластов, как дольмены,[24] торчали под прибрежным скатом, там, где обрыв его отступил от воды, образуя отмель.
— Какой суровый, дикий берег! Какая великая река! — вымолвил старик.
— Суровый, но богатый край, — воскликнул Ренье. — Да, да, какое богатство, какие возможности! В беседе со мной пекинские вельможи просили о географических исследованиях. Теперь я утверждаюсь в мнении, что богдыхан и мандарины сами ничего не знают толком о низовьях Амура. Чем ниже спускаемся, тем очевидней, что край не принадлежит Китаю. Маньчжуры приходят сюда как в чужую страну. Нет, нам надо скорей действовать. Опасность может прийти с севера.
Де Брельи, как птица клюв, быстро повернул свое узкое лицо и поглядел на север.
— Недалеко отсюда русская граница. Кроме того, — продолжал Пьер, — и англичане действуют все энергичней, тоже интересуются Амуром.
— То, что мы узнали с вами про русских, для меня не новость. Тунгусские племена всегда тяготели к русским, — сказал старик. — Нынче зимой в Гирин приводили пойманных русских.
— Наши проповеди могут отвратить туземцев от их влияния, — горячо заговорил Пьер. — Я уже все обдумал. Возвратясь в Пекин, я добьюсь посылки в эти края отряда. Если же пустить в ход остроумные выдумки, русское правительство сюда не сунется. В Петербурге всегда верят иностранным источникам. В Пекине говорят, будто бы на устье Амура есть китайские крепости. Отцы миссионеры очень удачно подхватили и распространили этот слух! Он дошел в Европу. Нам следует подтвердить такие слухи. Европе надо доказать, что край принадлежит Китаю, в Китае действовать наоборот.
— Смотрите, мой друг, — показал рукой де Брельи, — мы уже подплываем…
Слева за островами курились дымки. Судно, огибая скалистый мыс, направлялось к бухте, в глубине которой из-за деревьев появилась рогатая крыша.
Вдали, на огромной поверхности реки, виднелось множество рыбацких лодок — они плыли изогнутыми рядами в разных направлениях. По временам до слуха плывущих на сампунке явственно доносились сильные и частые всплески. Тогда гольды начинали стучать о борта лодок большими деревянными молотками.
Ренье разглядел в подзорную трубу, что гольды ловят каких-то громадных рыб. Однако подробностей лова ему не удалось рассмотреть. При виде сампунки гольды выбрали сетки, и вся огромная флотилия их лодок стала уходить.
Из-под навеса, устроенного посреди судна, вылез рыжеусый, рябой Дыген. С ним были толстяк Сибун и другой, главный его помощник — высокий, остроглазый старик Тырс, отличавшийся крайней свирепостью. Дыген был в шелковой юбке, в куртке, застегнутой на медные пуговицы, и в широкополой конической шляпе.
— Наш хозяин большой модник, — с едкой насмешкой сказал де Брельи и пожевал морщинистыми губами. — Впрочем, уроды всегда рядятся…
Де Брельи много лет жил среди маньчжуров и китайцев и ненавидел их, втайне завидуя им. Он представлял, какую деятельность может развить тут церковь и как можно разбогатеть, если в Манчжурии будет колония католической державы.
Пьер заметил, что когда дело касается маньчжуров, его спутник злословит.
«Де Брельи сам тут оманьчжурился», — думал он.
Пьер чувствовал, что у этого известного в Европе миссионера есть и другая сторона жизни, быть может, для него гораздо более значительная, чем деятельность проповедника, но совершенно неизвестная там… Маньчжуры это его сфера. Он сам — фракция маньчжурской жизни со всеми ее странностями.
Скалистый берег расступился, и в широких каменных воротах открылся вид на озеро, далеко ушедшее в глубь распадка между пологих гор, иссиня-зеленых от кедровых и еловых лесов.
Вход в озеро был прикрыт полузатопленным островом. Из-под спадавшей воды появились стволы ветел, покрытые слоем глины, и голые тальники.
Сампунка вошла в тихую протоку и поплыла ее изгибами вдоль красного глинистого бока горы, исполосованного следами наводнения. Поверх обрыва над протокой курчавилась буйная поросль дубняка, орешника, кленов. Повсюду белели душистые ветви черемухи. Некоторые деревья были подмыты наводнением и клонились к воде. Цветущие ветви их свисали к головам путешественников.
Протока, изгибаясь и расширяясь, образовывала бухточку. Берег понижался, и на опушке орешника стала видна черная городьба из заостренных лиственничных бревен. Дальше виднелось бедное стойбище гольдов — несколько жалких лачуг с крышами из травы.
— Мылки? — спросил Ренье коротконогого толстяка Сибуна, показывая на ограду.
— Нет, это гьяссу. Мылки вон там, — кивнул толстяк за реку, где на другой стороне из-за леса поднимались дымки.
Сибун хитро щурил глаза. Гольды в цветных шляпах с криками выбегали на берег. Худолицый Денгура подгонял их. Сампунку подтянули к берегу, и Дыген по доске сошел на берег. Он шел, с важностью выпятив живот, в сопровождении маньчжуров. Тырс разглаживал белокурые длинные усы.
Ренье и де Брельи спустились следом.
— И не подумаешь, что он дрожал от страха, проезжая мимо селения беглых русских, — ворчал де Брельи. — А тут, среди дикарей, сущий конкистадор![25] Сколько достоинства и отваги!
Солнце жарко палило. Влажная земля дышала душистым паром. Воздух был насыщен запахами свежей травы. Буйный луг раскинулся над чертой разлива. Травы достигали груди де Брельи, а низкорослого Дыгена укрывали с головой.
Тропинка в траве была протоптана недавно, и Ренье решил про себя, что, вероятно, всю весну гьяссу пустовала.
Внутренний вид становища произвел на миссионеров впечатление запущенности — действительно, никто не зимовал в гьяссу. Шалаши из корья были разрушены непогодой, а соломенная крыша на зимнике сгнила и провалилась.
«Итак, мы близки к цели», — с гордостью подумал Ренье, обводя взором лица гольдов, дымы костров, дикие хребты и широкое пустынное озеро.
* * *
За делами Дыген повеселел. Он стал разговорчивее, ежедневно приглашал Ренье и де Брельи обедать и каждый вечер уговаривал их спать у себя в берестяном летнике. Только взор его, настороженный и подозрительный, несколько беспокоил Пьера.
Ярмарка еще не началась, хотя торговля уже шла. Маньчжуры привезли с собой разные материи и безделушки в надежде выгодно сменять их на меха. В гьяссу процветали азартные игры.
К полудню, когда начиналась жара, мелкое озеро, окруженное лесами и сопками, прогревалось насквозь и парило. Речной сквозняк не достигал гьяссу, и там целыми днями стояла тишина и одуряющий влажный зной. Стал появляться гнус…
Однажды за обедом, заметивши, как Ренье раздраженно отгоняет от себя мошкару, Дыген приказал позвать Денгуру и тут же велел ему починить для гостей старую гольдскую зимнюю лачугу, оставшуюся в гьяссу от былых времен, приставить к ним в услужение кого-нибудь из гольдов и держать подле их жилья день и ночь дымокуры.
Ренье, за разговором, сидя на пеньке, открыл свой альбом и живо срисовал Денгуру. Гольд этому весьма удивился, тем более что на бумаге изображены были и носовые украшения, и трубка, и лубяная коробка с табаком, торчавшая из-за пазухи, из-за расшитого цветными лентами расхлеста халата, и корявые, грязные пальцы с серебряными и каменными кольцами. «Ты какой длинноносый, все подметил, ничего не упустил», — подумал Денгура и с тех пор стал относиться к Пьеру с особенным уважением.
Втайне гольд объяснил его умение рисовать сверхъестественной силой. Пьер, зная, что так думают дикари, пользовался этим по совету старших, опытных миссионеров.
— У тебя зоркий взгляд. Ты, наверно, ел когда-нибудь глаза ястреба? — однажды спросил его Денгура.
Гольды, жившие подле гьяссу в шалашах, каждое утро уплывали ловить калуг. Чтобы отгонять мошку, они на лодках разжигали в горшках дымокуры. Денгура тоже иногда отправлялся на лодке рыбачить и брал с собой на реку Ренье. Иезуит решил внушить гольдам суеверный страх и уважение к себе. Сидя в лодке, он набросал рисунок: плывут дымящиеся лодки, играет стая калуг… Рисунок был полон движения: некоторые рыбы нарисованы под лодками, река представлена как бы в разрезе. Денгура увидел рисунок и остолбенел.
— Больше рыбу ловить с тобой не поеду, — решительно отрубил он. — Ты видишь, что делается под водой. Му-Амбани[26] утащит нас с тобой на дно за такое дело…
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ НАСМЕШЛИВЫЙ СОСЕД НА БЕРЕСТЯНКЕ
День тихий, солнечный. Блестит и плещется встревоженная рыбаками вода. Мокрые гольды, стоя в реке по колено, тянут на отмель невод. На обоих берегах протоки белоснежные отмели, а за ними, на далеких белых обвалах песков, оплетенных корнями, полосками зеленеют заросли ветел и кустарников.
— Скорей, скорей! — сердится на сородичей Ла.
Как старику не волноваться: сазаны то и дело выскакивают из невода.
Всплеск… Сазан прыгнул, открыл рот, растопырил плавники, как птица крылья, и бултыхнулся в воду, но тут же снова стремительно взлетел, низкой длинной дугой перемахнул через поплавки, опять заплескался и пошел скакать дальше по протоке.
— Рад, что убежал, да боится, как бы опять не попасть! — кричит седой и краснолицый дед Падека. — Как напугался, теперь целый день, что ли, скакать будешь…
«Вот рыбу ловить приходится, — думает Удога, перебирая тугую веревку. — Все время надо отца слушаться. Сейчас бы не рыбу ловить хотелось, а ехать в гьяссу. Вот туда надо! Конечно! Там очень много людей съезжается. Я бы обязательно ее встретил! Наверно, девушки ходят. Все, наверно, разряженные, и, уж конечно, парней много. Как отец этого не понимает!» Удога сам бы поехал. Но ехать в гьяссу надо не с пустыми руками, а соболя у отца… Удогу зло разбирает… «Что он мне каких-то невест хочет искать! Зачем мне невесты? Мне с ними сказать слово не о чем, а с ней мы так хорошо поговорили, она сказала: «Помоги мне», — и потом смеялась, как будто знакома со мной…»
Удога замечтался, глядя вверх по реке, туда, где пятном среди воды виден остров с заветной мелью. Сердце трепещет, когда мимо этой мели едешь. Так ясно представляется, как ей лодку помог сдвинуть. Вообще эта мель около шаманского острова кажется Удоге с прошлой осени самым прекрасным местом на свете. С охоты вернувшись, сразу на эту мель съездил, посмотрел, не смыло ли ее… Или, может быть, песку нанесло и теперь там целый остров… Нет, все по-прежнему было, только ее лодки нет… Мель есть, а ее нет… Очень грустно от этого на душе у Удоги. «Как мне с ней встретиться, где ее найти?» — думает он.
— Проклятье! — воскликнул Ла и стал стучать ребром ладони по тяговой веревке, чтобы вся снасть сотрясалась и пугала рыбу. — Черт его знает, какой сазан стал смелый, ничего не боится, — удивлялся старик.
Рыбы, как встревоженные тетерева из травы, то и дело вылетали из-под тетивы невода и разбегались по воде во все стороны.
Ла озлился и, оросив веревку, стал хватать мелкую гальку и горстями швырять ее в невод.
— А ты, дурак, чего задумался?! — заорал Ла на Удогу и в сердцах хватил его кулаком по затылку. — Живей тяни веревку! Скорей, скорей! Это какая рыбалка! Все рыбы убегут… Эй, Пыжу, чего зеваешь? Вот подбегу ударю тебя по морде, — грозил он младшему сыну.
Удога спохватился, заработал быстрее. Рыбы заплескались и запрыгали еще чаще. Удога забежал в воду по пояс и стал закрывать их сверху сеткой. Гольды хватали рыб за хвосты. Мальчишки живо подвели две лодки, и жирные сазаны один за другим заплюхались об их дощатые днища.
— Это еще ничего, все же добыли рыбы, — рассуждал Ла после рыбалки.
Он сидел на корточках под песчаным обвалом в кругу отдыхающих сородичей и, привалясь к мягкому стволу ветлы, покуривал медную ганзу. Это был моложавый, горбоносый старик, крепыш, небольшого роста, с широким лбом и скулами, но с узким острым подбородком. У него широкая костлявая грудь и лицо темное и морщинистое, как дикий таежный плод, прихваченный морозом.
— А я сначала испугался, думал: не Мукка ли амбани забрался в невод и пугает нашу рыбу?
— У-у, я один раз видел, как черт был в неводе, ух как гонял рыбу! — сказал дед Падека, курносый старик с кривой шеей, изуродованной зверем.
— Разве сазан по этому времени добыча! Хорошей рыбы, что ли, нельзя поймать? — затараторил дед Падека. — Теперь бы калугу ловить… Люди-то плывут за калугой, а мы в деревне сидим… Что про нас скажут? Лучше сига да амура не поймали ничего. Во-он опять кто-то вверх поехал, — кивнул он на отдаленную лодку, ярко блестевшую на утреннем солнце мокрыми веслами. Люди-то не по-нашему живут.
…Недавно по стойбищам пронесся слух, что калуга ныне мечет икру под Мылками на широкой излучине и что ее там играет великое множество. Лов этой крупной и вкусной рыбы — любимое занятие амурских жителей. Вот уже несколько дней, как мимо Онда с утра до ночи плыли рыбаки с низовьев, держа путь на Мылки. Но ондинцы не решались туда поехать.
А вдали на реке нет-нет да и блеснет, отражая солнце, весло-другое… Так как белые огни вспыхивают, как будто кто-то играет двумя зеркалами, и саму лодку не видно — так ярко горит и слепит река, «Не может быть, чтобы нельзя было отца уговорить, — думает Удога. — А вот я нарочно буду все по-своему делать. Если не послушается, тогда как хочет, один убегу…»
— Да-а… Ну вот, слушайте, я рассказывать буду… — вдруг заговорил дед Падека. — Кизи-то мы осенью переплыли, лодки бросили, мыс перешли пешком…
Старик давно намеревался поведать сородичам, как зимой ходили они с гиляками на охоту на Сахалин. Когда бы он ни заводил об этом речь, непременно кто-нибудь его перебивал.
— Ну вот, теперь все до конца расскажу, — решил Падека. — Рыбы наловили, делать нечего. Сидим на острове, никуда не спешим, баб там нету мешать нам некому… На гиляцких лодках мы малое море переплыли, три дня шли тайгой, сопки перевалили, на другое море вышли…
— Там большое море — Нюньги-му, — вытаращил дед выцветшие глаза на чернолицых парнишек, облепивших его с обеих сторон.
— Дедка, ты нас не гоняй, — робко попросили ребята, — нам послушать охота.
— Ладно, ладно… Про охоту слушайте… Знать будете, что можно, что нельзя. Там речка, никто не знает, — нараспев продолжал старик. — Соболей, сказывали, там много. Каждый охотник на свою речку пошел. Гиляк ушел на свою… А ночью ветер начался. Ой-о-ой, какой был ветер! — покачал головой старик. — Страшно было. Снег упал, дороги не стало, все следы завалило. На другой день охотники домой вернулись, а гиляка нет… Живой был бы пришел. Брат его ездил, ту речку нам показывал… Стали мы искать его.
— Вот, не ночуй никогда в тайге, — учил дед ребятишек, — спи у речки, а то заблудишься. Проснешься и не будешь знать, куда идти.
Дед поморщил красный лоб, снял войлок и почесал плешину…
— Брат его нашел. Было дупло в елке. Тот гиляк развел костер, а сам залез в дупло. Он где-то убил выдру, связал с соболями на длинную палку и засунул свою добычу в дупло. Спал — тепло было, а ветер-то подул с моря, и ночью лесина упала — задавила его.
— Эй! На Мылке калугу ловят, а в Онда дед сказки рассказывает, — вдруг раздался из-под берега чей-то насмешливый голос, и тотчас же из-под густых ивняков, подмытых половодьем и склонившихся от этого к воде, вынырнула быстрая берестянка.
На ней, как на стреле, пронесся мимо бивака ондинцев знакомый парень. Это был молодой плешивый силач и озорник Касинга из соседней деревни Монголи.
— Бельды боитесь, — посмеялся он над Самарами. — Однако придется вам назад на Горюн кочевать, а на стрелке шесты стружить да на другую сторону их направлять, чтобы Бельды не догадались, где вы спрятались…
— Дурак, чего смеешься?! — заорал Падека. — Вот догоним тебя…
— Балбес!
— Побьем, тогда будешь знать, как подслушивать…
— А чего Касингу ругать? — вдруг вспылил Удога. — Конечно, отец, я тебе все время говорю — поедем воевать, — а ты что? Все отвечаешь: пусть, мол, они сами нападут. А мы что, будем все вот так сидеть и ждать?.. А люди будут смеяться над нами, что мы даже калугу ловить не едем… Там как раз калуга хорошо ловится, а мы на протоку за сазанами все ездим. Калуги не едим! А там как раз в гьяссу люди съехались…
Тут поднялся шум и крики. Ла подскочил к сыну. Он был трезвый и умный человек и хотел дать бой врагам под своей деревней, заманить их — это было бы выгодней… Но сейчас кровь бросилась ему в голову. Вмешались старики, и после долгих споров решено было ехать на лов калуги под Мылки, и если удастся, то попробовать помириться с Бельды. Но к войне быть готовыми.
Ла достал из-под крыши копье.
На траве подле жилищ Самары разложили сетки для лова калуги. Из тальниковых ветвей наломали палочки и накидали их на снасти.
— Сколько палок, столько пошли нам калуг, — просил Ла у Му-Андури.
Облачившись в цветное тряпье и надев пояс с погремушками, он прыгал, виляя крестцом, по кругу и бил в бубен, заколдовывая души калуг, чтобы они попались в сетку, подобно тому как попали туда тальниковые палочки.
Время от времени он садился отдыхать, и тогда кто-нибудь из стариков брал бубен и погремушки и начинал молиться, прохаживаясь по кругу и ударяя ладонью по тугой коже. Из-под крыш фанз и из свайных амбарчиков Самары повытаскивали луки со стрелами, копья и сирнапу — деревянные рогатины с железными клинками. Все оружие разложено было на лужайке, и Ла внушал духам луков и копий победу над родом Бельды.
— Сколько червей в земле, столько убьем мылкинских, — говорили Самары.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ОНДИНЦЫ В ПОХОДЕ
Утро…
Тик-ти-ка… Тик-ти-ка… Тик-ти-ка…
Фиюр-р-р…
О-до-до… О-до-до…
Кок-ку… Кок-ку… — на разные лады кричат птицы.
На острове весь лес в белых шляпках; в белом цвету кряжистые синествольные черемухи, яблони, рябина, краснотал…
Ветер шумит листвой великанов ильмов, ясеней, тополей и голубыми пятнами падает на воду.
Под красным глинистым боком острова, у белоснежных песков, ондинские гольды едут в лодках, толкаясь шестами о дно.
На пойме зеленеет высокий вейник. Шесты мягко уходят в илистое дно. В бурю волны, ударяясь об остров, обваливают здесь пласт за пластом. А сегодня тихо-тихо. Вода заманчиво серебрится на солнце, и запаленных парней от ее вида томит жажда.
— Я помню, раньше этот остров был большой, — кивает Ла на пойменный луг, — теперь его наполовину смыло…
— Тут раньше гнезда птичьи были, — пищит Уленда, — жили земляные ласточки, кулики яички клали. Я такую вкусную яичницу всегда тут ел!
— Ты, наверно, всех куликов на этом острове съел, — отвечал Ла. — Сам съел куликов и теперь горюешь!
— Я помню время, когда на большой горе пятьдесят соболей жило. Где у нас кладбище, там мой дед в пеньке двух соболей поймал. Вот как в старое время люди хорошо жили. У-ух! Холода и голода не боялись; пока терпели, то не жаловались, — тараторил дед Падека.
Ла отводит свою лодку от кручи. Полуголые, черные от загара парни, всем телом наваливаясь на шесты, с трудом преодолевают стремительное течение. Перекат грохочет. Слышно, как течение катит по дну камни.
Наконец песчаный мыс обойден. Тут небольшое расстояние, можно бы пройти бечевой на собаках.
Но навстречу из-за тальников плывет под парусом громоздкая лодка. Двое парней и две девки скрипят четырьмя лопатами-веслами. Худой чернобровый старик с подслеповатыми глазами и с ганзой во рту сидит у правила. Усы у него прокурены дожелта, щеки ввалились черными ямами, а скулы торчат острыми углами…
Глиняные кувшины с аракой, мешок проса и связка табаку, прикрытые камышовыми циновками, виднеются за гребцами, между мачтой и кормой.
— Батьго фу-у-у, — приветствует встречных Ла.
— Батьго, — кивает шляпой старик и подает гребцам знак поднять весла.
Парус спускают и сворачивают. Лодки сближаются и останавливаются под ивами, уткнувшись носами в глинистый берег.
Ла хватается руками за нависший над головой ствол и подводит свою корму поближе к лодке старика. Это Дохсо из рода Самаров, с верховьев реки Горюна.
Ла обнимает его за шею и целует в обе щеки. Удога и Пыжу лезут на корму, стоя на коленях, тянутся к старику и тоже целуют его. Дохсо достает табакерку, вертит табачные листья вокруг большого пальца, набивает трубку, раскуривает ее и передает Ла.
— Издалека ли? — заводит беседу Дохсо.
— В Мылки на лов калуги поехали. Маленькую калужку по дороге поймали. Сзади ее ведут… Ну, а что новенького в Кондоне?
В стойбище Кондон, где живет Дохсо, ондинцам все приходятся родственниками, поэтому Ла с большим вниманием слушает рассказы старика. Шаман Бедзе, по словам Дохсо, видел нынче летом в лесу рогатую лягушку и поэтому надеется разбогатеть. Бочка убил изюбря и взял панты. Он отвез их в гьяссу, но пока не продал: торговцы не дают за них хорошей цены…
— Ой, беда, беда! — вдруг оживился Дохсо. — Ты старуху Талаку помнишь? Чего с ней случилось… Беда, — покачал он головой. — Она в тайге утерялась. Черт ее утащил…
Покуривая табак, старики обменивались подобными новостями. Тем временем из-за мыса приплыли остальные ондинцы. Останавливая лодки, они выбирались на пески и рассаживались на корточках вдоль берега, напротив угды Дохсо. Пришлось ему прервать свой рассказ об украденной чертом старухе Талаке, вылезть на косу и целоваться со всеми Самарами. Они его сородичи, и старик должен быть обходителен с ними.
Ла принес калужий калтык и носовые хрящи.
— А почему, дядюшка Дохсо, рано идешь домой? — спрашивали ондинцы.
— Калуга мало играет, — с заметным неудовольствием ответил Дохсо.
— А в гьяссу был?
— Был, — обкусывая сырой калужий нос, пробормотал Дохсо.
Тут Дохсо хотел было рассердиться, но вдруг, словно что-то вспомнив, расплакался. Он с горечью признался сородичам, что приехал в гьяссу и хотел кое-что выменять. Маньчжуры вовлекли его в игру и выиграли у него чуть ли не всю зимнюю добычу. А старик Сичкен подговаривал его поставить на кон дочерей… Чтобы не остаться совсем голым, Дохсо купил у маньчжуров крупы и поспешил домой.
— Там без головы останешься, — смущенно проговорил старик.
— Ну, берегись, Дохсон: в Кондон вернешься — жена на тебя рассердится, не простит, что проиграл меха, — посмеивался Ла, — за косу тебя таскать станет.
Дохсо вынул из деревянных складных ножен тонкий, остро отточенный нож и, хватая калужатину зубами, ловко и быстро проводил им у самых губ.
— А как там кривой амба? Давно его не видели… Шкурки грызет? — захрипел дел Падека.
Все засмеялись.
Падека говорил про Дыгена. Это ондинский торгаш Гао Цзо прозвал ливанского маньчжура крысой, которая грызет шкурки.
— Кривой Дыген куда денется, — тяжело вздохнул Дохсо. — Видал его близко. Он все девок ищет. Много там красивых девок приехало. Я видел одну девку — волосы светлые, как у орочонки.
— Ты ее видел? — подскочил Удога. — Светлые волосы? Сама высокая?
— Глупости! Глупости! — перебил сына Ла. — Лучше ты новости расскажи, — обратился он к Дохсо. — А про глупости не будем поминать, покосился он на сына.
— Нет, это не глупости! Маньчжуры ту девушку взяли? — с отчаянием спросил Удога.
— Не-ет, — ответил дядя, — она с отцом. А ты что так вскочил, как ужаленный?
— Про Талаку, про Талаку расскажи! — тараторил отец.
— Слушай про Талаку! — строго сказал Дохсо, обращаясь к Удоге.
Все стихли. Один Удога не знал покоя. Ему захотелось отправиться прямо в гьяссу.
— Тетка Талака весной пошла домой на лыжах с озера в деревню Синды и пропала, — рассказывал Дохсо. — Мы ходили по ее следу. Шли-шли, и след пропал… Куда девалась? Кто-то поднял ее на воздух. Дальше дороги нет и следа нет, а по лыжне заметно, что она как будто прыгнула вверх… Кругом в тайге искали, искали — нет следа, утерялась старуха…
— Это летающий человек с хребта заходил к вам, — предположил Хогота.
— Нет, Ва-вух утащил, — утверждал Ла. — Амба Ва-вух как собака с крыльями, он ночью летит и кричит: «Ва-вух! Ва-вух!..» Когда услышишь, надо привязывать себя к дереву, концы веревки спрятать, огонь потушить, варево спрятать…
— Да, у нас еще одна беда была, — вдруг вспомнил дядюшка Дохсо. Дядьку Пыжу помнишь? Он вот уже теперь, летом, насторожил на козу самострел к сам же на него попал. Ему стрелой ногу перебило — через мякоть насквозь наконечник вышел… Стрела была толстая. Он ходил на охоту один, еле протолкал ее через икру, все же вытащил… Ладно, что насквозь прошла, а то бы еще хуже было… Теперь немножко охромел.
Ла насторожился. Его родного сына зовут тем же именем, что и человека, попавшего на самострел. «Как бы и мой Пыжу не угодил на стрелу. Ведь мы едем в Мылки не только рыбу ловить, предстоит война. Пока не поздно, надо будет найти ему другое имя. Придется вызывать духов и спрашивать у них совета. Пусть сами сыщут сыну счастливое имя…»
— А как там Бельды поживают? — спросил Падека. — Чего-то на реке не видно.
— Все в ограде. Эти мылкинские такие же обманщики, как маньчжуры. В карты играют, перекупают меха, крупой, водкой торгуют…
Дохсо знал о ссоре между Онда и Мылками и догадывался, почему Самары в этих краях рыбачат, но не появляются в гьяссу.
Весной Самары хотели пойти на примирение, но явился Гао Цзо и рассказал, что видел по дороге мылкинцев — они хотят вырезать все население Самаров и запрещают ему торговать в Онда.
— В гьяссу вместе с маньчжурскими разбойниками приплыли из Сан-Сина двое длинноносых чужеземцев, — рассказывал Дохсо. — Они ищут проводников, чтобы ехать к морю, обещают хорошо заплатить, но никто не соглашается брать их с собой. Все говорят, что это плохие люди, поддельные лоча, которых маньчжуры выпустили на нашу реку. Дыген за ними ухаживает, угощает, мясо им дает, калужатину.
— Оба длинноносые, обо всем, что увидят, расспрашивают… — со страхом рассказывал Алчика, старший, уже лысый сын Дохсо. — Молодой ездит с мылкинскими на рыбалку. Они молятся богу, прибитому за руки к кресту. Старший рассказывает разные сказки…
После закуски Дохсо угостил всех Самаров амбань-тамчи,[27] генеральским табаком, который купцы покупали у англичан в Шанхае и развозили по маньчжурским и сопредельным областям. Когда трубки были выкурены, выколочены и спрятаны за пазухи, снова начались объятия и поцелуи; старик стал собираться в путь.
Тем временем маленький черномазый Пыжу, о благополучии которого не переставало страдать отцовское сердце, забрался в ветви нависшей над водой талины и переглядывался с девушками, сидевшими в лодке. Спрятавшись в листву, он проделывал это незаметно для товарищей. Девушки сидели спиной к берегу, так что и их нельзя было ни в чем заподозрить.
Пыжу знал — они дочери Дохсо, из того же рода Самаров, что и он, они ему сестры, поэтому за ними не следует ухаживать. Но он не мог оставаться хладнокровным, когда румяная толстушка Одака так умильно на него поглядывала. Она ему очень нравилась. Мало ли что закон не позволяет любить девушку из своего рода, Пыжу до этого дела нет.
«Хороша ты, Одака, очень хороша. Вот мое сердце, как лягушка, прыгает туда-сюда». — Парень большими пальцами делает быстрые движения, положив правую ладонь на кисть левой руки и как бы изображая лягушку.
Одака понимает его. Она зарделась, как красная саранка.
«Я к тебе приеду оморочкой, и пойдем с тобой гулять…» — продолжает разговор знаками парень.
«Да ведь бывают же случаи, что парни крадут невест из своего рода, думает он. — Род проклинает за это и парня и девушку. Но не беда, можно уйти жить куда-нибудь подальше от деревень Самаров, на море, где живут гиляки. Там никто не попрекнет Пыжу и Одаку, что они из одного рода».
Дохсо уже залез в угду и кланяется своякам. Младший сын Дохсо, долговязый Игтонгка, — парень с длинной слабой шеей, — круто навалясь на шест, столкнул тяжелую угду с места…
Но едва девушки взялись за весла, как произошло неожиданное событие. Гниловая талина крякнула под Пыжу и с треском опустилась поперек лодки. Пыжу свалился на девушек, невольно обхватил Одаку за плечи. Девушки завизжали. Одака, желая показать свое возмущение, хватила Пыжу кулаком, а Дохсо, еще не разобравшись с перепугу, что случилось, принялся охаживать его веслом.
— Вот наваждение-то! — изумился Дохсо, разобрав наконец, кого он колотит.
Тут Дохсо сам перепугался. Его худые черные ноги задрожали так сильно, как будто он собирался пуститься в пляс. Избитый Пыжу при общем хохоте полез из лодки в воду…
— Э-э!.. Да это дело черта! — ужаснулся Ла.
Сомнений быть не могло: во всем виновато дурное имя сына…
— Давно пора этому дураку сменить имя, — решил отец.
* * *
В сумерках ондинцы приехали на Додьгу. Это было лесное озеро, выше озера Мылки, на том же берегу реки озеро Додьга соединялось протокой с рекой.
Здесь, на протоке, за лесом, на песчаной отмели, скрытой от глаз тех, кто едет по реке, Самары вытащили лодки, раскинули свои пологи и выставили на ночь караульных.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ ДЕРЕВЯННАЯ КОЛОТУШКА
Над желтой кручей цветет белая мохнатая бузина.
С криками пролетел караван гусей.
Чайка парит над рекой, перевертывается, скользит на крыло и стремительно припадает к воде.
Всплеск… На солнце блеснула широким хвостом калуга.
На подводной косе суетится мелкая рыбешка; запрыгали чебаки — их, наверное, перепугала щука. По реке побежали слабые круги.
Слева от стана солнце отражается в воде, и ее обширная поверхность пылает золотым пожаром. Вдали за черным обрывом река во мгле. Так как ворота в море — не видно берега. Даже когда нет мглы, не заметно ни поймы, ни сопок: вода и небо слились.
По гладкой поверхности реки разъезжают плоскодонные и берестяные лодки рыбаков.
Темные скалы дальнего берега возвысились. Из-под спавшей воды выступили подножия, и утесы стоят на них, как на подставках. Теперь грозный вид этих скал никого не пугает. Вода убыла. Под утесами появились косы, и даже берег можно найти, чтобы тянуть невода. Другое дело в прибыль. Тогда, того и гляди, лодку хватит об утесы так, что не соберешь костей.
Из некоторых плоскодонок клубится дым и синим туманом расползается над гладкой площадью воды — это рыбаки отгоняют от себя мошку и комарье.
Удога с жадностью всматривается.
Самары с веслами, сетями и с оружием собираются на рыбалку.
— Много лодок, где тут мылкинские, где кто — не разберешь, — оглядывая из-под седых бровей реку, бормочет дед Падека. — Наготове оружие держите, наставляет он своих сыновей — четырех голоногих здоровенных мужиков с косами и с усами, одетых в холщовые рубахи и в короткие штаны из рыбьей кожи.
— Под тем берегом ветер подул, — бормочет из тальников Ла; он вырубает колок для весла.
— А вон кто-то домой поехал, парус подняли, — подхватывает дед Падека. — За отмелью, около того места, где вода стоит и не течет… Да, тут на реке есть такие места, что вода не течет, а только крутится. Можно шляпу бросить и съездить на тот берег, обратно вернуться, а шляпа тут будет, если не утонет…
Все смеются потихоньку. Уж дед Падека всегда что-нибудь придумает!
— Наверно, поздно мы приехали. Может быть, уж и калуга не играет, ворчал старик, отталкивая лодку с сыновьями. — Старых людей надо бы раньше послушать.
Он забрел в воду и перевалился на брюхе через борт в тупую, скошенную корму.
Перед рыбалкой обычай не позволял шутить, смеяться, подзадоривать друг друга. Все плывущие помалкивали, но тем горячей играла сила в плечах и спинах гребцов.
Достигнув ближнего, левого, фарватера, лодки замедляли бег. Весла были подняты. Рыбаки сбрасывали в воду плавные глазастые сетки с петлями, но без грузил и без поплавков. Течение повлекло сетки между лодок, то собирая морщинами и нанося на них листья, водоросли, ветви и разный мусор, несшийся по реке, то расправляя их и растягивая.
На широчайшей быстрине между синих рябых водоворотов время от времени проносились чужие рыбаки. Глиняные горшки с гнилушками дымились в их плоскодонках. Ребятишки и косматые собаки выглядывали из-за бортов. За кормой каждой лодки на веревках тянулись пойманные калужата и осетры.
Все сторонились чужих лодок, один Удога на легкой берестянке старался подъезжать к ним поближе и всех рассматривал.
— Что тебя тянет к чужим лодкам? — сказал ему отец. — Дурак! Из-за тебя, дурака, нас убьют. Узнают тебя.
Но Удоге дела не было до того, что его могут узнать.
«Вот, кажется, она! — подумал он и быстро заработал веслами. — Такой же халат и волосы белые».
Он уже подъезжал к лодке, когда женщина, сидевшая там, обернулась. Это была старуха. «Старуха какая страшная, — подумал парень, — и волосы-то у нее не белые, а седые…»
Длинный полукруг из лодок Самаров бесшумно скользил вниз по реке. Удога шел с краю. Лодки промчались в тень. Сбоку подплывали ржавые береговые утесы. В сырых, тенистых расщелинах зеленели березки и отцветал багульник. Каменные козырьки во мхах и лишаях висели над выступавшими берегами.
В волнах, где обе речные быстрины, сшибаясь, разводили мутный водоворот, прыгнула огромная калуга. Она исчезла под водой, но тотчас снова всплыла, перевернувшись вверх белым брюхом. Рыбаки рисковали пропустить ее, потому что она плыла в стороне от ряда сеток.
Расплескивая воду зубчатой хребтиной, она пронеслась широким полукругом и заиграла, ударяя хвостом.
— Кому-то пошлет ее Му-Андури? — прошептал Пыжу. — Нам бы в сетку загнал…
Едва огромная рыбина задела сеть Уленды, как старик застучал большой деревянной колотушкой о борт своей лодчонки. Рыба испугалась и, заметавшись, запутала себя в сетку.
От неожиданного рывка ее Кальдука Маленький, державший веревку, поскользнулся и, выпустив тягач из рук, свалился через скамеечку на днище.
— Скорей вставай и наваливайся на другую сторону, а то перевернемся, охрип от волнения Уленда, а сам, ухватив погон,[28] стал навертывать его на колок от весла.
Сородичи поспешили дядюшке на помощь. Ногдима и Удога перескочили в его угду. Калугу, как она ни ярилась, подтянули к борту, всадили ей в брюхо багры и раскровенили ее хрящеватую голову колотушками.
По дороге к стану тут же, в лодках, съели хрящи и все, что повкусней…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ КАЛУГА И СОХАТЫЙ
— Эй, Уленда, а знаешь, почему твоя калуга вкусная? — насмешничал дед Падека.
Уленда блеснул глазами и пригрозил деду мокрым шестом. Он уж чувствует, что сейчас над ним начнут смеяться. В лодке Уленды один гребец и тот слабенький; приходится дядюшке и на тихом течении помогать Маленькому шестом, чтобы не отстать от своих.
— Так почему у калуги мясо вкусное? — веселится дед.
Четверо здоровенных сыновей Падеки, сильно откидываясь, ворочают тяжелые греби. Лодка сечет воду.
— Ну, так почему же калуга вкусная? — басит из соседней лодки Кальдука Толстый — огромный неуклюжий мужик с черными усами.
— Вот слушайте, — поднявшись, озирается дед Падека, как бы приглашая всех плывущих послушать про калугу и сохатого. — Старая сказка на новый лад, — подмигнул он дядюшке.
— Бе-бе-бе-е! — рассердился Уленда.
Он кинул шест в лодку, отвернулся и заткнул уши. Кальдука изо всех сил налегает на весла, но дядюшкина лодка отстает.
— Сохатый шел берегом, — заговорил дед, то и дело поглядывая за корму лодки. — Вот он шел бережком и захотел попить воды. Подошел к Мангму… А калуга высунулась из воды: «Здравствуй, сохатый!» — Дед вытянул морщинистую шею. — «Здравствуй, калуга!» — «Дай мне мяса», — сказала калуга. «Дай мне своих хрящей», — сказал сохатый. Они согласились поменяться: калуга взяла мясо, а сохатый у калуги хрящей. Калуга положила сохачье мясо под жабры, вокруг головы у нее сохачье мясо. А сохатый положил калужьи хрящи себе на нос. С тех пор калужье мясо вкусное, как сохатина, а у сохатого на носу как калужий хрящ. Вот и вся сказка про сохатого и про калугу… Эй, ты зря боялся, что я над тобой посмеюсь! — кричит он отставшему дядюшке.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ СНЫ
Дурное имя младшего сына не давало покоя старому Ла. Первая ночь прошла спокойно. Но сегодня Бельды могли сделать нападение.
— Нужно скорей менять имя…
На всякий случай Самары решили ночевать на новом месте. Они ушли с протоки на лесное озеро, на дальний его берег, и расположились близ устья впадавшей в него горной речки Додьги. Эта речка вытекала из дремучей тайги и из хребтов. В сумерках огромные черные березы, ильмы, ясени, дубы и липы, росшие в ее устье на обоих берегах, слились в сплошную грозовую тучу, стоявшую над станом Самаров и над озером. Слышно было, как близко-близко шумит и грохочет горная вода, и при луне под берегом виднелась широкая белая полоса пены, мчавшаяся из-за деревьев.
«На Мангму — убыль, а на Додьге вода прибыла, — видно, где-то в самых высоких хребтах снег тает вовсю, — думал Удога. — Сейчас там, в тайге, мокро…»
Ла приготовился шаманить.
Костер развели за огромным вздыбленным корневищем буревала, укрывшим всех Самаров, подобно щиту, от глаз любого человека, который появился бы на озере.
Отогрев над пламенем бубен, чтобы кожа плотней натянулась, Ла приложил его к левой щеке и, ударяя по нему искривленной деревянной колотушкой, двинулся в мир духов…
— Мама! Железный ястреб! Помогите мне, иду счастливое имя искать для сына… По лесам, по речкам ищите счастья для сына.
— Сенче,[29] уткой обернитесь, над тайгой летите…
— Сенче, рыбой в воде плывите…
— Бегите в верховьях реки к главному Хозяину тайги.
— Мама, нашей тайги Хозяйка, помоги…
— Железный ястреб, лети, зорко смотри…
— Сам уткой оборачиваюсь… Горячим меня не трогайте, перья мне не опалите, к огню меня не допускайте… Бум… бум…
На крестце и бедрах Ла звенят побрякушки. Полосатый березняк белеет над высокой травой. Притихшие Самары с одеревеневшими от страха лицами сидят как истуканы и не мигая смотрят на Ла.
— К пещере спускаюсь, широкими кругами подлетаю! — кричит Ла. Гарунга, Бамба, Боки, — беснуется он, перебирая разные имена, — Бочка, Карга… — Когда Ла произнесет счастливое имя, Хозяйка тайги подаст знак. Улугу… Чумбока…
В лесу прокричал филин…
— Хозяина голос слышу… Чумбока… Чумбока… Счастливое имя слышу… Чумбока… Чумбока… — Тут филин снова ухнул. Ла закружился в восторге.
С Пыжу содрали шапку, отец плюнул ему на бритую голову и тотчас накрыл ее.
— Душу в тебя вдунул… Душа твоя другое имя взяла теперь…
Пыжу стал Чумбокой.
На другой день поутру Самары, проплывая протокой, где был их стан в первую ночь, заметили на берегу множество следов. Выбравшись на берег, они разобрали на песке: ночью к стрелке подплывали пять лодок с людьми и человек пять проходили по берегу.
Это открытие вызвало у Самаров новый прилив злобы к мылкинским.
— Бельды приходили! Так мы и думали!
— Хитрые, хотели нас окружить!
— Зайцы! Боятся нас днем…
— Спящих перебить собирались. Не забудем, как нас зимой обидели! — грозили они оружием по направлению Мылок.
— Заметили нас! Еще хорошо, что от них спрятались, на новое место ушли. Теперь они не знают, где мы, — говорил Ла.
— Значит, следили за нами! — восклицал Кальдука Маленький.
— Вот! А ты говорил: мириться с ними надо. Нет, совсем не надо мириться с Бельды! — раздались голоса.
— Конечно! Ведь это Бельды!
— Они на нас ночью напасть хотели, чтобы убивать, все равно что напали… Мы сюда калугу ловить приехали, не трогали их, даже и помириться бы согласились. Но теперь на себя пеняйте! Вырежем у вас всех мужиков в деревне и всех мальчишек.
В этот день калуга совсем перестала играть, и рыбаки разъехались. Одни лишь Самары из Онда остались в додьгинских тальниках, ожидая удобного случая напасть на Мылки.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ В ГЬЯССУ
Чтобы одержать победу над Бельды, Самары решили угостить духов.
— Надо их напоить водкой, — сказал Ла. — Кто съездит в гьяссу?
Отъезжая из Онда, Самары захватили с собой на всякий случай меха, годные для продажи.
— Конечно, надо духов угостить: где же у них в тайге арака! — соглашались старики. — Им хочется араки. Тогда уж они нам хорошенько помогут.
— Я поеду, отец, — твердо сказал Удога.
Но отец, казалось, не слыхал его.
— Кто смелый? — спрашивал Ла. — Поедешь, Ногдима?
— Нет, нельзя мне… Я плохой сон видел.
— Давайте я поеду, — громко повторил Удога. — Я крепко спал, ничего не помню.
— Как ты не боишься? — удивился Кальдука Маленький.
— А что бояться? Я куплю водку потихоньку, чтобы не заметили Бельды и маньчжуры. Ветра нет, погода тихая, и я быстро поплыву на берестянке. А мылкинские не на речке живут, у них нет легких оморочек, они плавают по Мангму в больших, тяжелых плоскодонках или на деревянных оморочках, так что меня не догонят.
«Когда все про нее узнаю, можно будеть поехать в ее деревню, познакомиться с родичами, потом свататься», — думал Удога.
— А вдруг нападут на тебя среди протоки? — спросил отец.
— Возьму с собой рогатину и первому же, который полезет, разрублю всю морду, как медведю.
— А волна начнется? — испытывали парня старики. — Как в оморочке обратно поедешь?
— Волна не набежит, — уверенно ответил Удога, — тихо.
Как ни болела у Ла душа, но он позволил сыну ехать.
— Очень смелым тоже плохо быть, — пропищал трусливый Уленда. — У нас отца матери брата сын, на Горюне который жил, был отчаянный, он все хвастался: мол, никого не боюсь. Те, кого он не боялся, до сих пор живы, а его давно убили…
— Тебе только обед на охоте готовить! — с презрением ответил Ла.
Уленда, слабый, больной человек, всего пугался, и всюду ему мерещились опасности.
Удога поехал на оморочке через реку.
Выбравшись на берег около гьяссу, он решил, что прежде всего следует купить ящик водки. Удога пошел в ограду.
В шалаше у торгаша он заметил длинноносого, узколицего человека.
— Шаман племени рыжих, — сказал ему купец.
На пухлые руки купца упала великолепная голубоводная рысь. Миссионер поднял голову и увидел молодого Самара. Удога был без шляпы, через плечо с его головы свисала толстая, блестящая иссиня-черная коса, которой позавидовала бы любая итальянка. Его скуластое лицо было смугло-розовым, как у изнеженных юношей-мандаринов. На толстых губах, потрескавшихся от жгучего солнца и ветров, запеклась кровь, на смуглой потной шее грязь образовала темные потеки, а крупные мускулистые ноги, видневшиеся из-под коротких штанов из рыбьей кожи, были изъедены гнусом и расчесаны в кровавые, гноящиеся ранки.
Удога глядел на торговца по-детски наивным взором.
Торгаш брезгливо сморщился и покачал головой, в ясных глазах гольда появился испуг. Но торгаш не был себе недругом. Позабавившись испугом Удоги, он согласился дать ему водки.
Удога повеселел, его глаза оживленно заблестели; он присел на корточки, поспешно вынул из мешка берестяную трубку и вытряхнул из нее черную шкурку соболя.
Купец отдал ему большой ящик водки, и гольд, подняв его на плечо, собрался уходить. Ренье остановил его. Наблюдая гольда, он так же безошибочно, как и торгаш, определил, что это доверчивый и наивный человек. Хорошо бы такого взять в работники… Он протянул Удоге зеркальце и бусы.
— Как тебя зовут? — ласково спросил он, глядя тем уверенным и повелевающим взором, каким умеют смотреть миссионеры, когда разговаривают с людьми, которым проповедуют и которых в душе презирают. Пьер знал — такой взгляд, в сочетании с лаской в голосе и с обещанием подарков, всегда действует.
Удога нахмурился и со страхом смотрел на высокий нос чужеземца. Совсем не с этим шаманом рыжих хотел бы он говорить сейчас.
— Не бойся, не бойся! — самоуверенно продолжал Пьер.
На вопрос, кто он и откуда, Удога ответил, что он из деревни снизу. Но где он остановился в гьяссу и с ним ли его сородичи, в этом он никак не хотел признаться.
Гольд все время посматривал по сторонам.
Узнав, что деревня, где живет Удога, находится по пути к морю, Пьер сказал Самару, что скоро приедет к нему в гости, привезет дешевых товаров, сделает много подарков ему, его отцу и матери и будет любить всех их.
Пьер попросил гольда присесть под навес и, разговаривая с ним, быстро набросал на бумаге крупные черты его красивого и сильного лица.
Парень плохо понимал маньчжурскую речь Ренье и с трудом отвечал на его расспросы. Вокруг рисующего Пьера собралась толпа гольдов. Глядя, как он быстро водит карандашом по бумаге и как из беспорядочных черт возникает картина живого лица, все пришли в восхищение и стали громко обмениваться замечаниями.
В это время вблизи появились маньчжуры, и Удога, воспользовавшись этим, взвалил ящик на плечо и, не взяв бусы и зеркальце, исчез в воротах. Ренье поспешил за Удогой, цепко схватил гольда за руку, уверяя, что любит его и не даст в обиду. Он смотрел повелительно и все крепче сжимал руку юноши. Удога легко вырвался и побежал, Ренье, подпрыгивая, помчался за ним.
«Ах, жаль, не удалось познакомиться, — с досадой думал он, отставая и краснея так, что лицо его стало таким же багровым, как и толстая шея. — О, я еще найду его! Он не избежит своей участи!»
— Надо было подпоить его, тогда, он стал бы сговорчивее, — горячо сказал де Брельи, выслушав рассказ Пьера о простодушном красавце гольде. Здешнее население — поголовно пьяницы. Водка — главный товар, который везут сюда. Вы не соблазните их рисунками.
И оба иезуита принялись горячо обсуждать, как найти хороших проводников.
* * *
Отбившись от Ренье и оглядывая всех, кто сидел в лодках, Удога искал девушку со светлыми волосами. Он несколько раз прошелся вдоль берега, но ее нигде не было. В толпе говорили об иноземцах:
— Что за люди?
— Это маньчжурские черти, сделанные под вид лоча. Ненастоящие лоча!
— Нет, это не маньчжурские черти, а рыжие, заморские. Дыген сам их не любит.
«Ее нигде нет! — печально думал Удога. — Но откуда же она? Может быть, дядюшка Дохсо ошибся? Может быть, ее здесь нет или она уже уехала со своим отцом?»
Удога встретил знакомых стариков, перецеловался с ними и услыхал разные новости.
«Ее здесь нет!» — попрощавшись со стариками, думал Удога.
Размышляя, он как раз наткнулся на трех мылкинских парней: Писотьку, которому Чумбока на охоте разорвал стрелой сохатиную шапку, и его двоюродных братьев — Пилгаси и Улугу.
— А! Вот ты где нам попался! — вдруг крикнул Писотька, отступая два шага и поглядывая на товарищей. — Теперь никуда не денешься!..
— Вот тебя сейчас схватим и убьем! — сказал Улугу.
Но мылкинские не стали драться, и побежали вниз, к лодкам. «Может быть, там у них оружие», — подумал Удога.
Он постоял, посмотрел на толпу и тоже пошел вниз.
Бельды бежали стороной с косогора. Их деревянная лодка стояла неподалеку, они сели в нее и, усиленно выгребая, быстро поплыли протокой и скрылись.
«Хитрые, хотят меня подкараулить», — подумал Удога, заталкивая ящик с водкой в закрытую корму берестянки.
Проплывая изгибом протоки, он заметил в ивняках у берега лодку своих врагов. В высокой траве белели три берестяные шляпы.
Удога приготовил копье, вытащил из носа лодки лук со стрелами, положил его поперек оморочки, а сам, напрягаясь и покачиваясь, стал налегать на весло.
Бельды поднялись из травы. Все трое были без оружия, если не считать ножей, висевших у них на поясах. Они безмолвно наблюдали за оморочкой Самара.
«Вот выхватят из травы луки и пустят стрелу мне в затылок», — подумал Удога, проплывая мимо ивняков, и невольно вобрал голову в плечи. Отъехав за глиняный откос, он не выдержал этого ощущения опасности и оглянулся. Трое парней в белых шляпах no-прежнему стояли на месте и смотрели вслед.
Лишь когда Удога, огибая остров, скрылся в тальниках, Писотька крикнул ему:
— Дикий Самар!
— Сами как собаки! — отозвался Удога.
— Знаем, где прячетесь, найдем вас — всех убьем! — неслось из-за кустов.
— Вот разрублю вам морды…
— Смотри, догоним — ударим тебя по лицу, — слышалось издали.
«Побоялись меня», — подумал Удога.
За озером садилось солнце; к голубым хребтам, как огненные лодки, причалили золотые облака.
Тишина… Чуть слышно шумит вода о бересту.
По сверкающей реке, как бегуны по льду, скользят вереницы зеленых мотыльков-поземок. Нос оморочки ломает водяную гладь, вздымает слабенькую волну, разваливает ее волнорезом пополам, захлестывая ряды зеленых бегунцов.
Над оморочкой вьется рой гнуса.
Дикие утки пролетели, шлепая крыльями. Упал коршун, побарахтался в воде и взлетел с рыбой в когтях. Закат золотит его добычу. Тяжесть тянет горбоносому лапы. Он сгорбился от жадности и поспешно взмахивает крыльями. В небе парят голодные хищники. Под вечер много рыбы около кос, в мелкой теплой воде.
Река широкая. Кругом синие хребты. Удога долго плывет, выгребает против течения, чтобы быстрина не унесла его за Додьгу… Он рад, что все обошлось благополучно, в жертву Позяней есть спирт. Теперь будут и сны хорошие, и удача…
Солнце село, В длинных бледно-синих плоских облаках остались яркие голубые прогалины, как большие печальные озера в тундре.
Удога чувствует красоту реки, он переполнен этим ощущением. Он поет, тянет тонко, грустно:
Тихий вечер — печальная река. На оморочке плыву, и мне грустно, Ханина-ранина, Грустно потому, что девушку я не встретил, Ханина-ранина.Оморочка на середине реки, как на водяном бугре. Река как озеро, окруженное горами. В той стороне, где Онда, сопки расступаются, и далеко-далеко река сливается с небом.
Близятся обрывы другого берега. Наверху дремучий лес. На песках тальники.
Вот и узкое горло озера. Удога огляделся. Пустынная река сверкает, как большая рыба. Песчаный бугор поплыл назад… Нет, никого не заметил Удога…
«Погони нет», — решил он.
Он завернул оморочку и сильными рывками погнал ее в тальники.
«А ее я так и не встретил», — подумал парень.
И вдруг его разобрало сильное зло на Бельды. Ясно было, что они во всем виноваты.
«Подручные маньчжуров! Маньчжурские собаки! Вместо нее встретил трех Бельды!»
Маньчжуры тоже злили его.
«Опять хватают наших девок! Может быть, ее схватили…»
Парень привез водку, отдал ее старикам, рассказал на стану, как в лицо видел врагов. Самары угостили хозяина тайги, Мангму, разных покровителей. Сами выпили.
Поздно вечером, забравшись под полог, Удога снова задумался о ней…
«А где же она? Ведь где-то же она есть! Ведь видел же ее дядюшка Дохсо! Это проклятые Бельды помешали мне ее найти… Ну погодите!.. Мы вам все припомним: как брата на охоте обидели, как нас убить хотели, как на наших речках охотились… Конечно, — рассуждал Удога, — раз от них вред, то мы должны воевать против них. Если бы от них вреда не было, то не надо было бы воевать… Только когда их уничтожим, будем хорошо жить…»
Ла и старики еще долго разговаривали у костра и пили водку маленькими чашечками.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ БИТВА
Бельды тем временем не зевали. Они не испугались Удоги, а лишь схитрили.
После встречи с Удогой Писотька и Улугу поднялись на гору. Они выследили Самара, когда он перевалил Мангму, и открыли убежище ондинцев.
Самары ночевали поодаль от берега, за ивняком, на песчаной возвышенности, окруженной болотами, между протокой и глубоким заливом. Подхода к стану по берегу не было, оставался единственный путь для нападения — по воде.
Ночью в Мылках шли приготовления к бою.
На заре в озеро вошли пятнадцать больших лодок, полных вооруженными людьми.
Бельды утыкали борта своих лодок зелеными ветвями и тихо двинулись на шестах вдоль берега.
Туман полосами тянулся через озеро, цеплялся за остроголовый ельник на холмах. Плавилась и плескалась рыба.
Над туманом и над торами в яркой синеве плыли белые кучевые облака.
Улугу и Писотька на деревянной душегубке пошли в разведку. Тихо взмахивая веслами, они приблизились к табору Самаров.
Ветерок подул с устья реки. Ни одна собака не залаяла на стану. Разведчики уже видели лодки ондинцев, укрытые в камышах, и шесты, воткнутые в песок.
Перед тальниками тянулась болотистая пойма. Подходить к стану врагов пришлось бы по открытому месту. Да и пойма около самого стана была рассечена зарастающей тихой протокой.
Писотьке хотелось посмотреть, много ли Самаров за песками в тальниках. Он поднялся и подал знак гребцу. Его брат опустил весло в воду, и лодка поплыла под ивами, окаймлявшими песчаную возвышенность.
За кустарниками Писотька увидал троих гольдов. У ног их лежала собака. Они курили трубки и негромко разговаривали. Стан был совсем близко. Кривоногий старик с бабьим лицом, стоя на коленях, раздувал угасший костер. В тальниках на черных шкурах виднелись спящие люди.
Вдруг из воды вынырнул большой желтый сазан и бултыхнулся подле оморочки, сразу же прыгнул другой, за ним третий… На берегу заурчала собака. Из-за кустарников поднялись три головы.
Рыбы, напуганные тенями гребцов и шестами, заскакали одна за другой. Лодка, как видно, шла над большой стаей сазанов.
Писотька пригнулся и налег на шест. Оморочка пошла наутек. Самары заметили разведчиков, в таборе началась тревога.
Огибая мель, оморочка вышла из-под укрытия. Со стана открыли стрельбу, но стрелы перелетали лодку, втыкались в песок и иссохшие коряги, торчавшие на мели.
* * *
Лодка уплыла. Самары ее не преследовали.
В стане Самаров готовились к бою. Старый Ла задумал устроить на Бельды засаду, чтобы в разгар боя окружить их. Он отделил девять парней под началом деда Падеки, велел им затаиться в камышах и быть там до тех пор, пока мылкинские не подплывут к стану и не выберутся на берег. Вот тогда они должны заплыть в тыл Бельды и угнать их лодки, а самих врагов стрелять из луков.
— Правда, девять человек маловато, — сокрушался он, — но, быть может, что-нибудь получится.
Ла уговорился со стариками, кто с кем и на какой лодке поплывет и что каждый будет делать, если придется драться не на берегу, а на озере. Тут были сделаны перемещения, с тем чтобы на каждой угде имелись сильные гребцы и хорошие стрелки из лука. Две берестяные оморочки отдали Чумбоке и Кальдуке, как самым низкорослым и легким.
Дед Падека и парни волоком протащили две большие лодки и скрылись в зарастающей протоке.
Ла сбегал в тальники и достал из мешка железную кольчугу. На дне плоскодонки лежало его русское ружье, купленное зимой у Алешки. Вот бы из чего полыхнуть по Бельды… Но в те времена родовые ссоры еще не решались огнестрельным оружием, и Ла оставил ружье на месте.
— Большая лодка идет! — крикнул караульный.
Медленно взмахивая веслами, из утреннего тумана, кутавшего островок, выплывала тяжелая плоскодонка, щетинившаяся копьями.
Самары укрылись в кустарниках.
Из-за острова потянулась вереница больших лодок.
— Еще одна, — вырвалось у Ногдимы.
— И еще…
С передней вражеской угды выстрелили из дальнобойного лука. Перистая стрела перелетела через озеро и с силой ударилась в мертвую талину посредине стана, так что на разбросанные сохатиные шкуры полетели корье и щепы.
— Чего боитесь? Зайцы, что ли? — крикнул Ла на парней, перебежавших в рощу.
Ногдима выдернул стрелу из ветлы и отдал ее старикам.
— Это стреляет Локке! — воскликнул Ла. — Кроме него, ни у кого из мылкинских не хватит силы так натянуть лук, чтобы стрела перелетела от островка на Додьгу…
Вторая стрела, срывая листья и ломая ветви, вскользь задела ветлу и плашмя ударила Уленду по лбу. Он бросил лук и в страхе схватился руками за голову, полагая, что смертельно ранен.
— Беда с этим стариком, — засмеялся Чумбока, но смолк под строгим взором отца.
Самары укрылись в чаще. Дальнозоркий Локке пустил стрелу в ивняки. С берега стали отстреливаться, но, как ни тянули тетиву, не могли докинуть стрел до лодок. Враг был неуязвим.
Видя, что страх овладевает ондинцами, Ла велел выплывать навстречу Бельды.
Хотя Ла и не был главарем у Самаров, но сейчас, как самый расторопный и сообразительный, он стал всем распоряжаться, и его охотно слушались.
«Пусть велит нам, что надо делать, — он знает больше нас и, видно, будет за все отвечать», — решил в душе каждый, и все положились на него. Поэтому, когда Ла приказал выплывать навстречу Бельды, сородичи не стали с ним спорить, как бывало обычно, когда решалось какое-нибудь Общее дело, а с рвением кинулись вперед, понуждая пинками и толчками молодых быть повеселей и порасторопней.
Ла, Холимбо, Хогота, Уленда и Ногдима перебежали мель и скрылись в тальниках. Ватаги Самаров последовали за ними. Локке бил по ним из лука. Стрела угодила в песок, под ноги Чумбоке, он упал через нее, но остался цел и невредим.
Когда лодки Самаров выплыли из камышей, Бельды прекратили стрельбу и взялись за весла. Их флотилия стала быстро приближаться. Звонкий плеск и бодрые крики огласили воздух. Волны побежали на берег, тростники застучали в заливах, испуганные птицы с криками закружились над травянистыми берегами.
— Эй, собаки! — весело кричал врагам Кальдука, выплывая вперед на оморочке.
Бельды было множество. На их лодках Ла насчитал до полусотни голов… Но страха не было. Ясное утро, лес, яркий, как всегда бывает ранним летом, холодноватый утренний воздух — все располагало к сильным, решительным действиям.
— Старосту своего куда спрятали? Давайте его нам!
— Плюнуть на тебя! — кричал Уленде толстый Бельды в железной кольчуге. — Ни баба, ни человек.
— Тяп-тя-ап… — злился Уленда и вдруг метко ударил толстяка стрелой в грудь. Тот повалился в лодку.
— Не забудем, как наших обидели, всех убьем! — кричали Бельды, но вперед плыли не все, некоторые поворачивали обратно.
Ла с луком стоял на коленях в носу лодки. Уленда был на корме.
Холимбо, Ногдима и Хогота изо всех сил разогнали лодку, бросили весла и схватились за оружие. Пять стрел метнулись на Бельды.
Из косого строя вражеских лодок быстро пошла вперед громоздкая угда, расписанная красной и черной краской и украшенная резьбой. Она была полна людей в деревянных латах с копьями и с кожаными щитами в руках.
Из-за зеленых веток, наваленных на ее тупом носу, виднелась голова силача Локке с сивой бородой, заплетенной в косичку. Перед ним лежал дальнобойный еловый лук. Такие луки охотники натягивают ногами, настораживая их на сохатых или на рослых медведей, но у Локке хватало силы натянуть его руками.
«У этого старика два сердца», — подумал Ла.
Это был опасный противник и плыл прямо на него.
Ла выстрелил в Локке в упор. Стрела разбила его щит и латы. «Плохо, схватил Ла другую стрелу. — Жаль, что не попал в голову…»
Локке поднялся. Ла увидал его светлые косые глаза… Самар вдруг бросил лук и схватил копье. Лодки сближались…
Когда Локке рванул огромную тетиву — никто не заметил. Он сделал это мгновенно. Метко пущенная стрела с могучей силой ударилась в грудь старого охотника, разорвала железные петли на его груди, и Ла без стона рухнул навзничь на дно угды. Из-под дрогнувшей лодки побежала зыбучая волна.
— Ла убит… Бей Самаров!.. — И с хвастливыми возгласами Бельды ринулись вперед.
Испуганные гибелью Ла, ондинцы отплывали обратно, бросали в заливе лодки и выбегали на песок.
Мылкинцы тоже спешили к берегу. Большая плоскодонная лодка Самаров со сраженным Ла и его друзьями оказалась отрезанной от берега. Уленда, Хогота, Холимбо и Ногдима отгребали к устью Додьги. С ними рядом плыл на оморочке Кальдука.
Уленда выдернул из груди мертвого стрелу. Кровь хлынула из раны, заливая одежду.
На широком дне угды Кальдука увидал ружье. Ни слова не говоря, Маленький протянул руку за борт и выхватил со дна лодки русское ружье, купленное стариком Ла у Алешки. Оно было заряжено. Сзади послышались отчаянные крики. Маленький оглянулся. На косе начиналось побоище. Самаров было мало, им грозила гибель.
— Нашли старики время возиться с покойником! Так нас всех побьют. — И, налегая на веселко, Маленький помчался к берегу.
— Эй, ты, чего схватил? — поднялся Уленда, но Кальдука был уже далеко.
Хогота, Холимбо, Ногдима и Уленда, оправившиеся от страха, тоже двинулись на выручку своим.
На песках завязалась рукопашная. Оравы Бельды лезли на косу. Вот они, чужие, некрасивые лица врагов. Краснокожий Локке с зелеными каменными серьгами в ушах, Бамба с болячками и лишаями на лице, одетый в черно-синие деревянные латы толстый Бариминга, кривоногий и однорукий черт Турмэ, ловко орудующий муккача — граненой дубинкой, Мангадига с кольцом в носу, в кофте и в кожаной юбке.
Врагов встретили колючим строем копий, дубин и рогатин.
Падека и Удога, еще когда Ла упал в лодку, поняли, что дело плохо, и выплыли из камышей. На них напало человек десять врагов. Бельды дрались, стоя в лодках, и оттеснили Самаров обратно к протоке. Самары бросили там обе лодки и отступали по колено в иле и по пояс в зеленой воде, отбиваясь от озверелых Бельды дубинами и длинными охотничьими копьями. На Удогу враги насели со всех сторон с такой яростью, что он не успевал нанести никому из них ловкого удара… В душе он молил добрых духов, чтобы отец остался жив и чтобы кто-нибудь отомстил за него.
Сражение дубинками и копьями с обеих сторон велось с большим искусством. Дрались громадными гранеными дубинками — муккача, широко схватив их двумя руками и норовя попасть друг другу острым ребром по пальцам.
Такими дубинками всегда решались родовые споры. Кто умел хорошо владеть муккача, был зорок, ловок. Старики, обучая молодых драться на муккача, готовили их не столько к родовым битвам, как к медвежьей охоте.
Когда бьешь медведя ножом, то надо действовать очень точно и быстро, потому что зверь сам быстр и ловок. Тот, кто не даст ударить себя дубиной по пальцам в драке на муккача, тот не упустит ни одного движения медведя на охоте.
На широкой песчаной банке перед тальниковой рощей от ударов сотни граненых дубин и копий стоял дробный стук, похожий на игру в китайские трещотки.
Чумбока, сжимая сирнапУ, кинулся на Локке. Лязгнуло железо…
Раньше у Чумбоки не было никакого зла на Локке, и даже напротив — он знал, что Локке человек умный, добрый, — но сейчас, во время родовой вражды, после того как Локке убил его отца, не было для Чумбоки врага ненавистнее Локке.
Старик тоже разгорячился битвой и готов был бить и резать направо и налево без разбору, будь то родные или бывшие добрые друзья.
Когда Чумбока ударил рогатиной по его оружию, силач легко отвел удар.
— Вот убийца отца! — неистовствовал Чумбока. — Разрубить бы твою рожу…
Низкорослый Самар бился, полусгибая ноги, словно норовил залезть под Локке, как под медведя, и вспороть ему брюхо. Сухие и жесткие босые ступни Чумбоки вязли в песке.
Снова лязгнули клинки. У Чумбоки треснуло древко. Локке ударил еще раз, и клинок отвалился.
Старик усмехнулся.
— Ну, теперь руками могу тебя взять! — воскликнул он, отбрасывая копье.
От Локке всегда можно было ждать: он и верно задавит руками… «Что делать?.. Бежать?.. Не буду бежать». Чумбока отпрянул и сорвал с пояса нож.
— Бей дикого! Бей Самара! — дружно заорали Бельды.
Рыжебородый старик рассвирепел. Белые глаза его выкатились.
— За косу тебя схвачу и отрежу голову, как у калуги! — вытащил он большой нож. — Сейчас тебя съем! — осклабился Локке.
Над головой Чумбоки сверкнуло железо.
«Что за шутки? — мелькнуло в голове у парня. — А если и верно кусать станет?» — Чумбока похолодел от страха.
— Уши сначала отрежу, ноздри съем.
Чумбока увидел мясистый калтык старика над кольчугой.
Пока старик мешкал, парень, замахнувшись, из всей силы метнул свое последнее оружие в горло Локке. Старик запрокинул голову, нож вывалился из его руки. Он захрипел и повалился на песок. Частое хриплое дыхание с кровавыми брызгами вырывалось из раны…
В этот миг из-за груды наносника выбежал с ружьем Кальдука Маленький. Он прицелился и ударил по ораве Бельды, вооруженных палками и дубинками, из русского ружья.
Громыхнул выстрел и перекатами отозвался на озере. Маленький отбросил ружье и закружился волчком, закрывая разбитое в кровь лицо…
Пуля никого не задела, но гром выстрела произвел свое действие. Бельды только что видели гибель Локке. Страх охватил их. Они прыгали в лодки и гребли прочь от берега. Убитого Локке они вынесли на руках и положили в раскрашенную углу.
Падека и Удога, слыша победные крики Самаров, с новой силой кинулись на врагов и погнали их через камыши. Тут Удоге подвернулся Писотька, и он ловко задел ему копьем бок. Бельды упал в воду. Его товарищ и сородич Улугу Бельды подхватил раненого Писотьку и быстро потащил через камыши.
Дед Падека, по пояс в тине и в водорослях, выскочил на песок. Старик был в ударе. Услыхав, что Чумбока убил Локке, он с размаху бросил в лодку копье и сам прыгнул следом.
— Толкайтесь шестами!.. — закричал он.
Четверо парней, двое на корме и двое на носу, налегли на шесты, и угда, пронзив тростинки, вылетела на озеро и помчалась в погоню.
— Какой ты молодец! — голосил Падека, перегоняя Чумбоку. — Удога в камышах Писотьку свалил, а ты самого Локке как-то ухитрился… Беда, чего наделали! Теперь уж мира не будет, не на шутку разодрались, придется у них всю деревню убивать.
— Зайцы!.. Зайцы!.. — кричали ондинцы вслед убегавшим Бельды.
Лодки мчались по глубине. Шесты еле доставали дна.
— Гребите, гребите! — рявкнул старик.
Шесты загрохотали о днища. Парни втыкали в борта колки и насаживали на них весла. Дед Падека натянул лук и пустил стрелу в отстающую лодку противника; там быстрей заработали веслами.
Погоня продолжалась до реки. Каждый ондинец вздыхал свободно, выплывая на простор Мангму. Путь в Онда был свободен. Вдали голубели родные горы. Привычный, милый ветер, вкусно пахнущий рыбой, шевелил тальники. Старики, а за ними молодые Самары вылезли на берег и падали ниц перед Му-Андури…
— Велик, велик Мангму! Плохо тому, кто тебя долго не видит!
Вдали под крутым обрывом чернела стая уплывавших лодок. По воде доносилось лязганье шестов о гальку. На песках были свежие следы. Это мылкинские убегали по болоту и по отмелям…
— Не все успели сесть в лодки, — говорили Самары.
На горле озера снова раскинулся стан. Теперь ондинцы никого не боялись.
Раненые разбрелись по окрестностям в поисках лекарственных трав. Четверо Самаров ходили на болото смотреть, не остался ли там кто-нибудь из Бельды. Но все следы вели к берегу и пропадали у воды.
Ла положили на небольшую дощатую лодку и прикрыли от солнца ветвями. Чумбока и Кальдука утром должны были везти его тело домой.
Вечером дед Падека уговаривал сородичей напасть на Мылки и вырезать там всех мужиков, парней и мальчишек.
Уленда и Холимбо заикнулись было, что пора бы мириться с Бельды, но дед Падека и слушать не хотел. Он тут наговорил разных страхов, помянул, как когда-то давно была война и как в одной деревне вырезали всех мужиков, но одного младенца победители пожалели, оставили в живых и взяли к себе. Потом мальчик вырос, узнал, кто он, кровь заговорила в нем, он почувствовал желание мстить и ночью перерезал всю деревню.
— Мы у них двух, кажется, убили, они с нами мириться не захотят, пугал их воинственный дед. — Нас в долгу считать будут… Мстить нам станут… Надо всех убить, чтобы некому было нам мстить. Так нас еще наши отцы и деды учили.
Самары наконец согласились плыть в Мылки и бить там всех подряд, кроме баб и девчонок.
Удога был убит горем. Ему казалось, что воевать больше не следует, что теперь лучше мириться и ехать домой поплакать об отце. Но он никому не высказал этих мыслей. Он знал — обычай требует убивать мылкинских, а против обычая нельзя ничего говорить. «Только раньше, должно быть, старики были еще дурней теперешних», — с досадой подумал он, слушая деда Падеку.
Ночью Самары тронулись вверх по Мангму. Они переплыли на правый берег, поднялись до Экки, перевалили обратно на поемную сторону и на рассвете узкой верхней протокой, как черным ходом, вошли в озеро.
Из-за седых ветельников выплывали высокие вешала и рогатые крыши. Колыхнул ветерок. Пахнуло гнилой рыбой.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ МАНЬЧЖУР
Когда Удога ударом копья повалил Писотьку в камыши и толпы мылкинских кинулись врассыпную через протоку, Улугу Бельды подхватил раненого брата и укрыл его в густых зарослях на мелком месте, а сам выбрался на берег и залег в ветловом ернике, наблюдая бегство сородичей. Парни остались без лодки, окруженные со всех сторон врагами.
Вскоре ондинцы уплыли, и табор их опустел. Улугу спустился на болото и вытащил из камышей Писотьку. Тот был легко ранен в бедро. Улугу унес его в чащу леса, на берег ручья, нашел старый балаган и, оставив в нем Писотьку, полез через колючий кустарник на поиски трав.
Когда он вернулся, Писотька стал лечить рану, прикладывая к ней жеваные листья.
Улугу решил отправиться в Мылки за лодкой, чтобы отвезти домой раненого. Пробираться через болото к берегу Мангму было опасно: там могли оказаться Самары. Улугу избрал другой путь. Он перешел речку и пошел тайгой напрямик. В сумерках он забрался на додьгинский холм. Ему открылся вид на тихую реку. И тут он увидел что лодки Самаров отплывали под парусами от горла озера Додьги вверх по течению. Сомнений быть не могло: ондинцы направлялись в Мылки, чтобы ночью напасть на сонную деревню и перебить всех жителей. Улугу спустился с крутизны и по галечникам побежал домой.
Наступила ночь и взошла луна, когда он добрался до Мылок, переплыв протоку на сухой лесине. Он кинулся к Денгуре, но того дома не было. Старшина сидел в доме Локке и призывал сородичей к мести, хотя сам и не ездил на озеро драться.
«Не мое дело дураков бить, — полагал он. — Мне думать надо. Если я хорошо думать буду, тогда скорей Самаров побьем. Тогда будем богатыми. А они будут на нас работать, ловить нам зверей».
Убитый лежал на кедровой доске. Горбатая старуха и красавица Дюбака вышивали ему рукавички. Соседки кроили халат из рыбьей кожи. Мертвого собирали в дальнюю дорогу.
Юрта была полна народу. Улугу всех переполошил своими известиями, Денгура пришел в ярость, услыхав, что Самары собираются напасть на Мылки.
Мылкинские и раньше побаивались Самаров, как людей таежных, более смелых, чем они сами. Страшное поражение на Додьге внушило мылкинским страх и неуверенность в своих силах. Денгура уже не надеялся на своих. Сородичи казались ему сейчас трусами. Он решил просить помощи у маньчжурских разбойников и поплыл в гьяссу. По дороге, посоветовавшись со стариком гребцом, он одумался.
— Нельзя путать в родовой спор маньчжуров, — сказал гребец. — Они чужие люди, а это дело наше.
— Да, пожалуй, если Дыген впутается в это дело, то обдерет дочиста и нас и их, — согласился староста.
Приехав в гьяссу, Денгура потихоньку уговорился со своим приятелем Сибуном, что тот пошлет в Мылки тайком от Дыгена двух маньчжуров с ружьями.
Денгура знал: если Самары их увидят, то ни у одного рука не подымется и они отступят.
Обратно старшина поплыл с маньчжурами. Гребцы старались, налегали на весла, а двое усатых маньчжуров важно сидели на скамеечке, держа между колен фитильные ружья.
На обширном острове, закрывающем вход в мылкинскую протоку, устроили засаду. Около сотни вооруженных Бельды скрылись в тальниках. Маньчжуры улеглись спать. Они велели гольдам разбудить их, когда подплывут враги.
Сибун наказал им попугать стрельбой Самаров, и оба маньчжура уверены были, что это удастся исполнить.
Луна бледнела. На ее нижнем крае появились щербины. Река была пустынна. Подул свежий предрассветный ветерок. Один из маньчжуров заснул, а другой стал ворчать на стариков, что они зря устроили тревогу. Он высказывал предположение, что никто и не собирается нападать на Мылки, а что все это пустые страхи.
Гольды из вежливости соглашались и поддакивали.
Вдруг со стороны стойбища раздался протяжный женский вопль. Бельды опрометью бросились к лодкам.
Маньчжуры схватили свои ружья и поспешили за ними. Крики росли. В стойбище что-то случилось…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ДЕВУШКА СО СВЕТЛЫМИ ВОЛОСАМИ
Удога привязал свою оморочку к высокой траве и вылез на луг. Он был полон решимости мстить, исполнять закон рода, убивать Бельды. Гуськом, держа наготове ножи и луки, ондинцы двинулись к домам. Светало. Удога ясно различал шкуры, содранные с медвежьих голов, растянутые на гнутых кругами прутьях, шесты с сетями, чугунные котлы на широком приозерном песке.
«Почему-то не видно лодок, — подумал парень, глянув на пустынный берег. — И собаки не лают… Или Бельды поймали много рыбы и собаки у них зажирели?»
— Мылкинские уехали, лодок нет, — остановился дед Падека.
— Не-ет! — подтвердил Хогота, тараща глаза по сторонам.
Под амбаром тявкнула собака.
В большом крайнем доме открылась дверь. Из нее вылез дряхлый, еле передвигавший ноги старик и направился к кустам. Увидав чужих людей, он повернулся и поспешно заковылял обратно.
— Это Денгуры дом. Вот я сейчас покажу ему, какие старосты бывают! — закричал дед Падека и выстрелил из лука.
Старик упал у порога и завизжал. Падека выхватил нож, вскочил в дом. Оттуда донеслись душераздирающие женские вопли… Какая-то молодая баба выскочила из окна и быстро, как напуганная кабарга, помчалась по улице, голося во всю мочь.
На руках у нее был ребенок.
— Если мальчишка, убить надо! — крикнул Холимбо.
Ногдима с граненой дубиной в руках погнался за бабой. Из-под амбаров выскакивали псы и хрипло лаяли… Самары кинулись по домам.
Удога с замиранием сердца следил за убегавшей женщиной. Ногдима отстал от нее и вдруг, свернув в сторону, тигром бросился в какую-то юрту. Женщина с ребенком скрылась в лесу. «Хорошо, что эта баба не попалась Ногдиме, — с облегчением подумал Удога. — Нет, что бы ни было, — сказал он себе твердо, — но я все равно маленьких и стариков не стану трогать».
С такой мыслью он толкнул дверь низенькой маленькой лачужки.
С кана соскочила высокая девушка и метнулась к очагу. В углу закашляла горбатая старуха. На полу лежал покойник в шелковом халате. Удога узнал его. Это был Локке.
Удога робко шагнул к девушке, как бы боясь нарушить покой Локке. Рассмотрев ее, Удога остолбенел. Это была та девушка, которую он так долго искал.
Упорный, пристальный взгляд пришельца показался Дюбаке враждебным, таящим какой-то ужасный умысел. Она задышала глубоко, часто и начала всхлипывать. Девушка боялась его. Удога понял это. Ему захотелось утешить ее, сказать, что он ее не обидит и что не надо пугаться, но язык у парня онемел, и слов не находилось.
Он почувствовал, что его сердце, крепкое охотничье сердце, которое никогда не «качалось» при встречах с медведями, сейчас вдруг «закачалось», волны горячей крови хлынули, затуманили голову.
На озере прогремел выстрел. Удога не слышал его.
— Тебя как зовут? — тихо спросил он девушку.
Ее глаза блеснули. Она его узнала. Девушка приосанилась.
— Ты чужой, мне нельзя с тобой говорить, — сказала она. — Уйди отсюда, а то люди меня осудят…
— Я тебя везде искал, хотел видеть, — волнуясь, сказал парень.
— Уходи, уходи, собачья душа! — вдруг осмелела горбатая старуха, подымаясь с кана. — Вот я тебе!
Удога молчал, не зная, что тут можно сказать. Дома — убитый, на улице — война…
— Если бы войны не было, если бы отца не убили, тогда, может, я и сказала бы тебе свое имя, — заговорила вдруг девушка.
Тем временем старуха, вооружившись палкой, уже подступала по кану к Удоге.
— У меня сегодня тоже отца убили, — вздохнул он, как бы желая вызвать у девушки сочувствие, и тут же получил от старухи шестом по спине. Но он согласен был терпеть еще сколько угодно таких ударов, лишь бы быть около этой девушки и разговаривать с ней.
Где-то близко снова громыхнул выстрел, и мимо дома с криками побежали толпы людей.
Удога глянул в дверь. Над заречным хребтом пылали облака. По пенистому озеру к деревне плыло множество лодок, полных вооруженными людьми. Одни из них гребли лопатами-веслами, а другие стреляли по разбегавшимся в беспорядке Самарам.
Несколько лодок уже приставали к берегу. Из лодки вылезли два усатых маньчжура в халатах, в туфлях и широкополых шляпах. В руках у них были фитильные ружья.
Удога заметался по лачуге.
Девушка усмехнулась, как показалось Удоге, с сожалением; она глянула на него исподлобья, словно ей стало неловко, что такой красивый и сильный парень струсил.
Удога вспыхнул и тотчас выскочил из дома. Едва он появился на улице, как по нему открыли пальбу. С одной стороны на него бежали мылкинские парни, а с другой — трусил маньчжур с ружьем.
Удога оглянулся на дом Локке. В его дверях стояла девушка со светлыми волосами. То и дело оборачиваясь внутрь дома, она, по-видимому, что-то говорила старухе…
«Все рассказывает, что видит. А ну, гляди, какой я трус!» — Удога кинулся прямо на копья, но обманул врагов, с разбегу покатился кубарем им под ноги, сшиб одного из мылкинских и, выхватив у него копье, вскочил и стал кружить им над головой, разгоняя парней.
Маньчжур с ружьем приближался. Удога сжал древко обеими руками и ринулся ему навстречу.
— Эй, Удога, не трогай его! — издали кричали Самары.
Но Удога не слышал ничего. Он желал совершить подвиг или погибнуть на глазах девушки. Пусть знает, что Удога совсем не испугался. «Пусть плохо не думает обо мне!»
Глядя на маньчжура, он вошел в ярость.
Маньчжур, видя перед собой острие пики, перепугался. Лицо его перекосилось от ужаса.
— Ой-е-ха! — отпрянул он и сел на гальку.
Удога ткнул его копьем в брюхо. Тут только он сообразил, что наделал… Бросив оружие, он во весь дух понесся на своих могучих ногах прочь из деревни. Парни шарахнулись от него в сторону. Мылкинцы всей деревней сбегались к раненому солдату.
Произошло неслыханное — гольд пропорол брюхо маньчжуру! Для мылкинских это было большим несчастьем. Если об этом узнает Дыген, беды не оберешься… Все перепугались. Родовая вражда — дело семейное, свое грозила превратиться в кое-что пострашней.
Удога с разбегу вскочил в свою оморочку, разорвал привязанную траву и поплыл догонять сородичей.
…Погода расходилась. Озеро закипело от ветра, и высокие волны добегали до шестов с медвежьими головами.
Ветер полоскал сети и раскачивал связки поплавков. Потянуло сырой прохладой.
Повеселевшие мылкинские шаманы схватили раненого, чтобы показать на нем свое искусство. Медвежья желчь, кабаржиная струя, кожа черепахи, разные выварки и снадобья — мало ли средств у опытных лекарей.
На отмели озера, где был лагерь Самаров перед боем, лодка с убитым Ла вытащена на берег. Самары ломают ветви ивы, подходят к лодке все по очереди, закрывают ветвями тело Ла.
— Зачем ты тронул маньчжура? Теперь нас убьют или дочиста оберут. И нас самих, и Бельды! — ворчит дед Падека, встречая Удогу, который пошел ломать ветви.
— Да, теперь надо только поскорей добраться до дому, а там придумаем, что делать! — говорит лысый старик. — Ну, в поход!
Уленда пинками загоняет своего сына Кальдуку Маленького в лодку.
— Ты тоже все хочешь подвиги совершать! Я тебе покажу подвиги! Хватит тебе!
Караван лодок с воинами, так бесславно закончившими войну, отправляется в обратный путь. Удога садится в оморочку и поворачивает в другую сторону.
— Куда ты? — кричит брату с кормы последней лодки Чумбока.
— Я догоню вас!
Чумбока смотрит то на убитого отца, то вслед брату…
Удога вдруг быстро заработал веслами, словно убегал от нечистой силы. Он помчался по извилинам протоки.
Вокруг высокая трава. Удога вылез и привязал оморочку. Он пополз и лег над обрывом, чтобы смотреть из травы через протоку на деревню Мылки. Вся деревня как на ладони. Там на отмелях теперь много лодок. Люди ходят. У амбара Денгура ругается со своей старухой.
Прямо против Удоги — дом Локке. И вдруг с берестяным ведром выходит Дюбака. Она идет на берег, набирает воду.
Она не видит Удогу. Он что-то кричит ей, потом вскакивает, сам не понимая, что делает.
Дюбака уронила ведро.
Удога кинулся к оморочке, перетащил ее через остров, прыгнул в нее и помчался к Дюбаке.
— Погоди! Погоди! — кричит он.
Она хотела идти, подняла ведра. В это время Удога пристал к берегу.
Дюбака поставила ведро и начала плакать Удога тронул ее плечо. Она не оттолкнула его руку.
Подошел Денгура.
— Парень, откуда ты явился?
— Я?
— Да.
— Я всегда тут живу… Вон там… Ну, на протоке.
— Ты? А ты не Самар?
— Я? Нет.
— Чей же ты?
— Я?
— Э-э! Да я тебя знаю. Тебе мало, что ты наделал? Ты что, хочешь всех нас погубить? Зачем ты сюда явился?
Удога схватил нож, но Дюбака закрыла старика.
— Это мой дядя!
Удога повесил голову.
— А ты знаешь, что случилось с маньчжуром? — вдруг со страхом спрашивает Денгура, словно он был парень, а Удога разумный старик.
— Нет.
— Говорят, ты ему живот поцарапал… Не слыхал?
— Ну, какие пустяки! — вдруг ответил Удога с важностью. — Можно будет дать выкуп!
— Дядя! — врывается в разговор Дюбака. — Он очень хороший охотник и за все может заплатить. Разве ты не знаешь, что это сын Ла?
— Э-э! — поражается Денгура.
Он смотрит на Удогу, потом на смутившуюся Любеку.
— Послушай, парень, а ведь это умно придумано! Надо бы мириться и платить выкупы. А то с разбойниками дела плохи. Ты думаешь, я за Дыгена? Ничего подобного! Я просто знаю их, и я умней вас… Не хочу ссориться с такими негодяями…
В доме у Денгуры собрались старики. Раненый дед стонал в углу. Здоровый маньчжур, товарищ раненого, сидел за коротконогим столиком и пил водку. Его фитильное ружье стояло у входа, внушая спокойствие собравшимся.
Тощее скуластое лицо Денгуры вспотело от натуги и раскраснелось.
— Надо мириться с Самарами, — орал он. — Раненому дадим соболей, чтобы молчал и не жаловался на нас. Заплатим ему и Сибуну, чтобы не рассказали Дыгену. Если Дыген узнает, что его спутник ездил в Мылки и тут ему пропороли брюхо, — всю нашу деревню ограбит. А с ондинскими судиться надо; пожалуй, мы с них за мертвого и за раненых хороший барыш возьмем; позовем занги,[30] пусть разберет, кто виноват… Самарам лучше теперь пойти с повинной, чем такая беда. Мы их припугнем. Знаю, что сказать надо.
Старики согласились со старостой, что надо где-нибудь отыскать бежавших Самаров и склонить их на мировую.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГАО ЦЗО ПЛАЧЕТ
Под покровом начавшегося дождя лодки Самаров вышли из-за островов и пустились, вниз по течению. Белесая муть застлала реку, и берегов не было видно.
Паруса, весла, шесты — все было пущено в ход. Ондинцы не верили Удоге и полагали, что он убил одного из спутников Дыгена. Они стремились скорей добраться домой, чтобы там одуматься и решить, что же делать дальше, чем задобрить Дыгена, как помочь Удоге, которому по их предположениям грозила смерть. Удога на оморочке догнал своих, но не посмел сказать, где был.
…К вечеру почерневшие от ливня лодки вошли в ондинскую протоку. Дождь стихал. Ветер разгонял по широкой воде огромные желтые волны, кидая их на пески, и ударял ими под обрывы, в корни прибрежных деревьев.
На острове летники пустовали. Население Онда, приготовляясь к похоронам Ла, перебралось на материковый берег.
Вот и родная деревенька! Глинобитные зимники, знакомый лес: огромная майма торговца с черными голыми мачтами стонет, покачиваясь у берега.
Удоге кажется, что он давно-давно уехал из Онда. Выгребая из последних сил, он поглядывает через плечо на берег, видит родной дом с рогатой крышей и на миг ясно представляет отца таким, каким он был последний раз дома перед отъездом. Жалость охватывает чувствительное сердце Удоги, и слезы выступают у него на глазах…
Мокрые собаки мчатся встречать хозяев. Псы в лодках тоже оживились, виляют мокрыми хвостами и лезут лапами на борта. Двери домов открываются, и все население Онда бежит на берег.
Удога был так измучен, что едва добрался до дому и поцеловался со старухой матерью, как силы покинули его и, повалившись на кан, он сразу же заснул.
Чумбока, раздевая его, ворочал с боку на бок, колотил под ребра и кричал, но Удога ничего не чувствовал. Старуха села у очага и долго жаловалась на что-то спящему сыну… После бессонных ночей, под шум непогоды, он проспал без малого сутки.
Очнувшись, Удога долго не мог прийти в себя. В доме было много народу. На полу на доске лежал Ла. Его красные, опухшие веки были сомкнуты. Женщины застегивали на нем голубой халат. На кане, на том месте, где всегда спал отец, лежала паня — подушечка с душой умершего.
Неприятные воспоминания охватили Удогу. Отец погиб… Удога смутно помнил, что и ему грозит какая-то беда… Он оглядел сородичей.
— Ты не бойся, — заговорил, подсаживаясь к нему, дед Падека, выпивший по случаю похорон и снова расхрабрившийся. — Мы слыхали уже, что маньчжур остался жив. Если Дыген приедет, то мы сговорились дать ему соболей. Хорошенько со стариками обсудили это дело, чтобы выручить тебя… Дыген возьмет шкурки и тебя простит. Жалко, что ли, ему простого человека? Вон Гао Цзо умный человек, он говорит: что, мол, Дыгену простого солдата жалеть? Гао Цзо нам поможет, если у нас не хватит соболей. Хороший старик! А ты не горюй, давай отца будем хоронить.
Дед поднес чашечку ханшина. Удога выпил. Водка разлилась в пустом желудке, жар охватил грудь, распространился по всему телу и, наконец, ударил в голову, приятно затуманил ее и отдалил все печали, словно окутал их облаком.
В дом вошли торговцы. Старый Гао Цзо с трясущейся головой и закрытыми глазами, оба парня и мальчик…
Удога слез с кана и поклонился им. Старик потрепал его слабыми пальцами по затылку. Он сел подле Удоги и стеганым рукавом вытирал слезы, катившиеся из закрытых глаз.
— Гао Цзо хотя и не дружил с Ла, но любил его, — сам про себя бормотал старик. — А во всем виноват Дыген-крыса.
Удога поел гороховой каши и снова выпил. Лица сородичей поплыли мимо него.
— Да-а… А у нее светлые волосы, как дикий лен… — вдруг стал он рассказывать старику торговцу про дочь Локке.
Гао Цзо плакал и поддакивал.
— Наверно, я ей понравился. Улыбалась мне, — продолжал юноша. — Все же я ее нашел.
На другой день Ла отнесли в тайгу. Среди берез стоял шалаш, распространявший зловоние. В шалаше на земле лежали мертвые Самары. Среди костей виднелось оружие и украшения.
Ла положили подле умерших сородичей.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СУД
Отоспавшись и отдохнув, Удога рассказал о своем разговоре с Денгурой. Злобы к мылкинским Самары теперь не испытывали. Перед опасностью, грозившей им от маньчжуров, все старые обиды, нанесенные им родом Бельды, казались ничтожными и забылись.
— Стоило из-за чего ссориться, — тараторил Падека, — из-за речки! Можно было уговориться, а мы подрались! Сговорились бы и разошлись. В тайге места много.
Дед в тайниках души во всех происшедших событиях винил заносчивого торгаша Денгуру. Это он, чтобы доказать, что имеет право на любой речке охотиться и чтобы меха взять с Самаров, втянул всех сородичей в напрасную ссору… Какой старик! Вроде медведя!
Все Самары хотели мириться с Бельды. За рану солдату решено было заплатить столько мехов, сколько он сам потребует. Удоге старики наказали при приближении сампунки Дыгена скрыться в тайгу и не показываться.
— Пойдешь как будто на охоту… Дыген спросит: «Где тот парень?», мы скажем: «Отец у него помер, а он теперь на охоту ходит, матери мясо таскает». Куда-то, мол, пошел, оморочкой ли, пешком ли…
— Потом, если будешь на сопке сидеть, смотри на реку. Когда ребятишки поплывут на оморочках на ту сторону, будто ловить осетров, — значит, можно выходить… Придешь, кинешься Дыгену в ноги… А если на острове у летников разведем большой огонь, то, значит, тебе надо убегать дальше, к лесным людям. Я сам, когда был молодой, часто думал, что хорошо бы убежать в тайгу, но жалко родных мест, — говорил Падека.
За протокой пеклась на жарком солнце опустевшая деревня.
Разговор происходил под тальниками на ондинском острове. Время было тревожное, никому не хотелось как следует заняться делом, еще по утрам ондинцы кое-как, нехотя, ловили рыбу, чтобы не сидеть впроголодь, а остальное время дня проводили в разговорах, ожидая каких-то событий…
Когда старики кончили свои наставления и серьезные разговоры, Чумбока, как бы желая всех развеселить, затеял возню с Кальдукой Толстым. Это был рослый, громоздкий мужик, сильный, но на вид неловкий. Он только посмеивался, глядя, как Чумбока толчками, с разбегу, пытается повалить его на песок. Но как Чумбока ни старался, Толстый даже не сдвинулся с места.
Тогда Чумбока убежал в тальники и через некоторое время появился оттуда с длинными полосами молодой тальниковой коры. Он стал вязать Толстому руки, стягивая их за спину. Тот добродушно ухмылялся и не противился. Рывок — и все связки разлетелись в клочья. Толстый вдруг с ловкостью навалился спиной на Чумбоку и при громком смехе сородичей вдавил его в гущу лозняка, ломая им тонкие стволы. Чумбока прыгнул ему на спину, ухватил за вершину молодой тальник и быстро обвил его гибкий ствол вокруг могучей шеи Кальдуки Толстого. Тот оказался, как соболь, пойманный петлей…
— Эй, Уленда, — заговорил дед Падека, — а помнишь, мы, перед тем как ехать в Мылки, сидели на этом же месте? Я чего-то еще рассказывал? Вот беда, ведь я тогда не досказал… А о чем я говорил, уже забыл…
Но никто не помнил рассказа Падеки. Дед болтливый, не упомнишь, что говорит.
— Вспомнил, вспомнил! — ударил себя ладонью по лбу Падека.
Удога, с горя было задремавший, проснулся.
— Ведь я про гиляка рассказывал… как на море-то мы ходили, обрадовался дед, и вокруг глаз его собрались морщинки. — Ну так вот, нараспев завел рассказ дед, и его темная рука потянулась к берестяной коробке с табаком. — Наладили мы балаган.
Вдруг старик поперхнулся и умолк.
Из-под ивняков вынырнула деревянная оморочка. В ней сидел знакомый ондинцам человек — Хуфя из рода Онинка; он жил за Мылками, на острове. Легко ударяя веселком, Хуфя завернул лодку носом вверх и, ухватившись рукой за кусты, остановился около сидевших на берегу.
— Батьго фу-у-у…
— Батьго…
Хуфя вылез на берег. Он был маленького роста, но толстый и важный. У него была лысая голова и мясистые одутловатые щеки.
Хуфя приехал от мылкинских с предложением мириться и звать занги для разбора дела.
Ондинцы с почетом повели его в летник Падеки. Хозяин набил и раскурил ему трубку. Начался деловой разговор.
— Вы у них старика убили, — сообщил Хуфя про потери мылкинцев, — да парня чуть не убили, он лежит больной, старика, дядю Денгуры, зашибли, всего восемь человек ранили… Все же вы им лишних бед много причинили… Вам бы на суд согласиться надо, а то они скажут Дыгену, что вы маньчжура чуть не убили. Тогда вам будет…
Хуфя не договорил, что будет, но и так всем было понятно, что будет плохо.
— А раненому маньчжуру мылкинские заплатили от себя соболями, чтобы он молчал. И его товарищу дали рысь, выдру и уряднику дали соболей. Бельды не хотят, чтобы Дыген порубил вам головы.
* * *
Молодой месяц, как серебряный лук, висел над тайгой в багровом тумане. На песках у Онда чернели груды чужих перевернутых лодок.
В доме Уленды заканчивался суд между Онда и Мылками. Уже выговорились краснобаи с обеих сторон. Судья Пага из деревни Хунгари, приглашенный для разбора дела, сидя перед божками, приговаривал:
— Между Онда и Мылкой устанавливается вечный мир. Локке убил Ла, но сын Ла убил Локке. Поэтому семьи их в расчете. Чтобы примирить обе крови и воспроизвести подобия погибших, Пага велел Удоге сватать у горбатой вдовы Локке ее дочь Дюбаку.
Удогу бросило в жар от счастья. Сердце его рвалось из груди… «Какой умный занги! Только бы старуха согласилась, я бы отвез ей все богатства, какие есть у нас в амбаре. Теперь я сам хозяин».
Провинившихся ондинцев Пага приговорил платить залоги и штрафы. Котлы, оружие, шелка, халаты должны были вознаградить мылкинцев за их раны.
Деда Падеку, самого отчаянного из Самаров, обирали дочиста. Он оставался без одежды и даже без печного котла.
— Говорил я, храбрым-то плохо быть, а ты хвастался: мол, никого не боюсь, подвиги, хвастался, делаю, — корил его Уленда.
Удоге тоже назначено было наказание. Он ранил Писотьку и должен был послать ему за это ватный халат, шелковый халат, белую баранью шубу и слиток серебра.
— Ну, ватный халат дешево стоит, — утешал Денгура парня. — Ватный халат отдай Писотьке… А белую баранью шубу мне отдай. Я тебе всегда буду помогать… А Писотьке и так ладно. Он не староста, и так проходит.
Раненому маньчжуру Денгура дал пяток соболей, и этот долг тоже ложился на Удогу. Шаман лечил маньчжура, и Удоге следовало послать чего-нибудь и шаману.
— Еще одну шубу купи и отдай ему, — советовал Денгура. — Нужный человек. Всегда пригодится!
Сибун, по словам Денгуры, надавал раненому маньчжуру зуботычин, чтобы тот держал язык на привязи. За это Денгура дал Сибуну мехов. Самары должны были отдать столько же мехов Денгуре.
Пага вышел из дому. Он разломил осиновую трость и кинул концы ее на восход и на запад. Спор был разрешен, узел разрублен, палка сломана, суд окончился.
Приговор вошел в силу.
* * *
— Не горюйте, дети, — утешала сыновей старая Ойга. — Залоги можно отдать старыми вещами, а мехами заплатим за раненого и шаману. В амбаре висит пятнадцать отцовских соболей, две выдры, рысь… отдашь пять соболей Денгуре — хватит ему, старому псу, — а на остальное возьмешь новые вещи у торговца.
— А где торо возьму девку сватать? Меха пойдут на свадебные угощения и на подарки невесте! — воскликнул Удога. — Наверно, придется мне пойти к торгашу и взять у него в долг шубы, шелка и араки…
— Отец никогда не брал в долг, — рассердилась Ойга, — и тебе не велел. Не смей ходить к торговцам и просить в долг! Как-нибудь обойдемся, лучше обождать со свадьбой год-другой.
— Замолчи! — перебил ее Удога. — Не хочу твои речи слушать! Я хозяин в доме, я старший и буду делать, как захочу.
Ради невесты он согласен на что угодно.
— Пага велел жениться, и я должен послушаться… Все у Гао в долгу, и никто не жалуется. Я тоже к нему пойду. Чем я лучше других? От дерева родился, деревом и буду…
Чумбока пытался спорить с братом, но тот разгорячился и пригрозил поколотить его, если он будет соваться не в свое дело. Однако наутро Удога не пошел в лавку. Он вспомнил, что в Онда обещал заехать иноземец, тот самый, у которого длинный нос… «Наверно, скоро кончится торговля к гьяссу, — предполагал парень, — и он приедет к нам. Подожду — может быть, он даст мне подарки и не надо будет идти к Гао Цзо». Удога уверен был, что тот пришелец шаман или торговец, иначе зачем бы ему понадобилось ехать по деревням.
— Не слыхал ли ты, — спросил он у деда Падеки, — не плывет ли сверху длинноносый с товарами? Тот, про которого я рассказывал, когда из гьяссу приехал. Он обещал мне подарки.
— Говорят, что трое каких-то приезжих живут второй день в Ченках, сказал дед. — Люди очень недовольны ими.
— А что?
— Врут много, плохие люди. Всех обманывают. Про себя говорят, что от Андури посланы! Кто поверит! На злых духов похожи.
— Все же подожду их, они заедут к нам. Может быть, мне будет какая-нибудь выгода. Сам на них посмотрю.
Удога помнил встречу с длинноносым. Тот не походил на злого духа. Он был ласков с Удогой, обещал ему подарки.
* * *
Своей лавки в Онда у Гао Цзо не было. Он, приезжая, останавливался в просторном доме Вангба, где хватало места и хозяевам, и купцам, и десятку работников. Сам Вангба летом жил с семьей на рыбалке, а зимой уходил охотиться, так что торговцы большую часть года оставались полными хозяевами. Зимой они жили с его семьей.
Вангба и Гао Цзо познакомились несколько лет тому назад. Торговец зимами ездил на собаках в низовья и там торговал вразвоз. Однажды он остановился в Онда у Вангба. Гольд ему понравился. И с тех пор торговец ежегодно останавливался у него.
Сыновья уговаривали торговца строить свою лавку, но Гао Цзо не соглашался. Он не хотел; чтобы она мозолила глаза Дыгену.
Каждый год в Онда из Сан-Сина приплывала майма. Товары выгружались и развозились на лодках по деревушкам, где Гао Цзо у знакомых имел такие же склады, как и в Онда. И поэтому, если бы Дыген вздумал где-нибудь захватить товары Гао Цзо, он взял бы лишь ничтожную часть их. Сама майма шла на слом. От тяжелого судна вскоре не оставалось никаких признаков. Гольды растаскивали доски.
Гао Цзо и Вангба жили дружно. Гольд отдавал торговцу все меха, добытые им в тайге, и тот не вел с ним никаких счетов и позволял даром брать все, что ему было нужно, и даже сам заботился о хозяйстве Вангба и привозил ему из Сан-Сина посуду, котлы, оружие. Вангба от природы был полон достоинства. Он не заискивал перед торгашом и не ссорился с ним.
Он пользовался его вещами, как своими, но лишнего никогда не брал.
Под старость он стал промышлять хуже, охотничья удача изменила ему, но Вангба так и не знал бедности. Понемногу он заленился и превратился в своем же доме в приживальщика. Хитрый торгаш не попрекал его. Он продолжал кормить и одевать Вангба и всю его семью по-прежнему.
Исходом суда Гао Цзо в душе был доволен. «Вот когда наконец я дождался! — думал старый торгаш. — Я с весны этого суда ждал…»
Лавку Гао осаждали покупатели. Все просили дать им водки, халаты, чтобы платить залоги и угощать мылкинских.
Гао Цзо, сидя на красном коврике, приказывал выдавать гольдам вещи. Старший сын записывал новые долги в большую черную книгу.
Еще перед судом, когда палка не была сломана, Гао говорил мылкинским:
— Побольше требуйте хороших вещей. Редкий случай! Можно хорошими вещами раздобыться. — Он расписывал, какие халаты, шубы, куртки, шелка есть в лавке. Гао пообещал судье подарки за то, что тот назначит Самарам большие штрафы.
Ондинцам следовало не скупиться, показать гостям свой достаток, и каждый набирал побольше круп и водки, нимало не заботясь, что когда-то придется расплачиваться. Зима была далеко, а сейчас никто, кроме Гао Цзо, не знал, во что обойдутся Самарам угощения.
…Вечером старики Бельды и Самары, истомившись от зноя, залезли в тальники. Разговор шел о сватовстве. Дед Падека сказал, что он сам поедет упрашивать вдову Локке отдать дочь за Удогу. Старики Бельды стали предлагать невест для Кальдуки Маленького и Чумбоки.
Денгура навязал для сына Уленды по дешевке свою племянницу, толстую молодую вдову Майогу. Ее мужа недавно увезли в Буни, и она снова стала невестой…
— Еще совсем молодая… Толстая, жирная, — хвалил ее Денгура.
— Она хоть и не девка, — уговаривали Кальдуку пьяные седые сваты, выбравшись на закате из кустов, — но это не беда, отец возьмет ее для тебя чуть не даром… Ты не стыдись, когда-нибудь разбогатеешь, купишь себе молоденькую…
Чумбока наотрез отказался от мылкинских невест.
— Сватай себе, если хочешь, а мне таких не надо… — сказал он деду Падеке. — Зачем мне маньчжуров жены…
Он подумал, что теперь, когда заключен мир и брату уже не грозит опасность, можно бы поехать на охоту в верховья Горюна, там как бы случайно забрести в Кондон, к дядюшке Дохсо… Надо бы повидать толстушку Одаку… Чумбока не мог забыть ее черные глазки и щечки, пухленькие, как паровые пампушки…
— Поеду на Горюн! — решил Чумбока. Он повеселел, стал шутить с гостями.
— Нет, не езди на Горюн, — сказал Удога брату, — подожди моей свадьбы.
На другой день мылкинские поплыли домой. Удога на прощание отдал Денгуре пять соболей, Писотьке отправил шубу и халаты, а шаману послал слиток серебра и черепаху.
С долгами было покончено.
Вместе с мылкинскими поплыли дед Падека и Хогота, чтобы высватать Удоге невесту. Они должны были уговориться со старухой, сколько надо будет заплатить ей за девку.
— Дорого не давайте, — просила их Ойга. — Какие нынче девки!
Удоге следовало готовить торо — выкуп за невесту. Хотя он и накричал на мать и сказал ей, что возьмет вещи для уплаты за невесту в долг, но ему все же совестно было переступить отцовский завет. Он не шел к Гао Цзо и все еще надеялся, что, может, как-нибудь дело обойдется без лавочника.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЛОДКА НА МАНГМУ
Дыген вышел на берег провожать миссионеров и даже помог де Брельи сесть в лодку. Он прощался с ними, как с самыми дорогими друзьями.
Ветер наполнил парус. Слуга Чун, предоставленный в услужение миссионерам, был на месте. Только проводники гольды, отец и сын, нанятые Чуном в гьяссу, почему-то не явились в условленное место. Миссионеры продолжали свой путь без провожатых.
Итак, Ренье плыл к морю. За дорогу он похудел. Его шея уже не была тугой и красной. Жирок, который он нарастил за три года жизни на китайских хлебах в Пекине, сошел. Молодой иезуит стал снова таким же стройным, каким приехал после обучения из Ватикана.
Путь вниз по Амуру был для Пьера сплошным страданием. Жара, дожди, гнус, ветры, вши в одежде, расчесы на коже не давали покоя. За последнее время, казалось Пьеру, что-то надломилось в его душе. Он уже не был таким уверенным в себе и в своих целях, как раньше.
Дым костров, отгонявший гнуса, ел ему глаза. Веки покраснели и опухли. Глаза болели и слезились, так что вечерами Пьер долго не мог уснуть. Теперь он понимал, почему среди здешних жителей так много слепых, кривых и страдающих болезнями глаз.
Безделье расслабляло его. Целыми днями он, не двигаясь, сидел в лодке. Мутная река, по-азиатски желтая и большая, казалась ему огромным стоком грязи со всей страны тунгусов. Ветер, чахлые тальниковые рощи, низкие острова, протоки, лачуги гольдов — все это было убого и печально.
Когда ветер, перебрасывая парус со стороны на сторону, ударял Пьера перекладиной по голове, ему стоило усилий пересесть на другое место.
А старик не унывал.
«Де Брельи дорвался до дикарей», — думал Пьер. Старик действовал энергично. Когда останавливались в деревнях, он проповедовал, лечил, крестил, истово молился. Он стойко переносил все лишения и довольствовался скудной пищей. Он мог есть сырую рыбу и юколу, спал в мокрой одежде на мокрой траве и даже к комарам, казалось, был безразличен. Они не кусали его так жестоко, как Пьера.
Однажды в полдень миссионеры остановились на обед около деревни Чучи, которая лежала ниже стойбища Онда, на другой стороне реки.
Собрались гольды. Чумбока, которому брат не позволил ехать на Горюн, был в Чучах у соседей. Чумбока узнал, что в ту деревню приехал с товарищем гиляк Позь, старый его знакомец. Люди говорили, что поездка Позя к маньчжурам была неудачной и он на них очень зол. Вместе с другими Чумбока явился посмотреть на длинноносых.
Миссионеры отобедали. Они сидели с местными жителями у догорающего костра.
— Вы не русские? — спрашивали гольды.
На этот вопрос старик всегда решительно отвечал, что они не русские, а посланцы свыше, служители бога.
— А маньчжуры боятся русских! — говорили гольды.
Пьеру было неприятно, что на Амуре среди туземцев живут русские. Чем ниже спускался он по реке, тем очевидней было, что тут есть русское влияние.
Де Брельи стал грозить гольдам, что у них тело покроется гнойными язвами, если они купят русские одежды. Он рассказывал разные небылицы про русских, называя их чертями, говорил, что они едят детей и выпускают изо рта заразные болезни.
Оба миссионера говорили, что маньчжуры лучше русских.
«Это выгодно для нас», — полагал Ренье.
— Именем маньчжуров мы сбережем этот край от русских, — не раз говорил он старику.
Де Брельи, в рыбокожем халате, с косой, сидел, поджав ноги, и разговаривал, повизгивая, чтобы, как ему казалось, походить на азиата. Он объяснял, что бог велел всем страдать, и кто страдает, будет счастлив.
«Разве правда, что те, кто русскую одежду носят, умирают? — подумал Чумбока. — Совсем не правда. Алешка нам рубаху дал — еще и сейчас ее носим. Русские привозят топоры, железо. А какое хорошее ружье сменял отцу Алешка!»
— Ты не в своей одежде ходишь! — заметил миссионеру Позь, сидевший здесь же.
Он возвращался с товарищем в свою землю.
— Таких людей, как ты, мы знаем. Такие люди ходят на кораблях около нашего морского берега, и на берег выходят. Они так одеты. И без косы ходят. А ты зачем так оделся?
Гиляки, оба в нерпичьих юбках, с большими ножами русской работы, смотрели на приезжих с подозрением.
Оба гиляка жили на берегу моря. В землях гиляков нередки были случаи, когда заезжих купцов убивали за обманы.
Гиляки народ смелый, привыкший к морю и путешествиям, видавший и японцев, и европейских китобоев, и русских соседей.
Не зная всего этого, миссионеры действовали и с ними точно так же, как с робкими и доверчивыми гольдами.
— Так ты говоришь, что нам надо страдать и все отдать маньчжурам? — приставал к Пьеру младший гиляк.
— Да.
— И когда меня по роже ударят, чтобы я еще раз подставил ее, чтобы с другой стороны тоже ударили, так? Чтобы поровну было? Это я уже слыхал…
— А ты зачем обманываешь людей? — схватил миссионера за грудь Позь. Зачем это нам слушаться маньчжуров? Откуда ты приехал?
— Ты что?! — крикнул иезуит.
— Я нивх Позь! — поднялся гиляк во весь рост.
Гольды дружно кинулись на гиляка.
— Не смей гостя нашего трогать!
Позь со злостью вырвался, Чумбока удержал его руку. Он хотел ударить.
Ренье схватил кастрюльку из-под соуса и тоже замахнулся.
— Бейте его! — в отчаянье закричал он гольдам.
Де Брельи поднялся, держа в руке палку. Слуга миссионера Чун и гольды уговаривали гиляков не ссориться.
— Я помню твоего отца, — сказал Позь, обращаясь к Чумбоке.
— И что случилось с тобой там, в стране маньчжур? — спросил Чумбока. Почему ты такой сердитый?
— Я никогда не жалуюсь, что бы со мной ни случилось, — ответил Позь.
— На этот раз мы неудачно закончили проповедь, — пробормотал Ренье. Кажется, чем ниже по реке, тем распущенней и свирепей туземцы…
— Ничего, они еще покаются, — ответил старик. — Мы уймем их, настанет время.
Миссионеры не решились оставаться в Чучах на ночлег. Солнце стояло высоко, и, как только гольды разошлись, миссионеры сели в лодку и отъехали.
…Хлопал квадратный парус, волны всплескивались перед лодкой, словно могучие невидимые руки ударяли по воде бревном у самого ее носа. Чун, сидя на корме, правил лодкой. Де Брельи разглядывал в подзорную трубу отдаленную деревню.
Низко над бушующей рекой носились стрижи. Накатит плещущий вал, стрижи метнутся вверх, а через миг опять уже играют, как бы дразнят волны, подлетая к самым пенистым гребням. Волны разбиваются о борта, как паром обдавая лодку водяной пылью, подбрасывая ее, и вдруг глухо, с силой бьются о кедровую плаху днища.
Высоко в воздухе парит коршун-рыболов. Налетит порыв ветра — он вздрогнет, взмахнет раз-другой крыльями, скользнет полукругом вниз.
Де Брельи, со своим огромным носом и с покатой лысой головой, был тверд, упрям, устремлен, и Пьеру казалось, что он начинает ненавидеть своего спутника.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ДАЙ САМАНИ
Последние дни раздумья о своей судьбе печалили Удогу. Сваты не возвращались из Мылок, и он беспокоился, достанется ли ему Дюбака… Чтобы люди не видели его тоскующим, он часто брал сетку, острогу и уплывал к устьям горных речек — рыбачил там в одиночестве по нескольку дней.
После полудня, когда Удога возвращался в Онда, стояла духота и нестерпимый жар.
Налетел ветер, вода зарябилась, словно в нее с силой бросали горстями песок. За сопкой прокатился гром. Из-за леса появились низкие розоватые облака.
Удога проплывал под берегом шаманского острова.
Облака, выплывая из-за гор, закрыли солнце. Мангму потемнел и нахмурился; исчезла его сияющая серебристая голубизна. По его простору побежали седые лохматые волны. Вода помутнела, пенистые валы наперебой ударялись в глинистый берег острова и откатывались грязными потоками.
Оморочка запрыгала на волнах. Плыть дальше было опасно, но Удога не хотел приставать к острову. Тут за тальниками жил могущественный шаман Дай Самани — Великий шаман — так называли старого Бичингу. Удога его с детства побаивался и лишний раз встречаться с ним не хотел. Он даже никогда не вылезал на этот шаманский остров, и если случалось ему плыть мимо, то старался миновать его поскорей.
Но волны двигались во всю ширь реки и, угрожая оморочке, теснили ее к берегу. Удога попытался выбраться из-под обрыва и взял направление на ближайший лесистый мыс. Едва он отплыл от острова, как ветер рванул ему навстречу со страшной силой.
Река зловеще загудела. По небу быстро поплыли гряды серых облаков. Волна залила оморочку, и Удога оказался в воде. На его счастье, все это произошло на мелком месте. Он вытащил оморочку на остров и сам забрался в кусты. Дождь налетел с холодным вихрем.
Ветер разметал тальники и заволновал глубокие луга вейника. Удога перевернул свою берестяную лодочку и залез под нее. Ветер бушевал на острове. В лесу на бугре что-то трещало и рушилось. Град редкой дробью пробарабанил по бересте, и вдруг ливень хлынул сплошным потоком. Холодная вода, стекая с косогора, полилась под оморочку. Удога лежал в студеном ручье, но терпел и не шевелился. Когда гром ударил прямо над его головой, словно Андури метил в Удогу, он не выдержал, выскочил из-под оморочки и вихрем помчался к низкому зимнику шамана, черневшему меж тальников.
Ветер подхватил его перевернутую оморочку и поволок ее кубарем по лугу, приподнял над землей и с силой швырнул в кустарники.
С неба грянул тройной удар, молния обожгла реку, в каменном обрыве сопки блеснула огненная трещина. Молния метнулась в волны, река закипела, рокот плещущихся волн заглушал шум ливня…
Град сбивал листья с деревьев, валил высокую траву, бил Удогу по плечам и по голове. Земля серела, на помятом лугу повсюду кучками скатывались градины, лед холодил босые ступни. Ветер пригибал тальники, а потом вдруг отпускал их, и они больно хлестали Удогу по голым ногам.
В косом ливне промелькнули черепа медведей на палках и деревянные идолы с мечами на башках… Удога обежал низенькую полузанесенную песком домушку. Дверь была приперта колом — шамана не было дома. Удога вырвал кол и заскочил в дверь.
Издалека снова покатился гром, он грохотал все громче и громче, словно по небу катились бревна, потом на миг затих и вдруг грянул над юртой. Через дверь Удога видел, как ломаная молния начисто ссекла рогатый кедр на бугре. Пламя полыхнуло над островом… Удога захлопнул дверь и, усевшись на кане, стал молиться деревянным божкам, наставленным вдоль стены напротив входа. Чтобы не слышать и не видеть бури, он заткнул уши и закрыл глаза. Шум ливня стал поглуше. Изредка где-то близко прокатывался гром, и каждый раз сердце Удоги замирало от страха.
К ночи, когда гроза стихла, он слез с кана и выглянул наружу. Ветер бушевал с прежней силой, но дождя не было. Река мятежно билась о берега. Черные, седобородые волны лезли на остров, к избушке шамана. Вдали сверкала молния, освещая уходящую низкую тучу. При каждой вспышке ясно, как в солнечный день, над тучей виднелось белое кучевое облако, похожее на высокую остроголовую снежную сопку.
Плыть на оморочке в такую погоду нечего было и думать. Удога разжег в очаге огонь, разделся и стал сушить одежду. Пламя осветило жилище шамана: шубы и халаты на стенах, пучки трав, сушеных ершей, чучела кукушек и разных животных… На перекладине висел бубен, рядом — пояс с побрякушками и шаманские шапки разных видов: с рогами, с хвостами… Удога толком не знал назначения всех этих шапок.
В полночь Удога проснулся от громкого разговора. Он не стал подниматься и, лежа на кане лицом к стене, прислушивался. Несколько человек разговаривали сразу, и речь их была какая-то непонятная.
Трещал огонь. Пламя горело очень ярко, и, видимо, языки его прорывались около стенок котла, потому что на стене то и дело появлялись красные отблески.
Как будто во сне, Удога застонал, перевернулся, прилег ничком и стал искоса подглядывать за разговаривающими. На кане, вокруг маленького столика, сидели трое маньчжуров и шаман. Удога видел его в последний раз в прошлом году. На обоих глазах шамана были бельма.
Один из маньчжуров, сидевший лицом к Удоге, был Сибун — помощник Дыгена. Двое других — простые разбойники, солдаты, как они сами себя любили называть.
«Что за дело у них к Бичинге?..»
Удога разобрал, что они требуют от шамана, чтобы он убил каких-то трех людей, плывущих на лодке где-то неподалеку. Бичинга стал отговариваться, что он не может этого сделать, что он стар и духи его не послушают, не пойдут на такое дело…
Старик Сибун пригрозил шаману и провел рукой вокруг шеи. Удога насторожился… Шаман тихо отвечал, что не боится умереть. Тогда маньчжур, сидевший к Удоге спиной, плюнул Бичинге в лицо.
— Если не поедешь за нами, в реке утопим тебя сегодня же. Дыген так велел, — сказал Сибун. — Отвезем на середину реки и посадим с камнем под воду.
Бичинга утер плевок и что-то заговорил, указывая на угол, где спал Удога. Маньчжуры посмотрели туда, и Удога с ужасом узнал в одном из них того самого усатого разбойника, которому он пропорол в Мылках брюхо… Парень поспешно зажмурился.
Кто-то приблизился к нему со свечой.
— Нет, этот парень спит, — услыхал он над собой голос маньчжура.
— Ну, так отвечай, — говорили маньчжуры шаману.
— Сами бы их убивали… Чего лезете к старику… — ворчал тот.
— Нам нельзя… Ты сам тоже не убивай, только подучи других. Народ всюду недоволен ими, и это легко будет сделать. Тебе поверят, и люди сами их убьют.
Парень лежал ни жив ни мертв. Теперь он понял, каких людей хотят убить маньчжуры. Он обдумывал, как бы ему поскорей убраться из этого шаманского дома… Этот шаман сам черт…
Шаман вдруг неприятно засмеялся и несколько раз повторил слово «хотонгони». Удогу мороз подрал по коже. Он слыхал от отца, что такое хотонгони… Это черт в виде огненного черепа. Однажды Бичинга выгнал «амба хотонгони» из больного человека рода Онинка. Череп прыгал в темноте и ударялся в стены, рассыпая искры… Бичинга все может, недаром он Дай Самани, Великий шаман! Пошлет «амба хотонгони» на длинноносых.
— Сам знаю, что делать! — вдруг с обидой в голосе промолвил Бичинга. А Дыген пусть пришлет табак и серебра… Тряпок мне не надо. Не девка!
«Так вот каков, оказывается, наш шаман. Ну, погоди, собачья душа!» подумал Удога.
Маньчжуры стали смеяться над Бичингой, что он врун и обманывает людей. Тогда Бичинга рассердился и заходил по дому. Он взял бубен и несколько раз ударил в него, призывая какого-то духа. Стало темно. Раздался звон колокольцев.
Вдруг маньчжуры громко закричали: видно, им представилось что-то страшное. Удога зарылся с головой в тряпки. Колдун тихо засмеялся.
Потом на кане снова пили водку. Бичинга пытался разбудить Удогу, чтобы и его угостить, но парень делал вид, что спит крепко.
— Как устал, бедный!.. Это знакомый, из соседней деревни, — говорил шаман своим гостям.
Вскоре все легли спать, но Удога не сомкнул глаз до рассвета. Под утро ветер утих. Удога вышел из зимника, отыскал в кустах свою оморочку, вылил из нее воду и поспешно поплыл домой.
Чумбока, узнав от брата, что готовится убийство чужеземцев, встрепенулся.
— Я их видел. И я видел Позя. Я с соседями ездил позавчера слушать рассказы этих чужеземцев.
— Сибун шаману сказал, что люди недовольны им.
— Какой хитрец и обманщик наш шаман! — воскликнул Чумбока. — Дыген хочет втайне людей убивать, чтобы никто на него не подумал, а Бичинга скажет, что это духи приказали ему. Но почему длинноносые велят слушаться маньчжуров, а те хотят убить их?
Дело было страшное и таинственное. Чумбока и Удога решили плыть вниз по реке и все открыть чужеземцам.
— Длинноносые купцы, наверно, обрадуются, когда скажем им. Хорошо будет, если подарят нам дорогие вещи для торо, — вслух мечтал Удога. Тогда к китайцам не пойдем, не попросим у них ни шубы, ни шелков…
В тот же день братья отправились вниз по реке на двух берестяных оморочках. С собой взяли сети и трехзубые железные остроги, чтобы люди думали, будто они поплыли на рыбалку.
Сваты еще не возвращались, но Ойга ждала их все время. Удога надеялся, что, воротясь домой, он встретится с дедом Падекой и узнает, соглашается ли горбатая старуха отдать девушку в Онда, как приговорил занги.
По дороге Удога и Чумбока расспрашивали о двух длинноносых. Они проезжали недавно, и многие видели их. На второй день, к вечеру, братья добрались до большой гиляцкой деревни на правом берегу. По словам местных жителей, трое путешественников остановились вчера после полудня на мысу ниже их деревни. Они разбили там палатку и собирают народ для разговоров. Но сегодня около их палатки нет никого. Все жители возвратились в деревню, потому что приехал великий шаман Бичинга.
— Шаман уже здесь! — удивился Удога. У него опустились руки, и он признался брату, что не решается плыть дальше. — Бичинга, если увидит нас, чего-нибудь сделает…
— Слепой, а все увидит, — подтвердит Чумбока. — Хоть под тем берегом пойдем — все учует…
— Сразу догадается, зачем мы вниз пошли.
Плыть мимо деревни опасно. Парни были суеверны, они трусили, вытащили лодки на берег и пошли к гилякам.
«Шаман этот обманщик и вредный человек, — думал Удога, — но я слабей его, и я его боюсь».
Но и уплыть обратно Удога тоже не хотел. Обидно было отступать так сразу только потому, что шаман его опередил…
«Посмотрю, что будет за ночь, а там уж чего-нибудь придумаю. Тоже жалко, если убьют того высокого.
Он добр был ко мне в гьяссу. Обещал заехать в Онда, да, жалко, мимо проплыл, наверно, нашу протоку не видал и ошибся. А ведь он хотел в Онда приехать…»
Удога еще не терял надежды предупредить длинноносых, что их ожидает беда. Теперь уж он не думал о выгодной торговле, а лишь хотел спасти их.
«Как-нибудь, может, сумею пробраться на мыс и увижу их… Нельзя, чтобы их убили. Как же можно так — ни за что убить людей? Если они врут, так и другие тоже врут. Шаман Бичинга еще больше врет, и Дыген врет… У-у, черти! Если бы не Бичинга! Слепой, а как быстро приехал!»
— А Позя тут нет? — спрашивал стариков Удога.
— Он был и уехал, — отвечали ему.
Шаман приплыл в гиляцкую деревню в одиночестве на оморочке. Бичинга по дороге расспросил жителей тех стойбищ, где побывали миссионеры, о чем они ведут беседы с народом. Он узнал между прочим, что старый иноземец угрожает людям страшными карами — мором, язвами и болезнями, — если они не станут молиться медному божку с распростертыми на кресте руками.
Бичинга слыхал, что эти люди служители своего бога, шаманы рыжих. Разведав, что они делают и что говорят, он был убежден в своем превосходстве над ними. Чем они показали людям свою силу над духами? Сотворили они чудо? Удивили чем-нибудь народ, чтобы о них говорили как о великих шаманах? Повергли людей в страх? Нет, они только рассказывают о страданиях своего бога.
«Разве это шаманы? — с презрением думал о миссионерах Бичинга. — Могут ли они вызвать Сенче или огненный череп? Поверят им люди? Нет, они никуда не годятся… Разве тем показывают свою власть над душами людей, что обещают наслать мор и болезни? Этим теперь никого не испугаешь… Вот старик Бичинга покажет, как надо шаманить. Он заставит увидеть такое, что гиляки всю жизнь будут помнить».
Встречаться с миссионерами Бичинга не собирался. Он надеялся, что все обойдется само по себе. Он знал: повсюду, где были длинноносые, люди недовольны ими. Все думают: не черти ли они?
Бичинга знал по опыту, что когда бы и куда бы он ни приезжал, к нему всегда с разными просьбами шли люди. То надо было выгнать черта из столбов дома, то черт сидел в больном человеке, то летающие люди появлялись у деревни и мешали охотникам, то Кальгама наплодил боженят и они, балуясь, гоняли рыбу из неводов. Бичинге всегда находилось дело…
Появление оморочки со знаменитым шаманом вызвало переполох в деревне. Шамана встретили низкими поклонами, под руки повели в дом, угощали водкой, раскуривали ему трубку и оказывали почести.
Когда Бичинга хорошенько отдохнул и потолковал со стариками о том о сем, его стали упрашивать пошаманить. Причин для этого нашлось, как всегда, множество: рыба ловилась плохо, парень ногу сломал, баба не могла родить, зверь не шел к охотникам, люди хворали. Старики жаловались, что за последнее время вообще стало неспокойно, черти пошаливают. Тут они помянули про высоконосых шаманов, приехавших вчера, высказали предположение, что они не настоящие люди, а смахивают на чертей.
Заговорил Бичинга.
За последнее время на Мангму появилось много несчастий. Люди беднеют, хворают и гибнут, тонут, их заедают парша и болячки… Рыба повсюду ловится не так хорошо, как в старину… Соболь уходит в сопки… Поэтому он, шаман Бичинга, собрав своих помощников — добрых, светлых духов, близнецов Сенче и всех других, — отправился в странствование по деревням, чтобы отыскать причину всех бед и уничтожить ее… Мангму опять счастливым сделать хотел бы.
Шаман объявил, что сегодня он всю ночь будет камлать и узнает, не в этой ли деревне живет начало всех людских страданий. Все пришли от таких слов Бичинги в смятение. Раз шаман так говорит, значит, он что-то знает… Каждый старик боялся, не в его ли семье сыщет Бичинга причину всех бед.
Камлание происходило в обширном глинобитном доме. Хозяйской свинье налили в ухо водки, она визжала и трясла головой. Бичинга обмолвился, что это хорошев предзнаменование. Свинью шаман велел зарезать. Он подставил к ране чашку и, когда она наполнилась до краев, вышел из дома, побрызгал свиною кровью на все четыре стороны, а остаток выпил.
В доме было битком набито народу. Старики и старухи сидели на канах поближе к Бичинге, а молодежь голова к голове теснилась по стенам, оставив на полу свободное пространство, необходимое шаману для плясок.
Чумбока устроился подле очага. На почетном месте, среди стариков, он чувствовал себя неловко. Из-за их спин он время от времени поглядывал на брата. Удога сидел подле остроголового осинового идола. Братья оказались разъединенными и даже не могли перекинуться словом.
Сейчас, сидя подле Бичинги, Чумбока перестал его бояться.
«Вот если ты великий шаман и все знаешь, то отгадай, что я о тебе думаю… — твердил про себя Чумбока, придвинувшись к нему почти вплотную. Ты, собачья душа, охотишься по приказанию маньчжуров за людьми, зарабатываешь серебро и табак… Ты не шаман, а лгун и вор. Ты сейчас будешь врать, мы с Удогой про тебя все знаем».
Бичинга, казалось, погрузился в глубокую думу. Он сидел за столиком в шаманском облачении. Время от времени он вздрагивал и поеживался, как будто озяб, хотя в доме было жарко. Ему подали две бутылки водки и большую чашку. Шаман принялся торопливо пить водку. Седоусый старик протянул ему бубен. Огонь в обоих очагах закрыли; стало темно. Дверь плотно притворили и привязали веревкой к колку.
Вдруг шаман что-то закричал и ударил себя бубном по голове. Тогда хозяин надел пояс с погремушками и взял другой, собственный бубен. Приложив его к щеке, он несколько раз ударил по нему ладонью, виляя крестцом, прошелся по полу и отдал пояс и бубен другому старику… Тот тоже пошел, покачивая бедрами, пританцовывая и ударяя ладонью то в кожу, то в обруч бубна.
Бом-бом… трах-трах… — раздавалось в тишине.
Шаману подали тяжелую чугунную посудину с раскаленными углями. Отблески их озаряли в темноте его осунувшееся и поблескивавшее, потное рябое лицо… Его неподвижные, закрытые бельмами глаза, казалось, силились что-то рассмотреть. Шаман схватил в зубы горячий уголь, поднял бубен и, то мерно, то дробно ударяя по нему колотушкой, двинулся по кругу. Искры, словно из трубы на ночном ветру, летели из его огнедышащего оскаленного рта.
Зазвенели побрякушки на поясе шамана, и слышно было, как, выступая и вихляясь, он шаркает ногами по полу.
Гиляки сидели ни живы, ни мертвы. Лишь хозяин, казалось, не обращал на Бичингу никакого внимания и как ни в чем не бывало раздувал горячие угли в угольнице.
— К тебе, мама, на крыльях лечу, — замахал шаман руками, — причину всех бед чтобы нам указала… Где, как виноватого найти, скажи… Чтоб все было хорошо, сделай! Люди рыбу ловят — рыба от невода уходит. Э-э-э-э! Петлю ставят — соболь мимо бежит…
Бичинга стал перечислять все гиляцкие несчастья, поминая, что у кого из жителей этой деревни случилось. Часто забила колотушка.
Мама отослала шамана к Духу тайги… Бичинга обернулся белым и черным духом, пролетел через верхний и нижний мир… Дух тайги, оказалось, сам не знает, откуда появилось столько бед.
Шаман устал. Он выплюнул уголь и сел за столик пить водку. Старики опять нагрели хозяйский бубен и принялись танцевать по очереди. Снова закрыли огонь. Чумбоке показалось, что шаман проглотил горячий уголь. Бичинга запрыгал по полу.
— «Без головы к самому главному нашему приходи, тогда все узнаешь, он тебе всю правду скажет, — так мне ответили на этот раз. — Туда полетишь, говорят, где в скалах главный амба живет, где звери на цепях прикованы, входы в пещеру охраняют». Головы для людей не пожалею, чтобы счастье им было, голову отрежу дома, оставлю, сам без головы полечу… Сенче, помощники мои, выходите… Сенче, здравствуйте, — кланялся шаман и стал брызгать водкой. — Нож дайте — голову себе отрежу.
Шаману подали нож. Он стал плакать и просить Сенче заговорить кровь, чтобы не пролилась… Шаман что-то делал в потемках. Потом что-то тяжелое стукнуло о коротконогий столик на кане. Подле тлеющих углей, на лакированной черной доске, Чумбока увидел отсеченную голову шамана.
— Без головы к большому духу полетел, — глухо и, как показалось Чумбоке, откуда-то сверху раздался голос Бичинги.
Пламя, вылетев из-за котла, озарило внутренность юрты. Под пучками трав, свивавших с потолка, в побрякушках и звериных хвостах плясало безголовое туловище шамана. Да, Чумбока ясно видел, что Бичинга был без головы. Она, с косой, с бельмами на открытых, вылупленных, как у совы, глазах, лежала подле него на столе. Стоило только протянуть руку — и до нее можно было дотронуться или даже ухватить ее за косу.
— Неспроста столько горя стало. Души всех людей скоро заболеют… В черный мир пойдут… В этой деревне несчастий причина! — отрывисто кричал Бичинга.
Он прыгал, сообщая обо всем, что случилось по дороге. Дух дал ему стрелу, которая ведет его и укажет, где скрывается злой дух. Стрела повела его обратно к деревне.
— За деревней живет, — сообщал шаман, — чужеземца вид принял… На песчаной косе ниже деревни живет, болезни, мор на людей хочет послать. Другой с ними злой амба — на кого поглядит, испортит… Их убить если, то счастье вернется… Стрела на них показывает… Скорей туда идти надо.
— Э-э! — закричали гиляки.
Тут Чумбока, видя, что хозяин приоткрыл очаг, чтобы набрать углей, рискнул. «Как-то проклятый Бичинга будет жить без головы…» — подумал он и, схватив со стола обеими руками шаманскую голову, с силой забросил ее в очаг, в самое пламя… Что-то вспыхнуло. Все в ужасе завыли. Кто-то ударил Чумбоку кулаком по голове. Тотчас же открыли оба очага, в зимнике стало светло. В очаге что-то трещало и корежилось.
Посреди юрты стоял Бичинга… Чумбока неприятно удивился: голова у шамана была на месте.
Старики накинулись на Чумбоку и стали жестоко бить его. Особенно больно дрался костлявый, худой гиляк.
Удога вступился за брата. В зимнике стоял крик. Чумбоку еле отпустили…
* * *
На рассвете огромная толпа окружила палатку миссионеров. Вышедший де Брельи был убит ударом копья в грудь. Ренье кинулся бежать, но его догнали и зарезали, полоснув ножом по горлу.
— Чтобы нас не пугали больше, чтобы не обманывали! — кричали гиляки.
— Из маньчжурской земли, черти!
Чуна гиляки отпустили.
— Это бедный китаец-работник, — говорили они. — Поезжай к себе домой.
— Зачем вы убили их? — спрашивал Удога знакомых гиляков.
— Э-э! — отвечали гиляки. — Это были злые и плохие люди! К морскому берегу подходят корабли, спускают таких же, как эти. Они учат нас молиться богу, прибитому к кресту за руки… А в это время их товарищи с кораблей грабят и хватают девок. Это морские черти.
— А ты, парень, так не говори про шамана. Это грех! Давайте утащим его к Бичинге, — сказал костлявый гиляк, колотивший ночью Чумбоку.
Братья поспешили убраться из деревни.
— Все равно не верю Бичинге, чего бы он ни делал, — с тревогой в голосе, озираючись, говорил Чумбока, когда селение осталось за скалами. — А здорово меня поколотили. Но я все равно отомщу Бичинге. Чего, думаешь, боюсь? Совсем не боюсь. Я все его штуки знаю.
Было ясное голубое утро. Оморочки тихо скользили по гладкой протоке между голубых камышей.
Каменные сопки от игры света и теней казались подмытыми и нависшими над водой и приняли вид гигантских синих чаш, расставленных вдоль берега…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ОТЦОВСКИЙ ДОЛГ
Возвратившись в Онда, Удога и Чумбока застали дома многолюдное собрание. Из Мылок возвратились сваты. Дед Падека расписывал Ойге про невесту.
Едва Удога услыхал, что горбатая старуха согласилась отдать за него дочь, как и безголовый шаман, и ожесточенные гиляки, и окровавленные тела чужеземцев — все сразу вылетело из его памяти и на душе стало легко и весело…
Сердце радостно замирало при воспоминании о далекой мылкинской девушке. Может ли быть такое счастье?! Но вскоре появились новые заботы: горбатая старуха просила за дочь печной котел, ватный красный халат, чесучовый летний халат, стеганое одеяло из верблюжьей шерсти, русский топор, два слитка серебра, белый бараний полушубок и шесть локтей русских ситцев.
— На старости лет загорелось ей нарядиться в чесучу! Говорит, что торо положит в амбар, а чесучовый халат носить сама станет. Бестолковая старуха! — поминал Падека про мать невесты. — «Если, говорит, чесучовый халат не привезете, девку не отдам…»
«Что ж, лишний котел и серебро у матери есть, — размышлял Удога, — а за остальными вещами придется идти к Гао Цзо. Не беда, что задолжаю… Я жив-здоров, Чумбока тоже, от гиляков мы ушли, все обошлось благополучно. Теперь нечего горевать… Если и задолжаем, зимой как-нибудь добудем меха и расплатимся».
Позабыв заветы отца, просьбы матери и свои былые сомнения, Удога явился к торговцам.
Гао Цзо обедал.
Он велел подать гостю суп с лапшой.
Кроме вещей для уплаты торо, Удога стал просить у Гао Цзо сотню медных блях и двести ракушек, кусок дабы для рабочей одежды и один женский летний халат, желая сделать подарок невесте. Он хотел, чтобы его жена имела дорогие одежды и лучшие украшения.
До свадьбы жениху следовало съездить в Мылки и угостить хорошенько родню невесты. Для этой цели он попросил ящик водки. Другой ящик, побольше, должен был, по его расчетам, потребоваться в день свадьбы. Удога знал, что жениху не полагается скупиться. И еще он помянул, что хочет купить невесте такой же тяжелый серебряный браслет, как у самого торговца, блестевший на его сухой руке.
Гао Цзо оставил чашку с лапшой и палочки. Из-под опущенных ресниц он видел синюю, чернокосую голову парня. Вот наконец и сын Ла пришел просить у него в долг. Старик Ла был гордый, никогда не должал. Сын, как видно, не в него. Но слишком много вещей хочет он получить, другому бы никогда столько не дал…
Купец знал — Удога и Чумбока хорошие охотники. Ла с ними добывал соболей больше всех в Онда… Можно дать этому парню и шубу и шелка… Только он, пожалуй, года за три сумеет отдать долг… Но на этот раз Гао Цзо не нравилось, что этот должник сможет с ним расплатиться…
— Ты на дочке Локке женишься? — спросил он.
— Дед Падека сватал, отдают ее… Согласна мать, — ответил Удога.
— Жена у тебя красивая будет… Я видел ее, — как-то неясно забормотал старик, и губы его задрожали.
Работники, сидевшие в зимнике, вдруг засмеялись. Гао Цзо рассердился на них и стал браниться. Его плоская голова, откинутая на плечи, нервно затряслась.
— Красивая, красивая!.. — повторил он, махая рукой на своих рабочих, как бы говоря этим Удоге, что, мол, не слушай их. — Ладно, мы с тобой сговоримся, — тихо продолжал торговец. — Когда невесту привезешь?
— В Мылки со сватами съезжу и как торо заплатим, старуха ее соберет…
— Ну, мы сговоримся с тобой… Дам тебе и шелк и араку.
Торгаш велел позвать старшего сына. В дом вошел рослый парень с красивым лицом. Отец велел ему повести Удогу в амбар…
— А только ты не забыл, что отец твой умер? — вдруг спросил старик.
— Я помню, — прижал Удога кулак к сердцу.
Наступило длительное, неприятное молчание. Как видно, Гао Цзо хотел что-то спросить про покойного отца.
— А ведь за ним остался большой долг, — наконец чуть слышно обронил он. — Достань книгу, сын, подсчитай.
Что говорил молодой торгаш, щелкая на маленьких счетах, Удога не слыхал. Он так и окаменел, стоя на левом колене.
Вошел Вангба, высокий и рыхлый плечистый мужчина с седой бородкой и с темными молодыми глазами. Он присел в углу на нары подле торговцев.
Если бы Удога следил за Гао Цзо, он бы увидел, что тот чуть приоткрыл глаза и смотрит на него насмешливо. Но Удога, потрясенный словами торговца, опустил голову и ничего не замечал.
Китайцы-рабочие — и те, услыхав слова хозяина, изумленно смолкли… За открытой дверью потрескивал костер, кто-то из ондинцев ковал железо.
Молодой торговец потряс Удогу за плечо.
— Ну, иди в амбар, отбирай халаты…
* * *
«Как же мне быть, кому верить?» — думал Удога в тот вечер, сидя на берегу и наблюдая багровый закат.
Облака, плывшие за рекой, были подобны клубам огня и дыма над пылающим лесом.
«Отец никогда не лгал… Он говорил, что не берет в долг у Гао Цзо, и нам не велел… Но Гао Цзо говорит, что отец был должен, — значит, так и было. Но и отец не мог лгать. Нет, все же отцу я больше верю… Ведь не раз он поминал, что торгаши неверно пишут в книге долги, чтобы побольше получить шкурок…»
Удога рассказал про свою беду старикам. Обычно они хвалили Гао Цзо, особенно если им что-нибудь от него было нужно. Но теперь дед Падека сказал:
— Это старый обманщик. Мы только привыкли и терпим, он нас всегда обижает. Прежде мы дружно жили, а Гао Цзо всегда подговаривает нас не прощать обид друг другу. Он хочет, чтобы мы чаще ссорились и дрались, а когда мы миримся, он подговаривает просить с виновных дорогие вещи. Вот мы и попадаем в неоплатные долги.
— Сколько ему платим — и все в долгу, — жаловался Уленда.
— А вот нынче он придумал, будто твой старик остался должен. Значит, ему что-то надо, он у тебя хочет кого-то отобрать за долги…
Падека, вскочив на кане и вынув трубку изо рта, вдруг ударил себя кулаком в грудь.
— Хитрые крысы! — воскликнул он. — Смотри, Удога, береги молодую жену, когда приедет. Из-за горбатой дуры пришлось к торговцу тебе пойти. Какую за девку цену заломила! Не было бы с мылкинскими войны, мы бы тебе как-нибудь без торговца собрали вещей на торо. А теперь у нас самих ничего нет…
После всех этих разговоров Удогу уже не радовали дорогие вещи, взятые в лавке.
Ойга, по женской слабости, напротив, была довольна, что в доме завелось такое богатство. В душе она даже помянула недобрым словом своего покойного старика… Из-за того, что он не хотел брать в долг у Гао, ей всю жизнь пришлось проходить в халатах из рыбьей кожи и в грубых дабовых платьишках.
— Все люди в долг брали, а Ла не хотел брать… Вот мы и прожили жизнь, а ничего хорошего не видали, — сокрушалась старуха, рассматривая красивые шелковые одежды. Хотя, по понятиям односельчан, Ойга жила с мужем в довольстве, сейчас, когда перед ней были такие роскошные вещи, ей показалось, что она всю жизнь была несчастлива.
Удога стыдился сказать матери, что торгаши показали записанный за отцом долг и что он согласился заплатить его, только чтобы взять вещи для невесты…
Но слух о том, что его обманули, быстро распространился по Онда и дошел до Ойги. Старуха так озлобилась на торгаша, что несколько дней не знала сна и покоя. Но под конец она смирилась и с этим горем.
— Что сделаешь с торгашом! — признавалась она соседкам.
Теперь втайне она мечтала, что, может быть, невестка привезет с собой в дом счастье. Но Ойга никому не выдавала своих надежд, чтобы не услыхали злые духи и не помешали им исполниться.
А дед Падека и Чумбока пытались облагоразумить Гао Цзо через Вангба. Но зажиревший, ленивый хозяин встал на сторону Гао Цзо. Не моргнув глазом, он подтвердил, что Ла на самом деле остался должен торговцу.
Падека пришел в ярость и за такие речи плюнул Вангба в глаза… А когда дело дошло до драки, дед порядочно наломал ему бока…
— Твой отец был хороший человек, — утешал потом старик Удогу. — Он никогда не брал в долг у Гао Цзо. Но торговцы записали в книгу, что он должен, и тебе придется заплатить. Как-нибудь поможем, чтобы твой долг был не больше нашего.
— Все мы стали в долгу у разбойника, — печально сказал Удога.
— Это верно… Мы с Бельды воевали, а Гао Цзо на этом нажился, согласился дед Падека.
— А помнишь, что говорил нам русский, Алешка? Он как раз так говорил! — воскликнул Чумбока.
— Откуда он узнал? Как узнал, что так будет? Верно… хорошо бы и Гао Цзо, и грабителей у Сунгари гонять отсюда, как Алешка говорил… отозвался Удога.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СВАДЬБА
Долг, внезапно свалившийся на голову Удоги, был для него большим горем. Но платить его следовало еще весной. Что без толку бередить себя!
«Если зимой на промысле удача будет, — рассуждал Удога, — отдам долг… А не будет — ну, тогда все равно беда».
Удога избегал встреч с торговцами и в разговорах больше не поминал о том, как его обманул хитрый Гао Цзо.
Накануне свадьбы ему все же пришлось еще раз побывать в лавке. Для свадебного пира нужно было просо. Старший сын лавочника подсчитал все его хвосты; вместе с мнимым отцовским долгом за Удогой набиралось до полусотни соболей… Долг был так велик, что Удога не надеялся отдать его.
Дед Падека советовал ему идти ранним летом в южные хребты и искать там изюбра с молодыми кровянистыми рогами, которые ценятся очень дорого.
— За лобовые панты торговцы скостят тебе половину долга, — говорил он. — Ты — быстроногий, пожалуй, и встретишь зверя…
* * *
В Мылках были смотрины. Нарядная, раскрасневшаяся от стыда и волнения, невеста еще более понравилась Удоге, но, по обычаю, ему нельзя было с ней потолковать.
— Когда женишься, тогда наговоришься, — сказали мылкинские старухи и увели Дюбаку в другой дом.
Наконец наступил день свадьбы. Едва свадебный поезд выплыл на раскрашенных лодках из-за скалы, как жених с парнями поехал на легкой плоскодонке ловить невесту.
Все население Онда высыпало на берег и на реку. Дюбака с матерью и со стариками сидела в головной лодке. Восемь самых сильных гребцов работали на веслах. На корме сидел оправившийся от раны Писотька.
Угда Самаров чайкой налетела на мылкинский поезд. Восемь гребцов показали тут ондинцам, как надо ворочать веслами, а Писотька, ловко заворачивая корму, то и дело увиливал от погони.
Удалые возгласы рулевых, бабий визг и пьяные вопли стояли над протокой. Наконец при громких криках ондинцев, мылкинцев и множества соседей, плывших на своих лодках следом за свадебным поездом, Удога догнал невесту. Он мчался борт о борт с черно-красной плоскодонкой и, ухватившись обеими руками за перекладину, перепрыгнул к невесте и сел подле нее.
— Теперь уж не отпущу твою лодку, как прошлый раз, — сказал он.
Дюбака сидела молча, поджав губы и напустив на лицо выражение строгости и серьезности, и только во взоре ее явилась радость после того, как Удога поймал лодку. А то могла не состояться свадьба. Что за парень, который не поймает невесту и не отобьет ее силой!
Когда старики посадили в лодку восемь лучших гребцов, Дюбака была недовольна, опасаясь втайне, что жених ее никогда не догонит. Она с лаской посмотрела на Удогу, когда он перепрыгнул через борт. Жениху пришлось дать по хорошему подарку ее гребцам и защитникам.
На невесте был шелковый халат, расшитый утками, бабочками и цветами, голубая шапка с узорами из белого русского бисера, щегольские рыбокожие улы, сплошь усеянные мельчайшей вышивкой. Удога — в голубом халате, в красной берестяной шляпе и желтых сапогах.
— Вот здесь я тебя первый раз увидел, — показал Удога рукой по направлению шаманского острова.
Толпа Самаров встретила свадебный поезд. Парни — друзья жениха забрели в реку и подняли угду с молодыми, со всей родней невесты и с гребцами на руки… Набежал народ, и лодку потащили к дому Удоги. Следом из других лодок выносили ящики и берестяные короба с приданым невесты.
— Богатая, — говорили в толпе женщины.
— Мужу в подарок лыжи привезла…
В старом доме Ла начался небывалый пир. На почетных местах, под идолами, расселись торговцы и с ними Вангба. Рядом устроились: Падека, отец Денгуры — столетний мылкинский старик Теле, тучный Бариминга и Кальдука Большой; оба толстяка с некоторым недоумением поглядывали друг на друга. Мангадига с кольцом в носу подсел к Уленде. С левой стороны кана ярким цветником расположились пестро разряженные женщины.
Кому не хватало места на канах, рассаживались на полу. В дверях торчали головы чужих парней и мальчишек, наехавших из ближних селений поглазеть на свадьбу.
Высокая, стройная, плечистая невеста с толстыми светлыми косами отвесила земной поклон четырем столбам дома и живущим в них духам. Ей подали глиняный чайник с аракой и чашку. Она пошла вдоль кана и, кланяясь, обносила вином всех гостей подряд. Они целовали Дюбаку в щеки, желали ей счастья. Удоге наказывали не обижать ее, чтобы она не ревела зря и не убегала от него домой, как это часто бывает с молодыми женами. Гости тут же дарили ей подарки — отрезы материи, кольца, камни и браслеты.
Гао Цзо тоже приготовил ей нитку разноцветных стеклянных бус. Отдав подарок, он не стал целовать Дюбаку, а лишь погладил ее по светлой голове и потрепал по щекам. Сухая рука его задрожала, и Гао Цзо засмеялся слабым, старческим смешком, похожим на иканье.
Денгура прослезился, поцеловал Дюбаку, приговаривая, что он больше всех рад ее свадьбе. В восторге от полученных выгод он обнял и Удогу и поцеловал его дважды в каждую щеку.
По кругу, от гостя к гостю, пошли чашки с лапшой, с просом, с осетриной, сырой и вареной, с пареной юколой, с мясом сохатого, с горохом, с хрящами рыб и разной снедью. Чего тут только не было наварено и напарено! Больше сотни чашек шло через руки гостей к дверям. Там парни и мальчишки доканчивали угощение и вылизывали чашки начисто, после чего они снова наполнялись и опять шли вкруговую. Не успевал гость запустить пальцы в кушанье, как уже сосед передавал ему какое-нибудь новое, еще не отведанное, совсем иного вкуса. Блюда чередовались с таким расчетом, чтобы у гостей не пропал аппетит… Одно блюдо возбуждало вкус к другому.
Всем было весело. А посредине кана еще стоял открытый полный ящик араки, как бы свидетельствуя, что свадебного веселья хватит на несколько дней.
Один Чумбока был печален.
Его жизнь так складывалась, что жил он не для себя, а для других. То для отца, то для брата, то для сородичей. На днях он опять помянул Удоге, что хочет жениться. Он не поленился, сбегал в верховья Горюна, побывал в Кондоне, тайком от родичей повидал толстушку Одаку и даже посидел с ней в тайге с глазу на глаз. Он забыть не мог счастливых мгновений, когда в знак дружбы она почесала ему щепкой спину… Они сидели над глинистым обрывом в траве, близко друг к другу, и весело болтали… Чумбока рассказывал ей разные занятные происшествия, случившиеся с ним и с другими людьми на охоте и на рыбалке, и учил ее, как лучше отгонять мошку и комаров.
— Вот и хорошо бы жениться на ней, — признался он брату.
Удога, услыхав про такие замыслы Чумбоки, рассердился и чуть было не прибил его…
— Мы и так в долгу, а ты хочешь, чтобы торговцы нас совсем обобрали! — кричал он. — Обожди год-другой, как-нибудь справимся, и тогда купим тебе жену… Только в другой деревне купим… Одаку тебе нельзя брать — грех. Она тебе сестра. Ты что, Андури не боишься? Проклянут и тебя и меня, лучше не заикайся. Жди, другую девку купим — лучше будет. Из чужого рода надо брать жену. А Одака из нашего рода, не забывай этого.
«Сам-то он не стал ожидать год-другой, — с обидой думал Чумбока. — Для себя взял в лавке халаты… Какая еще окажется хозяйка эта Дюбака… Если станет меня обижать, я вовсе из дому уйду… Пойду к дяде жить или к чужим людям. Только мне не нужна какая-то чужая девка. Чего не выдумает Удога! Мне Одаку надо… Об ней томится сердце».
Тем временем Дюбака вступала в свои права. Она сняла наряды и украшения и на виду у пирующих гостей, чтобы все видели и потом говорили, какая она хорошая и бережливая хозяйка, взяла два берестяных ведра и пошла по воду.
А возвратившись, она обошла пожилых гостей, делала им из табаку завертки, вставляла в трубки и раскуривала их.
Вечером, когда на столиках зажгли красные свечи, а Гао Цзо с сыновьями и Вангба ушли домой спать, Удога разговорился с Денгурой о былой, старинной жизни на Мангму.
— Ты думаешь, что раньше, давно-давно, когда не приходили чужеземцы, нам жилось хорошо? — кричал мылкинский богач. — Не-ет… Все равно, кто был послабей, тому жилось плохо… Рыбу мы ловили все одинаково, делили поровну, но находились такие, которые заставляли других таскать дрова, грести веслами, таскать лодки бечевой. Слабых ругали, колотили. Торговцы привозят нам то, чего в тайге нет, — араку… Они ученые, умеют делать водку! Мы глупей их, и они с выгодой берут у нас меха… Да на что тебе выдра, куда тебе ее девать? Тебе охота выпить. А торговцу надо выдру, лису…
— Мы тебя уважаем, — льстили старики Денгуре. — Ты шибко богатый, шибко умный, шибко злой. Боимся тебя…
— Мы молчим, но знаем — сюда идут воры, разбойники, нас обманывают. Все вредные крысы грызут нас: и твой Дыген, и Гао Цзо, — решительно ввязался в разговор дед Падека. — А ты с ним дружишь, заодно с ними. И ты такой же. Ты поэтому и говоришь, будто всегда люди у торгашей были в долгу.
При этих словах Денгура ужаснулся, и брови его полезли на лоб, словно дед совершил величайшее богохульство.
— Да, да, помним, как ты начал всех обманывать! Думаешь, мы дикие? Не понимаем? — рассердился Падека.
Дело грозило новой ссорой. Тут вмешались Холимбо, Хогота, Мангадига. Стариков разняли прежде, чем они успели вцепиться друг в друга.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ВЕЛИКАЯ ТАЙГА
Последняя высокая вода ушла по Мангму. Начался перелет птиц. В тайге стоят рябые лужи. На марях перепуталась желтая, поваленная ветрами трава. Там, где была пышная зеленая чаща смородинников и малинников, из серой земли торчат голые пучки лоз.
Лиственницы осыпают по ветру последние желтые иглы. В густой темной зелени елей краснеет рябина.
Тайга в багрянце и желтизне… Небо ясное, бледно-голубое, холодное. Дуют жестокие, сухие ветры.
Закончился ход осенней рыбы — давы, и вешала подле дома Удоги прогибаются от красных связок юколы… Свиньи и собаки сыты рыбой. В амбаре лежат вороха сухих кетовых пластин.
Целыми днями Дюбака и Ойга стучат в доме деревянными молоточками, выделывая рыбью кожу для пошивки одежды, парусов, мешков…
У народов Мангму наступает по осени новый год.
Охотники собираются в тайгу на промысел. На этот раз Уленда и Кальдука Маленький ушли с Падекой и Кальдукой Толстым за море, на остров Сахалин, туда, где прошлый раз зверовал с гиляками дед Падека и где, по его словам, много соболей.
А Удога и Чумбока до ледостава, как и прошлой осенью, промышляли близ Онда. Они знали на окрестных сопках соболиные норы.
Удога не пожелал плыть вместе с дядюшкой Улендой за море, он оттягивал разлуку с молодой женой.
Жаль было покинуть ее; только сыграли свадьбу, как пошла рыба; было много работы и днем и ночью, теперь рыбы наловили, и можно до ледостава побыть дома.
Этот год Удога уходил в тайгу, а думами был дома. Зверь таких охотников не любит и не идет к ним: в тайге надо думать только о промысле, а не о семье. Но что делать Удоге, если сердце его было неспокойно. Дюбака слишком хороша собой, чтобы, уходя из дому, не думать о ней. Не будь за Удогой такого большого долга, он бы ушел на промысел на всю зиму, но теперь он боялся, что хитрый Гао Цзо станет зазывать Дюбаку к себе и соблазнять ее подарками. Старику она нравилась, это Удога заметил. Чего доброго, торгаш, пользуясь его отлучкой, заберет ее к себе на всю зиму. Защищать никто ее не станет, только к весне, к возвращению Удоги из тайги, лавочник отпустит ее. Гао Цзо всегда хвалил ее красоту… Все люди видели, как он затрясся на свадьбе, когда Дюбака поднесла ему араки…
Бывали случаи на Горюне и на Мангму, что Гао Цзо за долги отбирал у охотников молоденьких жен и дочерей. Девушек увозили в Китай, на продажу богатым людям, а женщин держали у себя в лавке до тех пор, пока мужья не отдавали долги…
Удога утешал себя, что Гао Цзо не посмеет так поступить с его женой. Ведь зима еще не прошла с тех пор, как он задолжал. Если бы окончился промысел и Удога не отдал бы долга, тогда Гао Цзо мог отобрать Дюбаку. Но пока не подошла весна — срок уплаты долга, торговец не смеет этого сделать. Так никогда не бывает.
Тяжело собираться на долгую зимнюю охоту с такими думами. А собираться пора. День ото дня погода становится холодней, на черной реке появились ледяные забереги, уже выпал первый снег, потемнели дубовые рощи, в тайге наст грохочет под ногами собак и охотников, а с Мангму несутся снежные вихри. Чумбока торопит брата:
— Уже все охотники ушли в тайгу, только мы всё не соберемся, а долг у нас больше всех. На какое счастье ты надеешься?
«Да, правда, — думает Удога, — уже все ушли… и дед Падека ушел вчера».
Жалко было Удоге расставаться со стариком. Деревня опустела, печально стоят на ветру глинобитные фанзы.
Чумбока уже более не помышлял убежать от брата. Он решил во что бы то ни стало помочь ему выбраться из долгов. Свою женитьбу он согласился отложить на будущий год. Он уговорил брата силой увезти дочь у Дохсо. Чумбока задумал на первое время после свадьбы уйти в горы, к знакомым удэгейцам, и жить там до тех пор, пока грех не простится. Чумбоку только беспокоит, как бы этой зимой Одаку не выдали замуж. Она ему сказала, что была просватана за старика с Амгуни, но жених не дождался свадьбы и умер, к ее радости. Но, пожалуй, если подвернется удобный случай, дядюшка Дохсо отдаст ее любому за хороший выкуп.
На брата Чумбока перестал обижаться. Жаль Удогу: у него большое горе, надо ему помочь… Чумбока верит, что настанет пора — и они с Удогой расплатятся с Гао. Тогда брат не пожалеет серебра и мехов, чтобы набрать торо для уплаты за Одаку. Может быть, тогда ее отец Дохсо согласится простить грех.
Чумбока понимает, почему брат неохотно собирается в тайгу на зиму… Все дело в Дюбаке.
Чумбока готовится пошаманить перед охотой. Он знает, кого и как надо просить, чтобы зверь ловился и чтобы дома все было благополучно.
«Постараюсь, чтобы удача была нам с братом», — решил он и велел варить последнюю горсть гороха для угощения Позяней.
С женой брата Чумбока поладил.
У Дюбаки были счастливые руки, ей удавалось всякое дело. Она привезла в дом богатое приданое: посуду, одежду и даже оружие и лыжи в подарок мужу.
Она была тихая и скромная, ни с кем не ссорилась и не сплетничала. С Удогой жила дружно, и это радовало Чумбоку, как будто счастье брата было его собственным.
От покойного отца Удоге и Чумбоке осталось русское ружье. Перед промыслом Удога пошел в лавку и попросил в долг пороху. Не хотелось Удоге лишний раз кланяться Гао Цзо, но пришлось — последний заряд выпалил из русского ружья Кальдука Маленький, когда дрались на Додьге с Бельды. А порох Удоге нужен: с ружьем скорей можно убить изюбра.
Удога помнит совет деда Падеки, — он мечтает пойти весной на юг и поискать пантача[31] с драгоценными молодыми кровянистыми рогами.
Гао Цзо сидел на своем красном коврике. Вангба принес ему чашку с какими-то зернами.
На кане около столика ходил большой черный петух. Как говорили ондинцы, петух этот походил на Гао Цзо и поэтому будто купец был особенно привязан к нему. У торговцев двое любимцев — петух и черный жирный кот.
Гао Цзо набрал в горсть зерна и стал кормить петуха. Удога опустился на колено. Торгаш пригласил его к столику. Парень не посмел отказаться и залез на теплый кан.
Петух наклевался досыта, попил воды из чашки, обхватил когтями край кана, как насест, довольно похлопал крыльями и покукарекал. Потом закрыл глаза и нахохлился, откинув голову точно так же, как это делал Гао Цзо.
Китайцы подали на стол свинину с фасолью, пампушки и соевый соус. Гао Цзо угостил Удогу. Он по-дружески заговорил с парнем о зимнем промысле, расспрашивая, далеко ли он собирается, с кем идет и когда вернется.
Удога был настороже. Он ел мало, вкусная свинина не шла в горло: он все время ожидал; что торговец скажет что-нибудь важное и неприятное. Но торгаш в этот день был очень добр к нему. Слушая его ласковый, тихий голос, Удога успокоился и снова готов был поверить, что Гао хороший человек, что он никогда не совершает ничего дурного и что Ла на самом деле был ему должен…
Перед уходом работник наполнил Удоге пороховницу. Гао Цзо на прощанье пожелал ему счастья и пообещал не оставить Дюбаку и Ойгу, если им будет зимой голодно.
— Позабочусь о них, помогу, пусть живут — не скупятся. Скажи им, чтобы почаще приходили ко мне в лавку. Дам им буды и гороху, когда надо будет. Старик чуть приоткрыл яркие черные глаза и, покачав головою, добавил ласково: — А с тобой мы сочтемся…
Возвратясь домой, Удога передал брату свой разговор с торгашом.
— Как понять старика, не знаю… Все твердит мне — сочтемся да сочтемся. Уж не первый раз…
— Смотри, что-то Гао Цзо стал очень добрый, — выслушав его рассказ, заключил Чумбока. — Не дал бы торгаш пороху — было бы нам плохо, а дал и не пригрозил — это тоже плохо. Чего-то он задумал. Смотри, не хочет ли он взять к себе Дюбаку. Вот тебе тогда будет и буда и горох!
Сердце Удоги болело о том же…
— Крыса, мало тебе наших соболей, так еще хочет забрать жену у брата! — орал Чумбока, грозя кулаком по направлению дома Вангба.
Дюбака сидела на корточках у очага. Чтобы никто не видел, как ей стыдно слушать такой разговор, она закрыла щеку платком и смотрела в огонь.
— Тебе надо взять ее с собой на охоту, — вдруг проговорила с кана старая мать. На осенней рыбалке Ойга застудила в холодной воде ноги и теперь выхварывалась на горячей лежанке. — Как-нибудь проживу еще зиму, не первый раз остаюсь одна… Пусть невестка идет с вами… Ничего, будешь с ней, как с товарищем, спать в разных мешках, — добавила старуха.
— Уй-уй! Верно! Она нам в балаганы уходят с отцами и с мужьями на охоту… Я слыхал…
— А я буду ходить в гости к Гао Цзо за будой и за горохом, приподымаясь, засмеялась Ойга. — Если он такой добрый и ничего для нас не жалеет, пусть позаботится о старухе, пока дети на промысле… Сам же обещал… Припомню ему, что он говорил тебе сегодня.
Вечером Дюбака рассказала Удоге, что с отцом она часто ходила на охоту. Локке не имел сыновей. Ей приходилось бывать с отцом на море, на островах, в верховьях Амгуни, на южном хребте. Она жила целыми зимами в балагане, вела хозяйство отца, чинила ему одежду, варила обед, а в свободное время сама охотничала, ставила самострелы и била зверьков.
Она только не сказала, как отец, бывало, хвалил ее за охотничью сноровку. «Если бы ты не была девкой, — говорил Локке, — стала бы самым лучшим охотником». Хотя дочь очень хорошо охотилась на зверей, но отец не признавал ее настоящим промысловиком только потому, что она девушка. И как девушке, ей приходилось делать черную работу и таскать нарты вместе с собаками.
За ночь Дюбака собралась на промысел. Третий меховой мешок и белая сохатиная одежда нашлись для нее в амбаре. В Онда все еще спали, когда трое охотников двинулись двумя нартами из деревни через пашни и пойму к лесистому пологому увалу…
Удоге все же казалось, что он так и не узнал истинных намерений Гао Цзо и причину его внезапной доброты. Либо торгаш на самом деле желал завладеть его женой, либо… могло быть и так, что, обманув Удогу из жадности, Гао Цзо старался показать людям, что жалеет его и что во всем виноват Ла, наваливший на голову сына огромный долг… А он, Гао Цзо, всей душой старается вызволить парня из беды. Хитрый купец!
Они решили не идти на Дюй-Бирани, где каждое дерево, каждая сопка, скала и ручеек напоминали бы им любимого отца и былую свободу, утерянную так глупо, из-за пустого тщеславия и гордости.
«Эх, разве нельзя было вовремя уговориться с Бельды! Прав был Алешка! Не надо было воевать с соседями».
Путь держали за хребты, к морю. Братья решили не возвращаться домой до тех пор, пока у них не будет достаточно мехов для уплаты долга.
…Славное было время, когда об эту пору шли они пятью нартами по сверкающим снегам вверх по Дюй-Бирани. Как ночевали под берегом, как отец говорил сказки, а дядюшка Уленда, закутавшись в бабий платок, гонял чертей от варева и ругал по утрам злого кобеля.
Все это, казалось, было очень давно, и, казалось, был тогда Удога мальчишкой. А теперь он взрослый, женатый, старший в семье. И жаль былого, и хорошо все же, что женат на любимой, что теперь с ней. Тогда, кажется, такой дурак был, только все думал и думал, где она да кто она, да вспоминал, как лодку сдвинул. А теперь она тут, с ним…
Дюбака, увязая лыжами в свежем рыхлом снегу, помогала черным маленьким собакам тянуть нарту… Приближался перевал. Стали попадаться заснеженные россыпи серого камня и кедровые стланцы. С перевала охотники последний раз оглянулись на Мангму. Широкой белой равниной печально раскинулся он между рыжих щетинистых лесистых увалов. Далеко-далеко на желтых пашах чуть виднелись дымки родной деревни… Там остались лишь женщины, дети и торговцы.
«Как большой паук, сидит там Гао Цзо, свил паутину и всех ловит», думает Удога.
Подул резкий, обжигающий лицо ветер. Собаки, свернувшись клубками, прятались в снег.
Покачнулись вершины лиственниц, осыпалась куржа. Кустарники, обглоданные сохатыми, торчали из сугробов. Следы зверей уходили в лог, за перевал.
— Велик, велик Мангму! — последний раз поклонились реке братья.
Дюбака подняла собак.
— Та-тах… Та-тах… — взмахнула она палкой, и нарты стали спускаться.
Удога и Чумбока побежали вперед, пробивая лыжню.
Мимо проплывали стволы вековых кедров и елей… Ветер крепчал.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ЗИМОЙ НА ШИЛКЕ
На тысячи верст ветер и ветер… Ветер дует над вековыми лесами и над сопками в снегу. На далекой Шилке уже ударила лютая стужа.
В зимовье, у пылающей железной печки, с трубками в зубах сидят русские охотники. Шилкинский горнозаводский крестьянин Карп Бердышов с сыновьями и с племянниками ходил в тайгу, гонял коз по бесснежью. Забитых вывезли к зимовью.
Неподалеку — горные заводы и город Нерчинск. В городе начальство, заводские чиновники. Крестьяне в здешних местах приписаны к заводам, к «огненным заведениям». Они обязаны исполнять наряды — плавить медь, чугун, жечь уголь, возить руду и дрова. Кто охотится и платит чиновникам соболями, тех на зиму отпускают в тайгу.
За стеной протяжно скрипят вековые лиственницы. Толстые бревна зимовья обледенели, куржа настыла на двери и белыми хлопьями висит с жердей потолка. Ветер рвет дверь с крюков, стучит, воет. В тайге шум и треск.
— К утру не стихнет — как поедем? — спрашивает Карпа молодой охотник.
— Доберемся…
— То снега не было, а нынче все замело.
Время от времени налетает дикий вихрь и с отчаянием завывает в ветвях над крышей зимовья.
— Ну так вот, — рассказывает Карп. — Раньше жили на Амуре русские да еще орочоны и манягры.[32] Маньчжура слышно не было. Маньчжур где-то там далеко жил, а китайцы — еще дальше за ним. У них там земля теплее, им не больно в эту стужу переселяться хотелось. Это нам тут теплей, чем в Якутске-то, а им холодно. Через хребты, с Руси, из Якутска всё шли и шли русские. Придут, поглядят — дивное место! Чего только нет! Леса богатые, зверя много, земли плодородные. С забайкальской тайгой тоже несравнимо. Старики забайкальцы — я еще парнишкой был — как-то также на охоте рассказывали, что в старину много было на Амуре русских городов: острожки такие с бойницами стояли, заимки, мельницы, ясачные избы.[33] Паря, церкви построили. Божье благословенье вышло. Чудотворная икона объявилась в Албазине. Ну, словом, было всего! Ну чё же! А богдой, завистливый же, услыхал! А почему маньчжура богдоем зовут, знаешь? У них хан богдо… Это при Хабарове[34] было. Двести лет тому назад. Ну вот, маньчжур услыхал, что у русских тут заимки, и давай воевать. Как русские зашли да стали на Амуре землю пахать — ну уж тут он взбесился. Силу высыпал, что снега потемнели, всё загадил. Ну чё же! Русскому, выходит, опять надо соху бросать драться. Раз так, давай — пошел хлестаться с ним. Вот под Албазином этих богдошек рвы навалили. Отобьют их — они уйдут, потом опять подступают. Ну чё же! Русскому подмогу получить трудно. Далеко до Руси. До Якутска все хребты, дороги хорошей нет. И все же оттуда, с Руси, подмогу подавали, отбили русские богдоя. А потом вдруг все перевернулось, приказали отступать русским с Амура. Паря, казаки старые и те ревели. Слез пролили столько, что Амур прибыл, вода поднялась. Пошел народ с Амура сюда, в Забайкалье.
— Как же так, почто еще-то не дрались? — спросил Михаила, сын Карпа.
— Не знаю уж, ребята, что такое!
— Может, какая измена была?
— Кто их знает, — уклончиво отвечал Карп. Неловко ему при молодых дурно отзываться о начальстве, но он и сам полагал, что дело было не без этого.
— Да-а-а… Албазин срыли, и весь народ вышел в Забайкалье. А икону албазинской божьей матери казаки вынесли на руках, врагу не досталась… Рассказывали, что в Усть-Стрелке была одна старуха, с Албазина вывезена, и жила сто тридцать лет, так она богдойскому нойону ссекла башку начисто. Они ее захватили на мельнице и привезли к самому нойону. У стариков ножи были такие здоровые, что барану можно голову отрубить. Этакий нож она спрятала… Ловко пришлось, и она полоснула его.
— Отчаянная была старуха, — засмеялся младший Бердышов, темно-русый подросток Ванька.
— Она тогда еще не была старуха — была молодая, красивая. Маньчжур позарился на русскую красоту, да и не снес башки. Потом уж казаки эту бабу отбили обратно. Благодатная же там сторонка, на Амуре… Лучше, чем здесь, в Забайкалье. Тут вот тайгой до Улус-Модона не так… А на устье Зеи красота. Вот где хорошая земелька! Разве с Забайкальем сравнишь! Тут камень да мороз. Мы живем как не знай кто в своей каменной щели. Что у нас? Лиственницы есть да березы. Что еще? Гуран[35] ходит в тайге. Липы, дуба отродясь не видали. А там заветная наша земля, помните это, ребята.
— Дядя Карп, а какой дуб, ты сам-то видал?
— Видал, — с гордостью ответил старик. — Красота дерево, такое раскидистое, черное, узлами. Я охотился на Нюмане.[36] Там заветное местечко.
— А уж дядя Алексей нынче, верно, где-нибудь далеко на ярмарке. Он рассказывал, что на Амуре и виноград растет, и золото есть в земле. Соболей много. Сказывают, в Сибири народ с приисков собирается на Амур. Атамана хотят выбрать и уйти, — заговорил Ванька.
Это переселение было мечтой многих. В народе часто говорили, что надо избрать атамана и уходить от несправедливостей и притеснений на Амур.
Карп смолчал. Он собирался этой зимой пойти на охоту в далекие Амурские хребты со своим старшим сыном Михаилом и с казаками из Усть-Стрелки, показать молодым дорогу в землю дедов, чтобы при случае знали, куда идти.
Казаки с Усть-Стрелки были друзьями Карпа. Они жили на границе и каждый год ходили на Амур. Дорога была не близкая. Друг и однофамилец Карпа, казак Алексей Бердышов, который ушел еще в позапрошлом году на Тугур, прислал в прошлом году известие, что пошел домой Амуром — и вот уже год как идет… Не вернулся до сих пор… Значит, путь длинный, извилистый…
— Ну-ка, спать, ребята!.. — строго молвил Карп. — Эка, нас совсем снегом занесло, дверь не открывается. Завтра, однако, хорошая погода будет. Лед уж крепкий, пойдем вниз по реке. Да… Разве ту землю сравнишь со здешней! Там хлеб хорошо родиться может, только сеять некому. Конечно, и приискателям любо туда идти. Их совсем замытарили. Когда-нибудь народу туда хлынет…
Желание видеть заветную землю, принадлежавшую предкам, влекло сурового сибиряка на восток. Карп любил поохотиться в амурских лесах, где бывал не раз.
— А вот Маркешка Хабаров тоже, говорят, первого албазинского рода, укладываясь спать, вспомнил Михайла. — Какие-то деды у него дрались с богдоем.
— Съездить бы с тобой на Амур, — проговорил Ванька.
— Дубы-то поглядеть, — сказал Михайла. — Не знаю, врут ли, нет ли, будто бы там какой-то желудь вырастает на нем. Кабаны даже его едят и жирные становятся. Не слыхал, что это за желудь?
Михайла был грамотный. На досуге он учил ребятишек письму и счету и даже выучил грамоте одного бурятенка. Он любил называть себя учителем и желал знать про все, что есть на свете…
* * *
На Усть-Стрелке в доме у казака Андрея Коняева веселье.
— Эх, гармонь моя, гармонь, да разудала голова!
— Вот проводины!
— Эхма-а… Забайкальские казаки! Дергай шибче!
Завтра охотники уезжают на Амур. Опустеет Усть-Стрелка. Только границу останутся караулить двадцать человек.
— А чё Маркешка не идет?
— С бабой у них ссора, царапаются.
— Характерная у него!
Атаман Василий Петрович Скобельцын, усатый, темно-русый, с багрово-красным лицом, сидит под образами. Стол ломится от мясных блюд, изготовленных по-русски, по-монгольски; свинина — по-китайски, с рисом. Бабы в ярких азиатских шелках.
— Эх, подгорна улица, сорок сажен поперек! — орут парни на лавке.
Хозяин дома, молодой казак Андрей Коняев, скуластый, курносый, с блестящими от масла желтыми волосами, в ярко расшитой чесучовой рубахе, заискивающе тянется к атаману с полным стаканом:
— Желаем здоровьица!
Андрей был торговец, меняла и льстил атаману. Точно так же заискивал он и перед хорошими охотниками-односельчанами, напрашиваясь с ними на Амур. Коняев опасался ездить один в дальнюю дорогу. Его брали с собою неохотно и только потому, что атаман Скобельцын приказывал охотникам не уходить без Коняева, грозя в противном случае запретить поездки на Амур.
— Дергай шибче! — приказывает пьяный атаман.
— Завтра утром поедем. Долго гармони будет не слыхать, — говорит Михаила Бердышов.
Михайла хотя и мужик, но среди казаков как свой. Он, и отец его Карп хорошие охотники. Их знает вся Шилка. Они не виноваты в своей бедности: всю добычу их забирает начальство. Они приписаны к горным заводам, и горные чиновники обдирают заводских крестьян. Одних заставляют работать на заводах, других — охотиться и половину добычи берут себе.
— Первый коновод всем амурцам — Алешка! — говорил Михайла. — Ему дай только дорваться до тайги.
— Ну, запевай амурскую песню! — кричит атаман. — Мне, ребята, не велено людей пропускать в Азию… Я стою при границе…
— Кузьма, ты затягивай, у тебя голос! — сказал Михайла. — Дедушка Фома, ну-ка в бубен. Дай-ка мне скрипку. Жарь, ребята!
Эх, Шилка да Аргунь, Эх, они сделали Амур! Эх, у-ла-ла! Эх, у-ла-ла!тонко заголосил тощий дядя Кузьма.
Коняев слушал, улыбаясь во все широкое, красное лицо и как бы любуясь атаманом. Он был счастлив, что Скобельцын велел охотникам принять его в свою компанию.
Сегодня Коняев всех угощает, а как заедет на Амур, уговорит завернуть на ярмарку, на торгачины. «Нечего им торопиться, — полагает он, — успеют поймать соболей. Я их угощу, ссужу кое-чем, будут у меня в пути помощниками».
Эх, у-ла-ла да у-ла-ла…хором пели казаки.
— Лихая песня! — воскликнул атаман.
Они сделали Амур…дружно гремел хор.
— Паря, эта песня нравится мне, — рассуждал Скобельцын. — Не шибко складно, а правда: ведь Шилка и Аргунь — с них составился Амур…
Ух, у-ла-ла да у-ла-ла, они сделали Амур…
— Эта песня и орочонам нравится, они тоже ее знают. У-ла-ла — это и им понятно. И тунгусам. Ула — значит речка по-тунгусски.
— Гляди, и Маркешка идет.
— Ой, бабы! Хабариха в новое платье вырядилась!
— Гляди, гляди на нее. Ай-ай… А Маркешка-то какой нахал! Под ручку ее! Подхватывает, как городской. Уй и нахал! Дивоньки!
— Здорово, казаки! — ввалился в дверь маленький кривоногий Хабаров.
Это был знаменитый самоучка-оружейник, которого знала вся Шилка и чьи ружья славились в пограничных с Забайкальем областях Китая. Маркешка делал у себя в кузнице за лето несколько ружей, а потом менял их орочонам, тунгусам и бурятам, среди которых все охотники были у Маркешки добрыми приятелями. Он делал это не столько из корысти, как из самолюбия и гордости, желая, чтобы всюду известно было его мастерство. Охотники, зная, что Маркешка меняет ружья, наперебой напрашивались ему в приятели.
Следом за Маркешкой появилась его жена Любава, полная, дебелая молодица, румяная, в ярком платке и в зеленом платье с кринолином.
— Выдь на середку, — сказал ей муж, — утри им носы.
— Давай с тобой станцуем, — сказала мужу Любава.
— Ты куда, кривоногий? — зашумели бабы, хотя все знали, что Маркешка лихо танцует.
— Погодите… Вот ваш род столько проживет на Шилке — и вы станете кривоногими. Любава, дай им форсу, чё задаются. Кадриль ли, кого ли будем танцевать?
— Ну, чего тебе сыграть: кадриль ли, польку? — спросил Михайла. Венгерского?
— На что венгерского!.. Давай забайкальский голубец! Э-эх…
И Маркешка, притопнув и разводя руками, лихо прошелся под звуки скрипки и бубна.
* * *
За редким березняком, во мгле, тусклым желтым пятном всходило солнце. Мохнатые лошаденки быстро вынесли широкие розвальни на амурский лед.
Далеко позади, на низком берегу Аргуни, остались заснеженные домики усть-стрелочного караула — последнего русского селения.
— Вот и заехали на Амур, — молвил Михайла. — Маркешка, ты нынче сколько винтовок на мену везешь? Орочоны любят твои малопульки.
— Есть не только малопульки.
— Шевели сивку. Не люблю тихо ездить, — сказал тощий дядя Кузьма. Ленивых лошадей убиваю. Бурят в гости приглашу и съем с ними.
Маркешка тяжко вздохнул.
Долго охотники ехали молча. Маркешка лег ничком и утих.
— Ты чё, плачешь, что ли? — спросил Бердышов.
— А что, тебя разве тоска не берет? — поднялся Маркешка. — Я чё-то нынче еду с неохотой.
— Что такое?
— Баба вчера рассердилась; она себе кринолин пошила и орет в голос, чтобы я не ездил. Чуть меня не поцарапала. Дескать, ей опять целый год ни одеться, ни съездить в гости, ни на Шилку, ни на Ингоду. Верно, нам по тайгам шататься, а ей и ста верст не отъехать. Сладко, что ли? — Маркешка помолчал и вдруг спросил: — А когда домой вернемся?
— Ты что, малый ребенок? — рассердился Михайла Бердышов. — Нянчить тебя? Вот я и не люблю с тобой связываться. Эй, Андрюшка! — крикнул он.
В задних розвальнях поднялись закутанные в шубы Коняев и Карп Бердышов.
— Маркешка уж к жене обратно хочет! Стосковался! Что с ним будем делать?
Коняев откинул широкий воротник и пригрозил Маркешке бичом.
— Поше-ел! — решительно крикнул на лошадей Хабаров. — У тебя бы такая баба была, что бы ты запел? — с сердцем молвил он, укладываясь в сани. Как бы расставался?
— Вон у Алешки баба красивей твоей! А он второй год пропадает где-то, не боится. А ты жены боишься.
— А что, моя разве хуже Алешкиной? — с обидой воскликнул Маркешка. Вот вернемся, оденем их, выведем в люди.
— Куда тебе! — махнул рукой Михайла.
Кони бежали над крутыми скатами левого берега.
Из сугробов под утесами торчали редкие березы и убогие, растрепанные ветром лиственницы.
— А Алешки давно где-то нету, — задумчиво молвил Хабаров. — Может, он уж погиб.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ ТОРГАЧИНЫ
Каменные обрывы темнеют над широким речным льдом. Хребты подошли близко. В хребтах каменные щели, синие вершины во мгле, морозный туман в падях.
Из скал выбегает речка — Старая Каменка. В устье ее, на льду, в ущелье, закрытом от ветров, — больджары — ярмарка. Русские, орочоны, манягры, солоны, тунгусы, маньчжуры и китайцы съехались торговать. Коняев уговорил охотников завернуть сюда же. Те согласились. Каждому хочется повидать своих приятелей — их тут будет немало.
Дымятся костры. Слышен бубен. Пахнет жареным мясом. Олени, собаки, лошади, нарты, сани… Даурские вьючные кони… Повсюду на снегу грудами лежат меха.
Около купца шумит толпа. Там меняют меха на спирт и ханшин. Мертвецки пьяный манягр с непокрытой, заиндевелой от мороза головой лежит, уткнувшись лицом в сугроб.
Вокруг русских собрались охотники. Маркешка, в дабовой рубахе, без шапки, в ичигах, сидит на корточках, сосет трубку. На мешке лежит его винтовка. Маленький желтолицый казак даже не смотрит на свою работу. Его винтовки всем известны. Орочоны в верховьях Амура и в Маньчжурии добывают тысячи разных зверьков его оружием. Орочоны стреляли из винтовки, пробовали бой, меткость, и сейчас хотят покупать.
— Эй, Миколка! — зовет Коняев. — Что, не узнал меня?
Из толпы вылез круглолицый, низкорослый орочон. Завидя Коняева, он смутился.
— Долг привез? Помнишь, я тебе порох дал да ножик?
Маленький орочон с бледным лицом что-то хочет сказать. Голова его трясется от волнения.
Подошел пожилой купец маньчжур в мохнатой шубе нараспашку. Черные усы нависли по углам рта.
— Анда, Андрюшка! — скалит купец белые зубы.
— А, богдо Сагун! Анда!
Торговцы с размаху хлопнули об руки.
— Анда! Анда! Дорово!
— Здорово!
— Нама идит. Угости буду. Поговори-поговори буду нама.
Коняев и маньчжур пили вино и беседовали в палатке.
— Добрый парень! — хлопал Андрея по плечу богдоец. — Торгаш!
Орочон Миколка топтался у входа в палатку.
— Миколка-то мой, — вдруг сказал богдоец.
— Миколка-то? Нет, уже этот мой… — возразил Коняев.
— Уступай мне Миколку, — хмуря густые брови, строго молвил богдоец. Тута против нама поговори нельзя.
— Эта земля наша, — вмешался в разговор торгашей Хабаров, показывая на березовый лесок на бугре. — Вот тут наша пашня была. Скоро опять поселимся.
— Тут наша!
— Чего еще скажешь? Если разбираться, так совсем земля не ваша. Тебе башку нойон ссечет, если узнает, что сюда ходишь с русскими торговать.
— Ну, так уступай Миколку, — заговорил Коняев.
— Не могу так.
— Миколка крещеный. Он ясак нашему царю платит, ездит к нам. Ваш царь дозволил им по старинке ясак отдавать на Русь. Видишь, орочоны от века более склонность к нам имеют.
Купцы долго ссорились из-за должника.
— А вот ты сказал, что тут земля ваша… — опять обратился к маньчжуру Маркешка. — А неподалеку был у нас город Албазин. И ручьям и речкам наши названия. И орочоны все крещеные. Эй, Миколка, как этот ключ по-орочонски?
— Все равно, по-орочонски ли, по-богдойски ли, как ли, — Старый Каменка, одинаково!
— Видал! Издревле прозванье! Понял?
— Нама нету понимай.
— Ну, фамилия ключу русская. Значит, и ключ наш!
— Ты, Миколка, купцам не поддавайся! — сказал Карп. — Живи себе хозяином. С ними, тварями, только свяжись.
— Кому из них платить? — спрашивал орочон.
— Никому не плати, — полушутя сказал Карп. — А с нами пойдешь в тайгу проводничать — вот и будешь с Коняевым в расчете.
— Э-э! Я так не согласен! — закричал Коняев.
— Это мало важности, что ты не согласен, — ответил Карп. — Даром ты с нами потащился? Знаю я тебя, от тебя хлопоты одни.
Охотники накинулись на Коняева. Он уступил неохотно, тая мысль, что все равно со временем долг сдерет.
— Мы собрались на Нюман охотиться, — сказал Михайла орочону, — можешь провести?
— Конечно, могу! Оленей надо… Улус-модонский караул обойти, а там Айгун — и всё. Дальше дорога открыта.
— Миколка, ты русский? — спросил великан Карп.
— Конечно, русский! — с обидой, что в этом еще смеют сомневаться, отвечал орочон.
Он расстегнул ворот и показал нательный крестик.
— Крест таскаем! Один род с русским. Встретился знакомый китаец с улус-модонского караула.
— Здорово, Чжан, — сказал ему мужик.
— Здорово, Карпушка!
— Табак ю?
— Ю! Ю!
— У вас хорошая листовуха. Ну-ка!
— Давай покури, покури…
Китаец и мужик задымили.
— Как нынче мимо вашего караула пройти? — подсел к ним Маркешка.
— Смотри, когда поедешь. Нынче наша начальник сам рекой ходит. Сам дань берет. Тебя встретит — в тюрьма тащит. Наша маленько помогает тебе, говорил китаец, — тогда ничего!
* * *
Маленьким, сухощавым орочонам синеглазый великан Карп был в диковину. С любопытством обступили они Бердышова, осматривали его одежду, лицо, огромные руки.
— Настоящий лоча! — говорили они.
Орочоны толпами шли к Карпу, обнимали и целовали его в щеки, приглашали к себе на «говорку».
Коняев, торгуясь, кричал, хлопал об полы, тянул богдоев к себе. А Карп, окруженный орочонами, целыми днями беседовал тихо и мирно про охоту, оружие, про меха, оленей и собак.
— Ты что им проповедуешь? — спрашивал Маркешка. — Колдуешь, что ли? Пошто к тебе льнут?
— Отцу от них отбоя нет, — смеялся Михайла.
— Если бы так ко мне липли, я всю бы ярмарку обобрал, — замечал Коняев. — А ты смирёный. Эх!
— Я гляжу, уж тут до того доторговались, — тонко пропищал Маркешка, что не купцы у охотников, а охотники у купцов соболей скупают, а то им ясака платить нечем. Дотрясли их. У вас, у купцов, что у шилкинских, что у маньчжурских, одинаково — побрякушки, барахло. А я привезу орочону ружье, ножик ли… ему на всю жизнь.
— Ах ты, чубук от старой трубки? — усмехнулся в рыжеватые усы широколицый Михайла. Усы у него редкие, короткие и только по углам пущены, как у маньчжура. Михайла время от времени покусывает их. — А про кринолины забыл?
Маркешка зло глянул на шутника.
— У нас в Нерчинске у инженеров барыни богатые, — говорил Михайла дяде Кузьме, а сам косился на Маркешку. — А забайкальские бабы у них перехватили. Мода прозывается, не юбка, а соборный колокол. Маркешка всю бы жизнь звонарил… Ну не лезь… — отмахнулся мужик, видя, что Маркешка хочет схватить его за усы.
— В последний раз на Амур схожу… — говорил Маркешка. — Доберусь до Зеи, пособолюю — и обратно… Нынче мне должна быть удача…
Хабаров много раз зарекался ходить в тайгу на всю зиму. Но, как страстный охотник, он не сдерживал зарока.
Наутро пришел орочон с оленями. Охотники укладывались в палатке, около маленькой железной печки. Шум, звон оленьих боталов, лай собак, многоголосый говор толпы доносились снаружи.
Миколка завертывал ноги пучками сухой травы и натягивал на них новые, сухие узы.
Предстоял обход улус-модонского караула, потом Айгуна. Близ Усть-Зеи охотники намеревались заехать в деревню, где ютились русские беглецы, ушедшие вниз по реке из забайкальской каторги. Один из них — Широков — был знаком казакам и всегда узнавал от охотников, что делается на родине.
Знакомый даур взялся отвести русских коней обратно на Усть-Стрелку.
Миколка повел промышленников дальше, вниз по Амуру. Через неделю охотники приблизились к китайскому караулу, стоящему на правом берегу реки. Чтоб обойти его, они свернули с Амура и вошли в дремучие леса.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГУСАЙДА
Мохнатые рослые собаки с торчащими красными кистями на головах, с колокольчиками и бубенцами на красных постромках быстро мчали по снегу широкие нарты с высокой, как у кресла, спинкой.
Толстый маньчжурский полковник — гусайда, начальник города и крепости Айгуна, возвращался домой после поездки по Амуру, где он собирал дань и заодно брал себе что придется. За его повозкой тянулся целый нартовый обоз. Везли калужий хрящ, рога оленей, меха, отобранные у местных жителей якобы в подарок богдыхану, и девушек, взятых за неплатеж долгов отцами.
Красное утреннее солнце катилось за прямыми косматыми тальниками. Далеко за снежной равниной, за желтыми островками и слабой полосой леса чуть проступали голубые низкие горы.
Тальники поредели, солнце, кружась, выкатилось на релку[37] и сразу набухло, стало красней, больше, словно надулось.
«Вот люди думают, что если человек толстый, то он счастливый, раздумывал полковник, лежа в нарте и пряча жирное лицо в воротник из выдр. — Нет, это неправда. Никто не знает, как я страдаю…»
Гусайда был очень толст. Возможно, и чина своего он достиг из-за толщины, потому что высшим начальникам всегда приятно назначить в полковники офицера потолще, и не будь он таким, генералы не обратили бы на него внимания. Но теперь, в айгунском карауле, гусайда так разжирел, что ему трудно стало ходить, трудно дышать. Он не мог надевать туфли без помощи слуг. Сидя за столом, то и дело приходилось откидываться, а то, казалось, жир подкатывает к горлу и душит.
Вчера гусайда задумал приласкать орочонку, поднялся и даже пытался подойти к ней, но не удержал равновесия, оступился и рухнул всей тяжестью на глиняную лежанку. Под лежанкой был дымоход, глина треснула, и труба испортилась, печь потухла; пришлось отступиться от орочонки, стало не до нее.
«Но все же хорошо, что я сам съездил за данью, а не доверился офицерам. Такие стали обманщики! А все говорят, что для путешествий надо иметь сильное тело и быстрые ноги. Это тоже вранье! Я объездил много деревень, отобрал самые хорошие меха, только что принесенные с охоты. А то мои офицеры уверяли, что мехов хороших дикари больше не добывают, что все черные соболи ушли из здешних лесов. А теперь я сам всё узнал… Правда, я по дороге все время лежал и ничего не видел. Но не беда! Зато какую хорошенькую, гибкую дикарку я везу! Злая! Цветок дикой лилии! Я свое взял. Я не купец, но каждый год целую сампунку отправляю на Сунгури. Я могу взять любую женщину, девушку, ребенка…»
Гусайда поднял лежавшую рядом трость и наугад, потому что в тяжелых одеждах ему трудно было повернуться, ткнул вперед, туда, где, по его расчетам, должен был сидеть урядник. Полковник удачно, с первого же тычка, попал в его спину. Тот сидел всю дорогу не шевелясь, зная, что если гусайда промахнется, будут неприятности.
Почувствовав палку, урядник зашевелился и откинул меховой полог, полузакрывавший возок.
— Ну-ка, раскури мне амбань-гамчи, — велел гусайда.
Урядник держал трубку поблизости. Он высек огонь, разжег что-то в железной жаровне, подбавил углей, раздул пламя, скатал и нагрел шарик опиума и сунул его в трубку. Потом пополз по краю нарты и вложил трубку в рот своего начальника.
Гусайда с удовольствием затянулся.
«Да, мы храбрый и великий народ. Мы покорили китайцев и двести лет владеем ими, — размышлял он, пьянея. — Мы выше всех других народов и ничего не боимся, поэтому можем быть толстыми. Я никогда не видел, чтобы люди других народов накопили бы столько жира. Другие народы работают, а у нас есть слуги, рабы… Мне можно еще толстеть! Другие народы ничтожны! Нигде нет таких толстых, крепких стен и такого множества солдат, как у нас. У нас много людей, и мы их не жалеем! Они наши рабы… Тут все мое… У меня большое брюхо, потому что я умен. Мне все завидуют. По брюху сразу видно умного человека. Пусть попробует глупец так разжиреть».
Возок остановился. Раздались крики. Заскрипел снег под чьими-то быстрыми ногами. Сверкая глазами, подошел худой офицер с голой длинной шеей, в меховой шапке с косматым верхом. Это Щука. Его прозвали так за худобу и длинные, выдающиеся вперед зубы. Вид у него и в новой одежде был всегда такой растрепанный, словно он одет в рванье.
— Неподалеку, на протоке, скрываются пять русских. Они вышли из тайги, сидят и греются у костров. Встречный купец донес об этом. Он продал им муку.
Полковник задрожал от гнева, в душе его забушевала буря. Он всегда возмущался, когда слышал что-нибудь про русских. Гусайда ненавидел их. Маньчжуры, поработившие Китай, более всего опасались, что русские могут сблизиться на Амуре с простым народом. Всевозможные меры велено было принимать гусайде и не допускать знакомств русских с китайцами. Маньчжуры следили, чтобы китайцы не ездили на Амур, и лишь для богачей, дававших взятки, делались исключения. Сейчас гусайда впал в ярость. Он был очень вспыльчив, ему хотелось сбросить свое сало и самому схватиться с русскими, но он был словно в колодке из собственного жира.
Полковник приказал не сворачивать с дороги, а ехать протокой прямо на русских и всех их схватить. Ему казалось, что солдаты и офицеры сейчас, так же как и он, полны желания сразиться с русскими.
Щука убежал. Нарты снова тронулись. Мимо, на маленьких возвышенностях, проносились рощи тонких тальников, похожие на китайские веера. Нежные видения природы! Как редко приходилось радоваться полковнику, глядя на леса и горы, на краски воды и неба! Когда едешь в нарте, видишь только высокие берега, и то уже кажется, что прекраснее нет ничего на свете… особенно если вот так на них растет лесок.
* * *
На льду пылал костер. Торчали стоймя воткнутые в сугроб лыжи. Пять собак, свернувшись клубками, лежали, глубоко зарывшись в снег. У огня сидело пятеро русских. Лица их почернели от обморозов.
День был жгуче студеный. Падала обильная изморозь.
Щука, урядники и солдаты с испуганными лицами побежали к костру. Гусайда велел и себя подвезти поближе.
Русские охотники не сразу разобрали, кто подъехал. Они только что выбрались на речной лед из лесов. В тайге во время обхода караула их постигло несчастье — пали олени. Последнего пришлось добить. За сушеную рыбу для собак Маркешка отдал ружье местным жителям. Казаки только что наловили рыбы в проруби, сварили уху и собирались жарить лепешки, как вдруг нагрянули маньчжурские солдаты. Завидя их, все поднялись. Только старик Карп остался сидеть у костра. У него болели ноги, и он не хотел бередить их.
— Ну, паря, попались! — печально проговорил Коняев.
Михайла схватил винтовку.
— Ребята, не ссорьтесь! — строго молвил Карп.
Подъехал открытый возок, и казаки увидели в нем важного толстого маньчжура.
Щука велел русским встать на колени и поклониться гусайде.
— А кто такой будет? — спросил Хабаров.
Щука объявил, что едет начальник Айгуна. Андрюшка Коняев снял шапку и заискивающе поклонился. Михайла, держа ружье, топтался в нерешительности, поглядывал то на отца, то на стражников.
— Скажи — я казак и мне нельзя ему кланяться! — тонким голосом воскликнул Хабаров.
— Мы мирные люди, ходили на охоту, — жалостливо и заискивающе заговорил Коняев.
Хабаров молча приблизился к возку и стал приглядываться к толстому полковнику. Тот лежал на боку. Под голову и под бок ему положили подушки, чтобы он мог видеть русских. Маркешка подступил к нему еще ближе.
Вдруг Щука, сверкнув глазами, что-то крикнул. Солдаты зашевелились и двинулись на русских.
— Эй! — забеспокоился Карп и поднялся во весь рост.
Появление великана было неожиданностью для солдат. Они замешкались и отпрянули.
— Мы худа никому не делаем, — сказал Карп по-тунгусски и добавил: — Не трогайте нас.
Щука побледнел как снег. Он понимал — на карту поставлена вся его карьера. На виду у полковника во что бы то ни стало следовало схватить русских.
В этот миг гусайда вдруг вскрикнул и завизжал, словно его чем-то придавили.
— Хватайте их! — в ужасе заорал Щука, знавший, что полковник визжит так, лишь впадая в крайний гнев.
Урядник выхватил саблю, солдаты подняли пики. Но не успел урядник замахнуться, как Михайла Бердышов вышиб саблю прикладом своего ружья, дядя Кузьма подставил ногу офицеру и дал ему такую затрещину своей костлявой рукой, что долговязый Щука, потеряв мохнатую шапку, чтобы не упасть, пробежал несколько шагов, припадая. Халат его распахнулся. Он свалился на колени около упряжки и, желая как-нибудь удержаться, обнял собак.
Михайла засвистел, заложив в рот пальцы обеих рук. Великан Карп выпалил из дробового ружья. Собаки рванули и с истошным воем пошли наутек. Тронулся и сбился в груду весь обоз; постромки перепутались, вожаки кусали своих собак и яростно лаяли, требуя друг у друга дороги.
Девушки-орочонки соскакивали с нарт и разбегались во все стороны.
— Турге, турге![38] — показывала одна из них на пустую нарту.
Она взвизгнула с досады, видя, что русские не преследуют грабителей, подняла с нарты лук со стрелами и стала тянуть тетиву, целясь по удалявшимся разбойникам.
— А где же Маркешка?! — воскликнул дядя Карп в сильном волнении.
Маркешки не было.
— Эй!.. — отчаянно закричал Михайла.
Маленький Маркешка, сидя верхом на толстяке, удалялся в полковничьей нарте. Содрав с гусайды шапку, он одной рукой крепко держал его за косу, а другой колотил изо всех сил по жирному лицу, вымещая на толстяке все обиды, которые пришлось претерпеть за это путешествие.
Испуганная упряжка собак шла все быстрее. Гусайда пытался столкнуть Маркешку, но тот ухватился цепко. Толстяк в своих тяжелых одеждах бился всем телом. Время от времени и ему удавалось вцепиться Маркешке в лицо, и тогда оба они в ярости начинали царапаться.
Между тем собаки разнесли.
Насмерть перепуганные солдаты, тяжело дыша, бежали за нартами, торопясь спасти своего полковника. Где-то далеко в морозной мгле слышались крики русских и редкие ружейные выстрелы.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ АМУРСКАЯ РАВНИНА
Гребень хребта обрывался круто. Над пропастью и по камням густо рос молодой ельник и стелющийся кедр. Алексей Бердышов стоял над обрывом.
Алексей, расставшись с Позем, жил на реке Кур с тунгусами и гольдами. Зимой он снова тронулся в путь.
Он шел к Нюману, по пути охотился, добывая пушнину.
Вот уже два года ходит Бердышов по Амурскому краю.
Алексей твердо решил, если к нему по возвращении опять станут придираться, уйти на Амур совсем.
Теперь у него были меха и золото, и Бердышов надеялся откупиться от полицейских начальников. Он знал — за хорошую пушнину полицейские его простят. Ругай царя, каторгу, полицию, но дай взятку — и дело сойдет.
Внизу вокруг желтых скал расстилался лесной океан.
Дул ледяной ветер, покачивая громадные, взбиравшиеся по обрывам редкие лиственницы. В глубине долины, среди синих лесов, пала белой лентой река. За ней хребты снова поднимались в глубочайшую синь, загроможденную кучевыми облаками.
— Вот и Нюман, — сказал себе Алексей.
В верховьях ключа разбил палатку. Алексей, высчитав по следам, что в окрестностях живут девять соболей, поставил ловушки и самострелы. Он затеял целую войну против зверей, решив не уходить, пока все девять не будут в мешке.
Каждое утро он читал по следам таежные новости.
Два сохатых истоптали снег. Видно было, что они драли лохмотья тонкой, как бумага, бересты с черноберезника.
Алексей выследил и убил лося. Он разрубил тушу и сложил куски мяса в снятую шкуру, как в мешок, и все засыпал снегом.
Через неделю Бердышов пришел за мясом, но оказалось, что приходила росомаха, разгребла снег и все растащила. Алексей ходил по ее следам. Он нашел все части туши, кроме головы.
По следу видно было, что росомаха с трудом тащила свою ношу, что голова зверя скользила по ее спине и валилась набок, прихватывая снег. Росомаха долго топталась на месте и что-то придумала, потому что дальше по следу не заметно было, чтобы тяжелая ноша свисала с ее спины.
«Что же она придумала?» — размышлял Алексей.
След росомахи пропал у дерева. Тяжелая сохачья голова висела на суку.
Сняв голову зверя с дерева, Алексей увидел, что у нее со лба содрана кожа.
— Смышленая росомаха! — удивился Алексей. — Содрала со лба лоскут и завалила ношу на шерсть мясом, чтобы не скользило. Догадалась, что шерсть на шерсть скользит. А вот говорят — зверь не умеет думать!
Алексей решил, что у такой умной росомахи должна быть хорошая шкура. К тому же вообще хотелось видеть ее.
И Алексей поймал эту росомаху.
Он охотился на ключе целый месяц и, переловив соболей, пошел к югу.
Начинались сплошные заросли черной березы, дубов, кленов, дикой яблони. Сопки становились меньше, кудрявей, веселей. Исчезли голые скалы, каменные осыпи.
Тайга меняла цвет, светлела, краснела. От густых дубняков с неопавшей желтой листвой сопки в солнечный день казались холмами сухого, коричневого песка. Местами их словно кто-то перекопал, набросал лопатой черной земли. Это пятнами в светлых лесах чернели кедрачи и ельники.
Становилось теплее. Под корнями столетних деревьев, в сугробах зажурчали ручьи-тепловоды. В теплой грязи стадами лежали дикие свиньи. Начиналась та заветная сторона, где всю зиму, несмотря на стужу, черные воробьи и кабаны купаются в речках, где вызревает и завивает тайгу дикий виноград.
Через две недели пути охотник вышел на бескрайную равнину.
Она казалась красной от множества обнаженных стволов и прутьев и походила на сад, которому нет конца. Побеги лиан и винограда в руку толщиной вились по деревьям. Чем дальше, тем реже становились заросли. Начались похожие на посевы белые и желтые поля колосистой и тучной прошлогодней травы.
Оленьи рога плыли над дикими глубокими лугами. Трава скрывала оленей с всадниками. Вьючные животные хлюпали лапами по влажной земле.
Алексей видел, как черный барс, высоко подпрыгивая, гнал по долине тысячное стадо рыжих коз.
Рощи тополей поднимались на горизонте.
Кругом бушевало море травы и леса. Ветер трепал ветви диких яблонь и груш. Стучали толстые сухие дудки трав. Дубы звенели медной сушью листвы.
Одинокие низенькие сопочки далеко-далеко выбежали на равнину, отбившись от своих хребтов, как молодые оленята от стада.
На равнине наступала весна. Когда Алексей, ехавший с тунгусами, слезал с оленя, черная липкая и вязкая земля хватала его за ноги, засасывала, словно знала, что идет пахарь, звала остаться. В корнях травы, под гниющей листвой, набирал Бердышов горсти черни. Это был не болотный ил, не речной наносник, а настоящий чернозем, и раскинулся он во все стороны без конца и края, дал рост дубам, липам и черноберезнику, диким яблоням и буйным травам.
Алексей снова садился на оленя. Он ехал, думая о том, что земель здесь хватит для целого народа. Под эти тополя к рощам просился тын да белые домики с железными крышами, зимники, пашни.
С севера дул холодный ветер. Птицы навстречу ветру летели над равниной. Стаи их, осыпая деревья, клевали прошлогодние плоды и ягоды. Птичий клекот стоял в воздухе.
Многотысячные караваны гусей шли в глубокой вышине.
Солнце палило все сильней. Листва ударила из лопнувших почек. Руки Алешки покраснели от свежего загара.
Вдали блеснула вода. Утки налетали парами. Чернела гнилая трава. Начинались болота. Охотники приближались к Зее. Алексей не знал, далеко ли до родной станицы. Быть может, тысячу верст, а быть может, две или три. Казак знал только, что, спустившись по Зее до Амура, придется ему под парусом, бечевой или на веслах тащиться против течения долгие-долгие недели.
Конец первой части
Часть вторая МАРКЕШКИНО РУЖЬЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОДНОЕ СТОЙБИЩЕ
Косыми пластами лежат истаявшие сугробы и множеством открытых пастей просят у солнца пощады.
Шумит вода, проедает лед и уходит в его толщу.
С каждым днем становится жарче. Солнце принялось сгонять снега с хребтов. Сначала на белых сопках сквозь сугробы протаяли скалы, дня через три-четыре зачернели прогалины на солнцепеках. Вскоре южные склоны сопок очистились и порыжели.
Идти приходилось по тенистым местам, где еще лежали снега. Собаки выбивались из сил, волоча тяжело груженную нарту по камням и по грязи.
— Медведь уже вылез! Вода в берлогу налилась! — замечал Чумбока. Лось ходит с маленькими лосятами. Сейчас хорошо охотиться на глухаря и тетерева.
В зимней одежде жарко охотникам, пот валит градом, все тело в расчесах.
Близится перевал. Редеет лес.
Чумбока что-то увидел в траве и замер. Остановились измученные собаки.
Потолстевшая Дюбака, в кожаных узлах и меховых штанах, присела на нарту.
Она беременна, ей тяжело, но она идет вровень с упряжкой, помогает собакам тянуть нарту.
— Скоро перевал… Скоро на свою сторону выйдем.
— Девять бурханов,[39] дайте нам дорогу, — просит Чумбока, — по этой дороге счастливо проведите нас! Не убейте…
Из земли торчит железо.
— Смотри — опять железная шапка, — говорит Чумбока брату, тронув ржавый шлем.
Братья опустились на колени и стали просить у Хозяина тайги, чтобы пропустил их, не погубил, как человека в железной рубашке.
В желтой прошлогодней траве по-весеннему журчит ручей. В тайге стоит тишина. Буйная густая поросль обступила кости в железной одежде…
Помолившись, гольды поднялись.
— Ну, теперь скорей пойдемте!
Удога прикрикнул на собак, ударил вожака палкой.
Дюбака взялась за свою лямку и навалилась на нее всем телом. Удога помогает ей. Люди и собаки потащили нарту.
Тайга, заваленная камнями, во мхах и лишайниках, мокрая, прелая, со множеством почек на ветвях, в запахах задышавшей коры.
С перевала открылся вид на низкие рыжие хребты и на сине-белую реку с промытыми льдами.
— Ручей журчит! Уй-уй! Вода бежит! — восхищался Чумбока.
Чистый, прозрачный ручей журчит по камням. Вот и черные березы с тонкой, рваной, потрескавшейся берестой, похожей на желтую китайскую бумагу.
— Эта вода уже на нашу сторону бежит, — радостно говорит Удога.
Он припадает к ручью и пьет.
Охотники спускались к долине Мангму.
Начались заросли аянской ели и высочайшей белой русской ели, черноберезника, дуба, липы. Паутина, сырость, мхи…
* * *
— Идти тяжело. Только по оставшимся льдам у берега речки собаки пройдут, а то сдохнут, — говорил на привале Чумбока.
Дюбака пела:
На холодной далекой реке, Между острых скал, Русский копьем бьет медведя, Копьем бьет медведя, не боится, По всему Мангму русские кости гниют, Отмщения ожидают.Братья кормят собак, разбивают палатку, Дюбака готовит ужин.
Женщина чувствует в себе новую жизнь. Она тихо улыбается… «Вот он опять ножками стучит. Когда ночью переворачивается — спать не дает. Всегда просыпаюсь. Все ножками стучит и стучит. Ай-ай, какой ты проворный! Зверя будешь быстро гонять, этими ножками быстро будешь бегать… Мамке мяса принесешь…»
Ночью долго не спит Дюбака, смотрит в полог, где сквозь проредевшую бязь просвечивают семь звезд Большого Амбара.[40]
«Будет ребенок сказку слушать. Расскажу ему: четыре звезды по углам четыре столба. Еще три звезды лесенкой — три ступеньки… как медведь в амбар полез за юколой… Русские кости в железных рубашках по всему Амуру догнивают. Когда последние черепа сгниют, русские на Амур вернутся… Так мой отец Локке говорил…»
Дюбаке жаль неизвестного человека, забредшего в трущобу и погибшего там…
«Может быть, это отец отцов моих, русский старик, догнивает… Может быть, его потомок маленький мне в сердце ножками стучит…»
На другой день в полдень охотники вышли к Мангму. Ледяной равниной раскинулся он, еще почти не тронутый лучами солнца, со всеми тростниками, сугробами, завалами.
— Велик, велик Мангму! — пали ниц братья.
Стали появляться птицы. Пролетел коршун. Нарту, мчавшуюся по льду, перегнала стая чаек.
Талый снег с водой хлюпал под полозьями. Мерцал теплый воздух. Лед, провисший в зимнюю убыль, так и не выровняло, изогнутым пластом лежит он на отмелях.
«Воды в Амуре мало», — думает Удога.
По дороге в Онда охотники остановились в Мылках, у матери Дюбаки.
* * *
— Пьякто кобель хороший, в нарте может ходить, охотиться может, хвалил Чумбока свою собаку.
Покупатели, сидя на корточках, осматривают Пьякто.
— Кушал, нет ли? — спрашивает худолицый Денгура, ощупывая красной рукой собачье брюхо. Он может узнать на ощупь, кормлена ли.
— Пьякто самая хорошая собака! Лапы белые, сама черная. Маленьким Пьякто всегда привязанный был, поэтому не ленивый. У той собаки силы много, которая щенком на крепкой веревке сидит. Маленьких ребятишек тоже так надо привязывать веревкой к стене. Тогда будут хорошие, когда вырастут, лениться не будут.
Сейчас не время торговать собаками. На собак нет цены. Промысловая пора закончилась. Но Денгура говорит, что любит хороших собак и хочет купить Пьякто. Чумбока догадывается, что не в собаке дело, не Пьякто хочет купить он, а меха, но, чтобы расположить охотников, думает втридорога заплатить за собаку, а меха взять по дешевке.
Братья еще в пути решили, что до приезда домой никому мешков не откроют. Они отдадут долг Гао. Кроме того, надо справлять по отцу поминки. У Удоги будет ребенок. Младшему тоже надо жениться.
Хотя невеста из рода Самаров, но Удога соглашается помочь брату высватать Одаку.
Чумбока заломил за Пьякто такую цену, что кровь кинулась Денгуре в лицо. Его острые толстые уши стали как стручки красного перца.
— Хунхузы! Разбой! — воскликнул он.
— Мы хунхузы? — подскочил Чумбока, держа на руках Пьякто.
Собака заурчала и оскалила клыки.
Денгура испуганно поднялся, опасаясь, что Чумбока кинет на него собаку или Пьякто сам укусит его лицо.
Денгура обиделся. Торговля не состоялась. Чумбока был очень рад. Близился ледоход. Приходилось торопиться. Охотники простились со старухой и снова тронулись в путь.
Рыжие и белые леса выступали щетиной на горах. Великий Мангму ледяным пластом лежал меж горных хребтов. По грязным льдам охотники подъезжали к родному стойбищу. Грязь на берегу подсохла. Нарты сползли с речного льда на гальку. Псы корячились, напрягаясь изо всех сил. Чумбока кричал, бил их, и тяжелая нарта с оружием, добычей, одеждой, палаткой и мешками поползла по сухому песку и камням.
«За зиму все охотничье снаряжение изорвалось, износилось, палатка стала дырявая, сохачьи шкуры истерлись, — думает Дюбака, — одежда сгнила. Все лето надо чинить, шить. К осени делать новые мешки, новые нарты». Но сейчас и думать об этом не хочется. Вдали рыжие крыши, необрубленные балки на них торчат, как рога… На отдых, в семью, домой… Собаки рвутся, лают…
Ойга бежит встречать детей. За ней спешит дед Падека. Слышится пискливый голос Уленды. Сбежалось все стойбище.
Все пошли в дом. Начались расспросы. Ойга с не терпением ожидала невестку. Она знала, что так и будет… Старуха не нарадуется: скоро невестке рожать, — видно уж по тому, как торчит живот.
— Тебя ждала, вышила новый халат. Нитки брала у китайца.
Дюбака смущается. Женщины обступили ее. У Ойги болят глаза. Веки опухли, гноятся.
— Печка так дымит, — жалуется она, поднося Дюбаке подарок.
На спине халата желтая лошадь с серебряными кругами по бокам. Ноги у нее дугой, голова голубая, а хвост зеленый. Тут же петухи, змея и драконы.
— А у нас охота была плохая, — жалуется дед Падека.
— Нам мешали охотиться злые духи, — пищит Уленда. — Знаешь, появился новый злой дух — Секка! Он съедает у соболей сердца. Соболя скучают, их шкурки желтеют, меркнут. Секка родится, когда поженятся парень и девка из одного рода.
«Вот еще глупые разговоры, — подумал Чумбока. — Мы с такой радостью ехали домой, так торопились. А не успели приехать, как уже опять разговоры про чертей и что нельзя жениться на девушке из своего рода. Теперь начнется…»
— Неправда, неправда! — закричал Чумбока. — Секка родится совсем не от этого. Виноват Бичинга. Он стал слаб и распустил своих чертей. Черти стали шляться, где им не полагается. Это я слышал на Хади, на море, где мы охотились, — об этом говорил мне один шаман. А тебе, дедушка Падека, хорошо бы найти рогатую лягушку — тогда все твое имущество удвоилось бы и ты мог бы не работать!
Собравшиеся стихли. Все с удовольствием слушают про рогатую лягушку. Чумбока кстати затеял такой разговор. Ведь все жители Онда с большим трудом добывают зверей, проводят целые зимы на промысле, спят кое-как, выбиваются из сил и получают за драгоценные шкурки горсть крупы или глоток водки. Поэтому каждый мечтает о том, как хорошо бы найти какое-нибудь чудодейственное средство, талисман или увидеть счастливый сон, чтобы сразу разбогатеть, а то нет иной надежды выбиться. Чумбока привез хорошие новости. Здесь еще не было слышно про рогатую лягушку. Хорошо бы, конечно, найти такую. Тогда можно пожить сытно и не работать.
Поговорили про злых духов. Старики поглядывали на тюки и узлы, привезенные братьями с охоты, и ощупывали их.
Удога знал, что все ждут, когда он развяжет мешок с пушниной. Хорошему охотнику так приятно бывает возвратиться домой с охоты, бросить мешок в угол и не спешить показывать свою добычу… Люди ждут с нетерпением, но молчат, не смеют попросить, чтобы не выказывать любопытства, а тем временем говоришь про рыбалку или о том, что в тайге весной сыро и от этого зябнешь сильней, чем зимой.
У очага сушится снасть, свисают крючки, каменные грузила, балберы из коры пробкового дерева.
Удога не торопясь разулся, снял кожаные наколенники. Его длинные ноги в белых меховых чулках. На нем кожаная рубашка с деревянными пуговицами и широкие штаны без разреза, подхваченные сыромятным ремнем.
Мать подала белое рысье мясо. Как хорошо дома! Кан горячий, ноги согрелись, в груди тепло. Старуха звенит в углу — подбирают талисманы для зыбки…
Поевши горячей рысятины, Удога за разговорами пододвинул и развязал мешок. Груда пушной рухляди вывалилась на кан.
— А-на-на! Как много мехов! — пропищал Уленда.
Гости обступили хозяина и его добычу.
— Иди в лавку, купи мне чего-нибудь! Ты должен любить своего дядю…
Все возбужденно засмеялись.
— Моей жене с удачи серьги купи! — заметил обычно молчавший Ногдима. Гао привез с нефритовым камнем.
— Хорошо бы теперь съездить к гилякам, купить у них русской водки и топоров, — зашамкал курносый и лохматый Падога, приглядываясь к мехам.
— Всем в роду с удачи надо купить подарки, — потихоньку говорит старая Ойга, подавая сыну горячий жир.
Удоге хотелось бы сейчас рассказать, как вот этот соболь сердился и кричал… Кричал, как человек, не уходил из дупла… Но теперь никто не захочет слушать. Чумбока пытается рассказать про русское ружье, как далеко и метко оно бьет, но старики заговорили, что надо теперь обязательно сделать поминки по Ла, да хорошенько угостить водяного, чтобы все лето рыба ловилась.
— Долг как-нибудь на тот год отдашь, — обращаясь к старшему сыну, бормочет Ойга. — Живи как люди. В роде живешь — уважай род! Все в долг живут, и ты должен.
«Хорошо еще, что Чумбока догадался, мешочек с лучшими соболями спрятал в амбаре так, что никто не видел», — думает Удога.
На другой день с утра в доме опять народ.
Братья, сидя на чистой циновке, потягивали ханшин из медных чашечек. Дюбака обмазывала глиной котел, чтобы печка не дымила, чтобы не болели глаза у Ойги.
— Не старайся, — говорят соседки, — никогда не бывает, чтобы дыма не было. Всегда дым в юрту идет. Терпи!
— Нет, мой отец делал такие печки, что дым не шел.
Дюбака не поленилась, перебрала камни очага, котел обмазала плотно, и, когда затопили, весь дым потянуло под кан и оттуда на улицу, в дуплистый ствол дерева.
Удога и Чумбока отобрали лучших соболей и отправились в лавку отдавать долги.
У дома Вангба шум и веселые крики. Старик Гао Цзо сидит на корточках, с петухом в руках. Старший сын щиплет живую курицу, заломив ей крылья. Курица в ужасе бьется, кричит.
Когда подошли гольды, сын торгаша кинул общипанную курицу на землю, и она, спотыкаясь, забегала.
Торговцы завизжали. Старик, вздрагивая от смеха и икая, подкинул рвущегося петуха на воздух. Тот взлетел с криком и, упав на землю, кинулся за курицей.
Глядя, как петух стал клевать ее в темя, торгаши запрыгали от удовольствия, подхватывая свои шелковые юбки.
Петух заклевал жертву. Гао-средний свернул курице голову и понес ее в котел.
«Так вот почему Гао любит этого петуха, — подумал Удога, — петух такой же разбойник, как хозяин».
Гао сладко улыбался. Он подставил Удоге щеку, забрал все меха, но смотреть не стал.
— Сегодня вас угощу хорошенько, а завтра посмотрим меха и сосчитаемся, — ласково сказал он.
Братьев посадили на теплый кан, дали им водки, свинины, гороху, угостили курицей…
Под вечер на реке раздался гул. Все стойбище высыпало на берег. Мангму тронулся. Ледяные горы поползли, громоздясь друг на друга. Рыба кинулась к берегу. Дети били ее палками, ловили руками и выбрасывали на берег щук, максунов…
Ночью светила луна. Лед быстро расходился, открывая широкие и блестящие водяные поля. Истаявшие льдины с шипением разваливались под берегом.
Остроносые куски льда, выброшенные на мель, казались в темноте огромными черными лодками, обступившими всю отмель у Онда.
* * *
— Купцы ныне плохо берут соболей. Соболей везде много, и цена на них упала, — сказал Гао Цзо, когда братья пришли к нему утром.
— Какие же меха в цене? — спросил Удога.
— Выдры! — ответил Гао.
— Так у меня есть и выдры! Вот! — вытащил Удога из-за пазухи длинную коричневую шкуру.
— Нет, нет. Отец забыл! — закричал старший сын. — В цене рыси! Рыси, он хотел сказать! Рыси, а не выдры. Рыси, отец!
— Рыси? — переспросил Чумбока.
— Да, да, рыси! — подтвердил Гао. — Я ошибся.
— Жалко! Рысей нет!
— Очень дороги, — тихо бормотал старик. — Три соболя дают за одну плохую рысь.
— Верно, что рыси? Вспомни хорошенько. Может, ты опять ошибся?
— Рыси, рыси… — отозвался Гао.
— А почем у тебя конская волосинка? — спросил Чумбока.
— Ну, это пустяки, — сделал вид Гао Цзо, что не понял насмешки.
Горбоносый маленький Чумбока зло оглядел торговца.
«Наверно, врет, что соболя нынче не в цене, — подумал он. — Рысь у нас только одна».
Гао велел подать вчерашние меха. Работник принес десяток рыжих соболей. Удога остолбенел.
— Это не мои меха, — сказал он.
— Как это не твои? — приоткрыл узкие глаза Гао.
— Мои были черные.
Гао съежился, вобрал глубже в плечи свою плоскую седокосую голову. Желтые морщины набежали на его лицо. У пожилого торгаша было такое выражение лица, как будто в рот ему попало что-то очень горькое.
— Да, парень… Мне тебя жаль… Были черные соболя, когда вы поймали их. А потом, наверно, их много показывали людям, когда приехали домой, держали их на солнце, и они выцвели. Вот и стали рыжими. Ты их вечером смотрел, когда приехал?
— Вечером.
— Вечером все соболя черные. Надо на солнце, на дневном свету смотреть. Но не беда, я возьму и таких! Я тебе помогу!
Удога недоумевал: как все это произошло? Скорей всего — не соболя выцвели, а купец их подменил. Но как-то не смел Удога твердо сказать об этом в лицо Гао.
— Я тебя люблю? Ты хороший человек! — говорил Гао. — Ты, наверно, мешок с мехами на солнце держал, когда ехал, — соболя и выцвели.
«Может быть, и верно говорит Гао, — размышлял Удога, — выцвели соболя. Или я не заметил, что они рыжие? Неужели Гао станет так нагло в глаза лгать?»
А похоже по лисьему выражению лица торгашей, по их сощуренным глазам, по хитрым улыбкам, что они лукавят.
Гао посчитал на маленьких счетах, заглянул в книгу. Оказалось, лишь небольшая часть долга покрылась соболями.
— Так много тебе принесли хороших мехов, а долг все еще большой? — с досадой сказал Чумбока.
Все торговцы быстро и как бы с неприятным удивлением взглянули на него.
— Не так много ты добыл, как тебе кажется! — воскликнул старший сын Гао. — Это ленивые ондинцы тебя похвалили, а ты уже и поверил им!
Гао Цзо подманил к себе Удогу и хотел потрепать его за ухо, но тот уклонился.
— Не бойся, не бойся! Я тебе подарок приготовил… Есть спирт. Пьяный будешь… Угостишь родственников…
Удога был так огорчен, что ничего не ответил, и братья, не прощаясь, ушли из лавки.
Дома Ойга угощала Уленду сохачьим жиром и рябчиками. Старик ел нехотя и поглядел на вошедших братьев с таким видом, словно ожидал от них чего-то другого.
Он теперь все время проводил в гостях у племянников, ел или курил трубку.
Выслушав рассказ Чумбоки о новом обмане Гао, старик взвизгнул насмешливо:
— Какой ты, Удога, дурак! Дождешься, что Гао отколотит тебя палкой! Хозяина надо слушаться! Напрасно ты не взял араки! Ты теперь женатый человек, скоро у тебя ребенок будет. Ты должен стать смирным, а то твоей семье плохо придется. Если будешь ссориться с торговцами, тебя погубят. Твой ребенок сиротой может остаться.
Удога сидел темнее тучи и молчал. Он понимал: его хотят запутать долгами, сделать из него раба, и что Уленда прав — теперь, ставши семейным человеком, он должен быть осторожнее.
— Надо терпеть, нельзя теперь драться тебе, — пищал Уленда.
Пришел дед Падека, Чумбоке пришлось рассказывать ему все сначала.
— Конечно, Гао Цзо хороший человек, — ответил дед, — веселый! Водка у него есть, а от водки весело. Сколько водки у него в ящиках! Полон амбар! Вот веселый амбар! Его амбар полон веселья, а наши амбары полны слез. Ты, Удога, умный парень! Если не берешь водку у Гао, — значит, не хочешь его веселья. Делай как знаешь, может быть, мы у тебя поучимся…
В дом вошел курносый Падога. Старикам подали угощение.
— Чего ты задумал? Почему в лавке водку не берешь? — приставал Уленда к Удоге.
Он был недоволен племянниками, полагая, что с удачи они должны угощать родственников.
— Торговцы идут, торговцы идут! — вбегая, закричали испуганные дети.
Старший и средний сыновья Гао принесли ящик водки.
— А-на-на! Сколько водки! — обрадовался Уленда.
— Отец послал подарок…
— Эта водка нам не нужна, — сказал Удога.
— Как это не нужна? — возмутился Уленда.
— Да нет, теперь уж надо выпить! — воскликнул Падека.
— Открывайте, открывайте! — заговорила старуха. — Угощайте людей… Не срамитесь, дети!
Старики живо сорвали бумагу с ящика, открыли отверстие, стали черпать водку и разливать по чашечкам.
К вечеру все стойбище было пьяно. Голодные гольды пьянели быстро и валились где попало.
Удога не пил.
«Родственники узнали, что охота удачная, и все идут ко мне, всех надо угощать. Получается, что совсем можно разориться из-за того, что была хорошая охота. Ладно еще, что у нас есть спрятанные меха. Гао знает — все меха можно у пьяного взять за водку. Они всегда так: спаивают, а потом отбирают все у пьяных».
Старший сын торговца, ухватив за ноги двух мертвецки пьяных гольдок жену Ногдимы и сестру Алчики, — выволок их из дома. А пьяный Ногдима смотрел и ничего не понимал.
— Ваше племя как собаки, — говорил старший сын Гао, подсаживаясь к Удоге, — с вашими можно делать все, что захочешь. Твою бабу можно тоже напоить пьяной и таскать по снегу за ноги.
Торгаши засмеялись. Старший сын Гао вдруг схватил Удогу двумя пальцами за нос. Парень оттолкнул его в грудь и выхватил нож. Кто-то ударил Удогу по глазам так, что брызнули искры. Удога вскочил, но торговцы, видя, что он трезв, один за другим выскакивали в дверь, хватаясь за свои ватные штаны, как бы ожидая ударов сзади. Чумбока схватил ружье и, выбежав за ними, выстрелил.
Гнев душил Удогу. Он понимал, что все подстроено, что не зря послан подарок, что его хотели напоить и избить. Он чувствовал в себе огромную силу, но сдерживался.
«У меня семья… Должен родиться ребенок… Нельзя драться… Надо послушать, что говорят старики…»
Где-то в глубине души у Удоги жила надежда, что со временем он освободится от долгов и заставит Гао признаться во лжи, но для этого надо было терпеть и ждать.
Прибежал Чумбока, бросил дымящееся ружье, схватил остатки водки и выплеснул на снег.
— Что, не попал в торгаша? — спрашивали Чумбоку.
Утром нечем было опохмеляться. Недовольные гости расходились по домам.
* * *
Амур очистился. Воды его тянулись голубыми и белыми полосами. Удога решил готовиться к рыбалке.
В дом вошел старик Гао Цзо.
Удога был вежливый человек. Он уважал стариков. Братья поклонились гостю. Чумбока встал на колени. Старика посадили на кан. Из-под приподнятых век Гао внимательно оглядел лачугу и увидел, что под крышей сушатся беличьи шкурки и среди них две собольи. Довольство мелькнуло в лице торгаша, он сморщился, высунул кончик языка, и лицо его стало похожим на рысью морду.
«Рысь ко мне подкрадывается, — подумал Удога, — но загрызть не удастся…»
— Вот сын ездил… Привез твоему будущему ребенку. Это талисман счастья, — протянул старик железку с выбитым на ней иероглифом. — Очень дорогая вещь. Стоит три соболя. Я дарю его тебе бесплатно. Знаменитый талисман!
Братья поблагодарили купца. Гао подставил Удоге щеку — пришлось целовать. Он был гость, а обижать гостя нельзя.
— Я своих парней избил за то, что они здесь вчера безобразничали. Я строг с ними. Ой-ой, как я строг!
Гао Цзо дал старухе кулечек муки и горсть сахару.
— Сделай лепешки… Угости всех… Всю деревню…
Ойга ласково кланялась. Она унесла подарки к очагу и уселась, обдумывая, как можно такой малой мерой муки накормить всю деревню.
— О-е-ха! — воскликнул старик. — И что вы вчера поссорились?
— Сам не знаю, почему мы вчера поссорились, — насмешливо отозвался Чумбока.
— Я больше к тебе в лавку не пойду, — сказал Удога. — Меха продавать не стану. Долг за мной совсем не такой большой, как ты говоришь. Ты обманываешь! Отец совсем не был тебе должен…
Гао всхлипнул. Он утер слезы и сидел понурив голову.
Вошел дед Падека.
— Чего плачешь? — спросил он лавочника.
— Обижают! Долги набрали и не отдают. Когда искали защиты от Бельды ко мне шли. А теперь не хотят вспомнить моих благодеяний. Что бы случилось с вами, если бы я не заплатил за вас выкупы? Бельды всех бы вас убили или отдали бы в рабство Дыгену.
— Ну, давай считаться! — воскликнул Чумбока.
— Давай… Или нет… Вот отдайте эти меха, — кивнул старик, показывая под крышу, — тогда рассчитаемся. А я сейчас пойду, велю принести вам кувшин араки.
Гао проворно поднялся и довольно быстро заковылял к лавке.
Вскоре явился старший сын Гао.
— Давай мириться, — заискивающе улыбаясь, сказал он, — не надо ссориться. Приходите в лавку. Отец ждет, будет считаться, хочет все правильно сделать. Если мы пьяные разодрались — забудем. Будем мудры. У нас в старину был один мудрец, он говорил: «Забудем наши обиды». Мы следуем его завету. Это и в книге написано, и я могу эту книгу показать.
Братья решили еще раз сходить в лавку, попытаться отдать долг. Они взяли еще десять соболей, всех белок, выдру и лису.
— Вот, всего двадцать соболей мы тебе дали, — сказал Удога в лавке, долга отца за нами больше нет.
— Долг стал еще больше! — нагло воскликнул старший сын Гао, радуясь в душе, что братья признали долг Ла.
— Ты неграмотный, — стал объяснять старик Удоге, — еще не понимаешь, не умеешь считать, не знаешь арифметики. Те соболя пошли в уплату процентов. Соболя плохие, дешевые. А вот эти получше… Вот еще я тебе дорого заплачу за рыжую лису.
Гао слабыми, дрожащими руками потянулся к счетам.
— Халат сколько стоит? — спросил Чумбока.
Долго перечислялись разные вещи, которые Ла якобы брал в лавке. Гао, подняв голову, вдруг скинул все со счетов и объявил, что долг еще так велик, что и говорить нечего.
— Как так? — опешил Чумбока.
— Шуба дорого стоит.
— Дорого? Сколько?
— Очень дорого… — Торгаш вдруг опять заплакал и стал оборачиваться то направо, то налево, как бы ища от Чумбоки заступничества у сыновей.
— Долга теперь совсем нет, — твердо сказал Удога.
— Еще больше долг! — тихо ответил Гао Цзо.
— Еще больше долг за нами?! — подскочил Чумбока.
— Да. — Гао поднял лицо и открыл влажные глаза. Они были лукавы и веселы.
Чумбока готов был плюнуть ему в лицо.
Удога долго и терпеливо торговался. Он внимательно слушал все возражения торгашей и убедился, что они всеми средствами будут стараться вытянуть меха, пообещают что угодно, будут хвалить его, лгать, обманывать и уклоняться от честного расчета. Они даже сказать не хотели, сколько он должен. Конечно, отец не был им должен.
Удога теперь, после нового обмана, глубоко убедился в этом.
— Вы живете, как все мы, — учил Уленда, когда братья возвратились домой. — Что за нами записано — нам все равно. Лавочник тянет с нас меха, а мы стараемся набрать у него побольше водки и крупы. Так и живем. Кто у кого вытянет побольше. И ты так старайся! А не дерись и не думай про подвиги. Не будь храбрым! А станешь подвиги делать — совсем пропадешь.
Но Удога не соглашался; он не хотел поддаваться хитрому Гао и не желал слушать трусливого Уленду.
* * *
А тайга уже зазвенела. Одака, которой, видимо, наскучило ждать, прислала Чумбоке привет со своей теткой, явившейся к Ойге за сушеной кожей черепахи.
— Желает, чтобы достали кожу черепахи! Лечиться хочет! Погнала меня на Амур, — жаловалась старуха.
После того как Чумбока получил привет с Горюна, ему так захотелось к дядюшке Дохсо, что он только про Горюн и думал.
«Брат в доме хозяин, и пусть он разделывается с долгами. Мне все это надоело, — решил Чумбока. Он стал собираться на Горюн. — Я парень молодой, мне погулять хочется».
Далекий путь предстоял Чумбоке. В берестяной лодке семь дней надо было подниматься против быстрого течения, по горной реке, в самые ее верховья, толкаясь шестиками о каменистое дно.
— А ты, брат, плюнь на Гао… Не давай ему мехов. Еще предстоит свадьба, да по отцу надо справлять поминки. Придется заплатить шаману…
Соболя для свадьбы были припрятаны.
Теперь оставалось уговорить дядюшку Дохсо…
— Нынче сделаем поминки по отцу, — сказала Ойга Чумбоке. — Долго не гости на Горюне.
ГЛАВА ВТОРАЯ ЧУМБО И ОДАКА
Шел проливной дождь, когда Чумбока заглянул в берестяной балаган дядюшки Дохсо.
Одака испугалась и вскрикнула, выронив шитье.
Мало ли случаев, что злой амба, выбрав время, когда девушка одна, являлся, приняв вид брата или знакомого… Начнет ухаживать, а из-за этого потом большие неприятности… Она только что думала про Чумбоку. Одака не смела поверить, что это он. Откуда бы сюда, на озеро, из которого вытекает Желтая речка, верхний приток Горюна, мог явиться Чумбока? Ведь он живет на Мангму.
— Не бойся, не бойся, — вытягивая шею, пробормотал Чумбока и робко ступил в балаган. Он и сам испугался за девушку.
Он вытерся рукавом и мокрыми руками, чтобы она могла лучше рассмотреть его лицо.
— Ну, скажи что-нибудь, — робко попросила Одака, приближаясь и заглядывая в его лицо с надеждой и страхом.
— Копяр-копяр! — подскочил Чумбока, повторяя припев песенки, которую еще в прошлом году напевал сестрице.
По всем ухваткам видно было, что это не черт.
— Если я амба, пусть гром меня убьет! — Чумбо наскоро пробормотал еще несколько заклинаний.
— Уй, какой мокрый! — вдруг, приходя в восторг, всплеснула руками девушка.
Ее сомнения рассеялись, но не от заклинаний. Она видела то же милое выражение лица, тот же веселый взор, слышала тот же голос.
— Сейчас дам тебе сухую рубашку!
Она кинулась к груде тряпья.
Чумбо, как все мужчины его племени, был очень стыдлив. Он ни за что не согласился бы снять рубаху при девушке и захихикал с таким видом, словно его щекотали.
— Нет… У-уй! Совсем не надо… У меня шкура сухая, не промокла.
Между тем дождь кончился. Туча пронеслась. В балаган ударили солнечные лучи.
Одака нашла красивую и еще не грязную отцову рубаху.
— А костер у меня залило! Побегу разжигать, а то отец придет и рассердится!
Одака кинула рубашку и выбежала.
Чумбо, оставшись один, спрятался в угол и там, опасаясь, что его увидят, быстро переоделся. Слыша, как Одака ломает сучья, он подумал, что надо помочь ей.
Балаган стоял посреди реки, на островке из чистейшего песка. На близких крутых берегах зелеными стенами вздымался дремучий лес. На острове, словно утонувшие в песках, белели коряги. Чумбо взял топор, выбрал сухую колодину и разрубил ее.
— А что, дядюшки Дохсо нету? — спросил он, подходя с охапкой дров к костру.
— На сохатого охотиться поехали. А какие дрова ты принес хорошие, сухие!
Чумбо заглянул в котел. Одака нахмурилась и покраснела. Ей стало стыдно, какую плохую похлебку варит она отцу и братьям.
«Из гнилой рыбы уху варят, — подумал Чумбо, — а река полна рыбы».
— Уй, у нас никогда рыбу хорошую не поймают! — сказала Одака с досадой.
Чумбо знал, что ее братья Алчика и Игтонгка — лодыри.
— Давай с тобой рыбы хорошей наловим! — воскликнул Чумбока. — Сейчас, после дождя, рыбка ходит… Во-он…
На корневищах двух лесин, выброшенных водой на косу, растянут крапивный невод. Чумбока живо собрал его. Одака села за весла. Гребла она очень хорошо. Чумбо сбрасывал охапками сетчатку. Лодка быстро пробежала полукруг. Выскочив на берег, парень и девушка взялись за веревки и потянули плавучую дугу из поплавков на берег. Опутанные сетчаткой, бились друг о друга тяжелые сомы и щуки. Сквозь дыры в неводе ушла половина улова.
Но и это не беда.
Чумбо схватил котел с огня и выплеснул вчерашнюю уху в воду.
Одака, стоя на коленях, пластала ножом на бересте тяжелых рыб и бросала куски в котел с чистой водой.
Чумбо, как настоящий мужчина, пришел с берега уставший и недовольный.
— Невод порвали, — сказал он, присаживаясь на корточки, и покарябал ногтями голову.
«С ним не придется ссориться, как с братьями, — подумала Одака, видя, что Чумбо уже вынул из-за пазухи деревянную стрелу для надвязывания сетей, — он все делает сам».
«Мы с ней как муж и жена, — думал Чумбока. — Она хорошая жена будет».
Одака сбегала в балаган и принесла моток крапивных бечевок.
Чумбо, поджав ноги, с трубкой в зубах, стал чинить сеть.
Одака варила уху. Дров у нее множество. А то ведь самой приходилось ездить в лодке в лес за хворостом.
За последнее время у Одаки было много неприятностей. Братья придирались к ней, что нет жениха, хотели отдать какому-то старику. В семье, кроме обид, ничего не видела… Все лето приходилось с собаками таскать бечевой лодку против течения и готовить пищу… Ссорилась и дралась с братьями.
Но сейчас ни о чем плохом не думалось. Одака была счастлива. Ей так приятно, что Чумбока рядом. Приятно каждое его слово. Ведь всю весну была такая скука!
Чумбо и Одака приготовили обед, привели в порядок все хозяйство. Вместе поели. Одака вымыла посуду холодной водой. Если пятна не отмывались, она с силой терла их травой.
После обеда парень и девушка дружно сидели на берегу, поджидая охотников.
На реке появилась лодка. В ней, как три гриба, трое гольдов в белых шляпах из бересты. Послышался плеск и голоса.
— Едут! — молвила Одака.
Лодка подошла. Долговязый чернолицый Игтонгка и толстый лысеющий Алчика сбросили на песок охапки смолья и вытащили тушу молодого лося. Жадные, злые и голодные, они стали было бранить сестру, но, увидев, что дрова есть и наварена свежая рыба, замолкли. Дядюшка Дохсо пожаловался Чумбоке, что прихварывает, что-то сильно качается сердце, прошибает пот, ноги дрожат…
Четыре гольда, вынув острые ножи, свежевали зверя и тут же съедали вкусные куски. Дядя съел ноздри. Обрубили ноги и, разбивая кости топориками, сосали мозг. Насытившись, Алчика сидел на корточках у реки, мочил лицо и лысину. Дядюшка Дохсо устроился около ухи, у костра…
Чумбо снял с убитого лося шкуру, разрубил мясо и утопил его в реке, чтобы затухло и побелело как следует.
— Ты, парень, какой хороший, — сказал ему Дохсо, — сразу видно, как дядю любишь. Хорошо сеть починил… Рыбы наловил… — Дохсо удивился. Такой вкусной ухи он давно не ел. — Я тебя давно не видел, соскучился по тебе.
Долговязый Игтонгка уже после того, как все наелись, с жадностью припав к котлу, пил уху. Уже все отобедали и полезли в балаган, а Игтонгка все не мог насытиться. Он, не жуя, глотал куски с костями и давился.
От вкусной еды, от жира и рыбы, дядя пришел в хорошее настроение. Он разговорился.
— Ты, парень, живи у нас, — сказал он Чумбоке. — Тут хорошо. Ты не был еще дальше, на Юкети?[41] Там леса и болота, такое хорошее местечко: большая береза не растет, большая елка не растет, только маленькое кривое деревцо есть… По болотам из нашей речки в высокую воду можно проехать на Амгунь. А во-он горы, — кивнул старик на голубые, глыбы над далекими зелеными лесами, — из тех гор все речки бегут… Амгунь, Горюн, Нюман… Надо, парень, туда тебе сходить… Нынче зимой мы ходили за эти горы… За ними земля Лоча… Там юрта с крестом и батька есть. Батька — русский шаман, кто его веру примет — тому батька даст новую рубаху… Наши кондонские хотят ехать креститься… Там делают ружья, топоры, много железа, сукна — нельзя сравнить с маньчжурскими. А ты такой хороший парень и ничего не знаешь. Мог бы со мной вместе туда поехать… По дороге посмотрели бы каменные столбы. Когда лоча уходили с Мангму, поставили. Сказали: когда столбы упадут, они вернутся. Столбы уже упали, скоро лоча придут…
После обеда все улеглись спать.
— Ну, а сегодня ночью, — говорил дядя, — будем лучить рыбу.
Вечером Алчика спал крепко. Игтонгка проснулся и, кривляясь, плаксиво стал жаловаться, что заболел. Дядюшке самому тоже ехать не хотелось. Он пригрозил Игтонгке палкой, а сам поел сохачьей похлебки и опять улегся на черную, блестевшую при огне шкуру лося.
Стемнело, когда Чумбока, Игтонгка и Одака поднялись на лодке вверх по течению речки.
На носу лодки на шесте зажгли смолье.
Вспыхнуло высокое яркое пламя. Сквозь прозрачную, мерцающую воду широко открылось желтоватое каменистое дно.
Лодка спускалась самоплавом. Одака сидела на корме и правила. Парни стояли, держа остроги наготове.
Сонные рыбины, как коряги, стояли над камнями.
Сквозь быстро мерцающую воду казалось — они вьются на месте, как змеи.
Чумбока мгновенно ударил острогой. Железо лязгнуло о камни. Выхватив из воды острогу, он стряхнул с зубьев убитого тайменя и тотчас же снова ударил. Ударил Игтонгка, но промахнулся…
— Ан-на-на! — Сестра взяла у него острогу.
Чумбока сбросил в лодку линка. Одака с силой, по-мужски, ударила острогой и выбросила из воды щуку.
Лодка пошла быстрей.
Огонь выхватил из тьмы ржавую стену с висящими ветвями и рассыпал искры за утес.
— Кету лучить — вот хорошо! — вдруг, оборачиваясь к девушке, воскликнул Чумбо. — Где вода стоячая, она плавает, как в неводе…
— Садись! — воскликнул Игтонгка. — Сейчас провалимся!
Впереди, во тьме, загрохотал перекат.
Лодка понеслась.
Дно опускалось, но было видно ясней, чем днем. Стало глубже, под лодкой проносились завалы обросших водорослями камней и косматые зеленые коряги.
Гул невидимого водопада становился все грозней.
Течение вдруг обрушилось белой волной, лодку тряхнуло, бросило вниз, понесло еще быстрей и снова тряхнуло. Она падала вниз, как по ступеням.
На быстром ходу раздуло сноп лучин, насаженных на шест. Пламя повалило сильней. В ночной тишине сухой треск смолистых лучин подхватывало эхо, по нескольку раз повторяя его все сильней и сильней, и наконец треск отдавался в далеких горах так громко, словно там катали бревна.
Искры уносились вдаль и, угасая и шипя, сыпались на черную воду.
Над головами с шумом пронеслись плакучие ветви огромного вяза. Берег был где-то близко, но его не видели. Лодку вынесло на мель.
— О! Линок! Линок! — воскликнул Игтонгка. Черно-зеленая рыбина метнулась из-под остроги Чумбо… Парень промахнулся.
— Садись! Садись! — крикнула Одака и, ударив острогой, бросила в лодку тайменя…
Быстрое течение, звон перекатов, треск пламени, потоки искр, несущееся дно, видимое гораздо лучше, чем днем, скалы и деревья, вдруг пролетающие в отблесках огня, — это ли не раздолье! И Одака рядом! А кругом опасности, можно разбиться, налететь на корягу, на утес, на перекате можно споткнуться и упасть.
«Но я ловко берегу лодку от всех опасностей! Хорошо ей помогаю править! А какая она ловкая… Ноги крепкие, хорошо в лодке стоит… Меня на перекате посадила, а сама убила тайменя…»
Лодка быстро наполнялась рыбой. Между тем подул ветерок. Вода замерцала. Сквозь рябь ничего не стало видно.
Решили подождать. Чумбока направил лодку к берегу.
Когда нос ее зашуршал о песок, парень снял с шеста и бросил в воду обуглившиеся лучины. Он на садил на шест новый сноп лучин.
Ветер то стихал, то снова рябил воду. Чумбо сел рядом с Одакой. Она дружески положила ему руку на плечо.
— У сестры какой мальчик хороший родился, — заговорила Одака.
Игтонгка захрапел. Вокруг была глубокая тьма. Никогда еще Чумбоке не было так хорошо, как сейчас.
Он потянулся и поцеловал Одаку в щеку.
— Я на тебе жениться хочу, — зашептал он. — Буду покупать тебя у дядюшки Дохсо.
— Ах, какой грех! — ответила Одака. Она отстранилась, вытирая травой щеку. — Тебе нельзя на мне жениться. Закон рода не велит. Ты мне брат!
— Какой я тебе брат! — в досаде воскликнул Чумбо.
— Эй, Игтонгка, — сказал Чумбока, — вон там какой большой таймень в слепой рукав забежал и плещется… Или это сохатый вышел и побежал водой?
Игтонгка схватил острогу и осторожно побрел во тьму.
— Я тебя люблю… На тебе обязательно женюсь. Я уже знаю, как это сделать…
— Ой, давай скорее отсюда поедем! — забеспокоилась Одака.
Ей очень неприятны были такие разговоры. Дружить с Чумбокой открыто, работать вместе, быть у людей на глазах — все это так приятно… Но здесь, в темноте, он хочет целоваться… это и стыдно и не хорошо.
— Ведь мой дедушка твоему не брат. Чужие люди были. Нашего дедушку только называли Самарой, а ведь он совсем не Самар. Его приняли только в род Самаров. Так что я тебе не родственник. Меня напрасно братом называешь.
Во тьме что-то бултыхнулось. Видимо, Игтонгка оступился.
— Игтонгка, ты живой? — вскочил Чумбо.
Неподалеку послышалась брань Игтонгки. Чумбока опять зашептал про женитьбу.
— Нет, мне стыдно такие речи слушать, — сказала Одака.
Чумбоку она любила. Но слушать такое — грех! «Пусть говорит с отцом, а не со мной. Со мной что говорить! Даже грешно все это слушать!» — думала она.
Вернулся Игтонгка.
— Тайменя видал?
Игтонгка угрюмо молчал. Чумбо оттолкнул лодку от берега.
— Ты худо делал, — сказал он. — Когда упал — таймень испугался… Теперь не найдешь.
Вскоре вдали стал виден огонек около балагана Дохсо.
* * *
На другой день Чумбока пробовал доказать дядюшке Дохсо, что предки его не настоящие Самары, а только приняты были в род, но тот сосал жир, ел рыбу, ничего не слушал и не понимал, к чему такие разговоры.
Чумбока загрустил.
Одака присела рядом и, как бы утешая, долго и ласково смотрела на него.
— Ну ничего!.. Мы можем вместе с тобой убежать из дому, — зашептал ей парень.
— Э-э, — молвил Дохсо, глядя, как любезничают брат с сестрой, — надо бы и мне поехать к старухе… У нас есть хорошая рыба, жир, и сохатина протухла как следует… Надо угостить старуху…
Дядя велел собираться домой.
Все уселись в лодку, Чумбо греб, и гребла Одака, и оба они радовались, что так дружно плещутся их весла и они в общей работе, в ходе лодки, в шуме воды непрерывно чувствуют друг друга.
Ехали так быстро и так хорошо, что дядюшка задремал и чуть не выронил кормовое весло. Но едва оно заскользило по мозолям, как старик встрепенулся.
— Если уснет и весло начнет падать, — тихо сказала Одака, — сразу проснется. А если не падает — спит и едет.
— Уже приехали? — очнувшись, удивился Дохсо. — Ты такой парень проворный! Сразу видно, что дядюшку любишь… Это хорошо — закон рода уважаешь…
Трудно было сказать сейчас что-нибудь обиднее для Чумбоки.
— Нет, совсем я рода закон не уважаю…
— Эй, а кто это? — вдруг затрясся Дохсо.
На берегу между шалашей и ям, покрытых накатником, Дохсо заметил людей в синих халатах, с косами на бритых головах.
Один из них, краснорожий, толстый и маленький, видимо пьяный, ходил по деревне и что-то кричал, размахивая сверкавшей на солнце саблей.
— Это маньчжуры! — ужаснулся Дохсо. — Беда!
Чумбо хотел повернуть лодку, но маньчжуры на берегу уж заметили их и пригрозили оружием.
Лодка пристала. Маньчжуры схватили дядюшку Дохсо за ворот и потащили к толстяку.
— Мы тебя давно ищем, старая лиса! — кричал краснорожий, толстый Сибун.
Разговаривая, он задыхался, а умолкая, вытягивал шею и хватал воздух ртом, как рыба. Маленький, пьяный, он, размахивая саблей, с важностью прошелся перед дядюшкой Дохсо.
— Уже давно нас обманываешь! Выкуп не даешь! Прошлое лето убежал из гьяссу. Берем у тебя в рабство сына.
Сибун показал на Игтонгку. Дядюшка Дохсо со слезами на глазах умолял не отнимать сына. Сородичи ухватились за Игтонгку, не пуская его. Дохсо закрыл его своим телом. Сам Игтонгка всхлипывал, в блуждающем взоре его было отчаяние. Подошли маньчжуры и вырвали парня из толпы. Дядюшку Дохсо сбили с ног. Кто-то пнул его в лицо.
На шею Игтонгке надели тяжелую деревянную колодку и заперли замком. Сибун объявил, что его увезут в город и продадут.
Все жители Кондона столпились вокруг парня в колодке, когда к нему пробился Чумбо. Он понять не мог, почему покорны кондонцы. Зачем терпеть разбойников? Горюн далеко от Мангму, здесь можно сопротивляться. Игтонгка с ужасом уставился на маньчжуров.
— Не бойся, — шепнул ему Чумбока, — еще выручим тебя.
Игтонгка всхлипнул.
— А ты кто такой? — подошел к Чумбоке высокий рябой маньчжур с зубами, торчащими наружу из-под верхней губы.
— Я? С Мангму!
— А ты подарки нам давал?
— Давал!
— Ты тут зачем даром околачиваешься? Не бездельничай! Поедешь гребцом на нашей лодке.
«Это не худо», — подумал Чумбока, но стал притворно отнекиваться. Маньчжуры пригрозили ему.
Чумбо подумал, что по дороге надо выручить Игтонгку… «Может быть, сама судьба посылает мне случай помочь дядюшке Дохсо? Уж если я спасу ему сына, он отдаст за меня дочь».
— А ты из какой деревни? — спросил маленький Сибун.
— Да из этой… ну, вот там которая… Черт ее знает! Позабыл название!
— Дурак! — сказал рябой маньчжур. Его так я звали — Рябой.
— Вот какие здесь люди дикие, своей деревни не знают! — сказал Сибун. Вскинув голову и подняв брови, он хватил воздуху.
— Ты только меня слушайся, когда поедем, — потихоньку шепнул Чумбока Игтонгке, сидевшему с колодкой на шее.
На другой день, под плач всего стойбища, Игтонгку повезли в лодке. Чумбо сидел за веслами и подмигивал дядюшке Дохсо, который горько плакал, стоя на песке. Не впервые грабители увозили людей в рабство. Никогда не удавалось потом вернуть рабов от маньчжуров. Но дядя надеялся в глубине души, что Чумбоке, может быть, удастся выручить Игтонгку.
Лодки пошли быстро. К полудню с тихой Желтой речки выехали на Горюн. Тут течение было такое бурное и опасное, что Сибун велел взять кормовое весло Рябому, опасаясь, что сам разобьет лодку об завал или о камни на перекате.
В хребтах таяли снега. Горюн прибывал, бурлил и шумел. Течение несло вывороченные с корнями деревья.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ИГТОНГКА
«Надо выручать Игтонгку, — думал Чумбока, — пора».
В пути маньчжуры сняли с Игтонгки колодку и поставили его работать шестом. На шумном перекате казалось, что вот-вот лодку разобьет о камни. Вода плеснулась, обдавши маньчжуров и гребцов.
— Книгу замочили из-за тебя, — визжал писарь, озлобившись на кормщика, — книгу с записями.
Рябой не раз бывал в набегах на горных речках, — он правил умело и вел лодку близ скалы, чувствуя, что там глубоко. Но Чумбо все же рискнул.
— Что ты делаешь? — вдруг в ярости заорал он так, что толстый Сибун в страхе свалился с сиденья, а писарь, бросив бумаги, схватился обеими руками за борта. — Сейчас убьешь нашего начальника! Книгу потопишь!
Чумбо смело оттолкнул Рябого и вырвал весло. Маньчжуры оторопели. Чумбока провел лодку напрямик, самым опасным водопадом, через перекат.
— Вот так надо! Видел?
Сибун и писарь, оба бледные, дрожащие, поднялись со дна лодки и оглядывались на пенившиеся волны. Они глазам не верили, что лодку так благополучно пронесло.
— Когда мы сюда ехали, вода маленькая была, — говорил Сибун. — Как по другой реке едем.
— Сейчас вода большая, — сказал Чумбо, — в горах льды тают.
— Тебе за такой подвиг подарок следует, — похвалил парня Сибун, хорошо правишь… Будешь сидеть на корме… Мы не думали, когда сюда ехали, что так может за два дня река вздуться. А тебя палками велю отколотить, строго сказал он Рябому. — Больше не смей править.
На другой день Чумбока снова удивил всех своим искусством. Он проводил лодку между завалов, в таких узких проходах, где, казалось, рыба не проскочит…
За перекатом река стихала. Изгибаясь, она катилась ровно и спокойно.
Чумбо приблизился к низкому, топкому берегу, поросшему осинником.
— А так зачем делаешь? — рассердился Рябой, ревниво следивший за всеми движениями Чумбоки.
— Ты ему не мешай! — огрызнулся Сибун. — А ты правь, правь! Я только тебе доверяю!
— Нет, почему ты здесь едешь? — упорствовал Рябой.
— Там посредине камни есть, — небрежно ответил Чумбо. — Вода поднялась — их закрыла, а здесь глубоко.
Маньчжур смущенно умолк.
Внизу вскоре снова зашумел порог. Острые грозные камни быстро неслись навстречу. Река разбивалась о них и с грохотом падала волнами вниз по уступам.
Низкий берег со множеством корней и с нависшими над водой вершинами падающих, подмытых деревьев плыл у самого борта.
— Ой-ой! Какой порог! — воскликнул Чумбо, а сам ткнул голой пяткой Игтонгку в спину. — Сейчас если не пропадем, то хорошо…
Все стали смотреть на середину реки, на проносившиеся с шумом камни. На близкий берег никто не обращал внимания.
Игтонгка не шевелился.
— Поживей, поживей! — тихо шепнул Чумбо. — Берег как раз низкий…
Игтонгка тупо и сонно поглядывал по сторонам.
— Думаешь, всегда будешь сидеть так спокойно? В рабы попадешь… Торопись… — Чумбо раздосадовался и с силой ударил его пяткой в спину.
Теперь берег был совсем рядом. Лодка время от времени задевала за корни, торчавшие, как прутья. Маньчжуры держались за борта. Игтонгка покосился на них и вдруг, бросив весло, вскочил, схватил шест, опустил его в воду и с ловкостью перепрыгнул из лодки на берег. Как горный козел, поскакал он по болоту к сопке и дальше, дальше, вверх по камням…
— Эй, эй… раб убежал! — воскликнул рябой маньчжур.
В этот миг Чумбо отвел лодку от берега. Сильный поток подхватил ее. Лодку качнуло, и все повалились на борт.
Маньчжуры закричали. Берег быстро отдалялся. Лодку несло по самой пене с чудовищной быстротой.
Сибун велел стрелять по беглецу. Рябой маньчжур схватил единственное ружье и запалил фитиль. Едва маньчжур приложился, как Чумбока завел корму. Лодку опять качнуло. Раздался выстрел, но заряд понесся в небо.
Тут Чумбока вдруг вскрикнул, выпустил весло из рук, схватился за сердце и бултыхнулся в реку.
Течение закрутило и понесло лодку. Маньчжуры что-то кричали и вскоре скрылись за лесом. Чумбока вылез на берег. Игтонгка бежал к нему.
— Поедем скорей к нам! — воскликнул он радостно.
— Нет, ты поезжай домой, — ответил Чумбока, — а мне мать велела на поминки возвращаться. Но ты скажи отцу, что скоро я вернусь.
Парни добрались вместе до балагана старика Коги, жившего с семьей на мысу, около устья горного ключа. Это был долговязый старик с лысой головой, с горбатым носом и бородой в три длинных седых волоска.
Кога ужаснулся, услыхав, что Игтонгку чуть не увезли в рабство.
По словам старика, маньчжуры были уже далеко.
— Ты не боишься встретить их на Амуре? — спросил он, услыхав, что Чумбока едет домой.
— Они не заедут к нам, — отвечал парень. — Они говорили, что должны зачем-то поскорей плыть в гьяссу. Я еду к брату, там поминки будут. Да если и заедут к нам, то я их не боюсь, — сказал Чумбока.
Он почувствовал свою силу и решил, что не следует и впредь поддаваться разбойникам.
— А ты мне должен помочь, — обратился он к Игтонгке. — Когда домой приедешь, поговори с отцом, помоги мне.
— Во всем, в чем ты хочешь! — с чувством воскликнул Игтонгка.
Кога проворно поднялся.
— Я сам повезу Игтонгку, — сказал он. — Я бы и на поминки поехал, да боюсь встретить в Онда маньчжуров. А когда поминки будут? На какой день назначены?
— Вот еще точно не знаю, когда будем душу отца в Буни отвозить. Ведь я давно из дому.
— Ну, когда будет известно, дай и нам знать как-нибудь, — сказал Кога.
Он пошел выбирать лодки. Старик взял себе берестяную оморочку покрепче и подлиннее, с двумя гнездами для гребцов, чтобы с Игтонгкой подниматься на ней в верховья Горюна, а Чумбоке выбрал деревянную.
Чумбока тем временем объяснял Игтонгке, что тот должен сказать своему отцу. Но Игтонгка с радости, что поедет домой, почти не слушал его.
— Вот у нас теперь дома все обрадуются! — воскликнул Игтонгка, видя, что дядя уже выбирает весла и шестики.
После обеда Кога и Игтонгка, дружно стуча об камни дна шестиками, поехали на длинной берестянке вверх.
Долбленку Чумбоки течение быстро понесло вниз, к Мангму.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ШАМАНСТВО
На канах, где обычно спал отец, лежит красная шелковая подушка. Это паня. Целый год после смерти человека в такой подушке живет душа умершего. Подушечку кладут на кан, когда едят, ее угощают, с ней обходятся как с живым человеком. На стене висит одежда Ла. На подушке — кисет с табаком и трубка. Настало время, когда шаман должен душу отца отправить на покой.
Беременная Дюбака, с лицом подурневшим и веснушчатым, хлопочет у очага. Пестрый поросенок похрюкивает за дверью. Шаман потребовал, чтобы к поминкам был обязательно пестрый поросенок. Ну где достанешь пестрого поросенка! Да еще черного наполовину, чтобы черта между белым и черным шла как раз по сердцу. Удога с трудом достал его в дальней деревне и заплатил очень дорого. Бичинга, наверное, знал, что там есть такой поросенок. Как раз по сердцу — одна половина черная, другая белая.
В первый день поминок, к ужасу всех собравшихся, Бичинга объявил, что в подушке души нет. Душа исчезла. Кто-то ее украл!
Это было страшное горе, но Бичинга успокоил ондинцев.
— Поеду на своих духах по окрестностям разыскивать душу Ла!
Слепой, коротконогий старик в меховой шапке, с лохмами волос, обвешанный хвостиками, походил на зверя с густой гривой. Он вильнул крестцом, ударил в бубен и затанцевал. Сердца замерли. Шаманство началось.
— На ящерице по Мангму поехал душу Ла искать!
Долго ездил шаман по реке и по сопкам, летел по воздуху, но души Ла нигде не было. В полночь ондинцы расходились в глубокой печали.
— Ведро водки отвези мне на остров, — велел шаман Удоге. — Буду потом там своих духов поить… А то у них работы много будет.
Утром старик кашлял и стонал. Он едва двигался. Ойга и Дюбака подавали ему кушанья.
Под вечер он приободрился и снова стал шаманить.
— Девять мужчин и девять женщин должны шаманить, — объявил он.
Старики и старухи с бубнами в руках завиляли крестцами. Уленда и Падека нашаманились в этот вечер досыта.
— Спина болит! — жаловался Уленда. Бубен снова взял Бичинга.
— На железной птице Коре полетел через скалистые горы! Пониже-пониже… Повыше-повыше… Ага! Вот-вот! Как будто бы она! А-а!
Все завыли от восторга.
— Поймал?
— Ай-ай-ай! — Бичинга вдруг заплакал.
— Что такое? — в ужасе вскричали ондинцы. «Что бы могло случиться с душой отца? — думает Удога. — И так много забот…»
— Злые амба завладели душой Ла! — сказал Бичинга. — Они бросают его душу в кипяток… все время мучают.
Волосы зашевелились на голове Удоги. И на том свете отцу покоя нет! В отчаянии он готов был все отдать шаману, влезть в любые долги, только б избавить отца от страданий. Он клял себя, что все это время так мало думал об отце.
— Нашего отца терзают черти! — заголосила Ойга.
— А мы тут живем и ничего не знаем! — горестно воскликнул Падека.
— Теперь надо водки, табаку, каши, — сказал шаман. — Будем со злыми духами торговаться… Надо выкупить у них душу.
Вино, табак, и каша были готовы.
Удога с мольбой взглянул на Бичингу. На него теперь была вся надежда. Открыли очаг. Распахнули двери. Бичи сел на кан. Подали котел с кашей. Шаман поел и снова взялся за бубен. Свет тотчас же закрыли.
— Вот теперь выкупил душу! — торжественно объявил Бичинга.
Крики восторга пронеслись по канам.
— Повезу ее домой! Душу продали… Долго торговался, но все-таки уговорил! — сказал шаман, подсаживаясь к столику и прихлебывая из чашки. Лицо его хранило насмешливое, лукавое выражение.
— Ой, ой! — вдруг завыл он. — Вот несчастье! Черти душу Ла изъели… Ослепили… Ой, ой, душа какая стала! Всю проели насквозь!
Шаман делал руками такие движения, будто разглядывал какую-то дырявую шкуру.
— Как много чертей кусало!.. Руки отъели… Глаз нет… Выдрали волосы… Оторвали язык… Даже не может разговаривать.
Ойга зарыдала.
Три дня лечил шаман душу Ла. Он сделал ей новые глаза. Когти и хороший длинный язык покупать пришлось за морем на острове. За волосами Бичинга летал к лоча. У них бороды густые и длинные… За всё расплачивался Удога.
— Теперь целый и крепкий! Все ему приделал, чего не хватало, — объявил Бичинга. — Даже еще лучше и крепче стал.
Шаман сказал, что он обернулся птицей, потом крысой и ящерицей и на веревке спустился на землю.
Старая Ойга подарила ему свой лучший халат. Она долго размышляла: отдать ли? Услыхав, что мужа изъели черти, она посетовала на себя, проклинала свою скупость и дала зарок: если душа Ла вылечится — не пожалеть халата.
На другой день, когда все снова собрались, шаман сказал:
— Теперь точно проверим, его ли это душа. А то может быть ошибка. Может, не ту похороним. Теперь язык у нее есть. Поговорим.
Новое волнение для родственников!
— Почему ты все время недоволен? — спросил Удога у брата. — Может быть, шаманство неверно? Тебя ведь отец учил шаманить. Ты должен понимать…
— Обманывает! — злобно молвил Чумбока. — Все вранье… Нарочно выдумывает.
— Быть не может, чтобы врал. Ведь дело идет о мире мертвых, — суеверно сказал Удога.
— Черта тебе! — ответил брат с досадой.
— Ну, спросим его теперь, — сказал Бичинга. — Когда ты умер, лежал на доске? — обратился шаман к подушке. — «Верно, говорит, лежал на доске».
По канам пронесся вздох облегчения.
— «Сын в это время, говорит, уснул», — передавал Бичинга слова души Ла.
— Ой! Ой! — заорали на канах. — Конечно, его душа!
— Спроси, как детей зовут…
— Спроси: в тот год, когда женился, много ли рыбы шло из моря?
— А ну, спроси: торговцу в лавку он был должен или нет? — крикнул Чумбока.
Все замерли. Ловкий парень у Ла! Если торгаш обманул, сейчас ему будет позор! Гао Цзо вместе с сыновьями сидел тут же. Он только крякнул и подскочил на кане, услыхав, какой разговор затевает Чумбока с душой отца.
— Эй, такое нельзя спрашивать! — проворно воскликнул он. — Это дела торговые…
Шаман усмехнулся самодовольно. Бичинга знал, что теперь торговец в его власти.
— Нельзя, нельзя вести такие разговоры! — закричали молодые Гао.
— Говори, говори! — воскликнул Чумбо. — Я с душой своего отца говорить буду без вашего позволения.
— Спрашивай, спрашивай! — закричали со всех сторон шаману.
Бичинга поворочал бельмами, как бы желая напугать торговцев.
Гао подскочил к нему и стал что-то шептать.
— «Чего, говорит, был должен, в книге все должно быть записано», хитро ответил шаман.
— Неверно, неверно! — с горячностью воскликнул Чумбока. — Не так отец сказал…
— Э-эх, плохой шаман! Не ту душу нашел, ошибся! — рассердился Падека.
— Хорошенько спроси! — кричал Чумбока. — Спроси так: должен был торгашу или нет? Пусть прямо ответит, не боится.
Шаман спросил.
— А у Бичи серебро звенит в кармане, — пропищал Уленда на ухо Удоге, неужели Гао дать успел?
— Должен был… Был должен, — сипло ответил шаман.
— Обман! — заорал Чумбо. — Снова начинай!
— Э-э, плохо! — дружно закричали гольды.
— Погоди, я не расслышал хорошенько, — как бы спохватился Бичинга. Он еще раз спросил душу Ла.
— Был должен! — крикнул шаман уверенно. Он поднялся и вдруг ударил в бубен. — Поехали в Буни! Душа крепкая, здоровая, вечно жить будет!
«Не может быть, чтобы отец так ответил, — подумал Удога. — Неужели Бичи так прямо врет в глаза всем? Ведь я так хорошо знал, что отец не был должен. Много раз об этом мы говорили».
— Обман! — кричал Чумбока, но его уж никто не слушал; начиналось самое главное — Бичинга помчался с душой Ла в мир мертвых.
Танцуя, рассказал он, как взлетел на птице Коре и рассмотрел сверху, хорош ли путь…
— Теперь поедем… Запряг собак! Та-тах! Та-тах! Хорошо душу везу! Мягко ей! Не трясет! На собаках мчимся! Вот протокой пошли повыше. У-уй! Какое место страшное! Черти напали! Хотят отнять душу Ла! Девять чертей напали. Копьем бьют! Салом — Сотька! Алха ама! — называл по имени своих духов-помощников. — Собачья голова! Помогайте мне! Помощники мои бьют врагов… Птица железная Коре вылетает! Клюет их! Ящерица их грызет… Ух, мои помощники сильные… Ага! Уже враги побежали! Ух мои помощники сильные! Убили всех злых духов! Поехали дальше. Быстро едем… Вот пещера… Заезжаем под землю… Вот уже подземный Мангму течет. У-у, как тут холодно! Собаки быстрей бегут…
Бичинга долго ехал. Глубокой ночью он объявил, что Буни недалеко.
— Ой-ой! Вот спуск крутой! У-уй! Кругом валяются мертвые души! Это плохие шаманы их возили, не знали дороги. Уронили — они убились… А-а! А-э! А-аэ-э! — в диком восторге закружился Бичинга, и видно было, что слепой старец еще крепкий, ловкий, проворный человек.
«И жрет он за троих», — подумал Чумбо.
— Вот уже совсем близко Буни! Слышен лай собак! Дымом пахнет. Рыбой воняет! Во-он покойники, которых в прошлом году отвез, неводом рыбачат, Акунка калугу поймал!
— Акунке привет передавай! — кричит дед Падека. Он забыл свои обиды и от души рад, что шаман так ловко отвез душу в Буни.
Все в восторге. Сколько было за эту неделю ужасов, переживаний — и все так кончилось благополучно…
Бичинга передает знакомым покойникам приветы, рассказывает им домашние новости.
— Эй, Ногдима! — кричит он из Буни. — Тебе твой дедушка посылает поклон и трех соболей в подарок… Поймаешь их зимой в тайге.
«В Буни все так же, как в деревне», — думает Чумбока, поддаваясь общему настроению и увлекаясь рассказами Бичинги.
— Эй, скажи: а торговец есть в Буни? Неужели и там в долгах люди живут? — спрашивает Чумбока.
Все покатились со смеху. Гао взвизгнул с досады.
Бичинга долго вел переговоры живых с мертвыми.
Около юрты развели костер. В него кинули одежду Ла, налили водки и набросали разных угощений.
Все были довольны. Чумбока тоже повеселел и со всеми в очередь лобзал шамана в щеки. Только Удога был глубоко опечален.
«Одно — когда врет торгаш. Но вот когда на поминках именем души Ла врет Бичи… Значит, все, что рассказывал он здесь, — ложь от начала до конца. Если Бичинга солгал, будто бы душа сама ему сказала, что был отец в лавку должен, то, значит, и все остальное — вранье».
Уже второй раз за год Удога видел, что Бичинга ради выгод пускается на страшную ложь.
«Прошлым летом он подучил гиляков совершить убийство. Значит, Бичинге не духи все это говорят, а он сам выдумывает. Значит, эти духи — пустая выдумка. А мы верим, молимся. С меня берет шаман меха и меня же обманывает. За то, что дураком становлюсь, за это с меня меха требует».
Как ни пытался найти Удога какое-нибудь оправдание шаману, все упиралось в разговор с душой.
«Будь тут душа на самом деле, Бичинга побоялся бы при отце так обманывать. Значит, никакой души тут не было. Где же душа отца?»
Но Удога не смел ни слова сказать шаману, и когда все стали кланяться Бичинге, то и он поклонился и поблагодарил, потому что так должен был сделать глава семьи.
На другой день Бичингу отвезли. Шесть гребцов налегли на весла. На корме сидел Падека. В борта лодки воткнули ветви, чтобы голову шамана не напекло солнце.
Удога был разорен. Бичинга вытянул у него все до последней лысой белки. Крупы, водку, сласти пришлось брать в лавке. Торгаши давали все охотно, но толком цены не говорили. Удога был опутан долгами, как сетью. Голова его пылала как в огне.
Только семейные заботы отвлекали Удогу от его мыслей. Дюбака собиралась рожать. Все в семье ждали ребенка. Надо было строить балаган, выбрать место где-нибудь на острове, драть корье и бересту.
— Да, вот говорят, что этот Бичинга старый и ни черта не видит, толковал дед Падека, возвратившийся с острова, куда он отвозил шамана, — а он ведь хорошо знает, куда ехать… И где лежит вкусный кусок или водка чует, как хорошая собака, и сразу сожрет! А-на-на! Может быть, он не слепой? Или это духи видят и говорят ему? Сам он хвастается, что они ему помогают во всяком деле. Будто бы нельзя ни убить его, ни ранить — духи спасут, отведут стрелу.
«При удобном случае надо будет попробовать, верно ли Бичингу стерегут духи», — подумал Чумбока.
Соболя, предназначенные для свадьбы Чумбоки, попали Гао и шаману. «Ну, не откладывать же свадьбу из-за шкурок. Все равно женюсь! Что-нибудь надо будет придумать, чтобы дядя согласился, а уж потом подумаем про выкуп! Хорошо, что Удога не отказывается от своего слова».
Брат обещал Чумбоке помочь жениться.
— Да, тебе надо жениться! — сказал Удога. — Теперь я согласен во всем помочь тебе. Женись обязательно.
«А может, обратиться с таким делом к Бичинге? — думал Чумбо. — Мы ему заплатили так хорошо, что он, пожалуй, и без особой платы помочь возьмется. Если нельзя по закону рода жениться, то, быть может, удастся обойти закон. Бичинга, видно, ловок в таких делах!»
ГЛАВА ПЯТАЯ ШАМАНСКИЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ
«Верно! Поеду к Бичинге! Он, если захочет, сумеет истолковать всякий закон по-своему… Он, наверно, нам поможет. Ведь мы ему ничего не пожалели».
Чумбока решил ехать на шаманский остров. Удога собирался с женой на речку. В верховьях ее был старый балаган. Дюбака вот-вот должна была родить.
Чумбо, размахивая двухлопастным веселком, помчался к устью Горюна.
На острове раскинулся буйный луг. В глубине его, как в саду, среди пышного цвета сирени и яблонь, торчали растрескавшиеся от жары белые жерди шаманского дома и такие же белые плосколицые идолы с мечами на башках. В доме на кане сидел шаман. Он был чем-то недоволен.
Чумбока поздоровался с ним заискивающе, поцеловал его тугие щеки. От шамана сильно пахло водкой и табаком.
— У меня к тебе большое дело… Только скажу правду — больше у меня нет мехов… Мы всё отдали тебе, — волнуясь заговорил Чумбока. — Прошу, мне обязательно помочь надо. Я когда на твое шаманство смотрел, то подумал, что сильней тебя нет на земле шамана, понял, что только тебя могу попросить. Про тебя говорят, что ты добрый, бедным помогаешь даром… А мы, конечно, зимой тебе заплатим, хорошо заплатим…
— А что тебе надо? — спросил шаман, несколько оживляясь. Лесть Чумбоки пришлась ему по сердцу.
— Тебе расскажу все. Ничего не скрою. Все прямо скажу, только пообещай помочь. Сначала пообещай мне, что поможешь.
Шаман пошевелил бельмами. Разговор Чумбоки возбуждал любопытство.
— А мехов разве у тебя больше нет? — спросил он.
— Ни черта нет!
— И рогов нет?
— Нет! Изюбра не убили!
— Вот жалко! Если бы ты убил изюбра, то хорошо бы. Вот если бы ты где-нибудь достал молодые рога изюбра, тогда бы хорошо было. Тогда будем на этих рогах лететь к самому высокому духу.
— К самому высокому духу можно и на шаманской шапке лететь, — ответил Чумбока.
— На какой шапке?
— Ну, на той… которая тот раз в огонь попала…
Шаман снова заворочал бельмами. Чумбо почувствовал, что сказал лишнее.
— И что такое? — деланно удивился парень. — И как это она попала?
От своих же слов Чумбоку мороз подрал по коже. Здесь, с глазу на глаз с шаманом, парень побаивался.
— Ты теперь хорошо живешь! — заискивающе сказал парень.
— Это верно! — согласился шаман.
— Тебе все можно! Ты все можешь сделать! Верно?
— Ну да…
Бичинга, казалось, омрачился какой-то думой. Чумбо опять принялся превозносить шамана, восхищался его богатством и могуществом.
— Да, все это верно, — согласился Бичинга, — меха у меня есть… и я сытый, но вот одно плохо…
— Что такое?
— Да, знаешь ли… я думаю, как бы мне жениться…
— Ну, мало ли старушонок!
— Нет, мне надо бы молоденькую. А силы мало! — вздохнул шаман. — А жениться хочется… Я люблю к собакам в нарту подпрягать жену. Раньше, когда была баба, возила меня. Люди говорили — шаман на жене здорово ездит в нарте. Еще сильней меня боялись…
— Мы все и так тебя боимся! — встал на колени и поклонился Чумбока. Ты помогай мне, — упрямо просил он.
Шаману разговор был по душе, и он пытался обиняками разузнать у Чумбоки, что же ему надо, но обещания не давал.
— Ну ладно, парень! — наконец согласился он, видя, что Чумбо не поддается. — Я для тебя постараюсь.
Чумбока рассказал про свою беду.
— А девка красивая? — спросил Бичи.
— Как же! Конечно!
— Толстая?
Чумбоке был неприятен такой вопрос. «Зачем так спрашивает? — подумал он. — Толстая или не толстая, я сам не знаю. Она мне очень нравится. С ней приятно вместе быть, разговаривать, работать. Старые дураки понять не могут — совсем не думаю про толщину…»
— Я ее люблю! — краснея, признался Чумбока.
Шаман угрюмо молчал.
— Ты умный, богатый… Мы все любим тебя… — залепетал парень.
— А жених другой, кроме тебя, у нее есть?
— Жених был, но как раз недавно умер. Она была просватана еще ребенком, когда в опилках лежала. А жених уже тогда был старик. Он все хвастался, какая у него будет жена, когда вырастет. И как раз две зимы тому назад, когда ее хотели отдавать, он стал готовиться к свадьбе, сильно разволновался, сердце его покачнулось, и он помер.
— Да-a! — протянул шаман. Он нахмурился. По лицу его пробежала тень. Нет, парень, тебе нельзя на ней жениться!
— Как так? — испугавшись, вскрикнул Чумбо.
— Закон не велит!
Наступило молчание.
— А мехов у тебя нет? Совсем нет? Будут зимой?
Чумбо поклялся, что будут меха и он всю добычу отдаст.
— Трудно! Ох, как трудно тебе помочь! — сказал шаман. — Но я все же тебе дал обещание… Так, говоришь, она красивая?
— У-у! Красивая! Толстая! — воскликнул Чумбо, желая угодить шаману.
Бичинга криво усмехнулся.
— Очень толстая? И молоденькая?
— И толстая и молоденькая!
Шаман тихо засмеялся. Казалось, глаза его смотрят куда-то внутрь себя. Этот хитрый старик что-то замышляет.
— Ну, так вот… — икнув, заговорил он. — Надо эту девку привезти ко мне.
— Сюда?
— Конечно, сюда! Только слушай… Все это как следует надо будет сделать. Уговорись с отцом, а потом привези сюда или пусть он ее сам привезет. Она поживет у меня два дня. Я буду шаманить… Или нет, погоди… Не так… я неправильно сказал. Пусть проживет здесь четыре дня.
Чумбока молчал, поблескивая глазами.
— Мы с ней останемся, и я тут буду шаманить. Переведу ее в другой род. Она уж будет не Самар, а твой дядюшка Дохсо не будет ей отцом. Пока ты ездишь на Горюн, мы тут подыщем ей отца из другого рода и примем ее в тот род… Так можно… Тогда женишься… Только дорого будет стоить… Мне будешь должен… А новому отцу дашь торо…
Чумбока ужаснулся.
«Э-э! Что шаман затеял! Еще с дядей можно сговориться в долг, а тут совсем обдерут. Да еще на четыре дня отдай ему Одаку. А он станет жить с ней как с женой. Бежать!» — подумал он и готов ринуться вон.
— А пока что иди налови мне рыбы, — строго сказал шаман, — я люблю свежую осетрину. Сегодня во-он на той протоке должны быть осетры… Привези мне двух…
«Я, кажется, перестарался, — подумал Чумбо. — Хитрил, хитрил, а хитрость до добра не довела… А как теперь увернуться, не знаю и придумать ничего не могу».
Чумбо пришлось ловить осетров для Бичинги. Потом шаман заставил его подмести дом, вытрясти старые одеяла.
— Еще крышу надо будет починить, — сказал он. — А потом привезешь девку…
Шаман говорил об этом с нескрываемым удовольствием.
«Я совсем напрасно с тобой связался, — думал Чумбока. — И зря сказал, что на Горюне есть красивая девушка. Нет, я уйду от тебя».
Вечером шаман долго тянул ханшин из маленькой чашечки.
— Так привезешь мне девку? — пьянея, спросил он.
— Вот я еще подумаю… — ответил Чумбо. — Мне что-то страшно закон рода нарушать. Я вот съезжу на Горюн… Может быть, лучше не грешить?
Бичи забеспокоился и стал упрашивать Чумбоку жениться.
— Не бойся, можешь грешить! Закон рода не бойся переступить, за это ничего не будет… — начал уговаривать пьяный шаман парня. — Ты вот выпей. Я не жалею вина для тебя! Почему не хочешь выпить?
«Какой хитрец и обманщик! Надо поскорей бежать», — решил Чумбока.
— Ты говоришь, она красивая? Очень красивая? Знаешь, парень, а ты на Горюн не езди. Там бывают русские, могут тебя обидеть… Да и грех… Начнутся несчастья! Лучше ты сиди дома и жди. Не езди на Гэнгиэн! А то грех! Ведь черти могут родиться, если брат любит сестру.
Страх все сильней разбирал Чумбоку.
Вдруг в доме раздался какой-то таинственный звон.
«Черт дернул меня за язык разболтать все Бичинге. Он хочет расстроить мою свадьбу…»
— Ладно, ладно! Я на Горюн не поеду, — поспешно сказал парень и опрометью кинулся вон.
Бичинга что-то закричал ему вдогонку, но Чумбока под прикрытием темноты пустился бегом.
Парень промчался через густые кустарники. Открылась светлая река, вся в голубой ночной ряби. Земля была темна, а небо и река белели ярко, хотя луны не было видно.
Чумбо сел в оморочку и поехал на Горюн.
«У него на кане веревочка, а в ящике спрятаны колокольчики и камни… — утешал себя парень. — Когда он хочет напугать людей, дергает за эти веревочки — получается звон и гром, как будто собирается гроза и летят черти…»
На устье реки Чумбо вылез на отмель, поставил полог-накомарник из бязи и заночевал. На другой день он пустился в путь вверх по Горюну.
День за днем проходил в утомительной работе. Легкая берестяная лодка с трудом поднималась против течения.
ГЛАВА ШЕСТАЯ ИСПЫТАНИЕ ШАМАНА
Снова он натянул тетиву,
Колдуну выбил глаз второй.
Нанайская сказкаПриволье на Горюне! Вокруг ни души!
Чумбока поднялся на заре, когда хребты казались глыбами льда, а прозрачная вода в лесистых, цветущих берегах была сплошь зеленой. По прохладе Чумбо быстро поднимался вверх по реке в оморочке. Из-за пены грохочущих перекатов над самой водой вылетели маленькие черные утки. Навстречу им над низкой чащей всплыло солнце и обдало белым пламенем холодную реку. Ослепленная утка ударилась с разлета в борт оморочки. Утки, налетая на Чумбоку, испуганно метались ввысь и в стороны, шлепали крыльями над полями его шляпы.
Солнце слепило их. Чумбока на миг растерялся. Вдруг он вскочил. Лицо его выражало испуг. Он боялся, как бы не пропустить такой случай.
Стоя в своем берестяном суденышке, Чумбо стал с силой наносить удары веслами. Он сшиб двух уток и поймал их, трепещущих, на воде.
Закрепившись за корягу, так что течение водило корму берестянки, он съел свою добычу, бросая перья, крылья и кишки в несущуюся гладкую воду.
Чумбо оглянулся и невольно зажмурился. Холодная река за кормой пылала жарким пламенем и слепила глаза.
Солнце поднялось высоко и сквозь рубаху из рыбьей кожи жгло плечи Чумбоки, налегавшего на шестики, когда из-за поймы поднялся высокий увал, заросший старым лесом — тополями, ясенями, осинами, елью, бузиной, черемухой и шиповником в подлеске и по обрыву. Ближе виднелись широкие пески и луга, отсеченные от лесистой горы протокой. Такие места всегда нравились Чумбоке.
«На самой косе, на мысу, ветерок — мошка не кусает, хорошо можно будет отдохнуть, — подумал он. — Пока жара, надо будет поспать».
Он вытащил лодку на галечник, перевернул и забрался под нее. В прохладе, под мокрой берестой, он спал крепко. Очнувшись, Чумбока увидел в просвете между бортом лодки и песком, что за протокой бегает какая-то собака.
«Чья же это собака? Похоже, что знакомая? Э-э, да это, кажется, Соты, кобель дядюшки Дохсо», — подумал Чумбока.
Он вылез и стал звать собаку:
— Эй, Соты! Соты!..
Но собака, поджав хвост, испуганно побежала прочь.
«Нет, кажется, это не Соты… Неужели поблизости есть какой-то чужой человек?»
Чумбо решил пообедать и подождать, не появится ли кто-нибудь. Он развел костер. Над отмелью завился слабый дымок. Весело затрещали сухие сучья.
Чумбо поджарил на вертеле куски линка, пойманного еще ночью, и поел.
«Чья же это собака? — думал он. — А похоже на дядюшкину, такай же черная».
Если дядюшка Дохсо в Бахторе, то не худо бы набить для него рыб острогой. Жирных тайменей… Тут Горюн разбивается на рукавчики — самое тайменье место.
Чумбо решил, что можно будет сегодня тут задержаться, ночью поездить с огнем и острогой.
Захватив топор, он отправился за протоку, нашел на увале смолистое дерево, нарубил лучей и привез их к своей стоянке.
«Какая это птица, как дерево, скрипит? — думал Чумбока, затягивая зубами тальниковую вязку на смолье. — На Мангму нет такой птицы… Так не скрипит… А вот дятел… Дикий голубь воркует. А вот цапля, цапля летит… Тяжелая цапля с широкими крыльями так низко летит, как будто на крыльях по воде прыгает.
Хорошо на Горюне! Я бы хотел всю жизнь так ездить на оморочке, есть уток, чтобы они сами на меня налетали…»
Над отмелью, где возился Чумбока, на низкий обрыв выбежала стена густой, высокой травы. Над кручей видно, как частые молодые стебли спутала и заплела у корней вялая, прошлогодняя ветошь. Видны корни травы, мочки, волокна с налипшей глиной. К вершинам трав сушь слабеет, свежая трава одолевает ее, сливается в сплошную зелень, и только кое-где торчат над буйным лугом одинокие старые дудки и сухие белые колосья.
Чуть набежит ветерок, глубокие, душные травы заколеблются, откинутся от обрыва, зашумят и удаляющейся волной побегут вдоль реки. Ветер волнами заходит по лугу, как по озеру.
«А из лесу доносится запах смородины… Уж скоро будут ягоды… Смородина, жимолость, земляника, клубника, голубица, а там и малина… У-уй! Чего только нет на Горюне! Малинники такие, что не каждый медведь продерется… А медведей много! И хорошие медведи! Как они осенью едят бруснику! Как траву. Так мирно пасутся на голых сопках! Гуляют смирно и кушают…»
А птица все скрипела. Чумбо, стоя на коленях на песке, вязал красное липкое смолье и складывал в оморочку.
Он вспомнил, как утром стоял в своей берестяной лодке спиной к солнцу, а слепые утки летели к нему, как он стал наносить удары веслом, сшиб их. Поймал двух на воде.
«Горюн — хорошая река! Тут живет самая прекрасная девушка! Тут много дичи, рыбы, зверья, леса самые лучшие, а какие болота! Как весело будет лучить рыбу и думать про Одаку — мы хорошо с ней рыбку били!»
Он вспомнил, как неслось под лодкой колеблющееся дно, шипели и трещали пылающие смолистые лучины, тучные таймени стояли вздрагивающими черными корягами.
«А Одака правит хорошо, как раз туда едет, где рыбка. Тайменью дорогу знает… Всегда вспоминаю тебя, Одака, когда с острогой темной ночью выезжаю».
Вспоминаю тебя, сестричка, Ханина-ранина,садясь на гальку, поджав ноги, тонко, с подвизгиванием, запел Чумбока.
Когда рыбку бью в реке, Ханина-ранина.Поставив перед собой сноп лучей, похожий на куклу или на бурхана, любуясь им и обращаясь к нему, как будто это Одака, парень сидя подпрыгивал от радости в лад песне.
Помню я, как сердце мое, Ханина-ранина, Трепетало, как рыбка на остроге, Ханина-ранина. Хотел бы тебе лодку рыбы самой вкусной набить, Ханина-ранина…Чумбока достал из-за пазухи длинную берестяную коробку с красными узорами. Он набил трубку, высек огонек и, попыхивая, закурил.
Солнце начало спускаться к лесу, но еще жарко палило. Река поблекла и казалась уже не такой грозной и холодной, как утром. Луга и леса тут теснили ее, дробили на слабые протоки.
Затягиваясь дымом, Чумбока вдруг увидел перед собой лодочку. Он протер глаза… Едет старик, взмахивает шестиками. «Нет, я не одурел еще… Это Бичи! Э-э! Старый злодей!»
В одинокой маленькой лодочке ехал слепой шаман.
«Куда он поехал? Зачем ему ехать на Горюн? Вот какой старик. Значит, это его собака бегала. Он ее не кормит, она вперед бежит, за рыбой охотится…»
Чумбока замер, наблюдая, как старик брел на шестиках вверх по реке. Потом, пригнувшись и стараясь не шуметь, он спустил свою оморочку на воду и пошел на ней следом за Бичингой, вдоль берега, держась поодаль от шамана.
«Конечно, он едет на Горюн к дядюшке Дохсо. Э-э! Так вот что он задумал! Ему не терпится. Наверно, хочет там напугать всех, как в гиляцкой деревне, и завладеть Одакой».
Бичинга подъехал к обрыву там, где увал, тянувшийся вдоль протоки, подходил к главному руслу Горюна и где скалы нависли над самой водой. Шаман миновал быстрину и вылез на берег. Он пошел под обрывом и стал что-то искать в траве. Чумбока, ухватившись за склоненный к воде ствол лиственницы и укрывшись за ее ветвями вместе с оморочкой, наблюдал за ним.
Шаман не был слеп, но все же плохо видел. Он бродил по косогору, отыскивал какие-то травы и потом с трудом рассматривал их то на ладони, то подымая к солнцу.
Он так сейчас занимал Чумбоку, что тот, желая узнать истину, позабыл про свои собственные опасения и с любопытством следил за шаманом. Он уже не думал сейчас, что шаман едет в верховья Горюна завладеть Одакой.
Чумбоке только хотелось узнать, обманщик Бичинга или он на самом деле обладает сверхъестественной силой.
«Не выкажет ли как-нибудь, что он на самом деле великий шаман? Вдруг к нему явятся сейчас какие-нибудь духи — железная птица или ястреб…»
Чумбока долго ждал — нет, никто не подлетает.
«Конечно, он обманщик! Тут и раздумывать нечего! Ведь обманул он нас с душой отца, сказал, будто отец подтверждает, что был должен. А голова, которую он отрезал у себя в прошлом году, была не голова, а луб с нарисованными глазами. Я сам видел, как луб горел вместе с шапкой в печке, а голова у Бичи была на месте».
Бичинга сел в лодку и снова пустился в путь. Он брел в своей оморочке тихо, но уверенно.
Чумбока подумал, что сейчас представляется самый удобный случай узнать точно, настоящий ли Бичинга шаман, стерегут ли его духи или нет.
«Если ему духи помогают, то ничего плохого не будет, — живо решил Чумбо, закладывая стрелу в лук, — если же он все врет, то тогда так ему и надо».
И, не раздумывая долго, Чумбока изо всей силы натянул лук. Стрела вылетела со свистом. И Чумбока хорошо видел, как она, словно в подушку, вонзилась Бичинге в крестец. Шаман сжался, как хорек, попавший в петлю, развел руками и выпустил шестики. Течение понесло их, а следом помчало оморочку с шаманом. Бичинга истошно закричал, но сидел не шевелясь, словно ждал, что боль сама отпустит его. Он, видимо, не мог понять, что случилось. Река быстро пронесла его за утесы. Оттуда еще долго доносились слабевшие крики.
Чумбока был несколько смущен. Он все же ожидал, что не так получится.
«Ведь я не хотел убивать его, я только хотел узнать, настоящий ли он шаман…»
В глубине души Чумбока надеялся, что удастся увидеть чудо, что стрелы будут поворачивать, не долетая до Бичинги, или станут отскакивать, но ничего такого сверхъестественного не произошло.
Чумбока вспомнил лукавые улыбки Бичи, его расспросы про Одаку, вымогательства, требования мехов и подумал:
«Значит, так ему и надо! Я не нарочно его убил! Это ему такая судьба! Да он и не сдохнет, он живучий… Неприятно, конечно, убить человека…»
Но тут Чумбока увидел, что сверху едет какая-то другая лодка…
* * *
С верховьев Горюна возвращался гиляк-торговец Илга в сопровождении двух тунгусов. Это был старый знакомый Ла. Едущие очень обрадовались, что им на этой пустынной реке удалось встретить знакомого человека.
— Ну, давай сыграем в карты, — предложил Илга.
У Чумбы не было ни гроша за душой, ни драной шкурки за пазухой, но он рискнул…
Игра была азартная. Сначала Чумбока проиграл лодку и хотел было бросить игру, потому что похоже было, что Илга хотел обыграть его и забрать себе в рабы…
— Играй, играй! — прикрикнул на Чумбоку один из тунгусов.
И, как бы чудом, Чумбока сразу выиграл… Вскоре Илге пришлось отдать кое-что из своих товаров, которые не удалось сбыть на Горюне. Товаров у него было немного. Так же, как и все купцы, он главным образом спаивал людей, меняя на меха водку.
Гиляк проигрывал, но бросать игры не желал. Чумбо воодушевился. Он подумал, что если так пойдет дальше, то, пожалуй, дело дойдет до гиляцкой лодки.
К вечеру мошка зеленой тучей поднялась над поймой и туманом стояла над рекой. Игроки зажгли костер. Чумбо, потный от волнения, хлестал картами с такой яростью и так уверенно, что упрямый и молчаливый гиляк стал злиться. К ночи купец несколько отыгрался.
Между прочим, Чумбо признался, что встретил сегодня шамана Бичингу и ранил его, а теперь дело к ночи, и он побаивается…
— Не бойся, — отвечал гиляк, — я поеду вниз и, если где-нибудь этот Бичинга лежит, добью его. Шаманов не надо жалеть. А если ты убил шамана, будет тебе счастье. Тогда можешь спать спокойно.
И гиляк и тунгусы так хохотали, слушая рассказ Чумбоки про испытание шамана, что, казалось, позабыли о проигрыше. Всем им понравился смелый поступок гольда.
— Такому парню, как ты, не жалко проиграть, — говорил Илга, — но все же завтра давай еще поиграем. А сегодня хорошо, что ты нас встретил, — будешь ночевать не один, а то боялся бы шамана.
Тунгусы и гиляк так поставили свои накомарники, что Чумбока оказался посредине. Чувствуя себя в безопасности, он лежал, раздумывая об Одаке. Ради нее стоило сражаться с шаманом, стоило терпеть страхи и опасности…
Через несколько дней Чумбока подъезжал к Кондону. На далеком берегу солнце ярко осветило выступившие из леса красные тучные стволы кедров. У подножия их белели берестяные шалаши горюнских Самаров.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ КОРЕНЬ РОДА
— Я тебе на всю жизнь обязан. Ты сына Игтонгку спас… я это никогда не позабуду, — говорил Чумбоке Дядюшка Дохсо. — Можешь у меня попросить все, что захочешь, — ничего не пожалею.
— Отдай за меня Одаку!
— А-на-на! — подпрыгнул Дохсо и взглянул с удивлением на дочь, как бы только сейчас что-то сообразив.
По дороге в Кондон Чумбока все обдумал.
— Мы с тобой совсем не одного рода, — сказал он.
— Как так?
— Конечно! Она мне не сестра… Это глупости.
— А-на-на! — с досадой воскликнул старик, и видно было, что таким сватовством Чумбо сильно огорчил его. Дядюшка Дохсо повесил голову.
Проворно поднявшись, Чумбока принес из лодки хо с ханшином.
— Э-э, парень, да ты, оказывается, богатый, — заметил старик. — Я давно не пил араки. Наверно, уж целый год. Можно будет тебя послушать…
А у Чумбоки в лодке был целый ящик ханшина и мешочки с овсом, пшеном и кукурузой. Он действительно разбогател.
Дядюшка выпил.
— Парень, того, чего ты просишь, сделать нельзя, — сказал он. — Шибко большой грех.
Чумбока снова стал доказывать Дохсо, что он не брат Одаке.
— Ну, давай считаться дедушками… Я тебе докажу, что мы не брат с сестрой… Уже был случай, когда один Бельды… Ичинга Бельды женился на девушке своего рода.
— А ну, давай считаться! — согласился дядюшка Дохсо, подумав, что, может быть, действительно произошла ошибка и у молодых найдутся доказательства, что они не родственники: Тогда, пожалуй, можно поженить Одаку и Чумбоку. Будет такой умный зять. — Ну, давай считаться.
— Моего отца Ла род пришел с Нюмана. Там его корень. А твой дедушка был Нана, тунгус, по-нашему понимал плохо…
— Э-э нет! Это все равно! Оба Самары! Тьфу ты! Чуть не ввел меня в грех!
— Ну как же! Давай снова!
— Давай…
— Мой отец — Ла, а ее — Дохсо, у тебя отец — Чудинга, а мой — дедушка Иренгену. Его отец — Пояна, а твой дедушка — Тяп-Тяка, а отец Тяп-Тяка самый Нана и есть. Народ разный, значит.
— Нет, все равно Самар! — упрямствовал Дохсо.
Чумбока плюнул с досады и снова пошел за водкой. Он принес еще одну бутылку, а старухе отдал пшено и овес.
Вскоре собрались все Самары, стали пить водку. Сварилась каша.
— Вот парень сватается, — говорил Дохсо, — хочет увезти Одаку.
— Конечно, надо отдать ему девку! — соглашались голодные старики, усаживаясь вокруг котла и принимаясь за кашу.
— Ну, давай еще считаться, — сказал Дохсо.
Он все более склонялся к тому, чтобы отдать дочь за Чумбоку, но желал слышать ясные доказательства.
— Мой отец — Ла, а ее — Дохсо…
— Кто Дохсо? — испуганно встрепенулся дядя.
— Кто? Ты! — с сердцем прикрикнул Чумбо.
— А-а! — пьяно согласился старик.
— Твой отец — Чудинга, а наш дедушка — Иренгену…
Чумбока опять перечислил всех родственников, но старик снова заупрямился.
— Кто Иренгену? — выкатил Дохсо безумные глаза.
Чумбо обозлился и ударил дядюшку по затылку.
— Ты зачем дерешься?
— Убью тебя! — не в силах сдержать гнев, крикнул Чумбо. — Отдай Одаку или худо будет!
— Давай подарки, — отозвался Дохсо.
Чумбока сходил к лодке и принес старику и старухе по халату.
— Хороший подарок! Красивый! — обступили старуху гольдки.
— А вот как ты жить будешь? — не глядя на халаты, спросил дядюшка Дохсо. — Тебя маньчжуры убить могут… Хорошо бы, парень, с твоим нравом пойти в хунхузы. Нам будешь добычу привозить. Прежде у вас в деревне самым храбрым был твой брат Удога, но теперь он женился и обабился. Ты стал самым храбрым. Ты дерешься хорошо. Иди в хунхузы, тогда я тебе отдам Одаку. Я бы и без этого отдал, да закон боюсь. А если хунхуз будешь, то ничего, можешь закон не признавать. Будешь богатый. Родители жены любят, когда зять богатый… Иди в хунхузы.
Чумбо совсем не хотел стать разбойником. Он сказал, что не желает грабить и обижать людей, а будет жить честно.
— А-а! Жаль! — разочарованно молвил старик. Сам Дохсо мирно и честно прожил жизнь и никого не грабил. — Мне хотя бы на старости лет пожить как следует… Если бы ты, парень, был не дурак, то подобрал бы себе товарищей и пошел бы за добычей. Тебя все боялись бы. Ты бы грабил и таскал мне… Хунхузу и закон можно нарушить — на сестре жениться… Все равно хунхуз закон не признаёт.
— Я тебе все честно добуду, отдай только Одаку, — просил Чумбо. Нарушения закона не будет. У нас с братом ружье есть. Могу тебе подарить. Русское ружье!
— У-у! Честно никогда ни черта не достанешь. Все уйдет. А ружья мне не надо, я его боюсь.
Под растянутую сетку, около которой сидели Самары, подлез седой, такой же черноногий, как Дохсо, дед Ичинга.
— Конечно, отдай ему девку. Человек подвиг делал. Пусть берет. Он умнее нас и сам все знает.
Дохсо почесал под косой. Дед Ичинга был один из самых старых Самаров. Его стоило послушать.
Другие старики вступились за Чумбо. Игтонгка стал ругать отца и грозился избить, если не отдаст сестру. Дядюшка наконец уступил.
— Вот твой жених, — сказал он дочери.
Дед Ичинга играл на железной подковке с языком. Одака выпила и разрумянилась. Чумбока топтался перед ней под дедово гуденье.
— Ладно! Присылай сватов! — воскликнул дядюшка. — Отдадим за тебя…
Одака рассказывала, что Чумбока собирается построить новый дом на устье Горюна.
Дядюшка задумался.
— Да, ты хорошее место выбрал, если на устье Горюна хочешь дом построить. Две реки сходятся, и народу много ездит. Почти каждый день пройдет лодка.
Все стали хвалить Чумбоку и говорили Дохсо, что у него хороший будет зять. Старик готов был почувствовать себя счастливым, как вдруг какая-то неприятная мысль овладела им.
— Что ты, дядя? — ласково спросил Чумбо.
— Я всегда помню, что Игтонгка убежал, — печально ответил Дохсо, теперь маньчжуры где увидят меня — убьют. Я всегда должен их бояться.
— Не бойся! — сказал Чумбо. — Я твой зять и всегда могу тебя защитить. Я же не боялся выстрелить в шамана. Я и их не побоюсь.
Он уже рассказывал про испытание Бичинги.
— Мы давно знаем, что Бичинга злодей и обманщик, — бормотал Ичинга.
Черноглазые большеголовые ребятишки жались к матерям, когда речь зашла про шамана. Особенно ругал его Кога, тот самый долговязый, остроголовый старик с бородой в три длинных седых волоска, который жил то в Бохоторе, то в Кондоне и который дал Чумбоке оморочку после его бегства от маньчжуров.
Между тем в стойбище пришла лодка. Приехали люди в рыжих шляпах.
— Кто это? — спросил Чумбо.
— Это лоча! — спокойно ответил Иренгену. — Наши знакомые. Не бойся их. Они на озере красное серебро моют… К нам ездят…
— Фомка приехал! — поднялся дядюшка Дохсо.
Гостей было двое. Из них сухой, русобородый и с длинным носом русский. Тунгус Афоня тоже называл себя русским. Не раз еще в былые годы Фомке приходил с купцом из-за хребтов. Приносил топоры, а иногда и самодельные русские ружья. Проезжая по стойбищам, якуты и русские «пробовали пески» — брали пробы на золото.
На этот раз русские приехали в деревню за табаком. Они знали, что у гольдов водится славный табак.
Все кондонцы перебрались с песков к гостям, в тальники. Самары стали обсуждать, сколько дней пришлось бы потратить, если поехать на Амур купить табаку.
Золото было, а табаку не было. Фомка и его друг Афоня решили не пожалеть рубах, шапок и шляп, променять их на табак гилякам, не знавшим цены золоту.
— На Мангму за табаком ехать быстро можно, — говорил Кога, подсаживаясь к Фомке.
— Только не проедешь! — воскликнул Дохсо.
Фомка спросил, что же за беда.
Дядюшка Дохсо рассказал про набеги маньчжуров, про бегство Игтонгки и про притеснение грабителей.
Фомка покачал головой.
— Мы дадим табаку, маленько-то дадим, — сказал Чумбо.
Среди выигрышей у него был табак. Парень принес и отдал русским две связки.
— Боитесь каких-то бродяг, — сказал Афоня, принимая подарок. Собрались бы да погнали их.
— А ты нам поможешь? — спросил Кога.
— Что, у вас самих силы, что ли, нет? Ружья есть…
Чумбо вспомнил, что когда-то такой же совет давал Алешка его отцу Ла. Чумбо хорошо помнил Алексея, как всегда помнят в тайге человека, который хотя бы раз проходил мимо. Алексей помог поймать лысого зверька, живущего чужой добычей, и сравнивал его с пришлыми грабителями. А главное — он сменил за юколу хорошее ружье, которое бьет метко.
— Напасть да всех побить, — как бы между прочим сказал, попыхивая трубкой, Афоня, занятый вырезыванием колка для весла.
— У-у! Как нападешь?
— Как нападешь? Подъехали на лодках и прямо набежали. Посечь их всех.
— А кто торговать будет?
— Мы торговать будем! — живо ответил Афоня.
Чумбо оглядел зеленую тихую реку, а за ней рыжие камни с вековыми кедрами по уступам и на вершинах… На этой стороне берег, истоптанный поколениями Самаров дочерна.
«Тут корень рода Самаров! — думал Чумбо. — Вон какой амбар старый сгнил, повалился в лес, как пьяный! Кусты на его бревнах выросли — это еще дедушка, самый первый Самар Нана строил! В лесу в железных рубашках его кости валяются. От этого Нана пошли Нанэй — наш народ, люди, все мы. Во-он за рекой скалы, как жеребцы скачут по склонам сопки… Они у нас так и называются — скалы Жеребцы. На этом месте, когда Нана пришел, рыба в воде шелестела, как листья сухого дуба шелестят. Ему поэтому место понравилось. Зачем сюда чужих пускаем? А? Про каждый камень, про каждую речушку у Самаров сказка есть. А теперь сюда разбойники приходят. Дедушка наш род сюда привел не затем, чтобы тут нас грабили! Вон какие кедры стоят! Таких нигде нет!»
За табак Фомка подарил Чумбоке свою выцветшую шляпу.
— Вот шляпа! Теперь тебя не узнает никто! — сказал Дохсо, когда Чумбока надел на себя подарок.
— Чумбока, надень русскую рубаху!
— Теперь ты можешь в гьяссу ехать, тебя даже Сибун не узнает! Совсем ты другой человек стал.
— Приезжай ко мне в гости в низовья, — приглашал Фомка молодого гольда.
Афоня возил добытое золото якутским купцам, за хребты. Скоро он отправится в город лоча.
* * *
Поздно вечером табор засыпал. Чумбока и Одака сидели у костра. Дядюшка Дохсо где-то в стороне, в потемках, бранился со старухой.
…Вспоминаю тебя, сестричка, Ханина-ранина,тихо и ласково, с восторженным повизгиванием, напевал Чумбо,
Когда рыбку бью в реке, Ха-а-нин-на-ран-ни-на! Хотел бы я, чтобы Сердечко твое, Ханина-ранина, Трепетало как рыбка на остроге…И, любуясь милой, Чумбо, поджав ноги, сидя, подпрыгивал в такт песне.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ САМПУНКА В ОНДА
В Онда пришла мачтовая сампунка. Река обмелела. Судно не смогло подойти к деревне и остановилось в отдалении от берега, на расстоянии чуть побольше выстрела из фитильного ружья.
В открытое окно Удога мрачно наблюдал, как рабочие-китайцы бросили якорь и, бегая по настилу, сворачивали соломенный парус, скрепленный длинными бамбуками. За спиной Удоги, на кане, позванивая талисманами и разными медными побрякушками, отгоняющими злых духов, Дюбака покачивала лубяную зыбку и что-то ласково бормотала дочке.
От сампунки отвалила лодка. В лачугу поспешно вошла гостившая в эти дни в Онда горбатая мать Дюбаки.
— Маньчжуры приехали! — со страхом сказала старуха.
Ойга с оханьем поднялась с кана. Ноги и поясница не давали ей покоя. Если бы не гостья, помогавшая ей, все хозяйство развалилось бы.
Дюбака, оставив младенца, подошла к двери.
Из всех домов выглядывали смуглые лица женщин, не решавшихся выйти на берег. Там толпились мужчины, кланялись приезжим.
Приехал сам Дыген и оба его помощника — толстый маленький Сибун и высокий свирепый старик Тырс. С ними было двое маньчжуров и рабочие-китайцы, все без оружия.
Маньчжуры, высаживаясь в стойбищах, оставляли оружие на сампунке, а то были случаи, когда напуганные, отчаявшиеся местные жители все бросали и убегали в тайгу, и тогда пустели деревни и не с кого было брать меха, из-за которых совершались набеги.
Своих соболей у Удоги не было, и он пошел к купцу Гао. Он знал, что если не дать соболей Дыгену, то маньчжуры могут жестоко наказать или захватить с собой гребцом в дальнюю дорогу.
«Я во власти торгаша, — с горечью думал Удога. — Когда беден, то стараешься где-нибудь поскорей занять, лишь бы избегнуть несчастья».
В лавке была суета. Сыновья хозяина прятали под крышу какие-то узлы, бегали за амбар в тайгу и, возвращаясь, взволнованным шепотом передавали друг другу какие-то новости.
Маньчжуры всегда придирались к Гао. Правда, обычно все заканчивалось вымогательством мехов, но именно вот это лицемерие чиновников и выводило из себя Гао.
— Какой негодяй! Какой лжец и обманщик! — тонко и гневно кричал старик, обращаясь к Удоге и показывая пальцем на сампунку Дыгена. Старик дрожал и, полуоткрыв свои черные глаза, не сводил их с судна…
Он бранил Дыгена, а его сыновья, Вангба и работники тем временем прятали меха и товары.
— Я тебя всегда выручу… Выручу… Дам хороших соболей… Таких уж давно нет… Нет нигде… только у меня. Старые соболя, хорошие. Ты отдашь этой зимой за каждого по два соболя… И еще полсоболя — проценты. Ты такой умный, теперь ты знаешь, что такое проценты.
Гао подал Удоге двух хороших черных соболей.
— Да ведь это мои! — воскликнул Удога и быстро взял шкурки. — А ты говорил, что мои соболя порыжели. Вот они! И черные, такие же, как были!
— Как? — спросил Гао.
— Как ты сказал? — подскочил старший сын.
— Это мои соболя! А ты засчитал мне в уплату долга рыжих.
Гао Цзо гневно взглянул на своего среднего сына — он подсунул ему эти шкурки. Сын по взгляду понял, что будет бит. В такой суете не мудрено позабыть, кто каких соболей приносил…
Торгаши дружно загалдели, обступив гольда. То один, то другой, возвышая голос, наперебой доказывали ему, что это старые соболя, что они много лет висят в амбаре…
Удога взял соболей и быстро ушел из дома Вангба. Он чувствовал, что надо молчать и терпеть. Он все сносил покорно, но в душе его зрело желание разорвать сети, которыми путали его с юных лет хитрые, злобные и жадные люди.
А дома остались жена и маленькая дочка, мать. Брат хочет жениться… Надо за него и за себя внести выкуп.
Когда Удога удалился, Гао Цзо подскочил к среднему сыну, схватил его дрожащей рукой за ухо, ловко ударил ногой под спину.
— Ты должен помнить, каким способом и у какого охотника взять меха. Отец старается, выдумывает, изобретает, а ты тащишь то, что совсем не надо показывать, и отдаешь… Не жалеешь отца! Ой, я не вынесу такой жизни! Мои дети погубят меня! И еще Дыген приехал! Лучше мне умереть и не видеть, как гибнет мое богатство!
Старик присел на край кана и съежился совсем, так, как это делал его петух, когда наступали холода.
* * *
Дыген обходил стойбище, маньчжуры поддерживали его с обеих сторон. Рябой одноглазый маньчжурский дворянин чуть ступал, желая показаться перед гольдами изнеженным, высшим существом.
Несчастье Дыгена было в том, что он не мог наесть брюха. Он очень завидовал айгунскому полковнику, который превосходил толщиной любого борова из императорских свинарников в Пекине. «Если бы мне выдаться фигурой, я бы сразу вышел в люди, — часто размышлял он. — Но я маленький и щуплый…»
Только вид изнеженности мог напустить на себя Дыген. А грузная важность навек оставалась ему запретной.
Дыген не собирался задерживаться в нищем стойбище Онда, где, кроме рыбы, у населения нет ничего. Маньчжуры решили обойти стойбище и взять что удастся. У каждого дома Дыгена встречал хозяин.
— Давай меха! — приказывал маленький одутловатый Сибун. — Дыген добрый, даст тебе подарок за это.
Писарь тут же читал по книге, сколько мужчин в этом доме.
Сибун забирал меха. Дед Падека получил за своих соболей чашку проса. Ногдиме дали два локтя грубой белой бязи.
Заметив две черные шкурки, вынесенные Удогой, Дыген заговорил с ним.
— Это за тебя и за брата? А еще у тебя нет таких? А кто это у тебя кричит в доме? — вдруг спросил Дыген. — Ребенок? Мальчик?
— Наверно, мальчик, — заметил старик Тырс.
— Нет, девочка.
— Если мальчик, так и за него ты должен дать еще одну шкурку. Доставай где хочешь такую же хорошую.
— Пожалуйста, посмотрите, я правду говорю, — низко кланяясь, говорил Удога.
Горбатая мать Дюбаки ужаснулась.
— Зачем в дом зовешь? — шепнула она на ухо Удоге. — Так не делай! Худо будет!
— Иди! — сердито отозвался Удога.
Старуха кинулась в лачугу. Один за другим маньчжуры полезли в дверь. Оба окна лачуги выставлены на лето, и поэтому внутри светло.
— А-а! Вот тут и мать! — весело сказал Дыген. — Здравствуй! Ну-ка, покажи нам, сын у тебя или дочка.
Дюбака в страхе отступила, закрывая зыбку.
— Не бойся, не бойся, — беря ее за руку, сказал свирепый Тырс, — мы только посмотрим.
— Пусть увидят, что девочка, а то с меня еще один албан требуют, сказал Удога. — Открой им ребенка!
Ондинцы с тревогой смотрели, как маньчжуры с жадным любопытством тянутся к только что родившемуся младенцу. У горбатой матери Дюбаки застучали зубы от страха. Мало ли что бывает в таких случаях…
Но сама Дюбака, казалось, успокоилась, когда Удога ей все объяснил. Она развернула ребенка.
— Девочка! — пробормотал Сибун.
Маньчжуры отошли от зыбки и стали выходить. Дыген, казалось, совсем не был опечален, что ребенок — девочка и что нельзя получить еще одну шкурку.
Мать завернула плачущего ребенка.
— Ты ведь дочь Локке, — сказал ей Дыген ласково. — Я его помню… Почему же ты боишься меня? Я еще недавно вспоминал тебя, думал, куда это ты исчезла из Мылок.
Дюбака с испугом взглянула на маньчжура.
Дыген задержался в доме Удоги, посидел на кане, поговорил с хозяином, похвалил его, похлопал по плечу и сказал, что такие охотники ему нравятся. А сам все косился на Дюбаку.
Выйдя из дома, Дыген заметно повеселел. Он что-то стал говорить Тырсу, показывая глазами на дом Удоги.
— Я говорила, никогда не вводи в дом маньчжуров, — с сердцем твердила горбатая старуха. — Я старый человек и знаю, что от этого всегда беда. Уж мы в Мылках насмотрелись и знаем их хорошо.
— Но ведь я… — растерянно пробормотал Удога.
Маньчжуры двинулись дальше.
— Как это у тебя шкурок нет? — грозно закричал Тырс у соседней лачуги на Кальдуку Толстого. — А ты на охоту ходишь? Ну-ка, живо достань соболя!
Раздались гулкие удары палок о спину Кальдуки Толстого.
Тучный гольд с темным одутловатым лицом, стоя на коленях, терпеливо сносил побои.
Увидев, что такого здоровяка палками не проймешь, Тырс, не долго думая, растолкал толпу домочадцев Кальдуки, схватил его маленького двухлетнего сына и поднял за ножки вниз головой. Ребенок побагровел. Он хрипло закричал и забился.
Женщины в ужасе завыли. Кальдука вскочил и кинулся бежать.
— Так держать буду, пока выкуп не принесешь! — крикнул вслед ему Сибун.
Лишь когда Кальдука принес все тряпки, которые были в амбаре, Тырс отпустил ребенка и забрал шелковый халат жены Толстого.
Удога видел все это.
Дыген двинулся дальше. Всюду он слышал одно и то же. Охотники остались без пушнины, вся их добыча перешла к торговцам.
Дыген возвратился к своей лодке. Усевшись на поданную скамеечку, он приказал схватить старика Гао.
Маньчжуры отправились в лавку.
Это были люди на подбор рослые, сильные, не раз бывавшие в набегах. Они поволокли старика без всяких церемоний, так что его ноги повисли в воздухе. Он что-то шептал то одному, то другому на ухо.
Двое маньчжуров, державших купца под руки, бросили его к ногам Дыгена.
Гао дрожал, плакал, кланялся.
— Ты зачем тут торгуешь? — спросил Дыген сурово. Его единственный глаз в мутной злобе уставился на хитрого торгаша. — Кто тебе позволил? Есть у тебя письменное разрешение? Как ты смеешь население обманывать? — Дыген показал рукой на большую толпу ондинцев, собравшихся посмотреть на ссору Дыгена с Гао, не поделивших меха и должников. — Эти люди — наши соседи, друзья, мы с ними подарками обмениваемся, а ты их обманываешь. Зачем ты их обобрал? Им из-за тебя нечего дать мне в подарок. Как ты смеешь спорить с дворянином! — кричал Дыген.
Дыген и Гао долго препирались. Дыген объявил, что штрафует купца, и приказал забрать все меха, какие найдутся в лавке и в амбаре.
Рослые, быстроногие маньчжуры ринулись на поиски. Они перевернули весь дом Вангба, все амбары…
Гао тем временем, стоя на коленях перед Дыгеном, просил пощадить его, не разорять, обещал каждый год давать хорошие подарки.
— Я бедный торговец… Не отбирайте мои меха… — всхлипывал он.
Вернулись маньчжуры. В толпе раздавались смех и крики. Кроме старых лысых шкурок, изъеденных мышами, маньчжуры ничего не нашли. В толпе громко восхищались хитростью и ловкостью Гао и смеялись над маньчжурами. Старик Гао смиренно стоял на коленях и молча лил слезы. Потом он поклялся, что у него нет ничего.
Дыгену надоело возиться с торгашом. Он махнул рукой и приказал дать ему сорок бамбуков по пяткам.
Гао, кажется, не на шутку заплакал. Плечи его затряслись. Теперь уже в толпе никто не смеялся. Все с беспокойством наблюдали, как маньчжуры, повалив купца, сорвали с него старые туфли и матерчатые носки и как один из них зажал его сухие, костлявые ноги.
Тут уже не было ничего смешного. Начиналось жестокое наказание. Как ни плох был Гао, но все пожалели его.
Тырс подал команду. Солдаты взмахнули бамбуками. В толпе раздались крики, плач. Розовощекий подросток А-Люн громко заревел.
Испуганные лица ондинцев теснились вокруг. Желтые палки замелькали в воздухе.
Гао зажмурился и громко застонал, лежа на брюхе и подняв голову так, чтобы всем было видно его лицо с плаксивой гримасой. Однако, как заметил Удога, слез не было.
В толпе появился Чумбока. Он был в новой рыжей шляпе. В зубах у него трубка, за поясом новый нож.
— Как-то не сильно все же бьют, — заметил он брату.
— Откуда ты? Ты приехал? — встрепенулся Удога. — Мне надо поговорить с тобой.
— Погоди, погоди, — ответил Чумбо.
Растолкавши всех, он вылез вперед, следя внимательно, как палки ложатся к пяткам.
— Неправильно бьете! — вдруг крикнул он.
В толпе зашумели. Чумбока верно подметил — Гао били кое-как. Все поняли, что и тут не обошлось без обмана.
Чумбо подскочил к маньчжурам.
— Чего плохо бьете? — закричал он. — Бейте его, как всех!
И, вырвав у одного из маньчжуров палку, он неловко, но с силой ударил торговца по ноге. Гао завизжал и подпрыгнул. Лицо его сразу выразило неподдельный ужас, а глаза раскрылись так широко, как еще никто не видел. Это было смешно, и все покатились со смеху.
— Эй, эй! — с важностью воскликнул старик Тырс, но не мог сдержать улыбки.
Чумбока, чувствуя, что вот-вот его оттолкнут, ударил еще раз. Гао взвизгнул и обозлился. Он закрутился на месте, выгибаясь и оглядываясь. Видно стало, какой он еще ловкий и проворный.
Ондинцы захохотали.
Теперь уж никто не жалел Гао. Все видели, какой это хитрец и обманщик и какое представление устроил он, подкупив солдат.
Дыген сидел, смеясь и утирая больной глаз платком.
— Хватит, хватит! — закричал толстый маленький Сибун. — Наказание окончено!
Под вой и крики толпы битый торгаш уходил в лавку. Сыновья держали его под руки. Поддельная скорбь была на их лицах. Гао Цзо ступал с таким видом, словно шел по раскаленным углям.
Маньчжуры и китайцы-работники смеялись.
— Ну и парень! — обступив Чумбоку, потешались они.
Дыген стал собираться на сампунку. Он велел Тырсу остаться с тремя людьми в деревне и подготовить все.
— Пусть сделают шалаш, — сказал Дыген, — и дай подарки ее мужу… Возьми что-нибудь у торговца. А я поеду обедать на сампунку.
На сампунке повар готовил вкусный обед — ласточкины гнезда, морских червей…
Усталый, но веселый Дыген с толпой спутников отъехал в лодке. День был ясный, солнечный.
Тырс собрал оставшихся на берегу гольдов. Он сказал, что Дыген остановится в Онда. Надо будет наловить хорошей рыбы, убить уток, а также набрать елового корья и сделать шалаш на берегу.
Ондинцы печально умолкли. Когда маньчжуры оставались в какой-либо деревне на отдых, горе было жителям.
— Зачем вам тут жить? — сказал из толпы Чумбока. — У нас нечего взять.
— Ты никуда не уходи, — предупредил Тырс Удогу, — будь дома. Я скоро зайду к тебе.
Тырс отправился к старику Гао.
Удрученные гольды расходились.
У дома Удоги горел костер. На огне стоял большой черный котел. Старухи варили уху. Летом обед всегда готовился на костре, а не в лачуге. На пороге Дюбака кормила грудью ребенка.
— Вот и дядя Чумбо приехал! — сказала она ребенку. — Как он сегодня торгаша поколотил!
— Собирайся-ка поскорей, — сказал Удога, обращаясь к жене, — тебе в тайгу бежать надо!
Дюбака испуганно посмотрела на мужа.
— Дыген хочет остановиться в Онда. Велел шалаш делать… Будет жить на берегу. Уходи скорей!
Обычно маньчжуры останавливаются в больших деревнях, где им была пожива, но не в таких маленьких, нищих стойбищах, как Онда, где, кроме юколы да нескольких шкурок, нечего было взять.
— Может быть, он из-за китайца хочет тут остановиться? — захрипела старая Ойга, стараясь успокоить старшего сына. — Меха его хочет найти.
— Уж я знаю! — перебила ее горбатая мать Дюбаки. — Всегда женщину себе возьмет. А если муж будет противиться, велит его избить до полусмерти.
— А ты беги, не раздумывай, — обратился к жене брата Чумбока. — В тайге дочь накормишь.
Дюбака поспешно пошла в лачугу собираться.
— Ты не вздумай с Дыгеном ссориться, — сказала Ойга сыну.
— Никогда не вводи в дом маньчжуров, — твердила горбатая старуха. Вот ребенка показал, а они к матери привязались.
Гольды сели обедать. Кусок не шел в горло Удоге.
Мимо с охапкой корья тащился Уленда.
— Ты, Удога, какой счастливый, — пропищал он, — теперь богатым будешь… Уж все знают…
— Тырс идет! — заметил Чумбока.
Подошли трое маньчжуров. Удога утер рукой губы и встал перед ними на колено.
Тырс, как бы дружески, слегка ударил его по плечу и присел рядом, поджав ноги.
Чумбока вдруг заметил, что один из маньчжуров и есть тот самый рябой солдат, которого он оттолкнул с кормы, спускаясь вниз по Горюну. Чумбока молча ел рыбу.
Тырс развязал узел и вытащил старый бумажный халат.
— Вот какая хорошая вещь! — сказал он.
— У китайцев взяли? — жуя, спросил Чумбока.
Тырс поглядел в его сторону. Он уже заметил, что парень любит задираться.
— А у тебя жена где? — обратился он к Удоге.
— В тайге! — волнуясь, ответил гольд.
— Как в тайге? Я видел ее сегодня!
— Она за дровами ушла, — краснея ответил Удога.
— Она не за дровами ушла, а далеко уехала — в балаган, на нашу речку, — грубо сказал Чумбока.
— Когда вернется, ты ее не отпускай далеко, — сказал Тырс. — Пусть будет дома.
Тырс стал приглядываться к Чумбоке. Чумбока посмотрел на сампунку, как бы измеряя на глаз расстояние до нее. Он снял свою рыжую шляпу, глядя прямо в лицо то Тырсу, то Рябому и словно желая, чтобы узнали его. Рябой встрепенулся и чуть не вскочил от удивления.
— Вот еще подарок! — сказал Тырс ласково, протягивая Удоге медное кольцо.
Гольд не взял кольца.
— Бери, не стесняйся! — Тырс положил кольцо на халат. — Дыген тебя любит! — со сладкой и хитрой улыбкой продолжал он. — Послал это все… Вот твоей жене горсть медяшек… А вот еще… — Тырс вынул шелковый халат, который отобрал у Толстого.
Лицо молодого гольда становилось все темнее. На берегу Ногдима, Алчика и дед Падека с сыновьями уже притащили охапки корья и вбивали в песок жерди. Тырс переглянулся со своими спутниками, как бы подсмеиваясь над Удогой.
— Что, тебе не нравятся подарки? — заметил Тырс.
— Мне не надо подарков! — ответил Удога.
— А ты понимаешь, что говоришь? — насмешливо спросил Тырс.
— Понимаю!
Удога взглянул на маньчжура, и тот понял, что гольд знает, что говорит.
— Ты иди к черту со своими подарками, — вмешался в разговор Чумбока, нам не надо таких подарков!
Он поднялся и пнул по куче тряпья так, что все разлетелось.
— А ты кто такой?! — гневно воскликнул Тырс.
Рябой, вдруг нагнувшись, что-то быстро сказал старику на ухо. Все маньчжуры сразу поднялись.
— Постой, постой-ка, парень, — сказал рябой маньчжур, — я давно на тебя смотрю… и не узнал тебя, когда ты в шляпе был.
— Ты что тут делаешь? — строго спросил Тырс, оглядывая Чумбоку с ног до головы.
Рябой опять стал что-то говорить. Тырс кивал головой.
— Это ты учил наших по Горюну ездить? — спросил он.
— Так ты живой? — с насмешкой спросил Рябой.
— Живой! — смело ответил Чумбока.
— Взять его! — властно приказал Тырс. — Это преступник, которого мы давно ищем!
Маньчжуры кинулись к Чумбоке.
— Вот когда ты попался! — торжествующе вскричал Рябой, хватая его за руки.
— Не трогайте меня! — вырвался Чумбока с силой.
Он выхватил нож и замахнулся. Маньчжуры отпрянули.
— Берите его! — свирепея, закричал Тырс.
Старик сам кинулся к Чумбоке, ловко поймал его за руку и ударил по голове. Но тут подскочил разъяренный Удога. Он с такой силой ударил Тырса в грудь, что тот покатился на песок. Откуда-то примчался Кальдука Толстый.
— Эй, маньчжуров бьют! — закричали на берегу.
Толпа гольдов окружила дерущихся.
— А вот я подвигов не делаю, — вылез вперед из толпы дядюшка Уленда. На его бабьем лице заиграла подобострастная улыбка. — У нас отцовой матери брата сын всегда говорил, что он смелый, никого не боится. Те, кого он не боялся, до сих пор живы, а его давно убили. А я не такой, я всегда сильных слушаюсь. Я не делаю ничего плохого.
Тырс, поднявшись, со страхом озирался. Вдруг все трое маньчжуров, растолкав гольдов, быстро пошли к лодке.
Чумбока засмеялся.
— Ничего, ты еще попадешься! — крикнул ему Тырс.
— А вот я подвигов никогда не делаю, — догоняя маньчжуров и заглядывая в лицо Тырсу то с одной, то с другой стороны, пищал Уленда.
Тырс со злобой посмотрел на старика.
Пугаясь его и тараща глаза, но все еще кланяясь, Уленда что-то бормотал, желая задобрить маньчжуров. Он хотел помочь им сесть в лодку.
Тырс нагнулся, взял со дна ее какую-то веревку и вдруг изо всей силы хлестнул старика по лицу.
Уленда схватился за глаза и с воем побежал к стойбищу. Маньчжуры сели в лодку и поехали на судно.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ МАРКЕШКИНО РУЖЬЕ
Около дома Удоги собралась толпа.
— Что теперь будем делать? — в страхе спрашивали старики.
— Теперь надо бежать в тайгу! — испуганно говорил дед Падека.
— Зачем это я в тайгу побегу? — зло ответил Удога.
Он кинулся к амбару, где хранилось оружие. Чумбока последовал за ним.
Старый Уленда, всхлипывая, поддерживал рукой выбитый глаз. Женщины, хватая детей, убегали за стойбище, куда скрылись Дюбака и старухи.
— Напрасно дрались, — бормотал седой, горбатый Падога, — теперь всем беда будет…
— Маньчжуры поймают тебя и отрубят голову, — сказал дед Падека, подходя к открытой двери амбара и обращаясь к Удоге, который разбирал там копья и рогатины. — Не трогай их никогда, это не мылкинцы! Я сам бы рад перебить их, да нечего надеяться.
Чумбока вылез из низкой двери свайного амбара, держа отцовское ружье.
Это было то самое ружье, которое сменял его отец у русского охотника. Оно лежало все лето в амбаре, ожидая зимней охоты на пушного зверя.
— Э-э, чего задумали! — прошамкал старый Падога. — Нет, надо бежать.
Удога появился из амбара следом за Чумбокой. Он что-то сказал брату и пошел по направлению лавки Гао Цзо.
* * *
Ветра не было. Берега словно принизились, посинели и отступили в глубокую даль. Река, казалось, стала еще шире.
Сампунка стояла в отдалении, на глубокой канаве между кос и мелей, едва прикрытых водой. Казалось, там не торопятся. На судне дымились костры.
Вся деревня как вымерла. В тени около дома Удоги дед Падека играл в карты со средним сыном Гао. Рядом сидели Чумбока и Ногдима. Удога все еще не возвращался.
Вдруг на судне зашевелились. Блеснуло оружие. В лодку стали садиться вооруженные люди. Спустился Тырс, за ним Сибун и еще человек десять.
— Едут нас убить! — бросая карты, крикнул дед Падека и вместе с молодым китайцем пустился наутек.
— Едут! — испуганно поглядывая на Чумбоку, проговорил чернолицый Ногдима.
Чумбока прыгнул через подоконник в дом. Вскоре он снова появился с ружьем в руках. Устроившись на подоконнике, Чумбо прицелился. Лодка отошла от сампунки. Там недружно гребли. Чумбо поднял голову, приглядываясь к едущим, и вдруг, вскинув ружье, быстро выстрелил. В лодке раздался крик, и гребцы сменились. Кого-то там укладывали или поднимали.
Чумбо перезарядил ружье. На лодке задымились фитили. Поднялся Тырс. Он выстрелил по дому Удоги. Сразу же из другого ружья выпалил один из его спутников. Но пули маньчжуров не долетели до берега.
— У-у! — выскакивая из-за угла, вскричал Ногдима. — Их ружья не достают. А-на-на! Пойду и сейчас ножной лук принесу. У меня лежит на крыше тот лук, которым дядя убил сохатого.
Чумбока снова выстрелил. Мимо лачуги с каким-то ружьем в руке пробежал Удога. Он кинулся к берегу, поставил рогульки в воду, запалил фитиль и ударил по маньчжурам.
Ногдима пустил стрелу из огромного лука. Чумбо снова выстрелил.
Лодка повернула и пошла к судну. Теперь там гребли быстро и дружно. Видимо, пальба из двух ружей была неожиданностью для маньчжуров и напугала их. Это все был народ пожилой, опытные торгаши и вымогатели, которые шли на грабеж нищих и слабых людей, почти никогда им не сопротивлявшихся. Они шли за богатством, зная, что возьмут его наверняка. Но ни один из них не желал рисковать жизнью. Лодка пошла к сампунке и скрылась за ней. Видно было, как маньчжуры залезали на палубу, как с другой стороны судна что-то поднимали, как по явился Дыген. Там что-то кричали.
Подошел Удога. Красное лицо его вспотело.
— Ну как, отдал Гао Цзо ружье? — спросил Чумбока.
— Насильно у него отнял, — ответил старший брат, — еле вырвал. Только один заряд и был у меня.
— Маньчжуры теперь какую-нибудь хитрость придумают, — толковал Ногдима.
— Вот я вам придумаю хитрость, — сказал Чумбо, прицеливаясь.
— Ты в сампунку не попадешь. Далеко! — сказал Ногдима.
— Как не попаду! — ответил Чумбо. — Я знаю свое ружье.
— Все же туда далеко! — подтвердил Удога. Он знал — у ружья дальний бой, но сомневался, достанет ли оно на такое расстояние.
— Таких ружей не бывает, из которых так далеко попадали бы, — сказал Ногдима.
Чумбо ни слова не ответил. Он подошел к самой воде и выпалил. На судне раздались крики и началась беготня.
— Как раз попало! — закричал Чумбо.
Он снова зарядил ружье и побежал на берег.
— Давай порох, пули! — крикнул он Ногдиме.
Из-за лачуг и из лесу появились соседи. Вылез дед Падека. Вышел Кальдука Толстый.
— А ты тоже ружье заряди! — велел Чумбо брату. — Когда будут нападать, убьем их. Пусть только ближе подъедут, и тогда ты попадешь. У них одна лодка.
С судна открыли стрельбу, но пули маньчжуров не долетали до берега. Видно было, как они плюхались в тихую воду и лязгали о гальку на мелях.
Чумбо выстрелил, целясь в камышовую каюту. Слышно было, как закричал и завизжал истошно маньчжурский дворянин.
С судна снова стреляли. Выстрелы зазвучали громче. Пули стали падать ближе к берегу. Видно, маньчжуры закладывали больше пороха. Судя по выстрелам, на судне было три ружья.
Китайцы-работники подняли якорь. Сампунка тронулась.
Гольды собрались на берегу. На сампунке налегали на шесты и весла. Но судно почему-то шло все медленнее. Маньчжуры понукали работников, но это не помогало. Судно остановилось.
— На мель сели! — весело сказал Кальдука Маленький.
Уленда громко всхлипывал, не то смеясь, не то плача от радости.
Ондинцы громко смеялись над маньчжурами. Еще недавно страшней их не было никого на свете. Они могли обобрать, увезти в рабство. А вот теперь сидят на мели и ничего не могут поделать. А ружье Чумбоки может всех их по очереди перебить.
— Сидят, как в ловушке. А ружья их не достают. А-на-на!
Гольды, вечно боявшиеся маньчжуров, увидели их слабость. Это было целое открытие. Маньчжуры бессильны!
На сампунке стихли. Маньчжуры, видимо, пошли посоветоваться к Дыгену. Работники выглядывали из-за бортов.
Потом все снова засуетились, за борт опустили толстое бревно и, упираясь им в дно, стали раскачивать сампунку.
— А ну, стреляй еще раз! — сказал Удога.
Чумбо снова приложился и выпалил. Головы на сампунке спрятались за борт. Бревно полетело в воду. Дыген что-то кричал.
— Что это у тебя за ружье? — с удивлением пищал Уленда, подходя к Чумбоке.
— Верно, парень, ружье хорошее! — говорил Падека. — А мы думали, что ты про ружье сказки рассказываешь.
— Да разве я не показывал вам, как ружье стреляет? Ты, дед, забыл! Помнишь, как я в сохатого попал?
На борту сампунки во весь рост поднялся Тырс.
— Эй! — закричал он.
Гольды при звуке его голоса испуганно переглянулись. Чумбо молча пригрозил маньчжуру ружьем.
— Парень! — позвал его толстый маленький Сибун, появляясь рядом с Тырсом. — Мы сели на мель…
— Помогайте нам! — крикнул Тырс.
Гольды умолкли.
— Мы вас не будем обижать! Снимите судно с мели! — кричал Сибун.
— Надо им помочь! Пусть уедут, — засуетился дед Падека.
— Погоди, дед, — остановил его Удога.
— Давайте нам выкуп, — крикнул Чумбо, — тогда снимем с мели!
Маньчжуры снова стихли. Требование было необыкновенное.
С судна в воду полезли рабочие, они по грудь в воде налегали на палки, как копьями упираясь ими в борт судна, но сдвинуть его не могли.
Все население стойбища Онда высыпало на берег. Подошли люди из соседних деревень — из Гячи и из Чучи.
— Стрелять? — спросил Чумбо у брата.
— Стреляй, стреляй! — хором отвечали со всех сторон.
Чумбо зарядил ружье, но в это время рабочие уже поднялись на судно.
Чумбо поднял голову.
— Мне показалось, что судно как будто немного сдвинулось, — сказал Удога.
На сампунке опять о чем-то совещались.
— Нет, стоит, — сказал Падека, — не движется.
На борту опять появился Сибун.
— Даем выкуп! — крикнул он.
— Идите сюда, — сказал Тырс. — Мы сами не можем сдвинуться. Помогите нам. За это дадим меха.
— Ну, кто пойдет? — спросил Падека, залезая в лодку. — Надо с собой шесты взять, чтобы шестами сампунку толкать. — Старик послал парней за шестами. Гольды сталкивали лодку в воду.
— А мне все-таки кажется, что они сдвинулись с мели, — всматриваясь, говорил Удога.
— Какой ты глупый! — отвечал Падога. — Зачем бы они стали нас звать к себе на помощь, если бы уже сдвинулись?
— Конечно, надо им помочь! — согласился Ногдима.
— Лучше помочь им уехать и помириться, — шамкал Падога. — Никогда не надо с разбойниками ссориться. Мало ли что может быть.
— А вот мы сейчас узнаем, снялись они с мели или нет, — сказал Чумбока.
Он выстрелил. Пуля попала прямо в дверь каютки Дыгена. По воде донеслось, как что-то там упало со звоном. На палубе поднялась суета.
Рабочие разбежались по настилу и сразу взялись за весла. Сампунка тронулась.
— Э-э! Сампунка-то пошла! — вскричал Падека в изумлении.
— Застрелили бы тебя, дед, как медведя из засады, за твои стариковские глаза, — сказал Чумбо.
На сампунке во всю мачту стал вытягиваться соломенный парус. Слышно было, как застучали бамбуки, которыми была скреплена солома. Парус хлопнул и с треском наполнился воздухом. Сампунка заскользила по реке. На судне послышались крики команды и деловые голоса рабочих. Работники стали налегать на шесты, помогая слабому ветру двигать судно…
Отойдя версты две от деревни, маньчжуры убрали парус и бросили якорь. Они, видимо, решили все же напасть на Онда. Гольды встревожились. К вечеру из стойбища опять все стали разбегаться.
Всю ночь те, кто оставался в Онда, были настороже.
Утром середину реки кутал туман, похожий на улегшееся облако. Ветер постепенно отгонял его, но сампунки видно не было. Вдруг облако тумана поднялось с реки и поплыло в воздухе. Открылись широкие голубые полосы воды. Они были чисты. Вылетали чайки, они падали на реку, и видно было, как всплескиваются в воде их острые белые крылья.
— Маньчжуры-то ушли! — сказал Удога, поглядывая на брата.
— Может быть, хитрость? — спросил Чумбо.
— Вон где они! — сказал Падека.
Над рекой стояла тишина. Солнце начинало припекать. Видно было, как далеко-далеко, там, где среди расступившихся гор вода слилась с небом, на реке, как на голубом бугре, стояло судно маньчжуров с прозрачным, будто склеенным из кусков бумаги парусом.
— Неужели маньчжуры уехали? — дивился Падога.
— Уехали! — обрадовался Падека.
— Да, у тебя хорошее ружье! — подошел к Чумбоке Кальдука Толстый.
— Как, Чумбока, ты ловко придумал все это! — сказал Падека.
— Когда Дыген сказал, чтобы балаган ему строили, я сразу догадался, что нашим ружьем их прогнать можно, — ответил Чумбока.
— Ты продай мне это ружье, — протолкался к Чумбоке Гао Цзо, — дам тебе много дорогих вещей. Талисманы счастья дам.
— А что, Дыген еще приедет к нам? — беспокоился Уленда. — Он всех убьет.
— Не убьет! — грозно сказал Чумбока. — Я еще с него выкуп получу.
— Теперь мне могут быть неприятности, — бормотал Гао. — Запретят торговать, и вы все без меня умрете с голоду. Зачем ты жалел жену брата? — шепнул он на ухо Чумбоке. — Из-за брата тебе неприятности будут. Пусть бы свел свою жену к маньчжуру.
— Я один раз попался им, — стал рассказывать дед Падека, — меня посадили гребцом. Мы поехали в низовье. Туда, где Тыр. Подъехали к деревне. Вдруг пришли гиляки и говорят, что снизу лодка идет, едут. Дыген испугался… «У-у, говорит, там лоча много-много». И сразу мы оттуда уехали, и теперь Дыген туда не ездит. Где ему сопротивляются, он сразу уходит, если видит, что силы не хватит, или если хитростью не может взять.
Вечером за отмелью показалась лодка. Вблизи ее брел по берегу человек.
— Маньчжуры! — на всю деревню закричал Уленда и побежал в лес.
В Онда начался переполох. Из-под полога выскочил сонный Чумбока и всматривался в едущих.
За широкими песчаными отмелями показалась еще одна лодка.
— Свои, — сказал Удога.
— Ну да, это горюнцы! — с досадой на трусливого дядю воскликнул Чумбо.
С Горюна приехали родные. Их встретили на берегу, обнимали и целовали всех по очереди.
— Что тут у вас случилось? — спрашивал испуганный Дохсо. — Живы ли вы? Мы по дороге слыхали, что тут беда.
— Беды никакой нет, — ответил Чумбока. — Мы только маньчжуров из Онда прогнали.
— Жалко, меня не было, я бы их убил всех! — похвастался Игтонгка. Почему меня не дождались, когда сражаться начинали?
Дядюшка Дохсо явился сильно взволнованным, но, выслушав рассказы племянников, он быстро успокоился.
— Ну почему ты не хочешь стать хунхузом? — спрашивал он, сидя у котла с угощениями и запуская в него пальцы. — Хорошо бы жил. Не как мы! У тебя сноровка есть.
— Нет, я не хочу быть хунхузом. Хочу охотиться и тебе шкуры и мясо таскать, чтобы ты никогда не сидел голодным.
— Это тоже хорошо! — согласился тронутый старик.
Чумбо, бодрый, выспавшийся за день, с чувством заговорил о делах.
Хотя дядюшка Дохсо очень беспокоился, не грех ли женить Чумбоку с Одакой, но он все-таки согласился отдать дочь.
— Ну, я согласен! — сказал Дохсо. — Давай торо — и Одака будет твоя.
— Брат, я женюсь! — воскликнул Чумбока.
Дюбака обняла Чумбоку и поцеловала в обе щеки. Она давно жалела брата своего мужа, что он все еще не женат и никто не приласкает его.
Кога и старики подсели к мылкинской старухе.
— Вот это жена моего друга Локке, — говорил Кога. — Я его хорошо знал! Теперь с тобой, старуха, будем родней, — обнял он горбатую вдову Локке. Приезжай гулять к нам на Горюн. Найдем тебе жениха… У нас все женятся.
Дядюшка Дохсо надевал на руку полученный в торо браслет из русского серебра.
— Ну, как, старуха, замуж хочешь? — спрашивал Кога вдову Локке.
Старуха, узко щурила глаза, на ее опухшее лицо свисали седые патлы.
— Не-ет… — тянула, она.
Старики уговаривали ее ехать на Горюн.
Чумбока показывал гостям ружье. А сам думал:
«Узнать бы, кто такие ружья делает? Алешка говорил, что их делает его друг. Как он их делает? Почему оно так далеко стреляет? Не много пороху кладу, а далеко попадает. Хотел бы я знать, где живут эти люди — и Алешка и его приятель».
Наутро вдова Локке собралась домой в Мылки.
Родня вышла провожать ее. Старуха села в лодку.
— Мы скоро приедем к тебе! — сказал Чумбо.
Старуха подпоясалась покрепче, сунула за пазуху коробку с табаком, взяла в зубы трубку. На ней были длинные мужские штаны. Она с силой оттолкнулась веслом от берега. Отъехав, старуха подняла парус и закрепила его так, что ветер, меняясь, сам перебрасывал его. Старуха взялась за весла.
Она хотела поскорей добраться домой и рассказать новости.
Все считали мылкинцев подручными маньчжуров, потому что торгаш Денгура вел с ними дела. Но старуха знала, что ее сородичи больше всех страдают от грабителей.
«Надо рассказать им, как Дыген струсил, когда в него стреляли. Может быть, и наши достанут такое ружье», — думала она.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ В СТАНИЦЕ
Казаки с вышки Усть-Стрелочного караула заметили, как далеко-далеко, на широком речном плесе, два человека и собака бечевой тянули груженую лодку против течения.
— Ну-ка, — сказал седоусый атаман Скобельцын дальнозоркому Афанасьеву, — в трубу гляди!
Казак сложил ладони в трубку, чтобы не слепило солнце. Товарищи его молчали, ожидая, что он скажет.
Редко случалось, чтобы снизу, с Амура, приходил на караул человек. Орочоны обычно шли табором, на многих лодках. Иногда на Усть-Стрелку прибывал разъезд маньчжурской пограничной стражи на больших сампунках.
Теперь всех занимало, кто же брел на этот раз.
— Алешка Бердышов идет! — сказал Афанасьев.
— Он ли? Что-то не признаем пока.
— Вот же тасканый!
— Ба-а, да это, верно, Алешка! Похоже! Этак же ходит!
— Давно его не было!
Казаки немало удивлялись появлению Бердышова. Его не ждали с этой стороны и в это время.
Налегая на петлю бечевы и как бы валясь на нее всем телом, уставший человек медленно подходил к станице.
— Эй, ты откуда явился? — строго окликнул его атаман Скобельцын, когда он приблизился на выстрел.
— Паря, из таких мест, куда ты не долез.
— Он! По ответу слыхать!
— Ну, верно, Алешка. Так складно никто не умеет отвечать. Эй, иди сюда!
Краснолицый Бердышов, в кожаной рубашке, протертой лямками до дыр, и в побелевших от воды ичигах, подошел к казакам.
Те поглядывали на него с опаской, как бы не признавая за своего. Лицо Алешки распухло.
— Ну, как тут ребята мои?
— Ребята! Ты покуда ездил, они уже за бороды схватились, — отвечал Афанасьев.
— Тунгусы почту не привозили от меня?
— Чего захотел! Тебя грамоте на грех выучили.
— Когда послал письмо? — важно спросил атаман.
— Тот год, когда купца оставил и пошел на Амур.
— Нет, еще не получали. Где-то у тунгусов лежит от тебя письмо. Устно передавали, про что писал, а письма еще нету.
На монгольской стороне, за голубой рябью вод, все так же пекутся под солнцем белые юрты. Трава на сопках пожелтела.
Черным кажется лес на их склонах и по складкам. На этой стороне две крыши новых построек поднялись над деревянными домами Усть-Стрелки.
— А вы что все вылезли на вышку? Я иду, гляжу — чернеют, как вороны.
— Нынче вышло запрещение таскаться на Амур и принимать людей с той стороны, — сказал атаман. — Строго следим, чтобы никто не шлялся. Могу не дозволить тебе идти домой, прогнать туда, с откудова ты явился.
— А тут уж один доездился, — небрежно воскликнул Кешка Афанасьев.
— Чего такое? Кто? — встрепенулся Алексей.
— Один амурец уже испекся, — тонким голосом продолжал Афанасьев.
— Да кто такой? С кем беда?
— Маркешка Хабаров! Вот Коняев тебе расскажет, что было. Карп и Михаила ходили с ним нынче зимой, да вернулись. Хотели на Нюман идти, да не дошли — далеко. Стража их захватила. Маркешку увезли и голову отрубили. А они дальше идти не рискнули…
Алексей повесил голову.
— А землю твою не трогали. Как ты обвел сохой поляну, так борозда и есть, никто не касался. Можешь жить по-прежнему. Исправника Тараканова перевели из Нерчинска в Иркутск. Там, сказывают, перемена начальства будет. Губернатор проворовался, а вся полиция и горные с ним заодно. Все открылось. Теперь можешь жить и не бояться, что вызовут в полицию.
— Верно, Маркешка пропал?
— Пропал! Айгунцы его схватили.
— Ну, я теперь им дам!.. Я всех их наперечет знаю, которые на Амуре шляются, — сказал Алексей, поглядывая вниз, откуда только что пришел, и как бы собираясь снова туда отправиться.
— Это толстый полковник его увез.
— Я слыхал про него. Забыл только прозвание. Да все одно, что у нас, что у них, исправники одинаковые, что русский, что китайский…
— А Широкова видел?
— Видел. Как же! Он матери гостинца послал.
— С оттудова таскать гостинцы старухам — это дело политичное, пригрозил атаман.
— Я почем знаю, политичное оно, какое ли, — ответил Алексей.
— Ну что, Широков покориться не хочет?
— Не хочет! Он неподалеку от Айгуна живет. Там еще Афонька Трубочистов да этот, что прошлый год из рудника убежал. Я бы знал про Маркешку, сходил бы к их знакомым китайцам, велел бы узнать, где он похоронен.
— Теперь ты ничего не сделаешь, — сказал атаман, — больше тебя не пущу на Амур.
— Буду я тебя спрашиваться! — ответил Алексей и в сильном расстройстве пошел домой.
«Что такое? Почему человек пропал? Что же это за товарищи, которые дали ему погибнуть?» — недоумевал Алешка.
* * *
— Неподалеку от Айгуна мы с ним встретились, — рассказывал Коняев, сидя вечером у Бердышовых. — Когда драка началась, мы как-то сперва Маркешку и не заметили. Потом глядим — он прямо в нарту и вскарабкался на генерала, так на нем верхом и уехал. Ну что же! Мы думаем, надо как-то выручать Маркешку. Я говорю: «Михайла, ты рожей сойдешь за тунгуса, оденься и ступай в город, будто меха несешь». Мишка оделся по-орочонски и вместе с Миколкой пошел в Айгун. Недолго были, глядим — плетутся обратно. А мы жили в фанзе у знакомого китайца на той стороне, за Амуром. «Ну, чего?» спрашиваем. «Готово, говорят, испекся». — «Как так?» — «Голову выставили». Я еще осерчал на Михайлу. А он говорит: «Завтра нам с тобой головы тоже срубят, давай уходить отсюда. Уже посылают стражников в поиски. Завтра нас сцапают, и нам тифунгуан[42] головы спилит». Стражники еле впустили их в город. Но Мишка чисто по-орочонски сыплет, не признали в нем русского. У богдашек ворота на запор, конные стражники с саблями.
— Они вообще-то любят за стены прятаться, — сказал Алексей, — а уж чуть кто под городом появился ну, беда, наделают страхов, не знают, как бы крепче запереться.
— Ну, мы в ту же ночь подались…
— Черт вашу душу знает, как вас угораздило. Там по всему Амуру, кроме как в Айгуне да на Улус-Модоне, нет ни одного стражника, пустая страна. Это уж у вас заместо голов деревянные болваны прилажены.
Алексей стал рассказывать про свой поход. Его братья — Николай, Петр, Павел, Кузьма, Иван, Григорий, — сыновья, племянники, соседи, бабы, девки и ребятишки собрались слушать.
— Как же ты уловчился, так далеко прошел? — спрашивали его.
— Что теперь вспоминать!.. Вот нехорошо, что люди шкуру свою спасли, а Маркешку казнили из-за них. Ну, Карп с Михайлом — мужики, а ты, Коняев, казак, а хуже бабы. Торгаш, одно слово!..
…Осенью Алексей ходил с сохой за конем, выворачивая на желтом косогоре черные пласты целины. На соседних полянах пахали под озимь другие казаки. Чтобы веселее работалось, они переругивались бранными стихами.
— Какой ты ловкач — катился с Амура, как калач! — кричал Алешка Коняеву.
— А какой ты говорок — со страху без дождя промок! — отвечал тот.
— С тобой водиться — как с шила воды напиться.
— Алешка хлеще складывает! Забивает, забивает! — кричали казаки.
Стояли ясные, жаркие дни. Степь сохла, желтела.
Казаки вспоминали, как в эту пору Маркешка уже стучал в своей кузнице и как над черной ее крышей высоко вился слабый дымок.
— Погиб наш оружейник. Вот был мастер! — горевал Алексей.
— Пойдем опять на Амур! Надо сквитаться за Маркешку, — толковали казаки. — Тебе подарки будут, — говорили они Скобельцыну.
— С амурцев нынче буду брать побольше, — отвечал атаман, — а то есть приказ строгий, и если откроются ваши походы, то нечем будет откупиться.
— Когда-нибудь все туда двинем, — говорил Алексей. — И тебя, атаман, народ заставит за Расею постараться, старый ты хрыч! При Амуре живешь, собака, а допускаешь ему пустовать.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ МОНГОЛЬСКОЙ СТЕПЬЮ
А Маркешку Хабарова везли монгольской степью в деревянной клетке на верблюде. Далеко-далеко за равниной что-то блеснуло, и у казака больно защемило сердце. Сверкнула кяхтинская колокольня. Маркешка подъезжал к родной земле.
Больше полугода просидел он в плену. Его возили из города в город, разные важные чиновники снимали с него допросы. Был он в верховьях Сунгари, в Гирине, у самого дзянь-дзюня[43] и еще южнее, в Пекине. Видел Маркешка впервые в жизни теплую землю, сады цветущей вишни. Китайский губернатор в Гирине, глубокий старик, оказался умным и любознательным человеком. Он полагал, что русские не враги Китая и что с ними надо жить в мире. Он сам, когда доставили Маркешку в Пекин, был там же и исхлопотал казаку позволение возвратиться на родину.
И вот третью неделю Маркешку везли степью, но твердой веры, что везут его домой, не было. Он опасался, что китайцы отправляют его куда-нибудь в такую глушь, что вовеки не выберешься. Правда, по дороге шли обозы с чаем… В России чай любят. Так много чаю больше везти некуда. Сейчас, завидев блеск кяхтинской церкви, казак ожил. Родная станица, родная земля, дом родной, друзья, все, с чем уже несколько раз мысленно прощался Хабаров, теперь близко. И уже тряская клетка, казалось, не мучила казака.
Маркешка зашевелился. Монгол-погонщик сердито окрикнул его и щелкнул бичом. Два стражника и маньчжурский офицер плелись верхами на низкорослых лошадях. Офицер был в грязном военном халате, без оружия и в стеганых мягких сапогах. Солнце палило нещадно, и смуглое лицо Маркешки казалось еще желтее от пота и густого слоя дорожной пыли.
Кяхта поднималась из степи. Слева, как груда бревен, разметанных на пустыре, раскинулся китайский городок, Маймачен, а через неширокую полосу от него начиналась Россия… Русский город со множеством крыш, деревянных и железных, с белыми наличниками окон и крашеными ставнями… Одна за другой показывались маковки церквей…
В Маймачене, у городского начальника, клетку с Маркешкой спустили с верблюда. Смотреть на русского собрались маймаченские китайцы. У Маркешки в глазах рябило от разноцветных шелковых халатов и вееров.
Смеющиеся, толстые, веселые купцы пугали Маркешку, что теперь русские отрубят ему голову и выставят напоказ. Молодые, подскакивая, с восторгом показывали, как будут рубить.
— На своей земле не жалко голову сложить, — отвечал Маркешка. Но в душе надеялся, что его должны пощадить, что он сделал удалое и доброе дело.
На другой день Маркешку вывели из клетки. К нему шли русские в мундирах и с оружием. Маркешка увидел пограничного чиновника и двух офицеров. Русские высокие кони стояли у ворот. Русские казаки в папахах держали их под уздцы. Следом за чиновниками и офицерами валили русские купцы и приказчики и купцы-китайцы. Огромная толпа собралась вокруг Маркешки.
Хабаров остолбенел от радости и смотрел на всех, моргая, не в силах вымолвить слова и от волнения, и оттого, что давно не говорил по-русски, и оттого, что такое большое начальство пришло встречать.
— Мы его не примем, — грубо с иностранным акцентом сказал узколицый, горбоносый офицер, — он не русский… У него лицо не русское. Он по-нашему не понимает.
Офицер пограничной стражи был из прибалтийских немцев. Маленький скуластый Хабаров казался ему похожим на азиата.
— Как же это так, ваше благородие? — взмолился Маркешка.
— Какой же он русский? — сердился офицер. — Глядите, рожа как у инородца, ноги колесом… Маленького роста, желтый.
— Такие родятся по Забайкалью! — сказал скуластый чиновник. — Вы тут человек новый в Кяхте, а мы своего узнаем.
— Нет, не может быть. Нельзя взять его, — упорствовал немец. — Мы, русские, не похожи на такого.
— Я русский! — тонко воскликнул Маркешка.
Он не на шутку испугался, что свои отступятся и опять монголы увезут его в клетке. Отчаяние овладело им.
Маркешка всхлипнул и стал утирать лицо рукавом кофты.
— О, вы не знаете, какой есть русский! — рассуждал офицер. Немцу хотелось в этот момент выказать себя истинно русским человеком.
Подъехал пожилой русский офицер, и все отдали ему честь. Сидя верхом, он устало снял фуражку, вытер лысину платком.
— Откуда явился? — с деланной грубостью спросил он.
— Усть-Стрелочного караула казак Хабаров, Маркел Иванов, — браво гаркнул Маркешка, не сводя с офицера испуганного, настороженного взгляда.
Офицер пристально оглядел казака, его рваную одежду, и ласка мелькнула в его взоре.
— Как попал в Китай?
— Зимой схватили ихние стражники, будто бы переходил границу.
— Ну, обычное дело, — сказал офицер. — А быть может, ты в Китай за контрабандой направлялся?
— Никак нет! Мы в Китай не ходили! Только по Амуру охотились.
Лысый молча смотрел на Маркешку и наконец, обернувшись к казакам, махнул платком и велел вести его в Кяхту.
Офицеры сели на коней. Казаки тронулись.
Маркешка, всхлипывая, пошел между ними.
— Чего же ты ревешь? Домой приехал, — шутливо сказал ему бородатый казак.
Но Маркешка не мог ему ответить.
«Руби голову, казни или милуй, но допусти в родное Забайкалье, — думал он, — а тут не успел порога перешагнуть, а уж грозят и отрекаются. Уж какая-то сволочь навязалась на мою голову. За меня китайский дзянь-дзюнь в Пекин хлопотать ездил, потому что я древнего рода. Такой умный старик попался. А в России что за начальство!»
Маркешка, натерпевшийся за эти шесть месяцев и выказавший стойкость и бесстрашие перед чужими людьми, снесший пытки, угрозы казни и унижение, ни словом не выдавший себя и русских, не в силах был стерпеть обиды от своих, на своей земле. И он заплакал… От счастья, что вернулся, и от горя, что тут такая несправедливость, слезы потоками текли по его щекам.
В халате, в рваной китайской кофте, весь избитый, запыленный и босой, с лицом в потеках, черный от грязи, маленький и скуластый, как монгол, но по-русски сероглазый, вернувшись из далеких странствований, шагал Маркешка по родной земле и горько плакал перед ней, как перед родной матерью.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ ОПАСНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Наступила зима. Гао часто сидит на кане с открытыми глазами, устремленными куда-то вдаль, и гладит петуха. Кот ластится у его колен.
Дом у Гао — полная чаша: есть мясо, крупы, масло, кадушка со спелым мороженым виноградом, другая — с черешней.
Есть мука, сахар… Это все для себя, не для продажи. На продажу идет прель, гнилье, низкие сорта круп.
Чумбока женился на Одаке. Свадьбу справляли в Онда осенью. Собираясь идти на промысел, охотники обещали Гао принести много мехов, все отдать ему, ничего не оставлять Дыгену. Осенью лесные пожары потухли. Тайга местами выгорела: на огромных площадях чернели горелые стволы без ветвей. Дождь и талый снег смачивали землю и почерневшие мхи.
Но на душе у лавочника тяжело.
«Как я вернусь в Сан-Син? — думает Гао. — Ведь меня заподозрят, что я сообщник гольдов, что я им помогал, когда они стреляли по судну. Что я их вооружил, дал им порох. Что я не донес, не предупредил…»
Даже тут, в Онда, нет былой тишины и спокойствия.
«Приедут ли маньчжуры на будущее лето? Может быть, Дыген попросит помощи у своих родственников и явится с солдатами. Или же он приедет с подарками и станет действовать хитростью и лаской».
…Гао знал, что на юге война с англичанами[44] и что рыжие бьют маньчжурских военачальников — у рыжих ружья, пушки, паровые самодвижущиеся суда. В Китае повсюду заговоры против власти маньчжуров, всеобщее возмущение, что маньчжуры не могут дать отпор англичанам! Поэтому много солдат сюда не пришлют. Гао не верил в то, чем сам пугал гольдов. Дыген, конечно, явится, будет искать виновных, но всех сплошь не убьют, а то некому будет добывать меха и не с кого будет их брать. Но ему, Гао, могут срубить голову. Надо что-то делать, чтобы обезопасить себя.
К тому же гольды стали дерзкими и торговля становилась все трудней. Когда гольды дерзят и противятся, то Гао становится заодно с маньчжурами. Нужна сильная власть и нужны угрозы, чтобы дикари не распускались, полагает он.
Гао видел, как возбуждает всех гольдов Чумбока. Он как назло, день ото дня становится все отчаянней.
«После смерти Ла он почему-то сразу переменился, — думал Гао. Ядовитая змея его укусила. Как теперь жить и торговать? Да, если Дыген приедет, то меня, конечно, схватят. Могут обвинить, что я помогаю этим разбойникам. — Эта мысль мучила Гао. — Но если Дыген не приедет, то мне нельзя возвратиться в Сан-Син. Ведь всегда винят во всем торговцев! Несчастные мы люди. Где бы что ни случилось, на нас валят. Конечно, можно в Сан-Син не ездить, пока меха продавать в другом месте, отправить сына на Уссури, где есть лавки, там взять товары… но товары там плохие, из третьих рук.
Рано или поздно придется ехать в Сан-Син. Ведь там дом, семья. Тогда меня схватят ямынские когти. У меня всё отберут, начнутся придирки, допросы — и всё с целью вымогательства».
Гао, конечно, мог бы совсем остаться жить в Онда.
— Нам не следует покидать Сан-Син. Это родина, — говорил отцу простодушный средний сын.
— Не в родине дело! — рассердился старик. — Да и что такое родина? Родина — это не то место, где родился. Родина там, где можно хорошо заработать. Родина — это пустяки! Где мы товары возьмем?
Он вбирал голову в плечи и умолкал, становясь похожим на петуха, который, нахохлившись, сидел рядом, обхватив когтями край деревянного настила на кане. Петух держался цепко. Так же цепко держался Гао за Онда и за своих должников.
Дыген и маньчжуры — люди грубые и прямые. Они не понимают никаких тонкостей. Без всяких ухищрений могут явиться, объявить Гао виновником всех событий, схватить и зарезать. Гао всегда ненавидел маньчжуров и никогда бы прежде не подумал, что их изгнание может так его опечалить. Но, может быть, надеялся, что особенно круто маньчжуры тут расправляться не будут. Ведь близко русские, и эта земля когда-то была русской; когда люди едут в эти края, они всегда любят сказать, что отправляются туда, где была страна Лоча. Тут что-то вроде заграницы. И если начать круто здесь расправляться, то люди побегут за хребты, к русским за помощью. «Конечно, может быть, и обойдется, — думает Гао, — но как-то надо было поладить с Дыгеном, доказать, что Гао — друг маньчжуров. Но как это сделать?»
Пока что Гао Цзо не преминул воспользоваться выгодами, которые представлялись. Он азартно скупал меха. Первую партию их, в самые трескучие морозы, отправил со старшим сыном на Уссури. Он рассчитал, что при самых низких ценах на Уссури заработает больше, чем в Сан-Сине, так как взяток там давать не придется.
В середине зимы, когда ударили сильные морозы, гольды пришли с охоты, чтобы побыть с женами и пополнить запасы продовольствия. Гао Цзо заметил, что Чумбока в эту зиму был особенно весел.
«Какой наглец!» — думал Гао.
Радость Чумбоки была ему противна. И не только противна. Гао всегда тревожился, когда должники его радовались. Если бы Чумбока напился и радовался пьяный, тогда другое дело! Такая радость приятна Гао. Если охотник пьян, грязен и ничтожен в своей радости, валяется, как собака, и молит дать водочки, Гао любит такого «счастливого человека». Ему можно, для большего счастья, обмазать грязью рожу, или потащить за ногу из лавки и выбросить на мороз, или вытянуть у него меха из-за пазухи — он ни о чем не пожалеет и все равно будет счастлив. Он отдаст купцу жену. Но когда трезвый человек радовался, Гао не терпел. Парень не пьянствовал, в долг не брал, а целые дни, сидя на горячем кане и раскуривая медную трубку, рассуждал о том, что возьмет выкуп с маньчжуров, когда они явятся.
Однажды вечером, узнав, что у братьев опять сборище, Гао потуже подвязал ватные штаны и, сгибаясь, чтобы все видели, какой он немощный старик, побрел в зимник братьев.
Но оказалось, что Чумбока на этот раз толковал про охоту на море. Братья вежливо встретили Гао. Старик уселся за столик.
Чумбо говорил, что чем дальше на север, тем лучше шкуры зверей. Гао никогда не приходило это в голову, хотя он уже лет десять торговал мехами. Он знал, что есть места, где соболя, рыси, выдры лучше, а есть места, где мех у всех зверей похуже. Наблюдения Чумбоки были верны.
— Там, где холоднее, зверь сильнее, шкура у него крепче и пышней, говорил Чумбока. — Самые хорошие шкуры — в земле гиляков и на Сахалине.
— О-е-ха! — воскликнул Гао.
— Что такое? Что такое? — забеспокоились гольды.
— Нет, это я горячего хлебнул! — ответил торгаш.
Гао был чувствительным человеком и не удержался от восклицания, когда речь зашла про тех зверей, которых добывают на севере. Он понимал теперь, почему маньчжуры-купцы стремятся пробраться в землю гиляков. Правда, там постоянные драки… Но не беда, надо уметь торговать.
Давно Гао хотел проникнуть в землю гиляков, туда, где соболя черней и лучше, потом пробраться на Амгунь. Какие дела там можно развернуть!
Чумбо задел Гао за живое. Купец в душе соглашался с ним — настоящее богатство было только на севере. Правда, там свирепый народ, но не беда. Надо взять с собой сласти, табак, побрякушки, щетки и по приезде раздать подарки и очистить одежду хозяев от снега или от пыли и предложить водки. Оказать любезности и маленькие услуги. И тогда дикарю станет неловко, что он смел подумать плохое про такого купца, и он почувствует себя виноватым. Уж тогда его можно обобрать, и он только будет радоваться. И такая радость приятна Гао. Надо еще сказать кое-что дикаркам, сделать вид, что они нравятся, и показать им, что их мужья невежи.
— Туда можно ходить охотиться по Мангму, — говорил Чумбока, обращаясь к сородичам.
— А гиляки погонят нас?
— Нет, они гонят только купцов, — ответил Чумбо, — и то не всех. А только тех, которые обманывают.
Тут Чумбока, видно, сел на своих собак. Гао услыхал то, о чем до него пока доходили только слухи.
— По примеру гиляков и нам надо выгнать тех торгашей, которые врут, обманывают, — говорил Чумбока. — Гиляки не пускают таких к себе.
— Как же жить без торгашей? — запищал Уленда. — Кто привезет товар?
— Мы сами поедем и купим.
— Пусть торгуют, но не обманывают! — закричали гольды.
— Да, хорошо бы так! — корябая лысину, говорил дед Падека, и видно было, что он не верит в это.
— Брат, ты не прав, — заговорил Удога. — Конечно, хорошо бы выгнать торгашей, но напрасно ты думаешь, что гиляки не пускают к себе тех, кто их обманывает.
— Да, я знаю! — вскричал Чумбока. — Торгаши снова приходят, когда люди уже не сердятся. Тогда торгаш везет с собой щеточки, вино, побрякушки, дарит подарки, угощает. А потом поит, заводит дела. Люди слабы и не в силах устоять против соблазнов.
«Откуда он узнал мои мысли?» — в страхе подумал Гао. Еще когда Чумбока рассуждал про охоту, Гао подумал, что этот гольд умен, и у него мелькнула мысль, что если Чумбока во всем так разбирается, как в охоте, так он опаснейший человек. Не дай бог, если он понимает торговлю так же, как охоту! А ну, как он про купцов станет рассуждать, как про соболей? Нет, этот человек вреден!
И едва Гао подумал, как Чумбока, словно чудом, заговорил о том, в чем так неохотно признавался себе купец. Гао почувствовал неловкость и смущение, словно его раздевали при всем народе, и он удивлялся, какой бесстыжий Чумбока.
Гольд стал представлять купца, как он приезжает, как кланяется, чистит щеточкой одежду и угощает хозяев. Все покатывались со смеху. Гао вдруг взвизгнул. Глаза его были вытаращены.
— Гляди, как торгаш рассердился! — крикнул Кальдука Маленький.
Все поглядели на Гао и покатились со смеху.
— Что, не нравится? — хлопая его по плечу, вскричал Падека.
— Ну-ка, Чумбока, еще!
— Покажи, как торгаш лезет к бабам, — попросил Падека.
Лицо Чумбоки приняло хитрое и сладкое выражение. Он на цыпочках подошел к своей жене.
— Гао, гляди, как ты ухаживаешь за нашими бабами! — крикнул Падека.
Удога гневно посмотрел на Гао. Он не склонен был к шуткам. Представления брата напоминали ему о том, что Гао-отец на самом деле все еще вяжется к Дюбаке и что сыновья его тоже поглядывают на нее.
— Я отослал сыновей и работников раздавать товары голодающим охотникам, — под взрыв смеха, топчась и подскакивая, бормотал Чумбока. — У меня в лавке никого нет. О-е-ха! Ты — цветок!
Одака смутилась и закрылась платком, словно перед ней на самом деле был чужой человек. Чумбока подпрыгнул еще ближе и стал продвигаться боком, отталкивать Одаку от Дюбаки и оглядывать ее с головы до ног.
— Ах, какая красивая! Какая толстая! — прищелкивая языком, продолжал Чумбо. — О-е-ха! — И он боком, как петух, подскочил к Одаке, — Я старый богатый человек. За деньги и за товары могу сделать с любым человеком все, что захочу.
— Перестань! — вдруг крикнула Одака, пугаясь.
Чумбока смолк. Он вдруг ссутулился, закрыл глаза, откинул голову в плечи — и стал похож на нахохлившегося петуха. Вся его фигура выражала обиду. Хохот стоял в зимнике.
— Все твои проделки знает! — закричал Кальдука.
Вдруг Чумбока встрепенулся и снова ожил. Глаза его открылись. Он нагнулся, как бы заглядывая в котел, и приоткрыл крышку:
— Что это у тебя?
Он протянул пальцы и, словно что-то ухватив в котле, сунул в рот.
— О-е-ха! Как невкусно ты готовишь! Мерзость! Это еда собакам! Иди ко мне. Я угощу тебя вкусным. Ты живешь с дикарем, не видишь удовольствий…
Одака отворачивалась смущенно и пугливо, как ребенок, не узнающий переодетого отца.
— Пойдем ко мне… — задыхался Чумбока, схватив ее за руку. — Подарок дам… — обнимал он ее.
Она наконец не выдержала, с силой толкнула его:
— Уходи, а то ударю по морде. Не шути так.
Дюбака схватила палку, которой мешают угли в печи, и замахнулась на Чумбоку.
— Ай-ай! Купца гонят, — заплакал Чумбока, опять ссутулившись.
Дюбака начала колотить его. Он охал и подскакивал.
— Перестань так представляться! Я боюсь! — кричала Одака, топая ногами.
Все хохотали. Гао тоже смеялся. Он встал и обнял Чумбоку.
— Ты очень умный! — сказал хитрый торгаш. — Я тебя люблю.
Чумбока вспылил.
— А отец был тебе должен? — спросил он. — Зачем ты говоришь, что отец был должен?
Чумбока не мог лицемерить. И всегда, когда купец был радушен к нему, Чумбо вспоминал про обман и не мог примириться с Гао. Парень начал бранить купца. Гао оправдывался. Он клялся, что записи верны. В спор вмешался Удога.
Поздно вечером, когда все разошлись, Одака горячо обняла мужа.
— Я так мало видела тебя, — шептала она ему во тьме. — Ты все время на охоте, и ты так страшно представлял сегодня. Я так напугалась, когда ты рассердился.
У нее перед глазами так и стояли картины, как за ней ухаживает лавочник, лезет и обнимает. Ей и страшно чужого, которого представлял Чумбока, и так приятно, что это все же Чумбока. От любви к нему и от испытанных страхов она обнимала его крепче.
— Я так напугалась сегодня!
— Я могу представлять еще страшней, — сказал он.
Одака была счастлива, что у нее такой муж, здоровый, молодой, с которым не скучно.
А Гао шел домой быстрым шагом и, высоко подняв голову, думал, что не страшны шутки и насмешки Чумбоки. Гао не боялся насмешек. Наоборот, хорошо, когда люди над тобой смеются. Пусть хорошенько отсмеются. Иногда даже пусть рассердятся, пусть в лицо плюнут. Все не страшно. Страшно, когда понимают лишнее. Гао сам себе не признавался в тех приемах своей торговли, которые изобразил Чумбока.
Гао думал, что надо будет приласкать Чумбо, сказать ему, что долг его уменьшился, и всячески скрывать свои намерения, а тем временем начать действовать, и действовать надо поскорей. Гао чувствовал, что дух неповиновения перейдет от Чумбоки к другим и тогда с людьми трудно будет сладить, они скоро так же, как гиляки, начнут хвататься за ножи. К тому же Гао помнил и про Дыгена.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ЛЮБЯЩИЙ ОТЕЦ
Была пурга. Сплошная масса снега неслась по реке. На берегу заносило зимники и трубы, ставленные на особицу, поодаль от самих жилищ, так как дымоходы выходили под землей. Вместо труб высились огромные сугробы. Тяга под канами прекратилась. Очаги гасли. Дым валил в лавку.
— Собаки не пойдут в такую погоду, — говорил средний сын Гао.
С утра Гао Цзо велел работнику Чжи разгрести сугроб и откопать трубу. Маленький, тщедушный китаец долго работал деревянной лопатой. Пурга забила ему снегом все лицо. Его шапка и воротник обледенели. Чжи обморозил щеку и яростно тер ее. Труба была откопана, когда работника позвали в зимник.
Хозяин велел Чжи подпрягаться к собакам и тащить нарты на шаманский остров. Гао Цзо закутался в тяжелые шубы. Работник и три собаки повезли его. Чжи в короткой ватной куртке налегал на постромки. Его крепкие ноги вечного труженика и батрака упрямо упирались в глубокие снега. Одни собаки ни за что не прошли бы в такую погоду. Чжи вспотел.
Утром Чжи поел лапши и с тех пор не держал во рту ни крошки. Он надеялся, что по возвращении получит пампушку и что-нибудь горячее. А пока Чжи терпеливо работал, как он делал это всю жизнь. Чем дальше, тем труднее становилось идти…
Но Гао знал: Чжи трудолюбивый, он вывезет. Что бы ни велено было сделать, Чжи все стерпит. Не пережидать же пургу! Пурга бушует не первый день и еще может продлиться неделю.
Ветер жег лицо Чжи. Руки деревенели, а тело было мокрым от пота, и в то же время казалось, что кто-то схватил его руки в ледяные клещи. У него нет хороших рукавиц, а руки выше локтей сдавлены постромками. Кисти рук затекли и замерзли.
Собаки тянули плохо, и везти нарту приходилось Чжи. Это были плохие собаки, хороших собак Гао пожалел.
Между тем ветер все усиливался. Чжи почувствовал, что ветер пробивает ветхую куртку. Пот стал холодным.
Да, пот быстро холодел — это было опасно. Чжи встревожился. Он налег на постромки изо всех сил.
— Быстрей, быстрей! — весело кричал сзади старик, чувствуя, как работник оживился.
В сугробе торчала крыша. Нарты остановились. Гао отыскал дверь и вместе с работником вошел в жилище шамана.
Бичинга лежал на кане. Он приподнялся.
Гао поздоровался с ним ласково, сказал, что привез подарки, велел работнику внести их, а сам принялся усаживать Бичингу, подкладывая ему подушки под бок.
Бичинге давно хотелось выпить. Запасы его иссякли. Сухая юкола, которую он грыз все эти дни, опротивела ему. Он обрадовался приезду торговца, но виду не подал.
Бичи был сдержанный человек. Он выпил и стал есть, но делал все это не торопясь, хотя порою терпение изменяло ему, и тогда он хватал кусок с жадностью, косясь в то же время на Гао, и было заметно, что он не совсем слепой.
— Тяжелые времена! — дружески заговорил Гао. — Торговать стало труднее. Да, да! Стало труднее торговать! А ведь товары дешевеют, и я мог бы всех накормить, и все с утра могли бы напиваться ханшином и были бы счастливы! Но есть препятствия!
Бичинга примерно догадывался, к чему клонится дело. Надо, видимо, погубить какого-то человека, который мешал Гао.
Бичинга был готов на что угодно.
«Когда наголодаешься, — подумал он, — и насидишься без водки, тогда возьмешься ради купца за любое грязное дело».
Гао долго ходил вокруг да около. Наконец он признался, что Чумбока, который устроил бунт, мешает ему торговать и сделать все народы Мангму богатыми.
Бичи нахмурился. Он слыхал, что летом стреляли в маньчжуров, но кто и как это сделал, Бичи толком не знал — он до сих пор болел. Шаман попросил рассказать, как все произошло.
Гао рассказал обо всех событиях.
— Какой это Чумбока, — спросил Бичинга, — и почему дружит с русскими?
Гао удивился, что Бичинга еще не знает, кто такой Чумбока.
— Да это тот парень, который женился на девке своего рода.
— Э-э! — воскликнул шаман. — Я его знаю. Это проворный малый.
— Ты его хорошо должен знать, — сказал Гао многозначительно, видя, что Бичинга еще не вспомнил Чумбоку как следует.
Бичи насторожился.
— Это тот самый парень, который хотел узнать, шаман ли ты на самом деле или только обманываешь людей. Он и пустил в тебя стрелу.
— Он?! — вскричал Бичи.
До сих пор шаман так и не знал, кто стрелял ему в спину. Бичинге никто не сказал об этом, хотя все знали, какое испытание устроил ему Чумбока.
Шаман зловеще пошевелил бельмами. С тех пор как Бичинга был ранен, от него почти все отвернулись. Уж больше не привозили ему на излечение девушек и молодых женщин и не оставляли их у шамана. Никто не вез ему водки. Шаман всю осень и зиму жил, как голодная собака.
Стемнело.
— Принеси-ка дров, — сказал Гао, обращаясь к своему работнику.
Чжи дремал, сидя на корточках у двери. Он встрепенулся.
— Что-то холодно. Иди руби дрова… Возьми топор в нарте.
Работник ушел. Бичинга молчал угрюмо. Он теперь хорошо вспомнил, кто такой Чумбока. Этот парень бросил в огонь голову Бичинги в позапрошлом году. Все увидели, что это не голова, а шапка с подрисованными глазами на лубе.
«А потом так обманул меня, пообещав привезти девку. Я так ее ждал… А когда я поехал на Горюн, это он выстрелил мне в спину. Он опозорил меня, хотел показать всем, что я обманщик и что у меня нет никаких духов, которые могли бы спасти меня, отвести стрелу…»
Гао был удивлен, в какой бедности и ничтожестве застал он шамана. Оказывается, на самом деле Чумбока опаснейший человек, гораздо опаснее, чем предполагал Гао. Он действительно одним выстрелом из лука уничтожил Бичингу, хотя шаман и остался жив. Гао удивился, что гольды, которых он считал ничтожными существами, отступились от своего шамана. Значит, они тоже что-то понимают. Гао задумался. Сможет ли Бичинга помочь ему?
Шаман заметил тревогу Гао. В нем пробудилось достоинство. Теперь уж он не думал о том, чтобы за глоток водки угождать купцу.
— Я знал, что это Чумбока выстрелил в меня. Мне об этом «они» сказали, — заговорил Бичинга.
Гао не верил в «них». Он знал, что Бичи врет.
— Я теперь поправился, — сказал шаман. — Скоро буду о Чумбоке думать.
Вошел работник с дровами.
— Пусть он еще дров нарубит, — сказал Бичинга.
Чжи велено было еще рубить дрова впрок, но работник стоял и, казалось, не слышал приказания.
— Иди! — крикнул хозяин.
Чжи вышел за дверь. Одежда его была мокрой от пота. Он знал, что нельзя сидеть на таком морозе, что надо двигаться, но у него не было сил. Чжи присел, чтобы хоть немного отдохнуть. Ветер выл и хлопал, и потоки снега взлетали вверх с сугробов. Чжи сидел за конической грудой бревен, составленных стоймя, наподобие шалаша.
Чжи вдруг вспомнил родную деревню и родные поля в летнее время. Ему стало тепло. Он хотел подняться, но не смог. Собаки, свернувшись клубками, зарылись в снег. Чжи хотел подползти к ним.
Гао и Бичинга долго еще разговаривали. Когда купец вылез из зимника и крикнул Чжи, того уж занесло снегом. При свете луны Гао увидел его голову, подскочил к своему работнику и толкнул его. Чжи был тверд как камень.
Гао рассердился.
— Умереть так не вовремя! — крикнул он. — Сейчас у меня нет других работников.
На другой день все еще дуло, и Гао, проклиная Чжи, вернулся в Онда на собаках. Ему самому пришлось подпрягаться к нартам. Купец послал за мертвым Чжи своих сыновей, а сам позвал Чумбоку. Гао приласкал его, сказал, что долг его стал меньше, что он еще раз посмотрит по книгам и проверит, все ли верно записано за Ла.
Как и все гольды, Чумбока был доверчив. Услыхав, что Гао решил проверить долг Ла, он подумал: «Не на самом ли деле Гао пошел на попятную?»
Торгаш снабдил его всем необходимым для охоты, и братья в надежде, что с купцом наконец удастся примириться, снова отправились на промысел.
* * *
Пурга бушевала еще целую неделю. Потом наступила оттепель.
Снега заблестели на солнце, покрывшись ледяной коркой. Сугробы сияли. Торосники на реке загорались ярче.
Через несколько дней после того, как ушли Чумбока с братом, из тайги вышла большая ватага охотников. Все они явились в дом Удоги.
Тут были и дядюшка Дохсо, и Игтонгка, и Кога. Они ходили к морю. Дядюшка Дохсо не мог нарадоваться на свою дочь и очень сожалел, что Чумбоки нет.
Явился Гао.
— Все товары подешевели! — сказал торгаш горюнцам. — Скоро приеду к вам на Горюн. Привезу много водки. Каждому из вас хватит на все лето.
Гао всех напоил. Дядюшка Дохсо валялся к вечеру замертво.
Пропьянствовав неделю, горюнцы собрались домой.
— Скоро к вам приеду и буду очень дешево продавать очень хорошие товары, — говорил Гао, провожая их.
Дядюшка Дохсо вернулся в Кондон и рассказал там о намерении Гао. Все ждали торгаша. Забыты были старые обиды. С озера приезжали тунгусы и спрашивали, не привез ли Гао дешевый товар и водку.
В воздухе теплело, уже забереги появились на реках, а Гао все не ехал.
«Почему не едет? — размышлял дядюшка Дохсо. — Может, в лодке приедет, когда пройдет лед?»
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ РАБОТНИК ТУН
Когда лед прошел, с Уссури возвратился старший сын Гао.
Он привез серебро, вырученное за продажу мехов, массу разных новостей и нового работника. Одна из новостей была неприятна.
Маньчжурский купец, ехавший в компании с Гао от самого устья Уссури, чем-то болел. Потом оказалось, что у него оспа. Работник Ван заразился от купца по дороге и умер. Гао-сын бросил тело умершего на пойме, в Мылках, не доезжая устья Горюна.
«Опять начнется оспа! — думал Гао Цзо. — Могут вымереть целые деревни. Уменьшится число должников».
— Да, нынче в Сан-Сине оспа, — говорил Гао-сын.
Работник Тун, невысокого роста, с короткими ногами и широким лицом, был на редкость вынослив. К тому же он еще недавно был крестьянином, а это особенно по душе Гао Цзо. Тун не знал тех уловок, которыми пользуются опытные приказчики и работники, чтобы поменьше работать и побольше отдыхать. Чем бы Тун ни занимался, он работал на совесть.
— Но все же жаль Вана, — говорил Гао-сын.
Старик молчал. Ему не было жалко Вана. Сын не точно выразился. Надо было сказать так: «От смерти Вана мы несем убытки, а это нехорошо…»
— А Чжи тебе не жалко? — спросил сын. — Я любил с ним ездить. Он был хорошим рассказчиком, знал много сказок.
Гао Цзо возмутился.
— Как я могу жалеть работников! — вскричал он. — Ты глупый! Какие тут сказки! Да я десятки таких, как Чжи, похоронил в снегах и в песках. Ты думаешь, мы всегда были богаты? Твой отец был хунхуз, а стал купцом. Посмотри: лавка, товары, собаки, серебро, дом в Сан-Сине. Что это такое? Ты белоручкой хочешь быть? Это ведь все из костей работников! Что, я сам, что ли, потащу товары на север, сам буду в лодке шестом толкаться? Меня не хватит на все. В нашем богатстве столько же мехов, сколько костей и крови работников. Умер Чжи — я в доходе. Это я тебе говорю, отец. Ты с меня пример возьми. Чжи проработал у меня пять лет, а заработок держал в деле. Нам выгода. Ты вырос среди дикарей и не знаешь нашей страны и народа. Не жалей их! Свои, чужие, — когда надо заработать, разницы нет. Не слушай тех, что хвалят народ. Все это вранье! Народ — это мы, купцы, а не работники. Ты не знаешь жизни…
— Как это не знаю? — вспылил сын.
— Нет, ты не знаешь. У нас народу без счета. Смело обогащайся и не жалей никого и никогда. Гольд еще может тебе меха принести, а китаец может только работать. И не будь белоручкой, не думай, что ты родился богатым и таким останешься. Нет, не будешь богатым, если пожалеешь работников. Вот эти шелковые одежды и шапочки ты никогда бы не носил, если бы твой отец был белоручкой и жалел других. Людей у нас много, помни. Это я тебе говорю, отец, который желает тебе добра и счастья.
Гао был сильно взволнован. Смолоду простой грабитель, он, разбогатевши, опасался, что дети вырастут белоручками, не сумеют других брать за глотку так же смело и решительно, как их отец.
— Поедем со мной на Анюй, — велел Гао сыну. — Там есть одна семья… Отец мне должен и давно не отдает долг. По дороге поговорим с другими должниками.
Гао решил, что надо учить сыновей, как вымогать меха и как обходиться с работниками.
По дороге он запретил давать батракам рис.
— Проживешь на лапше, — сказал он Туну. — Я еще не видел, как ты работаешь.
— Мне не жалко горсти риса, хотя и горсть риса стоит денег и моих трудов, — говорил он сыновьям, — но я хочу, чтобы вы никогда не транжирили зря того, без чего работники могут обойтись.
Лодку купцов Гао двое работников потащили бечевой против течения. Тун и Ли целыми днями брели по пескам. Иногда они что-то заунывно пели. Утром, в обед и вечером им давали по чашке лапши.
— Тун очень хороший работник, крепкий человек, — говорил Гао, — но если надо будет, то пусть и он погибнет. Для дела никогда не надо жалеть человека. В Китае найдется другой. Их тысячи, таких здоровых оборванцев, на любом базаре. Но помните, что привезти любого из них сюда нелегко. Надо быть расчетливым.
Гао долго не мог забыть, что сын его выказал жалость к работнику. Между тем парень уже сам понял отлично, что за богатство надо держаться обеими руками и ради него откинуть прочь жалость…
— Чем больше забьешь людей, тем быстрее разбогатеешь. Твоего богатства половина — от гольдов, а половина — от работников, помни это! — рассуждал Гао, подъезжая к одинокому берестяному балагану на отмели. — Надо уметь выколачивать богатство. Не бояться крови, хорошо владеть палками и веревкой…
Горная река Анюй шумела среди девственных лесов. На песок, встречать купца, вышла семья удэгейцев. Они пали перед ним на колени. Торгаш взглянул на сына. Он как бы говорил ему: «Смотри и учись! Будь твердым, как твой отец!»
Гао Цзо держал ребенка вниз головой до тех пор, пока тот не посинел, а удэгеец валялся у него в ногах, отдал все — топор и чайник, обещал отдать всю будущую добычу.
Тун ужаснулся, видя все это. «Куда я попал!» — думал он.
Работник знал, что много несправедливостей есть в жизни. Но купцы, которые и на родине жестоки, в этих краях, как видно, совсем не знают меры. Он подумал, что если бы купец Фу, разоривший его и пустивший с семьей по миру, попал сюда, он так же пытал и терзал бы гольдов.
«Но у нас есть люди, — думал Тун, — которые учат народ справедливости и помогают распознавать лжецов и обманщиков. У нас есть смелые люди. Они защищают бедняков и убивают таких злодеев, как Гао. Неужели здесь нет человека, который мог бы мстить за свой народ и противиться разбойникам-торгашам?»
Тун сам побывал в лапах ростовщиков и знал все их приемы.
Оставшись с удэгейцами наедине, китаец попытался объяснить им, что отобранный у них чайник стоит в десять раз дешевле того, за что снова продаст его Гао. Но китаец не знал языка удэгейцев, и его не поняли.
«Несчастные люди!» — думал Тун.
Хозяин пустился в обратный путь. Лодка шла вниз по Амуру, Тун и Ли сидели на веслах. Они получали утром и вечером по куску сырой рыбы.
На далеких берегах Тун видел крыши селений гольдов и вспоминал все злодейства, что совершал Гао над этими кроткими людьми.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ КОЗНИ СТАРОГО ТОРГАША
Лето в разгаре. Стоят жаркие дни, а Гао все не едет на Горюн.
У дядюшки Дохсо заболела нога. Весной на правой ноге у него обычно появлялись нарывы, но быстро проходили, а нынче нога болит и болит. Со скуки старику казалось, что нога болит особенно сильно.
Отец велел Игтонгке съездить на Мангму, узнать, скоро ли наконец Гао приедет. Вниз на легкой оморочке парень спустился за два дня. Обратно подниматься было трудно, но Игтонгка спешил и через неделю был дома.
Едва выйдя на берег и еще не отдышавшись, он рассказал страшные новости. Всюду на Мангму оспа. В низовьях Горюна также оспа. Все говорят, что появилось множество злых духов, которые летают от деревни к деревне и разносят заразу.
— Гао говорит, что не поедет на Горюн, потому что боится несчастий; говорит: «Если повезешь водку на Горюн, то по дороге она станет ядовитой». Да еще говорит, что он боится торговать. Дыген за это отрубит голову. Гао закрыл свои амбары. Он говорит, что товары теперь дешевы, особенно дешевой стала водка, но Дыген будто бы запретил торговать.
Старики пришли в ужас.
— А от оспы умерло два человека в деревне на устье, — продолжал Игтонгка.
— А где же Чумбока? — вскричал дядюшка Дохсо.
— Что о нем говорить! — с досадой ответил Игтонгка.
— Почему ты так говоришь про него? — спросил Дохсо.
— Напрасно прогнали Дыгена! — громко заявил Игтонгка.
Дядюшка Дохсо опешил:
— Как ты сказал?
— Во всем виноват Чумбока, — продолжал парень с раздражением. — Зачем он стрелял в маньчжуров? А сам еще хвастался, что это он сам придумал. Все люди теперь горюют. Китаец сказал мне, если бы Чумбока не разбойничал, то можно было бы торговать. Все бы, говорит, были с товарами. Нынче, говорит, все подешевело.
Дядюшка Дохсо совсем загрустил.
— Так Чумбоки нет в Онда? — спросил Кога. — Куда же он делся?
— Может быть, у меня тоже оспа? — вдруг обеспокоенно спросил дядюшка Дохсо. — Вот у меня болит нога. — Он задрал штанину и показал волдыри.
— В Мылках умер Бариминга. Умер Турмэ, — продолжал Игтонгка.
Новости были одна другой хуже.
— Вся надежда на Бичингу. Он сказал, что выведет всех злых духов и болезнь прекратится.
Вскоре вблизи Кондона болезнь появилась среди кочевавших оленных тунгусов.
В Кондоне начался переполох. Гольды бросали стойбище и разъезжались по рыбалкам.
Заболел Кога. Старик почернел. Тело его покрылось коростами. В страшном жару он вылез из юрты и мочил тело ледяной водой.
Умирали дети.
Шаманы ничего не могли поделать.
Дядюшка Дохсо решил ехать к Бичинге.
— На него последняя надежда, — сказал старик. — Да заодно надо бы хорошенько вздуть Чумбоку. Сколько из-за него беды!
Лодка за лодкой спускались вниз. В надежде на избавление от злых духов горюнцы ехали к шаману. По дороге встречались соседи из Вахтора, они говорили, что это наказание послано за то, что был ранен Бичинга: он ослаб после ранения и распустил духов.
Дохсо осуждал своего зятя.
— Зачем он так сделал? Нужно же ему было в шамана стрелять! Да ведь верно, я совсем забыл про это. Впрочем, даже в сказке говорится: «Прострелил стрелой богатырь второй глаз шаману». Я так и думал, что Чумбока хотя и мал ростом, но как настоящий богатырь. Ведь теперь сила у того, кто купит хорошее оружие!
* * *
Бичинга шаманил три дня. Он ездил на птицах и на зверях в мир духов, узнавал, кто виноват в несчастьях жителей Горюна.
Сначала ничего хорошего не было. Шаманство шло, как всегда. В перерыв варили, пекли, угощали шамана и сами ели. Но чем дальше, тем страшней становилось дядюшке Дохсо. Кажется, дело шло к тому, чтобы все свалить на зятя. Шаман что-то часто поглядывал на Дохсо. Этого достаточно, чтобы перепугаться, когда знаешь, что на тебя глядит тот, кто распоряжается тайнами. В самом деле Чумбока влепил ему стрелу, жалко не в глаз. И старик крепкий, выздоровел, хотя теперь и ходит раскорякой, вихляется, как пьяная девка.
— Почему такое множество злых духов появилось на земле? — кричал Бичинга.
Давно уже у Бичинги не было такой тесноты и толкучки. Духота и смрад приятны шаману: снова он в силе, опять много зрителей собралось смотреть его фокусы.
Бичинга со злорадством поглядывал на дядюшку Дохсо: «Вот когда вы снова пришли ко мне, проклятые!»
Видно было в отблесках пламени, как ужаснулся старик, когда Бичинга назвал имя Чумбоки.
— Брат с сестрой живут! — крикнул шаман. — Брат с сестрой живут! От этого непременно черти родятся.
Бичинга заплясал и замахал какой-то тряпкой перед очагом.
— Вот они, духи! Злые духи! — вопил Бичи. — Брат живет с сестрой, и они вылетают из сестры. От кровосмешения родятся!
Тени, черные, похожие на птиц, летели на стене непрерывной вереницей.
— Носатые, черные, с красными глазами! — кричал Бичи. — Вон, вон они! Это они из утробы вылетают. Это оспы духи. Вот где оспы причина! Вот откуда оспа является!
Многие пришли в исступление.
— Все понятно! — угодливо пролепетал лысый Алчика.
У всех на глазах черти летели по стене, как гуси в перелет.
Шаман бросил бубен и в изнеможении повалился на кан. Бичинга знал, что теперь несдобровать Чумбоке и его толстушке.
Дядюшка Дохсо схватился за голову. Правда все это? Или подстроено? Теперь уж не только Чумбоке беда, но и родной дочери.
«А что, если я их предупрежу?»
Дядюшка Дохсо ткнулся в дверь с намерением помчаться к лодке. Но какие-то чужие люди его схватили в дверях и потащили к шаману. Кто-то ударил его. Сородичи оцепенели.
Шаман поднялся.
— А-а! Хочешь убежать? Бойся! Сгоришь!
— Врешь! — заорал Дохсо.
Вдруг вспыхнуло пламя и охватило всех, а более всего Дохсо. Он упал в ужасе на колени. Никто не сгорел. Все целы.
Толпа бросилась к дверям. Светало. Чуть краснело небо за лиственницами. На белой реке плыли черные деревья с лохматыми корневищами…
Дохсо умолял, хватал людей за руки.
— Поедем! Поедем! — кричали ему.
Его насильно втащили в лодку.
Чумбока и Одака, отделившись от всех, жили на маленьком островке, опасаясь оспы. В эти дни многие разъехались из деревень и жили по островам. Рыба и дичь были всюду. Брат Удога с семьей отправился в глубь сплетений проток, на какой-то одному ему известный остров, на котором растет лес, бьют родники, живут лоси и есть озеро, уровень которого выше, чем вода в реке.
Некоторые уезжали и умирали на островах, гибли их дети.
Чумбока и Одака построили берестяной шалаш. Одака сплела камышовые коврики. Она вышивала новый халат и отделывала его желтыми, оранжевыми и розовыми морскими ракушками с зубчатыми отверстиями, как ротики маленьких зверьков. И у нее были а-чен, такие крошечные малютки — денежки, подарила ей Дюбака с подолов старых халатов. Когда идешь, то весь халат чуть слышно позванивает.
Вон Денгура, он уже в пожилом возрасте, а ради щегольства проткнул себе нос и вставил туда кольцо. С годами к нему пришла страсть франтовства. А Одака — молоденькая, ей ли не порадоваться! Так рассуждал Чумбока. Ружье, на случай опасности, у него всегда со свежим сухим зарядом.
Но когда ветер, холодно, каждому хочется согреться и бывает, что какой-нибудь прохожий выйдет из лодки на остров, Чумбока позовет к костру. Хорошо бывает выпить, поговорить по душам, посидеть веселой компанией.
— Вон едут к нам лодки! — сказал ей Чумбока. — Что-то рано сегодня люди поднялись.
— Почему так быстро гребут? Не случилось ли чего-нибудь? — встревоженно спросила женщина, держа подбору невода, в котором, отражая взошедшее солнце, плескались рыбины.
Это были сазаны, круглые и золотистые.
Казалось, груду солнц поймали неводом счастливые супруги.
Лодки шли прямо к острову. Чумбо увидел знакомых и родных со злыми лицами.
— Эй, вы, взбесились, что ли?! — весело крикнул он. — Идите, угощу вас талой. Хватит гоняться! Чумбо решил, что пьяные старики затеяли гонки. Дохсо увидел родную дочь и зятя, которых он так любил. Он задрожал. Ему хотелось защитить дочь, но в то же время он так запуган шаманом, что даже забыл про главное, что ему не жаль собственной жизни. А сейчас он боится. Но он пересилил страх и истошно закричал:
— Ода…
Ему заткнули рот. Кто-то сказал:
— Это твое счастье, что можешь спасти весь народ!
Неужели Одака причина всех несчастий? Неужели люди правы, когда кричат, что она злой дух и уже давно не его родная дочь! Незнакомые, старые и молодые, бранят его, замахиваются, упрекают весь род, все против него.
Дохсо, кажется, начинает понимать, что он должен ненавидеть своих детей… Да, вот сыновья, Игтонгка и Алчика, схватили копья, они ведь давно недолюбливают сестру. Молодым и бессердечным, им ничего не стоит поднять на нее оружие, а ему жалко, он ломает руки и опять кричит, и опять валится назад.
— Отец какой пьяный! — сожалеюще говорит Чумбока.
— Отец! — кричит радостная Одака. — Оспа закончилась? — Она опирается на плечо мужа. — Да что вы все какие-то странные?
— С утра перепились? Кто так гоняет лодки на восходе? — смеется Чумбока.
Вместо ответа на всех лодках подняли оружие. Братья Одаки только размахивают копьями. А другие выстрелили из луков, какой-то старик соскочил на берег и ударил Чумбоку по голове дубиной. Чумбока устоял, он кинулся к Одаке, хотел закрыть ее, схватить, бежать, они молодые, быстрые, их не догонят! Но Одака лежит. Он тихо наклонился к ней и спросил:
— Что с тобой?
Дохсо подбежал к дочери, он еще надеялся как-то помочь. Толпа теснилась. Дохсо в отчаянии закричал и повалился.
Все начали бить Чумбоку.
Чумбока упал. Игтонгка выскочил из лодки, широко прыгал по воде с копьем в руках, никого не ударяя. Алчика схватил ружье Чумбоки и ударил его о пенек с такой силой, что приклад разлетелся в щепы.
— Вот от этого ружья все несчастья! — кричал он.
Алчика пытался сломать дуло, но это ему не удалось. Тогда он бросил дуло ружья в реку…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ КИТАЕЦ И РУССКИЙ
— Очнулся, очнулся! — закричали ребятишки.
— Зашевелился! — пробормотал Кога, почесывая свои коросты и со страхом заглядывая в яму.
Старик еще не совсем выздоровел, но он тоже ездил к шаману. Чумбока не сразу узнал его.
— Дедушка Кога, помоги мне, — наконец попросил он. — Куда это я попал?.. Помоги!..
Старик отпрянул от ямы. Ему было страшно, что такой злодей при людях просит у него помощи.
— Вот кто заразу разносит! — воскликнул Кога, показывая на Чумбоку.
Старик то чесал свои оспенные коросты, то хватался за ребятишек, отгоняя их от ямы, чтобы они не заразились оспой от злых духов Чумбоки.
— Глядит! У-ух! — закричали гольды и в страхе шарахнулись от взора Чумбоки.
— Что вы так смотрите на меня? Зачем меня сюда бросили?
— Сиди! — крикнули сверху.
— Падека! Падека! — обрадовался Чумбо, завидя старого друга своего отца.
— Пошел к черту! — крикнул старик.
— Что случилось? Почему ты так смотришь на меня? Я ни в чем не виноват. Не обознались ли вы? Зачем в меня стреляли?
— Нет, нет, не обознались! Хорошо видим, кто ты! — заорал долговязый Игтонгка.
Народ засмеялся злобно. Игтонгка замахнулся и бросил в Чумбоку камнем.
— У-у! Собака! Твою жену убили и тебя убьем! Отвезем Дыгену.
— Одаку убили? — в отчаянии воскликнул Чумбока.
— Я сам ее копьем пронзил, — хвастался Игтонгка. — Это была не сестра, а злой дух! Мы бросили ее в воду. От вас бесенята рождались! Разве ты не знаешь? Будто бы в первый раз слышишь!
Брань и насмешки посыпались со всех сторон.
Хрипя и что-то вскрикивая, Чумбока стал кидаться на крутые стены ямы.
— Выскочить хочет! — закричали в толпе.
— Лезет, лезет! Бейте его! Зубы скалит!
Толпа завыла в ужасе. На Чумбоку посыпались камни, палки.
— Проклятый грешник! — вопил дядюшка Дохсо.
— Зачем вы бьете меня? За что? — плача, крикнул Чумбо.
Кто-то попал ему камнем в голову. Чумбо обозлился и, схватив камень, пустил его обратно в своих родственников.
— Посмотрите хорошенько! Разве вы не знаете меня! Ведь я Чумбока! Я спас тебя, Игтонгка, от рабства… Всех хотел спасти от маньчжуров… Зачем же вы Одаку убили?
Толпа, отбежав от ямы, выла и бранилась.
— Вы меня маленького знали, я всегда жил с вами, — рыдал Чумбо. — Кто же перевернул вам всем мозги?
«Может быть, из меня на самом деле беса сделали? — подумал он. Шкура, может быть, на мне другая?»
Он огляделся, ощупал лицо, голову, посмотрел, нет ли крыльев. Все было по-прежнему.
— Как больно дерется! — с досадой сказал дед Падека, которому камень из ямы попал в лысину.
Дед Падека никогда не верил Бичинге и сам учил Чумбоку распознавать козни торгашей. Но тут и он был вне себя. За последнее время про Чумбоку было столько слухов, что старик уж и сам не мог понять, что правда, а что вранье. Говорили, что он нарочно подбил восставать мылкинцев, чтобы убили как можно больше людей и чтобы потом маньчжуры могли казнить всех направо и налево, обирать, увозить детей в рабство из любой семьи, насиловать женщин; он снова хотел поссорить род Бельды с родом Самаров и в заключение всего напустил оспу, жил с сестрой, осквернил род. Да, пожалуй, он сделал все эти преступления, размышлял Падека, иначе народ не поднялся бы. Да и оспа началась. Черти ведь даром не возьмутся за такое дело. Теперь, когда убили Одаку, ясно было — виноват Чумбо. Иначе народ не пошел бы на такое дело, зря братья сестру не убьют.
Временами у старика шевелилось смутное чувство жалости и расположения к Чумбоке. Но едва старик заикался в защиту парня, как на него все обрушивались, а особенно Гао. Старика в конце концов сбили с толку. Когда же Чумбока раскровянил ему лысину, дед окончательно рассердился.
Падека подскочил к яме, но остолбенел, увидя безумные глаза Чумбоки. Подскочил и Кальдука Маленький. Ему очень хотелось отличиться перед народом. Он замахнулся палкой.
— Кальдука! — воскликнул Чумбока.
— Молчи! — крикнул Маленький, но не бросил в брата палкой, а убежал и сам заплакал.
Китаец Тун, видевший все это, подозвал к себе младшего сына Гао. Мальчик хохотал, глядя, как гольды бьют Чумбоку.
— В чем виноват этот парень? — спросил Тун мальчика.
Тот, смеясь, объяснил работнику.
Тун сказал ему:
— Растолкуй этим людям: если они будут бить такого грешника, то нечистые духи разбегутся из него во все стороны.
А-Люн охотно согласился передать гольдам слова Туна. Звонким голосом он закричал, чтобы не смели бить Чумбоку. Но сам подцепил ногой ком земли и швырнул в лицо Чумбоке, так что тому глаза засыпало.
— А вы уходите отсюда! — закричал мальчик на гольдов.
На ночь Чумбоку связали. Игтонгка с парнями сел его караулить. Пошел дождь.
— Никуда не денется он, — сказал Игтонгка. — Пусть мокнет, идемте в дом.
— Куда бы он ни убежал, его всюду схватят, — согласились караульные. По Мангму все теперь знают, что от него оспа.
Ночью Тун спустил на воду лодку. Лил дождь, и, кроме плеска воды и шума тайги, вокруг ничего не было слышно. Тун пошел за юрты, туда, где была яма. Он спрыгнул в яму и нащупал теплое, мокрое тело человека. Чумбока очнулся.
— Кто это? — спросил он.
Чумбока не мог встать на ноги.
— Брат? — прошептал он. — Удога?
Тун молчал. Ни зги не было видно. Тун развязал веревки и вытащил гольда. Он понес его на себе. Дотащив до берега, китаец положил Чумбоку в лодку. Гольд застонал и впал в беспамятство. Из-под амбара залаяли собаки Гао.
Тун, уложил Чумбоку, вылез на песок и хотел было толкнуть лодку, но ему вдруг показалось, что кто-то крадется за его спиной. Тун обернулся. Перед ним темнела чья-то фигура.
— Это кто тут? — послышался встревоженный голос Гао Цзо.
Ни слова не говоря, Тун подскочил на одной ноге, а другой изо всех сил всей ступней ударил Гао в живот. Торгаш упал на песок.
Тун отъехал. Он быстро вывел лодку на фарватер. Ее подхватило и понесло по течению. Ночь была темная и тихая. Во тьме вокруг лодки раздавался сплошной шелест от тихо падаю-щих на воду капель. Дождь был теплый, и вода в лодке, в которой стояли босые ноги Туна, тоже теплая. Стояло самое теплое время лета. Чумбока лежал в воде, все более набиравшейся в лодку. Он пришел в себя. Слышно было, как он пил воду. Потом нашел берестяной ковшик и, несколько раз черпнув и выплеснув воду за борт, опять стих. Видимо, у него не было сил. Когда лодка пошла по течению, Тун сам стал вычерпывать воду.
Чумбока несколько раз о чем-то спрашивал китайца, но, не получив ответа, умолкал. Вскоре он либо уснул, либо опять потерял сознание.
Подул ветерок. Дождь перестал. Чуть засветилось, стала белеть вода.
Когда Чумбока снова очнулся, уже светало. Гольд увидел, что перед ним на корме сидит китаец. Чумбо приподнялся и стал с беспокойством осматриваться по сторонам. Берега были далеко, но по очертаниям сопок он узнал место, где шла лодка.
— Не бойся! Не бойся, — сказал ему китаец.
Чумбока не боялся Туна. Он понимал, что китаец спас его. Он только желал сейчас увидеть место, где можно надежно укрыться. Если бы его спас гольд, Чумбока бы не беспокоился: гольд знал бы, куда ехать. Но на корме сидит китаец, да еще такой, который языка гольдов не понимает. Этот не знает ни реки, ни дороги. Надо помочь ему.
Чумбока показал рукой, куда ехать. Как раз надо было сворачивать в протоку. Тун стал налегать на весло. Лодка шла вперед довольно быстро.
«Хорошо, что легкая лодка, — подумал Чумбо. — Была бы тяжелая, ни за что бы так не пошла».
Лодка вышла на протоку. Потом шла по озеру, потом по речке и еще по озеру. После полудня в кустарниках стал виден бревенчатый домик. Китаец спросил знаками, к нему ли подъезжать. Чумбо кивнул головой.
На берег вышел человек в белой рубахе и штанах, босой, с бородой и с белыми волосами на черных ногах, голых до колена.
Китаец удивился. Он впервые видел такого человека.
Появилась женщина с ребенком на груди. У ребенка были белые волосы, а у женщины черные.
— Это Фомка, — пробормотал гольд.
Фомка узнал Чумбоку.
— Где тебя так разукрасили? — спросил он, помогая ему выбраться из лодки.
Впервые Фомка пришел в низовья Амгуни с купцом Новогородовым, который раз в два года с большим караваном оленей переваливал горные хребты из Удского края.
Новогородов привозил на Амгунь и на Амур топоры, пилы, ружья, железо кусками, сукна, мануфактуру. Вместе с Новогородовым приходили и другие купцы — русские и якуты, люди ловкие и бойкие. Среди этих торгашей безответный работник Фомка считался круглым дурнем. Но руки у него были золотые, сам Новогородов это признавал.
Фомка дважды переваливал с купцами через хребты.
Новогородов ходил старинными тропами. Русские охотники не давали зарастать этим тропам с тех пор, как предки их оставили свои города и крепости по Амуру. Новогородов был потомок купцов, которые уже два века торговали на Амуре и продолжали эту торговлю, несмотря на строжайшие запреты русской полиции. Люди, ходившие с Новогородовым, были потомками амурских казаков, и все они смотрели на земли по Амгуни и по Амуру как на свои.
Многим русским, приходившим сюда впервые с купцами, нравилось на Амуре. Тут было раздолье. Река богата рыбой, лес зверем, непаханная стояла земля. Страна никому не принадлежала. Начальства не было. Не было и богачей. Среди гиляков и гольдов кое-где жили русские. Некоторые здешние жители были потомками русских. К тому же на Амуре теплее, чем в Удском крае; здесь росли совсем другие деревья, ягоды, виноград.
Фомка попал к Новогородову не по своей воле. Родители его, бедные удские крестьяне, занимались охотой. Отец задолжал купцу, и сын пошел отрабатывать долг. Когда долг был отработан, Новогородов нанял Фомку за харчи и небольшую приплату. Фомка был неграмотный и молчаливый человек, но он все понимал, видел, запоминал, хотя и виду не показывал, что понимает и видит.
Но вот однажды, когда караван пошел с Амура обратно в хребты, Фомка исчез.
На Амгуни, в становище тунгусов, ему понравилась девушка, дочь хозяина. Она была с ним ласкова, угощала его, улыбалась ему, позвала с собой в тайгу, там показала своего любимого верхового оленя. Никогда в жизни никто не был так приветлив и ласков с Фомкой. Нежность девушки, ее забота тронули сурового удского крестьянина.
Когда осенью караван собирался в путь, Фомка ворочал тюки, которые не могли бы поднять два-три работника, он заметил, что у девушки заплаканы глаза. Фомке стало жаль ее, но все же он отправился с караваном, потому что дело, как он полагал, должно быть прежде всего.
Дня через два Фомка передумал. «Провались Новогородов со всей своей торговлей и с обманами! Хватит людей дурачить!» — решил он. И бросил купца. Вернулся к тунгусам.
Спустя два года, когда Новогородов снова пришел на Амгунь, Фомка явился к нему продавать меха. Купец не узнал своего бывшего работника, Фомка привык к свободе и выглядел орлом. Он стал весел, разговорчив, жил с достатком. Тунгусы уважали его, говорили, что он очень умный.
— Вот так Фомка! — удивлялись работники купца. — Наш хозяин называл его дураком, а оказывается, не Фомка, а мы дураки.
Новогородов для острастки попробовал припугнуть Фомку полицией и велел ехать домой. Фомка схватил купца за бороду и так ударил его в ухо, что Новогородов пробил головой берестяной чум.
Впоследствии Фомка уехал к югу, где было теплее, где рос виноград, липы, дубы, каких он никогда не видел в своем Удском крае.
На новом месте Фомка быстро перезнакомился с соседями. Со старым Ла однажды он ходил на охоту, когда Удога и Чумбока были еще мальчишками. Когда у гольдов не было пищи, они приходили к Фомке. У Насти, его жены, в тайге за хребтом паслось стадо оленей. Фомка забивал одного оленя и отдавал голодным соседям.
Иногда летом он мыл золото и через тунгусов переправлял его другу Афоне. А бывало, что и Афоня приезжал сам.
Когда Тун привез избитого и израненного Чумбоку, Фомка сказал:
— Живи у меня.
Через три дня Тун простился с Фомкой. Русский дал ему вяленого мяса, юколы, парус из рыбьей кожи и пять лосиных шкур. Китаец поехал вверх, надеясь к осени добраться до Сунгари.
За три дня, проведенных у Фомки, Тун увидел, что Фомка такой же труженик, как и китайцы. Тун впервые понял русского человека. Все, что приходилось слышать Туну про русских, оказалось неправдой.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ ОСПА НА МАНГМУ
Избенка у Фомы маленькая, бревенчатая, светлая. Вокруг росчисть — на огороде растет лук, морковь, бобы. Над крышей из колотых бревен свисают тяжелые ветви лиственных деревьев. В избе белый пол из досок, стол, скамья. У Фомы хватало терпенья вытесать доски топором.
В квадратное окно вставлено стекло. Как драгоценность хранит это стекло русский. Когда Фомка построил избу, все соседи приезжали смотреть на стекло, все удивлялись, глядя через него: «Вот как хорошо видно». Из-за этого окна и протоку прозвали Стеклянной.
Живя у русского, Чумбока стал быстро поправляться.
Однажды, когда лето было уже на исходе и Чумбока ходил в тайгу собирать виноград и сахаристые плоды лиан, на Стеклянную протоку приехали Удога и Дюбака с ребенком. Братья обнялись и поцеловались.
— Вот где наконец я нашел тебя! — воскликнул Удога, увидя брата. Ведь мы всюду тебя искали!
Чтобы быть подальше от больных оспой, Удога еще весной уехал из Онда на рыбалку, взяв мать, жену и дочку. Они жили вблизи устья маленькой горной речки, по которой никто не ездил.
Брат с женой должны были со временем приехать туда же, но долго не являлись, Удога забеспокоился, не заболел ли Чумбока оспой, и приехал в Онда. Здесь он узнал страшные новости, что Одака убита и брошена в воду, а брату помог избежать смерти китаец Тун. Удога стал всюду искать брата, и всюду куда бы он ни приезжал, свирепствовала оспа. Никто не знал, где Чумбока. Долго искал его Удога.
— Всюду оспа. В деревнях люди умирают, Онда опустела. Кто жив остался — в тайгу ушел. Шаманы говорят, что во всем ты виноват, и велят тебя найти и убить. Не показывайся никому и никуда не езди. Тебе несчастье угрожает. Слухи, распущенные шаманами, уже и в здешние деревни дошли.
— Пусть теперь меня убьют, — безразлично отвечал Чумбока, — я жить не хочу.
— Никто его не убьет, — отвечал Фома, — будем жить вместе. Пусть только попробуют подойти!
— Нет, Фомка, ты не знаешь. Люди глупые, а шаманы хитрые, говорят им, что во всем брат виновен. Оспа стала стихать — они говорят: это потому, что Одаку убили. Требуют убить Чумбоку, тогда, говорят, болезнь совсем прекратится. И уже находятся люди, которые хвастаются, что найдут Чумбоку и убьют его.
Удога привез какое-то лекарство на топленом медвежьем жире, которое приготовила старая Ойга. Этим лекарством он лечил брата, мазал ему корки ран.
Дюбака часто заговаривала с Чумбокой, старалась его развеселить. Но того ничего не радовало.
— Я жить совсем не хочу, — говорил он.
Удога советовал Чумбоке уехать в землю гиляков.
— Пусть у меня живет, — отвечал русский, — никто не тронет его.
— Нет, Фомка, — говорил Удога, — шаманы говорят, если его убить, оспа совсем прекратится. Люди его подкараулят. Узнают, что он здесь…
Удога добывал в тайге мясо, приносил домой. Вместе с Фомкой, Настей и Дюбакой он ловил рыбу неводом.
Наступила осень. Желтели осины и клены…
Однажды утром Чумбо понуро сидел на крылечке дома. Удога сказал ему:
— Послушайся, брат. Надо уехать куда-нибудь далеко. Туда, где ты сможешь забыть горе. Раны твои зажили, а ты все думаешь про несчастье… Когда ты все позабудешь, наберешься силы, тогда будешь знать, что надо сделать. Если ты убьешь себя или тебя убьют — что хорошего? Обрадуются враги твои.
Чумбо молчал, опустив голову, но шея его дрогнула, словно сила вдруг ожила в ней. Удога почувствовал, что у брата явилась какая-то надежда. Значит, он еще не погиб. Еще жить хочет.
— Живи у меня, — басил Фомка. — Невесту тебе высватаю. А родичи успокоятся…
— А где останется мать? — спросил вдруг Чумбока у брата.
— Мать как живет сейчас на устье реки, так и жить там будет. Со мной проживет, ты об этом не думай. Я там строиться буду или пойду на новое место, я знаю — есть хорошее место на озере Бельго. Никто там не живет.
Чумбока поднял голову и посмотрел на брата.
— Куда же мне ехать? — спросил он. — К гилякам?
— Да, поезжай на море! Найди Позя, — ответил Удога.
— А как же ты? Ведь тебя могут схватить торговцы и выдать Дыгену.
— Нет, торговцы лавку бросили и скрылись. Они тоже оспы боятся. А я в Онда не вернусь, пойду на новое место, наверно, на озеро Бельго. Там меня никто не тронет. Маньчжуры теперь долго не появятся — может быть, никогда не придут. Скоро большие перемены в жизни будут, сердце мое чует.
— А ты думаешь, русские скоро придут? — спросил Чумбока.
— Так все говорят, — ответил Удога. — Я много думал об этом.
— Он теперь все думает, — ласково сказала Дюбака, — как старый старик стал…
Чумбо поднялся.
— Я поеду, Фомка, — сказал он русскому.
Весь день братья готовились к походу.
Ночью они простились с Фомкой. Их лодка пошла вниз. Дюбака гребла, а Удога сидел на корме. Чумбо лежал на дне лодки.
Уже начались по утрам заморозки. Прошла осенняя рыба. В эту пору обычно у людей Мангму начинается новый год, все сыты, все радуются осенней добыче и готовятся к зимнему промыслу.
Но нынче на берегах Мангму тихо. Торчат голые палки и пустые вешала. Нигде не видно тучных связок свежей юколы, не стучат молоточками женщины, не выделывают рыбью кожу на паруса, на палатки и на охотничью одежду.
Братья проплывали мимо опустевших стойбищ.
— Всюду люди умирали, — говорил Удога. — Уже и сюда оспа дошла.
В безлюдных деревнях понемногу разваливались брошенные глинобитные дома. С лодки видны были провалившиеся, гнилые крыши, прутья и жерди стен, выступавшие из-под опавшей глины. Ветер хлопал неподпертыми дверями. Неотпиленные концы балок, как черные рога, еще выше поднимались над падавшими гнилыми соломенными крышами. А ветер становился все холодней. Тот же ветер, что и в прошлом году в эту пору, дует с низовьев реки, зовет братьев на охоту. Чувствуется приближение суровой зимы.
Удога молчал, печально вспоминая, как в прошлом году собирался в тайгу с женой и братом. Тогда казалось всем, что горе было большое, а сейчас кажется Удоге, что славное то время было.
Да, собираться на охоту уж пора. День ото дня погода становится все холодней, на речке появились забереги, уже облетела листва с лесов, почернели дубовые рощи, первый снег выпал в тайге и лежит белыми пятнами на черных хребтах и косогорах.
«А дедушка Падека в это время уже ушел… — думает Удога. — В прошлом году так хорошо дома в эту пору было!.. Мать молоточком все стучала и стучала, очаг пылал, тепло было, мы вещи укладывали, в тайгу собирались. Взяли с собой жидкий жир. А вот нынче придется бросить старый дом и в деревню совсем не возвращаться».
— Далеко мы с тобой отъехали, — говорит Чумбо, — уже начались гиляцкие деревни.
— Тут, наверно, нет оспы, — отвечает Удога. — Вон видны дымки на островах.
Великая река стремилась на север, к холодному морю. Здесь на берегах ее не видно ни липы, ни пробковых деревьев. Нигде не рос виноград. На скалах стояли леса из берез и лиственниц. Вокруг была чужая, холодная природа.
К вечеру завиднелась большая деревня.
Ветер заливал лодки. Братья подъехали к берегу и вылезли на пески.
— Ветер какой сильный, — заметил Чумбока, — даже не видно, как дым из труб идет. Его или разносит быстро, или печки не топятся. Может, в такой ветер печей топить нельзя. У гиляков, говорят, бывают такие сильные ветры, что дым обратно в дом идет.
Братья приблизились к крайнему дому. Собака пробежала мимо, держа что-то в зубах.
Вдруг ветер рванул. В крайнем доме дверь распахнулась со страшной силой и так хлопнула о стенку, что дом дрогнул, посыпалась глина.
Братья переглянулись со страхом. Они сразу почувствовали, что дом пустой. Никто не вышел, не закрыл дверь. Ветер взвыл и поднял на амбаре полотнища бересты и со свистом держал их стоймя в воздухе и хлопал берестой, как парусом.
Чумбо подошел к дому и со страхом заглянул в дверь.
— Там окна нет, сквозняк.
Он шагнул было через нары и в ужасе отступил обратно.
У кана, положив голову на глину, стоял на коленях мертвый человек. Двое других мертвецов лежали на кане. Одичавшая собака возилась около них. Завидя людей, собака с визгом кинулась в разбитое окно.
— Оспа! — в ужасе пролепетал Чумбока.
Удога молчал. Братья вышли, прикрыли дверь Чумбока подпер ее палкой.
Ветер снова поднял бересту над амбаром, из-за угла выбежала еще одна собака, но увидя людей, со страхом и воем прыжками метнулась в сторону, поджимая зад и хвост.
Ветер пошел по деревне, наперебой захлопал дверями в пустых домах. Между растрескавшихся, черных лодок собаки грызли человеческие кости.
— Пойдем скорей отсюда, — сказал Удога.
Братья поспешили к лодке. Дюбака и Чумбо потянули ее бечевой, а Удога сидел с ребенком на корме. Лодка плясала на тяжелых и шумных волнах, и ее даже по течению приходилось тянуть на длинной веревке — так силен был встречный ветер.
Гольды провели лодку мимо деревни, разбили палатку и заночевали. Утром они снова пустились в путь. Ветер переменился. Подул попутный. Братья подняли парус. День был холодный и сумрачный.
— Может быть, все люди на Мангму умерли? — спросил брата Чумбо.
— Те, кто разбежался по островам и в тайге, может быть, живы останутся, — отвечал Удога.
На берегах опять виднелись пустые, падающие амбары, пустые дома с открытыми дверями и гниющими крышами.
А Мангму становился все шире. Выше поднимались скалы. Исчезли деревни и острова. Начались скалистые, крутые берега.
Высокая голая сопка в глубоких складках, как гигантский веер, стояла над рекой. Дальние хребты упирались в облака. Погода хмурилась. Студеный сырой ветер дул навстречу.
— Море близко, — говорил Удога, проезжая вблизи горла в озеро Кизи.
Вода прибывала, и узкий лесистый перешеек, висевший, как веревка, между двух гор, был затоплен. Мангму, врываясь через этот перешеек в заливное озеро Кизи, топил все вокруг.
Ночью шел дождь со снегом. Утром лужи на берегу за косами подернулись ледком.
У гиляцкой деревеньки Тебах Мангму круто поворачивал к морю. Мыс обрывался в реку рыжими скалами. Река огибала его. На мысу над гиляцкими зимниками вились дымки. Дети бегали по отмели у лодок.
— Живые люди! — обрадовался Чумбо.
От скал Тебаха река разливается, как огромное озеро, между хребтов. Низко, друг другу вровень, над широчайшей рекой идут кучевые хмурые облака с плоскими днищами.
Гольды вылезли на берег, достали коробку с табаком и выкурили трубки, потом набили их и спрятали.
— Прощай, брат, — сказал Удога, — мы поедем домой. Скоро начнется ледоход.
— Прощай! — ответил Чумбока. — Всегда буду тебя помнить.
Чумбо обнял брата, Дюбака заплакала. Она очень жалела Чумбоку. Еще сильней она жалела погибшую Одаку.
— Хотя меня и выгнали из рода, но я все же прогнал маньчжуров, сказал Чумбока. — Только напрасно я Бичингу не добил.
— Люди тебя еще вспомнят! — ответил Удога.
Он сел в лодку. Дюбака подняла парус. Лодка пошла вверх. Чумбо столкнул свою легкую лодку, которую выменял у гиляков. Он поплыл вниз.
А река становилась все шире. На берегах ее обнажились леса. Дул студеный осенний ветер.
Лодку несло быстрей. В реке была сила, согласие и величие.
Мангму торопился к морю. Чумбока переехал на другую сторону реки. На самом устье ее стояла гиляцкая деревня. Здесь Чумбо решил остановиться.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ У ДАЛЕКОГО МОРЯ
Крутые черные обрывы с редким голым березником обступали гиляцкое стойбище. Отлинявшие за лето, лохматые собаки с лысыми, будто изодранными боками лениво бродили по берегу. Изредка они, оживляясь, быстро и злобно кусали друг друга, норовя вцепиться в морду или в уши.
Множество тяжелых дощатых лодок лежало на берегу.
Чумбока оглядел деревню и приметил бревенчатый дом на столбах, обширный и высокий.
Он вылез из лодки и стал карабкаться на берег.
С холма он глянул на море. Перед ним были широкие прозрачные поля вод. И как бы далеко ни смотрел Чумбока, всё новые и новые, бледные и голубые прозрачные полосы осенних вод открывались ему.
Берега нет, не видно берега… В этом почувствовалась свежесть и свобода. К горлу подкатывал комок. Чумбока знал теперь, что свободен. Тут уже его никто не схватит.
«Как-то легко стало. И воздух чистый, сердцу легко. В другой мир я приехал. Тут совсем не так, как у нас».
Он тряхнул головой, желая отогнать от себя тяжелые воспоминания, и быстро вошел в дом.
На нарах сидели гиляки и ели вареную собачину. Чумбока встал перед ними на колени.
Поднялся приземистый старый гиляк с седой бородой и горбатым носом. Он поцеловал Чумбоку в щеку, обнял его и показал ему место на нарах.
Чумбока понимал, что это значит. Не требуя никаких объяснений, гиляки принимали его в свою семью, разрешали ему жить в своем доме и быть равноправным с ними.
Гиляк подал гостю кусок собачины.
Чумбока нехотя взял угощение и стал жевать. Ему не хотелось есть. Даже будь перед ним сейчас вкусная медвежатина, он, наверно, не дотронулся бы до нее. Но он взял кусок, чтобы не обидеть хозяина.
Гиляки оказались неразговорчивыми. Никто из них не расспрашивал Чумбоку, откуда он взялся и куда держит путь. Все молча ели и курили. Потом подали топленый звериный жир. Пришел краснолицый гиляк с ножом за поясом и с копьем в руке. Он, видимо, был нездешний и только что приехала откуда-то. Хозяева пригласили его к котлу. Чумбока понял, что это близкий родственник хозяев из соседней деревни. Гость подсел к Чумбоке и заговорил с ним. Он понимал по-гольдски.
Чумбока рассказал ему, что бежал от родового суда и теперь ищет убежища.
После ужина Тыген — так звали краснолицего гиляка — улегся спать. Чумбоке не хотелось ни с кем разговаривать: он, сидя у входа, кормил собак остатками юколы, взятой еще от Фомки, и смотрел вдаль, на вечерние красные и лиловые воды лимана. Гилячки сварили кушанье собакам и стали их звать. Псы оравой ввалились в дом. В углу, на столбах, устроена была большая долбленая кормушка. Собаки прыгали на нее, стуча когтями по дереву.
Чумбока молча смотрел вдаль. Море краснело. Городьба из кольев с бердом для лова рыбы казалась черной на красной воде. Под берегом проплыл дуб, видимо, вывороченный с корнями в половодье. «Его вырвало где-то далеко отсюда, — подумал парень. — Это родной мой дуб, из наших мест».
Долго сидел Чумбока. Глаза его стали слипаться. Он ушел и лег на нары. Во сне представилась ему широкая речная излучина, а по воде, пританцовывая, шел шаман Бичинга, неся в руке чью-то отрезанную голову. «Идет по воде и не тонет, даже обуток не замочит», — думал Чумбока.
Чуть свет хозяин растолкал гольда и назначил ему работу. На дворе ударил морозец. Море побледнело. Чумбока поехал в море гребцом на большой лодке.
В этот день Чумбока видел бой морских зверей. Тучных белух гиляки загнали в канальчик и ждали отлива. Когда вода ушла, гиляки подошли к ластоногому белому горбатому зверю. Зверь бился на песке. Тыген ударил его ножом. Брызнула кровь и долго лилась сплошным ручьем. Потом поток крови ослаб, лишь временами набегая волной и с силой ударяя из раны, словно она бушевала под шкурой, как в наливном мешке. Белуха чуть не ударила Тыгена всей тушей. Чумбока схватил копье и подставил его вовремя. Зверь напоролся. Теперь кровь хлестала из двух ран. Тыген был спасен. Гиляки похвалили Чумбоку. Они разрубили зверя и стали собираться домой.
— Ты хороший охотник, — сказал Чумбоке Тыген. — Поедем жить ко мне. Ты меня спас от смерти и теперь будешь мне как брат. Я тебя увезу в такое место, где тебя не найдут. Ты нигде не будешь лишним, умеешь охотиться.
Чумбока не сразу понял, за что хвалит его Тыген.
«Разве за то, что я подставил копье зверю, стал ему братом?» Когда Чумбока бил белуху, он совсем не думал спасать жизнь Тыгену. Зверя били все, и он бил. «А оказывается, спас жизнь человеку, и он теперь хочет, чтобы я был ему братом».
Чумбока, совсем было поникший в последнее время, вдруг несколько оживился.
— И что ты, парень, такой грустный? — спросил его Тыген. — Я слыхал, ваш народ веселый, разговорчивый. Когда я в вашу землю ездил, меня там в карты научили играть. Люди были веселые. А ты на своих не похож. Хорошенько мне все расскажи. Я тебя послушаю, у меня уши крепкие, даром ничего не проскочит. Смотри, как хорошо на свете жить можно. Зима скоро наступит, на охоту пойдешь. Если захочешь — женим тебя.
— Что рассказывать? — с горькой усмешкой ответил Чумбока. В своем горе он не хотел ни перед кем заискивать и ни у кого искать дружбы.
— Ну, что же ты молчишь? — спросил гиляк.
Чумбока махнул рукой и, не желая разговаривать со своим новым братом, отошел к лодке.
— А где живет Позь? Есть у вас такой человек? — вдруг спросил Чумбока.
— Как же! Есть! А ты его знаешь? У-y! Это твой друг? Ну, он далеко живет, на мысу Коль!
— Если хочешь, завтра утром поедом ко мне, — говорил гольду вечером Тыген. — Будем жить с тобой на острове Удд.[45] У нас хорошее место, самое лучшее, таких нигде нет. Остров длинный, — если кривоногий пойдет пешком, как раз с утра до вечера время пройдет, — и не шибко широкий — можно перекинуть камнем в любом месте. Зато нет ни одного деревца, ни одной травки. Зря ничего не торчит. А в заливе растет в воде трава и много разной хорошей грязи. Там ходит рыбка. Много канальчиков. По ним лазает разный зверь, фырчит, плещется. Когда вода уйдет, залив наш мелеет, можно далеко не ездить, тут же, около дома, раздобыть жира и мяса.
Тыген долго еще расписывал, как хорошо жить на его родном острове. Он говорил, что туда никто не подъезжает близко, кроме самих гиляков.
— У нас ты можешь не бояться маньчжуров и торгашей. К нам никто из них никогда не приходит. Торгаши тоже боятся по волнам ходить. И оспы у нас не бывает. У нас чистый остров, чистый песок среди моря. Никаких болезней нет, только кости от ветра и от холода сильно болят.
Тыген вдруг нахмурился.
— Только изредка к нам приходят рыжие разбойники — американы, морские черти, — сказал он. — На больших кораблях. Прежде американов не было, только за последнее время стали подходить к Удду. Они бьют китов в нашем море и подходят к нашим пескам хватать девок и баб, и нас самих тоже бьют. У них есть пушки на кораблях. А корабли большие! Мачта из двух-трех хороших деревьев. А иногда спускают на берег своих шаманов… Рыжие американы приводят с собой черных людей, негров. Их большие корабли сюда, к Мангму, не проходят. Тут устье реки и малое море. Его от большого моря мели отделяют. Никто не знает канальчиков, где может пройти корабль… Часто видно, что в море корабли ходят. Далеко видно. Вот приезжай к нам, все посмотришь. Ты смелый человек. Пригодишься нашему роду.
Чумбоку занимали рассказы гиляка. Он готов подраться с любыми разбойниками. Судя по тому, что говорил Тыген, американы были морскими маньчжурами. Так же плавают и грабят, приезжают за тем же, за чем Дыген. Разница только в том, что на кораблях мачты длиннее.
Чумбоке жаль было совсем покидать Мангму.
— Я не поеду на Удд, — сказал он.
— Ну как хочешь, — ответил гиляк. — А если надумаешь, то приезжай ко мне, как к брату. Приезжай весной.
— Может быть, тогда надумаю, — молвил Чумбо.
Тыген уехал наутро.
Тонкие льды, шурша, потянулись по Мангму.
Вскоре толстые льды появились на реке. Белые глыбы стоймя ползли среди полей тонкого льда. На море и среди лимана обмерзли мели. Все меньше оставалось черной воды. Белые сопки в снегу, серые и белые плывущие льдины, белые острова и мели — все постепенно сливалось в сплошной белизне. Льды останавливались. Вот уж только кое-где остались тепловоды. От них на морозе валили облака пара.
Море светлело вдали. С моря дули жгучие, студеные ветры, загоняя все живое в зимники. Ветры гнали к берегу морские льдины, раскалывали их об утесы, били в прах, громоздили обломки друг на друга.
Амур встал. Вскоре замерз и лиман. Крутые и высокие горы белого льда поднимались на его просторах. Леденящий восточный ветер нес с моря потоки сухого, колючего снега, гнул белые березы на горных обрывах берега, тряс ветви кедров, сбивал шишки, осыпал последнюю желтую хвою лиственниц.
Гиляки собирались на море бить тюленей.
А мороз с каждым днем все крепчал. Побледнела, поголубела синяя полоса в глубине моря. Вскоре уж не стало и голубой полосы, свободной ото льдов. Побелели берега и сопки далекого Сахалина.
Чумбо стал лучше говорить по-гиляцки. Казалось, он быстро становился гиляком и перенимал обычаи народа, среди которого жил. Он знал, когда бить морских зверей, как молиться здешним богам об удаче. Вечерами близ очага люди курили свои короткие самодельные костяные трубки. Чумбо молча вспоминал Одаку, как убили ее родичи, доведенные до безумия шаманом Бичингой.
Он вспоминал, в какой нищете и кабале живут его сородичи, запуганные шаманами, торгашами и приходящими разбойниками. Он вспоминал путь по Мангму; болезнь, занесенную торгашами; опустевшие деревни; безлюдные дома; двери, хлопающие на ветру; полотнища бересты, срываемые ветром с амбаров.
«Теперь уж замерзли все мертвецы. Скоро собаки передохнут с голоду. Ветер наметет сугробы внутрь домов и завалит их когда-то теплые каны».
И тот теплый кан, на котором играл Чумбока в детстве, где его ласкал отец и где потом отдыхал он с любимой рядом после тяжелой работы на реке, этот кан тоже занесло снегом, и дверь того дома так же хлопает на ветру, крыша его дома так же гниет, а новую траву на нее не постелют. И так же, наверно, ветер бересту со старого амбара срывает.
Ночью во сне Чумбока увидел отца. Ла, сидя у костра, рассказывал сказку.
«Твое ружье утопили в воде, — говорил старик, — на дне Мангму русское ружье лежит. Ружье твое, когда утонуло, стало расти. Оно выросло величиной во весь Мангму».
Утром дул ветер, бился о стены зимника.
«Хороший сон я видел», — подумал Чумбока.
Он собирался на охоту и поехал с гиляками на нарах по ледяной степи лимана. Ночью была сильная буря, и вдали взломало лед. Ветер налетал оттуда, где еще вчера была белая равнина, а сегодня опять появилась синяя полоса открытого моря.
1938–1948
Конец
Примечания
1
Му-Андури — по поверьям амурских народов — бог воды.
(обратно)2
Калуга — так на Амуре называют белугу.
(обратно)3
Сереброкорый бархат — бархатное дерево, амурское пробковое дерево.
(обратно)4
Зимник — зимнее жилище, бревенчатое или глинобитное, с очагом, дымоход которого проходит под каном — лежанкой вдоль стен зимника — и оканчивается деревянной трубой, поставленной отдельно от дома. Летнее жилище — «летник» — делалось из бересты.
(обратно)5
…остров за малым морем — остров Сахалин. Малое море — Амурский лиман и Татарский пролив.
(обратно)6
Залив Хади (Хаджи) — Императорская, ныне Советская, гавань.
(обратно)7
Кабарга — горное животное из семейства оленей, безрогое, с мускусным мешком у самцов. Мускус гольды продавали китайским торговцам.
(обратно)8
Гьяссу — загородка (маньчж.), укрепленное жилище маньчжурских торгашей.
(обратно)9
Скорее пятнай высокого… — «Высоким» Денгура иносказательно называет оленя, так как, по поверьям, на охоте нельзя называть зверей своим именем.
(обратно)10
…на языке на-ней — на нанайском языке.
(обратно)11
Нюньги-му — Синяя вода — Охотское море.
(обратно)12
Усть-Стрелка — казачий пограничный караул и почтовая станция на слиянии рек Шилки и Аргуни.
(обратно)13
Амбань — генерал (маньчж.), начальник области, губернатор.
(обратно)14
В русской экспедиции, где Позь был проводником… — Позь (русские называли его Позвейн) был проводником у топографа экспедиции А. Ф. Миддендорфа Ваганова, сделавшего в 1842–1845 гг. съемку реки Уди, южного берега Охотского моря и южной части острова Большой Шантар.
(обратно)15
Водка есть? (нанайск.).
(обратно)16
Угда — нанайская лодка из кедровых досок.
(обратно)17
Сколько лет, как войска богдыхана разбили их города и крепости… В 1685–1687 гг. маньчжуры дважды нападали на русские «городки»-крепости в Приамурье. После взятия ими центра Албазинского воеводства города Албазин русские вынуждены были покинуть часть освоенных ими территорий.
(обратно)18
Буриэ — на месте былого стойбища Буриэ теперь город Хабаровск.
(обратно)19
…в Китае власть принадлежала маньчжурам. — Империя Цин, образованная маньчжурами в 1644 г., просуществовала до 1914 г.
(обратно)20
Ветка — легкая лодка, обычно из бересты.
(обратно)21
Амба — злой дух.
(обратно)22
Пьер Ренье. — В основу истории Ренье и де Брельи легли исторические факты, по-своему переработанные автором. В 1845–1846 гг. французский миссионер де ла Брюньер предпринял путешествие на Амур и был убит местным населением. Посланный для расследования его участи миссионер Вено (Рено) в 1850 г. спустился к Амуру до озера Кизи и вернулся обратно (А. Мичи, Путешествие на восток Сибири, 1868).
(обратно)23
Ямынь — присутственное место, дворец губернатора.
(обратно)24
Дольмены — сооружения доисторической эпохи из камней.
(обратно)25
…сущий конкистадор. — Конкистадоры — испанские завоеватели XV–XVI вв., установившие жестокий колониальный режим грабежа и насилия на захваченных ими территориях Центральной и Южной Америки.
(обратно)26
Му-Амбани, Мукка-амбани — водяной черт.
(обратно)27
Амбань-тамчи, «генеральский табак» — опиум.
(обратно)28
Погон — ремень, за который привязывалась рыболовная снасть.
(обратно)29
Сенче — духи-близнецы.
(обратно)30
Занги — судья.
(обратно)31
Пантач — олень.
(обратно)32
Орочоны и манягры — дореволюционные названия групп эвенков — оленных (орочоны) и кочевых охотничьих племен, не имевших оленей и передвигавшихся на лошадях (манягры или манагиры).
(обратно)33
Ясачные избы — место сбора ясака — налога.
(обратно)34
Хабаров (по прозвищу Святитский) Ерофей Павлович — русский землепроходец и промышленник XVII в. Родился близ города Великий Устюг в крестьянской семье. Ходил на промыслы за Урал, в Мангазею и на полуостров Таймыр; с 1630 г. поселился в Сибири, где построил мельницу и соляную варницу, завел пашни и стал крупным хлеботорговцем. В 1649–1653 гг. совершил походы на Амур, завершившиеся официальным присоединением Приамурья к России. Хабаровым был составлен «Чертеж реке Амуру».
(обратно)35
Гуран — дикий козел.
(обратно)36
Нюман — река Бурея.
(обратно)37
Релка, или рёлка, — гребень, возвышенность.
(обратно)38
Турге — скорей.
(обратно)39
Бурханы — монгольские идолы, здесь: духи.
(обратно)40
Большим Амбаром нанайцы называют созвездие Большой Медведицы, особо почитавшееся народами Приамурья.
(обратно)41
Юкети — огромная марь, болотистое место на водоразделе между Горюном и Амгунью.
(обратно)42
Тифунгуан — палач.
(обратно)43
Дзянь-дзюнь — губернатор (китайск.).
(обратно)44
…на юге война с англичанами, — Имеется в виду англо-китайская война 1839–1842 гг.
(обратно)45
Остров Удд — ныне остров Чкалова.
(обратно)



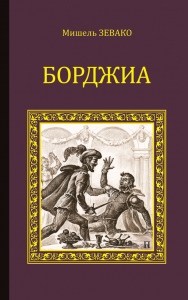




Комментарии к книге «Далёкий край», Николай Павлович Задорнов
Всего 0 комментариев