Михаил Николаевич Загоскин Юрий Милославский, или Русские в 1612 году
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН М. Н. ЗАГОСКИНА «ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ»
В комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» есть такая сцена: Анна Андреевна, супруга городничего, спрашивает завравшегося Хлестакова: «Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение?» – «Да, это мое сочинение», – отвечает Хлестаков. «Ах, маменька, – возражает Марья Антоновна, дочка городничего, – там написано, что это господина Загоскина сочинение». Хлестаков, нимало не смутившись, подтверждает: «Ах да, это правда: это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой».
То, что в городе, из которого «хоть три года скачи – ни до какого государства не доскачешь», знают о романе Загоскина, а Хлестаков присваивает себе его авторство, – свидетельство не только уездных вкусов и хлестаковского нахальства. Гоголем зафиксирован факт необыкновенной популярности «Юрия Милославского». Позднее С. Т. Аксаков так характеризовал реакцию читателей на роман: «Все обрадовались «Юрию Милославскому», как общественному приятному событию; все обратились к Загоскину: знакомые и незнакомые, знать, власти, дворянство и купечество, ученые и литераторы»[1]. Роман, действительно, явился значительным литературным событием: об этом свидетельствуют первые отклики на него.
«Господин Загоскин точно переносит нас в 1612 год, – писал в рецензии на «Юрия Милославского» А. С. Пушкин. – Добрый наш народ, бояре, казаки, монахи, буйные шиши – все это угадано, все это действует, чувствует, как должно было действовать, чувствовать в смутные времена Минина и Авраамия Палицына. Как живы, как занимательны сцены старинной русской жизни!»[2]
С. Т. Аксаков в своей статье о романе говорил: «…наконец словесность наша обогатилась первым историческим романом, первым творением в этом роде, которое имеет народную физиономию: характеры, обычаи, нравы, костюм, язык… Это небывалое явление на горизонте нашей словесности…»[3]
Рецензент «Отечественных записок» нашел роман занимательным, исполненным драматического интереса, с «величайшим искусством» воссоздающим многие поверья и обычаи русской старины, многие национальные характеры[4]. Достоинства романа отмечала даже критика, не вполне доброжелательная к писателю. Так, Н. А. Полевой, один из литературных противников Загоскина, писал, что в «Юрии Милославском» «интерес в целом поддержан; события любопытны; подробности резки, и многие отделаны весьма естественно и искусно»[5].
В первые дни после появления романа Загоскин получал письма с комплиментами, тешащими авторское самолюбие. «Поздравляю вас с успехом полным и вполне заслуженным, а публику с одним из лучших романов нынешней эпохи», – писал Пушкин Загоскину 11 января 1830 года. «Получив вашу книгу, – писал В. А. Жуковский, – я раскрыл ее с некоторою к ней недоверчивостью и с тем только, чтобы, заглянув в некоторые страницы, получить какое-нибудь понятие о слоге вообще. Но с первой страницы я перешел на вторую, вторая заманила меня на третью, и вышло наконец, что я все три томика прочитал в один присест, не покидая книги до поздней ночи. Это для меня решительное доказательство достоинства вашего романа»[6].
Разумеется, односторонне преувеличивать восхищение «Юрием Милославским» не стоит. Ибо более всего радовал самый факт появления отечественного исторического романа, проникнутого, по представлениям современников, «народностью» и «русским духом» (С. Т. Аксаков). Поэтому, хотя почти все говорили о достоинствах национального содержания, об увлекательности романного сюжета, погрешности и общего и частного характера находили даже самые восторженные рецензенты. Аксаков посвятил большую часть статьи о романе критике характеров и «частным замечаниям», которых у него набралось более пятидесяти, а в письме к С. П. Шевыреву заметил, что хотя «роман Загоскина имеет большое достоинство: воображение, жизнь, теплоту и веселость, но часть художническая – в младенческом положении; глубины также нет»[7].
Пушкин в своей рецензии отметил, что «неоспоримое дарование г. Загоскина заметно изменяет ему, когда он приближается к лицам историческим. Речь Минина на нижегородской площади слаба: в ней нет порывов народного красноречия. Боярская дума изображена холодно». Н. А. Полевой упрекал Загоскина в том, «что иногда лица его романа говорят не своим, несвойственным языком; что иногда сам автор слишком виден из-за них; что иногда он слишком любит нечаянности и впадает оттого в изысканность»[8].
Загоскин, которому к моменту появления «Юрия Милославского» исполнилось уже сорок лет, до этого времени прозой не занимался и известен был как комедиограф; пьесы его шли на сценах Петербурга и Москвы. О работе писателя над историческим романом было известно еще до его выхода в свет, причем многие относились к этому скептически (недаром Жуковский за книгу Загоскина принялся «с некоторою к ней недоверчивостью»). Дело в том, что хотя опыты исторической прозы в русской литературе 1820-х годов предпринимались, исторического романа среди них не было.
Конец XVIII и особенно первая треть XIX века в России вообще отмечены небывалым до того интересом к отечественной истории и «старине». Появились исторические повести Н. М. Карамзина «Наталья, боярская дочь» (1792), «Марфа Посадница» (1803). Интерес этот особенно усилился к 1820-м годам, когда национально-историческая тематика находила выражение и в собственно исторических штудиях (главный исторический труд эпохи – «История Государства Российского» Карамзина), и в опытах исторической прозы и поэзии (среди них прежде всего надо выделить «Думы» К. Ф. Рылеева и незавершенный роман Пушкина «Арап Петра Великого»), а также в области драматургии («Борис Годунов» Пушкина). Трагедия Пушкина, хотя и не опубликованная во второй половине 1820-х годов, была уже достаточно широко известна в литературных кругах. В конце 1829 – начале 1830 года были изданы сразу два исторических романа – «Юрий Милославский» Загоскина и «Димитрий Самозванец» скандально известного Ф. В. Булгарина, посвященные, как и «Борис Годунов», эпохе Смутного времени.
Факт почти одновременного опубликования двух произведений в новом жанре нужно учитывать, когда мы говорим о причинах успеха романа Загоскина. Еще до появления «Димитрия Самозванца» Булгарина знали как автора «нравственно-сатирического романа» «Иван Выжигин», одинаково плохо принятого литераторами самых разных воззрений. Булгарин уже тогда был известен как доносчик и пасквилянт. К тому же произведения его оценивались взыскательным читателем «не по числу подписчиков, – как говорил Н. И. Надеждин, – а по внутреннему достоинству»[9]. Критики Булгарина обращали внимание на эстетическую неполноценность его произведений. Н. А. Полевой, например, писал, что в «Димитрии Самозванце», помимо «неверных сведений в истории», «неверных изображений характеров», отразилось и неверное его понятие о сущности романа как творения эстетического[10].
То, что выгодным фоном для положительного восприятия «Юрия Милославского» послужили именно романы Булгарина. отмечалось уже в начале 1830-х годов: «…его успеху, конечно, содействовало не мало и предварительное появление «Ивана Выжигина», которого (по выражению кн. Вяземского) оставляешь как смирительный дом»[11], – заметил один из критиков. О том же писал Пушкин в письме к Вяземскому (конец января 1830 г.). Он хотя и положительно отозвался о «Юрии Милославском», в целом вполне трезво относился к дарованию Загоскина: «Ты бранишь „Милославского“, я его похвалил… Конечно, в нем многого недостает, но многое и есть, живость, веселость, чего Булгарину и во сне не приснится». Примечательно, что единственная враждебная рецензия на «Юрия Милославского» появилась в «Северной пчеле», газете, редактируемой Булгариным. Рецензент советовал Загоскину не браться более за исторические романы и «не верить тем, которые станут в глаза хвалить его»[12].
В результате «Самозванец» не понравился, а «Милославский» принят был с рукоплесканием». Н. А. Полевой, которому принадлежат эти слова и который равно недоброжелательно относился и к творчеству Загоскина, и к романам Булгарина. объяснял это тем, что «эпоха 1612 года есть один из главных коньков нашего народного самолюбия… колокольчик народного самохвальства и богатырства должен нравиться. И «Юрий Милославский» звонил в этот колокольчик из всех сил»[13].
Роман Загоскина действительно отвечал обострившемуся в эти годы интересу к старине, к быту и нравам простого народа. Но прежде чем говорить о народности Загоскина, надо сказать несколько слов о жанре «Юрия Милославского», в немалой степени обусловившем эту народность.
Исторический роман, жанр новейший в русской литературе первой трети XIX века, связан был прежде всего с именем Вальтера Скотта, произведения которого явились совершенно особым этапом в развитии этого жанра. Изображение жизни частных лиц и любовная интрига, составлявшие основу романа вообще, были сохранены В. Скоттом и в историческом жанре. Однако нов оказался угол зрения, под которым он видел «частную жизнь с ее заботами и хлопотами» (В. Г. Белинский) и любовь – «верховную царицу чувств» (Н. И. Надеждин). Все «частное» дано В. Скоттом в исторической перспективе: вымышленные герои – люди прошлых столетий – действуют среди исторических лиц, участвуют в событиях, имевших место в реальности. Особое значение в романах В. Скотта приобрели «археологические» и «этнографические» подробности: и местность со всеми особенностями, и колорит эпохи, и костюмы, и позы героев – все должно было соответствовать своему времени[14]. К такому же соответствию стремился романист и при изображении «старых нравов»: привычек, обычаев, понятий, предрассудков людей прошлого. С особой тщательностью воссоздавался в историческом романе бытовой и исторический фон эпохи. Это не означает, что у В. Скотта исторические события, лица, предметы воспроизводились со скрупулезной точностью, основанной только на документальных фактах. Писатель, воскрешая историю в романе с помощью художественного домысла, волен был допускать сознательные анахронизмы, переставлять даты для усиления драматизма повествования, домысливать характер исторического лица. Загоскин, следуя В. Скотту, также уплотняет события: действие романа начинается весной 1612 года, а герои только еще узнают о фактах, «исторически» уже совершившихся и, как признается сам автор, известных «в самых отдаленных провинциях царства Русского» (см. историческое замечание 3): о присяге москвичей Владиславу (август 1610 г.), об убийстве Лжедмитрия II (декабрь 1610г.), о взятии Смоленска (июнь 1611 г.). Такое смещение событий не было нарушением исторической достоверности, ибо главная задача романиста заключалась не в хронологическом воспроизведении тех или иных исторических эпизодов, а в воссоздании «духа» прошедшей эпохи. Вот почему в романах В. Скотта и его последователей на первом плане, как правило, – изображение вымышленных героев, обыкновенных людей «тогдашнего времени», их «домашний быт и вседневный ум», по выражению А. А. Бестужева (Марлинского).
События, развертывающиеся на историко-бытовом фоне, должны были увлекать читателя, который ждал от хорошего романа «занимательности для любопытства, то есть хорошо запутанных и хорошо распутанных происшествий, и занимательности для ума, то есть истины и простоты с нею не разлучной»[15], «театральной занимательности» и «удовольствия»[16]: хороший романист «никогда не утомляет внимания читателя» (А. С. Пушкин) – он должен «заставить читателя забыться, думать, что он живет, действует вместе с действующими лицами»[17]. Характерны в связи с этим упреки Булгарину в том, что читатель испытывает «скуку, усталость и тоску»[18] при чтении его романов (концовка одной из эпиграмм Пушкина на Булгарина: «…Беда, что скучен твой роман»).
Фон не должен был рассредоточивать читательского интереса и мешать увлекательности чтения. Но как совместить «занимательность для любопытства» с «археологией»? Для этого, по утверждению В. Скотта, необходимо было «изложить избранную вами тему языком и в манере той эпохи, в какую вы живете», то есть «переложить старые нравы на язык современности». Такое «переложение» не представляло намеренной модернизации исторической действительности, – это был род стилизации, необходимый художественный прием, действенный потому, что «важнейшие человеческие страсти», с точки зрения романиста первой трети XIX столетия, «общи для всех сословий, состояний, стран и эпох»[19]. «Сухая археология» могла только констатировать различия эпох, роман же обнаруживал общность страстей людей разных времен, увлекая и заинтересовывая читателя не только изображением «старины» или интригующим сюжетом, но и характерами героев.
За незнакомым бытом, костюмами, навыками и привычками читатель романа Загоскина должен был видеть не только то особенное, что отличает людей прошлого от людей настоящего, но и общее, что сближает их – те же русские чувства, которые, с точки зрения писателя, не менее значимы и в «настоящее время»: любовь к отечеству, благочестие, любовь к ближнему и т д.
Воскрешение быта прошедших столетий, воссоздание страстей и чувств обыкновенного человека прошлого, воплощенного в вымышленном герое, исторический фон – все это давало возможность показывать историю «домашним образом», как говорил А. С. Пушкин, вмещая «романическое происшествие» в «раму обширнейшего происшествия исторического». Особенное значение приобретала история «старых нравов», и прежде всего нравов народа. Духовная жизнь нации, начиная с произведений В. Скотта, стала неотъемлемым компонентом исторического романа[20].
В России 20-х годов XIX столетия зачитывались романами В. Скотта. Так, П. А. Вяземский писал о «лихорадке любопытства, тоски, жадности, увлекательности», которая «обдает читателя Вальтера Скотта, единственно умеющего сливать в своих романах историю поэтическую и поэзию историческую эпопеи, деятельность драмы то трагической, то комической, наблюдательность нравоучителя, орлиный взгляд в сердце человеческое со всеми очарованиями романического вымысла. Может быть, Вальтер Скотт – превосходнейший писатель всех народов и всех веков»[21].
Последователи у В. Скотта появились в 1820-е годы «во всех просвещенных нациях»: «Успех знаменитого шотландского романиста породил соревнование…: везде явились ему подражатели, более или менее счастливые… у нас одних доселе видны были только попытки, только начинания в романах исторического рода, несмотря на богатство русских летописей в предметах и обстоятельствах истинно романических. Наконец, г. Загоскин… вполне заменил сей недостаток в нашей литературе»[22]. В том, что Загоскин напишет нечто «в роде В. Скоттовом», почти не сомневались и желали «посмотреть, как будет он соперничать с патриархом исторических романов»[23].
Слова соревнование и соперничать не случайно возникли в первых рецензиях на «Юрия Милославского». Идея состязания с «образцовым» автором была значима не только в XVII-XVIII веках. Правила такого соперничества требовали выполнения определенных жанровых условий. Для Загоскина это были условия исторического романа вальтер-скоттовского типа. В центре произведения – действия обыкновенных людей избранной для повествования эпохи, вымышленных персонажей; исторические лица и события – на втором плане; «автор… старается характеризовать целый народ, его дух, обычаи и нравы в эпоху, взятую им в основание его романа»[24]. В «Юрии Милославском» можно встретить многие ситуации произведений В. Скотта, ставшие сюжетообразующими моментами исторического романа. Изображение пира в феодальном замке (у Загоскина в хоромах боярина Кручины-Шалонского), ссора на постоялом дворе (Юрия с паном Копычинским), встреча героя с незнакомцем, оказывающим впоследствии ряд услуг (встреча с Киршей), нападение разбойников, пленение героя, заточение его в подземелье, подслушанный разговор, дающий возможность предупредить замыслы тайных врагов, – схожие ситуации можно найти в таких романах В. Скотта, как «Уэверли, или Шестьдесят лет назад», «Легенда о Монтрозе», «Айвенго», «Квентин Дорвард». «Юрий Милославский» воспринимался современниками именно на фоне произведений Вальтера Скотта. Так, Пушкин не случайно начал свою рецензию с разговора о подражателях В. Скотта. А. А. Бестужев (Марлинский) отмечал, что главный герой романа – «метампсихоза Вальтер Скоттова Веверлея»[25]. О подражании В. Скотту писали как о немаловажном достоинстве русского романиста: «Замечаем еще с удовольствием, что сие сочинение („Юрий Милославский“. – А. П.) в ходе своем и в расположении картин есть подражание романам знаменитого шотландца»[26]. Говорили критики и о родстве «Юрия Милославского» с произведениями американского «соревнователя» В. Скотта – Фенимора Купера, из которых наиболее известен был в России тех лет роман «Шпион».
Однако подражание превратилось бы в плагиат, не достойный внимания, если бы не было в «Юрии Милославском» оригинального сцепления «вальтер-скоттовых» и «куперовых» сюжетных ходов, умелой беллетризации повествования и национального содержания: русской истории и «археологии», русских характеров, «русской» идеи произведения.
Народ в романе Загоскина представляет собою не просто фон действия. Герои из народа – не менее первостепенны для Загоскина (так же, как и для В. Скотта), чем персонажи из высших сословий. На действиях одного из «народных» героев – Кирши – фактически зиждется вся острота сюжета «Юрия Милославского». Внимание к народной жизни в историческом романе обусловлено тем, что народное в начале XIX века ассоциировалось с историческим. По распространенному мнению, простой народ, в отличие от образованных сословий («полуевропейцев», с которыми «народ разрознен» и которые сделались «чужие между своими»[27]), сохранял на протяжении столетий в своем жизненном укладе исконно русские начала. Еще Карамзин в конце XVIII века утверждал, что одни только «трудолюбивые поселяне… среди всех изменений и личин представляют нам еще истинную русскую физиогномию»[28]. И народное, и историческое в равной мере подвержены были идеализации в противопоставлении «полуевропейскому», светскому образу жизни высшего сословия. Такой идеализацией всего «истинно русского» проникнут и роман Загоскина. Современники говорили, что выказываемая писателем «любовь к отечеству» и ко всему, носящему «имя русского», «находит себе приветный отзыв в душе читателя русского»[29]; что «Загоскин понял… своею русскою душою… что настоящий русский народный роман, как картина русской народной жизни, необходимо должен быть романом патриотическим» и что «Загоскин первый угадал тайну писать русских с натуры»[30]; что «Юрий Милославский» «отличается необыкновенным искусством в изображении быта наших предков, когда этот быт сходен с нынешним, и проникнут необыкновенною теплотою чувства»[31].
«Русскую» направленность своего романа беспрестанно подчеркивает прежде всего сам Загоскин: и при характеристике лучших черт национального характера (благородство, удальство, смелость, скромность, любовь к ближнему, «милость к падшему», ненависть ко всякому безначалию, неприятие иноземных обычаев, честность и, главное, – любовь к отечеству), и при изображении «типических» фигур изображаемой эпохи (казак Кирша, юродивый Митя, поп Еремей), и при характеристике психологии человека из народа («Русский человек на том и стоит: где бедовое дело, тут-то удаль свою показать», он «в случае нужды готов удовольствоваться куском черного хлеба» и т п.), и при описании природы («Мы, русские, привыкли к внезапным переменам времени и не дивимся скорым переходам от зимнего холода к весеннему теплу»).
Главным стимулом поступков всех положительных, «истинно русских» героев Загоскина является чувство патриотическое. Поэтому расстановка «хорошего» и «плохого» вполне однозначна – герои-защитники отечества обнаруживают лучшие национальные черты, герои-изменники и враги наделены качествами противоположными. Рассказывая, например, о боярине Кручине-Шалонском, Загоскин не забывает заметить, что не только поступками, взглядами, привычками он выказывал презрение к «простым обычаям предков», но и своим бытом, в устройстве которого стремился к роскоши и подражанию иноземцам. Загоскин делает даже оговорку, что описание дома боярина Шалонского «не может дать верного понятия об образе жизни тогдашних русских бояр», дома которых «не удивляли огромностью и великолепием».
Ко всему же «истинно русскому» Загоскин относится чрезвычайно бережно и любовно. Как замечал О. М. Сомов, «видишь… что ему самый дым отечества сладок и приятен»[32]. При таком, как у Загоскина, умиленном отношении к родному прошлому видоизменяется и один мотив, свойственный избранному им жанру. В исторических романах первой трети XIX века автор нередко намеренно обращал внимание читателя на какую-либо черту мировоззрения или образа жизни человека прошлого, которая с точки зрения современной представлялась по меньшей мере скверным предрассудком даже в «положительном» герое. Так, Квентин Дорвард надменно и презрительно обращается с сарацином, «последний из могикан» Ф. Купера снимает скальпы с убитых врагов. Романисты как бы извинялись за то, что их герои, люди своего времени, следуют, как говорит Гринев у Пушкина, «варварскому обычаю». А у Загоскина все положительные персонажи не имеют «варварских» предрассудков. Зато изменники и враги наделены «дикостью», которая проявляется не только в их поступках и речах, но и в тех оценках, какими они награждаются по ходу повествования. Кручина-Шалонский, Истома-Туренин. Омляш, поляки. Лжедмитрий, казаки из таборов Трубецкого постоянно сравниваются с кровожадными животными. Так, рассказывая о любви Кручины к дочери. Загоскин попутно замечает: «и дикие звери любят детей своих»; в гневе глаза боярина сверкают, «как у тигра»; Замятня-Опалев применяет к Шалонскому слова библейского изречения о царском гневе, который подобен «рыканию Львову». Стремянный боярина Омляш «ухватками» похож «на медведя», в облике его нет «ничего человеческого», а голос «напоминал рев животного, с которым он имел столь близкое сходство». Истома-Туренин «то взглянет, как рублем подарит, то посмотрит исподлобья, словно дикий зверь». Гетман Гонсевский «желал бы, чтоб нижегородцы положили оружие, так же, как желает хищный волк, чтоб стадо осталось без пастыря и защиты». Мужество Сапеги и Лисовского названо «зверским». Лжедмитрий «спрятался» в Калугу после поражения под Тушиным, «как медведь в свою берлогу». Казаки Трубецкого после взятия Кремля «словно волки рыщут вокруг Грановитой палаты»; они рассеиваются по всей России, «как стая хищных зверей». Единственно в ком из «подлинно русских» заметны «зверские» черты – в шишах. Впрочем, они и представлены Загоскиным войском беспорядочным, склонным как к защите отечества, так и к разбою. Недаром фамилия одного из них – Зверев. Со «зверскими рожами» и «зверским хохотом» они готовы отправить на виселицу неповинную героиню.
Уподобление порочных героев хищникам – устойчивое литературное клише, восходящее к фольклору и древним литературам. В притче, басне, афоризме, пословице хищники явлены почти всегда со знаком «минус», который сопровождает их и при сравнении с ними людей. Заведомая «отрицательность» хищников дает возможность с прозрачной иносказательностью определить характер героя и в произведениях, по жанру ничего не имеющих общего с басней или притчей. Не признающий никаких компромиссов в утверждении всего «истинно русского», Загоскин приходил к отчетливому разграничению с позиций своей идеи между «хорошим» и «плохим». И, не вдаваясь в психологические нюансы внутреннего мира «порочных» персонажей, он строил характеристики не только путем прямого обозначения их душевных качеств, но и с помощью аналогий, имевших устойчивую литературную репутацию.
Если «порочные» персонажи наделены «дикостью», то герои идеальные охарактеризованы исключительно с помощью положительных абстрагирующих эпитетов («бессмертный» Минин, «благочестивый» архимандрит Феодосии; «бессмертный сподвижник добродетельного Дионисия» Авраамий Палицын; у Пожарского – «величественное и вместе кроткое чело»; Юрий Милославский – «пламенный юноша», «благородный юноша», у него «благородный вид» и т. д.).
Интересно, что благородный герой нередко ставился романистами в такие положения, когда честь его подвергалась жестким испытаниям: так, Уэверли оказывается дезертиром поневоле; Квентину Дор-варду, честно служащему Людовику XI, поручается заведомо бесчестное дело. И Юрий Милославский в двусмысленном положении: с одной стороны, он присягнул польскому королевичу и по долгу присяги не должен вступать в борьбу с поляками, с другой – он, как истинный патриот, не может и мириться с тем злом, которое совершают враги отечества.
Юрий Милославский, как и его литературные прототипы в романах В. Скотта, – герой положительный и при этом наиболее бледно изображенный. Он фактически не участвует в действии. С. Т. Аксаков замечал, что «как скоро он действует с кем-нибудь вместе, он уже играет второклассное лицо: в нем нет ничего славного, сильного, увлекательного, самобытного. Его спасают, посылают, освобождают, не слушают, разрешают и венчают»[33]. Подобная «второклассность» главного героя связана не только с трудностями создания положительного образа и восходит не только к романам В. Скотта (в «Айвенго», например, главный герой лишь дважды участвует в действии), но обусловлена самой структурой «Юрия Милославского», в которой особую роль играют фольклорные элементы. Описание быта, народных обычаев и суеверий, пословицы и поговорки, которыми усыпана речь персонажей из народа, песни, стилизованные сказки и былины, введенные в повествование, фольклоризация самого стиля (в частности, использование народных эпитетов: «шея лебединая», «сердце молодецкое» и др.), – все это должно было создавать русский колорит. Однако фольклор играет немаловажную роль и в развитии сюжета «Юрия Милославского».
С одной стороны, многое в сюжетных положениях романа заимствовано Загоскиным у В. Скотта, но с другой – «Юрий Милославский» восходит не только к сюжетной системе исторического романа, но и к жанру фольклорному – народной сказке. Сходство со сказкой было замечено уже современниками, хотя и в негативном плане. Н. А. Полевой среди ошибок Загоскина выделял ту, что «вместо изображения души человеческой» автор занимает читателя «сказочными случайностями»[34]. Но связь со сказкой, видимо, не только результат неумения Загоскина проникать в глубины психологии человека, отчего внимание читателя сосредоточено лишь на событийной стороне, но и особенное свойство поэтики «Юрия Милославского».
Связь со сказкой обнаруживается уже в расстановке персонажей. Так же, как в волшебной сказке, не столько герой действует самостоятельно, сколько за него – его помощники, способствующие ему в борьбе с недругами (антагонистами)[35]. Героя волшебной сказки как раз чаще всего «спасают, посылают, освобождают» и т. д. В романе Кирша, так же как и многие сказочные помощники, выручает героя из беды за то, что тот в свое время спас ему жизнь. Кирша трижды (фольклорное число) спасает Милославского: от погони врагов, от нападения слуг Шалонского, от плена. Интересно, что Загоскин объясняет помощь Кирши вполне сказочным аргументом – «непреодолимым желанием во что бы то ни стало соединить двух любовников» (Юрия и Анастасию). Как известно, в помощь сказочного помощника входит добывание невесты герою. Другие помощники – Авраамий Палицын, освобождающий Милославского от присяги польскому королевичу, поп Еремей, спасающий его возлюбленную и венчающий героев, юродивый Митя, дающий Милославскому иносказательные советы. По-сказочному перед Юрием и Алексеем, едущими в отчину Шалонского, возникает на распутье дорог мужичок с хворостом. В «инишном царстве» (Теплый Стан боярина Кручины-Шалонского), куда можно попасть по одной-единственной дороге, оказывается плененный Милославский. Сказочным богатырством отличаются Минин, отец Еремей, крестьянин Суета (примечательно, что Омляш, герой тоже богатырского сложения, назван, однако, «уродливым великаном»).
Ряд сказочных мотивов романа непосредственно связан с Киршей, характер которого изобилует качествами ловкого и находчивого персонажа социально-бытовой сказки, одурачивающего своих противников. Чтобы удобно устроиться на ночлег, он запугивает выдумкой о разбойниках проезжих, остановившихся на постоялом дворе. Подслушав разговор колдуна Кудимыча с пришедшей поучиться у него старухой, Кирша потом одурачивает их обоих. Одурачивает он своих сторожей, удирая из отчины боярина Кручины, одурачивает жадную старуху, продавшую по неслыханной цене крынку молока, одурачивает слуг боярина Кручины, добывая для них мнимый клад. Более всего напрашивается аналогия Кирши с солдатом и вором – героями социально-бытовой сказки (вор в русской сказочной традиции, в отличие от разбойника, трактуется положительно). В одном из сказочных сюжетов солдат выведывает у колдуна секреты колдовского искусства и затем побеждает его[36]. В другой сказке – подслушивает разговор о заговоре против царя или узнает о нападении разбойников[37] (Кирша подслушивает разговор Омляша с земским ярыжкой о предстоящем нападении на Юрия Милославского). Одурачивание солдатом, хитроумным мужиком или вором глупой старухи – мотив, весьма распространенный в социально-бытовой сказке. Так, в одном из сказочных сюжетов солдаты подкладывают старухе в печь лапоть, выкрав оттуда жареного петуха[38]. Кирша так же, как сказочные вор и солдат, не имеет пристанища и так же, как они, человек «пришлый», совершающий свои подвиги в незнакомом для себя месте. С Киршей связан и такой явный сказочный эпизод, как похищение коня. Когда приказчик сообщает Кирше, что боярин Кручина-Шалонский жалует его «на выбор любым конем из своей боярской конюшни», он тут же добавляет: «смотри, не позарься на вороного аргамака, с белой на лбу отметиной», на котором «не усидел бы и могучий богатырь Еруслан Лазаревич»[39]. В волшебных сказках чудесный конь – один из верных помощников героя: он выручает его из многих бед, побеждает врагов, помогает в добывании невесты (вспомнить хотя бы «Сивку-Бурку»). И у Загоскина здесь – реминисценция сказочного мотива – добывания героем чудесного коня из стада у бабы-яги, у змея и т. п.[40]
«Народный роман» (Н. И. Надеждин) требовал фольклоризации материала, которая выразилась не только в сознательном использовании пословиц и поговорок, во введении сказочных, былинных и песенных текстов, в употреблении, «простонародных» словечек, но и в невольных фольклорных реминисценциях, в том числе и сюжетных.
«Юрий Милославский» оказался хронологически первым в ряду исторических романов 1830-х годов. Сам Загоскин неоднократно обращался к историческому повествованию впоследствии, но ни одно из его сочинений не имело такого успеха, как «Юрий Милославский». Исторические романы в 1830-е годы создают И. И. Лажечников («Последний Новик», «Ледяной дом», «Басурман»), «русскую быль XV века» пишет Н. А. Полевой («Клятва при гробе Господнем»), к исторической эпохе, «развитой в вымышленном повествовании», обращаются Н. В. Гоголь («Тарас Бульба»), А. С. Пушкин («Капитанская дочка»; «Арап Петра Великого» был начат в 1827 г.).
Многие мотивы и приемы «Юрия Милославского», наряду с приемами исторических романов В. Скотта, были полемически переосмыслены и оригинально переработаны в «Капитанской дочке». Сюжетную канву романа Пушкина составила та же сказочно-романная основа, что и у Загоскина: герой – не столько «действователь», сколько наблюдатель исторических событий, на протяжении почти всего романа занят «добыванием» невесты; а Пугачев – не только вождь восставших, но, как и Кирша, главный помощник Гринева в этом «добывании». Некоторые эпизоды «Капитанской дочки» восходят к «Юрию Милославскому»: господин и слуга (Юрий и Алексей, Гринев и Савельич) во время бурана встречают незнакомца (казака Киршу, казака Пугачева), который в дальнейшем играет решающую роль в судьбе героя. Маша Миронова, так же как Анастасия, оказывается в руках восставших (у Загоскина – шиши, у Пушкина – войско Пугачева), причем обеим грозит гибель из-за того, что отцы их оказались врагами восставших. Гринев так же, как Милославский, поставлен в условия, при которых его честь подвергается жестким испытаниям. Интересно переосмыслил Пушкин и «второклассность» главного героя исторического романа. Если Уэверли и Милославский оказались «наблюдателями» исторических событий, так сказать, поневоле, – характеры более интересные заслонили их, – то Пушкин как раз на «второклассности» своего героя акцентирует внимание. С одной стороны, Гринев – как бы центральный персонаж, ибо его «семейственные записки» относятся прежде всего к истории его жизни. Но с другой стороны, он не столько сам действует в романе, сколько фиксирует происходящие вокруг события, его личная инициатива в которых минимальна. Разумеется, ни в коем случае нельзя говорить о том, что Пушкин в «Капитанской дочке» подражал Загоскину. Дело не в подражании, а в переосмыслении ряда мотивов, сюжетных элементов, причем переосмыслении принципиально полемическом.
«Юрий Милославский» выдержал только при жизни автора семь изданий. Однако слава Загоскина-романиста не продержалась долго. И «Юрий Милославский», и последующие его романы перешли в область скорее развлекательного чтения (аналогичная судьба постигла и романы В. Скотта и Ф. Купера, которые перешли в разряд чтения «для юношества» и приключенческой литературы). Несложность и прямолинейность нравственной, философской и социальной проблематики творчества Загоскина, сводящейся преимущественно к утверждению и отстаиванию всего, что кажется ему «истинно русским», для литературы второй половины XIX века и позднейших эпох была пройденным этапом. Прошло и жадное увлечение историческим романом, каким отличались 1830-е годы. Во второй половине XIX века исторический роман – далеко уже не новинка, и как «серьезная литература» «Юрий Милославский» выглядел явлением анахроническим. В начале 1860-х годов Аполлон Григорьев так отзывался о творчестве Загоскина: «М. Н. Загоскин как человек – одно из отраднейших явлений нашего старого быта, натура в высшей степени нежная и добродушная, хотя и ограниченная[41], пользовался как романист успехом, в наше время и с нашей точки зрения совершенно невероятным и необъяснимым». «Бесцветность» и «сахарность» содержания, «ходульность», представления «грандиозных народных событий», пошлость патриотизма, «фамусовское благоговение перед всем существующим – даже до кулака, восторженное умиление перед теми сторонами старого быта, которые были недавно и правдиво казнены великим народным комиком Грибоедовым, не китайское даже, а зверское отношение ко всему нерусскому», «речь дворовой челяди вместо народной речи»[42], – все эти черты мировоззрения и поэтики Загоскина, полемически обозначенные А. Григорьевым, нужно воспринимать с учетом исторической перспективы. «Фамусовское благоговение перед всем существующим» было органично для Загоскина: он действительно был человеком верноподданных и благонамеренных взглядов, которые и утверждал, нередко однозначно и плоско, в своих произведениях. Однако, будучи «чуть что не инквизитор в своих умственных враждах», сам по себе Загоскин был, судя по воспоминаниям, «добродушным, наивным»[43] человеком с «неистощимым благодушием» и «веселостью», доверчивым и простым: «Имея ум простой, здравый и практический, он не любил ни в чем отвлеченности и был всегда врагом всякой мечтательности и темных, метафизических, трудных для понимания, мыслей и выражений»[44]. Благодушие, веселость и простота сказывались и в произведениях писателя. Недаром тот же Аполлон Григорьев, столь резко отзывавшийся о Загоскине, констатировал вместе с тем, что «у Загоскина, там, где он пишет без претензий на доктрину, есть вещи наивные, восхитительно милые, весело добродушные, даже – что удивительно в особенности – человечески страстные»[45].
«Художническая часть», особенно в «Юрии Милославском», в тех местах, где она не подавлена назидательной идеей, действительно способна была увлечь, умело «закрученный» сюжет заинтриговывал читателя, «теплота чувства», если она выражена «без претензии на доктрину», располагала к чтению. Это свойство поэтики Загоскина подметил еще А. А. Бестужев (Марлинский), в целом относившийся к произведениям Загоскина скептически: «…нет в нем ничего необыкновенного, поразительного, но умилительного много, но забавного много, и вы не увидите, как дочитались до конца, и вы досадуете, зачем так скоро пресекает он ваше удовольствие»[46].
«Юрий Милославский» как произведение беллетристическое и патриотическое оказался очень популярен в конце XIX – начале XX века, когда он не только неоднократно переиздавался, но и подвергался многочисленным переработкам и адаптациям[47]. Впрочем, «Юрий Милославский» имеет интерес не только «для любопытства», но и как первое отечественное произведение в жанре исторического романа, и как тот тип романа, который получил свое развитие впоследствии, и как обращение к конкретному историческому материалу для воссоздания «живого» облика людей прошлого.
А. Песков
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Никогда Россия не была в столь бедственном положении, как в начале семнадцатого столетия: внешние враги, внутренние раздоры, смуты бояр, а более всего совершенное безначалие – все угрожало неизбежной погибелью земле русской. Верный сын отечества, боярин Михайло Борисович Шеин, несмотря на беспримерную свою неустрашимость, не мог спасти Смоленска. Этот, по тогдашнему времени, важный своими укреплениями город был уже во власти польского короля Сигизмунда, войска которого под командою гетмана Жолкевского, впущенные изменою в Москву, утесняли несчастных жителей сей древней столицы. Наглость, своевольство и жестокости этого буйного войска превосходили всякое описание (1). Им не уступали в зверстве многолюдные толпы разбойников, известных под названием запорожских казаков, которые занимали, или, лучше сказать, опустошали, Чернигов, Брянск, Козельск, Вязьму, Дорогобуж и многие другие города. В недальнем расстоянии от Москвы стояли войска второго самозванца, прозванного Тушинским вором; на севере – шведский генерал Понтиус де ла Гарди свирепствовал в Новгороде и Пскове; одним словом, исключая некоторые низовые города, почти вся земля русская была во власти неприятелей, и одна Сергиевская лавра, осажденная войсками второго самозванца под начальством гетмана Сапеги и знаменитого налета[48] пана Лисовского, упорно защищалась; малое число воинов, слуги монастырские и престарелые иноки отстояли святую обитель. Этот спасительный пример и увещательные грамоты, которые благочестивый архимандрит Дионисий и незабвенный старец Авраамий рассылали повсюду, пробудили, наконец, усыпленный дух народа русского; затлились в сердцах искры пламенной любви к отечеству, все готовы были восстать на супостата, но священные слова: «Умрем за веру православную и святую Русь!» – не раздавались еще на площадях городских; все сердца кипели мщением, но Пожарский, покрытый ранами, страдал на одре болезни, а бессмертный Минин еще не выступил из толпы обыкновенных граждан.
В эти-то смутные времена, в начале апреля 1612 года, два всадника медленно пробирались по берегу луговой стороны Волги. Один из них, закутанный в широкий охабень[49], ехал впереди на борзом вороном коне и, казалось, совершенно не замечал, что метель становится час от часу сильнее; другой, в нагольном тулупе, сверх которого надет был нараспашку кафтан из толстого белого сукна, беспрестанно останавливал свою усталую лошадь, прислушиваясь со вниманием, но, не различая ничего, кроме однообразного свиста бури, с приметным беспокойством озирался на все стороны.
– Полегче, боярин, – сказал он, наконец, с некоторым нетерпением, – твой конь шагист, а мой Серко чуть ноги волочит.
Передний всадник приостановил свою лошадь; а тот, который начал говорить, поравнявшись с ним, продолжал:
– Прогневали мы господа бога, Юрий Дмитрич! Не дает нам весны. Да и в пору мы выехали! Я говорил тебе, что будет погода. Вчера мы проехали верст шестьдесят, так могли б сегодня отдохнуть. Вот уж седьмой день, как мы из Москвы, а скоро ли доедем – бог весть!
– Не кручинься, Алексей, – отвечал другой путешественник, – завтра мы отдохнем вдоволь.
– Так завтра мы доедем туда, куда послал тебя пан Гонсевский?
– Я думаю.
– Дай-то бог!.. Ну, ну, Серко, ступай!.. А что, боярин, назад в Москву мы вернемся или нет?
– Да, и очень скоро.
– Не прогневайся, государь, а позволь слово молвить: не лучше ли нам переждать, как там все угомонится? Теперь в Москве житье худое: поляки буянят, православные ропщут, того и гляди пойдет резня… Постой-ка, боярин, постой! Серко мой что-то храпит, да и твоя лошадь упирается, уж не овраг ли?..
Оба путешественника остановились; Алексей спрыгнул с лошади, ступил несколько шагов вперед и вдруг остановился как вкопанный.
– Ну, что? – спросил другой путешественник.
– Ох, худо, боярин! Мы едем целиком, а вот, кажется, и овраг… Ах, батюшки-светы, какая круть! Как бог помиловал!
– Так мы заплутались?
– Вот то-то и беда! Ну, Юрий Дмитрич, что нам теперь делать?
– Искать дороги.
– Да как ее сыщешь, боярин? Смотри, какая метель: свету божьего не видно!
В самом деле, вьюга усилилась до такой степени, что в двух шагах невозможно было различать предметов. Снежная равнина, взрываемая порывистым ветром, походила на бурное море; холод ежеминутно увеличивался, а ветер превратился в совершенный вихрь. Целые облака пушистого снега крутились в воздухе и не только ослепляли путешественников, но даже мешали им дышать свободно. Ведя за собою лошадей, которые на каждом шагу оступались и вязнули в глубоких сугробах, они прошли версты две, не отыскав дороги.
– Я не могу идти далее, – сказал, наконец, тот из путешественников, который, по-видимому, был господином. Он бросил повода своей лошади и в совершенном изнеможении упал на землю.
– Уж не прозяб ли ты, боярин? – спросил другой испуганным голосом.
– Да. Я чувствую, кровь застывает в моих жилах. Послушай… если я не смогу идти далее, то покинь меня здесь на волю божию и думай только о себе.
– Что ты, что ты, боярин! Бог с тобою!
– Да, мой добрый Алексей, если мне суждено умереть без исповеди, то да будет его святая воля! Ты устал менее моего и можешь спасти себя. Когда я совсем выбьюсь из сил, оставь меня одного, и если господь поможет тебе найти приют, то ступай завтра в отчину боярина Кручины-Шалонского, – она недалеко отсюда, – отдай ему…
– Как, Юрий Дмитрич! чтоб я, твой верный слуга, тебя покинул? Да на то ли я вскормлен отцом и матерью? Нет, родимый, если ты не можешь идти, так и я не тронусь с места!
– Алексей! ты должен исполнить последнюю мою волю.
– Нет, боярин, и не говори об этом. Умирать, так умирать обоим. Но что это?.. Не послышалось ли мне?
Алексей снял шапку, наклонил голову и стал прислушиваться с большим вниманием.
– Хотя б на часок затих этот окаянный ветер! – вскричал он с нетерпением. – Мне показалось, что налево от нас… Чу, слышишь, Юрий Дмитрич?
– В самом деле, – сказал Юрий, приподнимаясь на ноги, – кажется, там лает собака…
– И мне тоже сдается. Дай-то господи! Завтра же отслужу молебен святому угоднику Алексею… поставлю фунтовую свечу… пойду пешком поклониться Печерским чудотворцам… Чу, опять! Слышишь?
– Точно, ты не ошибаешься.
– А где лает собака, там и жилье. Ободрись, боярин, господь не совсем нас покинул.
Кого среди ночного мрака заставала метель в открытом поле, кто испытал на самом себе весь ужас бурной зимней ночи, тот поймет восторг наших путешественников, когда они удостоверились, что точно слышат лай собаки. Надежда верного избавления оживила сердца их; забыв всю усталость, они пустились немедленно вперед. С каждым шагом прибавлялась их надежда, лай становился час от часу внятнее, и хотя буря не уменьшалась, но они не боялись уже сбиться с своего пути.
– Кажется, недалеко отсюда, – сказал Юрий, – я слышу очень ясно…
– И я слышу, боярин, – отвечал Алексей, приостановясь на минуту, – да только этот лай мне вовсе не по сердцу.
– А что такое?
– Ничего, ничего; дай-то бог, чтоб было тут жилье!
Они прошли еще несколько шагов; вдруг черная большая собака с громким лаем бросилась навстречу к Алексею, начала к нему ласкаться, вертеть хвостом, визжать и потом с воем побежала назад. Алексей пошел за нею, но едва он ступил несколько шагов, как вдруг вскричал с ужасом:
– С нами крестная сила! Ну, так… сердце мое чуяло… посмотри-ка, боярин!
Человек в сером армяке, подпоясанный пестрым кушаком, из-за которого виднелась рукоятка широкого турецкого кинжала, лежал на снегу; длинная винтовка в суконном чехле висела у него за спиною, ас правой стороны к поясу привязана была толстая казацкая плеть; татарская шапка, с густым околышем, лежала подле его головы. Собака остановилась подле него и, глядя пристально на наших путешественников, начала выть жалобным голосом.
– Ах, боже мой! – сказал Юрий, – несчастный, он замерз! – Забыв собственную опасность, Юрий наклонился заботливо над прохожим и старался привести его в чувство.
Этот плачевный вид, предвестник собственной их участи, усталость, а более всего обманутая надежда – все это вместе так сильно подействовало на бедного Алексея, что вся бодрость его исчезла. Предавшись совершенному отчаянию, он начал называть по именам всех родных и знакомых своих.
– Простите, добрые люди! – вопил он, – прости, моя Маринушка! Не в добрый час мы выехали из дому: пропали наши головы!
– Полно реветь, Алексей, – сказал Юрий, – поди сюда… Этот бедняк еще жив, он спит, и если нам удастся разбудить его…
– Эх, родной! и мы скоро заснем, чтоб век не просыпаться.
– Не греши, Алексей, бог милостив! Посмотри хорошенько: разве ты не видишь, что здесь снег укатан и наши лошади не вязнут: ведь это дорога.
– Дорога? Постой, боярин… в самом деле… Слава богу! Ну, Юрий Дмитрич, сядем на коней, мешкать нечего.
– А этот бедный прохожий?
– Дай бог ему царство небесное! уж, видно, ему так на роду написано. Поедем, боярин.
– Нет, я попытаюсь спасти его, – сказал Юрий, стараясь привести в чувство полузамерзшего незнакомца.
Минуты две прошло в бесплодных стараниях; наконец, прохожий очнулся, приподнял голову и сказал несколько невнятных слов. Юрий, при помощи Алексея, поставил его на ноги, но он не мог на них держаться.
– Ну, видишь, Юрий Дмитрич, – сказал Алексей, – нам с ним делать нечего! поедем. Из первой деревни мы вышлем за ним сани.
– А пока мы доедем до жилья, он успеет совсем замерзнуть.
– Что ж делать, боярин: своя рубашка к телу ближе!
– Алексей, побойся бога! Разве ты не крещеный?
– Да послушай, Юрий Дмитрич: за тебя я готов в огонь и воду, – ты мой боярин, а умирать за всякого прохожего не хочу; дело другое отслужить по нем панихиду, пожалуй!..
– Молчи… и пособи мне посадить его на твою лошадь.
Алексей замолчал и принялся помогать своему господину. Они не без труда подвели прохожего к лошади; он переступал машинально и, казалось, не слышал и не видел ничего; но когда надобно было садиться на коня, то вдруг оживился и, как будто бы по какому-то инстинкту, вскочил без их помощи на седло, взял в руки повода, и неподвижные глаза его вспыхнули жизнию, а на бесчувственном лице изобразилась живая радость. Черная собака с громким лаем побежала вперед.
– Посмотри, боярин, – сказал Алексей, – он чуть жив, а каким молодцом сидит на коне: видно, что ездок!.. Ого, да он начал пошевеливаться! Тише, брат, тише! Мой Серко и так устал. Однако ж, Юрий Дмитрич, или мы поразогрелись, или погода становится теплее.
– И мне то же кажется.
– Как бы снег не так валил, то нам бы и думать нечего. Эй ты, мерзлый! Полно, брат, гарцевать, сиди смирнее! Ну, теперь отлегло от сердца; а давеча пришлось было так жутко, хоть тут же ложись да умирай… Ахти, постой-ка: никак дорога пошла направо. Мы опять едем целиком.
Тут налево от них послышался лай собаки; незнакомый поворотил в ту сторону.
– Куда ты, земляк? Постой! – вскричал Алексей, схватив за повод лошадь, – или хочешь опять замерзнуть?
Но незнакомый махнул плетью и, протащив несколько шагов за собою Алексея, выехал на большую дорогу.
– Видишь ли, – прошептал он едва внятным голосом, – что моя собака лучше твоего знает дорогу?
– Эге, да ты стал поговаривать! Ну, что, брат, ожил?
Незнакомый не отвечал ничего и, продолжая ехать молча, старался беспрестанным движением разогреть свои оледеневшие члены; он приподнимался на стременах, гнулся на ту и другую сторону, махал плетью и спустя несколько минут запел потихоньку, но довольно твердым голосом:
Гой ты море, море синее! Ты разгулье молодецкое! Ты прости, моя любимая, Красна девица-душа! Не трепать рукою ласковой Щеки алые твои; А трепать ли молодцу Мне широким веслом Волгу-матушку…– Ого, товарищ! – сказал Алексей, – да ты никак совсем обтаял – песенки попеваешь!
– Да, добрые люди, спасибо вам! долго бы мне спать, если бы вы меня не разбудили.
– Откуда ты? – спросил Юрий, – и куда пробираешься?
– Из-под Москвы; а куда иду, и сам еще путем не знаю. Верстах в пяти отсюда неизменный мой товарищ, добрый конь, выбился из сил и пал; я хотел кой-как добрести до первой деревни…
– А кто ты таков?
– Кто я? Как бы вам сказать… Зовут меня Киршею; родом я из Царицына; служил казаком в Батурине, а теперь запорожец.
– Запорожец! – вскричал Алексей, отскочив в сторону.
– Да, – продолжал спокойно прохожий, – я приписан в Запорожской Сечи к Незамановскому куреню и, без хвастовства скажу, не из последних казаков. Мой родной брат – куренной атаман, а дядя был кошевым.
– Помилуй господи! – сказал Алексей. – Запорожский казак и, верно, разбойник!
– Нет, товарищ, напрасно. В удальстве я от других не отставал, а гайдамаком никогда не был.
– Как же ты попал в здешнюю сторону? – спросил с любопытством Юрий.
– А вот как: я года два шатаюсь по белу свету, и там и сям; да что-то в руку нейдет. До меня дошел слух, что в Нижнем Новгороде набирают втихомолку войско; так я хотел попытать счастья и пристать к здешним.
– Против кого?
– А мне что за дело? Про то панство знает, была бы только пожива; ведь стыдно будет вернуться в мой курень с пустыми руками. Другие выставят на улицу чаны с вином и станут потчевать всех прохожих, а мне и кошевому нечего будет поднести.
– Зачем же ты не пристал к войску гетмана Жолкевского?
– Спроси лучше, зачем отстал?
– Так ты беглый?
– Кто? я беглый? – сказал прохожий, приостановя свою лошадь. Этот вопрос был сделан таким голосом, что Алексей невольно схватился за рукоятку своего охотничьего ножа. – Добро, добро, так и быть, – продолжал он, – мне грешно на тебя сердиться. Беглый! Нет, господин честной, запорожцы – люди вольные и служат тому; кому хотят.
– Но разве вы не должны служить королю Сигизмунду?
– Должны! так говорят и старшие, только вряд ли когда запорожский казак будет братом поляку. Нечего сказать, и мы кутили порядком в Чернигове: все божье, да наше! Но жгли ли мы храмы господни? ругались ли верою православною? А эти окаянные ляхи для забавы стреляют в святые иконы! Как бог еще терпит!
– Но все эти беспорядки скоро прекратятся: московские жители добровольно избрали на царство сына короля польского.
– Добровольно! Хороша воля, когда над тобой стоят с дубиною… нехотя закричишь: давай нам королевича Владислава! Нет, господин честной, не пановать над Москвою этому иноверцу. Дай только русским опериться!
– Но, кажется, дело кончено, и когда вся Москва присягнула польскому королевичу…
– Мало ли что кажется! Вот и мне несколько раз казалось, что там направо светит огонек, а теперь ничего не вижу.
– Огонь! где ты видишь? – вскричал Алексей.
– А вон, посмотри: опять показался; видишь – там, как свечка теплится?
Путешественники остановились. Направо, с полверсты от дороги, мелькал огонек; они поворотили в ту сторону, и через несколько минут Алексей, который шел впереди с собакою, закричал радостным голосом:
– Сюда, Юрий Дмитрич, сюда! Вот и плетень! Тише, боярин, тише! околица должна быть левее – здесь. Ну, слава тебе господи! – продолжал он, отворяя ворота. – Доехали!.. и вовремя: слышишь ли, как опять завыл ветер? Да пусть теперь бушует как хочет; нам и горюшки мало: в избе не озябнем.
– А разве мы одни теперь в дороге? – сказал Юрий, глядя с беспокойством на ужасный вихрь, который снова свирепствовал в поле.
– Кому быть убиту, тот не замерзнет, – прошептал Кирша, въезжая в околицу.
II
Деревушка, в которую въехали наши путешественники, находилась в близком расстоянии от зимней дороги, на небольшом возвышении, которое во время разлива не понималось водою. Несколько дымных лачужек, разбросанных по скату холма, окружали избу, менее других походящую на хижину. Красное окно, в котором вместо стекол вставлена была напитанная маслом полупрозрачная холстина, обширный крытый двор, а более всего звуки различных голосов и громкий гул довольно шумной беседы, в то время как во всех других хижинах царствовала глубокая тишина, – все доказывало, что это постоялый двор и что не одни наши путешественники искали в нем приюта от непогоды.
Домашний простонародный быт тогдашнего времени почти ничем не отличался от нынешнего; внутреннее устройство крестьянской избы было то же самое: та же огромная печь, те же полати, большой стол, лавки и передний угол, украшенный иконами святых угодников.
В течение двух столетий изменились только некоторые мелкие подробности: в наше время в хорошей белой избе обыкновенно кладется печь с трубою, а стены украшаются иногда картинками, представляющими «Шемякин суд» или «Мамаево побоище»; в семнадцатом веке эта роскошь была известна одним боярам и богатым купцам гостиной сотни (2). Следовательно, читателям нетрудно будет представить себе внутренность постоялого двора, в котором за большим дубовым столом сидело несколько проезжих. Пук горящей лучины, воткнутый в светец, изливал довольно яркий свет на все общество; по остаткам хлеба и пустым деревянным чашам можно было догадаться, что они только что отужинали и вместо десерта запивали гречневую кашу брагою, которая в большой медной ендове стояла посреди стола. Вдоль стены на лавке сидели трое проезжих; один из них, одетый в лисью шубу, говорил с большим жаром, не забывая, однако же, подливать беспрестанно из ендовы в свою дорожную кружку. Оба его соседа, казалось, слушали его с большим вниманием и с почтением отодвигались каждый раз, когда оратор, приходя в восторг, начинал размахивать руками. С первого взгляда можно было отгадать, что человек в лисьей шубе – зажиточный купец, а оба внимательные слушатели – его работники. Насупротив их сидел в красном кафтане, с привешенною к кушаку саблею, стрелец; шапка с остроконечною тульею лежала подле него на столе; он также с большим вниманием, но вместе и с приметным неудовольствием слушал купца, рассказ которого, казалось, производил совершенно противное действие на соседа его – человека среднего роста, с рыжей бородою и отвратительным лицом. В косых глазах его, устремленных на рассказчика, блистала злобная радость; он беспрестанно вертелся на скамье, потирал руки и казался отменно довольным. Трудно было бы отгадать, к какому классу людей принадлежал этот последний, если б от беспрестанного движения не распахнулся его смурый однорядок и не открылись вышитые красной шерстью на груди его кафтана две буквы: З и Я, означавшие, что он принадлежит к числу полицейских служителей, которые в то время назывались… я боюсь оскорбить нежный слух моих читателей, но, соблюдая сколь возможно историческую истину, должен сказать, что их в семнадцатом столетии называли земскими ярыжками. В переднем углу, под образами, сидел человек лет за сорок, одетый весьма просто; черная окладистая борода, высокий лоб, покрытый морщинами, а более всего орлиный, быстрый взгляд отличали его от других. Смуглое, исполненное жизни лицо его выражало глубокую задумчивость и какое-то грозное спокойствие человека, уверенного в необычайной своей силе; широкие плеча, жилистые руки, высокая богатырская грудь – все оправдывало эту последнюю догадку. Облокотясь небрежно на стол, он, казалось, не обращал никакого внимания на своих соседей и только изредка поглядывал на полицейского служителя: ничем неизъяснимое презрение изображалось тогда в глазах его, и этот взгляд, быстрый, как молния, которая, блеснув, в минуту потухает, становился снова неподвижным, выражая опять одну задумчивость и совершенное равнодушие к общему разговору.
– Помилуй господи!.. – вскричал стрелец, когда человек в лисьей шубе кончил свой рассказ, – неужто в самом деле вся Москва целовала крест этому иноверцу? (3)
– Разве ты не слышишь? – сказал земский. – И чему дивиться? Плетью обуха не перешибешь; да и что нам, мелким людям, до этого за дело?
– Как что за дело! – возразил купец, который между тем осушил одним глотком кружку браги, – да разве мы не православные? Мало ли у нас князей и знаменитых бояр? Есть из кого выбрать. Да вот не далеко идти: хоть, например, князь Димитрий Михайлович Пожарский…
– Нашел человека! – подхватил земский. – Князь Пожарский!.. – повторил он с злобной улыбкою, от которой безобразное лицо его сделалось еще отвратительнее. – Нет, хозяин, у него поляки отбили охоту соваться туда, куда не спрашивают. Небойсь хватился за ум, убрался в свою Пурецкую волость да вот уже почти целый год тише воды ниже травы, чай, и теперь еще бока побаливают.
– Да и поляки-то, брат, не скоро его забудут, – сказал стрелец, ударив рукой по своей сабле. – Я сам был в Москве и поработал этой дурою, когда в прошлом марте месяце, помнится, в день святого угодника Хрисанфа, князь Пожарский принялся колотить этих незваных гостей. То-то была свалка!.. Мы сделали на Лубянке, кругом церкви Введения божией матери, засеку и ровно двое суток отгрызались от супостатов…
– А на третьи насилу ноги уплели!
– Что ж делать, товарищ: сила солому ломит. Сам гетман нагрянул на нас со всем войском…
– И, чай, Пожарский первый дал тягу? Говорят, он куда легок на ногу.
Тут молчаливый проезжий бросил на земского один из тех взглядов, о которых мы говорили; правая рука его, со сжатым кулаком, невольно отделилась от стола, он сам приподнялся до половины… но прежде, чем кто-нибудь из присутствовавших заметил это движение, проезжий сидел уже, облокотясь на стол, и лицо его выражало по-прежнему совершенное равнодушие.
– Послушай, товарищ, – сказал стрелец, посмотрев молча несколько времени на земского, – кажется, ты не о двух головах!
– Так что ж?
– А то, любезный, что другой у тебя не останется, как эту сломят. Ну, пристало ли земскому ярыжке говорить такие речи о князе Пожарском? Я человек смирный, а у другого бы ты первым словом подавился! Я сам видел, как князя Пожарского замертво вынесли из Москвы. Нет, брат, он не побежит первый, хотя бы повстречался с самим сатаною, на которого, сказать мимоходом, ты с рожи-то очень похож.
Осанистый купец улыбнулся, его работники громко захохотали, а земский, не смея отвечать стрельцу, ворчал про себя: «Бранись, брат, бранись, брань на вороту не виснет. Вы все стрельцы – буяны. Да не долго вам храбровать… скоро язычок прикусите!»
– Господин земский, – сказал с важностию купец, – его милость дело говорит: не личит нашему брату злословить такого знаменитого боярина, каков светлый князь Димитрий Михайлович Пожарский.
– Да я не свои речи говорю, – возразил земский, оправясь от первого испуга. – Боярин Кручина-Шалонский не хуже вашего Пожарского, – послушайте-ка, что о нем рассказывают.
– Боярин Кручина-Шалонский? – повторил купец. – Слыхали мы об его уме и дородстве!.. У нас в Балахне рассказывали, что этот боярин Шалонский…
– Ведет хлеб-соль с поляками, – подхватил стрелец. – Ну да, тот самый! Какой он русский боярин! хуже басурмана: мучит крестьян, разорил все свои отчины, забыл бога и даже – прости господи мое согрешение! – прибавил он, перекрестясь и посмотрев вокруг себя с ужасом, – и даже говорят, будто бы он… вымолвить страшно… ест по постам скоромное?
– Ах он безбожник! – вскричал купец, всплеснув руками. – И господь бог терпит такое беззаконие!
– Потише, хозяин, потише! – сказал земский. – Боярин Шалонский помолвил дочь свою за пана Гонсевского, который теперь гетманом и главным воеводою в Москве: так не худо бы иным прочим держать язык за зубами. У гетмана руки длинные, а Балахна не за тридевять земель от Москвы, да и сам боярин шутить не любит: неравно прилучится тебе ехать мимо его поместьев с товарами, так смотри, чтоб не продать с накладом!..
– Оборони господи! – вскричал купец, побледнев от страха, – да я, государь милостивый, ничего не говорю, видит бог, ничего! Мы люди малые, что нам толковать о боярах…
– А куда ваша милость едет? – продолжал земский. – Не назад ли в Балахну?
– На что тебе, добрый человек?
– Да так!.. Большая дорога идет через боярское село, а проселочных теперь нет; так волей или неволей, а тебе придется заехать к боярину. Ему, верно, нужны всякие товары.
– Да со мною ничего нет; видит бог, ничего! Все продал в Костроме.
– И, верно, на чистые денежки?
– Какие чистые! Всё в долг! Разоренье да и только!
– А вот я бы побожился, что у тебя за пазухой целый мешок денег: посмотри, как левая сторона отдулась!
Холодный пот выступил на лбу у бедного купца; он невольно опустил руку за пазуху и сказал вполголоса, стараясь казаться спокойным:
– Смотри, пожалуй… в самом деле! кажись будто много, а всего-то на все две-три новогородки[50] да алтын пять медных денег: не знаю, с чем до дому доехать!
– Жаль, хозяин, – продолжал земский, – что у тебя в повозках, хоть, кажется, в них и много клади, – прибавил он, взглянув в окно, – не осталось никаких товаров: ты мог бы их все сбыть. Боярин Шалонский и богат и тароват. Уж подлинно живет по-барски: хоромы, как царские палаты, холопей полон двор, мяса хоть не ешь, меду хоть не пей; нечего сказать – разливанное море! Чай, и вы о нем слыхали? – прибавил он, оборотясь к хозяину постоялого двора.
– Как-ста не слыхать, господин честной, – отвечал хозяин, почесывая голову. – И слыхали и видали: знатный боярин!..
– А уж какой благой, бог с ним! – примолвила хозяйка, поправляя нагоревшую лучину.
– Молчи, баба, не твое дело.
– Вестимо, не мое, Пахомыч. А каково-то нашему соседу, Васьяну Степанычу? Поспрошай-ка у него.
– А что такое он сделал с вашим соседом? – спросил стрелец.
– А вот что, родимый. Сосед наш, убогий помещик, один сын у матери. Опомнясь боярин зазвал его к себе пображничать: что ж, батюшка?.. для своей потехи зашил его в медвежью шкуру, да и ну травить собакою! И, слышь ты, они, и барин и собака, так остервенились, что насилу водой разлили. Привезли его, сердечного, еле жива, а бедная-то барыня уж вопила, вопила!.. Легко ль! неделю головы не приподымал!
– Ах ты простоволосая! – сказал земский. – Да кому ж и тешить боярина, как не этим мелкопоместным? Ведь он их поит и кормит да уму-разуму научает. Вот хотя и ваш Васьян Степанович, давно ли кричал: «На что нам польского королевича!», а теперь небойсь не то заговорил!..
– Да, кормилец, правда. Он говорит, что все будет по-старому. Дай-то господь! Бывало, придет Юрьев день, заплатишь поборы, да и дело с концом: люб помещик – остался, не люб – пошел куда хошь.
– А вам бы только шататься да ничего не платить, – сказал стрелец.
– Как-ста бы не платить, – отвечал хозяин, – да тяга больно велика: поборы поборами, а там, как поедешь в дорогу: головщина, мыт, мостовщина…
– Вот то-то же, глупые головы, – прервал земский, – что вам убыли, если у вас старшими будут поляки? Да и где нам с ними возиться! Недаром в писании сказано: «Трудно прать против рожна». Что нам за дело, кто будет государствовать в Москве: русский ли царь, польский ли королевич? было бы нам легко.
Тут деревянная чаша, которая стояла на скамье в переднем углу, с громом полетела на пол. Все взоры обратились на молчаливого проезжего: глаза его сверкали, ужасная бледность покрывала лицо, губы дрожали; казалось, он хотел одним взглядом превратить в прах рыжего земского.
– Что с тобою, добрый человек? – сказал стрелец после минутного общего молчания.
Незнакомый как будто бы очнулся от сна: провел рукою по глазам, взглянул вокруг себя и прошептал глухим, отрывистым голосом:
– Тьфу, батюшки! Смотри, пожалуй! никак я вздремнул!
– И верно, тебе померещилось что ни есть страшное? – спросил купец.
– Да!.. я видел и слышал сатану.
Купец перекрестился, работники его отодвинулись подалее от незнакомца, и все с каким-то ужасом и нетерпением ожидали продолжения разговора; но проезжий молчал, а купец, казалось, не смел продолжать своих вопросов. В эту минуту послышался на улице конский топот.
– Чу! – сказал хозяин, – никак еще проезжие! Слышишь, жена, Жучка залаяла! Ступай посвети.
Ворота заскрипели, громкий незнакомый лай, на который Жучка отвечала робким ворчаньем, раздался на дворе, и через минуту Юрий вместе с Киршею вошли в избу.
III
– Хлеб да соль, добрые люди! – сказал Юрий, помолясь иконам.
– Милости просим! – отвечал хозяин.
– Ах, сердечный! – вскричала хозяйка, – смотри, как тебя занесло снегом! То-то, чай, назябся!
– А вот отогреемся, – сказал Кирша, помогая Юрию скинуть покрытый снегом охабень.
– Да это никак боярин, – шепнула хозяйка своему мужу.
Скинув верхнее платье, Юрий остался в малиновом, обшитом галунами полукафтанье; к шелковому кушаку привешена была польская сабля; а через плечо на серебряной цепочке висел длинный турецкий пистолет. Остриженные в кружок темно-русые волосы казались почти черными от противоположности с белизною лица, цветущего юностью и здоровьем; отвага и добродушие блистали в больших голубых глазах его; а улыбка, с которою он повторил свое приветствие, подойдя к столу, выражала такое радушие, что все проезжие, не исключая рыжего земского, привстав, сказали в один голос: «Милости просим, господин честной, милости просим!» – и даже молчаливый незнакомец отодвинулся к окну и предложил ему занять почетное место под образами.
– Спасибо, добрый человек! – сказал Юрий. – Я больно прозяб и лягу отогреться на печь.
– Откуда твоя милость? – спросил купец.
– Из Москвы, хозяин.
– Из Москвы! А что, господин честной, точно ли правда, что там целовали крест королевичу Владиславу?
– Правда.
– Вот тебе и царствующий град! – вскричал стрелец. – Хороши москвичи! По мне бы уже лучше покориться Димитрию.
– Покориться? кому? – сказал земский. – Самозванцу?.. Тушинскому вору?..
– Добро, добро! называй его как хочешь, а все-таки он держится веры православной и не поляк; а этот королевич Владислав, этот еретик…
– Слушай, товарищ! – сказал Юрий с приметным неудовольствием, – я до ссор не охотник, так скажу наперед: думай что хочешь о польском королевиче, а вслух не говори.
– А почему бы так?
– А потому, что я сам целовал крест королевичу Владиславу и при себе не дам никому ругаться его именем.
Сожаление и досада изобразились на лице молчаливого проезжего. Он смотрел с каким-то грустным участием на Юрия, который, во всей красоте отвагой кипящего юноши, стоял, сложив спокойно руки, и гордым взглядом, казалось, вызывал смельчака, который решился бы ему противоречить. Стрелец, окинув взором все собрание и не замечая ни на одном лице охоты взять открыто его сторону, замолчал. Несколько минут никто не пытался возобновить разговора; наконец, земский, с видом величайшего унижения, спросил у Юрия:
– Скоро ли пресветлый королевич польский прибудет в свой царствующий град Москву?
– Его ожидают, – отвечал Юрий отрывисто.
– А что, ваша милость, чай, уж давным-давно и послы в Польшу отправлены?
– Нет, не в Польшу, – сказал громким голосом молчаливый незнакомец, – а под Смоленск, который разоряет и морит голодом король польский в то время, как в Москве целуют крест его сыну.
Юрий приметным образом смутился.
– Уж эти смоляне! – вскричал земский. – Поделом, ништо им! Буяны!.. Чем бы встретить батюшку, короля польского, с хлебом да с солью, они, разбойники, и в город его не пустили!
– Эх, господин земский! – возразил купец, – да ведь он пришел с войском и хотел Смоленском владеть, как своей отчиной.
– Так что ж? – продолжал земский. – Уж если мы покорились сыну, так отец волен брать что хочет. Не правда ли, ваша милость?
Лицо Юрия вспыхнуло от негодования.
– Нет, – сказал он, – мы не для того целовали крест польскому королевичу, чтоб иноплеменные, как стая коршунов, делили по себе и рвали на части святую Русь! Да у кого бы из православных поднялась рука и язык повернулся присягнуть иноверцу, если б он не обещал сохранить землю русскую в прежней ее славе и могуществе?
– И, государь милостивый! – подхватил земский, – можно б, кажется, поклониться королю польскому Смоленском. Не важное дело один городишко! Для такой радости не только от Смоленска, но даже от пол-Москвы можно отступиться.
– Я повторяю еще, – сказал Юрий, не обращая никакого внимания на слова земского, – что вся Москва присягнула королевичу; он один может прекратить бедствие злосчастной нашей родины, и если сдержит свое обещание, то я первый готов положить за него мою голову. Но тот, – прибавил он, взглянув с презрением на земского, – тот, кто радуется, что мы для спасения отечества должны были избрать себе царя среди иноплеменных, тот не русский, не православный и даже – хуже некрещеного татарина!
Молчаливый незнакомец с живостию протянул свою руку Юрию; глаза его, устремленные на юношу, блистали удовольствием. Он хотел что-то сказать; но Юрий, не заметив этого движения, отошел от стола, взобрался на печь и, разостлав свой широкий охабень, лег отдохнуть.
– А что, – спросил Кирша у хозяина, – чай, проезжие гости не все у тебя приели?
– Щей нет, родимый, – отвечал хозяин, – а есть только толокно да гречневая каша.
– И на том спасибо! Давай-ка их сюда.
– А его милость что будет кушать? – спросила заботливо хозяйка, показывая на Юрия.
– Не хлопочи, тетка, – сказал Алексей, войдя в избу, – в этой кисе есть что перекусить. Вот тебе пирог да жареный гусь, поставь в печь… Послушайте-ка, добрые люди, – продолжал он, обращаясь к проезжим, – у кого из вас гнедой конь с длинной гривою?
– Это мой жеребец, – отвечал молчаливый незнакомец.
– Ой ли? Ну, брат, какой знатный конь! Жаль, если он себе на какой-нибудь рожон бок напорет! Ступай-ка скорей: он отвязался и бегает по двору.
Незнакомый вскочил и вышел поспешно из избы.
– Что это за пугало? Не знаешь ли, кто он? – спросил земский у хозяина.
– А бог весть кто! – отвечал хозяин. – Кажись, не наш брат крестьянин: не то купец, не то посадский…
– Откуда он едет?
– Господь его знает! Вишь, какой леший, слова не вымолвит!
– Да! у него лицо не миловидное, – заметил купец. – Под вечер я не хотел бы с ним в лесу повстречаться.
– А какой ражий детина! – примолвил стрелец, – я таких богатырских плеч сродясь не видывал.
Между тем Алексей и Кирша сели за стол.
– Ну, брат, – сказал Алексей, – тесненько нам будет: на полатях лежат ребятишки, а по лавкам-то спать придется нам сидя.
– Молчи! будет просторно, – шепнул Кирша, принимаясь есть толокно.
Купец, который не смел обременять вопросами Юрия, хотел воспользоваться случаем и поговорить вдоволь с его людьми. Дав время Алексею утолить первый голод, он спросил его: давно ли они из Москвы?
– Седьмой день, хозяин, – отвечал Алексей. – Словно волов гоним! День стоим, два едем. Вишь, какую погоду бог дает!
– А что, вы московские уроженцы?
– Как же! мы оба с барином природные москвичи.
– Так вы и при Гришке Отрепьеве жили в Москве?
– Вестимо, хозяин! Я был и в Кремле, как этот еретик, видя беду неминучую, прыгнул в окно. Да, видно, черт от него отступился: не кверху, а книзу полетел, проклятый!
– Ему бы поучиться летать у жены своей, Маринки, – сказал стрелец. – Говорят, будто б эта ведьма, когда приступили к царским палатам, при всех обернулась сорокою, да и порх в окно!.. Чему ж ты ухмыляешься? – продолжал он, обращаясь к купцу. – Чай, и до тебя этот слух дошел?
– Не всякому слуху верь, – сказал с важностию купец.
– Знаю, знаю! вы люди грамотные, ничему не верите.
– Ученье свет, а неученье тьма, товарищ. Мало ли что глупый народ толкует! Так и надо всему верить? Ну, рассуди сам: как можно, чтоб Маринка обернулась сорокою? Ведь она родилась в Польше, а все ведьмы родом из Киева.
– Оно, кажись, и так, хозяин, – продолжал стрелец, почти убежденный этим доказательством, – однако ж вся Москва говорит об этом.
– Да она и теперь еще около Москвы летает, – сказал Кирша, положа на стол деревянную ложку, которою ел толокно.
– Неужели в самом деле? – вскричал купец.
– Я сам ее видел, – продолжал спокойно запорожец.
– Как видел?
– А вот так же, хозяин, как вижу теперь, что у тебя в этой фляжке романея. Не правда ли?
– Ну, да; так что ж?
– Ничего.
– Но где ж ты ее видел?
– Где? Как бы тебе сказать?.. Не припомню… у меня морозом всю память отшибло.
– Добро, добро, – сказал купец, – дай-ка сюда свой стакан…
– Спасибо! Да наливай полнее… Хорошо! Ну, слушай же, – продолжал запорожец, выпив одним духом весь стакан, – я видел Маринку в Тушине, только лгать не хочу: на сороку она вовсе не походит.
– В Тушине?
– Да, в Тушине, вместе с Димитрием, которого вы называете вторым самозванцем, а она величает своим мужем.
– Вот что!.. Так ты и Тушинского вора знаешь?
– Как не знать!
– Правда ли, что он молодчина собою? – спросил стрелец.
– Какой молодчина!.. Ни дать ни взять польский жид. Вот второй гетман его войска, пан Лисовский, так нечего сказать – удалая голова!
– Лисовский! – вскричал купец. – Этот злодей!.. душегубец!..
– Да, хозяин, где он пройдет с своими сорванцами, там хоть шаром покати! – все чисто: ни кола ни двора. Но зато на схватке всегда первый и готов за последнего из своих налетов сам лечь головою – лихой наездник!
– Так ты его знаешь? – спросил купец.
– Как не знать! Дай-ка, хозяин, еще стаканчик… За твое здоровье!..
– Говорят, у этого Лисовского, – сказал купец, спрятав за пазуху свою фляжку, – такое демонское лицо, что он и на человека не походит.
– Да, он не красив собою, – продолжал Кирша. – Я знаю только одного удальца, у которого лицо смуглее и усы чернее, чем у пана Лисовского. Прежде этого молодца не меньше Лисовского боялись…
– А теперь? – спросил купец.
– Теперь он, чай, шатается по лесу и страшен только для вашей братьи купцов.
– Кто ж этот человек?
– Кто этот человек?.. Кой прах! у меня опять в горле пересохло… Дай-ка, хозяин, свою фляжку… Спасибо! – продолжал Кирша, осушив ее до дна. – Ну, что бишь я говорил?
– Ты говорил о каком-то человеке, – сказал купец, – который, по твоим словам, страшнее Лисовского.
– Да, да, вспомнил! этот верзила был есаулом у разбойничьего атамана Хлопки…
– У которого, – сказал земский, – было в шайке тысяч двадцать разбойников и которого еще при царе Борисе…
– Разбил боярин Басманов, – прервал Кирша. – Ну да; самого Хлопку-то убили, а есаул его ускользнул. Да вы, чай, о нем слыхали? Он прозывается Чертов Ус.
– Как не слыхать, – сказал купец. – Оборони господи! Говорят, этот Чертов Ус злее своего бывшего атамана.
– А пуще-то всего он не жалует губных старост да земских, – примолвил Кирша. – Кругом Калуги не осталось деревца, на котором бы не висело хотя по одному земскому ярыжке.
– Разбойник! – закричал земский.
– А разве ты его знавал? – спросил купец запорожца.
– Знакомства с ним не водил, а видать видал.
– Где же ты видел?
– Я видел его два раза, – отвечал Кирша. – Первый раз в Калуге, где была у него разбойничья пристань; а во второй… – прибавил он вполголоса, но так, что все его слышали, – а во второй раз – я видел его здесь.
– Как здесь?.. – вскричал купец, помертвев от ужаса.
– Давно ли? – спросил земский заикаясь.
– Сегодня, – отвечал равнодушно Кирша.
– Сегодня?.. – повторил купец глухим, прерывающимся голосом. – С нами крестная сила! Да где ж он?..
– Сейчас сидел вон там – в переднем углу, под образами.
– Так это он! – вскричал купец, и все взоры обратились невольно на пустой угол. Несколько минут продолжалось мертвое молчание, потом все пришло в движение на постоялом дворе. Алексей хотел разбудить своего господина, но Кирша шепнул ему что-то на ухо, и он успокоился. Купец и его работники едва дышали от страха; земский дрожал; стрелец посматривал молча на свою саблю; но хозяин и хозяйка казались совершенно спокойными.
– Да чего мы так перепугались? – сказал стрелец, собравшись с духом. – Нас много, а он один.
– А бог весть, один ли! – возразил земский. – Он что-то часто в окно поглядывал.
– Да, да, – подхватил дрожащим голосом купец, – он точно кого-то дожидался. А за поясом у него… видели, какой ножище? аршина в два!
– Слушай, хозяин, – сказал торопливо земский, – беги скорей на улицу, вели ударить в набат!..
– Эк-ста, что выдумал! В набат! – отвечал хозяин. – Да разве здесь село? У нас и церкви нет.
– Все равно! сделай тревогу, сбери народ!.. Да скачи скорей к губному старосте[51]; он верстах в пяти отсюда и мигом прикатит с объезжими.
– Что ты, бог с тобою! – вскричала хозяйка. – Да разве нам белый свет опостылел! Станем мы ловить разбойника! Небойсь наш губной староста не приедет гасить, как товарищи этого молодца зажгут с двух концов нашу деревню! Нет, кормилец, ступай себе, лови его на большой дороге; а у нас в дому не тронь.
– Дура! – сказал стрелец, – да разве ты не боишься, что он вас ограбит?
– И, батюшка, около нас какая пожива! Проводим его завтра с хлебом да с солью, так он же нам спасибо скажет.
– Да нам и не впервой, – прибавил хозяин. – У нас стаивали не раз, – вот эти, что за польским-то войском таскаются… как бишь их зовут?.. да! лагерная челядь. Почище наших разбойников, да и тут бог миловал!
– Ну, как хотите, – сказал купец, – ловите его или нет, а я минуты здесь не останусь, благо погода унялась. Ступайте, ребята, запрягайте лошадей! да бога ради проворнее.
– Так и я с тобою, – сказал стрелец. – Тебе будет поваднее со мною ехать; видишь, у меня есть чем оборониться.
– Возьмите уж и меня, – прибавил вполголоса земский, – я здесь ни за что один не останусь. Видите ли, – продолжал он, показывая на Киршу и Алексея, – мы все в тревоге, а они и с места не тронулись; а кто они? Бог весть!
– Правда, правда! – шепнул купец, поглядывая робко на Киршу. – Посмотрите-ка, у этого озорника, что вытянул всю мою флягу, нож, сабля… а рожа-то какая, рожа!.. Ух, батюшки! Унеси господь скорее!..
Двери отворились, и незнакомый вошел в избу. Купец с земским прижались к стене, хозяин и хозяйка встретили его низкими поклонами; а стрелец, отступив два шага назад, взялся за саблю. Незнакомый, не замечая ничего, несколько раз перекрестился, молча подостлал под голову свою шубу и расположился на скамье, у передних окон. Все проезжие, кроме Кирши и Алексея, вышли один за другим из избы.
– Теперь растолкуй мне, Кирша, – сказал вполголоса Алексей, – что тебе вздумалось назвать разбойником этого проезжего?
– Как что? Посмотри, какой простор!.. На любой лавке ложись!
– Ну, а как он об этом узнает?
– Так мне же скажет спасибо.
– Есть за что; а если его схватят?..
– Ах ты голова, голова! То ли теперь время, чтоб хватать разбойников? Теперь-то им и житье: все их боятся, а ловить их некому. Погляди, какая честь будет этому проезжему: хозяин с него и за постой не возьмет.
Через несколько минут купец, в провожании земского и стрельца, расплатясь с хозяином, съехал со двора. Кирша отворил дверь, свистнул, и его черная собака вбежала в избу.
– Теперь и тебе будет место, – сказал он, бросив ей большой ломоть хлеба. – Поужинай, Зарез, поужинай, голубчик! Ты, чай, больно проголодался.
Это напомнило Алексею, что барин его также еще не ужинал; но, видя, что Юрий спит крепким сном, он не решился будить его.
– Скажи-ка мне, – спросил запорожец, ложась на скамью подле Алексея, – верно, у твоего боярина есть на сердце кручина? Не по летам он что-то пасмурен.
– Да, брат, есть горе.
– Что, чай, сокрушила молодца красна девица?
– Вот то-то и беда! Изволишь видеть…
Тут Алексей, понизив голос, стал что-то рассказывать Кирше, который, выслушав спокойно, сказал:
– Эх, любезный, жаль, что твой боярин не запорожский казак! У нас в куренях от этого не сохнут; живем, как братья, а сестер нам не надобно (4). От этих баб везде беда. Доброй ночи, товарищ!
Скоро все утихло на постоялом дворе, и только от времени до времени на полатях принимались реветь ребятишки; но заботливая мать попеременно то колотила их, то набивала им рот кашею, и все через минуту приходило в прежний порядок и тишину.
IV
Еще вторые петухи не пропели, как вдруг две тройки примчались к постоялому двору. Густой пар валил от лошадей, и, в то время как из саней вылезало несколько человек, закутанных в шубы, усталые кони, чувствуя близость ночлега, взрывали копытами глубокий снег и храпели от нетерпения.
– Гей! отпирайте проворней!.. – раздался под окном грубый голос. – Да ну же, поворачивайтесь! не то ворота вон!
Пока хозяйка вздувала огонь, а хозяин слезал с полатей, нетерпение вновь приехавших дошло до высочайшей степени; они стучали в ворота, бранили хозяина, а особливо один, который испорченным русским языком, примешивая ругательства на чистом польском, грозился сломить хозяину шею. На постоялом дворе все, кроме Юрия, проснулись от шума. Наконец, ворота отворились, и толстый поляк, в провожании двух казаков, вошел в избу. Казаки, войдя, перекрестились на иконы, а поляк, не снимая шапки, закричал сиповатым басом:
– Гей! хозяин! что у тебя здесь за челядь? Вон все отсюда!.. Эй; вы! оглохли, что ль? Вон, говорят вам!
Молчаливый проезжий приподнял голову и, взглянув хладнокровно на поляка, опустил ее опять на изголовье. Алексей и Кирша вскочили; последний, протирая глаза, глядел с приметным удивлением на пана, который, сбросив шубу, остался в одном кунтуше, опоясанном богатым кушаком.
Если б нужно было живописцу изобразить воплощенную – не гордость, которая, к несчастию, бывает иногда пороком людей великих, но глупую спесь – неотъемлемую принадлежность душ мелких и ничтожных, – то, списав самый верный портрет с этого проезжего, он достиг бы совершенно своей цели. Представьте себе четвероугольное туловище, которое едва могло держаться в равновесии на двух коротких и кривых ногах; величественно закинутую назад голову в превысокой косматой шапке, широкое, багровое лицо; огромные, оловянного цвета, круглые глаза; вздернутый нос, похожий на луковицу, и бесконечные усы, которые не опускались книзу и не подымались вверх, но в прямом, горизонтальном направлении, казалось, защищали надутые щеки, разрумяненные природою и частым употреблением горелки. Спесь, чванство и глупость, как в чистом зеркале, отражались в каждой черте лица его, в каждом движении и даже в самом голосе, который, переходя беспрестанно из охриплого баса в сиповатый дишкант, изображал попеременно то надменную волю знаменитого вельможи, уверенного в безусловном повиновении, то неукротимый гнев грозного повелителя, коего приказания не исполняются с должной покорностью.
Меж тем как этот проезжий отдавал казакам какие-то приказания на польском языке, Кирша не переставал на него смотреть. На лице запорожца изображались попеременно совершенно противоположные чувства: сначала, казалось, он удивился и, смотря на странную фигуру поляка, старался что-то припомнить; потом презрение изобразилось в глазах его. Через минуту они заблистали веселостью и почти в то же время, при встрече с гордым взглядом поляка, изъявляли глубочайшую покорность, которую, однако ж, трудно было согласить с насмешливой улыбкою, едва заметною, но не менее того выразительною.
– Ну, что ж вы стали? – сказал пан грозным басом, оборотясь снова к Алексею и Кирше. – Иль не слышали?.. Вон отсюда!
Повелительный голос поляка представлял такую странную противоположность с наружностию, которая возбуждала чувство, совершенно противное страху, что Алексей, не думая повиноваться, стоял как вкопанный, глядел во все глаза на пана и кусал губы, чтоб не лопнуть со смеху.
– Цо то есть! – завизжал дишкантом поляк. – Ах вы москали! Да знаете ли, кто я?
– Не гневайся, ясновельможный пан! – сказал с низким поклоном Кирша. – Мы спросонья не рассмотрели твоей милости. Дозволь нам хоть в уголку остаться. Вот лишь рассветет, так мы и в дорогу.
– А это что за неуч растянулся на скамье? – продолжал пан, взглянув на молчаливого прохожего. – Гей ты, олух!
Незнакомый приподнялся, но, вместо того чтобы встать, сел на скамью и спросил хладнокровно у поляка: чего он требует?
– Пошел вон из избы!
– Мне и здесь хорошо.
– И ты еще смеешь рассуждать! Вон, говорят тебе!
– Слушай, поляк, – сказал незнакомый твердым голосом, – постоялый двор не для тебя одного выстроен; а если тебе тесно, так убирайся сам отсюда.
– Цо то есть? – заревел поляк. – Почекай, москаль, почекай[52]. Гей, хлопцы! вытолкайте вон этого грубияна.
– Вытолкать? меня?.. Попытайтесь! – отвечал незнакомый, приподымаясь медленно со скамьи. – Ну, что ж вы стали, молодцы? – продолжал он, обращаясь к казакам, которые, не смея тронуться с места, глядели с изумлением на колоссальные формы проезжего. – Что, ребята, видно – я не по вас?
– Рубите этого разбойника! – закричал поляк, пятясь к дверям. – Рубите в мою голову!
– Нет, господа честные, прошу у меня не буянить, – сказал хозяин. – А ты, добрый человек, никак забыл, что хотел чем свет ехать? Слышишь, вторые петухи поют?
– И впрямь пора запрягать, – сказал торопливо проезжий и, не обращая никакого внимания на поляка и казаков, вышел вон из избы.
– Ага! догадался! – сказал поляк, садясь в передний угол. – Счастлив ты, что унес ноги, а не то бы я с тобою переведался. Hex их вшисци дьябли везмо![53] Какие здесь буяны! Видно, не были еще в переделе у пана Лисовского.
– Пана Лисовского? – повторил Кирша. – А ваша милость его знает?
– Как не знать! – отвечал поляк, погладив с важностью свои усы. – Мы с ним приятели: побратались на ратном поле, вместе били москалей…
– И, верно, под Троицким монастырем? – прервал запорожец.
Поляк поглядел пристально на Киршу и, поправя свою шапку, продолжал важным голосом:
– Да, да! под Троицким монастырем, из которого москали не смели днем и носу показывать.
– Прошу не погневаться, – возразил Кирша, – я сам служил в войске гетмана Сапеги, который стоял под Троицею, и, помнится, русские колотили нас порядком; бывало, как случится: то днем, то ночью. Вот, например, помнишь, ясновельможный пан, как однажды поутру, на монастырском капустном огороде?.. Что это ваша милость изволит вертеться? Иль неловко сидеть?
– Ничего, ничего… – отвечал поляк, стараясь скрыть свое смущение.
– Как теперь гляжу, – продолжал Кирша, – на этом огороде лихая была схватка, и пан Лисовский один за десятерых работал.
– Да, да, – прервал поляк, – он дрался как черт! Я смело это могу говорить потому, что не отставал от него ни на минуту.
– Так поэтому, ясновельможный, ты был свидетелем, как он наткнулся на одного молодца, который во время драки, словно заяц, притаился между гряд, и как пан Лисовский отпотчевал этого труса нагайкою?
Оловянные глаза поляка завертелись во все стороны, а багровый нос засверкал, как уголь.
– Как нагайкой? – вскричал он. – Кого нагайкой?.. Это вздор!.. Этого никогда не было!
– Помилуй, как не было! – продолжал Кирша. – Да об этом все войско Сапеги знает. Этот трусишка служил в регименте Лисовского товарищем и, помнится, прозывался… да, точно так… паном Копычинским.
– Неправда, не верьте ему! – закричал поляк, обращаясь к казакам. – Это клевета!.. Копычинского не только Лисовский, но и сам черт не смел бы ударить нагайкою: он никого не боится!
– Да что ж за нелегкая угораздила его завалиться между гряд в то время, как другие дрались?
– Что? как что?.. Да кто тебе сказал, что я лежал между гряд?
– Ага! так это ты, ясновельможный? Прошу покорно, чего злые люди не выдумают! Ведь точно говорят, что Лисовский тебя поколотил и что если б на другой день ты не бежал в Москву, то он для острастки других непременно бы тебя повесил.
– Какой вздор, какой вздор! – перервал поляк, стараясь казаться равнодушным. – Да что с тобою говорить! Гей, хозяин, что у тебя есть? Я хочу поужинать.
– Ахти, кормилец! – отвечал хозяин. – Да у меня ничего, кроме хлеба, не осталось.
– Как ничего?
– Видит бог, ничего!.. Была корчага каши, толокно и горшок щей, да всё проезжие поели.
– Быть не может, чтоб у тебя ничего не осталось. Гей, Нехорошко! – продолжал он взглянув на одного из казаков, – пошарь-ка в печи: не найдешь ли чего-нибудь.
Казак отодвинул заслонку и вытащил жареного гуся.
– Цо то есть? закричал поляк. – Ах ты лайдак! Как же ты говорил, что у тебя нет съестного?
– Да это чужое, родимый, – сказала хозяйка. – Этого гуся привез с собою вот тот барин, что спит на печи.
– А кто он? Поляк?
– Нет, кормилец, кажись, русский.
– Москаль?.. Так давай сюда!
Алексей хотел было вступиться за право собственности своего господина, но один из казаков дал ему такого толчка, что он едва устоял на ногах.
– Разбуди своего барина, – шепнул Кирша, – он лучше нашего управится с этим буяном.
Пока Алексей будил Юрия и объявлял ему о насильственном завладении гуся, поляк, сняв шапку, расположился спокойно ужинать. Юрий слез с печи, спрятал за пазуху пистолет и, отдав потихоньку приказание Алексею, который в ту же минуту вышел из избы, подошел к столу.
– Доброго здоровья! – сказал он, поклонись вежливо пану.
Поляк, не переставая есть, кивнул головою и показал молча на скамью; Юрий сел на другом конце стола и, помолчав несколько времени, спросил: по вкусу ли ему жареный гусь?
– Как проголодаешься, так все будет вкусно, – отвечал поляк. – А что, этот гусь твой?
– Мой, пан.
– Нечего сказать, вы, москали, догадливее нас: всегда с запасом ездите. Правда, нам это и не нужно; для нас, поляков, нет ничего заветного.
– Конечно, пан, конечно. Да что ж ты перестал? Кушай на здоровье!
– Не хочу: я сыт.
– Не совестись, покушай!
– Нет, ешь сам, если хочешь.
– Спасибо! Я не привык кормиться ничьими объедками да не люблю, чтоб и другие не доедали. Кушай, пан!
– Я уж тебе сказал, что не хочу.
– Не прогневайся: ты сейчас говорил, что для поляков нет ничего заветного, то есть: у них в обычае брать чужое, не спросясь хозяина… быть может; а мы, русские, – хлебосолы, любим потчевать: у всякого свой обычай. Кушай, пан!
– Да что ж ты пристал в самом деле…
– И не отстану до тех пор, пока ты не съешь всего гуся.
– Как всего?
– Да! всего, – повторил Юрий, вынимая пистолет. – Прошу покорно: принялся есть, так ешь!
– Цо то есть? – завизжал поляк. – Гей, хлопцы!
Быстрым движением руки Юрий, подвинув вперед стол, притиснул к стене поляка и, обернувшись назад, закричал казакам:
– Стойте, ребята! ни с места!
Эти слова были произнесены таким повелительным голосом, что казаки, которые хотели броситься на Юрия, остановились.
– Слушайте, товарищи! – продолжал Юрий. – Если кто из вас тронется с места, пошевелит одним пальцем, то я в тот же миг размозжу ему голову. А ты, ясновельможный, прикажи им выйти вон, я угощаю одного тебя. Ну, что ж ты молчишь?.. Слушай, поляк! Я никогда не божился понапрасну; а теперь побожусь, что ты не успеешь перекреститься, если они сейчас не выйдут. Долго ль мне дожидаться? – прибавил он, направляя дуло пистолета прямо в лоб поляку.
– Иезус, Мария! – закричал поляк, стараясь спрятать под стол свою обритую голову. – Ступайте вон!.. ступайте вон!..
– Эй, ребята, убирайтесь! – сказал Кирша. – А не то этот боярин как раз влепит ему пулю в лоб: он шутить не любит.
– Ступайте вон, злодеи! ступайте вон! – продолжал кричать поляк, закрывая руками глаза, чтоб не видеть конца пистолета, который в эту минуту казался ему длиннее крепостной пищали.
Казаки, выходя вон, повстречались с незнакомым проезжим, который, посмотрев с удивлением на это странное угощение, стал потихоньку расспрашивать хозяина.
– Теперь, Кирша, – сказал Юрий, – между тем как я стану угощать дорогого гостя, возьми свою винтовку и посматривай, чтоб эти молодцы не воротились. Ну, пан, прошу покорно! Да поторапливайся: мне некогда дожидаться.
Поляк, не отвечая ни слова, принялся есть, а Юрий, не переменяя положения, продолжал его потчевать. Бедный пан спешил глотать целыми кусками, давился. Несколько раз принимался он просить помилования; но Юрий оставался непреклонным, и умоляющий взор поляка встречал всякий раз роковое дуло пистолета, взведенный курок и грозный взгляд, в котором он ясно читал свой смертный приговор.
– Позволь хоть отдохнуть… – пропищал он, наконец, задыхаясь.
– И, полно, пан! Мне некогда дожидаться, доедай!..
– Смелей, пан Копычинский, смелей! – сказал Кирша. – Ты видишь, немного осталось. Что робеть, то хуже… Ну, вот и дело с концом! – примолвил он, когда поляк проглотил последний кусок.
– И, кстати ли! – прервал Юрий. – Угощать так угощать! Там в печи должен быть пирог. Кирша, подай-ка его сюда.
– Взмилуйся! – завопил поляк отчаянным голосом. – Не могу, як пана бога кохам, не могу.
– Что, пан, будешь ли вперед непрошеный кушать за чужим столом? – сказал незнакомый проезжий. – Спасибо тебе, – продолжал он, обращаясь к Юрию, – спасибо, что проучил этого наглеца. Да будет с него; брось этого негодяя! У нас на Руси лежачих не бьют. Дай мне свою руку, молодец! Авось ли бог приведет нам еще встретиться. Быть может, ты поймешь тогда, что присяга, вынужденная обманом и силою, ничтожна пред господом и что умереть за веру православную и святую Русь честнее, чем жить под ярмом иноверца и носить позорное имя раба иноплеменных. Прощай, хозяин! Вот тебе за постой, – примолвил он, бросив на стол несколько медных денег.
– Не надо, кормилец! – сказал хозяин с низким поклоном, – мы и так довольны.
Незнакомый посмотрел с удивлением на хозяина; но, не отвечая ничего, пожал руку Юрию, перекрестился, вышел из избы и через минуту промчался шибкой рысью мимо постоялого двора.
Меж тем поляк успел выбраться из-за стола и пробирался к дверям. Юрий остановил его.
– Не уходи, пан, – сказал он, – я сейчас еду, и ты можешь остаться и буянить здесь на просторе сколько хочешь. Прощай, Кирша!
– Нет, боярин, прошу не прогневаться, – сказал запорожец, – я по милости твоей гляжу на свет божий и не отстану от тебя до тех пор, пока ты сам меня не прогонишь.
– По мне, пожалуй! Но пеший конному не товарищ.
– Да у меня есть на что купить лошадь.
– А я продам, – сказал хозяин. – Знатный конь! Немного храмлет, а шагист, и хоть ему за десять, а такой строгий, что только держись! Ну, веришь ли богу! если б он не окривел, так я бы с ним ни за что в свете не расстался.
– Добро, добро! – прервал Кирша. – Лишь бы только он дотащил меня до первого базара.
– Мы поедем шагом, – сказал Юрий, – так ты успеешь нас догнать. Прощай, пан, – продолжал он, обращаясь к поляку, который, не смея пошевелиться, сидел смирнехонько на лавке. – Вперед знай, что не все москали сносят спокойно обиды и что есть много русских, которые, уважая храброго иноземца, не попустят никакому забияке, хотя бы он был и поляк, ругаться над собою. А всего лучше вспоминай почаще о жареном гусе. До зобаченья, ясновельможный пан!
V
Утренняя заря румянила снежную равнину; вдали, сквозь редеющий мрак, забелелись верхи холмов, и звезды, одна после другой, потухали на чистом небосклоне. Дорога, по которой ехал Юрий в сопровождении верного слуги своего, извиваясь с полверсты по берегу Волги, вдруг круто повернула налево, и прямо против них дремучий бор, как черная бесконечная полоса, обрисовался на пламенеющем востоке. Проехав версты две, они очутились при въезде в темный бор; дорога шла опушкою леса; среди частого кустарника, подобного огромным седым привидениям, угрюмо возвышались вековые сосны и ветвистые ели; на их исполинских вершинах, покрытых инеем, играли первые лучи восходящего солнца, и длинные тени их, устилая всю дорогу, далеко ложились в чистом поле.
Алексей несколько раз начинал говорить с своим господином; но Юрий не отвечал ни слова. Погруженный в глубокую думу, он ехал медленно, спустя поводья своей лошади. Последние слова незнакомого проезжего отозвались в душе его; тысячи различных мыслей и противоположных желаний волновали его грудь. «Русские – рабы иноплеменных!» Ах! эти слова, как похоронная песнь, как смертный приговор, обливали хладом его сердце, кипящее любовью к вере и отечеству. «Нет, – сказал он, наконец, как будто б отвечая на слова незнакомца, – нет, господь не допустит нас быть рабами иноверцев! Мы клялись повиноваться не польскому королевичу, но благоверному русскому царю. Владислав отречется от своей ереси; он покинет свой родной край: наша земля будет его землею; наша вера православная – его верою. Так! он будет отцом нашим; он соединит все помышления и сердца детей своих; рассеет, как прах земной, коварные замыслы супостатов, и тогда какой иноплеменный дерзнет посягнуть на святую Русь?»
– Кой черт! – вскричал Алексей, наехав на колоду, через которую лошадь его с трудом перескочила. – Пора бы солнышку проглянуть; что это оно заленилось сегодня?.. Всходит – не всходит.
– Мы едем в тени, – отвечал Юрий. – Вот там, кажется, поворот, и нам будет ехать светлее.
– И теплее, боярин; а здесь так ветром насквозь и прохватывает. Ну, Юрий Дмитрич, – продолжал Алексей, радуясь, что господин его начал с ним разговаривать, – лихо же ты отделал этого похвальбишку поляка! Вот что называется – угостить по-русски! Чай, ему недели две есть не захочется. Однако ж, боярин, как мы выезжали из деревни, так в уши мне наносило что-то неладное, и не будь я Алексей Бурнаш, если теперь вся деревушка не набита конными поляками.
– Ты слышал конский топот?
– Да, боярин, а зимою табунов не гоняют. Чего доброго!.. Кострома недалеко отсюда, а там стоят поляки: не диво им завернуть и в здешнюю сторону.
– Да, это быть может.
– Ну, если этот трус Копычинский им нажалуется, и они пустятся за нами в погоню? а за проводником у них дело не станет: Кирша недаром остался на постоялом дворе.
– И, Алексей, побойся бога! Неужели ты думаешь, что тот, кто по милости нашей глядит на свет божий, не посовестится…
– Эх, боярин! захотел ты совести в этих чертях запорожцах; они навряд и бога-то знают, окаянные! Станет запорожский казак помнить добро! Да он, прости господи, отца родного придаст за чарку горелки. Ну вот, кажется, и просека. Ай да лесок! Эка трущоба – зги божьей не видно! То-то приволье, боярин: есть где поохотиться!.. Чай, здесь медведей и всякого зверя тьма-тьмущая!
Наши путешественники въехали по узкой просеке в средину леса. С каждым шагом темный бор становился непроходимее, и несмотря на то, что сильный ветер колебал вершины деревьев, внизу царствовала совершенная тишина. От времени до времени, прорываясь сквозь чащу леса, скользил вдоль просеки яркий луч восходящего солнца; но по обеим сторонам дороги густой мрак покрывал все предметы. Все было мертво вокруг, и только изредка черный ворон, пробудясь от конского топота, перелетал с одной сосны на другую, осыпая пушистым инеем Юрия и Алексея, который при каждом разе, вздрогнув от страха, робко озирался на все стороны. Не замечая охоты в своем господине продолжать разговор, он принялся насвистывать песню. Несколько минут ехали они молча, как вдруг Алексей, осадив свою лошадь, сказал робким голосом:
– Слышишь, боярин?
– Что такое? – спросил Юрий, как будто пробудясь от сна.
– Чу! слышишь? Кто-то скачет за нами!
– Да, и очень шибко… Это, верно, Кирша.
– Нет, Юрий Дмитрич! я видел клячу, которую продавал ему хозяин постоялого двора: на ней далеко не ускачешь. Глядь-ка сюда, боярин, видишь – чернеется вдали? Какой это Кирша! Словно птица летит.
Всадник, который действительно с необычайной быстротою приближался к нашим путешественникам, выскакал на небольшую поляну, и солнечный луч отразился на лице его. Юрий тотчас узнал в нем запорожца, который, припав к седельной луке, вихрем мчался по дороге.
– Ну, не говорил ли я тебе, что это Кирша? – сказал он Алексею.
– Вижу, боярин, вижу! Теперь и я узнаю его косматую шапку и черную собаку. Да откуда взялся у него гнедой конь? Кажись, он покупал пегую лошадь… Эк его черти несут! Тише ты, тише, дьявол! совсем было смял боярина.
– Не теряйте времени, – сказал торопливо Кирша, осадя с трудом свою лошадь, – за вами погоня.
– Ну, так… чуяло мое сердце! – вскричал Алексей. – В деревне поляки?..
– Да! три хоругви[54], и человек двести лагерной челяди.
– С нами крестная сила! Что ж мы мешкаем, боярин? По лошадям, да унеси господь!
– Чего ж ты боишься? – сказал Юрий. – Когда поляки узнают, кто я…
– Оно так, Юрий Дмитрич, но пока ты будешь им толковать, что едешь с грамотой пана Гонсевского, они успеют подстрелить нас обоих: у поляков расправа короткая.
– А особливо, – прибавил Кирша, – когда они уверены, что ты их неприятель и везешь с собою много денег.
– Да еще вдобавок, – прервал Алексей, – чуть-чуть не заставил поляка подавиться жареным гусем.
– За труса Копычинского, – продолжал Кирша, – они бы не вступились, да он уверил их, что ты враг поляков и везешь казну в Нижний Новгород. Я вместе с другими втерся на постоялый двор и все это слышал своими ушами. Пока региментарь[55] отряжал за вами погоню, я стал придумывать, как бы вас избавить от беды неминучей; вышел на двор, глядь… у крыльца один шеренговый держит за повод этого коня; посмотрел – парень щедушный; я подошел поближе, изноровился да хвать его по лбу кулаком! Не пикнул, сердечный! А я прыг на коня, в задние ворота, проселком, выскакал на большую дорогу, да и был таков! Однако ж, слышите ли, какой гул идет по лесу? Кой черт! да неужели они все пустились за вами в погоню?
В самом деле, казалось, весь лес оживился: глухой шум, похожий на отдаленный рев воды, прорвавшей плотину, свист и пистолетные выстрелы пробудили стаи птиц, которые с громким криком пронеслись над головами наших путешественников.
– Живей, боярин, живей! – закричал Кирша, понуждая свою лошадь. – Эти сорванцы ближе, чем мы думаем. Посмотри, как ощетинился Зарез: недаром он бросается во все стороны. Назад, Зарез, назад! Ну, так и есть!.. берегись, боярин!
Вдруг раздался громкий выстрел, и лошадь Юрия повалилась мертвая на землю. Шагах в восьмидесяти перед толпою конных поляков летел удалый наездник.
– Стойте! – закричал он, прицеливаясь вторым пистолетом в Киршу.
Быстрее молнии соскочил запорожец на землю.
– Садись на моего коня, боярин, – сказал он, – а я переведаюсь с этим налетом!
Он схватил свою винтовку, пуля засвистела, и почти в ту же самую минуту испуганная лошадь без седока пронеслась мимо наших путешественников.
– Ну, теперь с богом! – сказал Кирша.
– А ты? – спросил Юрий.
– Пешему везде дорога.
– Но если тебя убьют?..
– Так что ж? долг платежом красен. С богом!
– Ради Христа, боярин, – закричал Алексей, – поспешим: вот они!
Толпа конных поляков с громким криком быстро приближалась к нашим путешественникам.
– Да что тут растабарывать! Не погневайся, боярин, – сказал Кирша, ударив нагайкою лошадь, на которой сидел Юрий. Лихой конь взвился на дыбы и, как из лука стрела, помчался вдоль дороги.
– Ловите пешего! подстрелите его! – заревели из толпы дикие голоса, и пули посыпались градом; но Кирша был уже далеко; он пустился бегом по узенькой тропинке, которая, изгибаясь между кустов, шла в глубину леса. Пробежав шагов двести, Кирша остановился; он прилег наземь и стал прислушивать: чуть-чуть отзывался вдали конский топот, отголосок не повторял уже диких криков буйной толпы всадников; вскоре все утихло, и усталая собака улеглась спокойно у ног его. Уверясь, наконец, что он вне опасности, набожный запорожец перекрестился; потом, вынув из-за пазухи рожок с порохом и пулю, начал заряжать свою винтовку. Кирша не успел еще порядком приколотить пулю, как вдруг Зарез поднял уши, заворчал, опрометью бросился назад по тропинке и через минуту с лаем возвратился к своему господину.
– Что ты, что ты, Зарезушка? – сказал Кирша, погладив его ласково рукою. – Что с тобою сделалось? Уж не почуял ли ты красного зверя? Кой прах! Да что ты ко мне так прижимаешься?.. Неужели… да нет! Я и пеший насилу сквозь эту дичь продирался… Однако ж и мне нажегся… уж не медведь ли?.. Нет, черт возьми!.. Молчать. Зарез!
Вдруг в близком расстоянии захрустел валежник, и шаги многих людей, поспешно идущих, раздались по лесу. Кирше нетрудно было догадаться, что несколько спешенных всадников послано за ним в погоню и что опасность еще не миновалась. Боясь заплутаться в этом непроходимом лесу, он снова пустился по тропинке, которая час от часу становилась незаметнее и, наконец, при выходе на большую поляну совсем исчезла. Кирша остановился в недоумении; он чувствовал всю опасность выйти на открытое место; но на другой стороне поляны, в самой чаще леса, тонкий дымок, пробираясь сквозь густых ветвей, обещал ему убежище, а может быть, и защиту. Меж тем шум приближался, рассуждать было некогда: он решился и вышел из лесу.
– Вот он! держите его! схватите живого! – загремели позади грубые голоса.
Кирша оглянулся: человек десять вооруженных поляков выбежали на поляну; нельзя было и помышлять об обороне; двое из них, опередя своих товарищей, стали догонять его; еще несколько шагов – и запорожец достиг бы опушки леса, как вдруг, набежав на пенек, он споткнулся и упал.
– Ага, лайдак! попался! – закричал один из поляков, вырывая у него из рук винтовку.
– Скрути хорошенько этого поганого москаля! – заревел другой; но верный Зарез, как тигр, кинулся на грудь к поляку, схватил его за горло и ударил оземь Товарищ бросился к нему на помощь, а Кирша вскочил и, добежав до частого кустарника, почти без чувств повалился на снег. Он не мог видеть, что происходило на поле; но слышал ясно крик и ругательства поляков, громкий лай, потом отчаянный вой и, наконец, последний визг издыхающего Зареза. Сердце его обливалось кровью; несколько раз брался он за рукоятку своего кинжала, силился встать, но, задыхаясь и в совершенном изнеможении, падал опять на землю. Между тем, сколько мог он расслушать, поляки, собравшись в кружок, рассуждали меж собою: должны ли воротиться или продолжать его преследовать? К счастию Кирши, прошло несколько минут в спорах, и, когда они решились, по-видимому, продолжать свои поиски, он успел уже отдохнуть и, поднявшись на ноги, пустился к тому месту, над которым носилось прозрачное дымное облако.
VI
Кирша, с трудом пробираясь сквозь чащу, дошел, наконец до высокого плетня, обрытого глубокою канавою. Не теряя времени, он перелез чрез плетень, за которым дюжины две ульев, без всякого порядка расставленных, окружали небольшую избушку, до половины занесенную снегом. Дым, выходя из слухового окна, крутился над ее соломенною кровлею; а у самых дверей огромная цепная собака, пригретая солнышком, лежала подле своей конуры. Почуя незнакомого, она громко залаяла; Кирша остановился, ожидая, что кто-нибудь выйдет из избы, но никто не появлялся; он, вынув из своей дорожной сумы кусок хлеба, бросил его собаке, и умилостивленный цербер, ворча, спрятался в свою конуру. «Бедный Зарез! – сказал Кирша, входя в избу. – Ты так же, бывало, сторожил мой дом, да не так легко было тебя задобрить!» С первого взгляда запорожец уверился, что в избе никого не было; но затопленная печь, покрытый ширинкою стол и початый каравай хлеба, подле которого стоял большой кувшин с брагою, – все доказывало, что хозяин отлучился на короткое время. От печи, вдоль избы, шла перегородка, за которою стояли пустые улья, кадки и несколько бочонков. Кирша не успел еще порядком осмотреться, как вдруг послышались в близком расстоянии голоса. Не зная, кто подходит, друг или недруг, он спрятался за перегородку и прилег между двух ульев, за которыми нельзя было его никак приметить. Кто-то вошел в избу. Запорожец притаил дыхание и стал внимательно прислушивать.
– Входи смелей, Григорьевна, – сказал грубый голос. – Не бойся: кто приходит ко мне с хлебом да солью, тому порчи бояться нечего.
– Вестимо, батюшка Архип Кудимович, – отвечал женский голос, перерываемый частым кашлем, – вестимо! ты человек добрый; да дело-то мое непривычное.
– Садись добро, тетка. Да что это у тебя за пазухой?
– Так, кой-что, родимый! Просим покорно принять. Вот в этом кулечке пирог, а это штофик вишневки с боярского погреба.
– Спасибо, Григорьевна, спасибо!
– Кушай на здоровье, кормилец! Это шлет тебе Аграфена Власьевна.
– Нянюшка нашей молодой барышни?
– Да, батюшка! Ей самой некогда перемолвить с тобой словечка, так просила меня… О, ох, родимый! сокрушила ее дочка боярская, Анастасья Тимофеевна. Бог весть, что с ней поделалось: плачет да горюет – совсем зачахла. Боярину прислали из Москвы какого-то досужего поляка – рудомета, что ль?.. не знаю; да и тот толку не добьется. И нашептывал, и заморского зелья давал, и мало ли чего другого – все проку нет. Уж не с дурного ли глазу ей такая немочь приключилась? Как ты думаешь, Архип Кудимович?
– Не диво, Григорьевна, не диво. А давно ли она хворает?
– Власьевна сказывала, что о зимнем Николе, когда боярин ездил с ней в Москву, она была здоровехонька; приехала назад в отчину – стала призадумываться; а как батюшка просватал ее за какого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная.
– Вот что! А не в примету ли было, что в Москве кто ни есть пристально на ее барышню поглядывал?
– Как же, родимый! Она с Настасьей Тимофеевной каждый день слушала обедню у Спаса на Бору, и всякий раз какой-то русый молодец глаз с нее не сводил.
– Вот что! А не знает ли она, кто этот детина?
– Нет, батюшка; однажды только Власьевна вслушалась, что слуга называл его Юрием Дмитричем; а по платью и обычью, кажись, он не из простых.
Эти последние слова удвоили любопытство Кирши и принудили его остаться в чулане, из которого он хотел было уже выйти.
– Ну, как ты мекаешь, кормилец! – продолжала Григорьевна, – болезнь, что ли, у нее какая, или она сохнет…
– С глазу, Григорьевна, с глазу!
– И нянюшка тоже тростит, чему и быть другому! Да ты, батюшка, сам на это дока и если захочешь пособить…
– Нет, Григорьевна, плохо дело: кто испортил, тому ее и пользовать надо. Однако я все-таки поговорю сам с Власьевной.
– Поговори, родимый, поговори: ум хорошо, а два лучше. Ну, батюшка, теперь и я тебе челом! Не оставь меня, горемычную! Ведь и у меня есть до тебя просьба.
– Что такое, Григорьевна?
– Вымолвить не смею.
– Говори, не бойсь!
– Я пришла к тебе уму-разуму поучиться, кормилец.
– Как так?
– Ты знаешь: дело мое вдовье, ни за мной, ни передо мною – вовсе голая сирота… подчас перекусить нечего.
– Знаю, знаю.
– Тебя умудрил господь, Архип Кудимович; ты всю подноготную знаешь: лошадь ли сбежит, корова ли зачахнет, червь ли нападет на скотину, задумает ли парень жениться, начнет ли молодица выкликать – всё к тебе да к тебе с поклоном. Да и сам боярин, нет-нет, а скажет тебе ласковое слово; где б ни пировали, Кудимович тут как тут: как, дескать, не позвать такого знахаря – беду наживешь!..
– Конечно так, Григорьевна. Да о чем же просить хочешь?
– А вот о чем, кормилец: научи ты меня, глупую, твоему досужеству, так и меня чаркою никто не обнесет, и меня не хуже твоего чествовать станут.
– Эк с чем подъехала, старая хреновка! Смотри, пожалуй! уж не хочешь ли со мной потягаться!
– И, что ты, кормилец! Выше лба уши не растут. Что велишь, то и буду делать.
– Ой ли?
– Видит господь, Архип Кудимович! что б со мной ни было, а из твоей воли не выступлю.
– Ну, ну, быть так! рожа-та у тебя бредет: тебя и так все величают старою ведьмой… Да точно ли ты не выступишь из моей воли?
– В кабалу к тебе пойду, родимый!
– То-то же, смотри! Слушай, Григорьевна, уж так и быть, я бы подался, дело твое сиротское… да у бабы волос длинен, а ум короток. Ну если ты сболтнешь?..
– Кто! я, батюшка?.. Да иссуши меня господь тоньше аржаной соломинки!.. чтоб мне свету божьего не видать!.. издохнуть без исповеди!..
– Добро, добро, не божись!.. Дай подумать… Ну, слушай же, Григорьевна, – продолжал мужской голос после минутного молчания, – сегодня у нас на селе свадьба: дочь нашего волостного дьяка идет за приказчикова сына. Вот как они поедут к венцу, ты заберись в женихову избу на полати, прижмись к уголку, потупься и нашептывай про себя…
– А что же, кормилец, шептать мне велишь?
– Да что на ум взбредет; и о чем бы тебя ни стали спрашивать – смотри, ни словечка! Бормочи себе под нос да покачивайся из стороны в сторону.
– Слушаю, батюшка!
– Вот как поезд воротится из церкви, я взойду в избу, и лишь только переступлю через порог, ты в тот же миг – уж не пожалей себя для первого раза – швырком с полатей, так и грянься о пол!
– О пол? Ах, мой родимый! да я этак и косточек не сберу!
– Вот еще боярыня какая! а тебе бы, чай, хотелось, лежа на боку, сделаться колдуньей? Ну, если успеешь, подкинь соломки, да смотри, чтоб никому не в примету.
– Слушаю, батюшка, слушаю!
– Что б я ни говорил, кричи только «виновата!», а там уж не твое дело. Третьего дня пропали боярские красна; если тебя будут о них спрашивать, возьми ковш воды, пошепчи над ним, взгляни на меня, и как я мотну головою, то отвечай, что они на гумне Федьки Хомяка запрятаны в овине.
– Ах, батюшки-светы! неужто в самом деле Федька Хомяк?..
– Опомнясь он грозился поколотить меня, так пусть теперь разведается с приказчиком.
– Постой-ка! да ты никак шел оттуда, как я с тобой повстречалась?
– Молчи, старая карга! Ни гугу об этом! Слышишь ли? видом не видала, слыхом не слыхала!
– Слышу, батюшка, слышу!
– Завтра приходи опять сюда: мне кой-что надо с тобой перемолвить, а теперь убирайся проворней. Да смотри: обойди сторонкою, чтоб никто не подметил, что ты была у меня – понимаешь?
– Разумею, кормилец, разумею.
– Ну, то-то же, ступай!
– Прощенья просим, батюшка Архип Кудимович!
– Постой-ка, никак собака лает?.. так и есть! Кого это нелегкая сюда несет?.. Слушай, Григорьевна, если тебя здесь застанут, так все дело испорчено. Спрячься скорей в этот чулан, закинь крючок и притаись как мертвая.
Григорьевна вошла за перегородку и, захлопнув дверь, прижалась к улью, за которым лежал Кирша.
Чрез минуту несколько человек, гремя саблями, с шумом вошли в избу.
– Гей, москаль! – закричал один голос, – нет ли у тебя кого-нибудь здесь?
– Никого, батюшка.
– Ты врешь! у тебя спрятан мошенник, которого мы ищем.
– Видит бог, нет!
– Говори всю правду, а не то я с одного маху вышибу из тебя душу. Гей, Будила! и ты, Сума, осмотрите чердак, а мы обшарим здесь все уголки. Что у тебя за этой перегородкой?
– Пустые улья да кой-какая старая посуда.
– Лжешь, москаль! Дверь приперта изнутри: там кто-нибудь да есть. Ну-ка, товарищи, в плети его, так он заговорит.
– Помилуйте, господа честные! Всю правду скажу: там сидит женщина.
– Женщина! Да на кой же черт ты ее туда запрятал?
– Не погневайся, кормилец; вы люди ратные: дальше от вас – дальше от греха.
– Давай ее сюда, – закричали грубые голоса.
– Да, кстати: вот, кажется, штоф наливки, – сказал тот, который допрашивал хозяина. – Мы его разопьем вместе с этой затворницей. Выходи, красавица, а не то двери вон!.. Эк она приперлась, проклятая!.. Ну-ка, товарищи, разом!
– Стойте, ребята, – сказал кто-то хриповатым голосом. – Штурмовать мое дело; только уговор лучше денег: кто первый ворвется, того и добыча. Посторонитесь!
От сильного натиска могучего плеча пробой вылетел и дверь растворилась настежь.
– Ай да молодец, Нагиба! – закричали поляки. – Ну, выводи скорее пленных!
– Полно уж упираться, лебедка, выходи! – сказал широкоплечий Нагиба, вытащив на средину избы Григорьевну. – Кой черт! Да это старая колдунья! – закричал он, выпустив ее из рук.
– Твоим бы ртом да мед пить, родимый! – отвечала Григорьевна с низким поклоном.
– Поздравляем, пан Нагиба! – закричали с громким хохотом поляки. – Подцепил красотку!
– Ах ты беззубая! Ну с твоей ли харей прятаться от молодцов? – сказал Нагиба, ударив кулаком Григорьевну. – Вон отсюда, старая чертовка! А ты, рыжая борода, ступай с нами да выпроводи нас на большую дорогу.
– Постой, брат, – сказал другой голос, – все ли мы осмотрели? Нет ли еще кого-нибудь за этой перегородкой?
– Видит бог – нет, кормилец! – отвечал хозяин, посматривая с беспокойством на темный угол чулана, в котором стояли две кадки с медом. – Кроме пустых ульев и старой посуды, там ничего нет.
– И впрямь, – сказал Нагиба, – кой черт велит ему забиться в эту западню, когда за каждым кустом он может от нас спрятаться? Пойдемте, товарищи. Э! да слушай ты, хозяин, чай, у тебя денежки водятся?
– Как бог свят, ни одного пула[56] нет, родимый.
– Ну, ну, полно прижиматься! отдавай волею, а не то…
– Помилосердуй, кормилец! вот те Христос, вчера последние деньжонки отнес боярину моему, Тимофею Федоровичу Шалонскому.
– Слушай, москаль, подавай сейчас…
– Что ты, Нагиба, в уме ли! – сказал один из поляков. – Иль забыл, что наказывал пан региментарь? Если этот старик служит боярину Кручине-Шалонскому, так мы и волосом не должны от него поживиться.
– Пан региментарь! пан региментарь!.. Э, нех его вшисци дьябли!
– Тс, тише! что ты орешь, дуралей! – перервал тот же поляк. – Иль ты думаешь, что от твоего лба пуля отскочит? Смотри, ясновельможный шутить не любит. Пойдемте, ребята. А ты, хозяин, ступай передом да выведи нас на большую дорогу.
Через несколько минут изба опустела, и Кирша мог вздохнуть свободно. Он вышел потихоньку из чулана; шелест шагов едва был слышен вдали; вскоре все утихло. Встревоженная собака снова улеглась спокойно на солнышке и, вертя приветливо хвостом, пропустила мимо себя Киршу, как старого знакомца. Запорожец не сомневался, что тропинка, идущая прямо от пчельника, выведет его в отчину боярина Шалонского, где, по словам Алексея, он надеялся увидеть Юрия, если ему удалось спастись от преследования поляков. Он прошен версты четыре, не встретив никого; но лес редел приметным образом, и вдали целые облака дыма доказывали близость обширного селения. Наконец, тропинка привела его к огородам. Пробираясь вдоль плетня, он подошел к небольшой часовне, против которой, сквозь растворенные ворота гумна, виднелся ряд низких, покрытых соломою хижин. Желая скорей добраться до жилья, он решился пройти задами. Есть русская пословица: пуганая ворона и куста боится… она сбылась над Киршею. Проходя мимо пустого овина, ему послышалось, что кто-то идет; первое движение запорожца было спрятаться в овин. Прежде чем Кирша мог образумиться и вспомнить, что его никто уже не преследует, он очутился на дне овинной ямы и, может быть, заплатил бы дорого за свой отчаянный скачок, если б не упал на что-то мягкое. Несмотря на темноту, он тот же час узнал ощупью, что под ним лежат несколько кусков тонкой холстины. Тут вспомнил он чудной разговор, который слышал на пчельнике. «Добро ты, поддельный колдун! – подумал Кирша. – Посмотрим, шепнет ли тебе черт на ухо, что боярские красна перешли из овина Федьки Хомяка в другое место?» Эта мысль его развеселила. Он вытащил из ямы холст, вынес его в лес и, зарыв в снег подле часовни, пошел по проложенной между двух огородов узенькой тропинке.
Кирша вышел на широкую улицу, посреди которой, на небольшой площадке, полуразвалившаяся деревянная церковь отличалась от окружающих ее изб одним крестом и низкою, похожею на голубятню колокольнею. Вся паперть и погост были усыпаны народом; священник в полном облачении стоял у церковных дверей; взоры его, так же как и всех присутствующих, были обращены на толпу, которая медленно приближалась ко храму. Оружие и воинственный вид запорожца обратили на себя общее внимание, и, когда он подошел к церковному погосту, толпа с почтением расступилась, и все передние крестьяне, поглядывая с робостию на Киршу, приподняли торопливо свои шапки, кроме одного плечистого детины, который, взглянув довольно равнодушно на запорожца, оборотился снова в ту сторону, откуда приближалось несколько саней и человек двадцать конных и пеших. Открытый и смелый вид крестьянина понравился Кирше; он подошел к нему и спросил:
– Для чего православные толпятся вокруг церкви?
– Да так-ста, – отвечал крестьянин. – Народ глуп: вишь, везут к венцу дочь волостного дьяка, так и все пришли позевать на молодых. Словно диво какое!
– Она выходит за сына вашего приказчика?
– А почему ты знаешь?
– Слухом земля полнится, товарищ.
– Да ты, верно, здешний?
– Нет, я сейчас пришел в вашу деревню и никого здесь не знаю.
– Ой ли?
– Право, так! А скажи-ка мне: вон там, налево, чьи хоромы?
– Боярина нашего, Тимофея Федоровича Шалонского.
– Не приехал ли к нему кто-нибудь сегодня?
– Бог весть! Мы к боярскому двору близко и не подходим.
– Что так? разве он человек лихой?
– Не роди мать на свет! Нам и от холопей-то его житья нет.
– Что ты, Федька Хомяк, горланишь! – перервал другой крестьянин с седой, осанистой бородою. – Не слушай его, добрый человек: наш боярин – дай бог ему долгие лета! – господин милостивый, и мы живем за ним припеваючи.
– Да, брат, запоешь, как последнюю овцу потащут на барский двор.
– Замолчишь ли ты, глупая башка! – продолжал седой старик. – Эй, брат, не сносить тебе головы! Не потачь, господин честной, не верь ему: он это так, сдуру говорит.
– Небойсь, дедушка, – сказал Кирша, улыбаясь, – я человек заезжий и вашего боярина не знаю. А есть ли у него детки?
– Одна дочка, родимый, Анастасья Тимофеевна – ангел небесный!
– Да, неча сказать, – прибавил первый крестьянин, – вовсе не в батюшку: такая добрая, приветливая; а собой-то – красное солнышко! Ну, всем бы взяла, если б была подороднее, да здоровья-то бог не дает.
– Глядь-ка, Хомяк! – закричал старик, – вон едет дьяк с невестою, да еще в боярских санях. Шапки долой, ребята!
Поезд приближался к церкви. Впереди в светло-голубых кафтанах с белыми ширинками через плечо ехали верхами двое дружек; позади их в небольших санках вез икону малолетний брат невесты, которая вместе с отцом своим ехала в выкрашенных малиновою краскою санях, обитых внутри кармазинною объярью; под ногами у них подостлана была шкура белого медведя, а конская упряжь украшена множеством лисьих хвостов. Ряд саней со свахами и родственниками жениха и невесты оканчивался толпою пеших и всадников, посреди которых красовался жених на белом коне, которого сбруя обвешана была разноцветными кистями, а поводы заменялись медными цепями – роскошь, перенятая простолюдинами от знатных бояр, у которых эти цепи бывали не только из серебра, но даже нередко из чистого золота.
Кирша вслед за женихом кое-как продрался в церковь, которая до того была набита народом, что едва оставалось довольно места для совершения брачного обряда. Все шло чин чином, и крестьяне, несмотря на тесноту, наблюдали почтительное молчание; но в ту самую минуту, как молодой, по тогдашнему обычаю, бросил наземь и начал топтать ногами стклянку с вином, из которой во время венчанья пил попеременно со своей невестою, народ зашумел, и глухой шепот раздался на церковной паперти. «Раздвиньтесь! посторонитесь, дайте пройти Архипу Кудимовичу!» – повторяли многие голоса. Толпа отхлынула от дверей, и на пороге показался высокого роста крестьянин, с рыжей окладистой бородою. Наружность его не обещала ничего важного; но страх, с которым смотрели на него все окружающие, и имя, произносимое вполголоса почти всеми, тотчас надоумили Киршу, что он видит в сей почтенной особе хозяина пчельника, где жизнь его висела на волоске. Кудимыч остановился в дверях, беглым взглядом окинул внутренность церкви и, заметя в толпе Федьку Хомяка, улыбнулся с таким злобным удовольствием, что Кирша дал себе честное слово – спасти от напраслины невинного крестьянина и вывести на свежую воду подложного колдуна. Меж тем обряд венчанья кончился, и молодые отправились тем же порядком в дом приказчика. Кудимыч, по приглашению жениха, присоединился к поезду, а Кирша вмешался в толпу пеших гостей и отправился также пировать у молодых.
На половине дороги крестьянская девушка, с испуганным лицом, подбежала к саням приказчика и сказала ему что-то потихоньку; он побледнел как смерть, подозвал к себе Кудимыча, и вся процессия остановилась. Они довольно долго говорили меж собой шепотом; наконец, Кудимыч сказал громким голосом:
– Пусти, я пойду передом; не бойся ничего: я знаю, что делать!
Весь порядок шествия нарушился: одни вылезли из саней, другие окружили колдуна, и все крестьяне, вместо того, чтоб разойтись по домам, пустились вслед за молодыми; а колдун важно выступил вперед и, ободряя приказчика, повел за собою всю толпу к дому новобрачных.
VII
Мы оставили Юрия и слугу его, Алексея, в виду целой толпы поляков, которые считали их верной добычею; но они скоро увидели, что ошиблись в расчете. В несколько минут наши путешественники потеряли их из виду. Беспрестанные изгибы и повороты дороги, которая часто суживалась до того, что двум конным нельзя было ехать рядом, способствовали им укрыться от преследования густой толпы всадников, которые, стесняясь в узких местах, мешали друг другу и должны были поневоле останавливаться. Проскакав несколько верст, наши путешественники стали придерживать своих лошадей, и вскоре совершенная тишина, их окружающая, и едва слышный, отдаляющийся конский топот уверили их, что поляки воротились и им нечего опасаться.
– Ну, боярин, – сказал Алексей, – помиловал нас господь!
– А бедный Кирша?
– И, Юрий Дмитрич! он детина проворный… Да и как поймать его в таком дремучем лесу?
– Но если он ранен?
– Бог милостив! Он, верно, уцелел!
– Я дорого бы дал, чтоб увериться в этом. Ну, Алексей, не совестно ли тебе? ты подозревал Киршу в измене…
– Каюсь, боярин, грешил на него; да и теперь думаю…
– Что такое?
– Что он не запорожец.
– Везде есть добрые люди, Алексей.
– Да ты, пожалуй, боярин, и поляков называешь добрыми людьми.
– Конечно; я знаю многих, на которых хотел бы походить.
– И так же, как они, гнаться за проезжими, чтоб их ограбить?
– Шайка русских разбойников или толпа польской лагерной челяди ничего не доказывают. Нет, Алексей: я уважаю храбрых и благородных поляков. Придет время, вспомнят и они, что в их жилах течет кровь наших предков славян; быть может, внуки наши обнимут поляков, как родных братьев, и два сильнейшие поколения древних владык всего севера сольются в один великий и непобедимый народ!
– Не прогневайся, боярин, ты, живя с этими ляхами, чересчур мудрен стал и говоришь так красно, что я ни словечка не понимаю. Но, воля твоя, что будет вперед, то бог весть; а теперь куда бы хорошо, если б эти незваные гости убрались восвояси. Покойный твой батюшка – дай бог ему царство небесное! – не так изволил думать. Ты после смерти боярыни нашей, а твоей матери, остался у него один, как порох в глазу; а он все-таки говаривал, что легче бы ему видеть тебя, единородного своего сына, в ранней могиле, чем слугою короля польского или мужем неверной полячки!
– Мужем!.. – повторил вполголоса Юрий, и глубокая печаль изобразилась на лице его. – Нет, добрый Алексей! Господь не благословил меня быть мужем той, которая пришла мне по сердцу: так, видно, суждено мне целый век сиротой промаяться.
– И, боярин, боярин! Не одна звезда на небе светит, не одна красная девица на Святой Руси. Ты все еще думаешь об этой черноглазой боярышне, которую видал в Москве у Спаса на Бору?.. Вольно ж тебе было не поведать, кто она такова; откладывал да откладывал, а она вдруг сгинула да пропала. И то сказать, неужели от этого зачахнуть с тоски такому молодцу, как ты, боярин? Кликни только клич, что хочешь жениться, так не оберешься невест, а может быть… почему знать? суженого конем не объедешь… и не ищешь, а найдешь свою черноглазую красавицу…
– Обвенчанную с другим!.. Нет, лучше век ее не видать, чем видеть на ее пальце обручальное кольцо, которым она поменялась не со мною!
– Что бог велит, то и будет. Но теперь, боярин, дело идет не о том: по какой дороге нам ехать? Вот их две: направо в лес, налево из лесу… Да кстати, вон едет мужичок с хворостом. Эй, слушай-ка, дядя! По которой дороге выедем мы в отчину боярина Кручины-Шалонского?
При этом грозном имени крестьянин снял шапку, поклонился в пояс проезжим и молча показал налево. Чрез полчаса наши путешественники выехали из лесу, и длинный ряд низких изб, выстроенных по берегу небольшой речки, представился их взорам. Широкая поперечная улица вела к церкви, а по другой стороне реки, на отлогом холме, возвышались тесовая кровля и красивый терем боярского дома, обнесенного высоким тыном, похожим на крепостной палисад. Вокруг господского двора разбросаны были жилые избы дворовых людей, конюшня, псарня и огромный скотный двор. Все эти строения, с их пристройками, клетьми и загородками, занимали столь большое пространство, что с первого взгляда их можно было почесть вторым селом, не менее первого. Переехав через мост, утвержденный на толстых сваях, путешественники поднялись в гору и въехали на обширный боярский двор. Лицевая сторона главного здания занимала в длину более пятнадцати саженей, но вышина дома нимало не соответствовала длине его. Небольшие четвероугольные окна с красными рамами и разноцветными ставнями разделялись широкими простенками. С левой стороны дом оканчивался крыльцом с огромным навесом, поддерживаемым деревянными столбами, которым дана была форма нынешних точеных баляс, употребляемых иногда для украшения наружности домов. С правой стороны дом примыкал к двухэтажному терему, которого окна были почти вдвое более окон остальной части дома. По обеим сторонам забора выстроены были длинные застольни, приспешная и погреба с высокой голубятнею, а посреди двора стояли висячие качели. Мы должны заметить нашим читателям, что гордый боярин Кручина славился своей роскошью и что его давно уже упрекали в подражании иноземцам и в явном презрении к простым обычаям предков; а посему описание его дома не может дать верного понятия об образе жизни тогдашних русских бояр. Их дома не удивляли огромностью и великолепием: большая комната, называемая светлицею, отделялась от черной избы просторными и теплыми сенями, в которых живали горничные, получившие от сего название сенных девушек. Иногда узкая и крутая лестница вела из сеней в терем; кругом дома строились погреба, конюшни, клети и бани. Вот краткое, но довольно верное описание домов бояр и дворян того времени, которые крепко держались старинной русской пословицы: не красна изба углами, а красна пирогами.
Проезжая двором, Юрий заметил большие приготовления: слуги бегали взад и вперед; в приспешной пылал яркий огонь; несколько поваров суетилось вокруг убитого быка; все доказывало, что боярин Кручина ожидает к себе гостей. Те из челядинцев, с которыми встречался Юрий, подъезжая к крыльцу, смотрели на него с удивлением: измятый и поношенный охабень, коим с ног до головы он был окутан, некрасивая одежда Алексея – одним словом, ничто не оправдывало дерзости незнакомого гостя, который, вопреки обычаю простолюдинов, не сошел с лошади у ворот и въехал верхом на двор гордого боярина. Отдав своего коня Алексею, Юрий взошел по отлогой лестнице в обширную переднюю комнату. Вокруг стен, на широких скамьях, сидело человек двадцать холопей, одетых в цветные кафтаны; развешанные в порядке панцири, бердыши, кистени, сабли и ружья служили единственным украшением голых стен сего покоя. Один из слуг, не вставая с места, спросил грубым голосом Юрия: кого ему надобно?
– Боярина Тимофея Федоровича, – отвечал Юрий.
– А от кого ты прислан?
Вместо ответа Юрий сбросил свой охабень. Обшитый богатыми галунами кафтан и дорогая сабля подействовали сильнее на этих невежд, чем благородный вид Юрия: они вскочили проворно с своих лавок, и тот, который сделал первый вопрос, поклонясь вежливо, сказал, что боярин еще не вставал и если гостю угодно подождать, то он просит его в другую комнату. Юрий вошел вслед за слугою в четырехугольный обширный покой, посреди которого стояли длинные дубовые столы, а вдоль стены – покрытые пестрыми коврами лавки. Прошло более часа; никто не показывался. От нечего делать Юрий стал рассматривать развешанные по стенам портреты довольно изрядной, по тогдашнему времени, живописи. Почти все представляли поляков, а один – короля польского в короне и порфире. Портрет был поясной, и король был представлен облокотившимся на стол, на котором лежал скипетр с двуглавым орлом и священный для всех русских венец Мономахов. Юрий вздрогнул от негодования, прочтя надпись на польском языке: «Сигизмунд король польский и царь русский». Не помышляя о последствии первого необдуманного движения, он протянул руку, чтоб сорвать портрет со стены, как вдруг двери из внутренних покоев растворились, и человек лет тридцати, опрятно одетый, вошел в комнату. Поздравив Юрия с приездом и объявив себя одним из знакомцев боярина[57], он спросил: какую надобность имеет приезжий до хозяина?
– Я должен сам поговорить с Тимофеем Федоровичем, – отвечал Юрий.
– Ему теперь некогда: он отправляет гонца в Москву.
– Я сам из Москвы и привез ему грамоту от пана Гонсевского.
– От пана Гонсевского? А, это другое дело! Милости просим! Я тотчас доложу боярину. Дозволь только спросить: при тебе, что ль, получили известие в Москве о славной победе короля польского?
– О какой победе?
– Так ты не знаешь? Смоленск взят.
– Возможно ли?
– Да, да, это гнездо бунтовщиков теперь в наших руках. Боярин Тимофей Федорович вчера получил грамоту от своего приятеля, смоленского уроженца, Андрея Дедешина, который помог королю завладеть городом…
– И, верно, не был награжден как следует за такую услугу? – сказал Юрий, с трудом скрывая свое негодование.
– О нет! он теперь в большой милости у короля польского.
– Не верю: Сигизмунд не потерпит при лице своем изменника.
– Что ты! какой он изменник! Когда город взяли, все изменники и бунтовщики заперлись в соборе, под которым был пороховой погреб, подожгли сами себя и все сгибли до единого. Туда им и дорога!.. Но не погневайся, я пойду и доложу о тебе боярину.
– Верные смоляне! – сказал Юрий, оставшись один. – Для чего я не мог погибнуть вместе с вами! Вы положили головы за вашу родину, а я… я клялся в верности тому, чей отец, как лютый враг, разоряет землю русскую!
Громкий крик, раздавшийся на дворе, рассеял на минуту его мрачные мысли; он подошел к окну: посреди двора несколько слуг обливали водою какого-то безобразного старика; несчастный дрожал от холода, кривлялся и, делая престранные прыжки, ревел нелепым голосом. Добрый, чувствительный Юрий никак не догадался б, что значит эта жестокая шутка, если б громкий хохот в соседнем покое не надоумил его, что это одна из потех боярина Шалонского. Отвращение, чувствуемое им к хозяину дома, удвоилось при виде этой бесчеловечной забавы, которая кончилась тем, что посиневшего от холода и едва живого старика оттащили в застольную. Вслед за сим потешным зрелищем вошел опять тот же знакомец боярина и пригласил Юрия идти за собою. Пройдя одну небольшую комнату, провожатый его отворил обитые красным сукном двери и ввел его в покой, которого стены были обтянуты голландскою позолоченной кожей. Перед большим столом, на высоких резных креслах, сидел человек лет пятидесяти. Бледное лицо, носящее на себе отпечаток сильных, необузданных страстей; редкая с проседью борода и серые небольшие глаза, которые, сверкая из-под насупленных бровей, казалось, готовы были от малейшего прекословия запылать бешенством, – все это вместе составляло наружность вовсе не привлекательную. Подбритые на польский образец волосы, низко повязанный кушак по длинному штофному кафтану придавали ему вид богатого польского пана; но в то же время надетая нараспашку, сверх кафтана, с золотыми петлицами ферязь напоминала пышную одежду бояр русских. Юрию нетрудно было отгадать, что он видит перед собой боярина Кручину. Поклонись вежливо, он подал ему обернутое шелковым снурком письмо пана Гонсевского.
– Давно ли ты из Москвы? – спросил боярин, развертывая письмо.
– Осьмой день, Тимофей Федорович.
– Осьмой день! Хорошего же гонца выбрал мой будущий зять! Ну, молодец, если б ты служил мне, а не пану Гонсевскому…
– Я служу одному царю русскому, Владиславу, – перервал хладнокровно Юрий.
– В самом деле! Да кто же ты таков, верный слуга царя Владислава? – спросил насмешливо Кручина.
– Юрий, сын боярина Димитрия Милославского.
– Димитрия Милославского!.. закоснелого ненавистника поляков?.. И ты сын его?.. Но все равно!.. Садись, Юрий Дмитрич. Диво, что пан Гонсевский не нашел никого прислать ко мне, кроме тебя.
– Я из дружбы к нему взялся отвезти к тебе эту грамоту.
– Сын боярина Милославского величает польского королевича царем русским… зовет Гонсевского своим другом… диковинка! Так поэтому и твой отец за ум хватился?
– Его уж нет давно на свете.
– Вот что!.. Не осуди, Юрий Дмитрич: я прочту, о чем ко мне пан Гонсевский в своем листу пишет.
Юрий заметил, что боярин, читая письмо, становился час от часу пасмурнее: досада и нетерпение изображались на лице его.
– Нет, – сказал он, дочитав письмо, – с ними добром не разделаешься! по мне бы с корнем вон! Я бы вспахал и засеял место, на котором стоит этот разбойничий городишко!.. Вот что в своем листу пишет ко мне Гонсевский, – продолжал он, обращаясь к Юрию, – до него дошел слух, что неугомонные нижегородцы набирают исподтишка войско, так он желает, чтоб я отправил тебя в Нижний поразведать, что там делается, и, если можно, преклонить главных зачинщиков к покорности, обещая им милость королевскую. Он, дескать, сын боярина московского, который славился своею ненавистью к полякам, так пример его может вразумить этих малоумных: когда-де сын Димитрия Милославского целовал крест королевичу польскому, так уж, видно, так и быть должно.
– Я с радостию готов исполнить поручение Гонсевского, – отвечал Юрий, – ибо уверен в душе моей, что избрание Владислава спасет от конечной гибели наше отечество.
– Да, да, – прервал боярин, – мирвольте этим бунтовщикам! уговаривайте их! Дождетесь того, что все низовые города к ним пристанут, и тогда попытайтесь их унять. Нет, господа москвичи! не словом ласковым усмиряют непокорных, а мечом и огнем. Гонсевский прислал сюда пана Тишкевича с региментом; но этим их не запугаешь. Если б он меня послушался и отправил поболее войска, то давным бы давно не осталось в Нижнем бревна на бревне, камня на камне!
– Не весело, боярин, правой рукой отсекать себе левую; не радостно русскому восставать противу русского. Мало ли и так пролито крови христианской! Не одна тысяча православных легла под Москвою! И не противны ли господу богу молитвы тех, коих руки облиты кровию братьев?
Боярин Кручина поглядел пристально на Юрия и с насмешливой улыбкою спросил его: на котором году желает он сделаться схимником? и ради чего вместо четок прицепил саблю к своему поясу?
– Что я умею владеть саблею, боярин, – сказал Юрий, – это знают враги России; а удостоюсь ли быть схимником, про то ведает один господь.
– Да не думаешь ли ты, сердобольный посланник Гонсевского, – продолжал боярин, – что нижегородцы будут к тебе также милосердны и побоятся умертвить тебя, как предателя и слугу короля польского?
– И дело б сделали, если б я, Юрий Милославский, был слугою короля польского.
– Ого, молодчик!.. Да ты что-то крупно поговариваешь! – сказал Кручина, нахмурив свои густые брови.
– Да, боярин, – продолжал Юрий, – я служу не польскому королю, а царю русскому, Владиславу.
– Но Сигизмунд разве не отец его?
– Его, а не наш. Так думает вся Москва, так думают все русские.
– Полегче, молодец, полегче! За всех не ручайся. Ты еще молоденек, не тебе учить стариков; мы знаем лучше вашего, что пригоднее для земли русской. Сегодня ты отдохнешь, Юрий Дмитрич, а завтра чем свет отправишься в дорогу, я дам тебе грамоту к приятелю моему, боярину Истоме-Туренину. Он живет в Нижнем, и я прошу тебя во всем советоваться с этим испытанным в делах и прозорливым мужем. Пускай на первый случай нижегородцы присягнут хотя Владиславу; а там что бог даст! От сына до отца недалеко…
– Нет, боярин, пока русские не переродились…
– Добро, мы поговорим об этом после. Знай только, Юрий Дмитрич, что в сильную бурю на поврежденном корабле правит рулем не малое дитя, а опытный кормчий. Но у меня есть нужные дела… итак, не взыщи… прощай покамест! Не с ума ли сошел Гонсевский! – продолжал боярин, провожая глазами выходящего Юрия, – прислать ко мне этого мальчишку, который беспрестанно твердит о Владиславе да об отечестве! Видно, у них в Москве-то ум за разум зашел! Добро, молодчик! ты поедешь в Нижний, и чтоб у тебя на уме ни было, а меня не проведешь: или будешь плясать по моей дудке, или…
Боярин свистнул и спросил вошедшего слугу: приехал ли из города его стремянный Омляш?
– Сейчас слез с лошади, государь, – отвечал служитель.
– Скажи, чтоб он никому не показывался, а пришел бы ко мне тайком, через садовую калитку, и был бы готов к отъезду. Ступай!.. Да позови ко мне Власьевну.
Через несколько минут вошла в покой старушка лет шестидесяти, в шелковом шушуне и малиновой обложенной мехом шапочке. Помолясь иконам, она низко поклонилась боярину и, сложив смиренно руки, ожидала в почтительном молчании приказаний своего господина.
– Ну что, Власьевна, – спросил боярин, – порадуешь ли ты меня? Какова Настенька?
– Все так же, батюшка Тимофей Федорович! Ничего не кушает, сна вовсе нет; всю ночь прометалась из стороны в сторону, все изволит тосковать, а о чем – сама не знает! Уж я ее спрашивала: «Что ты, мое дитятко, что ты, моя радость? Что с тобою делается?..» – «Больна, мамушка!» – вот и весь ответ; а что болит, бог весть!
Боярин призадумался. Дурной гражданин едва ли может быть хорошим отцом; но и дикие звери любят детей своих, а сверх того, честолюбивый боярин видел в ней будущую супругу любимца короля польского; она была для него вернейшим средством к достижению почестей и могущества, составлявших единственный предмет всех тайных дум и нетерпеливых его желаний. Помолчав несколько времени, он спросил: употребляла ли больная снадобья, которые оставил ей польский врач перед отъездом своим в Москву?
– Э, эх, батюшка Тимофей Федорович! – отвечала старушка, покачав головою. – С этих-то снадобьев никак ей хуже сделалось. Воля твоя, боярин, гневайся на меня, если хочешь, а я стою в том, что Анастасье Тимофеевне попритчилось недаром. Нет, отец мой, неспроста она хворать изволит.
– Так ты думаешь, Власьевна, что она испорчена?
– Испорчена, батюшка, видит бог, испорчена!
– Я плохо этому верю; ну да если ничто не помогает, так делать нечего: поговори с Кудимычем.
– Я уж и без твоего боярского приказа хотела с ним об этом словечко перемолвить; да говорят, будто бы здесь есть какой-то прохожий, который и Кудимыча за пояс заткнул. Так не прикажешь ли, Тимофей Федорович, ему поклониться? Он теперь на селе у приказчика Фомы пирует с молодыми.
– Хорошо, пошли за ним: пусть посмотрит Настеньку. Да скажи ему: если он ей пособит, то просил бы у меня чего хочет; но если ей сделается хуже, то, даром что он колдун, не отворожится… запорю батогами!.. Ну, ступай, – продолжал боярин, вставая. – Через час, а может быть, и прежде, я приду к вам и взгляну сам на больную.
Меж тем дворянин, которому поручено было угощать Юрия, пройдя через все комнаты, ввел его в один боковой покой, в котором стояло несколько кроватей без пологов.
– Вот здесь, – сказал он, – отдыхают гости боярина. Не хочешь ли и ты успокоиться или перекусить чего-нибудь? Дорожному человеку во всякое время есть хочется.
– Благодарю, – отвечал Юрий, – я не голоден, а желал бы отдохнуть.
– Так не чинись, боярин, приляг и засни; нынче же обедать будут поздно. Тимофей Федорович хочет порядком угостить пана Тишкевича, который сегодня прибыл сюда с своим региментом. Доброго сна, Юрий Дмитрич! А я теперь пойду и взгляну, прибрали ли твоих коней.
Юрий, оставшись один, подошел к окну, из которого виден был сад, или, по-тогдашнему, огород, который и в наше время не заслужил бы другого названия. Полсотни толстых лип, две или три куртины плодовитых деревьев, большой пруд с жирными карасями, множество кустов смородины и малины и несколько гряд с овощами – вот что заменяло тогда нынешние красивые аллеи, беседки, каскады и сюрпризы. Юрию показалось, что кто-то идет по саду, вдоль забора между кустов. Он не обратил бы на это никакого внимания, если б этот человек не походил на вора, который хочет пробраться так, чтоб его никто не заметил; он шел сугробом, потому что проложенная по саду тропинка была слишком на виду, и, как будто бы с робостию, оглядывался на все стороны. По отдалению Юрий не мог рассмотреть его в лицо, но заметил, что он высокого роста и сложен богатырем. Желая хотя немного отдохнуть, Милославский, не раздеваясь, прилег на одну из кроватей. Несмотря на усталость, он долго не мог заснуть: как тяжелый свинец, неизъяснимая грусть лежала на его сердце; все светлые мечты, все радостные надежды, свобода, счастие отечества – все, что наполняло восторгом его душу, заменилось каким-то мрачным предчувствием. Слова боярина Кручины, а более всего взятие Смоленска доказывали ему, что с избранием Владислава не прекратились бедствия России. Междоусобная война, торжество врагов и, наконец, порабощение отечества во всей ужасной истине своей представились его воображению. Час от часу билось сильнее сердце пламенного юноши, кровь волновалась в ею жилах, но усталость взяла свое: глаза его сомкнулись, мечты облеклись в одежду истины, и сновидение перенесло Юрия в первопрестольный град царства Русского. Ему казалось, что все небо подернуто густым туманом; что он вместе с толпою покрытых рубищем и горько плачущих граждан московских подходит к Грановитой палате; что на высоком царском тереме развевается красное знамя с изображением одноглавого орла. Юрий с ужасом отвращает свои взоры… и вот перед ним древний храм Спаса на Бору; церковные двери растворены, он входит, и кто ж спешит к нему навстречу?.. Она! Тихий, едва слышный шепот долетает до ушей его: «Я долго, долго дожидалась тебя, мой суженый! поспешим… Священник готов; он ждет нас у налоя; пойдем!» С безмолвным восторгом Юрий прижимает к сердцу ее руку… и вот уже они стоят рядом… им подают брачные свечи… Вдруг буйные крики раздаются у дверей. Толпа поляков врывается во внутренность храма и с неистовым хохотом окружает невесту; Юрий ищет своей сабли – ее нет; хочет броситься на злодеев, но онемевшие члены ему не повинуются. С воплем отчаяния, в совершенном бессилии, он повергается на хладный церковный помост, теряет чувства и снова, как будто б пробудясь от сна, видит себя посреди Красной площади. Над ним ясные небеса… кругом толпится народ… радость на всех лицах… тихое, очаровательное пение раздается в храмах господних; вдали, сквозь тонкий туман на северо-востоке, из-за стен незнакомой ему святой обители показывается восходящее солнце… Она опять возле него; на правой руке ее обручальный перстень… Со взором, исполненным неизъяснимой нежности, она говорит ему: «Радость дней моих, ненаглядный мой! посмотри: видишь ли, как восходит солнце русское?.. Скоро, скоро заблистает в ярких лучах его наша милая родина!.. Смотри: вот гонит оно остатки грозных туч, которые вдали, как гробовой покров, чернеются на западе…» Но вдруг Юрий снова видит польских воинов, снова слышит вопли отчаяния… Она опять исчезла, и он один, как горький сирота, скитается по опустелым улицам московским или в мучительной тоске сидит посреди пирующих врагов и слышит с ужасом громкие восклицания: «Да здравствует Сигизмунд, король польский и царь русский!»
VIII
Покуда Юрий спит и обманчивые сновидения попеременно то терзают, то услаждают его душу, мы должны возвратиться к новобрачным, которых оставили посреди улицы. Читатели, вероятно, не забыли, что Кирша вмешался в толпу гостей, а Кудимыч шел впереди всего поезда. Толпа народа, провожавшая молодых, ежеминутно увеличивалась: старики, женщины и дети выбегали из хижин; на всех лицах изображалось нетерпеливое ожидание; полуодетые, босые ребятишки, дрожа от страха и холода, забегали вперед и робко посматривали на колдуна, который, приближаясь к дому новобрачных, останавливался на каждом шагу и смотрел внимательно кругом себя, показывая приметное беспокойство. Не дойдя несколько шагов до ворот избы, он вдруг остановился, задрожал и, оборотясь назад, закричал диким голосом:
– Стойте, ребята! никто ни с места!
Глухой шепот пробежал по толпе; передние стали пятиться назад, задние полезли вперед, следуя народной пословице: «на людях и смерть красна», каждый прижимался к своему соседу, и, несмотря на ужасную тесноту, один Кирша вышел вперед.
Меж тем Кудимыч делал необычайные усилия, чтоб подойти к воротам; казалось, какая-то невидимая сила тянула его назад, и каждый раз, как он подымал ногу, чтоб перешагнуть через подворотню, его отбрасывало на несколько шагов; пот градом катился с его лица. Наконец, после многих тщетных усилий он, задыхаясь, повалился на землю и прохрипел едва внятным голосом:
– Ох, неловко!.. Неладно, ребята!.. Чур меня, чур!.. Никто не моги трогаться с места!.. Ох, батюшки, недаровое! быть беде!..
От этих ужасных слов шарахнулась вся толпа; у многих волосы стали дыбом, а молодая почти без чувств упала на руки к своему отцу, который трясся и дрожал, как в злой лихорадке.
– Что нам делать? – спросил дьяк, заикаясь от страха.
– Погоди! дай попытаюсь еще, – отвечал Кудимыч, приподнимаясь с трудом на ноги. Он пробормотал несколько невнятных слов, дунул на все четыре стороны и вдруг с разбега перепрыгнул через подворотню.
– Ну, теперь не бойтесь ничего! – закричал он. – Наша взяла! Все за мной!
Он несколько раз должен был повторить это приглашение, прежде чем молодые, родня и гости решились за ним следовать; наконец, пример Кирши, который по первому призыву вошел на двор, подействовал над всеми. Кудимыч, подойдя к дверям избы, остановился, и когда сени наполнились людьми, то он, оборотясь назад, сказал:
– Я войду последний, а вы ступайте вперед и посмотрите, как разделаюсь при вас с этой старой ведьмой.
Тут снова начались церемонии: приказчик предлагал дьяку идти вперед, дьяк уступал эту честь приказчику.
– Помилуй, батюшка, – сказал, наконец, последний, – я здесь хозяин в дому, а ты гость: так милости просим.
– Ни, ни, Фома Кондратьич! – отвечал дьяк. – Ты первый служебник боярский, и непригоже мне, как фальшеру и прокурату, не отдавать подобающей тебе чести.
– Ну, если так, пожалуй, я войду, – сказал приказчик, в котором утешенное самолюбие победило на минуту весь страх. Он перекрестился, шагнул через порог и вдруг, отскоча с ужасом, закричал:
– Чур меня, чур! Там кто-то нашептывает… Иди кто хочет, я ни за что не пойду…
– Пустите меня, – сказал Кирша, – я не робкого десятка и никакой колдуньи не испугаюсь.
– Ступай, молодец, ступай! – закричали многие из гостей.
– Пускай идет, – шепнул приказчик дьяку. – Над ним бы и тряслось! Это какой-то прохожий, так не велика беда!
Кирша вошел и расположился преспокойно в переднем углу. Когда же приказчик, а за ним молодые и вся свадебная компания перебрались понемногу в избу, то взоры обратились на уродливую старуху, которая, сидя на полатях, покачивалась из стороны в сторону и шептала какие-то варварские слова. Кирша заметил на полу, под самыми полатями, несколько снопов соломы, как будто без намерения брошенных, которые тотчас напомнили ему, чем должна кончиться вся комедия.
– Ну, теперь садитесь все по лавкам, – закричал из сеней Кудимыч, – да сидите смирно! никто не шевелись!
Едва приказ был исполнен, как он с одного скачка очутился посреди избы, и в то же время старуха с диким воплем стремглав слетела с полатей и растянулась на соломе.
Все присутствующие, выключая Кирши, вскрикнули от удивления и ужаса.
– Что, Григорьевна, будешь ли напредки со мною схватываться? – сказал торжественно Кудимыч.
– Виновата, виновата! – завизжала старуха.
– Ага, покорилась, старая ведьма!
– Виновата, отец мой! виновата!
– То-то, виновата! Знай сверчок свой шесток.
– Виновата, Архип Кудимович!
– Ну, так и быть! повинную голову и меч не сечет; я ж человек не злой и лиха не помню. Добро, вставай Григорьевна! Мир так мир. Дай-ка ей чарку вина, посади ее за стол да угости хорошенько, – продолжал Кудимыч вполголоса, обращаясь к приказчику. – Не надо с ней ссориться: неровен час, меня не случится… да, что грех таить! и я насилу с ней справился: сильна, проклятая!
– Милости просим, матушка Пелагея Григорьевна! – сказал приветливо хозяин. – Садись-ка вот здесь, возле Кудимыча. Да скажи, пожалуйста: за что такая немилость? Мы, кажись, всегда в ладу живали.
– Нет, батюшка! – отвечала с низким поклоном старуха, – против тебя у меня никакого умысла не было; а правду сказать, хотелось потягаться с Архипом Кудимовичем.
– Да, видно, не под силу пришел! – перервал, усмехаясь, колдун. – Вперед наука: не спросясь броду, не суйся в воду. Ну, да что об этом толковать! Кто старое помянет, тому глаз вон! Теперь речь не о том: пора за хозяйский хлеб и соль приниматься.
В одну минуту весь стол покрылся разными похлебками. Сначала все ели молча; но дружки так усердно потчевали гостей вином и брагою, что вскоре все языки пришли в движение и общий разговор становился час от часу шумнее. Один Кирша молчал; многим из гостей и самому хозяину казалось весьма чудным поведение незнакомца, который, не будучи приглашен на свадьбу, занял первое место, ел за двоих и не говорил ни с кем ни слова; но самое это равнодушие, воинственный вид, а более всего смелость, им оказанная, внушали к нему во всех присутствующих какое-то невольное уважение; все посматривали на него с любопытством, но никто не решался с ним заговорить.
В числе гостей была одна пожилая сенная девушка, которая, пошептав с хозяином, обратилась к Кудимычу и спросила его: не может ли он пособить ее горю?
– Неравно горе, матушка Татьяна Ивановна! – отвечал Кудимыч, которого несколько чарок вина развеселили порядком. – Если ты попросишь, чтоб я убавил тебе годков пяток, так воля твоя – не могу.
– Вот еще что вздумал! – сказала сенная девушка с досадою. – Разве я перестарок какой! Не о том речь, Кудимыч; на боярском дворе сделалась пропажа.
– Уж не коня ли свели?
– Нет, красна пропали. Вчера я сама их видела: они белились на боярском огороде, а сегодня сгинули да пропали. Ночью была погода, так и следу не осталось: не знаем, на кого подумать.
– Что, видно, без меня дело не обойдется?
– То-то и есть, Архип Кудимович: выкупи из беды, родимый! Ведь я за них в ответе.
– Пожалуй, я не прочь!.. Иль нет: пускай на мировой вся честь Григорьевне. Ну-ка, родная, покажи свою удаль!
– Смею ли я при тебе, Архип Кудимович! – отвечала смиренно Григорьевна.
– Полно ломаться-то, голубушка! я уж поработал, теперь очередь за тобою.
– Ну, если ты велишь, родимый, так делать нечего. Подайте мне ковш воды.
При самом начале этого разговора глубокая тишина распространилась по всей избе: говоруны замолкли, дружки унялись потчевать, голодные перестали есть; один Кирша, не обращая ни малейшего внимания на колдуна и колдунью, ел и пил по-прежнему. Григорьевне подали ковшик с водой. Пошептав над ним несколько минут, она начала пристально смотреть на поверхность воды.
– Ах, батюшки-светы! – сказала она, наконец, покачав головою. – Кто бы мог подумать!.. Мужик богатый, семейный, а пустился на такое дело!..
– Кого ж ты видишь? – спросил с нетерпением приказчик. – Говори!
– Нет, батюшка, не могу: жаль вымолвить. На вот, смотри сам.
– Я ничего не вижу, – сказал приказчик, посмотрев на воду.
– А видишь ли ты, где боярские красна? – спросила сенная девушка.
– Вижу, – отвечала Григорьевна, – они в овине, на гумне у Федьки Хомяка.
– Так это он? – вскричал приказчик. – Тем лучше! Я уж давно до него добираюсь. Терпеть не могу этого буяна; сущий разбойник, и перед моим писарем шапки не ломает!.. Эй, ребята, сбегай кто-нибудь на гумно к Хомяку!
Один из дружек вышел поспешно из избы.
– Ну, Григорьевна! я не ожидал от тебя такой прыти, – сказал Кудимыч, – хоть бы мне, так впору. Точно, точно! – прибавил он, посмотрев в ковш с водою, – красна украл Федька Хомяк, и они теперь у него запрятаны в овине.
– Вы лжете оба! – закричал громовым голосом Кирша. Кудимыч вздрогнул, Григорьевна побледнела, и все взоры обратились на запорожца. – Я вас выучу колдовать, негодные! – продолжал Кирша. – Вы говорите, что красна в овине у Федьки Хомяка?
– Ну да, – сказал Кудимыч, оправясь от первого замешательства. – Что ты, лучше моего, что ль, это знаешь?
– Видно, лучше. Их там нет.
– Как нет? – вскричала Григорьевна.
– Да, голубушка! – отвечал спокойно Кирша. – Не за свое ремесло ты принялася, да и за выучку больно дешево платишь. Нет, тетка, одним штофом наливки и пирогом не отделаешься.
От этих неожиданных слов Кудимыч и Григорьевна едва усидели на лавке; их страх удвоился, когда вошедший дружка объявил, что не нашел красен в показанном месте.
– Да где ж они? – спросила торопливо сенная девушка.
– Небось найдутся, – сказал Кирша. – Пошлите кого-нибудь разрыть снег на задах, подле самой часовни.
Несколько гостей, не ожидая приказания, побежали вон из избы.
– Послушай, господин приказчик, – продолжал Кирша, – не греши на Федьку Хомяка: он ни в чем не виноват. Не правда ли, Кудимыч?.. Ну, что ты молчишь? Ты знаешь, что не он украл красна.
Несчастный колдун сидел неподвижно, как истукан, поглядывал с ужасом на Киршу и не мог выговорить ни слова.
– Эге, брат! так ты вздумал отмалчиваться! – закричал запорожец. – Да вот постой, любезный, я тебе язычок развяжу! Подайте-ка мне решето да кочан капусты; у меня и сам вор заговорит!
Кудимыч затрясся, как осиновый лист.
– Помилуй! – прошептал он трепещущим голосом. – Твой верх – покоряюсь!
– Что, брат, жутко пришло!
– Не губи меня, окаянного!
– А ты разве не хотел погубить Федьку Хомяка? Нет, нет… давайте решето!
– Пусти душу на покаяние! – продолжал Кудимыч, повалясь в ноги запорожцу. – Не зарежь без ножа! Да кланяйся, дура! – шепнул он Григорьевне, которая также упала на колена перед Киршею.
– И слушать не хочу! – отвечал запорожец. – Нет вам милости, негодные! Ну, что ж стали? подавайте кочан капусты!
– Помилуй! – завопил Кудимыч. – Зарок тебе даю, родимый, – век не стану колдовать.
– Полно, не будешь ли?
– Видит бог, не буду!
– И других не станешь учить?
– Не стану, батюшка!
– Ну, так и быть! пусть на свадьбе никто не горюет. Бог тебя простит, только вперед не за свое дело не берись и знай, хоть меня здесь и не будет, а если я проведаю, что ты опять ворожишь, то у тебя тот же час язык отымется.
В продолжение этой странной сцены удивление присутствующих дошло до высочайшей степени: они видели ужас Кудимыча, но никто не понимал настоящей его причины.
– Что это значит? – спросил, наконец, дьяк приказчика.
– Как что! разве не видишь, что дока на доку нашел.
– Вот что! Ну Фома Кондратьич! мудрен этот прохожий. Смотри-ка, смотри! Вон и холст несут.
Сенная девушка с радостным криком схватила холст, который внесли в избу.
– Слава тебе господи! – сказала она, осмотрев все куски. – Целехонек!.. Побегу к Власьевне и обрадую ее; а то мы не знали, как и доложить об этом боярину.
– Чего ж вы дожидаетесь? – спросил Кирша Кудимыча и Григорьевну. – Я вас простил, так убирайтесь вон! Чтоб и духу вашего здесь не пахло!
Пристыженный колдун, не отвечая ни слова, вышел вон из избы; но Григорьевна, наклонясь к Кирше, сказала вполголоса:
– Не погневайся, отец мой! я вижу, Кудимыч плохой знахарь: вот если б твоя милость взял меня на выучку…
– Молчи, старая дура! – закричал Кирша. – Пошла вон! а не то у меня опять полетишь с полатей, да только солому-то я велю прибрать.
Григорьевна, не смея продолжать разговора с грозным незнакомцем, отвесила низкий поклон всей компании и побрела вслед за Кудимычем.
– А позволь спросить твою милость, имени и отчества не знаю, – сказал приказчик запорожцу, – откуда изволишь идти и куда?
– Издалека, добрый человек; а иду туда, куда бог приведет.
– По всему видно, что ты путем пошатался на белом свете.
– Да, и так пошатался, что пора бы на покой.
– А что, господин честной, верно, ты за морем набрался такой премудрости?
– Бывал и за морем; всего натерпелся и у басурманов был в полону.
– Ой ли! Где же это? Чай, далеко отсюда?
– Далеконько… за Хвалынским морем.
– Что это, за Казанью, что ль?
– Нет, подалее: за Астраханью.
– Что, ваша милость, какова там земля? Неужли господь бог также благодать свою посылает и на этот поганый народ, как и на нас православных?
– Видно, что так. Знатная земля! всего довольно: и серебра, и золота, и самоцветных камней, и всякого съестного. Зимой только бог их обидел.
– Как так? Да неужели у них вовсе зимы нет?
– Ни снегу нейдет, ни вода не мерзнет.
– Ах, батюшки-светы! – вскричал приказчик, всплеснув руками. – Экая диковинка! Вовсе нет зимы! Подлинно божье наказанье! Да поделом им, басурманам!
– Эх, Фома Кондратьич! – шепнул дьяк приказчику. – Да разве не видишь, что он издевается над нами!
– Порасскажи-ка нам, добрый человек, – сказал один из гостей, – что там еще диковинного есть?
– Пожалуй, да вот если б здесь нашлась чарка-другая романеи, так веселей бы рассказывать.
– Для дорогого гостя как не найти, – сказал приказчик. – Эй, Марфа! вынь-ка там из поставца, с верхней полки, стклянку с романеею. Да смотри, – прибавил он потихоньку, – подай ту, что стоит направо: она уж почата.
Роменею подали; гости придвинулись поближе к запорожцу, который, выпив за здоровье молодых, принялся рассказывать всякую всячину: о басурманской вере персиян, об Араратской горе, о степях непроходимых, о золотом песке, о медовых реках, о слонах и верблюдах; мешал правду с небылицами и до того занял хозяина и гостей своими рассказами, что никто не заметил вошедшего слугу, который, переговоря с работницею Марфою, подошел к Кирше и, поклонясь ему ласково, объявил, что его требуют на боярский двор.
IX
Мы попросим теперь читателей последовать за нами во внутренность терема боярской дочери, Анастасьи Тимофеевны Занимаемая ею половина состояла из двух просторных комнат. Вокруг ничем не обитых стен первой, на широких лавках, сидели за пряжею дворовые девушки; глубокая тишина, наблюдаемая в этом покое, прерывалась только изредка тихим шепотом двух соседок или стуком веретена, падающего на пол. Вторая комната была вся обита красным сукном; в правом углу стоял раззолоченный кивот с иконами, в богатых серебряных окладах; несколько огромных, обитых жестью сундуков, с приданым и нарядами боярышни, занимали всю левую сторону покоя; в одном простенке висело четырехугольное зеркало в узорчатых рамках и шитое золотом и шелками полотенце. Прямо против дверей стояла высокая кровать с штофным пологом; кругом ее, на небольших скамейках, сидели Власьевна и несколько ближних сенных девушек; одни перенизывали дорогие монисты[58] из крупных бурмитских зерен, другие разноцветными шелками и золотом вышивали в пяльцах. На их румяных лицах цвела молодость, красота и здоровье; но веселость не оживляла ясных очей их. Утирая украдкой слезы, они посматривали печально на молодую госпожу свою, которая, облокотясь правой рукой на изголовье, была погружена в глубокую задумчивость. Краса садов, пышная роза, и увядая, прекраснее свежих полевых цветов: так точно, несмотря на изнурительную болезнь, дочь боярская казалась прекраснее всех ее окружающих девиц. Изредка грустная улыбка, напоминающая прелестное сравнение одного русского стихотворца:
Улыбка горести подобна
На гроб положенным цветам –
появлялась на розовых устах ее. Восточный жемчуг, которым украшены были ее блестящие зарукавья и белое как снег покрывало, не превосходили белизною ее бледного лица, на котором ясно изображались следы беспрерывных душевных страданий. Казалось, в ее потухших, неподвижных взорах можно было сосчитать все ночи, проведенные без сна в терзаниях мучительной тоски, понятной только для тех, которые, подобно ей, страдали, не разделяя ни с кем своей горести. Богатый парчовый опашень[59], небрежно накинутый сверх легкой объяринной ферязи[60], широкая золотая лента с жемчужной подвязью, большие изумрудные серьги, драгоценные зарукавья, одним словом, весь пышный наряд ее представлял разительную противоположность с видом глубокого уныния, которое изображалось во всех чертах лица ее.
– Ну, что ж ты молчишь, Терентьич? – сказала Власьевна, оборотясь к дверям, подле которых стоял слепой старик в поношенном синем кафтане. – Видишь, боярышня призадумалась; начни другую сказку, да, смотри, повеселее.
– Слушаю, матушка Аграфена Власьевна, – отвечал слепой с низким поклоном. – Да, кажись, и та, что я рассказывал…
– И полно, батюшка, что в ней хорошего! «Царевна полюбила доброго молодца, злые люди их разлучили… а там Змей Горыныч унес ее за тридевять земель в тридесятое государство, и она, бедная сиротинка, без милого дружка и без кровных, зачахла с тоски-кручины…» Ну, что тут веселого?
– Из сказки слова не выкинешь, матушка Аграфена Власьевна.
– Вот то-то и есть: расскажи другую.
– В угоду ли вам будет повесть о славном князе Владимире, Киевском Солнышке, Святославиче, и о сильном его, могучем богатыре Добрыне Никитиче?
– Ну, ну, рассказывай! мы послушаем.
Слепой рассказчик разгладил свою бороду, выправил усы и начал:
– «Не вихри, не ветры в полях подымаются, не буйные крутят пыль черную: выезжает то сильный, могучий богатырь Добрыня Никитич на своем коне богатырском, с одним Торопом-слугой; на нем доспехи ратные как солнышко горят; на серебряной цепи висит меч-кладенец в полтораста пуд; во правой руке копье булатное, на коне сбруя красна золота. Он подъезжает ко святому граду Киеву… глядит: в заповедных лугах княженетских раскинуты шатры басурманские, несметно войско облегает стены киевские. Завидя силу поганую, могучий Добрыня вскрикивает богатырским голосом, засвистывает молодецким посвистом. От того ли посвисту сыр-бор преклоняется и лист с деревьев осыпается; он бьет коня по крутым ребрам; богатырский конь разъяряется, мечет из-под копыт по сенной копне; бежит в поля, земля дрожит, изо рта пламя пышет, из ноздрей дым столбом. Богатырь гонит силу поганую: где конем вернет – там улица, где копьем махнет – с переулками, где мечом рубнет – нету тысячи…»
– Довольно; будет, Терентьич, – прервала тихим голосом прекрасная Анастасья. – Ты уж устал. Мамушка, вели дать ему чарку водки.
– Да выслушай, родная, – сказала Власьевна. – Может статься, он и поразвеселит тебя.
– Нет, мамушка, меня ничто не развеселит.
– Ну, власть твоя, сударыня! Ступай, Терентьич. Эй вы, красные девицы! сведите его вниз; ведь он, пожалуй, сослепу-то расшибется. Ну, матушка Анастасья Тимофеевна, – продолжала оно, – уж я, право, и не придумаю, что с тобою делать! Не позвать ли Афоньку-дурака?
– Ах, нет! не надобно.
– Сем кликнем, родная! да позовем дуру Матрешку; они поболтают, побранятся меж собой; а чтоб распотешить тебя, так, пожалуй, и подерутся, матушка.
– Зачем ты меня сегодня нарядила, мамушка? – сказала со вздохом Анастасья. – Мне и без нарядов так тяжело… так тошно!..
– И, светик мой! да как же тебе сегодня не быть нарядною? Авось бог поможет нам вниз сойти. Ведь у батюшки твоего сегодня пир горой: какой-то большой польский пан будет.
– Какой пан?.. откуда? – вскричала Анастасья.
– Чего ж ты испугалась, родимая? Ну, так и есть! ты, верно, подумала?.. Вот то-то и беда! пан, да не тот.
– Слава богу!
– Ох вы девушки, девушки! Все-то вы на одну стать! Не он, так слава богу! а если б он, так и нарядов бы у нас недостало! Нет, матушка, сегодня будет какой-то пан Тишкевич; а от жениха твоего, пана Гонсевского, прислан из Москвы гонец. Уж не сюда ли он сбирается, чтоб обвенчаться с тобою? Нечего сказать: пора бы честным пирком да за свадебку… Что ты, что ты, родная? Христос с тобой! Что с тобой сделалось? На тебе вовсе лила нет!
– Ничего, мамушка, пройдет!.. Все пройдет!.. – прошептала Анастасья едва слышным голосом. – Только, бога ради! не говори мне о пане Гонсевском!..
– Не говорить о твоем суженом? Ох, дитятко, нехорошо! Я уж давно замечаю, что ты этого не жалуешь… Неужли-то в самом деле?.. Да нет! где слыхано идти против отцовой воли; да и девичье ли дело браковать женихов! Нет, родимая, у нас благодаря бога не так, как за морем: невесты сами женихов не выбирают: за кого благословят родители, за того и ступай. Поживешь, боярышня, замужем, так самой слюбится.
– Нет, мамушка! Не жилица я на этом свете.
– И, полно, матушка! теперь-то и пожить! Жених твой знатного рода, в славе и чести; не нашей веры – так что ж? Прежний патриарх Гермоген не хотел вас благословить; но зато теперешний, святейший Игнатий, и грамоту написал к твоему батюшке, что он разрешает тебе идти с ним под венец. Так о чем же тебе грустить?
– А разве ты знаешь, что он пришел мне по сердцу?.. что я люблю его?
– И, что ты, родимая! Как не любить! Мало ли он дарил тебя и жемчугом, и золотом, и дорогими парчами, и меня старуху вспомнил. Легко ль, подумаешь! отсыпал мне, голубчик, пятьдесят золотых кораблеников (5) да на три телогреи заморского штофа подарил. И этакой суженый тебе не люб! Эх, матушка Анастасья Тимофеевна! не гневи господа бога! И что в нем охаить можно? Собою молодец: такой дородный, осанистый! Ну, право, сродясь лучше не видала; разве только… и то навряд – вот тот молодой барин, что к Спасу на Бору к обедне ходил – помнишь?.. такой еще богомольный; всегда, бывало, придет прежде нас и станет у левого клироса… Что, боярышня, повеселей стала! То-то же! слушайся нас, старух! Самой будет радостно, как на твоего муженька станут все засматриваться… Ну вот, опять нахмурилась! О, ох, родимая! Обошел тебя дурной человек!.. Да вот посмотрим, что-то бог даст сегодня!
– Анюта, – сказала Анастасья одной молодой и прекрасной девушке, которая ближе всех к ней сидела, – спой эту песню… ты знаешь… ту, что я так люблю.
Анюта, не переставая вышивать в пяльцах, запела тихим, но весьма приятным голосом:
Не сиди, мой друг поздно вечером, Ты не жги свечи воску ярого, Ты не жди меня до почуночи! Ах, прошли, прошли Паши красны дни; Наши радости Буйный ветр унес! Мне отец родной И родная мать Под венец идти Не с тобой велят. Не горят в небесах По два солнышка – Не любить двух разов Добру молодцу!.. Я послушаюсь Отца, матери: Под венец пойду Не с тобой, душа… Обвенчаюся Я с иной женой: Я с иной женой – С смертью раннею!.. Не ручей журчит, Не река шумит: Льются слезы Красной девицы; Во слезах она Слово молвила: «Ах, ты милый мой! Ты сердечный друг! Не жилица я На белом свету!.. Нет у горлинки Двух голубчиков – Нет у девицы Милых двух дружков!..» Не сидит она поздно вечером, А горит свеча воску ярого: На столе стоит нов тесовый гроб – Во гробу лежит красна девица!– Перестань, Аннушка, – сказала Власьевна. – Ты и на здорового человека тоску нагонишь. Что эго, прости господи! словно панихиду поешь!
Тут вошла одна пожилая женщина и шепнула ей что-то на ухо.
– Хорошо, хорошо! – отвечала Власьевна. – Скажи ему, чтоб он подождал. Анастасья Тимофеевна, – продолжала она, – знаешь ли что, матушка? у нас на селе теперь есть прохожий, про которого и невесть что рассказывают. Уж Кудимыч ли наш не мудрен, да и тот перед ним язычок прикусил. Позволь ему, сударыня, словечка два с тобою перемолвить… Да полно же, родная, головкою мотать! Прикажи ему войти.
– Зачем, мамушка? на что?
– А на то, моя радость, что если он подлинно человек досужий, то и твоей болезни поможет.
– Моей болезни… Нет, мамушка… мне поможет одна смерть!..
– И, полно, боярышня! Спозаранков умирать собираешься! Ну что, родная, не кликнуть ли его?
– Не надобно.
– Послушай, Анастасья Тимофеевна, ведь государь твой батюшка изволил приказать: так власть твоя, сударыня, ослушаться не смею!
– О! если батюшке угодно… так позови.
Двери отворились, и наш знакомец, Кирша, вошел в комнату. Поклонясь на все четыре стороны, он остановился у порога.
– Милости просим! – сказала Власьевна. – В добрый час! Милости просим!.. Вот наша больная…
– Вижу, бабушка, – отвечал Кирша, бросив быстрый взгляд на Анастасью. – Вижу… Гм, гм!
– Ну, что ты скажешь, отец мой?
– Что я скажу?.. Гм, гм!
– Ахти! что это, батюшка, ты мычать изволишь? Уж к добру ли?
– А вот посмотрим. Мне надобно с вашей боярышней словца два перемолвить, да так, чтоб никто не слыхал.
– Как? чтоб никто не слыхал?
– Да, да; ворожбе так надобно. Станьте-ка все поодаль.
– Нельзя ли хоть мне?..
– Нет, бабушка, никому.
– Ну, ну! быть по-твоему. Вставайте, девушки, отойдемте к дверям.
Кирша подошел к Анастасье и попросил ее показать ему правую руку. Нехотя и с приметным отвращением она исполнила его желание. Кирша, посмотрев пристально на ладонь, сказал вполголоса:
– Анастасья Тимофеевна, я должен объявить правду: тебя сглазили.
Больная взглянула с презрением на запорожца и отворотилась.
– Да, да, боярышня, – повторил важно Кирша. – Тебя, точно, сглазили голубые глаза одного русоволосого молодца. Болезнь твоя вот тут – в сердце.
Бледные щеки больной вспыхнули; она взглянула недоверчиво на Киршу, хотела что-то сказать, но слова замерли на устах ее.
– Ты нынешней зимой, – продолжал запорожец, – в первый раз встретилась с ним в Москве.
Анастасья вздрогнула, кинула робкий взгляд вокруг себя и устремила удивленные взоры на Киршу, который после минутного молчания прибавил весьма тихо:
– Ты видала его почти каждый день в соборной церкви… кажется… точно так: у Спаса на Бору.
Больная, отдернув торопливо свою руку, вскрикнула от ужаса.
– Что ты, Анастасья Тимофеевна? – спросила Власьевна, подбежав к кровати. – Что с тобою?
– Ничего, – отвечала Анастасья. – Отойди, мамушка, отойди!
– Если ты еще хоть раз подойдешь, старуха, то испортишь все дело, – сказал сердито Кирша. – Стой вон там да гляди издали! Пожалуй-ка мне опять свою ручку, боярышня, – продолжал он, когда Власьевна отошла прочь. – Вот так… гм, гм! Ну, Анастасья Тимофеевна, тебе жаловаться нечего; если он тебя сглазил, то и ты его испортила: ты крушишься о нем, а он тоскует по тебе.
– Смотрите-ка, смотрите! – шепнула Власьевна девушкам. – Что это с боярышней делается? Лицо как жар горит! Ни дать ни взять как бывало прежде… Слава тебе господи!
– Постой-ка, боярышня, – продолжал после небольшой остановки запорожец. – Да у тебя еще другая кручина, как туман осенний, на сердце лежит… Я вижу, тебя хотят выдать замуж… за одного большого польского пана… Не горюй, Анастасья Тимофеевна! Этой свадьбы не бывать! Я скажу словца два твоему батюшке, так он не повезет тебя в Москву, а твой жених сюда не приедет: ему скоро будет не до этого.
– Ах, дай-то бог! – вскричала Анастасья, сложив набожно свои руки.
– Да, да, боярышня. Нынче времена шаткие: кто сегодня вверху, тот завтра внизу.
– Глядите-ка, – сказала Анюта, – Анастасья Тимофеевна плачет, а лицо такое веселое. Что за диво!
– Нишни, Анюта, не мешай! – шепнула Власьевна, стараясь вслушаться в разговор, который, по-видимому, становился час от часу занимательнее.
– Однако ж, боярышня, – продолжал запорожец, – ты до тех пор совсем не оправишься, пока не увидишь опять того, кто тебя сглазил, и не обойдешь вместе с ним вокруг церковного налоя.
– С ним!.. – повторила Анастасья трепещущим голосом.
– Да, да, с ним! И я вижу, – прибавил Кирша, – что это рано или поздно, а будет.
Больная не могла выговорить ни слова: внезапная радость оковала уста ее; в немом восторге она устремила к небесам свои взоры. Но вдруг на лице ее изобразилось глубокое уныние, глаза померкли, и прежняя безжизненная бледность покрыла снова ее увядшие ланиты.
– Нет, – сказала она, отталкивая руку запорожца, – нет!.. покойная мать моя завещала мне возлагать всю надежду на господа, а ты – колдун; языком твоим говорит враг божий, враг истины. Отойди, оставь меня, соблазнитель, – я не верю тебе! А если б и верила, то что мне в этой радости, за которую не могу и не должна благодарить спасителя и матерь его, пресвятую богородицу!
– О! если так, боярышня, – сказал Кирша, – так знай же – я не колдун и ты без греха можешь верить словам моим.
– Ты не колдун?.. Но кто же ты?
– Для других пока останусь колдуном: без этого я не мог бы говорить с тобою; но вот тебе господь бог порукою, и пусть меня, как труса, выгонят из Незамановского куреня или, как убийцу своего брата, казака, – живого зароют в землю (6), если я не такой же православный, как и ты.
– Но каким чудом ты мог отгадать то, что знала я одна и ведал один господь?
– Долго рассказывать, боярышня; да поверь уж моей совести: право, я не колдун! а все-таки знаю, что Юрий Дмитрич Милославский тебя любит, что, может статься, вы скоро увидите друг друга… Молись богу и надейся! А что ты не будешь за паном Гонсевским, за это тебе ручается Кирша, запорожец, который знает наверное, что его милости и всем этим иноверцам скоро придется так жутко в Москве, как злому кошевому атаману на раде[61], когда начнут его уличать в неправде. Где ему о свадьбе думать! О своей голове призадумается!.. Ну, что, боярышня, полегче ли тебе?
– Ах… да! – отвечала Анастасья, приложив к сердцу свою руку.
– Теперь вы можете все подойти, – сказал Кирша, оборотясь к дверям.
– Ну, что, дитятко мое?.. – спросила торопливо Власьевна, подбежав к больной.
– Ах, мамушка, мамушка! – отвечала, всхлипывая, Анастасья. – Боже мой!.. Мне так легко… так весело!.. Поздравь меня, родная!.. – продолжала она, кинувшись к ней на шею. – Анюта… вы все… подите ко мне… дайте расцеловать себя!.. Боже мой!.. Боже мой! Не сон ли это?.. Нет, нет… Я чувствую… мое сердце… Ах, я дышу свободно!..
Слезы градом катились из прелестных очей ее, устремленных на святые иконы.
– Подите, подите, – сказала она, наконец, тихим голосом. – Я хочу остаться одна… мне надобно… я должна… ступайте, милые, оставьте меня одну!
Все вышли в другую комнату.
– Ну, батюшка, тебе честь и слава! – сказала Власьевна запорожцу. – На роду моем такого дива не видывала! С одного разу как рукой снял!.. Теперь смело проси у боярина чего хочешь.
– Я за многим не гонюсь, – отвечал Кирша, – и если боярин пожалует мне доброго коня…
– За трех не постоит! Да не нужно ли будет тебе еще поговорить с Анастасьей Тимофеевной?
– Нет, не надобно. С боярином мне нужно словцо перемолвить, а для нее… постой-ка на часок… На вот тебе…
– Что это, батюшка?.. Сухарь!
– Да, да, сухарь. Смотри: семь дней сряду давай своей боярышне пить с этого сухаря, что ей самой вздумается: воды, квасу, меду ли, все равно.
– Слушаю, батюшка.
– Кружку наливай вровень с краями и подноси левой рукой.
– Слушаю, батюшка.
– Всю неделю сама не пей ничего, кроме воды; а об наливке забудь и думать!
– Как, отец мой! и перед обедом?
– И перед обедом и после обеда. Слышишь ли? ни капельки!
– Слышу, батюшка, слышу! Ведь я еще не оглохла! Шесть дней не пить ничего, кроме воды!
– Не шесть, а ровно семь, бабушка.
– Да бишь, да! Целую неделю… Делать нечего! Недаром говорят, – прибавила Власьевна сквозь зубы, – что все эти колдуны с причудами. Семь дней!.. легко вымолвить!
Тут двое слуг, войдя поспешно, растворили дверь настежь, и боярин Кручина вошел в комнату. Все присутствующие вытянулись в нитку и отвесили молча по низкому поклону; одна Власьевна, забыв должное к нему уважение, закричала громким голосом:
– Милости просим, государь Тимофей Федорович! милости просим!.. Что пожалуешь за радостную весточку?
– Что ты, старуха, в уме ли? – сказал боярин.
– Без ума, родимый, без ума! Ведь боярышня совсем выздоровела!
– Возможно ли?
– Да, батюшка! изволь сам на нее взглянуть.
Боярин вошел к своей дочери и, поговоря с нею несколько минут, возвратился назад. Радость, удивление и вместе какая-то недоверчивость изображались на лице его; он устремил проницательный взгляд на Киршу, который весьма равнодушно, хотя и почтительно, смотрел на боярина.
– Как тебя зовут? – спросил, наконец, Кручина.
– Киршею, – отвечал запорожец.
– Давно ли ты здесь?
– С сегодняшнего утра.
– Куда идешь?
– На мою родину, в Царицын.
– Когда ты проходил двором, то повстречался с слугою боярина Милославского и говорил с ним. Ты его знаешь?
– Вчера мы ночевали вместе на постоялом дворе.
– Он объявил, что ты запорожец.
– Да, я запорожский казак; но в Царицыне у меня отец и мать.
– Не желаешь ли остаться здесь и служить мне?
– Нет, Тимофей Федорович, я хочу пожить дома.
Высокий лоб боярина покрылся морщинами; он взглянул угрюмо на запорожца и, помолчав несколько времени, продолжал:
– Ты облегчил болезнь моей дочери: чем могу наградить тебя?
– Я сгубил моего коня, боярин; а пешком ходить не привык…
– Выбирай любого на моей конюшне. Я не спрашиваю тебя, как ты умудрился помочь Анастасье; колдун ли ты, или обманщик – для меня все равно; но кто будет мне порукою, что болезнь ее не возвратится? Ты должен остаться здесь, пока я не уверюсь в совершенном ее выздоровлении.
– Нельзя, боярин: я спешу домой.
– Вздор! ты останешься.
– Нет, Тимофей Федорович, не останусь.
Боярин взглянул с удивлением на Киршу. Привыкнув к безусловному повиновению всех его окружающих, он не мог надивиться дерзости простого казака, который, находясь совершенно в его власти, осмеливался ему противоречить.
– Посмотрим, – сказал он с презрительною улыбкою, – посмотрим, удастся ли бродяге переупрямить боярина Шалонского!
– Власть твоя, Тимофей Федорович! – продолжал спокойно Кирша. – Ты волен насильно меня оставить; но смотри, чтоб после не пенять!
Глаза боярина Кручины засверкали, как у тигра.
– Молчи, холоп! – заревел он громким голосом. – Ты смеешь грозить мне!.. Знаешь ли ты, бродяга, что я могу всякого колдуна, как бешеную собаку, повесить на первой осине!
– А разве от этого тебе будет легче, – отвечал Кирша, устремив смелый взор на боярина, – когда единородная дочь твоя зачахнет и умрет прежде, чем ты назовешь знаменитого пана Гонсевского своим зятем?
Боярин побледнел как смерть; он пожирал глазами запорожца. Несколько минут продолжалось глубокое молчание, похожее на ту мертвую тишину, которая предшествует ужасному громовому удару. Наконец, страх потерять единственную дочь, а вместе с ней и все надежды на блестящую будущность победил в нем желание наказать дерзкого незнакомца. «Тот, кто излечил в несколько минут таким чудесным образом дочь его, вероятно, мог столь же легко сделать противное». Эта мысль спасла Киршу. Лицо боярина, обезображенное судорожными движениями гнева, доведенного до высочайшей степени, начало мало-помалу принимать свой обыкновенный мрачный, но спокойный вид. Он бросил грозный взгляд на всех предстоящих, как будто желая напомнить им, что дерзость Кирши не должна служить для них примером; потом, взглянув довольно ласково на запорожца, сказал:
– Ну, голубчик, ты не робкого десятка. Добро, добро! если ты не хочешь остаться, так ступай с богом! Я не стану тебя держать.
– Так-то лучше, боярин! – сказал Кирша. – Неволею из меня ничего не сделаешь; а за твою ласку я скажу тебе то, чего силою ты век бы из меня не выпытал. Анастасью Тимофеевну испортили в Москве, и если она прежде шести месяцев и шести дней опять туда приедет, то с нею сделается еще хуже, и тогда, прошу не погневаться, никто в целом свете ей не поможет.
– Шесть месяцев! – вскричал боярин. – Но в будущем месяце я должен непременно ехать с нею в Москву.
– Не езди, Тимофей Федорович!
– Не могу: я дал слово пану Гонсевскому.
– Возьми его назад.
– Нет, я не изменял никогда моему обещанию.
– Ну, воля твоя! Было бы сказано, а там делай что хочешь.
– Но не знаешь ли ты какого способа?..
– Никакого, боярин. Если ты прежде шести месяцев и шести дней привезешь боярышню в Москву, хоть, например, в понедельник, то на той же неделе в пятницу будешь ее отпевать.
– Ты лжешь, бездельник!
– А из чего мне лгать, боярин? Гневить тебя прибыли мало; и что мне до этого, поедешь ли ты в Москву, или останешься здесь?.. Я и знать об этом не буду.
Боярин призадумался, а Кирша продолжал:
– Я кончил свое дело, Тимофей Федорович; теперь позволь мне идти.
– Андрюшка! – сказал Кручина одному из слуг. – Отведи его на село к приказчику; скажи, чтоб он угостил его порядком, оставил завтра отобедать, а потом дал бы ему любого коня из моей конюшни и три золотых корабленика. Да крепко-накрепко накажи ему, – прибавил боярин вполголоса, – чтоб он не спускал его со двора и не давал никому, а особливо приезжим, говорить с ним наедине. Этот колдун мне что-то очень подозрителен!
Кирша вышел вместе с слугою, и почти в то же время на боярский двор въехали верхами человек пять поляков в богатых одеждах; а за ними столько же польских гусар, вооружение которых, несмотря на свое великолепие, показалось бы в наше время довольно чудным маскарадным нарядом. Все гусары были в латах и шишаках; к латам сзади приделаны были огромные крылья; по обеим сторонам шишака точно такие же, но гораздо менее, а за плечьми вместо плащей развевались леопардовые кожи. Каждый гусар был вооружен палашом и длинным дротиком, украшенным цветным флюгером.
– Вот и пан Тишкевич с своими товарищами! – сказал боярин Кручина, взглянув в окно. – Но кто это едет по левую его сторону?.. Мне помнится, этой красной рожи я никогда не видывал!
Сказав эти слова, Шалонский отправился навстречу к своим гостям, а Власьевна и сенная девушка вошли опять в комнату к своей боярышне.
X
Дворецкий и несколько слуг встретили гостей на крыльце; неуклюжий и толстый поляк, который ехал возле пана Тишкевича, не доезжая до крыльца, спрыгнул, или, лучше сказать, свалился с лошади, и успел прежде всех помочь региментарю сойти с коня. Вероятно, каждый из читателей наших знает, хотя по слуху, известного Санхо-Пансу; но если в эту минуту услужливый поляк весьма походил на этого знаменитого конюшего, то пан Тишкевич нимало не напоминал собою Рыцаря Плачевного Образа. Он был среднего роста, плечист и сидел молодцом на коне. Быстрые движения, смелый взгляд, смуглое откровенное лицо – все доказывало, что пан Тишкевич провел большую часть своей жизни в кругу бесстрашных воинов, живал под открытым небом и так же беззаботно ходил на смертную драку, как на шумный и веселый пир своих товарищей. Трое других молодцеватых поляков отличались огромными усами и надменным видом, совершенно противоположным добродушию, которое изображалось на открытом и благородном лице их начальника. Боярин Кручина встретил гостей в столовой комнате. При виде портрета польского короля, с известной надписью, поляки взглянули с гордой улыбкой друг на друга; пан Тишкевич также улыбнулся, но когда взоры его встретились со взорами хозяина, то что-то весьма похожее на презрение изобразилось в глазах его: казалось, он с трудом победил это чувство и не очень торопился пожать протянутую к нему руку боярина Кручины. После первых приветствий Тишкевич представил хозяину сначала своих сослуживцев, а потом толстого поляка, который исправлял при нем с таким усердием должность конюшего.
– Этот краснощекий весельчак, – сказал он, – пан Копычинский, который и без меня был бы твоим гостем, потому что отправлен к тебе гонцом из Москвы с известием, что царик[62] убит.
– Как! – вскричал Кручина. – Тушинский вор?..
– Да! его убили в Калуге, куда он всякий раз прятался, как медведь в свою берлогу.
– Насилу-то калужане за ум взялись!
– Не калужане, боярин, – сказал с важным видом Копычинский, – спроси меня, я это дело знаю: его убил перекрещенный татарин Петр Урусов; а калужские граждане, отомщая за него, перерезали всех татар и провозгласили новорожденного его сына, под именем Иоанна Дмитриевича, царем русским.
– Безумные! – вскричал боярин. – Да неужели для них честнее служить внуку сандомирского воеводы, чем державному королю польскому?.. Я уверен, что пан Гонсевский без труда усмирит этих крамольников; теперь Сапега и Лисовский не станут им помогать… Но милости просим, дорогие гости! Не угодно ли выпить и закусить чего-нибудь?
Боярин ввел своих гостей в другую комнату, в которой большой круглый стол уставлен был блюдами с холодным кушаньем и различными водками. Когда гости закусили, разговор снова возобновился.
– Знаешь ли, боярин, – сказал пан Тишкевич, обтирая свои усы, – что сегодня поутру мы охотились в твоих дачах?
– Милости просим! – отвечал боярин. – Забавляйтесь, сколько душе вашей угодно.
– И чуть-чуть, – продолжал Тишкевич, – не заполевали красного зверя.
– Так вам не удалось?
– Вот то-то и досадно! а такие зверьки не часто попадаются.
– Так что ж, пан? Если хочешь, завтра мы поохотимся вместе, и я ручаюсь тебе…
– Не ручайся, боярин: теперь этот зверь далеко. Мы ловили сегодня одного молодца, который пробирается с казною в Нижний Новгород.
– В Нижний?.. – вскричал Кручина.
– Да, в Нижний, – повторил Тишкевич. – Вот пан Копычинский лучше это расскажет; он совсем было подтенетил его.
– Да, – сказал Копычинский, вытянув чарку водки. – Он у меня сквозь пальцев проскользнул. Я застал его с двумя провожатыми на постоялом дворе, верстах в десяти отсюда; с первого взгляда он показался мне подозрительным, вот я и принялся допрашивать его порядком; он забормотал, сбился в речах и занес такую околесную, что я тот же час его и за ворот. Мой парень сначала было расхрабрился, заговорил и то и се, да я не кто другой! прижал его к стене, приставил к роже пистолет, крикнул… трусишка испугался и покаялся мне во всем.
– Да как же ты их упустил? – спросил с нетерпением боярин.
– А вот как: я велел их запереть в холодную избу, поставил караул, а сам лег соснуть; казаки мои – нет их вшисци дьябли везмо![63] – также вздремнули; так, видно, они вылезли в окно, сели на своих коней, да и до лесу… Что ж ты, боярин, качаешь головой? – продолжал Копычинский, нимало не смущаясь. – Иль не веришь? Далибук[64], так! Спроси хоть, пана региментаря.
– На меня не ссылайся, пан, – сказал Тишкевич, – я столько же знаю об этом, как и боярин, так в свидетели не гожусь; а только, мне помнится, ты рассказывал, что запер их не в избу, а в сени.
– Ну, да не все ли это равно! – прервал Копычинский. – Дело в том, что они ушли, а откуда: из сеней или из избы, от этого нам не легче. Как ты прибыл с своим региментом, то они не могли быть еще далеко, и не моя вина, если твои молодцы их не изловили.
– У одного из них убили коня, – сказал Тишкевич, – но зато и у меня лучший налет в регименте лежит теперь с простреленным плечом.
– Вылезли в окно… и с оружием! – прошептал боярин. – А не в примету ли тебе, каковы они собою?
– Один из провожатых – малый дородный, плотный…
– И также вылез в окно?..
– У страха очи велики, боярин! И в щелку пролезешь, как смерть на носу. Другой похож на казака; а самый-то главный – детина молодой, русоволосый, высокого роста, лицом бел… или, может статься, так мне показалось: он больно струсил и побледнел как смерть, когда я припугнул его пистолетом; одет очень чисто, в малиновом суконном кафтане…
– Одним словом, – перервал боярин, – точь-в-точь, как этот молодец, что стоит позади тебя.
Копычинский обернулся и, отпрыгнув назад, закричал с ужасом:
– Вот он!.. держите! схватите его!.. у него за пазухою пистолет!
– Неправда, пан, – сказал с улыбкою Юрий. – Теперь со мною нет пистолета: я чужим добром никого не угощаю.
– Что все это значит? – спросил пан Тишкевич. – Растолкуйте мне…
– Прежде всего прошу познакомиться, – сказал Кручина. – Это Юрий Дмитрии Милославский; он прислан ко мне из Москвы с тайным поручением от пана Гонсевского.
Поляки отвечали довольно вежливо на поклон Милославского; а пан Тишкевич, оборотясь к Копычинскому, спросил сердитым голосом: как он смел сочинить ему такую сказку? Копычинский не отвечал ни слова; устремя свои бездушные глаза на Юрия, он стоял как вкопанный, и только одна лихорадочная дрожь доказывала, что несчастный хвастун не совсем еще претворился в истукана.
– Я вижу, от него толку не добьешься, – продолжал Тишкевич. – Потрудись, пан Милославский, рассказать нам, как он допытался от тебя, что ты везешь казну в Нижний Новгород, как запер тебя и служителей твоих в холодную избу и как вы все трое выскочили из окна, в которое, чай, и курица не пролезет?
Юрий рассказал им все подробности своей встречи с Копычинским; разумеется, угощение и жареный гусь не были забыты. Пан Тишкевич хохотал от доброго сердца; но другие поляки, казалось, не очень забавлялись рассказом Юрия; особливо один, который, закручивая свои бесконечные усы, поглядывал исподлобья вовсе не ласково на Милославского.
– Черт возьми! – вскричал он, наконец. – Я не верю, чтоб какой ни есть поляк допустил над собою так ругаться!
– И, пан ротмистр! – сказал Тишкевич. – Не все поляки походят друг на друга.
– Если б я был на месте этого мерзавца, – продолжал сердитый ротмистр, бросив презрительный взгляд на Копычинского, который пробирался потихоньку к дверям комнаты, – то клянусь моими усами…
– Скорей дал бы себе раздробить череп, – перервал региментарь, – чем съел бы гуся! Я в этом уверен так же, как и в том, что всякий правдивый поляк порадуется, когда удалый москаль проучит хвастунишку и труса, хотя бы он носил кунтуш и назывался поляком. Давай руку, пан Милославский! Будем друзьями! Ты не враг поляков; но если б был и врагом нашим, я сказал бы то же самое. Мы молодцов любим; с ними и драться-то веселее! А ты, храбрый пан Копычинский… Ага, да он уж дал тягу!.. Тем лучше… Надеюсь, боярин, ты не заставишь нас сидеть за одним столом с этим негодяем; он, я думаю, сытехонек, а если на беду опять проголодался, то прикажи его накормить в застольне; да потешь, Тимофей Федорыч, вели его попотчевать жареным гусем!.. Кстати, пан, – прибавил он, обращаясь снова к Юрию, – мы, кажется, поменялись с тобою конями? Только на твоем недалеко уедешь: он и теперь еще лежит в лесу, на большой дороге… Нет, нет, – продолжал он, не давая отвечать Юрию, – дело кончено; я плохой барышник, вот и все тут! Владей на здоровье моим конем. Не ты виноват, что я поверил этому хвастуну Копычинскому, который должен благодарить бога за то, что не висит теперь между небом и землею; а не миновать бы ему этих качелей, если б мои молодцы подстрелили самого тебя, а не твою лошадь.
– Позволь спросить, пан региментарь, – сказал Юрий, – что сделалось с одним из моих провожатых, который остался пешим в лесу?
– Он, я думаю, и теперь еще разгуливает по лесу.
– Так он уцелел?.. Слава богу!
– Да, уцелел. Этот мошенник подбил глаз моему слуге, увел моего коня и подстрелил лучшего моего налета; но я не сержусь на него. Если б ему нечем было заменить твоей убитой лошади, то вряд ли бы я теперь с тобою познакомился.
Меж тем число гостей значительно умножилось приездом соседей Шалонского; большая часть из них были: поместные дети боярские, человек пять жильцов и только двое родословных дворян: Лесута-Храпунов и Замятня-Опалев. Первый занимал некогда при дворе царя Феодора Иоанновича значительный пост стряпчего с ключом (7). Наружность его не имела ничего замечательного: он был небольшого роста, худощав и, несмотря на осанистую свою бороду и величавую поступь, не походил нимало на важного царедворца; он говорил беспрестанно о покойном царе Феодоре Иоанновиче для того, чтобы повторять как можно чаще, что любимым его стряпчим с ключом был Лесута-Храпунов. Второй, Замятня-Опалев, бывший при сем царе думным дворянином, обещал с первого взгляда гораздо более, чем отставной придворный: он был роста высокого и чрезвычайно дороден; огромная окладистая борода, покрывая дебелую грудь его, опускалась до самого пояса; все движения его были медленны; он говорил протяжно и с расстановкою. Служив при одном из самых набожных царей русских, Замятня-Опалев привык употреблять в разговорах, кстати и некстати, изречения, почерпнутые из церковных книг, буквальное изучение которых было в тогдашнее время признаком отличного воспитания и нередко заменяло ум и даже природные способности, необходимые для государственного человека. Борис Феодорович Годунов, умея ценить людей по их достоинствам, вскоре по восшествии своем на престол уволил их обоих от службы. С тех пор из уклончивых придворных они превратились в величайших, хотя и вовсе не опасных, врагов правительства. Все, что ни делалось при дворе, становилось предметом их всегдашних порицаний; признание Лжедимитрия царем русским, междуцарствие, вторжение врагов в сердце России – одним словом: все бедствия отечества были, по их мнению, следствием оказанной им несправедливости. «Когда б блаженной памяти царь Феодор Иоаннович здравствовал и Лесута-Храпунов был на своем месте, – говаривал отставной стряпчий, – то Гришка Отрепьев не смел бы и подумать назваться Димитрием». «Если б дворянин Опалев заседал по-прежнему в царской думе, – повторял беспрестанно Замятня, – то не поляки бы были в Москве, а русские в Кракове. Но, – прибавлял он, всегда с горькой улыбкою, – блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!» В царствование Лжедимитрия, а потом Шуйского оба заштатные чиновника старались опять попасть ко двору; но попытки их не имели успеха, и они решились пристать к партии боярина Шалонского, который обнадежил Лесуту, что с присоединением России к польской короне число сановников при дворе короля Сигизмунда неминуемо удвоится и он не только займет при оном место, равное прежней его степени, но даже, в награду усердной службы, получит звание одного из дворцовых маршалов его польского величества. А Замятню-Опалева уверил, что он непременно будет заседать в польском сенате, в котором по уничтожении думы учредятся места сенаторов по делам, касающимся до России.
Когда хозяин познакомил этих двух отставных сановников с поляками, Замятня после некоторых приветствий, произнесенных со всею важностью будущего сенатора, спросил пана Тишкевича: не из Москвы ли он идет с региментом?
– Из Москвы, – отвечал отрывисто поляк, которому надутый вид Опалева с первого взгляда не понравился.
– Итак, справедливо, – спросил в свою очередь Лесута-Храпунов, – что в Москве целовали крест не светлейшему королю Сигизмунду, а юному сыну его Владиславу?
– Справедливо.
– Хороши же там сидят головы! – воскликнул Замятня. – «Горе тебе, граде, в нем же царь твой юн!» – вещает премудрый Соломон; да и чего ждать от бояр, которые заседали в думе при злодее Годунове?
– Для чего же ты не едешь сам в Москву? – сказал насмешливо пан Тишкевич. – Ты бы их наставил на путь истинный.
– Чтоб я стал якшаться с этими малоумными?.. Сохрани господи!.. Недаром говорит Сирах: «Касаяйся смоле, очернится, а приобщаяйся безумным, точен им будет».
– Вот то-то и есть! – подхватил Лесута. – При блаженной памяти царе Феодоре Иоанновиче были головы, а нынче… Да что тут говорить!.. Когда я служил при светлом лице его, в сане стряпчего с ключом, то однажды его царское величество, идя от заутрени, изволил мне сказать…
– Ты расскажешь нам это за столом, – перервал хозяин. – Милости просим, дорогие гости! чем бог послал!
Все вышли снова в столовую, в которой накрытый цветною скатертью стол уставлен был множеством различных кушаньев. Все блюда, тарелки и чаши были оловянные; но напротив стола в открытом поставце расставлены были весьма красиво: серебряные ковши, кубки, стопы, чары и братины. Против каждых двух приборов стояли также серебряные сосуды: один с солью, другой с перцем, а третий, стеклянный, с уксусом. Лучшим и роскошнейшим блюдом был жареный павлин; им и начался обед; потом стали подавать лапшу с курицею, ленивые щи, разные похлебки, пирог с бараниной, курник, подсыпанный яйцами, сырники и различные жаркие. Множество блюд составляло все великолепие столов тогдашнего времени; впрочем, предки наши были неприхотливы и за столом любили только одно: наедаться досыта и напиваться до упаду. Обед оканчивался обыкновенно закусками, между коими занимали первое место марципаны, цукаты, инбирь в патоке, шептала и леденцы; пряники и коврижки, так же как и ныне, подавались после обеда у одних простолюдинов и бедных дворян.
Когда все наелись, началась попойка. Сколько Юрий, сидевший подле пана Тишкевича, ни отказывался, но принужден бы был пить не менее других, если б, к счастию, не мог ссылаться на пример своего соседа, который решительно отказался пить из больших кубков, и хотя хозяин начинал несколько раз хмуриться, но из уважения к региментарю оставил их обоих в покое и выместил свою досаду на других. Один седой жилец не допил своего кубка, – боярин принудил его самого вылить себе остаток меда на голову; боярскому сыну, который отказался выпить кружку наливки, велел насильно влить в рот большой стакан полынной водки и хохотал во все горло, когда несчастный гость, задыхаясь и почти без чувств, повалился на пол. Между тем и пан Тишкевич, несмотря на свою умеренность, стал поговаривать веселее.
– Боярин! – сказал он. – Если б супруга твоя здравствовала, то, верно б, не отказалась поднести нам по чарке вина и. допустила бы взглянуть на светлые свои очи; так нельзя ли нам удостоиться присутствия твоей прекрасной дочери? У вас, может быть, не в обычае, чтоб девицы показывались гостям; но ведь ты, боярин, почти наш брат поляк: дозволь полюбоваться невестою пана Гонсевского.
– И выпить из башмачка ее, – прибавил усатый ротмистр, – за здравие знаменитого жениха и счастливое окончание веселья.
– Она не очень здорова, – отвечал Кручина.
– Мы все тебя об этом просим! – закричали поляки.
– Быть по-вашему, – сказал хозяин, подозвав к себе одного служителя, который, выслушав приказание своего господина, вышел поспешно вон из комнаты.
– А скоро ли, боярин, веселье? – спросил региментарь.
– Я хотел было в будущем месяце ехать в Москву…
– Не советую: там что-то все не ладится; того и гляди начнется такая попойка, что и у трезвых в голове зашумит.
– Как так! – сказал Лесута-Храпунов. – Да разве не вы господа в Москве?
– Да, покамест! – отвечал Тишкевич. – Войти-то в нее мы вошли…
– «В граде крепкий вниде премудрый, – перервал, заикаясь, Опалев, – и разруши утверждение, на неже надеяшася нечестивии!»
– Вот то-то и худо, что не вовсе разрушили, – продолжал Тишкевич. – Ну, да что об этом говорить! Наше дело рубиться, а об остальном знают лучше нас старшие.
– И ведомо так, – сказал Лесута. – Когда я был стряпчим с ключом, то однажды блаженной памяти царь Феодор Иоаннович, идя к обедне, изволил сказать мне: «Ты, Лесута, малый добрый, знаешь свою стряпню, а в чужие дела не мешаешься». В другое время, как он изволил отслушать часы и я стал ему докладывать, что любимую его шапку попортила моль…
– Не о шапке речь, – перервал хозяин, – изволь допивать свой кубок! Да и ты, любезный сосед, – продолжал он, обращаясь к Замятие, – прошу от других не отставать. Допивай… Вот так! люблю за обычай! Теперь просим покорно вот этого…
– Ни, ни, боярин! – отвечал Замятня, с трудом пошевеливая усами, – сказано бо есть: «Не упивайся вином».
– Да это не вино, а наливка!
– Ой ли? Ну, если так, пожалуй! Наливку пить закон не претит.
– Вестимо, нет, – примолвил Лесута. – Покойный государь, Феодор Иоаннович, всегда, отслушав вечерню, изволил выкушивать чарку вишневки, которую однажды поднося ему на золотом подносе, я сказал…
– Моя хоть и не на золотом подносе, – перервал хозяин, – а прошу прикушать!.. Ну что, какова?
– «Не красна похвала в устах грешника», – глаголет премудрый Сирах, – сказал Замятня, осуша свой кубок, – а нельзя достойно не восхвалить: наливка, ей-же-ей, преизрядная!
Когда к концу обеда все гости порядком подгуляли, боярин Кручина велел снова наполнить серебряные стопы и сказал громким голосом:
– Кто любит Кручину-Шалонского, тот за мной!.. За здравие победителей Смоленска!
– Виват! – закричали поляки.
– Да здравствуют все неустрашимые воины! – примолвил Тишкевич, подняв кверху свой кубок.
Все гости, кроме Юрия, осушили свои стопы.
– Пей, Юрий Дмитрич! – закричал боярин.
– Я пью на погибель врагов, а смоляне – русские и братья наши, – отвечал спокойно Юрий.
– Твои, а не мои, – возразил Кручина, бросив презрительный взгляд на Юрия. – Бунтовщики и крамольники никогда не будут братьями Шалонского.
– Жаль, молодец, – сказал Тишкевич, пожав руку Юрия, – жаль, что ты не наш брат поляк!
Угрюмое чело боярина Кручины час от часу становилось мрачнее: несколько минут продолжалось общее молчание: все глядели с удивлением на дерзкою юношу, который осмеливался столь явно противоречить и не повиноваться грозному хозяину.
– Посмотрим, как ты не выпьешь теперь! – прошептал, наконец, сквозь зубы боярин. Он спросил позолоченный кубок и, вылив в него полбутылки мальвазии, встал с своего места, все последовали его примеру.
– Ну, дорогие гости! – сказал он. – Этот кубок должен всех обойти. Кто пьет из него, – прибавил он, бросив грозный взгляд на Юрия, – тот друг наш; кто не пьет, тот враг и супостат! За здравие светлейшего, державнейшего Сигизмунда, короля польского и царя русского! Да здравствует!
– Виват! – воскликнули поляки.
– Да здравствует, – повторили все русские, кроме Юрия.
– «И да расточатся врази его! – заревел басом Замятня-Опалев. – Да прейдет живот их, яко след облака и яко мгла разрушится от луч солнечных».
– Аминь! – возгласил хозяин, опрокинув осушенный кубок над своей головою.
Юрий едва мог скрывать свое негодование: кровь кипела в его жилах, он менялся беспрестанно в лице; правая рука его невольно искала рукоятку сабли, а левая, крепко прижатая к груди, казалось, хотела удержать сердце, готовое вырваться наружу. Когда очередь дошла до него, глаза благородного юноши заблистали необыкновенным огнем; он окинул беглым взором всех пирующих и сказал твердым голосом:
– Боярин, ты предлагаешь нам пить за здравие царя русского; итак, да здравствует Владислав, законный царь русский, и да погибнут все изменники и враги отечества!
– Стой, Милославский! – закричал хозяин. – Или пей, как указано, или кубок мимо!
– Подавай другим, – сказал Юрий, отдавая кубок дворецкому.
– Слушай, Юрий Дмитрич! – продолжал боярин с возрастающим бешенством. – Мне уж надоело твое упрямство; с своим уставом в чужой монастырь не заглядывай! Пей, как все пьют.
– Я твой гость, а не раб, – отвечал Юрий. – Приказывай тому, кто не может тебя ослушаться.
– Ты будешь пить, дерзкий мальчишка! – прошипел, как змей, дрожащим от бешенства голосом Кручина. – Да, клянусь честию, ты выпьешь или захлебнешься! Подайте кубок!.. Гей, Томила, Удалой, сюда!
Двое огромного роста слуг, с зверскими лицами, подошли к Юрию.
– Боярин! – сказал Милославский, взглянув презрительно на служителей, которые, казалось, не слишком охотно повиновались своему господину. – Я без оружия, в твоем доме… и если ты хочешь прослыть разбойником, то можешь легко меня обидеть; но не забудь, боярин: обидев Милославского, берегись оставить его живого!
– В последний раз спрашиваю тебя, – продолжал едва внятным голосом Шалонский, – хочешь ли ты волею пить за здравие Сигизмунда, так, как пьем мы все?
– Нет.
– Пей, говорю я тебе! – повторил Кручина, устремив на Юрия, как раскаленный уголь, сверкающие глаза.
– Милославские не изменяли никогда ни присяге, ни отечеству, ни слову своему. Не пью!
– Так влейте же ему весь кубок в горло! – заревел неистовым голосом хозяин.
– Стойте! – вскричал пан Тишкевич. – Стыдись, боярин! Он твой гость, дворянин; если ты позабыл это, то я не допущу его обидеть. Прочь, негодяи! – прибавил он, схватясь за свою саблю. – Или… клянусь честию польского солдата, ваши дурацкие башки сей же час вылетят за окно!
Оробевшие слуги отступили назад, а боярин, задыхаясь от злобы, в продолжение нескольких минут не мог вымолвить ни слова. Наконец, оборотясь к поляку, сказал прерывающимся голосом:
– Не погневайся, пан Тишкевич, если я напомню тебе, что ты здесь не у себя в регименте, а в моем дому, где, кроме меня, никто не волен хозяйничать.
– Не взыщи, боярин! Я привык хозяйничать везде, где настоящий хозяин не помнит, что делает. Мы, поляки, можем и должны желать, чтоб наш король был царем русским; мы присягали Сигизмунду, но Милославский целовал крест не ему, а Владиславу. Что будет, то бог весть, а теперь он делает то, что сделал бы и я на его месте.
Казалось, боярин Кручина успел несколько поразмыслить и догадаться, что зашел слишком далеко; помолчав несколько времени, он сказал довольно спокойно Тишкевичу:
– Дивлюсь, пан, как горячо ты защищаешь недруга твоего государя.
– Да, боярин, я грудью стану за друга и недруга, если он молодец и смело идет на неравный бой; а не заступлюсь за труса и подлеца, каков пан Копычинский, хотя б он был родным моим братом.
– Но неужели ты поверил, что я в самом деле решусь обидеть моего гостя? И, пан Тишкевич! Я хотел только попугать его, а по мне, пожалуй, пусть пьет хоть за здравие татарского хана: от его слов никого не убудет. Подайте ему кубок!
Юрий взял кубок и, оборотясь к хозяину, повторил снова:
– Да здравствует законный царь русский, и да погибнут все враги и предатели отечества!
– Аминь! – раздался громкий голос за дверьми столовой.
– Что это значит? – закричал Кручина. – Кто осмелился?.. Подайте его сюда!
Двери отворились, и человек средних лет, босиком, в рубище, подпоясанный веревкою, с растрепанными волосами и всклоченной бородою, в два прыжка очутился посреди комнаты. Несмотря на нищенскую его одежду и странные ухватки, сейчас можно было догадаться, что он не сумасшедший: глаза его блистали умом, а на благообразном лице выражалась необыкновенная кротость и спокойствие души.
– Ба, ба, ба, Митя! – вскричал Замятня-Опалев, который вместе с Лесутой-Храпуновым во все продолжение предыдущей сцены наблюдал осторожное молчание. – Как это бог тебя принес? Я думал, что ты в Москве.
– Нет, Гаврилыч, – отвечал юродивый, – там душно, а Митя любит простор. То ли дело в чистом поле! Молись на все четыре стороны, никто не помешает.
– Зачем впустили этого дурака? – сказал Кручина.
– Кто он таков? – спросил Тишкевич.
– Тунеядец, мироед, который бог знает почему прослыл юродивым.
– Не выгоняй его, боярин! Я никогда не видывал ваших юродивых: послушаем, что он будет говорить.
– Пожалуй; только у меня есть дураки гораздо его забавнее. Эй ты, блаженный! зачем ко мне пожаловал?
– Соскучился по тебе, Федорыч, – отвечал Митя. – Эх, жаль мне тебя, видит бог, жаль! Худо, Федорыч, худо!.. Митя шел селом да плакал: мужички испитые, церковь на боку… а ты себе на уме: попиваешь да бражничаешь с приятелями!.. А вот как все проешь да выпьешь, чем-то станешь угощать нежданную гостью?.. Хвать, хвать – ан в погребе и вина нет! Худо, Федорыч, худо!
– Что ты врешь, дурак?
– Так, Федорыч, Митя болтает что ему вздумается, а смерть придет, как бог велит… Ты думаешь – со двора, а голубушка – на двор: не успеешь стола накрыть… Здравствуй, Дмитрич, – продолжал он, подойдя к Юрию. – И ты здесь попиваешь?.. Ай да молодец!.. Смотри не охмелей!
– Мне помнится, Митя, я видал тебя у покойного батюшки? – сказал ласково Юрий.
– Да, да, Дмитрич. Жаль тезку: раненько умер; при нем не залетать бы к коршунам ясному соколу. Жаль мне тебя, голубчик, жаль! Связал себя по рукам, по ногам!.. Да бог милостив! не век в кандалах ходить!.. Побывай у Сергия – легче будет!
– Эй ты, Митя! – сказал Тишкевич, – полно говорить с другими. Поговори со мной.
– А что мне говорить с тобою? Вишь ты какой усатый!.. Боюсь!
– Не бойся!.. На-ка вот тебе! – продолжал поляк, подавая ему серебряную монету.
– Спасибо!.. На что мне?.. Я ведь на своей стороне: с голоду не умру; побереги для себя: ты человек заезжий.
– Возьми, у меня и без этой много.
– Ой ли? Смотри, чтоб достало!.. Погостишь, погостишь, да надо же в дорогу… Не близко место, не скоро до дому дойдешь… Да еще неравно и проводы будут… Береги денежку на черный день!
– Я черных дней не боюсь, Митя.
– И я, брат, в тебя! Не боюсь ничего: пришел незваный, да и все тут!.. А как хозяин погонит, так давай бог ноги!
– И давно пора! – сказал Кручина, которому весьма не нравились двусмысленные слова юродивого. – Убирайся-ка вон, покуда цел!
– Пойду, пойду, Федорыч! Я не в других: не стану дожидаться, чтоб меня в шею протолкали. А жаль мне тебя, голубчик, право жаль! То-то вдовье дело!.. Некому тебя ни прибрать, ни прихолить!.. Смотри-ка, сердечный, как ты замаран!.. чернехонек!.. местечка беленького не осталось!.. Эх, Федорыч, Федорыч!.. Не век жить неумойкою! Пора прибраться!.. Захватит гостья немытого, плохо будет!
– Я не хочу понимать дерзких речей твоих, безумный!.. Пошел вон!
– Послушай-ка, Гаврилыч! – продолжал юродивый, обращаясь к Замятне. – Ты книжный человек; где бишь это говорится: «Сеявый злая, пожнет злая»?
– В притчах Соломоновых, – отвечал важно Замятня, – он же, премудрый Соломон, глаголет: «Не сей на браздах неправды, не имаши пожати ю с седмерицею».
– Слышишь ли, Федорыч! что говорят умные люди? А мы с тобой дураки, не понимаем, как не понимаем!
– Вон отсюда, бродяга! или я размозжу тебе голову!
– Бей, Федорыч, бей! А Митя все-таки свое будет говорить… Бедненький ох, а за бедненьким бог! А как Федорычу придется охать, то-то худо будет!.. Он заохает, а мужички его вдвое… Он закричит: «Господи помилуй»… а в тысячу голосов завопят: «Он сам никого не миловал»… Так знаешь ли что, Федорыч? из-за других-то тебя вовсе не слышно будет!.. Жаль мне тебя, жаль!
– Молчи, змея! – вскричал боярин, вскочив из-за стола. Он замахнулся на юродивого, который, сложа крестом руки, смотрел на него с видом величайшей кротости и душевного соболезнования; вдруг двери во внутренние покои растворились, и кто-то громко вскрикнул. Боярин вздрогнул, с испуганным видом поспешил в другую комнату, слуги начали суетиться, и все гости повскакали с своих мест. Юрий сидел против самых дверей: он видел, что пышно одетая девица, покрытая с головы до ног богатой фатою, упала без чувств на руки к старухе, которая шла позади ее. В минуту общего смятения юродивый подбежал к Юрию.
– Смотри, Дмитрич! – сказал он, – крепись… Терпи!.. Стерпится – слюбится! Ты постоишь за правду, а тезка-то, вон там, и заговорит: «Ай да сынок! утешил мою душеньку!..» Прощай покамест!.. Митя будет молиться богу, молись и ты!.. Он не в нас: хоть и высоко, а все слышит!.. А у Троицы-то, Дмитрич! у Троицы… раздолье, есть где помолиться!.. Не забудь!.. – Сказав сии слова, он выбежал вон из комнаты.
Юрий едва слышал, что говорил ему юродивый; он не понимал сам, что с ним делалось: голос упавшей в обморок девицы, вероятно дочери боярина Кручины, проник до глубины его сердца: что-то знакомое, близкое душе его отозвалось в этом крике, который, казалось Юрию, походил более на радостное восклицание, чем на вопль горести. Он не смел мыслить, не смел надеяться; но против воли Москва, Кремль, Спас на Бору и прекрасная незнакомка представились его воображению. Более получаса боярин не показывался, и когда он вошел обратно в столовую комнату, то, несмотря на то что весьма скоро притворил дверь в соседственный покой, Юрий успел разглядеть, что в нем никого не было, кроме одного высокого ростом служителя, спешившего уйти в противоположные двери. Милославскому показалось, что этот служитель походит на человека, замеченного им поутру в боярском саду.
– Дочь моя, – сказал Шалонский пану Тишкевичу, – весьма жалеет, что не может тебя видеть; она не совсем еще здорова и очень слаба; но надеюсь, что скоро…
– Заалеет опять, как маков цвет, – перервал Лесута-Храпунов. – Нечего сказать, всякий позавидует пану Гонсевскому, когда Анастасья Тимофеевна будет его супругою.
– «Жена доблия веселит мужа своего, – примолвил Замятня, – и лета его исполнит миром».
– Да будет по глаголу твоему, сосед! – сказал с улыбкою Кручина. – Юрий Дмитрич, – продолжал он, подойдя к Милославскому, – ты что-то призадумался… Помиримся! Я и сам виню себя, что некстати погорячился. Ты целовал крест сыну, я готов присягнуть отцу – оба мы желаем блага нашему отечеству: так ссориться нам не за что, а чему быть, тому не миновать.
Юрий, в знак примирения, подал ему руку.
– Ну, дорогие гости, – продолжал боярин, – теперь милости просим повеселиться. Гей, наливайте кубки! подносите взварец[65], да песенников – живо!
Толпа дворовых, одетых по большей части в охотничьи платья польского покроя, вошла в комнату. Инструментальную часть хора составляли: гудок, балалайка, рожок, медные тазы и сковороды. По знаку хозяина раздались удалые волжские песни, и через несколько минут столовая комната превратилась в настоящий цыганский табор. Все приличия были забыты: пьяные господа обнимали пьяных слуг; некоторые гости ревели наразлад вместе с песенниками; другие, у которых ноги были тверже языка, приплясывали и кривлялись, как рыночные скоморохи, и даже важный Замятня-Опалев несколько раз приподнимался, чтоб проплясать голубца; но, видя, что все его усилия напрасны, пробормотал: «Сердце мое смятеся, и остави мя сила моя!» Пан Тишкевич хотя не принимал участия в сих отвратительных забавах, но, казалось, не скучал и смеялся от доброго сердца, смотря на безумные потехи других. Напротив, Юрий, привыкший с младенчества к благочестию в доме отца своего, ожидал только удобной минуты, чтобы уйти в свою комнату; он желал этого тем более, что день клонился уже к вечеру, а ему должно было отправиться чем свет в дорогу.
Громкие восклицания возвестили появление плясунов и плясуньев. Бесстыдство и разврат, во всей безобразной наготе своей, представились тогда изумленным взорам Юрия. Он не смел никогда не помыслить, чтоб человек, созданный по образу и по подобию божию, мог унизиться до такой степени. Все гости походили на беснующихся; их буйное веселье, неистовые вопли, обезображенные вином лица – все согласовалось с отвратительным криком полупьяного хора и гнусным содержанием развратных песен. Боярину Кручине показалось, что один из плясунов прыгает хуже обыкновенного.
– Эге, Андрюшка! – закричал он, – да ты никак стал умничать? Погоди, голубчик, у меня прибавишь провору! Гей, Томила! Удалой! в плети его!
Приказание в ту ж минуту было исполнено.
– Что, брат? – сказал с громким хохотом Кручина несчастному плясуну, которого жалобный крик сливался с веселыми восклицаниями пирующих. – Никак под эту песенку ты живее поплясываешь!.. Катай его!..
Юрий хотел было умилостивить боярина; но он не стал его слушать, а Замятня-Опалев закричал:
– Не мешайся, молодец, не в свои дела! Писано есть: «Непокоривому рабу сокруши ребра»; и Сирах глаголет: «Пища и жезлие и бремя ослу; хлеб и наказание и дело рабу».
– Но он же, премудрый Сирах, вещает, – перервал Лесута, радуясь, что может также похвастаться своей ученостью, – «Не буди излишен над всякою плотию и без суда не сотвори ни чесо же». Это часто изволил мне говаривать блаженной памяти царь Феодор Иоаннович. Как теперь помню, однажды, отстояв всенощную, его царское величество…
– Верно, пошел спать, – перервал Тишкевич. – Кажется, и нам пора. Прощай, боярин! Пусть мои товарищи веселятся у тебя хоть всю ночь, а я привык вставать рано, так мне пора на покой.
Хозяин не стал удерживать региментаря и Милославского, который также с ним распрощался. Комната, где до обеда отдыхал Юрий, назначена была полякам, а ему отвели покой в отдаленном домике, на другом конце двора. Он нашел в нем своего слугу, который, по-видимому, угощен был не хуже своего господина и едва стоял на ногах. Милославский, помолясь богу, разделся без помощи Алексея и прилег на мягкую перину; но сон бежал от глаз его: впечатление, произведенное на Юрия появлением боярской дочери, не совсем еще изгладилось, мысль, что, может быть, он провел весь день под одною кровлею с своей прекрасной незнакомкой, наполняла ею душу каким-то грустным, неизъяснимым чувством. Но вскоре самая простая мысль уничтожила все его догадки: он много раз видал свою незнакомку, но никогда не слышал ее голоса, следовательно, если б она была и дочерью боярина Кручины, то, не увидав ее в лицо, он не мог узнать ее по одному только голосу; а сверх того, ему утешительнее было думать, что он ошибся, чем узнать, что его незнакомка – дочь боярина Кручины и невеста пана Гонсевского. Мало-помалу успокоилось волнение в крови его, воображение охладело, и Юрий, наконец, заснул крепким и спокойным сном.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Порядок нашего повествования требует, чтоб мы возвратились несколько назад Читатели, вероятно, не забыли, что Кирша, поддержав с честию славу искусного колдуна, отправился в провожании одного слуги обратно в дом приказчика Ему хотелось выведать, долго ли пробудет Юрий в доме боярина Шалонского и когда оставит его, то по какой отправится дороге Кирша был удалой наездник, любил подраться, попить, побуянить; но и в самом пылу сражения щадил безоружного врага, не забавлялся, подобно своим товарищам, над пленными, то есть не резал им ни ушей, ни носов, а только, обобрав с ног до головы и оставив в одной рубашке, отпускал их на все четыре стороны. Правда, это случалось иногда зимою, в трескучие морозы, но зато и летом он поступал с ними с тем же самым милосердием и терпеливо сносил насмешки товарищей, которые называли его отцом Киршею и говорили, что он не запорожский казак, а баба. Вечно мстить за нанесенную обиду и никогда не забывать сделанного ему добра – вот правило, которому Кирша не изменял во всю жизнь свою. Юрий спас его от смерти, и он готов был ежедневно подвергать свою жизнь опасности, чтоб оказать ему хотя малейшую услугу; а посему и не удивительно, что ему весьма хотелось знать: скоро ли и куда поедет Юрий? Когда он сошел с боярского двора, то спросил своего провожатого: не знает ли он, как долго пробудет у них Милославский?
– Не знаю, – отвечал отрывисто слуга – А не можешь ли, молодец, спросить об этом у его служителя?
– Нет.
– Нет? Ну, если ты не хочешь, так мне можно с ним поговорить?
– Нет.
– А если я пойду сам искать его?
– Я не пущу тебя.
– А если я тебя не послушаюсь?
– Я возьму тебя за ворот.
– За ворот! А если я хвачу тебя за это кулаком?
– Я кликну людей, и мы переломаем тебе ребра.
– Коротко и ясно! Так мне никак нельзя его видеть?
– Нет.
– А скажи, пожалуйста: все ли боярские холопи такие медведи, как ты?
– Попадешься к ним в лапы, так сам узнаешь.
– Спасибо за ласку!
– Неначем.
В продолжение этого разговора они подошли к приказчиковой избе; слуга, сдав Киршу с рук на руки хозяину, отправился назад. Веселое общество пирующих встретило его с громкими восклицаниями. Все уже знали, каким счастливым успехом увенчалась ворожба запорожца; старая сенная девушка, бывшая свидетельницею этого чудного излечения, бегала из двора во двор как полоумная, и радостная весть со всеми подробностями и прикрасами, подобно быстрому потоку, распространилась по всему селу.
– Милости просим! батюшка, милости просим! – сказал хозяин, сажая его в передний угол. – Расскажи нам, как ты вылечил боярышню? Ведь она точно была испорчена?
– Да, хозяин, испорчена.
– Правда ли, – спросил дьяк, – что лишь только ты вошел в терем, то Анастасья Тимофеевна залаяла собакою?
– И, нет, Мемнон Филиппович! – возразил один из гостей. – Татьяна сказывала, что боярышня запела петухом.
– Ну, вот еще! – вскричал хозяин. – Неправда, она куковала кукушкою, а петухом не пела!
– Помилуй, Фома Кондратьич! – перервала одна толстая сваха. – Да разве Татьяна не при мне рассказывала, что боярышня изволила выкликать всеми звериными голосами?
– Татьяна врет! – сказал важно Кирша. – Когда я примусь нашептывать, так у меня хоть какая кликуша язычок прикусит. Да и пристало ли боярской дочери лаять собакою и петь петухом! Она не ваша сестра холопка: будет с нее и того, что почахнет да потоскует.
– Истинно так, милостивец! – примолвил дьяк. – Не пригоже такой именитой боярышне быть кликушею… Иная речь в нашем быту: паше дело таковское, а их милость…
– Что толковать о боярах! – перервал приказчик. – Послушай-ка, добрый человек! Тимофей Федорович приказал тебе выдать три золотых корабленика да жалует тебя на выбор любым конем из своей боярской конюшни.
– Знаю, хозяин.
– Ну то-то же; смотри не позарься на вороного аргамака, с белой на лбу отметиной.
– А для чего же нет?
– Он, правда, конь богатый: персидской породы, четырех лет и недаром прозван Вихрем – русака на скаку затопчет…
– Что ж тут дурного?
– А то, что на нем не усидел бы и могучий богатырь Еруслан Лазаревич. Такое зелье, что боже упаси! Сесть-то на него всякий сядет, только до сих пор никто еще не слезал с него порядком: сначала и туда и сюда, да вдруг как взовьется на дыбы, учнет передом и задом – батюшки-светы!.. хоть кому небо с овчинку покажется!
В продолжение этого рассказа глаза запорожца сверкали от радости.
– Давай его сюда! – закричал он. – Его-то мне и надобно! Черт ли в этих заводских клячах! Подавай нам из косяка… зверя!
– Вот еще что! – сказал приказчик, глядя с удивлением на восторг запорожца. – Видно, брат, у тебя шея-то крепка! Ну, что за потеха…
– Что за потеха! Эх, хозяин! не арканил ты на всем скаку лихого коня, не смучивал его в чистом поле, не приводил овечкою в свой курень, так тебе ли знать потехи удалых казаков!.. Что за конь, если на нем и баба усидит!
– Да, да! – шепнул дьяк приказчику. – Ему легко; не сам сидит, черти держут.
Меж тем молодые давно уже скрылись, гости стали уходить один после другого, и вскоре в избе остались только хозяин, сваха, дружка и Кирша. Приказчик, по тогдашнему русскому обычаю (8), которому не следовал его боярин, старавшийся во всем подражать полякам, предложил Кирше отдохнуть, и через несколько минут в избе все стихло, как в глубокую полночь.
Кирша проснулся прежде всех. Проведя несколько часов сряду в душной избе, ему захотелось, наконец, поосвежиться. Когда он вышел на крыльцо, то заметил большую перемену в воздухе: небо было покрыто дождевыми облаками, легкий полуденный ветерок дышал теплотою; словом, все предвещало наступление весенней погоды и конец морозам, которые с неслыханным постоянством продолжались в то время, когда обыкновенно проходят уже реки и показывается зелень. В то время как он любовался переменою погоды, ему послышалось, что на соседнем дворе кто-то вполголоса разговаривает. Узнав, по опыту, как выгодно иногда подслушивать, он тихонько подошел к плетню, который отделял его от разговаривающих, и хотя с трудом, но вслушался в следующие слова, произнесенные голосом, не вовсе ему незнакомым:
– Жаль, брат Омляш, жаль, что ты был в отлучке! Без тебя знатная была работа: купчина богатый, а клади-то в повозках, клади! Да и серебреца нашлось довольно. Мне сказывали, ты опять в дорогу?
– Да, черт побери!.. – отвечал кто-то сиповатым басом. – Не дадут соснуть порядком. Я думал, что недельки на две отделался, – не тут-то было! Боярин посылает меня в ночь на нижегородскую дорогу, верст за сорок.
– Зачем?
– А вот изволишь видеть… – Тут несколько слов было сказано так тихо, что Кирша не мог ничего разобрать, потом сиповатый голос продолжал: – Он было сначала велел мне за ним только присматривать, да, видно, после обеда передумал. Ты знаешь, чай, верстах в десяти от Нижнего овражек в лесу?
– Как не знать!
– Туда передом четырех молодцов уж отправили, а я взялся поставить им милого дружка!.. понимаешь?
– Разумею. Дал раза, да и концы в воду. За все про все отвечай нижегородцы: их дело, да и все тут!
– Не вовсе так, любезный! С слугой-то торговаться не станем, а господина велено живьем захватить.
– Да кто этот Милославский?
– Какой-то боярский сынок. Он, слышь ты, приехал из Москвы от Гонсевского, да что-то под лад не дается. Детина бойкий! Говорят, будто б он сегодня за обедом чуть-чуть не подрался с боярином.
– С боярином?.. Ну, брат, видно же, сорвиголова!
– Видно, так! И правду-матку сказать, если он живой в руки не дастся…
– Так что ж? Рука, что ль, дрогнет?
– Не то чтоб дрогнула… да пора честь знать, Прокофьич!
– Полно, брат Омляш, прикидывайся с другими! Не он первый, не он последний…
– А что ты думаешь! И то сказать: одним меньше, одним больше – куда ни шло! Вот о спожинках стану говеть, так за один прием все выскажу на исповеди; а там может статься…
– В монахи, что ль пойдешь?..
– В монахи не в монахи, а пудовую свечу поставлю. Не все грешить, Прокофьич; душа надобна.
Тут голоса замолкли. Кирша заметил в плетне небольшое отверстие, сквозь которое можно было рассмотреть все, что происходило на соседнем дворе; он поспешил воспользоваться этим открытием и увидел двух человек, входящих в избу. Один из них показался ему огромного роста, но он не успел рассмотреть его в лицо; а в другом с первого взгляда узнал земского ярыжку, с которым в прошедшую ночь повстречался на постоялом дворе. Открыв столь нечаянным образом, что Юрий должен отправиться по нижегородской дороге, и желая предупредить его о грозящей ему опасности, Кирша решился пуститься наудачу и во что б ни стало отыскать Юрия или Алексея. Но едва он вышел за ворота, как вооруженный дубиною крестьянин заступил ему дорогу.
– Пусти-ка, товарищ! – сказал Кирша, стараясь пройти.
– Не велено пускать, – отвечал крестьянин.
– Не велено! Как так?
– Да так-ста! Не приказано, вот и все тут!
– Не приказано, так не пускай! – сказал Кирша, возвращаясь во двор.
– Да не пройдешь и в задние ворота, – закричал ему вслед крестьянин, – и там приставлен караул.
– Так я здесь в западне! Ах, черт побери! Эй, слушай-ка, дядя, пусти. Мне только пройтись по улице.
– Я те толком говорю, слышь ты: заказано.
– Да кто заказал?
– Приказчик.
– Зачем?
– А лукавый его знает; вон спроси у него самого.
– Э, дорогой гость!.. куда? – закричал приказчик, показавшись в дверях избы. – Скоренько проснуться изволил.
– Господин приказчик, – сказал весьма важно Кирша. – Ради чего ты вздумал меня держать у себя под караулом? Разве я мошенник какой?
– Не погневайся! Я приставил караул, пока спал, а теперь тотчас сниму. Эй ты, Терешка! Ступай домой!
– Я у тебя в гостях, хозяин, а не в полону и волен идти куда хочу.
– Вот то-то и есть, что нет, любезный! Боярин строго наказал не выпускать тебя на волю.
– Да неужто в самом деле он хочет задержать меня насильно?
– От него приказано, чтоб я угощал тебя и сегодня и завтра; а послезавтра, хоть чем свет, возьми деньги да коня и ступай себе с богом на все четыре стороны.
– Ну, было из чего караул приставлять! Да я и сам хотел еще денек отдохнуть. На кой черт мне торопиться? Ведь не везде даром кормить станут!
– Тимофею Федоровичу не угодно, чтоб ты показывался его гостям.
– Так вот что! Он опасается, чтоб я не проболтался кому-нибудь из поляков, что невеста пана Гонсевского была испорчена.
– Видно, что так.
– Стану я толковать об этом! Да из меня дубиною слова не вышибешь!.. Что это, хозяин, никак на барском дворе песни поют? Поглядел бы я, как бояре-то веселятся!
– Что ты, брат! Неравно Тимофей Федорович тебя увидит – сохрани боже… беда!
– Так господь с ними! Пусть они веселятся себе на боярском дворе, а мы, хозяин, попируем у тебя… Да, кстати, вон и гости опять идут.
– Как же, любезный! И сегодня и завтра целый день все бражничают у меня.
Толпа родственников, перед которою важно выступал волостной дьяк, подошла к приказчику; молодые вышли их встречать на крыльцо; и через минуту изба снова наполнилась гостьми, а стол покрылся кушаньем и различными напитками.
Тем из читателей наших, которым не удалось постоянно жить в деревне и видеть своими глазами, как наши низовые крестьяне угощают друг друга, без сомнения покажется невероятным огромное количество браги и съестных припасов, которые может поместить в себе желудок русского человека, когда он знает, что пьет и ест даром. Но всего страннее, что тот же самый человек, который съест за один прием то, чего какой-нибудь итальянец не скушает в целую неделю, в случае нужды готов удовольствоваться куском черного хлеба или небольшим сухарем и не поморщится, запивая его плохой колодезной водою. В храмовые праздники церковный причет обходит обыкновенно все домы своего селения; не зайти в какую-нибудь избу – значит обидеть хозяина; зайти и не поесть – обидеть хозяйку; а чтоб не обидеть ни того, ни другого, иному церковному старосте или дьячку придется раз двадцать сряду пообедать. Это невероятно, однако ж справедливо, и мы должны были сделать это небольшое отступление для того, чтоб заметить нашим читателям, что нимало не погрешаем против истины, заставив гостей приказчика почти беспрерывно целый день пить, есть и веселиться.
Но не все гости веселились. На сердце запорожца лежал тяжелый камень: он начинал терять надежду спасти Юрия. Напрасно старался он казаться веселым: рассеянные ответы, беспокойные взгляды, нетерпение, задумчивость – все изобличало необыкновенное волнение души его. К счастью, прежде чем хозяин мог это заметить, одна счастливая мысль оживила его надежду; взоры его прояснились, он взглянул веселее и, обращаясь к приказчику, сказал:
– Знаешь ли что, хозяин? Если мне нельзя побывать на боярском дворе, то не можно ли заглянуть на конюшню?
– Нельзя, любезный! Я должен быть при тебе неотлучно; а ты видишь, у меня гости. Да что тебе вздумалось?
– А вот что: помнишь, ты говорил мне о вороном персидском аргамаке? Меня раздумье берет. Хоть я и люблю удалых коней, ну да если он в самом деле такой зверь, что с ним и ладу нет?
– Да, брат, больно лих.
– Вот то-то, чтоб маху не дать. Если мне самому нельзя идти на конюшню, то хоть его вели сюда привести.
Приказчик задумался.
– Привести-то можно, – сказал он, наконец, – но уговор лучше денег: любуйся им как хочешь, но верхом не садись.
– Да как же я узнаю: годится ли он для меня, или нет? Позволь на нем по улице проехать.
– Нет, дорогой гость, нельзя.
– Нельзя так нельзя, вели хоть так привести.
– Андрюшка! – сказал приказчик одному молодому парню, который прислуживал за столом. – Сбегай, брат, на конный двор да вели конюхам привести сюда вороного персидского жеребца.
Кирша, поговорив еще несколько времени с хозяином и гостьми, встал потихоньку из-за стола; он тотчас заметил, что хотя караул был снят от ворот, но зато у самых дверей сидел широкоплечий крестьянин, мимо которого прокрасться было невозможно. Запорожец отыскал свою саблю, прицепил ее к поясу, надел через плечо нагайку, спрятал за пазуху кинжал и, подойдя опять к столу, сел по-прежнему между приказчиком и дьяком. Помолчав несколько времени, он спросил первого: весело ли ему будет называться дедушкою?
– Как же! – отвечал приказчик. – Я и сплю и вижу, чтоб завестись внучатами. Пора – шестой десяток доживаю.
– А что бы ты хотел для первой радости, – продолжал запорожец, – внука или внучку?
– Вестимо, внука! Девка – товар продажный: не успеет подрасти, ан, глядишь, и сбывай с рук.
– А я, прошу не погневаться, – сказал дьяк, – хочу не внука, а внучку.
– А почему так? – спросил хозяин.
– Да так! Скоро ли от внука-то детей дождешься? Дедом быть весело, а прадедом еще веселее.
– Не успел дочери выдать, да уж о правнуках думаешь! Пустое, сват: дай господи внука!
– Пошли господи внучку!
– Так не будет же по-твоему!
– Ан будет! и если святые угодники услышат грешные мои молитвы…
– Послушайте, господа честные, – перервал Кирша, – ну, если я услужу вам обоим?
– Как так? – спросили вместе дьяк и приказчик.
– А вот как: если я захочу, то молодая родит двойни – мальчика и девочку.
– То-то бы знатно! – вскричал приказчик. – Я стал бы лелеять внука…
– А я нянчить внучку! – примолвил дьяк. – Да не издеваешься ли ты над нами?
– Право, нет! Послушай, хозяин, – продолжал Кирша вполголоса, – припаси мне завтра крупичатой муки да сотового меду, я изготовлю пирожок, и как молодые его покушают, то чрез девять месяцев ты с внуком, а он с внучкою.
– Неужто в самом деле? – вскричал приказчик.
– Уж я вам говорю. Припасите две зыбки да приискивайте имена для новорожденных.
– Я назову внука Тимофеем, в честь боярина, – сказал приказчик.
– А я внучку – Анастасией, в честь боярышни, – примолвил дьяк.
– Так за здравие Тимофея и Анастасьи! – возгласил торжественно Кирша, приподняв кверху огромный ковш с брагою. – Многие лета!
– Многие лета! – воскликнули все гости.
– Ах ты родимый! – сказал приказчик, обнимая запорожца. – Чем не отслужить тебе? Послушай-ка: если я к трем боярским корабленикам прибавлю своих два… три… ну, куда ни шло!.. четыре алтына…
– Нет, хозяин, не такое дело: за это мне денег брать не велено; а если хочешь меня потешить, так не пожалей завтра за обедом романеи.
– И вишневки, и романеи, и фряжского вина… и что твоей душеньке угодно будет!
– Ой ли так? Ладно же, хозяин, – по рукам!
– По рукам, любезный! Постой-ка: вот, кажется, и Вихря привели… Что за конь!
Кирша и все гости встали из-за стола и вышли вслед за хозяином на улицу. Два конюха с трудом держали под уздцы вороного жеребца. Он был среднего роста, но весьма красив собою: волнистая грива, блестя как полированный агат, опускалась струями с его лебединой шеи; он храпел, взрывал копытом землю, и кровавые глаза его сверкали, как раскаленное железо. При первом взгляде на борзого коня Кирша вскрикнул от удивления; забилось сердце молодецкое в груди удалого казака; он забыл на несколько минут все свои намерения, Милославского, самого себя, – и в немом восторге, почти с подобострастием смотрел на Вихря, который, как будто бы чувствуя присутствие знатока, рисовался, плясал и, казалось, хотел совсем отделиться от земли.
– Ну, что? – спросил приказчик, – не правду ли я тебе говорил? Смотреть любо, знатный конь!.. А на что он годится?
– Почему знать, хозяин? Мы и не таких зверей умучивали, и если б ты дозволил мне дать на нем концов десяток вдоль этой улицы, так, может статься…
– Нет, любезный, помни уговор.
– Да чего ты боишься?
– Как чего? Бог весть, что у тебя на уме. Как вздумаешь дать тягу, так куда мне будет деваться от боярина?
– Тьфу пропасть! Да на кой черт мне тебя обманывать? Ведь послезавтра я волен ехать куда хочу?
– То дело другое, приятель! Послезавтра, пожалуй, я сам тебя подсажу, а теперь – ни, ни!..
– Ну, хозяин! ты не хочешь меня потешить, так не погневайся, если и я тебя тешить не стану.
– Эх, любезный! и рад бы радостью, да рассуди сам… Как ты думаешь, сват? – продолжал приказчик, обращаясь к дьяку, – дать ли ему промять Вихря, или нет?
– Как ты, Фома Кондратьич, а я мыслю так: когда тебе наказано быть при нем неотлучно, то довлеет хранить его как зеницу ока, со всякою опасностию, дабы не подвергнуть себя гневу и опале боярской.
– Ну вот, слышишь, что говорят умные люди? Нельзя, любезный!
– Я вижу, господин дьяк, – сказал Кирша, – ты уж раздумал и в прадеды не хочешь; а жаль, была бы внучка!
– Я ничего не говорю, – возразил дьяк, – видит бог, ничего! Как хочет сват.
– И я дурак! – продолжал Кирша, – есть о чем просить! Не нынче, так послезавтра, а я все-таки с конем, и вы все-таки без внучат.
– Как так? Помилуй! – вскричали приказчик и дьяк.
– Да так! Пословицу знаете? «Как аукнется, так и откликнется!..» Пойдемте назад в избу!
– Не троньте его, – сказал вполголоса один из конюхов. – Вишь, какой выскочка! Не хуже его пытались усидеть на Вихре, да летали же вверх ногами. Пускай сядет: я вам порукою – не ускачет из села.
– Да, да, – примолвил другой конюх, – видали мы хватов почище его! Мигнуть не успеете, как он хватится оземь, лишь ноги загремят!
– Добро, так и быть, любезный! – сказал приказчик Кирше, – если уж ты непременно хочешь… Да что тебе загорелось?
– Бегите, ребята, – шепнул дьяк двум крестьянским парням, – ты на тот конец, а ты на этот; покараульте да приприте хорошенько околицу.
– Ох, сват! – сказал приказчик, – недаром у меня сердце замирает! Ну, если… упаси господи!.. Нет! – продолжал он решительным голосом, схватив Киршу за руку, – воля твоя, сердись или нет, а я тебя не пускаю! Как ускачешь из села…
– Право! А золотые-то боярские корабленики? Небось вам оставлю? Вот дурака нашли!
– А что ты думаешь, сват? – продолжал приказчик, убежденный этим последним доказательством. – В самом деле, черт ли велит ему бросить задаром три корабленика?.. Ну, ну, быть так: оседлайте коня.
В две минуты конь был оседлан. Толпа любопытных расступилась; Кирша оправился, подтянул кушак, надвинул шапку и не торопясь подошел к коню. Сначала он стал его приголубливать: потрепал ласково по шее, погладил, потом зашел с левой стороны и вдруг, как птица, вспорхнул на седло.
– Дальше, ребята, дальше! – закричали конюхи. – Смотрите, какая пойдет потеха!
Народ отхлынул, как вода, и наездник остался один посреди улицы. Не дав образумиться Вихрю, Кирша приударил его нагайкою. Как разъяренный лев, дикий конь встряхнул своей густою гривой и взвился на воздух; народ ахнул от ужаса; приказчик побледнел и закричал конюхам:
– Держите его, держите! Ахти! не быть ему живому! Держите, говорят вам!
– Да! черт его теперь удержит! – сказал один из конюхов. – Как слетит наземь, так мы его подымем.
– Ах, батюшки! – продолжал кричать приказчик. – Держите его! Слышите ль, боярин приказал мне угощать его завтра, а он сегодня сломит себе шею! Господи, господи, страсть какая!.. Ну, пропала моя головушка!
Меж тем удары калмыцкой плети градом сыпались на Вихря; бешеный конь бил передом и задом; с визгом метался направо и налево, загибал голову, чтоб схватить зубами своего седока, и вытягивался почти прямо, подымаясь на дыбы; но Кирша как будто бы прирос к седлу и продолжал не уставая работать нагайкою. Толпа любопытных зрителей едва переводила дух, все сердца замирали… Более получаса прошло в этой борьбе искусства и ловкости с силою, наконец, полуизмученный Вихрь, соскучив бесноваться на одном месте, пустился стрелою вдоль улицы и, проскакав с версту, круто повернул назад; Кирша пошатнулся, но усидел. Казалось, неукротимый конь прибегнул к этому способу избавиться от своего мучителя, как к последнему средству, после которого должен был покориться его воле; он вдруг присмирел и, повинуясь искусному наезднику, пошел шагом, потом рысью описал несколько кругов по широкой улице и, наконец, на всем скаку остановился против избы приказчика.
– Жив ли ты? – вскричал хозяин.
– Ну, молодец! – сказал один из конюхов, смотря с удивлением на покрытого белой пеною аргамака. – Тебе и владеть этим конем!
– А я так не дивлюсь, – продолжал дьяк, обращаясь к приказчику, – ведь я говорил тебе: не сам сидит, черти держут!
– Слезай проворней, любезный, – продолжал приказчик. – Пока ты не войдешь в избу, у меня сердце не будет на месте.
– Не торопись, хозяин, – сказал Кирша, – дай мне покрасоваться… Не подходите, ребята! – закричал он конюхам, – не пугайте ею… Ну, теперь не задохнется, – прибавил запорожец, дав время коню перевести дух. – Спасибо, хозяин, за хлеб за соль! береги мои корабленики да не поминай лихом!
– Как!.. Что?.. – закричал приказчик.
Вместо ответа запорожец ослабил поводья, понагнулся вперед, гикнул и как молния исчез из глаз удивленной толпы.
– Держите его, держите! – раздался громкий крик приказчика, заглушаемый общим восклицанием изумленного народа.
Но Кирша не опасался ничего: поставленный на въезде караульный, думая, что сам сатана в виде запорожца мчится к нему навстречу, сотворив молитву, упал ничком наземь. Кирша перелетел на всем скаку через затворенную околицу, и когда спустя несколько минут он обернулся назад, то построенный на крутом холме высокий боярский терем показался ему едва заметным пятном, которое вскоре совсем исчезло в туманной дали густыми тучами покрытого небосклона.
II
Все спали крепким сном в доме боярина Кручины.
Многие из гостей, пропировав до полуночи, лежали преспокойно в столовой: иные на скамьях, другие под скамьями; один хозяин и Юрий с своим слугою опередили солнце; последний с похмелья едва мог пошевелить головою и поглядывал не очень весело на своего господина. Боярин Кручина распрощался довольно холодно с своим гостем.
– Желаю тебе, Юрий Дмитрич, благополучно съездить в Нижний, – сказал он, – но я опасаюсь, чтоб ты не испытал на себе самом, каковы эти нижегородцы. Прощай!
– Ты хотел, Тимофей Федорович, дать мне грамоту к боярину Истоме Туренину, – сказал Юрий.
– Да, да! Но я передумал; теперь это лишнее… иль нет… – продолжал боярин, спохватясь и чувствуя, что он некстати проговорился. – Благо уж лист мой готов, так все равно: вот он, возьми! Счастливой дороги! Да милости просим на возвратном пути, – прибавил он с насмешливой улыбкою и взглядом, в котором отражалась вся злоба адской души его.
Никогда и ни с кем Юрий не расставался с таким удовольствием: он согласился бы лучше снова провесть ночь в открытом поле, чем вторично переночевать под кровлею дома, в котором, казалось ему, и самый воздух был напитан изменою и предательством. Раскланявшись с хозяином, он проворно вскочил на своего коня и, не оглядываясь поскакал вон из селения.
Мы, русские, привыкли к внезапным переменам времени и не дивимся скорым переходам от зимнего холода к весеннему теплу; но тот, кто знает север по одной наслышке, едва ли поверит, что Юрий, захваченный накануне погодою и едва не замерзший с своим слугою, должен был скинуть верхнее платье и ехать в одном кафтане. Во всю ночь, проведенную им в доме боярина Кручины, шел проливной дождь, и когда он выехал на большую дорогу, то взорам его представились совершенно новые предметы: тысячи быстрых ручьев стремились по скатам холмов, в оврагах ревели мутные потоки, а низкие поля казались издалека обширными озерами. Когда наши путешественники потеряли из виду отчину боярина Шалонского, Алексей, сняв шапку, перекрестился.
– Ну, теперь отлегло от сердца! – сказал он. – Хвала творцу небесному! Вырвались из этого омута. Если б ты знал, боярин, чего я вчера наслушался и насмотрелся…
– Я также слышал и видел довольно, Алексей.
– Да тебе, Юрий Дмитрич, хорошо было пировать с хозяином; заглянул бы к нам в застольную: ни дать ни взять лобное место! Тот пролил стакан меду – дерут! этот обмишулился и подал травнику вместо наливки – порют! чихнул громко, кашлянул – за все про все катают! Ах ты, владыко небесный! Ну, ад кромешный да и только! Правда, и холопи-то хороши: как подпили да начали похваляться, так у меня волосы дыбом стали! Знаешь ли что, Юрий Дмитрич? Ведь дневной разбой; сам боярин обозы останавливает, и если купец, проезжая чрез его отчину, не зайдет к нему с поклоном, так уж, наверное, выедет из села в одной рубашке. Помнишь вчерашнего купца, которого мы застали на постоялом дворе? Он было хотел втихомолку проехать мимо села задами, ан и попался в беду! Облепили его как липку да из четырех лошадей двух выпрягли: ты, дескать, поедешь теперь налегке, так и две довезут!
– Возможно ли? и на него нет управы?..
– И, Юрий Дмитрич, кому его унимать! Говорят, что при царе Борисе Феодоровиче его порядком было скрутили, а как началась суматоха, пошли самозванцы да поляки, так он принялся буянить пуще прежнего. Теперь времена такие: нигде не найдешь ни суда, ни расправы.
– Однако ж, Алексей, мне кажется, тебе вчера вовсе не было скучно: ты насилу на ногах стоял.
– Виноват, боярин! В этом проклятом доме только и хорошего, что одно вино. Как не выпьешь лишней чарки? А нечего сказать: каково вино и мед!.. Хоть у кого с двух стаканов в голове затрещит!
– Не узнал ли ты чего-нибудь о Кирше?
– Как же! Я вчера встретился с ним на боярском дворе, да не успел двух слов перемолвить: его вели к боярину.
– Зачем?
– Не знаю; мне только проболтался один пьяный слуга, что Кирше большая честь была: боярин подарил ему коня и велел приказчику угощать его, как самого себя.
– Что б это значило?
– Кто его знает; уж не остался ли служить у боярина? Товарищами у него будут всё сорванцы да разбойники, он сам запорожский казак, так ему житье будет привольное; глядишь – еще боярин сделает его есаулом своей разбойничьей шайки! Рыбак рыбака далеко в плёсе видит!
– Нет, Алексей, Кирша добрый малый; он не может быть разбойником; и после того, что он для меня сделал…
– А что такое он сделал? Он был у тебя в долгу, так диво ли, что вздумал расплатиться? Ведь и у разбойника бывает подчас совесть, боярин; а чтоб он был добрый человек – не верю! Нет, Юрий Дмитрич, как волка ни корми, а он все в лес глядит.
Юрий не отвечал ни слова; погруженный в глубокую задумчивость, он старался не помышлять о настоящем, искал – но тщетно – утешения в будущем, и только изредка воспоминание о прошедшем услаждало его душу. Милославский был свидетелем минутной славы отечества; он сам с верными дружинами под предводительством юноши-героя, бессмертного Скопина, громил врагов России; он не знал тогда страданий безнадежной любви; веселый, беспечный юноша, он любил бога, отца, святую Русь и ненавидел одних врагов ее; а теперь… Ах! сколько раз завидовал он участи своего полководца, который, как будто б предчувствуя бедствия России, торопился украсить лаврами юное чело свое и, обремененный не летами, но числом побед, похоронить вместе с собою все надежды отечества!
Наши путешественники, миновав Балахну, от которой отчина боярина Кручины находилась верстах в двадцати, продолжали ехать, наблюдая глубокое молчание. Соскучив не получать ответов на свои вопросы, Алексей, по обыкновению, принялся насвистывать песню и понукать Серко, который начинал уже приостанавливаться. Проведя часа два в сем занятии, он потерял, наконец, терпение и решился снова заговорить с своим господином.
– Пора бы нам покормить коней, – сказал он. – В Балахне ты не хотел остановиться, боярин, и вот уже мы проехали верст пятнадцать, а жилья все нет как нет.
– Мне кажется, вон там… подле самого лесу… Ты зорок, Алексей, посмотри: не изба ли это?
– Нет, Юрий Дмитрии: это простой шалаш или стог сена, а только не изба.
– Не ошибаюсь ли я? Мне кажется, подле этого шалаша кто-то стоит… Видишь?
– Вижу, боярин: вон и конь привязан к дереву… Ну так и есть: это стог сена. Верно, какой-нибудь проезжий захотел покормить даром свою лошадь… Никак он нас увидел… садится на коня… Кой прах! Что ж он стоит на одном месте? ни взад, ни вперед!.. Он как будто нас дожидается… Полно, добрый ли человек?.. Смотри! он скачет к нам… Берегись, боярин!.. Что это? с нами крестная сила! Не дьявольское ли наваждение?.. Ведь он остался в отчине боярина Шалонского?.. Ах, батюшки-светы!.. Точно, это Кирша!
– Подобру ли, поздорову, Юрий Дмитрич? – закричал запорожец, подскакав к нашим путешественникам.
– Эк тебя нелегкая носит! – сказал Алексей. – Что ты, с неба, что ль, свалился?
– Нет, товарищ, не с неба свалился, а вырвался из ада, – отвечал запорожец, повернув свою лошадь.
– Мы думали, что ты остался у боярина Шалонского, – сказал Юрий.
– Он было хотел меня задержать, да Кирша себе на уме! По мне лучше быть простым казаком на воле, чем атаманом под палкою какого-нибудь боярина. Ну что, Юрий Дмитрич, – вам, чай, пора дать коням вздохнуть?
– Доедем до первой станции, так остановимся.
– Отсюда близехонько есть небольшой выселок – вон там… за этим лесом. Я боялся вас проглядеть, так стоял постоем на большой дороге.
– И, как видно, не больно исхарчился, любезный, – примолвил Алексей. – Смотри, как растрепал стог сена! Навряд ли хозяин скажет тебе спасибо.
– А вольно ж ему ставить стога на большой дороге, – отвечал хладнокровно запорожец.
– Скажи, Кирша, – спросил Юрий, – за что ты попал в милость к боярину Кручине?
– За то, что взялся не за свое дело.
– Как так?
– А вот как, Юрий Дмитрич: я был смолоду рыбаком, не знал устали, трудился день и ночь; раз пять тонул, заносило меня погодою к басурманам; словом, натерпелся всякого горя, а деньжонок не скопил. Пошел в украинские казаки, служил верой и правдой гетману, рубился с поляками, дрался с татарами, сносил холод и голод – и нечего было послать моим старикам на одежонку. Записался в запорожцы, уморил с горя красную девицу, с которой был помолвлен, терпел нападки от своих братьев казаков за то, что миловал жен и детей, не увечил безоружных, не жег для забавы дома, когда в них не было вражеской засады, – и чуть было меня не зарыли живого в землю с одним нахалом казаком, которого за насмешки я хватил неловко по голове нагайкою… да, к счастию, он отдохнул. Потом таскался два года с польским войском, лил кровь христианскую, спас от смерти пана Лисовского, – и все-таки не разбогател. А вздумал однажды на роду прикинуться колдуном – так мне за это дали три золотых корабленика да этого аргамака, которому, веришь ли, Юрий Дмитрич, цены нет, – примолвил Кирша, лаская своего борзого коня и поглядывая на него с нежностию страстного любовника.
– Что за вздор! – сказал Юрий. – Как ты мог прикинуться колдуном?
– И, боярин! мало ли чем прикидываются люди на белом свете, да не всем так удается, как мне. Знаешь ли, что я не на шутку сделался колдуном и, если хочешь, расскажу сейчас по пальцам, что у тебя на душе и о чем ты тоскуешь?..
– Мудрен бы ты был, если б отгадал.
– А вот увидишь.
Кирша посмотрел на него пристально и продолжал:
– Боярин! тебя сокрушила черноглазая красавица – не правда ли?
Юрий поглядел с удивлением на запорожца.
– Что ты, боярин, слушаешь этого балясника? – сказал Алексей. – Большое диво отгадать, когда я сам ему об этом проболтался!
– Что дашь, боярин, – продолжал запорожец, не слушая Алексея, – если я скажу тебе, кто такова родом и где живет теперь твоя чернобровая боярышня?
– Перестань шутить, Кирша!
– Я не шучу, Юрий Дмитрия: ты видал ее в Москве, в соборном храме Спаса на Бору.
– Вот те раз! – вскричал Алексей. – Да этого я ему не сказывал! Видит бог, не сказывал! От кого ты узнал?..
– То ли еще я знаю! Вот ты, Юрий Дмитрич, не ведаешь, любит ли она тебя, а я знаю
– Возможно ли? – вскричал Милославский, остановя свою лошадь.
– Да, боярин; она по тебе сохнет пуще, чем ты по ней.
– Итак, она еще не замужем?
– Нет.
– Но кто она? где живет? как ты мог узнать?.. Говори, говори скорее!..
– И сердце твое не чуяло, что ты ночевал с ней под одной кровлею?.. Она дочь боярина Кручины-Шалонского.
– Невеста пана Гонсевского? – вскричал Алексей.
– Невеста, а не жена.
– Дочь боярина Кручины!.. – прошептал Юрий, побледнев, как приговоренный к смерти. – Боярина Кручины!.. – повторил он с отчаянием. – Итак, все кончено!..
– Нет, не все, Юрий Дмитрич! Мало ли что может случиться? И если тебе суждено на ней жениться…
– На ней!.. Никогда, никогда! – перервал Милославский, – но, может быть, ты обманулся… Да, добрый Кирша, ты, точно, обманулся… Эта кроткая девица, этот ангел красоты… дочь Шалонского… Невозможно!..
– Да что мы остановились, боярин? Лошадей балясами не кормят. Поедем шажком вперед; до деревушки версты три, так я успею тебе рассказать все, и тогда ты поверишь, что я тебя не обманываю.
Юрий слушал со вниманием рассказ запорожца, и чем вернее казалось, что прекрасная незнакомка – дочь боярина Кручины, тем мрачнее становились его взоры. Он не помышлял о препятствиях: обстоятельства и время могли их разрушить; его не пугало даже то, что Анастасья была невеста пана Гонсевского; но назвать отцом своим человека, которого он презирал в душе своей, соединиться узами родства с злодеем, предателем отечества… Ах, одна эта мысль превращала в ничто все его надежды! Если б все благоприятствовало любви его, то собственная его воля была бы непреодолимым препятствием. Супруг дочери боярина Кручины мог ли, не краснея, слышать об измене и предательстве? Мог ли призывать правдивое мщение небес и сограждан на главу крамольников, обрекших гибели и вечному позору свою родину? Если без Анастасии он не мог быть совершенно счастливым, то спокойная совесть, чистая, святая любовь к отечеству, уверенность, что он исполнил долг православного, не посрамил имени отца своего, – все могло служить ему утешением и утверждало в намерении расстаться навсегда с любимой его мечтою. Но когда Кирша стал рассказывать о разговоре своем с Анастасиею, когда Юрий узнал, как был любим, то все мужество его поколебалось.
– Довольно, – сказал он прерывающимся голосом, – довольно!.. Я не хочу знать ничего более.
– Как хочешь, боярин, – отвечал Кирша, взглянув с удивлением на Милославского.
– Несчастный! мог ли я думать, что блаженнейший час в моей жизни будет для меня божьим наказанием!.. Не говори… не говори ничего более!
– Я и так молчу, боярин.
– Ах, Кирша! зачем ты сказал мне!.. Какой ангел тьмы внушил тебе мысль…
– Виноват, Юрий Дмитрич! я думал тебя порадовать: Анастасья Тимофеевна…
– Молчи!.. не произноси никогда этого имени!
– Слушаю, боярин.
– Не напоминай мне никогда… или нет, расскажи мне все! Что она говорила с тобою?.. Знает ли она, что я крушусь по ней, что белый свет мне опостылел?..
– Как же! она ожила, когда узнала, что ты ее любишь. Вспомнить не могу, так слезы ручьем и полились…
– Боже мой, боже мой!
– Зарыдала, принялась молиться богу…
– Перестань, Кирша… перестань!..
– Да помилуй, боярин, – сказал запорожец, не понимая истинной причины горести Милославского, – отчего ты так кручинишься? Во-первых, и то слава богу, что ты узнал, наконец, кто такова твоя незнакомая красавица; во-вторых, почему ты ей не суженый? Ты знаменитого рода, богат, молодец собою; она помолвлена за пана Гонсевского, а все-таки этой свадьбы не бывать. Припомни мое слово: скоро ни одной приходской церкви не останется во владении у гетмана и он, со всей своей польской ордою, не будет сметь из Кремля носа показать. Все православные того только и ждут, чтоб подошла рать из низовых городов, и тогда пойдет такая ножовщина… Да что и говорить!.. Если все русские примутся дружно, так где стоять ляхам! Много ли их?.. шапками закидаем!
– Ты забыл, Кирша, что я целовал крест Владиславу.
– Эх, боярин! ну если вы избрали на царство королевича польского, так что ж он сидит у себя в Кракове? Давай его налицо! Пусть примет веру православную и владеет нами! А то небойсь прислали войско да гетмана, как будто б мы присягали полякам! Нет, Юрий Дмитрич, видно по всему, что король-то польский хочет вас на бобах провести.
Никогда еще Юрию не приходила в голову эта мысль, и хотя она выражена была несколько грубо, но поразила его своею истиною.
– Ах, Кирша! – вскричал он с восторгом, – я позабыл бы все мое горе, если б мог увериться в истине слов твоих!.. Но, к несчастию, это одни догадки; а я клялся быть верным Владиславу, – прибавил Юрий, и сверкающий, исполненный мужества взор, ожививший на минуту угрюмое чело его, потух, как потухает на мрачных осенних небесах мгновенный блеск полуночной зарницы.
Меж тем наши путешественники подъехали к деревне, в которой намерены были остановиться. Крайняя изба показалась им просторнее других, и хотя хозяин объявил, что у него нет ничего продажного, и, казалось, не слишком охотно впустил их на двор, но Юрий решился у него остановиться. Кирша взялся убрать коней, а Алексей отправился искать по другим дворам для лошадей корма, а для своего господина горшка молока, в котором хозяин также отказал проезжим.
Может быть, кто-нибудь из читателей наших захочет знать, почему Кирша не намекнул ни Юрию, ни Алексею о предстоящей им опасности, тем более что главной причиной его побега из отчины Шалонского было желание предупредить их об этом адском заговоре? Но дорогою он передумал. Счастливый случай открыл ему сердечную тайну Милославского и прекрасной Анастасии, а вместе с этим поселил в душе его непреодолимое желание во что б ни стало соединить двух любовников. Мы говорили уже, что он полагал почти священной обязанностью мстить за нанесенную обиду и, следовательно, не сомневался, что Юрий, узнав о злодейском умысле боярина Кручины, сделается навсегда непримиримым врагом его, то есть при первом удобном случае постарается отправить его на тот свет. Хотя Кирша был и запорожским казаком, но понимал, однако ж, что нельзя было Юрию в одно и то же время мстить Шалонскому и быть мужем его дочери; а по сей-то самой причине он решился до времени молчать, не упуская, впрочем, из виду главнейшей своей цели, то есть спасения Юрия от грозящей ему опасности.
Юрий, войдя в избу, спросил хозяина, кому принадлежит пегая лошадь, которую он заметил, проходя двором.
– Проезжий, батюшка, – отвечал хозяин, – едет из Казани в Нижний.
– Да где же он?
– Вышел поискать себе съестного. У меня и хлеба-то вдоволь нет; дней пять тому назад нагрянула ко мне целая ватага шишей[66]: все приели; слава тебе господи, что голова на плечах осталась!
– А разве и здесь эти разбойники водятся?
– Недавно показались. Послушаешь их, так они-то одни и стоят за веру православную; а попадись им в руки хоть басурман, хоть поляк, хоть православный, все равно – рубашки на теле не оставят.
– Так поэтому теперь опасно ездить по вашей дороге?
– Нет, батюшка, господь милостив! До этих храбрецов дошла весть, что верстах в тридцати отсюда идет польская рать, так и давай бог ноги! Все кинулись назад по Волге за Нижний, и теперь на большой дороге ни одного шиша не встретишь.
– Вот, боярин, молоко: кушай на здоровье! – сказал Алексей, войдя в избу. – Ну, деревенька! словно после пожара – ничего нет! Насилу кой-как нашел два горшочка молока у одной старухи. Хорошо еще, что успел захватить хоть этот; а то какой-то проезжий хотел оба взять за себя. Хозяин, дай мне хоть хлебца! да нет ли стаканчика браги? одолжи, любезный!
Когда Кирша вошел опять в избу, хозяин поставил на стол деревянный жбан с брагою и положил каравай хлеба. К счастию, наши путешественники так хорошо были угощены накануне, что почти вовсе могли обойтись без обеда. К тому же Юрий отказался от еды, и хотя сначала Алексей уговаривал его покушать и не дотрагивался до молока, но, наконец, видя, что его господин решительно не хочет обедать, вздохнул тяжело, покачал головою и принялся вместе с Киршею так усердно работать около горшка, что в два мига в нем не осталось ни капли молока. Окончив эту умеренную трапезу, Алексей вышел вон из избы и минут через пять прибежал назад как бешеный. Никогда еще Милославский не видал своего смирного Алексея в таком необычайном расположении духа; он почти был уверен, что этот тихий малый во всю жизнь свою не сердился ни разу, и потому не удивительно, что с некоторым беспокойством спросил: что с ним случилось?
– Что со мной случилось, боярин! – отвечал, запыхавшись, Алексей. – Черт бы ее побрал! Старая колдунья!.. Ведьма киевская!.. Слыхано ли дело!.. Живодерка проклятая!
– Да кто? На кого ты так озлился?
– Ну, есть ли в ней Христос – пять алтын!.. Да стоит ли она сама, с внучатами, с коровою и со всеми своими животами, пяти алтын! Ах, старая карга!.. Смотри пожалуй, пять алтын!
– Скажешь ли ты мне, наконец?..
– Как бы знато да ведано, так я лучше подавился бы сухою коркою, чем хлебнул хоть ложку ее снятого молока! Как ты думаешь, боярин? эта старушонка просит за свой горшочек молочишка пять алтын!.. Пять алтын, когда за две копейки можно купить целую корчагу сливок!
– Ты сам виноват, Алексей: зачем не торговался?
– Да кому придет в голову… беззубая жидовка!..
– О чем тут кричать? Заплати ей, что она требует, так и дело с концом!
– Нет, боярин, хоть убей меня на этом месте…
– Алексей! я не люблю приказывать десять раз одно и то же.
– Ну, как хочешь, боярин, – отвечал Алексей, понизив голос. – Казна твоя, так и воля твоя; а я ни за что бы не дал ей больше копейки… Слушаю, Юрий Дмитрич, – продолжал он, заметив нетерпение своего господина. – Сейчас расплачусь.
– Позволь мне заплатить ей, боярин! – сказал Кирша, – разумеется, твоими деньгами.
– Пожалуй.
– Давай-ка пять алтын, Алексей. Да, кстати, вот никак она сама изволит сюда идти.
Старуха, в изорванной кичке и толстом сером зипуне, вошла в избу, перекрестилась и, поклонясь низехонько на все четыре стороны, сказала Алексею:
– Ну что ж, мой кормилец, не держи меня, рассчитывайся.
– Вот я с тобой рассчитаюсь, тетка, – сказал запорожец, – а он ничего не знает. Поди-ка сюда! Ты просишь пять алтын за твое молоко?
– Да, батюшка, пять алтын. Прошу не погневаться: я в своем добре вольна…
– Знаю, мой свет, знаю. Вот пять алтын – получай!
Старуха с жадностию схватила деньги и принялась их считать.
– Ну что, так ли? – спросил запорожец.
– Так, батюшка!
– Все ли ты сполна получила?
– Все, отец мой!
– Слышишь, хозяин? Будь свидетелем. Ну, тетка, глупа же ты!
– А что, мой кормилец?
– Ах ты дура неповитая! ну те ли времена, чтоб продавать горшок молока по пяти алтын? Мы нигде меньше рубля не платили.
– Как так, батюшка?
– Да так. Опростоволосилась, голубушка, вот и все тут!
– Не меньше рубля! – повторила старуха, всплеснув руками. – Ах я глупая! Все-то нас, бедных, обманывают…
– И, тетка, на то в море щука, чтоб карась не дремал!
– Не грех ли вам обижать старуху!
– Да чем мы тебя обижаем? Что запросила, то и даем.
– Бог вам судья, господа честные, обманывать круглую сироту!
– Какая ты сирота! – закричал Алексей. – У тебя вся изба битком набита внучатами.
– Да, батюшка, мал мала меньше!
– Что ты врешь! Меньшой-то внук целой головой меня выше. Пошла вон, старая хрычовка!
– Пойду, батюшка, пойду! что ты гонишь! Прощенья просим!.. Заплати вам господь и в здешнем и в будущем свете… чтоб вам ехать, да не доехать… чтоб вы…
– Ну, ну, проваливай! – перервал Алексей, выталкивая за дверь старуху. – Что тебе вздумалось сказать этой ведьме, – продолжал он, обращаясь к Кирше, – что мы платим везде по рублю за горшок молока?
– Как что! – отвечал запорожец. – Да знаешь ли, что она теперь недели две ни спать, ни есть не будет с горя; а сверх того, первый проезжий, с которого она попросит рубль за горшок молока, непременно ее поколотит… Ну, вот посмотри: не правду ли я говорю?
В самом деле, какой-то проезжий, с которым старуха повстречалась у ворот избы, сказав с ней несколько слов, принялся таскать ее за волосы, приговаривая: «Вот тебе рубль! вот тебе рубль!..» Потом, бросив ей небольшую медную монету, вошел на двор. Кирша смотрел с большим примечанием на этого проезжего: и подлинно, наружность его обратила бы на себя внимание самого нелюбопытного человека. Он был необычайно высок, но вместе с тем так плотен и широк в плечах, что казался почти среднего роста; не только видом, но даже ухватками он походил на медведя, и можно было подумать, что небольшая, обросшая рыжеватыми волосами голова его ошибкою попала на туловище, в котором не было ничего человеческого. Лицо его выражало какое-то бездушное спокойствие; небольшие, прищуренные глаза казались заспанными, а голос напоминал дикий рев животного, с которым он имел столь близкое сходство. Этот уродливый великан, войдя в избу, поклонился нашим путешественникам и промычал:
– Доброго здоровья, господа проезжие!
Кирша вздрогнул и стал еще внимательнее рассматривать незнакомца.
– Откуда едешь, любезный? – спросил Юрий.
– Из Казани, боярин.
– В Нижний Новгород?
– Да, в Нижний.
– Так ты нам попутчик?
– Если ваша милость дозволит, так я от вас не отстану. Хоть, правда, ничего дурного не слышно, а все-таки больше народу – едешь веселее.
– Посмотри, добрый человек, – сказал хозяин Кирше, – из ваших коней один сорвался; чтоб со двора не сбежал.
Кирша поспешил выйти на двор. В самом деле, его Вихрь оторвался от коновязи и подбежал к другим лошадям; но, вместо того чтоб с ними драться, чего и должно было ожидать от такого дикого коня, аргамак стоял смирнехонько подле пегой лошади, ласкался к ней и, казалось, радовался, что был с нею вместе.
– Ого! – сказал Кирша, – так вы с одной конюшни!.. Вот что!.. Видно, я не ошибаюсь: не издалека этот казанец едет.
Привязав опять на прежнее место своею коня, он возвратился в избу, подсел к проезжему, попотчевал его брагою и спросил, давно ли он из Казани.
– Близко недели, – отвечал проезжий.
– Знатный городок! – продолжал запорожец. – Я живал в нем месяцев по шести сряду, и у меня есть там задушевный приятель. Не знавал ли ты купца из мясного ряда, по имени Кирилла Степанова?.. а по прозванью… как бишь его?.. дай бог память! тьфу, батюшки!.. такое мудреное прозвище… вспомнить не могу!
Тут Кирша призадумался, начал почесывать в голове, топал ногою от нетерпения и, дав незнакомцу заговорить с Юрием, который стал расспрашивать его о Казани, вдруг вскрикнул: «Омляш!» Проезжий вздрогнул и быстро повернулся к Кирше.
– Да, да, – продолжал казак, не обращая, по-видимому, никакого внимания на приметный испуг проезжего, – вспомнил! Омляш… иль нет… Бурдаш, что ль?.. как-то этак. Не знавал ли ты, брат, этого купчину?
– Нет, – отвечал отрывисто проезжий, поглядев пристально на запорожца, который примолвил весьма спокойно:
– Жаль, товарищ, что ты его не знаешь. Вот уж близко года, как я с ним расстался. Что-то он, сердечный, поделывает? Говорят, будто торжишка его худо идет?
– Почему мне знать! – отвечал проезжий грубым голосом. – Если, боярин, – продолжал он, обращаясь к Юрию, – ты хочешь засветло приехать в Нижний, то мешкать нечего: чай, дорога плоха, а до города еще не близко.
– За нами дело не станет, – сказал Алексей. – Мы поели, лошади также, хоть сейчас в дорогу.
– Ступайте же, ребята, – примолвил Кирша, – да седлайте коней, а я мигом буду готов.
Проезжий и Алексей вышли из избы.
– Послушай-ка, Юрий Дмитрич, – сказал запорожец, – пистолет-то у тебя знатный, да заряжен ли он?
– А что?
– Да так, боярин: дорожным людям дремать не надобно.
– Разве ты опасаешься чего-нибудь?
– Времена такие, Юрий Дмитрич. Конечно, никто как бог, да недаром же пословица в народе: «Береженого и бог бережет».
Выходя вон из избы, Кирша повстречался в сенях с хозяином и спросил его:
– Далеко ли до Нижнего?
– Верст двадцать с походом, – отвечал хозяин.
– Мне помнится, есть овраги?
– Всего один. На половине дороги будет часовня: тут годов с пяток назад потеряли трех нижегородских купцов; а версты полторы за часовней придет овражек, да небольшой.
– Нельзя ли миновать?
– Нет-ста, не минуешь. Правда, от часовни пойдет старая дорога в город; да по ней давно уж не ездят.
– Что так?
– Буерак на буераке, и, бывало, в осеннее время вовсе проезду нет.
Кирша пошел седлать своего коня, и через четверть часа наши путешественники отправились в дорогу. Алексей не отставал от своего господина; а запорожец, держась левой стороны проезжего, ехал вместе с ним шагах в десяти позади. Несколько уже раз незнакомый посматривал с удивлением на его лошадь.
– Кой черт! – сказал он, наконец, – чем больше я смотрю… Да где ты добыл этого коня?
– А на что тебе?
– Если б только он был побойчее, так я бы в него вклепался: я точь-в-точь такого же коня знаю… ну вот ни дать ни взять, и на лбу такая же отметина. Правда, тот не пошел бы шагом, как этот… а уж так схожи меж собой, как две капли воды.
«Ага! – сказал про себя Кирша, – признал боярского коня, господин казанец!»
– Чему дивиться? – примолвил он громко, – человек в человека приходит, а конь и подавно.
Тут дорога, которая версты две извивалась полями, повернула налево и пошла лесом. Кирша попевал беззаботно веселые песни, заговаривал с проезжим, шутил; одним словом, можно было подумать, что он совершенно спокоен и не опасается ничего. Но в то же время малейший шорох возбуждал все его внимание: он приостанавливал под разными предлогами своего коня, бросал зоркий взгляд на обе стороны дороги и, казалось, хотел проникнуть взором в самую глубину леса.
Около двух часов ехали они, не встречая никого и не замечая никаких признаков жилья; наконец, вдали, подле самой дороги, стало виднеться что-то похожее на строение; но когда они подъехали ближе, то увидели вместо избы полуразвалившуюся большую часовню.
Кирша осадил полегоньку свою лошадь и, проехав несколько шагов позади незнакомого, вдруг вскрикнул:
– Гей, товарищ! посмотри-ка, что у тебя на шапке!
Едва проезжий успел схватить ее с головы, как от сильного удара нагайкою у него посыпались искры из глаз. Он выхватил из-за пазухи длинный нож; но Кирша повторил удар – незнакомый зашатался и упал с лошади. С быстротою птицы запорожец спрыгнул с коня, кинулся на лежачего и, прежде чем он мог очнуться, скрутил ему назад руки собственным его кушаком.
– Что ты, разбойник! – вскричал Алексей.
– Разбойник-то лежит, – отвечал спокойно Кирша, затягивая узел.
– С чего ты взял?.. почему ты знаешь?.. – спросил торопливо Юрий.
– А потому знаю, что слышал своими ушами, как этот душегубец сговаривался с такими же ворами тебя ограбить. Нас дожидаются за версту отсюда в овраге… Ага, собака, очнулся! – сказал он незнакомцу, который, опомнясь, старался приподняться на ноги. – Да не уйдешь, голубчик! с вашей братьей расправа короткая, – прибавил он, вынимая из ножен саблю.
– Стой, Кирша! Я не допущу тебя! – вскричал Юрий. – Ну, если ты ошибаешься…
– Эх, боярин! Коли не веришь мне, так посмотри хорошенько на эту рожу. Ну можно ли с такой образиной не быть разбойником?
– Побойтесь бога! что я вам сделал? – прохрипел незнакомый.
– Что, брат, заговорил! – перервал запорожец. – Так говори же все! Если ты покаешься, мы тебя помилуем; а если нет, так прощайся навсегда с белым светом! Сказывай, много ли у тебя товарищей в засаде?
– Помилуйте! каких товарищей?
– Слушай, Омляш! – закричал грозным голосом Кирша. – Я знаю тебя… говори правду!
Незнакомый с ужасом взглянул на запорожца, но не отвечал ни слова.
– Так, видно, брат, с тобой один конец, – сказал Кирша, обнажив свою саблю. – Я не хочу губить твоей души – молись богу!
– Постой! – вскричал незнакомый.
– Нет! нам некогда с тобой растабарывать: кайся проворней в грехах, или… так и быть!.. В последний раз, – примолвил Кирша, подняв свою саблю, – говори сейчас, сколько у тебя товарищей?
– Шестеро, – прошептал разбойник.
– Слышишь, боярин? – сказал Кирша. – Счастлив ты, что я дал тебе слово… Делать нечего, околевай своей смертью, проклятый! Помогите мне привязать его к дереву; да нет ли у вас чем-нибудь заткнуть ему глотку, а то, как мы отъедем, он подымет такой рев, что его за версту услышат.
Алексей вынул из кисы платок и, пособляя Кирше привязать к дереву разбойника, спросил: для чего он не предуведомил их об этом в деревне?
– Я боялся, что вы не сумеете притвориться, – отвечал запорожец. – Этот вор как раз смекнул бы делом, дал тягу – и мы верно бы их рук не миновали.
– Но мы и теперь их не минуем, – сказал Юрий.
– Авось, боярин! Бог милостив! – примолвил Кирша, садясь на лошадь. – Здесь есть другая дорога. Говорят, она больно плоха, да все лучше: зато остановки не будет.
Кирша поехал вперед. Подле самой часовни дорога делилась надвое: та, которая шла направо, едва была заметна и походила более на межевую просеку, чем на большую дорогу. Кирша повернул по ней и, пробираясь с большим трудом сквозь кустарник, пеньки и кучи валежника, медленно подвигался вперед; глубокие рытвины и крутые овраги встречались им почти на каждом шагу, и только изредка на проталинах едва заметные колеи означали проезжую дорогу. С полчаса ехали они, не говоря ни слова; вдруг налево послышался отдаленный свист; ближе к ним отвечали тем же. Кирша остановился и скинул шапку. Несколько минут, подобно истукану, он пробыл в этом неподвижном положении. Едва заметно было, что он переводит дух; казалось, ни один волос не пошевелился на голове его во все время, как он прислушивался к свисту.
– Ну, боярин! – сказал он, надевая шапку, – мы, точно, их миновали. Теперь надобно выбираться опять на большую дорогу; а не то мы заедем в такую трущобу, что как раз загубим всех коней.
Путешественники стали держаться левой стороны; хотя с большим трудом, но попали, наконец, на прежнюю дорогу и часа через два, выехав из лесу, очутились на луговой стороне Волги, против того места, где впадает в нее широкая Ока. Огромные льдины неслись вниз по ее течению; весь противоположный берег усыпан был народом, а на утесистой горе нагорной стороны блестели главы соборных храмов и белелись огромные башни высоких стен знаменитого Новагорода Низовския земли.
III
Наши путешественники находились в весьма затруднительном положении. Нижний Новгород был перед ними; но им невозможно было переправиться через Волгу, на которой лед тронулся и шел так густо, что на простой рыбачьей лодке нельзя было переехать на другую сторону, не подвергая себя неминуемой погибели. Кругом их незаметно было никакого жилья, кроме пустых сараев и небольших рыбачьих хижин без дворов по-видимому также необитаемых. Проехав с версту по берегу реки, путешественники увидели, наконец, избу перед которою стояло человек двадцать рыбаков; все они смотрели с большим вниманием на противоположный берег.
– Глядь-ка, боярин! – сказал Алексей, – вон там, у пристани, никак человек идет по реке… так и есть! Ах, батюшки-светы! кого это нелегкая понесла! Смотри, смотри!.. ну… поминай как звали!
В самом деле, какой-то смельчак, отойдя шагов двадцать от противоположного берега, провалился сквозь лед и утонул в виду множества любопытных, которые толпились на переправе.
– Ах, боже мой! – вскричал Юрий. – Зачем пускают этот народ?..
– А кто его удержит, боярин? Русский человек на том стоит: где бедовое дело, тут-то удаль свою и показать.
Меж тем они подъехали к рыбакам. Один из них, седой как лунь, с жаром доказывал другим, что прохожий не мог бы утонуть, если б был легче на ногу.
– Да, ребята, – говорил он, – все дело в сноровке, а то как не перейти! Льдины толстые, хоть кого подымут!
– Эх, Пахом Кондратьич! – возразил один молодой рыбак, – какая теперь ходьба! Разве – прости господи! – какой ни есть полоумный сунется.
– Ох вы, молокососы! – сказал седой старик, покачивая головою. – Не прежние мои годы, а то бы я показал вам, как переходят по льдинам. У нас, бывало, это плевое дело!.. Да, правду-матку сказать, и народ-то не тот был.
– Что ты, дедушка, больно расхвастался! – перервал Кирша. – Неужели-то на святой Руси все молодцы повывелись?
– Нет, господин проезжий, – отвечал старик, махнув рукою, – не видать мне таких удальцов, какие бывали в старину! Да вот хоть для вашей бы милости в мое время тотчас выискался бы охотник перейти на ту сторону и прислать с перевозу большую лодку; а теперь небойсь – дожидайтесь! Увидите, если не придется вам ночевать на этом берегу. Кто пойдет за лодкою?
– Я! – сказал один широкоплечий крестьянин.
– Ай да молодец! – вскричал Кирша. – Постой-ка! да ты никак крестьянин боярина Шалонского, Федька Хомяк?
– А ты тот прохожий, что расспрашивал меня о боярине?
– Ну да! Как ты сюда попал?
– Да так, горе взяло! Житья не было от приказчика; взъелся на меня за то, что я не снял шапки перед его писарем, и ну придираться! за все про все отвечай Хомяк – мочушки не стало! До нас дошел слух, будто бы здесь набирают вольницу и хотят крепко стоять за веру православную; вот я помолился святым угодникам, да и тягу из села; а сирот господь бог не покинет.
– Послушай, молодец! – сказал Юрий. – Я не хочу, чтоб ты шел для меня на верную смерть. Как можно теперь переходить Волгу!
– А почему нет, боярин? Смелым бог владеет! Авось перейду!
– А если ты утонешь?
– Что на роду написано, того не миновать. Дайте-ка мне багор.
– На, молодец! – сказал седой рыбак. – Да полно, за свое ли дело берешься?
– Авось! Бог милостив!
– Нет, я не допущу тебя!.. – вскричал Юрий.
– Ой ли! Так лови ж меня, боярин! – сказал Хомяк, перепрыгнув через закраину.
– Держись правей! – закричал седой рыбак. – Вот так!.. Эй, смотри не становись на эту льдину, не сдержит!.. Ай да парень!.. Хорошо, хорошо!.. отталкивайся живей!.. багром-то, брат, багром!.. Не туда, не туда! постой!.. Ну, сбился!.. Не быть пути!..
– Ахти! – вскричал Алексей, – сорвался… упал в воду!.. Ах, батюшки!.. тонет, сердечный!..
– Ну, ребята! – сказал старик, – не правду ли я говорил?.. Что нынче за народ: ни силы, ни проворства… Смотрите! как ключ ко дну пошел.
– Вынырнул! – закричал Кирша. – Не робей, товарищ, не робей!
– Что толку, что вынырнул! – возразил седой рыбак. – Его как раз затрет льдинами. Как нет сноровки, так смелостью не возьмешь…
– Кондратьич! Кондратьич! – закричал один из молодых рыбаков, – глядь-ка… справился!
– И впрямь справился… Смотри пожалуй!
– Эва, как пошел!.. – продолжал молодой парень. – Со льдины на льдину!.. Ну, хват детина!.. А что ты думаешь… дойдет, точно дойдет!
– Бог весть! – сказал старик, покачивая головою. – Вишь, какой торопыга! словно по полю бежит! Смотри, вплавь пошел!.. Дело!.. дело!.. Лихо, молодец!.. Знатно!.. Вот это по-нашенски!
Крестьянин был уже на середине реки. Ободряемый криками и похвалами, которые долетали до него с противоположного берега, он удвоил усилия, перепрыгивал с одной льдины на другую, переправлялся вплавь там, где лед шел реже, и, наконец, борясь ежеминутно с смертию, достиг пристани, где был встречен радостными восклицаниями необъятной толпы народа. Взойдя на берег, он отряхнулся, помолился на соборные храмы, потом, оборотясь назад, отвесил низкий поклон рыбакам и Юрию, которые, махая шапками, приветствовали его громким криком. Через несколько минут большой дощаник отчалил от берега и, пристав к тому месту, где дожидались проезжие, перевез их с немалым трудом и опасностию на городскую сторону Волги. Юрий, желая наградить бесстрашного крестьянина, искал его несколько времени в толпе народа; но его уже не было на пристани. Заплатя щедрою рукою за перевоз, Милославский расспросил, где живет боярин Истома-Туренин, и отправился к нему в дом в провожании Кирши и Алексея.
Чтоб подняться на гору, Милославский должен был проехать мимо Благовещенского монастыря, при подошве которого соединяется Ока с Волгою. Приостановясь на минуту, чтоб полюбоваться прелестным местоположением этой древней обители, он заметил полуодетого нищего, который на песчаной косе, против самых монастырских ворот, играл с детьми и, казалось, забавлялся не менее их. Увидев проезжих, нищий сделал несколько прыжков, от которых все ребятишки померли со смеху, и, подбежав к Юрию, закричал:
– Здравствуй, Дмитрич!
– А! Митя, ты здесь! Когда ты успел?!
– Эко диво… Шел, шел, да и пришел. Завтра, брат, здесь пир весь мир, так я торопился.
– Какой пир?
– А вот сам увидишь. Жаль мне тебя, сердечный! Для всех будет праздник, а для тебя будни.
– Как так, Митя?.. Разве я не православный?
– Вот то-то то и горе, Дмитрич: ты, чай, справляешь праздники по московским святцам?
– Я тебя не понимаю.
– Мало ли чего ты понимаешь! Сам виноват: не спешить было молодцу, не пришлось бы каяться!.. А у кого ты пристанешь, Дмитрич?..
– У боярина Истомы-Туренина.
– Ай да хват!.. Смотри пожалуй! Из огня да в полымя!.. Ну, Дмитрич! держи ухо востро!.. Ты, чай, знаешь, где сказано: «Будьте мудри яко змии и цели яко голубие»? Смотри не поддавайся! Андрюшка Туренин умен… поднесет тебе сладенького, ты разлакомишься, выпьешь чарку, другую… а как зашумит в головушке, так и горькое покажется сладким; да каково-то с похмелья будет!.. Станешь каяться, да поздно!
– Спасибо, Митя! Я не забуду твоих советов. Но мне пора…
– С богом, голубчик! Ступай!.. Да слушай, молодец: как будешь у Сергия, так помолись и за меня. Смотри не забудь!
Сказав эти слова, юродивый принялся опять играть с ребятишками; а Милославский, поднявшись в гору, въехал Ивановскими воротами в город. Первый проходящий показал ему недалеко от городской площади дом боярина Истомы. Наружность его ничем не отличалась от других домов, которые вообще были низки и некрасиво построены. В небольшой передней комнате встретился Юрию опрятно одетый слуга, и когда Милославский сказал ему свое имя, то, попросив его пообождать, он пошел тотчас с докладом к боярину. Двери через минуту отворились, и хозяин с распростертыми объятиями выбежал навстречу к своему гостю.
– Милости просим, Юрий Дмитрич! – воскликнул он, обнимая Милославского. – Добро пожаловать!.. Ну, мог ли я ожидать такой радости?! Сын друга моего!.. Милое дитя, которое столько раз я нянчил на руках моих!.. Милославский у меня в дому!.. Ах, мой родимый! Да как же ты вырос!.. каким стал молодцом!.. Эй, Пармен!.. Никанор!.. накрывайте на стол!.. Накормите слуг дорогого гостя, велите убрать лошадей. Да принесите сюда бутылочку имбирного меда… Садись, мой ясный сокол!.. Садись, мой красавец! Как две капли воды – вылитый батюшка… дай бог ему царство небесное! Кабы ты знал, Юрий Дмитрич, как мы были с ним дружны!..
– Не погневайся, Андрей Никитич! я что-то не помню…
– Да как тебе и помнить! Ты был еще грудным ребенком, как я жил в Москве и водит хлеб-соль с твоим батюшкою. То-то был столбовой русский боярин! Терпеть не мог поляков! Бывало, как схватится с Кривым-Салтыковым, который всегда стоял грудью за этих ляхов, так святых вон понеси! Не то бы было, если б он еще здравствовал! Не пировать бы иноверцам на святой Руси!.. Эх! как подумаю, до чего мы дожили, Юрий Дмитрич! – примолвил боярин, утирая текущие из глаз слезы, – так сердце кровью и обливается!.. Прогневили мы, грешные, господа бога!..
Юрий не мог опомниться от удивления. Он не сомневался, что найдет в приятеле Шалонского поседевшего в делах, хитрого старика, всей душой привязанного к полякам; а вместо того видел перед собою человека лет пятидесяти, с самой привлекательной наружностью и с таким простодушным и откровенным лицом, что казалось, вся душа его была на языке и, как в чистом зеркале, изображалась в его ясных взорах, исполненных добросердечия и чувствительности. Он хотел уже спросить, не живет ли в Нижнем другой боярин Истома-Туренин; но хозяин, не дав ему времени сделать этот вопрос, продолжал:
– Видно, ты пошел по батюшке, Юрий Дмитрич!.. Уж, верно, недаром к нам пожаловал! Правду сказать, здесь только православные и остались; кабы не Нижний Новгород, то вовсе бы земля русская осиротела!.. Помоги вам господь!
– Да, Андрей Никитич, – отвечал Юрий, – я за делом сюда приехал. Меня прислал из Москвы приятель мой, пан Гонсевский.
– Приятель твой, пан Гонсевский! – вскричал Истома, вскочив со скамьи.
– А вчера я ночевал у боярина Кручины-Шалонского…
– У Тимофея Федоровича!.. И ты, Юрий Дмитрич Милославский?..
– Да, боярин! Я привез к тебе от Шалонского грамоту.
– Тише! Бога ради, тише! – прошептал Истома, поглядывая с робостию вокруг себя. – Вот что!.. Так ты из наших!.. Ну что, Юрий Дмитрич?.. Идет ли сюда из Москвы войско? Размечут ли по бревну этот крамольный городишко?.. Перевешают ли всех зачинщиков? Зароют ли живого в землю этого разбойника, поджигу, Козьму Сухорукова?.. Давнуть, так давнуть порядком, – примолвил он шепотом. – Да, Юрий Дмитрич, так, чтоб и правнуки-то дрожкой дрожали!
Несколько минут Юрий не мог промолвить ни слова от удивления и ужаса. Его поразили не слова хозяина, а непостижимая перемена всей его наружности: в одно мгновение не осталось на лице его и следов того простодушия и доброты, которые сначала пленили Милославского. Все черты лица его выражали такую нечеловеческую злобу, он с таким адским наслаждением обрекал гибели сограждан своих, что Юрий, отступив несколько шагов назад, готов был оградить себя крестным знамением. И подлинно, этот взор, который за минуту до того обворожал своим добродушием и вдруг сделался похожим на ядовитый взгляд василиска, напоминал так живо соблазнителя, что набожный Юрий едва удержался и не сотворил молитвы: «Да воскреснет бог и расточатся врази его». Меж тем хозяин продолжал делать ему вопрос за вопросом и, наконец, потеряв терпение, вскричал:
– Да отвечай же, Юрий Дмитрич! Что ты на меня так уставился?
– Я не могу надивиться, боярин… После первых речей твоих…
– То-то молодость, молодость!.. Да неужели ты думаешь, что я с первого разу все выскажу, что у меня на душе? Я живу в Нижнем, а ты сын боярина Милославского, так как же я мог говорить иначе?.. Но тише! Вот несут мед!.. Подай сюда, Никанор, – продолжал он, обращаясь к служителю. – Ну-ка, Юрий Дмитрич, выпьем за здравие храбрых нижегородцев и на погибель супостатов наших поляков! Услышь, господи, грешные молитвы раба твоего! – примолвил Истома, устремив к небесам глаза свои, выражающие душевное смирение и усердную молитву. – Оставь кувшин здесь и ступай вон, – сказал он слуге, осушив до дна свой кубок. – Ну, теперь, – продолжал Истома, притворив плотно двери комнаты, – ты можешь, Юрий Дмитрич, смело отвечать на мои вопросы: никто не войдет.
– Да это напрасная предосторожность, – отвечал Юрий. – Мне нечего таиться: я прислан от пана Гонсевского не с тем, чтоб губить нижегородцев. Нет, боярин, отсеки по локоть ту руку, которая подымется на брата, а все русские должны быть братьями между собою. Пора нам вспомнить бога, Андрей Никитич, а не то и он нас совсем забудет.
– Как!.. Что это значит!.. – вскричал Истома, изменившись в лице.
– Вот лист боярина Кручины, – прочти. Он, верно, пишет в нем, зачем я прислан и как намерен поступать.
Истома принял дрожащей рукою письмо и, прочтя его со вниманием, казалось, несколько ободрился.
– Теперь я вижу, о чем идет дело, – сказал он. – Ты прислан от пана Гонсевского миротворцем. Ведь ты целовал крест королевичу Владиславу?
– Да, – отвечал отрывисто Юрий.
– Так, в самом деле, чего же лучше! Все нижегородские жители чтят память бывшего своего воеводы, а твоего покойного родителя; может статься, пример твой на них и подействует. Дай-то господи! Досадуя на их упорство, иногда кажется, вот так бы и запалил с четырех концов весь город!.. А как подумаешь да размыслишь, что они такие же православные, так и жаль станет. Эх, Юрий Дмитрии! все мы таковы!.. Не по-нашему делается, так на первых порах вот так бы и съел, а дойдет до чего-нибудь – хвать, ан и сердца вовсе нет! Вот хоть теперь: ты, чай, думаешь, куда, дескать, Истома-Туренин зол!.. всех хочет вешать да живых в землю закапывать!.. И, мой родимый!.. Дай-ка мне в самом деле волю, так и бешеной собаки не повешу… Свое ведь, батюшка, родное!
– Я очень рад, боярин, что ты одних со мною мыслей и, верно, не откажешься свести меня с почетными здешними гражданами. Может быть, мне удастся преклонить их к покорности и доказать, что если междуцарствие продолжится, то гибель отечества нашего неизбежна. Без головы и могучее тело богатыря…
– Все, конечно, так! – перервал Истома, – не что иное, как безжизненный труп, добыча хищных вранов и плотоядных зверей! Правда, королевич Владислав молоденек, и не ему бы править таким обширным государством, каково царство Русское; но зато наставник-то у него хорош: премудрый король Сигизмунд, верно, не оставит его своими советами. Конечно, лучше бы было, если б мы все вразумились, что честнее повиноваться опытному мужу, как бы он ни назывался: царем ли русским, или польским королем, чем незрелому юноше…
– А кто здесь управляет делами? – перервал Юрий, желая прекратить разговор, возмущающий его душу.
– Да как тебе сказать: здесь много теперь именитых воевод и бояр, – отвечал Туренин, – но сила-то не в них, а знаешь ли, в ком?.. Стыдно сказать, Юрий Дмитрии! Добро бы наш брат боярин или родовой дворянин; а то какой-то смерд, бобыль (9), простой мясник… срам и позор для всей земли Русской! Этот серокафтанник помыкает целым городом: что сказал Козьма Минич Сухорукий, то и свято. Вперед знаю, когда ты будешь совещаться с здешними сановниками, то и его позовут; и что ж ты думаешь: этот холоп, отдавая подобающую честь боярам и воеводам, станет молчать и во всем с ними соглашаться? Нет, Юрий Дмитрич, начнет орать пуще всех!.. Вот до чего мы дожили!
– Однако ж, боярин, видно, этот мясник чем ни есть заслужил такую доверенность своих сограждан?
– Вестимо чем: он мужик ражий, голос как из бочки; а на площади, меж глупого народа, тот и прав, кто горланит больше других.
– Когда же я могу иметь свидание с здешними сановниками?
– Завтра мы сберемся все для этого у князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского.
– И ты надеешься, что слова мои подействуют?
– Бог весть. Начнут, пожалуй, говорить, зачем королевич Владислав не едет в Москву? зачем поляки разоряют нашу землю? зачем король Сигизмунд берет Смоленск? зачем то, зачем другое? Всего не переслушаешь. А кто корень всему злу?.. Бывший патриарх Гермоген. Этот крамольный чернец вечно шел поперек всем умным боярам. Да вот хоть при пострижении в иноки Василья Шуйского: он один его отстаивал, и когда Шуйский не стал отвечать во время обряда и родственник мой, князь Василий Туренин, произносил за него все обеты, то знаешь ли, что сделал Гермоген? Провозгласил на эктинье Шуйского благоверным царем русским, а родственника моего, Туренина, – новопостриженным иноком Василием! Каково это тебе покажется?.. Да что и говорить! Сами виноваты: ведь охота же была мирволить! Как бы с первых поров святейшего Игнатия опять в патриархи, а Гермогена на смирение в Соловки, так давным бы давно все пришло в порядок.
– Не все так думают о святейшем Гермогене, боярин; я первый чту его высокую душу и христианские добродетели. Если б мы все так любили наше отечество, как сей благочестивый муж, то не пришлось бы нам искать себе царя среди иноплеменных… Но что прошло, того не воротишь.
– Конечно, что прошло, то прошло!.. Но вот нам несут поужинать. Не взыщи, дорогой гость, на убогость моей трапезы! Чем богаты, тем и рады: сегодня я ем постное. Ты, может быть, не понедельничаешь, Юрий Дмитрич? И на что тебе! не все должны с таким упорством измозжать плоть свою, как я – многогрешный. Садись-ка, мой родимый, да похлебай этой ушицы. Стерляжья, батюшка! У меня свой садок, и не только стерляди, осетры никогда не переводятся.
После сытного ужина, за которым хозяин не слишком изнурял свое греховное тело, Юрий, простясь с боярином, пошел в отведенный ему покой. Алексей сказал ему, что Кирша ушел со двора и еще не возвращался.
Милославский уже ложился спать, как вдруг запорожец вошел в комнату.
– Я пришел проститься с тобою, боярин! – сказал он. – Ты, верно, здесь не останешься, а я остаюсь.
– Дай бог тебе всякого счастия, добрый Кирша! Я никогда не забуду услуг твоих!
– Я также, боярин, вечно стану помнить, что без тебя спал бы и теперь еще непробудным сном в чистом поле. И если б ты не ехал назад в Москву, то я ни за что бы тебя не покинул. А что, Юрий Дмитрич! неужли-то у тебя сердце лежит больше к полякам, чем к православным? Эй, останься здесь, боярин!
Юрий вздохнул и не отвечал ни слова. Помолчав несколько времени, он спросил Киршу, при чем он остается в Нижнем?
– Я встретил на площади, – отвечал запорожец, – казацкого старшину, Смаку-Жигулина, которого знавал еще в Батурине; он обрадовался мне, как родному брату, и берет меня к себе в есаулы. Кабы ты знал, боярин, как у всех ратных людей, которые валом валят в Нижний, кипит в жилах кровь молодецкая! Только и думушки, чтоб идти в белокаменную да порезаться с поляками. За одним дело стало: старшего еще не выбрали, а если нападут на удалого воеводу, так ляхам несдобровать!
– Но разве ты думаешь, Кирша, что все те, которые целовали крест Владиславу, не станут защищать своего законного государя?
– Да ведь присяга-то была со всячинкою, Юрий Дмитрич: кто волею, кто из-под палки!
– Как бы то ни было, но я не теряю надежды. Может быть, нижегородцы склонятся на мирные предложения пана Гонсевского, и когда Владислав сдержит свое царское слово и приедет в Москву…
– Так не за что будет и драться… Оно так, боярин! да нашему-то брату что делать тогда? Не землю же пахать, в самом деле!
– А для чего же и не так! Одни разбойники живут бедствиями мирных граждан. Нет, Кирша: пора нам образумиться и перестать губить отечество в угоду крамольных бояр и упитанных кровию нашей грабителей панов Сапеги и Лисовского, которых давно бы не стало с их разбойничьими шайками, если б русские не враждовали сами друг на друга.
– Может статься, ты и дело говоришь, Юрий Дмитрич, – сказал Кирша, почесывая голову, – да удальство-то нас заело! Ну, как сидеть весь век поджавши руки? С тоски умрешь!.. Правда, нам, запорожцам, есть чем позабавиться: татары-то крымские под боком, а все охота забирает помериться с ясновельможными поляками… Однако ж, боярин, тебе пора, чай, отдохнуть. Говорят, завтра ранехонько будет на площади какое-то сходбище; чай, и ты захочешь послушать, о чем нижегородцы толковать станут.
Милославский распрощался с Киршею и, несмотря на усталость, провел большую часть ночи, размышляя о своем положении, которое казалось ему вовсе незавидным. Как ни старался Юрий уверить самого себя, что, преклонив к покорности нижегородцев, он исполнит долг свой и спасет отечество от бедствий междоусобной войны, но, несмотря на все убеждения холодного рассудка, он чувствовал, что охотно бы отдал половину своей жизни, если б мог предстать пред граждан нижегородских не посланником пана Гонсевского, но простым воином, готовым умереть в рядах их за свободу и независимость России.
IV
Заря еще не занималась; все спало в Нижнем Новгороде; во всех домах и среди опустелых его улиц царствовала глубокая тишина; и только изредка на боярских дворах ночные сторожа, стуча сонной рукою в чугунные доски, прерывали молчание ночи. В этот час, посвященный всеобщему покою, какой-то человек высокого роста, закутанный с ног до головы в черный охабень, пробирался, как ночный тать, вдоль по улице, стараясь приметным образом держаться как можно ближе к заборам домов. Казалось, малейший шорох пугал его: он останавливался, робко посматривал вокруг себя и, наконец, подойдя к калитке дома боярина Туренина, тихо стукнул кольцом. Подождав несколько времени, он повторил этот знак и, когда услышал, что кто-то подходит к калитке, то, свистнув два раза, отошел прочь. Через минуту вышел на улицу человек небольшого роста с фонарем; высокий незнакомец, сняв почтительно свою шапку, открыл голову, обвязанную полотном, на котором приметны были кровавые пятна. Они поговорили с полчаса между собою; потом человек небольшого роста, в котором нетрудно было узнать хозяина дома, вошел опять на двор, а незнакомец пустился скорыми шагами по улице, ведущей в низ горы.
Темно-голубые небеса становились час от часу прозрачнее и белее; величественная Волга подернулась туманом; восток запылал, и первый луч восходящего солнца, осыпав искрами позлащенные главы соборных храмов, возвестил наступление незабвенного дня, в который раздался и прогремел но всей земле русской первый общий клик: «Умрем за веру православную и святую Русь!»
Солнце взошло, но тишина и молчание царствовали еще повсюду. Вдруг прозвучал на соборной колокольне первый удар колокола, за ним другой, вот третий… все чаще, все сильнее… призывный гул промчался по всей окрестности, и – все ожило в Нижнем Новгороде.
– Ахти, никак пожар! – вскричал Алексей, вскочив с своей постели. Он подбежал к окну, подле которого стоял уже его господин. – Что б это значило? – продолжал он. – К заутрени, что ль?.. Нет! Это не благовест!.. Точно… бьют в набат!.. Ну, вот и народ зашевелился!.. Глядь-ка, боярин!.. все бегут сюда… Эк их высыпало!.. Да этак скоро и на утицу не продерешься!
– Одевайся, Юрий Дмитрич, – сказал Истома-Туренин, войдя в их покои. – Пойдем посмотреть, что там еще этот глупый народ затевает?
В две минуты Милославский и слуга его были уже совсем одеты. Они с трудом могли выйти за ворота дома; вся их улица, ведущая на городскую площадь, кипела народом.
– Тише, детушки, тише! – говорил, запыхавшись, один седой старик, которого двое взрослых внучат вели под руки, – дайте дух перевести!
– Ну, отдохни, дедушка! – сказал один из внучат. – Да только поскорее, а то как опоздаем, так не продеремся к Лобному месту.
– И не услышим, что будет говорить Козьма Минич, – подхватил другой внук. – Ну, что, отдохнул ли, родимый?
– Ух, батюшки!.. Погодите!.. Вовсе уморился!
– Напрасно, дедушка, ты не остался дома.
– Что ты, дитятко, побойся бога! Остаться дома, когда дело идет о том, чтоб живот свой положить за матушку святую Русь!.. Да если бы и вас у меня не было, так я ползком бы приполз на городскую площадь.
– Постой-ка!.. Да вот и батюшка! – сказал первый внук. – Втроем-то мы тебя и на руках донесем.
Сын и двое внучат, подхватя на руки старика, пустились почти бегом по улице.
– Да что ж ты отстаешь, жена? – сказал, приостановясь, небольшого роста, но плотный посадский, оборотясь к толстой горожанке, которая, спотыкаясь и едва дыша от усталости, бежала вслед за ним.
– Задохнулась, Терентий Никитич… Видит бог, задохнулась!
– Вот то-то же! и зачем тебя нелегкая понесла! Сидела бы дома на печи…
– И, батюшка! да разве я не хочу также послушать, о чем вы на площади толковать будете?
– Вестимо о чем: когда идти на супостатов.
– И ты пойдешь, Терентий Никитич?
– А как же? Разве я не такой же православный, как и все?..
– А ребятишки-то наши! На кого их покинешь?.. Ведь мал мала меньше!
– Да, жаль, что маленьки! Правда, старшему двенадцать годков, так он от меня не отстанет.
– Как, батюшка!.. Ты хочешь?..
– А что ж? Не подымет рогатины, так с ножом пойдет: авось хоть одного супостата на тот свет отправит – и то бы слава богу!
Тут новая толпа, хлынув рекою из поперечной улицы, увлекла с собою посадского и жену его.
Как бурное море, шумел и волновался народ на городской площади, бояре и простолюдины, именитые граждане и люди равные – все теснились вокруг Лобного места; на всех лицах изображалось нетерпеливое ожидание. Вдруг народ зашумел более прежнего, раздались громкие восклицания: «Вот Козьма Минич! Глядите, вот он!» – и человек средних лет, весьма просто одетый, но осанистый и видный собою, взошел на Лобное место Оборотясь к соборным храмам, он трижды сотворил крестное знамение, поклонился на все четыре стороны, и по мановению руки его утихло все вокруг Лобного места; мало-помалу молчание стало распространяться по всей площади, шум отдалялся, глухой говор бесчисленного народа становился все тише… тише… и чрез несколько минут лишенный зрения мог бы подумать, что городская площадь совершенно опустела.
– Граждане нижегородские! – начал так бессмертный Минин – Кто из вас не ведает всех бедствий царства Русского? Мы все видим его гибель и разорение, а помощи и очищения ниоткуда не чаем. Доколе злодеям и супостатам напоять землю русскую кровию наших братьев? Доколе православным стонать под позорным ярмом иноверцев? Ответствуйте, граждане нижегородские! Потерпим ли мы, чтоб царствующий град повиновался воеводе иноплеменному? Предадим ли на поругание пречистый образ Владимирския божия матери и честныя, многоцелебныя мощи Петра, Алексия, Ионы и всех московских чудотворцев? Покинем ли в руках иноверцев сиротствующую Москву?.. Ответствуйте, граждане нижегородские!
– Нет, нет! – загремели тысячи голосов. – Идем к Москве! Не выдадим святую Русь!..
– Итак, во имя божие к Москве!.. Но чтоб не бесплодно положить нам головы и смертию нашей искупить отечество, мы должны избрать достойного воеводу. Я был в Пурецкой волости у князя Димитрия Михайловича Пожарского; едва излечившийся от глубоких язв, сей неустрашимый военачальник готов снова обнажить меч и грянуть божиею грозой на супостата. Граждане нижегородские! хотите ли иметь его главою? люб ли вам стольник и знаменитый воевода, князь Димитрий Михайлович Пожарский?
– Хотим! хотим! он люб нам! – воскликнул народ, волнуясь час от часу более.
– Граждане и братии! – продолжал Минин. – Неужели, умирая за веру христианскую и желая стяжать нетленное достояние в небесах, мы пожалеем достояния земного? Нет, православные! Для содержания людей ратных отдадим все злато и серебро; а если мало и сего, продадим все имущества, заложим жен и детей наших… Вот все, что я имею! – продолжал он, бросив на Лобное место большой мешок, наполненный серебряной монетою, – и пусть выступит желающий купить мой дом – с сего часа он принадлежит не мне, а Нижнему Новгороду, а я сам, мы все, вся кровь наша – земскому делу и всей земле русской!
– Отдаем все наши имущества! Умрем за веру православную и святую Русь! – загремели бесчисленные голоса. – Нарекаем тебя выборным от всея земли человеком! Храни казну Нижегородскую! – воскликнул весь народ.
В эту минуту общего восторга разверзлись западные двери соборного храма Преображений господня и печерский архимандрит Феодосий, в провожании многочисленного духовенства, во всем облачении, со святыми иконами и церковными хоругвями, вышел на городскую площадь. Народ расступился, весь духовный синклит взошел на Лобное место. Раздался громкий благовест. Иереи запели собором: «Царю небесный! Утешителю, Душе истинный!» – и Минин, а вслед за ним все граждане преклонили колена. Когда ж, благословляя оружие христолюбивого войска, благочестивый архимандрит Феодосий, возведя к небесам взор, исполненный чистейшей веры, возгласил молитву: «Господи боже наш, боже сил! Сильный в крепости и крепкий во бранех…» – народ пал ниц, зарыдал, и все мольбы слились в одну общую, единственную молитву: «Да спасет господь царство Русское!» По окончании молебствия Феодосий, осенив животворящим крестом и окропив святой водою усердно молящийся народ, произнес вдохновенным голосом: «С нами бог! Разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами бог! Спешите, избранные господом, на спасение страждущей России! Как огонь палящий, предыдет сила господня пред вами, и посрамится враг нечестивый и возрадуются сердца православных! Воины Христовы! не жалейте благ земных: слава нетленная ожидает вас на земле и вечное блаженство на небесах. Грядите, верные сыны России! грядите во имя господне! На вас благословение всех пастырей духовных! За вас святые молитвы страдальца Гермогена! Кто против вас? Кто против господа сил?»
О, как недостаточен, как бессилен язык человеческий для выражения высоких чувств души, пробудившейся от своего земного усыпления! Сколько жизней можно отдать за одно мгновение небесного, чистого восторга, который наполнял в сию торжественную минуту сердца всех русских! Нет, любовь к отечеству не земное чувство! Оно слабый, но верный отголосок непреодолимой любви к тому безвестному отечеству, о котором, не постигая сами тоски своей, мы скорбим и тоскуем почти со дня рождения нашего!
Все спешили по домам, чтоб сносить свои имущества на площадь, и не прошло получаса, как вокруг Лобного места возвышались уже горы серебряных денег, сосудов и различных товаров: простой холст лежал подле куска дорогой парчи, мешок медной монеты – подле кошелька, наполненного золотыми деньгами. Гражданин Минин принимал все с равной ласкою, благодарил всех именем Нижнего Новгорода и всей земли русской, и хотя несколько сот рабочих людей переносили беспрестанно эти дары в приготовленные для сего кладовые на берегу Волги, но число их, казалось, нимало не уменьшалось.
Старинный наш знакомец, Алексей, находился также в толпе граждан, которые теснились с приношениями вокруг Лобного места. Обшарив свои карманы и не найдя в них ничего, кроме нескольких мелких монет, он снимал уже с себя серебряный крест, как вдруг кто-то, ударив его по плечу, сказал:
– Нет, брат! не расставайся с отцовским благословением: я положу и за тебя и за себя.
– А, это ты, Кирша! – сказал Алексей. – Как! и ты хочешь класть?
– Да, товарищ! Вот в этом мешочке все, что я накопил; да бог с ним! Жаль только, что мало!.. Эге, любезный, ты все еще ревешь. Полно, брат; что ты расхныкался, словно малый ребенок!
– А ты сам разве не плачешь? – отвечал Алексей.
– Кто? я? Вот вздор какой! – вскричал запорожец, утирая рукавом свои глаза. – А что ты думаешь! – продолжал он. – Никак в самом деле! Кой прах! что это, брат Алексей? Мне часто случалось у нас в Запорожской Сечи гулять и веселиться; пьешь, бывало, без просыпу целую неделю, и хоть нельзя сказать, чтоб было очень весело, а пляшешь и поешь с утра до вечера. Теперь же, ну веришь ли богу, так сердце от радости выскочить и хочет, и вовсе не до песен: все бы плакал… да и все также, на кого ни посмотришь… что за диво такое!
В самом деле, все многолюдное собрание народа составляло в эту минуту одно благочестивое семейство; не слышно было громких восклицаний: проливая слезы радости и умиления, как в светлый день Христов, все с братской любовию обнимали друг друга… Но кто этот отверженный?.. Кто стоит поодаль от всей толпы, с померкшим взором, с отчаяньем на челе, бледный, полумертвый, как преступник, идущий на казнь, как блудный сын, взирающий издалека на пирующих своих братьев?.. Ах, это Юрий Милославский! это тот, кто отдал бы тысячу жизней за то, чтобы воскликнуть вместе с другими: «Умрем за веру православную и святую Русь!» Несмотря на приглашение боярина Истомы, который, заливаясь слезами, кричал громче всех: «Идем к матушке Москве!» – Юрий не хотел подойти вместе с ним к Лобному месту. Он не видел Минина, не слышал слов его; но видел общий восторг народа, видел радостные слезы, усердные мольбы всех русских и, как отступник от веры отцов своих, не смел молиться вместе с ними. Ему казалось, что каждый гражданин нижегородский, проходя мимо его, готов был сказать: «Презренный раб Владислава! чего ты хочешь от свободных сынов России?.. Беги! не оскверняй своим присутствием сие священное торжество веры и любви к отечеству! Ты не русский, ты не сын Милославского!» Тут вспомнил Юрий последние слова умирающего своего родителя. Благословляя его охладевшею уже рукою, он сказал: «Юрий! держись веры православной; не своди дружбы с врагами нашего отечества и не забывай, что Милославские всегда стояли грудью за правду и святую Русь!»
– Так! – вскричал несчастный юноша, – присутствие мое при сем торжестве есть осквернение святыни! Я не могу, я не должен оставаться здесь долее!
Он поспешил оставить площадь, но на каждом шагу встречались ему толпы граждан, несущих свои имущества, везде раздавались поздравления, на всех лицах сияла радость. Пробежав несколько улиц, он очутился, наконец, в одном отдаленном предместии и, не видя никого вокруг себя, сел отдохнуть на скамье, подле ворот небольшой хижины. Не прошло двух минут, как несколько женщин и почти столетний старик подошли к скамье, на которой сидел Юрий. Старик сел возле нею.
– Как это, господин честной! – сказал он. – Ты здесь, а не на площади?
– Я сейчас оттуда, – отвечал Юрий.
– И я на старости ходил. Слава богу, кой-как дотащился, теперь готов умереть хоть завтра! Да и пора костям на покой!
– Ты, я думаю, очень стар, дедушка? – спросил Юрий, стараясь переменить разговор.
– Да, молодец! без малого годов сотню прожил, а на всем веку не бывал так радостен, как сегодня. Благодарение творцу небесному, очнулись, наконец, православные!.. Эх, жаль! кабы господь продлил дни бывшего воеводы нашего, Дмитрия Юрьевича Милославского, то-то был бы для него праздник!.. Дай бог ему царство небесное! столбовой был русский боярин!.. Ну, да если не здесь, так там он вместе с нами радуется!
– Я слышала, дедушка, – сказала одна из женщин, – что у него есть сын.
– Как же! Помнится, Юрий Дмитриевич. Если он пошел по батюшке, то, верно, будет нашим гостем и в Москве с поляками не останется. Нет, детушки! Милославские всегда стояли грудью за правду и святую Русь!
– Ахти! – вскричала одна из женщин, – что это с молодцом сделалось? Никак он полоумный… Смотри-ка, дедушка, как он пустился от нас бежать! Прямехонько к Волге… Ах, господи боже мой! долго ли до греха! как сдуру-то нырнет в воду, так и поминай как звали!
Как громом пораженный последними словами старика, Юрий, не видя ничего перед собою, не зная сам, что делает, пустился бежать по узкой улице, ведущей к Волге. В ушах его раздавались слова умирающего отца; ему казалось, что его преследуют, что кто-то называет его по имени, что множество голосов повторяют: «Вот он! вот Милославский». Вся кровь застыла в его жилах. Вдруг ему послышалось, что вслед за ним прогремел ужасный голос: «Да взыдет вечная клятва на главу изменника!» Волосы его стали дыбом, смертный холод пробежал по всем членам, в глазах потемнело, и он упал без чувств в двух шагах от Волги, на краю утесистого берега, застроенного обширными сараями.
Солнце было уже высоко, когда Милославский очнулся; подле него стоял Алексей.
– Слава тебе господи! – вскричал он, заметив, что Юрий пришел в себя. – Ну, перепугал ты меня, боярин! Что это с тобой сделалось?
– Где я? – спросил Милославский, взглянув с удивлением вокруг себя,
– На берегу Волги. Как помиловал тебя господь, Юрий Дмитрич?! И что с тобою сделалось? Мне сказали на площади, что ты пошел вниз под гору, я за тобой следом; гляжу: сидишь смирнехонько подле какого-то старичка; вдруг как будто б тебя чем обожгло, как вскочишь да ударишься бежать! я за тобой, а ты пуще! я ну кричать: «Постой, Юрий Дмитрич, постой! не беги!» – а ты пуще… Ну, веришь ли, осип кричавши: «Куда, боярин, куда?» Гляжу, прямо к Волге… сердце у меня замерло!.. Да, слава богу, что тебя оморок ошиб прежде, чем ты успел добежать до реки. И то беда, уж оттирал, оттирал тебя… и водой прыскал, и вином тер… насилу-то очнулся. Да что это, боярин, с тобою попритчилось?
– Так, Алексей, ничего! Теперь мне лучше. Но скажи… мне помнится, я слышал чей-то голос… кто возле меня предавал проклятию изменника?
– Какого изменника, боярин? Я ничего не слышал.
– Ничего?.. А что за народ толпится вокруг этих сараев?.. О чем они говорят?.. Чу! слышишь? Они называют меня по имени.
– И, нет, Юрий Дмитрич! это тебе чудится. Разве не видишь, сюда складывают все, что нижегородцы нанесли на площадь.
– На площадь?.. Я также был на площади?..
– Как же, боярин!
Юрий провел рукою по глазам и, как будто бы пробудившись от глубокого сна, сказал:
– Да! да! теперь я вспомнил… Мы остановились здесь у боярина Истомы-Туренина…
– Да, Юрий Дмитрич; и, чай, он ждет тебя к обеду.
Юрий при помощи Алексея приподнялся на ноги и только что хотел идти, как вдруг позади его кто-то сказал:
– Здравствуй, боярин! Милости просим! добро пожаловать к нам в Нижний Новгород!
Милославский невольно вздрогнул и, бросив быстрый взгляд на того, кто его приветствовал, узнал в нем тотчас таинственного незнакомца, с которым ночевал на постоялом дворе.
– Ну вот, не отгадал ли я! – продолжал незнакомец. – Бог привел нам опять увидеться.
– Так это ты! – вскричал Алексей. – Я было и на площади признал тебя, да боялся вклепаться. Ну, Козьма Минич, дай бог тебе здоровья! красно ты говоришь!
– Как! – сказал Юрий. – Ты тот знаменитый гражданин?..
– И, боярин! я просто гражданин нижегородский и ничем других не лучше. Разве ты не видел, как все граждане, наперерыв друг перед другом, отдавали свои имущества? На мне хоть это платье осталось, а другой последнюю одежонку притащил на площадь: так мне ли хвастаться, боярин!
– Но разве не ты первый?..
– Ну да… я первый заговорил – так что ж?.. Велико дело!.. Нельзя ж всем разом говорить. Не я, так заговорил бы другой, не другой, так третий… А скажи-ка, боярин, уж не хочешь ли и ты пристать к нам? Ты целовал крест королевичу Владиславу, а душа-то в тебе все-таки русская.
– К несчастью, ты говоришь правду! – сказал со вздохом Юрий.
– А почему ж к несчастию? Скажи мне, легко ль тебе было присягать польскому королевичу?
– Ах!.. видит бог, нет!
– А для чего ж ты это сделал?
– Для того, что был уверен и теперь еще… да, и теперь еще надеюсь, что этой жертвою мы спасем от гибели наше отечество.
– Вот видишь ли: все-таки у тебя отечество на уме. Послушай, я скажу тебе побасенку, боярин. Один мужичок, переплывая через реку, стал тонуть. У него было три сына: меньшой, думая, что он один не спасет его, принялся кричать, рвать на себе волосы и призывать на помощь всех проходящих; между тем мужик выбился из сил, и когда старший сын бросился спасать его, то насилу вытащил из воды и чуть было сам не утонул с ним вместе. На берегу стоял третий сын, или, лучше сказать, пасынок; он не просил помощи, да и сам не думал спасать утопающего отца, а рассчитывал, стоя на одном месте, какая придется ему часть из отцовского наследия. Как ты думаешь, боярин? хоть меньшему сыну и не за что сказать спасибо; а по мне все-таки честнее быть им, чем пасынком.
Юрий молча пожал руку Минина, который продолжал:
– Чему дивиться, что ты связал себя клятвенным обещанием, когда вся Москва сделала то же самое. Да вот хоть, например, князь Димитрий Мамстрюкович Черкасский изволил мне сказывать, что сегодня у него в дому сберутся здешние бояре и старшины, чтоб выслушать гонца, который прислан к нам с предложением от пана Гонсевского. И как ты думаешь, кто этот доверенный человек злейшего врага нашего?.. Сын бывшего воеводы нижегородского, боярина Милославского.
– Да это господин мой! – вскричал Алексей.
– Как! так это ты, Юрий Дмитрич? – сказал Минин, сняв почтительно свою шапку и устремив на Милославского взор, исполненный душевного сострадания. – Ну, жаль мне тебя! Кому другому, а тебе куда должно быть тяжело, боярин!
– Я исполню долг свой, Козьма Минич, – отвечал Юрий. – Я не могу поднять оружия на того, кому клялся в верности; но никогда руки мои не обагрятся кровию единоверцев; и если междоусобная война неизбежна, то… – Тут Милославский остановился, глаза его заблистали… – Да! – продолжал он, – я дал обет служить верой и правдой Владиславу; но есть еще клятва, пред которой ничто все обещания и клятвы земные… Так! сам господь ниспослал мне эту мысль: она оживила мою душу!..
В самом деле, давно уже лицо Милославского не выражало такой твердой решимости и спокойствия. Вся бодрость его возвратилась.
– Прощай, почтенный гражданин! – сказал он Минину – Я спешу теперь в дом боярина Туренина и через несколько часов явлюсь вместе с ним пред лицом сановников нижегородских, в числе которых надеюсь увидеть и тебя. Повторяю еще раз, я исполню долг мой; но… прошу тебя – не осуждай меня прежде времени!
V
Часу в шестом пополудни Юрий и боярин Туренин отправились в дом к князю Черкасскому. Проходя городскою площадью, на которой никого уже не было, Туренин сказал Юрию:
– Насилу-то эти дурачье угомонились! Я, право, думал, что они до самой ночи протолкаются на площади. Куда, подумаешь, народ-то глуп! Сгоряча рады отдать все; а там как самим перекусить нечего будет, так и заговорят другим голосом. Небойсь уймутся кричать: «Пойдем к матушке Москве!»
– Но, кажется, боярин, – сказал Юрий, – и ты кричал вместе с другими?
– С волками надо выть по волчьи, Юрий Дмитрич; и у кого свой царь в голове, тот не станет плыть в бурю против воды. Да и сговоришь ли с целым народом! Вот теперь дело другое: можно будет и потолковать и посудить. Смотри, Юрий Дмитрич, говори смело! Я знаю наперед, что пуще всех будет против меня князь Димитрий Мамстрюкович Черкасский да Григорий Образцов: первый потому, что сын князя Мамстрюка и такой же, как он, чеченец – ему бы все резаться; а второй оттого, что природный нижегородец и терпеть не может поляков. С другими-то сговорить еще можно; правда, они позвали Козьму Сухорукого, а этот нахал станет теперь горланить пуще прежнего.
– Позволь сказать, боярин, мне кажется, он человек скромный.
– Кто? он? Что ты? Иль забыл, что его наименовали выборным от всея земли человеком? Так ему, чай, теперь черт не брат! Чего доброго, заломается в первое место… Но вот и дом князя Димитрия Мамстрюковича…
Пройдя широким двором, посреди которого возвышались обширные по тогдашнему времени каменные палаты князя Черкасского, они добрались по узкой и круглой лестнице до первой комнаты, где, оставив свои верхние платья, вошли в просторный покой, в котором за большим столом сидело человек около двадцати. С первого взгляда можно было узнать хозяина дома, сына знаменитого Черкасского князя, по его выразительному смуглому лицу и большим черным глазам, в которых блистало все неукротимое мужество диких сынов неприступного Кавказа. По правую руку его сидели: татарский военачальник Барай-Мурза Алеевич Кутумов, воевода Михайло Самсонович Дмитриев, дворянин Григорий Образцов, несколько старшин казацких и дворян московских полков; по левую сторону сидели: боярин Петр Иванович Мансуров-Плещеев, стольник Федор Левашев, дьяк Семен Самсонов, а несколько поодаль ото всех гражданин Козьма Минич Сухорукий.
Князь Черкасский встретил боярина Туренина и Милославского в дверях комнаты. Сказав несколько холодных приветствий тому и другому, он попросил их садиться, и по данному знаку вошедший служитель поднес им и хозяину по кружке меду.
– Юрий Дмитрич, – сказал князь Черкасский, – поздравляем тебя с счастливым приездом в Нижний Новгород; хотя, сказать правду, для всех нас было бы радостнее выпить этот кубок за здравие сына Димитрия Юрьевича Милославского, а не посланника от поляков и верноподданного королевича Владислава.
– Князь Димитрий Мамстрюкович, – сказал вполголоса боярин Мансуров, – не забывай нашего уговора: посмотри-ка – его в жар бросило от твоих речей!
– Не вытерпел, боярин! – отвечал Черкасский. – Грустно, видит бог, грустно! Ведь я был задушевный друг его батюшке… Юрий Дмитрич, – продолжал Черкасский, оборотясь к Милославскому, – боярин Истома-Туренин известил нас, что ты приехал с предложениями от ляха Гонсевского, засевшего с войском в Москве, которую взял обманом и лестию богоотступник Лотер и злодей гетман Жолкевский.
– Да, да, злодей гетман Жолкевский! – повторил Барай-Мурза.
– Гетман Жолкевский не злодей, – сказал Юрий. – Если б все советники короля Сигизмунда были столь же благородны и честны, как он, то давно бы прекратились бедствия отечества нашего.
– То есть Владислав был бы московским воеводою!.. – перервал князь Черкасский.
– А мы все рабами короля польского!.. – примолвил насмешливо дворянин Образцов.
– Нет, – отвечал Юрий, – не воеводою, а самодержавным и законным царем русским. Жолкевский клялся в этом и сдержит свою клятву: он не фальшер, не злодей, а храбрый и честный воин.
– Неправда, это ложь! – вскричал Черкасский.
– Да, да, это ложь! – повторил Барай-Мурза.
– Ложь противна господу, бояре! – сказал спокойно Юрий, – и вот почему должно говорить правду даже и тогда, когда дело идет о врагах наших.
– Защищай, Юрий Дмитрич, защищай этих кровопийц! – перервал хозяин. – Да и чему дивиться: свой своему поневоле брат!
– Князь Димитрий, – шепнул боярин Мансуров, – не обижай своего гостя!
– Раб Владислава и угодник ляха Гонсевского никогда не будет моим гостем! – вскричал с возрастающим жаром князь Черкасский. – Нет! он не гость мой!.. Я дозволяю ему объявить, чего желает от нас достойный сподвижник грабителя Сапеги; пусть исполнит он данное ему от Гонсевского поручение и забудет навсегда, что князь Черкасский был другом отца его.
– Да, да, пусть он говорит, а мы послушаем, – сказал Барай-Мурза, поглаживая свою густую бороду.
– Не забывай, однако ж, Юрий Дмитрич, – прибавил дворянин Образцов, бросив грозный вид на Юрия, – что ты стоишь перед сановниками нижегородскими и что дерзкой речью оскорбишь в лице нашем весь Нижний Новгород.
– Я буду говорить истину, – сказал хладнокровно Юрий, вставая с своего места. – Бояре и сановники нижегородские! Я прислан к вам от пана Гонсевского с мирным предложением. Вам уже известно, что вся Москва целовала крест королевичу Владиславу; гетман Жолкевский присягнул за него, что он испросит соизволение своего державного родителя креститься в веру православную, что не потерпит в земле русской ни латинских костелов, ни других иноверных храмов и что станет, по древнему обычаю благоверных царей русских, править землею нашею, как наследственной своей державою. Не безызвестно также вам, что Великий Новгород, Псков и многие другие города стонут под тяжким игом свейского воеводы Понтуса, что шайки Тушинского вора и запорожские казаки грабят и разоряют наше отечество и что доколе оно не изберет себе главы – не прекратятся мятежи, крамолы и междоусобия. Бояре и сановники нижегородские! последуйте примеру граждан московских, целуйте крест королевичу Владиславу, не восставайте друг против друга, покоритесь избранному царствующим градом законному государю нашему – и, именем Владислава, Гонсевский обещает вам милость царскую, всякую льготу, убавку податей и торговлю свободную. Я сказал все, бояре и сановники нижегородские! Избирайте, чего хотите вы…
– Упиться кровию врагов наших! – вскричал Черкасский, – кровию губителей России, кровию всех ляхов!
– Да, да, всех ляхов! – повторил Барай-Мурза Алеевич Кутумов, поглядывая на Черкасского.
– Но русские, присягнувшие в верности Владиславу…
– Пусть гибнут вместе с врагами веры православной! – перервал хозяин.
– Итак, – возразил Юрий, – одна жажда крови, а не любовь к отечеству, боярин, заставляет тебя поднять оружие?..
Черкасский устремил сверкающий взор на Милославского и, помолчав несколько времени, спросил его: был ли он на нижней торговой площади?
– Нет, – отвечал Юрий, не понимая, к чему клонится этот вопрос.
– Жаль, – продолжал Черкасский, – ты увидел бы, что на ней цела еще виселица, на которой нижегородцы повесили изменника Вяземского (10). Берегись дерзкою речью напомнить им, что не один князь Вяземский достоин этой позорной казни!
– Князь Димитрий!.. – сказал боярин Мансуров, – пристало ли тебе, хозяину дома!.. Побойся бога!.. Сограждане, – продолжал он, – вы слышали предложение пана Гонсевского: пусть каждый из вас объявит свободно мысль свою. Боярин князь Черкасский! тебе, яко старшему сановнику думы нижегородской, довлеет говорить первому; какой даешь ответ пану Гонсевскому?
– Я уже отвечал, – сказал Черкасский. – Избранный нами главою земского дела, князь Димитрий Михайлович Пожарский пусть ведет нас к Москве! Там станем мы отвечать гетману; он узнает, чего хотят нижегородцы, когда мы устелем трупами врагов все поля московские!
– Итак, ты объявляешь?..
– Непримиримую вражду до тех пор, пока хотя один лях или предатель дышит воздухом русским! Мщение за погибших братьев! кровь за кровь!
Мурза Кутумов встал с своего места, погладил бороду и начал:
– Бояре, что сказал князь Димитрий Мамстрюкович Черкасский, то говорю и я: вражда непримиримая… доколе хотя один лях или русский… то есть предатель… сиречь изменник…
– Довольно, Барай-Мурза, садись! – перервал Черкасский.
Барай-Мурза Алеевич Кутумов отвесил низкий поклон всем присутствующим и сел на прежнее место.
– Граждане нижегородские! – сказал кипящий мужеством и ненавистью к полякам дворянин Образцов. – Чего требует от нас этот атаман разбойничьей шайки, этот изверг, пирующий в Москве на могилах наших братьев?.. Он желал бы, чтоб нижегородцы положили оружие так же, как желает хищный волк, чтоб стадо осталось без пастыря и защиты. Сигизмунд дает нам своего сына – и берет Смоленск, древнее достояние царей православных! Поляки предлагают нам мир – и покрывают пеплом сел и городов всю землю русскую! Нет, сограждане! не царствующий град целовал крест королевичу Владиславу, а пленная Москва; не свободные граждане клялись в верности иноплеменному, но безоружные жители, рабы, отягченные оковами!.. и насильственная клятва, данная под ножом убийц, должна служить примером для вольных сынов Нижнего Новгорода!.. Нет! да будет вечная вражда между нами и злодеем нашим, Сигизмундом! Гибель и смерть всем ляхам!
– Гибель и смерть всем ляхам! – повторили Черкасский, Барай-Мурза и все старшины казацкие.
– Мужи доблестные и верные сыны отечества! – сказал боярин Туренин, вставая с своего места. – Нельзя без радостных слез видеть ваше рвение на защиту земли русской! И во мне кипит желание обагриться кровию врагов наших, и я готов идти к Москве; но прежде всего следует помыслить, чего требует от нас отечество: кровавой мести или спасения от конечной своей гибели? Великое дело, с малым и необученным войском устоять против бесчисленных врагов… но господь укрепит десницу рабов своих, хотя, по тяжким грехам нашим, мы не достойны, чтоб свершилось над нами сие чудо, и поистине не должны надеяться… но милосердие всевышнего неистощимо. Пусть будет так: мы победим ненавистных ляхов; рассеем, как прах земной, их несметные ополчения; очистим Москву и, несмотря на то, останемся по-прежнему без главы, и вящее тогда постигнет нас бедствие. Каждый знаменитый боярин и воевода пожелает быть царем русским; начнутся крамолы, восстанут новые самозванцы, пуще прежнего польется кровь христианская, и отечество наше, обессиленное междоусобием, не могущее противустать сильному врагу, погибнет навеки; и царствующий град, подобно святому граду Киеву, соделается достоянием иноверцев и отчиною короля свейского или врага нашего, Сигизмунда, который теперь предлагает нам сына своего в законные государи, а тогда пришлет на воеводство одного из рабов своих. Помыслите, сограждане! что станется тогда с верою православною? что станется со всеми нами, когда и имя царства Русского изгладится из памяти людской?.. Я все сказал: судите слова мои, бояре и сановники нижегородские!
– Боярин Андрей Никитич Туренин! – сказал с низким поклоном дьяк Семен Самсонов. – В речах твоих много разума, хотя ты напрасно возвеличил могущество врагов наших. Нам известно бессилие ляхов; они сильны одним несогласием нашим; но ты изрек истину, говоря о междоусобиях и крамолах, могущих возникнуть между бояр и знаменитых воевод, а посему я мыслю так: нижегородцам не присягать Владиславу, но и не ходить к Москве, а сбирать войско, дабы дать отпор, если ляхи замыслят нас покорить силою; Гонсевскому же объявить, что мы не станем целовать креста королевичу польскому, пока он не прибудет сам в царствующий град, не крестится в веру православную и не утвердит своим царским словом и клятвенным обещанием договорной грамоты, подписанной боярскою думой и гетманом Жолкевским.
– Я мыслю то же самое, – сказал боярин Мансуров. – Безвременная поспешность может усугубить бедствия отечества нашего. Мой ответ пану Гонсевскому не ждать от нас покорности, доколе не будет исполнено все, что обещано именем Владислава в договорной грамоте; а нам ожидать ответа и к Москве не ходить, пока не получим верного известия, что король Сигизмунд изменил своему слову.
– Мы согласны во всем с боярином Мансуровым, – сказали воеводы Михаил Самсонович Дмитриев и стольник Левашев.
– И мы также! – вскричали все дворяне московских полков.
Князь Черкасский вскочил с своего места.
– Как! – сказал он, бледнея от гнева и досады, – вы согласны признать Владислава царем русским?
– Да, если он сдержит свое обещание, – отвечал спокойно Мансуров.
– Признать своим владыкою неверного поляка! – перервал Образцов.
– Он отречется от своей ереси, – возразил дьяк Самсонов.
– Кто нейдет к Москве, тот изменник и предатель! – вскричал Черкасский.
– Изменник и предатель! – повторил Барай-Мурза.
– Князь Димитрий! – сказал Мансуров, – и ты, Мурза Алеевич Кутумов! не забывайте, что вы здесь не на городской площади, а в совете сановников нижегородских. Я люблю святую Русь не менее вас; но вы ненавидите одних поляков, а я ненавижу еще более крамолы, междоусобие и бесполезное кровопролитие, противные господу и пагубные для нашего отечества. Если ж надобно будет сражаться, вы увидите тогда, умеет ли боярин Мансуров владеть мечом и умирать за веру православную.
– Боярин! – сказал Образцов. – Когда мы не согласны меж собою, то пусть решит весь Нижний Новгород, кто из всех нас любит более свое отечество.
– Вы это сейчас увидите, бояре и сановники нижегородские, – сказал Минин, вставая с своего места и поклонясь почтительно всем присутствующим.
– Да ты еще ничего не говорил, Козьма Минич, – вскричал Черкасский. – Говори, говори, чья сторона правее!
– Не мне, последнему из граждан нижегородских, – отвечал Минин, – быть судьею между именитых бояр и воевод; довольно и того, что вы не погнушались допустить меня, простого человека, в ваш боярский совет и дозволили говорить наряду с вами, высокими сановниками царства Русского. Нет, бояре! пусть посредником в споре вашем будет равный с вами родом и саном знаменитым, пусть решит, идти ли нам к Москве, или нет, посланник и друг пана Гонсевского.
– Что ты, Минин! в уме ли? – вскричал Черкасский.
– Юрий Дмитрич, – продолжал Минин, обращаясь к Милославскому, – ты исполнил долг свой, ты говорил, как посланник гетмана польского; теперь я спрашиваю тебя, сына Димитрия Юрьевича Милославского, что должны мы делать: идти ли к Москве, или покориться Сигизмунду?
Яркий румянец покрыл лицо Юрия; он приподнялся до половины, хотел что-то сказать, но вдруг остановился и с судорожным движением закрыл рукою глаза свои.
– Боярин! – продолжал Минин. – Если бы ты не целовал креста Владиславу, если б сегодня молился вместе с нами на городской площади, если б ты был гражданином нижегородским, что бы сделал ты тогда? Отвечай, Юрий Дмитрич!
– Что сделал бы я? – сказал Юрий, устремив сверкающий взор на Минина. – Что сделал бы я?.. Положил бы мою голову за святую Русь!
– Что ты, Юрий Дмитрич! – шепнул Туренин.
– Молчи, боярин! – вскричал Милославский с возрастающим жаром. – Это выше всех сил моих! Так, граждане нижегородские! я умер бы, благословляя господа, допустившего меня пролить всю кровь за веру православную. К Москве, верные и счастливые нижегородцы! Спасайте угнетенных ваших братьев! Они ждут вас. Они рабы поляков, а не подданные Владислава. Не верьте Сигизмунду: он вечный и непримиримый враг наш; не страшитесь поляков – их многочисленная рать страшна для одних безоружных жителей московских. Спешите, храбрые нижегородцы! спешите водрузить хоругвь спасителя на поруганных стенах священного Кремля! Вы свободны, вы не присягали иноплеменнику. А я… я добровольно поклялся быть верным Владиславу; я не могу умереть вместе с вами! Но если не оружием, то молитвами буду участвовать в святом и великом деле вашем. Так, граждане нижегородские! Я удалюсь в обитель преподобного Сергия; там, облеченный в одежду инока, при гробе угодника божия стану молиться день и ночь, да поможет вам господь спасти от гибели царство Русское.
Юрий замолчал; крупные слезы градом катились по лицу его. Пораженные неожиданною речью Милославского, все присутствующие онемели от удивления. Несколько минут продолжалось общее молчание; вдруг опрокинутый стол с громом полетел на пол, и князь Черкасский, перескочив через него, бросился на шею к Милославскому.
– Прости меня, любезный! – кричал он, прижимая его к груди своей, – я обидел тебя!.. Пусть осмелится кто-нибудь сказать, что ты не сын моего друга Милославского!
– Да, да, пусть попытается кто-нибудь! – повторил Барай-Мурза.
– Ты достоин быть нижегородцем, Юрий Дмитрич! – сказал Образцов, пожимая его руку.
Минин не говорил ни слова, но с нежностию отца смотрел на Юрия и утирал потихоньку текущие из глаз слезы.
– Итак, – продолжал Черкасский, – теперь, кажется, нам спорить не о чем, идем ли к Москве?
– Идем! – вскричали почти все присутствующие.
– К Москве так к Москве! – сказал боярин Мансуров. – Дождемся князя Пожарского да с божьим благословением…
– Но кто же будет главою царства Русского? – спросил дьяк Самсонов.
– Прежде очистим Москву, а там уж подумаем, – отвечал Мансуров.
– Изберем всей землей в цари кого бог даст! – сказал Образцов.
– И поклянемся, – прибавил Мансуров, – жить дружно, забывать всякую вражду, а помнить одного бога и святую Русь!
– Насилу-то и ты заговорил, молодец! – закричал Черкасский. – Пусть дьяки и бояре, которые ничем не лучше дьяков, – прибавил он, взглянув на Туренина, – заседают в приказах, а в воинскую думу им бы и носа не надобно показывать.
– Теперь, Юрий Дмитрич, – сказал боярин Мансуров, – ты можешь отвезти наш ответ Гонсевскому.
– Не лучше ли остаться с нами, – перервал Черкасский, – и подраться с поляками?
– Нет, боярин: бог карает клятвопреступников: пока я ношу меч – я подданный Владислава.
– Юрий Дмитрич, – сказал Мансуров, – мы дозволяем тебе пробыть завтрашний день в Нижнем Новгороде; но я советовал бы тебе отправиться скорее: завтра же весь город будет знать, что ты прислан от Гонсевского, и тогда, не погневайся, смотри, чтоб с тобой не случилось того же, что с князем Вяземским. Народ подчас бывает глуп: как расходится, так его ничем не уймешь.
– Прощай, боярин! – сказал Минин. – Дай бог тебе счастия! Не знаю отчего, а мне все сдается, что я увижу тебя опять не в монашеской рясе, а с мечом в руках, и не в святой обители, а на ратном поле против общих врагов наших.
Милославский, уходя, заметил, что боярина Туренина не было уже в комнате. У самых дверей дома встретил его Алексей; он казался очень встревоженным.
– Я больше часу дожидаюсь тебя здесь, Юрий Дмитрич, – сказал он. – Знаешь ли что? Ведь хозяин-то наш недобрый человек!
– Что ты хочешь сказать?
– А то, что мы из одного омута попали в другой. Воля твоя, боярин! сердись на меня или нет, а я, не спросись тебя, перетащил наши пожитки на постоялый двор, вот тот, что возле самой пристани.
– Для чего ты это сделал?
– А вот для чего. Знаешь ли, кто теперь спрятан в дому у боярина Туренина?.. Тот самый разбойник, который вчера в лесу хотел нас ограбить!
– Неужели?
– Да добро бы один, а то с ним еще четверо пострелов, из которых каждый уберет нас обоих. Как ты пошел сюда, я вышел поглядеть на улицу и присел у самых ворот за столбом. Этак около сумерек – гляжу, крадутся пятеро молодцов вдоль забора; я-то за столбом им был не в примету, а мне все было видно. Вот один из них шмыг в ворота! глядь – тот самый разбойник, которого Кирша называл Омляшем. Он перемолвил словца два с дворецким, махнул товарищам, и они шасть на двор. Пошептались, потолковали меж собой, да и полезли все на сенник. Вот, боярин, и я смекнул, что дело плоховато; тотчас все наши пожитки и конскую сбрую вытащил потихоньку за ворота да ну-ка скорей выводить лошадей будто б на водопой; навьючил на одну все наше добро, да и был таков. Хорошо еще, что некому было за мной присмотреть: дворецкий, видно, заболтался с своим гостьми, другие слуги пошли шататься по городу, а конюха так пьяны, что лыка не вяжут.
– Ты хорошо сделал, Алексей. Я и сам не слишком доверяю нашему хозяину.
– Да он сущий Иуда-предатель! сегодня на площади я на него насмотрелся: то взглянет, как рублем подарит, то посмотрит исподлобья, словно дикий зверь. Когда Козьма Минич говорил, то он съесть его хотел глазами; а как после подошел к нему, так – господи боже мой! откуда взялися медовые речи! И молодец-то он, и православный, и сын отечества, и бог весть что! Ну вот так мелким бесом и рассыпался!
В продолжение этого разговора они дошли до городских ворот, и когда вышли в предместие, то Юрий увидел, что кто-то идет за ними следом. Несмотря на умножающуюся ежеминутно темноту, Милославский заметил, что всякий раз, когда он оглядывался назад, этот человек старался прятаться за углы домов. Юрий шепнул Алексею, чтоб он остерегался и вынул на всякий случай саблю. Между тем они вошли в улицу, или, лучше сказать, переулок, ведущий прямо к пристани: по обеим его сторонам тянулись длинные заборы, и только изредка кой-где выстроены были небольшие избы, но и те казались пустыми и. вероятно, служили амбарами для складки хлеба и товаров. Когда они поравнялись с одной полуразвалившеюся деревянною церковью, которая, судя по разбитым окнам и совершенно обрушенной паперти, давно уже была оставлена, незнакомый, который следовал за ними издалека, удвоил шаги и стал к ним приближаться. Юрий, желая скорее узнать, чего хочет от них этот безотвязный прохожий, пошел вместе с Алексеем прямо к нему навстречу; но лишь только они приблизились друг к другу и Алексей успел закричать: «Берегись, боярин, это разбойник Омляш!..» – незнакомый свистнул, четверо его товарищей выбежали из церкви, и почти в ту ж минуту Алексей, проколотый в двух местах ножом, упал без чувств на землю.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Прежде чем мы приступим к продолжению этой повести, нам должно предуведомить читателей, что промежуток времени, отделяющий эту главу от предыдущей, заключает в себе почти четыре месяца. Большей части наших читателей, без сомнения, известны все обстоятельства, предшествовавшие освобождению Москвы и вступлению на всероссийский престол Михаила Федоровича Романова; но, несмотря на то, мы полагаем нужным упомянуть, хотя мимоходом, о том, что происходило в Нижнем Новгороде и около Москвы от апреля месяца до начала августа 1612 года. Избранный единодушно главою земского ополчения князь Пожарский, излечась от ран своих, вступил в Нижний Новгород, сопровождаемый верною дружиною воинов. Его величественная наружность, радушие и ласковое со всеми обращение привлекли к нему все сердца. Бояре и воеводы, старее его чинами и родом, несмотря на закоренелый предрассудок местничества, добровольно подчинились его власти; со всех сторон спешили под знамена его люди ратные; смоляне, дорогобужане и вязьмичи, жившие в Арзамасе, явились первые; вслед за ними рязанцы, коломенцы и жители отдаленной Украины умножили собою число свободных людей: так называли себя воины, составлявшие отечественное ополчение нижегородское, которое вскоре под предводительством Пожарского двинулось к Ярославлю. В сем городе, подкупленные злодеем Заруцким, убийцы посягнули на жизнь знаменитого вождя, но бог не допустил их свершить это злодеяние, а великодушный Пожарский не только не предал их заслуженной казни, но вырвал из рук народа, хотевшего растерзать их на части. Важные причины замедлили приход нижегородцев под Москву; наконец, приближение гетмана Хоткевича с сильным войском, посланным против стоящего под Москвою князя Трубецкого, побудило Пожарского поспешить своим приходом к столице, и 1 августа 1612 года нижегородское ополчение прибыло к Троицкой лавре, отстоящей от Москвы в шестидесяти четырех верстах.
* * *
В начале августа месяца, в одно прекрасное утро, какой-то прохожий, с небольшою котомкою за плечами и весьма бедно одетый, едва переступая от усталости, шел по большой нижегородской дороге, которая в сем месте была проложена почти по самому берегу Волги.
Его изнуренный вид, бледное лицо и впалые щеки – все показывало в нем человека, недавно излечившегося от тяжкой болезни, но в то же время нельзя было не заметить, что причиною его необычайной худобы была не одна телесная болезнь: глубокая горесть изображалась на лице его, а покрасневшие от слез глаза ясно доказывали, что его душевные страдания не миновались вместе с недугом, от которого он, по-видимому, совершенно излечился. Дойдя до густой березовой рощи, которую перерезывала узкая проселочная дорога, он остановился и, казалось, с большим вниманием стал рассматривать едва заметное полуобгоревшее строение, коего развалины виднелись на высоком холме, верстах в пяти от рощи, в тени которой он тогда находился.
– Я не ошибаюсь, – сказал он, наконец, – это отчина боярина Шалонского… Слава богу! она останется у меня в стороне… – Сказав эти слова, прохожий сел под кустом и, вынув из котомки ломоть черного хлеба, принялся завтракать.
Он не успел еще проглотить первого куска, как вдруг ему послышался в близком расстоянии конский топот, и через минуту человек двадцать казаков, выехав проселочной дорогою из рощи, потянулись вдоль опушки к тому месту, на котором расположился прохожий. Впереди всех, на вороном коне, ехал начальник отряда; он отличался от других казаков не платьем, которое было весьма просто, но богатой конской сбруею и блестящим оружием, украшенным дорогою серебряной насечкой. Когда он поравнялся с прохожим, который несколько уже минут не спускал с него глаз, то сей последний вскрикнул радостным голосом:
– Так точно, это он!.. Здравствуй, Кирша!
– Почему ты меня знаешь, добрый человек? – спросил всадник, приостановя своего коня.
– Так, видно, я больно похудел, когда и ты меня не узнаешь? Вглядись-ка хорошенько…
– Вот-те раз!.. Неужели?.. Да нет, зачем ему здесь быть?
– Правда, брат Кирша, и я не чаял здесь быть, а думал, что меня отпоют и похоронят в Нижнем Новгороде.
– Неужели-то в самом деле ты Алексей Бурнаш?
– В старину меня так зывали.
– Ах, батюшки! Что это тебя так перевернуло?.. А где твой барин?..
Вместо ответа Алексей закрыл руками лицо и горько заплакал.
– Что с ним сделалось? – спросил запорожец, соскочив с коня. – Где он?
– Уж, верно, там… – сказал Алексей, показывая на небо. – Он был ангел во плоти!
– Так Юрий Дмитрич?..
– Приказал долго жить, – отвечал, всхлипывая, верный служитель Милославского.
– Ах, боже мой! Боже мой! – вскричал запорожец. – Гей, ребята!.. долой с коней. Мы можем здесь позавтракать и дать вздохнуть лошадям; да подайте-ка мою кису.
Казаки спешились и, разнуздав коней, пустили их на обширный луг, который расстилался перед рощею, а сами, поставив на небольшом возвышении часового, расположились кружком под деревьями. Кирша, вынув из кисы флягу с вином и большой пирог с капустою, сел подле Алексея.
– Ну-ка, брат, перекуси, – сказал он, – ты, я вижу, больно отощал. Да расскажи мне, как это случилось, что твой боярин умер? Он был такой детина здоровый, кровь с молоком! Отчего бы, кажется?..
– Его зарезали, – отвечал Алексей.
– Как?.. кто?.. где?
– А вот послушай. Ты, чай, помнишь, как в Нижнем на площади, когда Козьма Минич Сухорукий…
– Помню, помню!
– Ну, в этот самый день, вечером, боярин был у князя Черкасского, и на дворе уж стало смеркаться, как мы пошли с ним на постоялый двор, в который перебрались из дома этого жида, Истомы-Туренина. Вот недалеко от пристани вдруг выскочили на нас из пустой церкви человек пять разбойников; не успел я мигнуть, как меня хватили в бок ножом – и я невзвидел света божьего. Не помню, долго ли пробыл без памяти; а как очнулся, то увидел, что лежу на скамье в избе и подле меня стоит седой старик. Я узнал уж после, что он рыбак и что, идучи поутру с пристани, наткнулся на меня нечаянно и, заметя, что я еще дышу, ради Христа перенес меня к себе в избу. Как сквозь сон помню: лишь только он мне пересказал об этом, я опять обеспамятел и уж спустя недели четыре, придя в себя, спросил его о боярине; он сказал мне, что никакого тела не подымали на том месте, где нашли меня… Видно, злодеи зарезали Юрия Дмитрича и бросили в Волгу. Меня пользовала какая-то досужая старушка, и я, без малого четыре месяца, был при смерти; а как немного поправился, то задумал идти в подмосковную нашу отчину. О тебе и спрашивать было нечего: мне сказали, что все ратные люди ушли в Ярославль с князем Пожарским; так я отслужил третьего дня панихиду по моем боярине и отправился в путь… Да что-то ноги плохо слушаются, насилу тащусь.
– Ах, жалость какая! – сказал Кирша, когда Алексей кончил свой рассказ. – Уж если ему было на роду писано не дожить до седых волос, так пусть бы он умер со славою на ратном поле: на людях и смерть красна, а то, подумаешь, умереть одному, под ножом разбойника!.. Я справлялся о вас в дому боярина Туренина; да он сам мне сказал, что вы давным-давно уехали в Москву.
– Злодей! Он лучше меня знает, куда отправился Юрий Дмитрич: это его дело.
– Неужели?
– Как бог свят! У него в дому разбойничья пристань.
– Так недаром же он стречка дал из Нижнего. Когда князь Пожарский прибыл к нам в город, так, говорят, его везде искали, да не нашли… Ну, брат Алексей, ошеломил ты меня!.. Мне все еще не верится…
– И я долго не верил. Ведь про покойного моего боярина было какое-то пророчество; и так как до сих пор уж многое сбылось, то я не брал веры, чтоб его зарезали, да пришлось, наконец, поверить.
– А что такое о нем пророчили? Расскажи, брат, пожалуйста…
– Вот изволишь видеть: это случилось при царе Иоанне Васильевиче Грозном, когда батюшка моего покойного боярина был еще дитятею; нянюшка его Федора рассказывала мне это под большой тайной. Однажды… надобно тебе сказать, что матушка его, то есть бабушка Юрия Дмитрича, была премилосердная: вся нищая братия в околотке ею только и жила. Ну вот однажды, в день рождения… нет, в день именин своего сожителя, она изволила на крыльце своеручно раздавать милостыню неимущим, которых набралось на боярский двор видимо-невидимо. Все нищие, как водится, так и лезли друг пред другом, чтоб схватить милостыню; одна только старушка не рвалась вперед и, стоя поодаль, терпеливо дожидалась своей очереди. Вот уже боярыня отдавала последнюю копейку, и иной нищий, попроворней других, протягивал в четвертый раз руку, а старушка все не трогалась с места. На ту пору нянюшка Федора стояла также на крыльце, заметила старуху и доложила о ней боярыне; нищую подозвали, и когда боярыня, вынув из кармана целый алтын, подала ей и сказала: «Молись за здравие именинника!» – то старушка, взглянув пристально на боярыню и помолчав несколько времени, промолвила: «Ох ты, моя родимая! здоров-то он будет, да уцелеет ли его головушка?..» – «Как так?» – спросила боярыня, побледнев как смерть. «Дай-то господи, – продолжала старушка, – чтоб о вешнем Николе не пришлось тебе панихиды служить». Сказав эти слова, старуха поклонилась, юркнула в толпу нищих и – след простыл; боярыня закричала: «Ищите ее, приведите сюда!» Не тут-то было: сгинула да пропала, и все нищие сказали в один голос, что не знают, кто она такова, откуда взялась и куда девалась. Ну что ж? и в самом деле, вскоре после того злодей Малюта Скуратов обнес перед царем нашего боярина и его казнили накануне Николина дня. Боярыня, оставшись вдовою с одним малолетним сыном Дмитрием Юрьевичем, батюшкою покойного моего господина, отправилась в свою закамскую отчину, и ровно десять лет о той старушке слуху не было. В это время Дмитрий Юрьевич подрос, женился и прижил покойного моего господина, Юрия Дмитриевича. Вот однажды, около Петрова дня, они всей семьей отправились в Калугу повидаться с родными. Им пришлось под вечер проезжать Брынским лесом. Боярыня и Федора ехали в колымаге (11), а боярин и холопи верхами. Вдруг в самой средине леса застигла их гроза, загремел гром, поднялся вихрь, дождь полил как из ведра, и пошел такой гул по лесу, что лошади шарахнулись и стали на одном месте как вкопанные – ни взад, ни вперед. Федора божилась мне, что она этакой грозы сродясь не видывала. Молодая боярыня со страху зарылась в подушки, а старая, хоть также робела, однако ж заметила и показала Федоре, что подле дороги, против самой колымаги, сидит под кустом какая-то женщина. Вдруг блеснула молонья, осветила все кругом, Федора ахнула, а старая боярыня, толкнув ее тихонько локтем, приказала молчать: они обе узнали в этой прохожей старушку, которая предсказала о смерти покойного боярина. Вот, как гроза поунялась, боярыня вылезла из колымаги, подошла к старухе и начала с нею говорить шепотом. Но тут набежала новая туча, загремел опять гром и сделалась такая темнять, что хоть глаз выколи, а когда прочистилось, то старухи уж не было. Как она ушла, куда девалась, бог весть!
Старая боярыня крепилась месяца два, наконец не вытерпела и пересказала Федоре, под большою тайной, что нищая говорила с ней о ее внуке, Юрие Дмитриче, что будто б он натерпится много горя, рано осиротеет и хоть будет человек ратный, а умрет на своей постеле; что станет служить иноплеменному государю; полюбит красную девицу, не зная, кто она такова, и что всего-то чуднее, хоть и женится на ней, а свадьба их будет не веселее похорон.
– Что ж из этого сбылось?
– Как что? На двадцатом году Юрий Дмитрич осиротел, служил королевичу Владиславу и полюбил боярышню Шалонскую, не зная, кто она такова.
– Правда, правда, но ведь ему должно было умереть своею смертью?
– Кажись бы, должно, а на беду вышло не так.
– И что за свадьба, которая не веселее похорон?
– Уж этого, любезный, и нянюшка Федора растолковать не могла.
– Вот то-то и есть! не все, брат, предсказания сбываются. Пожалуй, и про меня в Царицыне какой-то цыган сказал, что я попаду в Запорожскую Сечь и век останусь простым казаком… Что ж вышло? Одно сбылось, а другое нет. Ты видишь сам, – продолжал Кирша, взглянув с удовольствием на своих казаков, – у меня под началом вот этаких молодцов до сотни наберется; и кабы я знал да ведал, кто эти душегубцы, которые потеряли Юрия Дмитрича, так я бы их с моими ребятами на дне морском нашел!.. Уж поплатились бы мне за твоего боярина! – примолвил Кирша, принимаясь за флягу с вином.
– Одного-то из них ты знаешь, я его и впотьмах рассмотрел: он тот самый разбойник… вот что ты называл Омляшем.
– Как! – вскричал Кирша, выронив из рук свою флягу.
– Ну да! тот самый, которого ты, помнишь, в лесу перекрестил по голове нагайкою.
– Ах, боже мой! Алексей, знаешь ли что? Ведь твой боярин-то, может быть, жив!
– Что ты говоришь?
– Этот Омляш и его товарищи – слуги боярина Кручины-Шалонского…
– Неужто?
– Я слышал своими ушами, что им приказано было захватить Юрия Дмитрича живьем. Ну, теперь понимаешь ли, почему не нашли твоего боярина ни живого, ни мертвого?.. Он теперь в руках у этого кровопийцы Шалонского.
– А что ты думаешь?
– Верно так, и если только он жив…
– Дай-то господи!
– То во что б ни стало, а Кирша его выручит. Видишь, там вдали?.. Ведь это, кажется, отчина Шалонского?
– Должна быть она; только куда девались его хоромы, там на холме…
– Одни угольки остались… Это, брат, наше дело; хозяина-то, жаль, не захватили. Когда мы проходили через село и стали добиваться от крестьян, где их боярин, то все мужички в один голос сказали, что он со всеми своими пожитками, холопями и домочадцами уехал, а куда – никто не знает. Пуще всего грыз на него зубы боярин Образцов. С досады, что он от нас ускользнул, мы запалили его хоромы: первый пук соломы бросил в них Федька Хомяк, который по всем дворам искал приказчика, и уж если бы он попался Хомяку в руки, несдобровать бы ему! Мы было хотели поджечь и село, да жаль стало мужичков: они, сердечные, не виноваты, что их боярин предатель и изменник.
– Так что ж прибыли, если Юрий Дмитрич и жив, – сказал печально Алексей, – когда мы не ведаем, куда этот злодей Шалонский его запрятал?
– А почему знать? может быть, и добьемся толку. Жаль, что со мной народу-то немного, а то бы я не выпустил из села ни одной души, пока не узнал, где теперь их боярин. Статься не может, чтоб в целой отчине не нашлось никого, кто б знал, куда он запропастился.
– Может быть, он уехал в Москву.
– Со всей своей дворнею? Что ты, брат! В Москве и полякам-то перекусить нечего, так примут они его с такой ватагою! Нет, он, верно, теперь в каком-нибудь другом поместье… Да вот постой! достанем языка, так авось что-нибудь выведаем.
– Эх, любезный! – сказал Алексей, покачивая головою. – Не верится мне!.. Ты было сначала меня обрадовал, а после как подумал… не может быть! Если его и взяли живого, так, верно, уж давным-давно уходили.
– Авось, брат! попытка не шутка, а спрос не беда! Слава богу, что мой старшина Смага-Жигулин не отпустил меня одного! Что б мы стали теперь делать?
– Да как ты сюда попал?
– Меня послал князь Пожарский с грамотою к нижегородцам, и я было уже совсем отправился с одним только казаком, да Жигулин велел мне взять с собою этих ребят. Около Москвы теперь вовсе проезду нет, по всем дорогам бродят шиши; хоть они грабят и режут одних поляков да изменников, но, неровен час, когда они под хмельком, то им все кажутся или поляками, или изменниками; а нашу братью казаков, и чужих и своих, они терпеть не могут. Говорят, у них старшим какой-то деревенский батька. Мне рассказывали про него и бог весть что! Чудо-богатырь, аршин трех ростом, а зовут его, помнится, отцом Еремеем (12). Все подмосковные шиши в таком у него послушании, что без его благословения рук отвести не смеют, и если б не он, так от этих русских налетов и православным житья бы не было.
– Так ты едешь теперь из Нижнего?
– Да; торопиться мне незачем: станем искать твоего боярина, авось господь нам поможет… Постой-ка, мне пришло в голову… А что и в самом деле!.. Я знаю в этом селе одного мужичка: он со всей боярской дворнею водил знакомство и ремеслом колдун; так, верно, лучше другого может нам намекнуть… Эй, молодцы! – продолжал Кирша. – Побудьте здесь, а я на часок-место отлучусь. Вот этот парень расскажет вам, о чем идет дело. Малыш! ты останешься старшим; если я через час не вернусь, то ступайте все… вон в тот лес, что позади села. Сборное место недалеко от огородов, подле деревянной часовни; да только без шуму, втихомолку и не кучею, а врассыпную, понимаешь?
– Разумею, – отвечал Малыш, небольшого роста, но ловкий и проворный казачий урядник.
– Смотри, чтоб без меня ребята не дурили: проезжих не трогать!
– Слышите ли, товарищи, что есаул-то говорит? – сказал Малыш. – Однако ж, Кирила Пахомыч, – продолжал он, обращаясь к Кирше, – неравно повезут из Балахны вино или брагу, так по чарке, другой можно?
– Ну, ну! так и быть, только чур, ребята, из бочек дны не выбивать! подайте моего коня, да если вам придется ехать в лес, так дайте и этому детине заводную лошадь.
Кирша вскочил на своего Вихря и, повторив еще раз все приказания, пустился полем к знакомому для нас лесу, который чернелся в верстах в трех налево от большой дороги.
II
Кирша пробирался осторожно опушкою леса и, не встретив никого, поравнялся, наконец, с гумном Федьки Хомяка, которое, вероятно, принадлежало уже другому крестьянину; он поворотил к часовне и пустился по тропинке, ведущей на пчельник Кудимыча. Проехав версты полторы, Кирша повстречался с крестьянской девушкою.
– Здорово, красная девица! – сказал он, приподняв вежливо свою шапку. – Откуда идешь?
Девушка сначала испугалась, но ласковый голос и веселый вид запорожца ее успокоили.
– Я иду домой, господин честной, – отвечала она, отвесив низкий поклон Кирше.
– И верно, ходила ворожить на пчельник?
– А почему ты это знаешь? – спросила она, взглянув на него с удивлением.
– Видно, знаю! Ну, что? радостную ли весточку сказал тебе Кудимыч?.. Скоро ли свадьба?
– Архип Кудимыч баит, что скоро. Да почему ты знаешь?..
– Как не знать!.. А что, лебедка, чай, ты не с пустыми руками к нему ходила?
– Коли с пустыми! Я ему носила на поклон полсорока яиц да две копейки.
– Эк твой суженый-то расхарчился!
– Вот еще, велико дело две копейки! Для меня Ванюша не постоит и за два алтына. Да почему ты знаешь?
– Мало ли что я знаю, голубушка! А что, отсюда недалеко до пчельника?
– Близехонько.
– Прощай, красавица!
Кирша поехал далее, а крестьянская девушка, стоя на одном месте, провожала его глазами до тех пор, пока не потеряла совсем из виду. Не доехав шагов пятидесяти до пчельника, запорожец слез с лошади и, привязав ее к дереву, пробрался между кустов до самых ворот загородки. Двери избушки были растворены, а собака спала крепким сном подле своей конуры. Кирша вошел так тихо, что Кудимыч, занятый счетом яиц, которые в большом решете стояли перед ним на столе, не приподнял даже головы.
– Кудимыч! – сказал Кирша грозным голосом.
Колдун вздрогнул, поднял голову, вскрикнул, хотел вскочить, но его ноги подкосились, и он сел опять на скамью.
– Узнаешь ли ты меня? – продолжал запорожец, глядя ему прямо в глаза.
– Узнал, батюшка, узнал! – пробормотал, заикаясь, Кудимыч.
– Так-то ты помнишь свое обещание, негодный, а?.. Не божился ли ты мне, что не станешь никогда колдовать?
– И не колдую, отец мой! Видит бог, не колдую!
– Право?.. А это что? Кто принес тебе это решето яиц? чьи это две копейки?.. Ага! прикусил язычок!
– Помилуй, кормилец! как бог свят…
– Молчи!.. Кто тебе сказал, что Ванька скоро женится – а?..
– Никто, батюшка, никто! Я ничего не говорил.
– Ого! да ты еще запираешься! Так постой же!.. Гирей, мурей, алла боржук!
– Виноват, отец мой! – закричал колдун, вскочив со скамьи и повалясь в ноги к запорожцу.
– Вот этак-то лучше, негодный! А не то я скажу еще одно словечко, так тебя скоробит в бараний рог!
– Что делать, согрешил, окаянный! Месяца четыре крепился, да сегодня черт принес эту проклятую Марфушку!.. «Поворожи да поворожи!..» – пристала ко мне как лихоманка; не знал, как отвязаться!
– Добро, добро, встань! Счастлив ты, что у меня есть до тебя дельцо; а то узнал бы, каково со мной шутить!.. Ты должен сослужить мне службу.
– Все, что прикажешь, батюшка!
– Если ты мне поможешь в одном деле, так и я тебе удружу. Ведь ты только обманываешь добрых людей, а хочешь ли, я сделаю из тебя исправского колдуна?
– Как не хотеть, батюшка! Да я тогда за тебя куда хочешь – и в огонь и в воду!
– Слушай же! Во-первых, ты, верно, знаешь, где боярин Шалонский?
– Кто, батюшка?
– Боярин Кручина-Шалонский.
– Тимофей Федорович?
– Ну да.
– То есть боярин мой?
– Кой черт! что ты, брат, переминаешься? Смотри не вздумай солгать! Боже тебя сохрани!
– Что греха таить, родимый, знать-то я знаю…
– Так что ж?
– Да не велено сказывать.
– А я тебе приказываю.
– Да на что тебе, кормилец?.. Ведь ты и без меня всю подноготную знаешь; тебе стоит захотеть, так ты сейчас увидишь, где он.
– Вот то-то и дело, что нет; у кого в дому я пользовал, над тем моя ворожба целый год не действует.
– Вот что!
– А ты, брат, и без ворожбы знаешь, так сказывай!
– Отец родной, взмилуйся! Ведь меня совсем обдерут… и если боярин узнает, что я проболтался…
– Небось никому не скажу.
– Не смею, батюшка! воля твоя, не смею!
– Так ты стал еще упрямиться!.. Погоди же, голубчик!.. Гирей, мурей…
– Постой, постой!.. Ох, батюшки! что мне делать? Да точно ли ты никому не скажешь?
– Дуралей! Когда ты сам будешь колдуном, так что тебе сделает боярин? Если захочешь, так никто и пчельника твоего не найдет: всем глаза отведешь.
– Оно так, батюшка; но если б ты знал, каков наш боярин…
– Да что ты торгуешься, в самом деле? – закричал запорожец. – В последний раз: скажешь ли ты мне, или нет, где теперь Тимофей Федорович?
– Не гневайся, кормилец, не гневайся, все скажу! Он теперь живет верст семьдесят отсюда, в Муромском лесу.
– В Муромском лесу?
– У него там много пустошей, а живет он на хуторе, который выстроил еще покойный его батюшка; одни говорят, для того, чтоб охотиться и бить медведей; другие бают, для того, чтоб держать пристань и грабить обозы. Этот хутор прозывается Теплым Станом и, как слышно, в таком захолустье построен, что и в полдни солнышка не видно. Сказывают также, что когда-то была на том месте пустынь, от которой осталась одна каменная ограда да подземные склепы, и что будто с тех пор, как ее разорили татары и погубили всех старцев, никто не смел и близко к ней подходить; что каждую ночь перерезанные монахи встают из могил и сходятся служить сами по себе панихиду; что частенько, когда делывали около этого места порубки, мужики слыхали в сумерки благовест. Один старик, которого сын и теперь еще жив, рассказывал, что однажды зимою, отыскивая медвежий след, он заплутался и в самую полночь забрел на пустынь; он божился, что своими глазами видел, как целый ряд монахов, в черных рясах, со свечами в руках, тянулся вдоль ограды и, обойдя кругом всей пустыни, пропал над самым тем местом, где и до сих пор видны могилы. Старик заметил, что все они были изувечены: у одного перерезано горло, у другого разрублена голова, а третий шел вовсе без головы…
– И этот старик от страху не умер? – спросил робким голосом Кирша, который в первый раз от роду почувствовал, что может и сам подчас струсить.
– Нет, не умер, – отвечал Кудимыч, – а так испугался, что тут же рехнулся и, как говорят, до самой смерти не приходил в память.
– Как же отец вашего барина решился на этом месте построить хутор?
– Он был, не тем помянуто, какой-то еретик: ничему не верил, в церковь не заглядывал, в баню не ходил, не лучше был татарина. Правда, бают, при нем мертвецы наружу не показывались, а только по ночам холопы его слыхали, что под землею кто-то охает и стонет. Был слух, что это живые люди, заточенные в подземелье; а я так мекаю, да все так мыслят, что это души усопших; а не показывались они потому, что старый боярин был ничем не лучше тех некрещеных бусурман, которые разорили пустынь. Однако ж, наконец, и он унялся ездить на хутор; после ж его смерти годов двадцать никто туда не заглядывал, и только в прошлом лете, по приказанию Тимофея Федоровича, починили боярский дом и поисправили все службы.
– Ну, теперь скажи мне: этак месяца четыре назад не слыхал ли ты, что из Нижнего привезли сюда насильно одного молодого боярина?..
– Месяца четыре?.. Кажись, нет!..
– Точно ли так?
– Постой-ка!.. Ведь это никак придется близко святой?.. Ну так и есть!.. Мне сказывала мамушка Власьевна, что в субботу на Фомино воскресенье ей что-то ночью не поспалось; вот она перед светом слышит, что вдруг прискакали на боярский двор; подошла к окну, глядь: сидит кто-то в телеге, руки скручены назад, рот завязан; прошло так около часу, вышел из хором боярский стремянный, Омляш, сел на телегу, подле этого горемыки, да и по всем по трем.
– Так точно, это он! – вскричал Кирша. – Может быть, я найду его на хуторе… Послушай, Кудимыч, ты должен проводить меня до Теплого Стана.
– Что ты, родимый! я сродясь там не бывал.
– Полно, так ли?
– Видит бог, нет!
– Так не достанешь ли ты мне проводника?
– Навряд. Дворовых в селе ни души не осталось; а из мужичков, чай так же, как я, никто туда не езжал.
– Но не можешь ли хоть растолковать, по какой дороге надо ехать?
– Кажись, по муромской. Кабы знато да ведано, так я меж слов повыспросил бы у боярских холопей: они часто ко мне наезжают. Вот дней пять тому назад ночевал у меня Омляш; его посылали тайком к боярину Лесуте-Храпунову; от него бы я добился, как проехать на Теплый Стан; хоть он смотрит медведем, а под хмельком все выболтает. В прошлый раз как он вытянул целый жбан браги, так и принялся мне рассказывать, что у них на хуторе…
Тут вдруг Кудимыч побледнел, затрясся, и слова замерли на языке его.
– Ну, что ж у них на хуторе? – сказал запорожец. – Да кой прах! что с тобою сделалось?
Вместо ответа Кудимыч показал на окно, в которое с надворья выглядывала отвратительная рожа, с прищуренными глазами и рыжей бородою.
– Омляш! – вскричал Кирша, выхватив свою саблю, но в ту ж минуту несколько человек бросились на него сзади, обезоружили и повалили на пол.
– Скрутите его хорошенько! – закричал в окно Омляш, – а я сейчас переведаюсь с хозяином. – Ну-ка, Архип Кудимович, – сказал он, входя в избу, – я все слышал: посмотрим твоего досужества, как-то ты теперь отворожишься!
– Виноват, батюшка! – завопил Кудимыч, упав на колени. – Не губи моей души!.. Дай покаяться!
– Ах ты проклятый колдун! так ты всякому прохожему рассказываешь, где живет наш боярин?
– Батюшка, отец родимый! В первый и последний раз проболтался! Век никому не скажу!..
– И не скажешь! я за это порукою…
Омляш махнул кистенем, и Кудимыч с раздробленной головой повалился на пол.
– Ай да Омляш, – сказал небольшого роста человек, в котором Кирша узнал тотчас земского ярыжку. – Исполать тебе! Смотри-ка… не пикнул!
– Я не люблю томить, – отвечал хладнокровно Омляш, – мой обычай: дал раза, да и дело с концом! А ты что за птица? – продолжал он, обращаясь к Кирше. – Ба, ба, ба! старый приятель! Милости просим! Что ж ты молчишь? Иль не узнал своего крестника?
– Да это тот самый колдун, – сказал один из товарищей Омляша, – что пользовал нашу боярышню.
– Ой ли? Ну, брат! не знаю, каково ты ворожишь, а нагайкою лихо дерешься. Ребята! поищите-ка веревки, да подлиннее, чтоб повыше его вздернуть; а вон, кстати, у самых ворот знатная сосна.
– Знаете ль, молодцы, – сказал земский, – что повесить и одного колдуна богоугодное дело; а мы за один прием двоих отправим к черту… эко счастье привалило!
– А скажи-ка, крестный батюшка, – спросил Омляш, – зачем ты сюда зашел? Уж не прислали ли тебя нарочно повыведать, где наш боярин?.. Что ж ты молчишь?.. – продолжал Омляш. – Заговорил бы ты у меня, да некогда с тобой растабарывать… Ну, что стали, ребята? Удалой! тащи его к сосне да втяните на самую макушку: пусть он оттуда караулит пчельник!
Киршу вывели за ворота. Удалой влез на сосну, перекинул через толстый сук веревку; а Омляш, сделав на одном конце петлю, надел ее на шею запорожцу.
– Послушайте, молодцы! – сказал Кирша, – что вам прибыли губить меня? Отпустите живого, так каяться не будете.
– Ага, брат! заговорил, да нет, любезный, нас не убаюкаешь. Подымайте его!
– Постойте, я дам за себя выкуп!
– Выкуп?.. Погодите, ребята.
– Что ты его слушаешь, Омляш, – сказал земский, – я его кругом обшарил: теперь у него и полденьги нет за душою.
– Здесь в лесу есть клад.
– Клад! – вскричал Омляш. – А что вы думаете, ребята? Ведь он колдун, так не диво, если знает… Да не обманываешь ли ты!
– Что мне прибыли обманывать? ведь я у вас в руках.
– Ну, добро, добро! покажи нам, где клад? – сказал земский.
– Да, покажи вам, а после вы меня все-таки уходите. Нет, побожитесь прежде, что вы отпустите меня живого.
– Ты еще вздумал с нами торговаться! – вскричал Омляш. – Покажи нам клад, а там посмотрим, что с тобою делать.
– Как бы не так! Обещайтесь отпустить меня с честью, так покажу, а без этого, – прибавил твердым голосом Кирша, – хотя в куски меня режьте, ни слова не вымолвлю.
– Ну, ну, – сказал земский, мигнув Омляшу, – так и быть! Вот те Христос, мы тебя отпустим на все четыре стороны и ничем не обидим, только покажи клад.
– Точно ли так, ребята?..
– Да, да, – повторил Омляш и его товарищи, – мы ничем тебя не обидим и отпустим с честью.
– Смотрите же, молодцы! Ведь вам грешно будет, если вы меня обманете, – сказал Кирша.
– Не обмани только ты, а мы не обманем, – отвечал Омляш. – Удалой, возьми-ка его под руку, я пойду передом, а вы, ребята, идите по сторонам; да смотрите, чтоб он не юркнул в лес. Я его знаю: он хват детина! Томила, захвати веревку-то с собой: неравно он нас морочит, так было бы на чем его повесить.
– А вот, кстати, и заступ, – сказал земский. – Ведь мы не руками же станем раскапывать землю.
Кирша повел их по тропинке, которая шла к селению. Желая продлить время, он беспрестанно останавливался и шел весьма медленно, отвечая на угрозы и понуждения своих провожатых, что должен удостовериться по разным приметам, туда ли он их ведет. Поравнявшись с часовнею, он остановился, окинул быстрым взором все окружности и удостоверился, что его казаки не прибыли еще на сборное место. Помолчав несколько времени, он сказал, что не может исполнить своего обещания до тех пор, пока не развяжут ему рук.
– Не хлопочи, брат, – отвечал Омляш, – покажи нам только место, а уж копать будешь не ты.
– Да, много выкопаете! – сказал запорожец, – ведь клад не всем дается: за это надо взяться умеючи.
– Что правда, то правда, – примолвил земский. – Я много раз слыхал, что без досужего человека клад никому в руки не дается; как не успеешь сказать: «Аминь, аминь, рассыпься!» – так и ступай искать его в другом месте.
– Ну, ну, хорошо! развяжите его, – сказал Омляш, – да чур не дремать, ребята, а уж я его не смигну!
Когда Кирше развязали руки, он спросил заступ, очертил им большой круг подле часовни и стал посредине; потом, пробормотав несколько невнятных слов и объявя, что должен послушать, выходит ли клад наружу, или опускается вниз, прилег ухом к земле. Сначала он не слышал ничего: все было тихо кругом; наконец, ему послышался отдаленный конский топот.
– Ну, что, чуешь ли что-нибудь? – спросил с нетерпением Омляш.
– Да, да, – отвечал запорожец, – дело идет порядком, только торопиться не надобно. Я примусь теперь копать землю, а вы стойте вокруг за чертою; да смотрите не шевелитесь! К этому кладу большой караул приставлен: не легко он достанется.
– А что, – спросил робким голосом земский, – уж не будет ли какого демонского наваждения?
– Не без того-то, любезный, – отвечал Кирша важным голосом. – Лукавый хитер, напустит на вас страх! Смотрите, ребята, чур не робеть! Что б вам ни померещилось, стойте смирно, а пуще всего не оглядывайтесь назад.
– Что за вздор! – сказал Омляш, взглянув подозрительно на Киршу. – Я никогда не слыхивал, чтоб он – наше место свято – показывался по утрам, когда уж петухи давным-давно пропели!
– Не слыхал, так другие от тебя услышат. Становитесь же в кружок, не говорите ни слова, смотрите вниз, а если покажется из земли огонек, тотчас зачурайтесь.
Наблюдая глубокое молчание, все стали кругом Кирши, который, пошептав несколько минут, принялся копать с большими расстановками.
– Чу! – шепнул Омляш земскому, – слышишь ли?..
– Ради бога молчи! – отвечал земский дрожащим голосом.
– Тс!.. что вы? Ни гугу! – сказал запорожец, погрозив пальцем.
Шум час от часу приближался и становился внятнее.
– Я слышу голоса! – примолвил Омляш, посматривая с беспокойным видом вокруг себя. – Эй ты, колдун!..
– Тс!..
– Если ты завел нас в какую-нибудь засаду, то…
– Тс!..
– Уймешься ли ты? – сказал Томила, толкнув его локтем.
– К нам, точно, подъезжают! – вскричал Омляш, вынув из-за пояса большой нож.
– Эх, братец, перестань! – шепнул Удалой, – это нам мерещится…
Земский не говорил ни слова; он не смел пошевелить губами и стоял как вкопанный.
– Слушайте, ребята, – сказал Кирша, перестав копать, – если вы не уйметесь говорить, то быть беде! То ли еще будет, да не бойтесь, стойте только смирно и не оглядывайтесь назад, а я уже знаю, когда зачурать.
Омляш замолчал и, устремив проницательный взор на запорожца, следил глазами каждое его движение.
Между тем из-за кустов показался казак, за ним другой… там третий…
– Ну, ребята! – сказал запорожец, – дело идет к концу; стойте крепко!.. Малыш, сюда!..
– Измена!.. – вскричал Омляш, схватив за ворот Киршу. Он ударил его оземь и, нанеся над ним нож, сказал: – Если кто-нибудь из них тронется с места…
Вдруг раздался ружейный выстрел… Омляш вскрикнул, хотел опустить нож, направленный прямо в сердце запорожца, но Кирша рванулся назад, и разбойник, захрипев, упал мертвый на землю. Удалой и Томила выхватили сабли, но в одно мгновение, проколотые дротиками казаков, отправились вслед за Омляшем.
В продолжение этой минутной суматохи земский не смел пошевелиться и, считая все это дьявольским наваждением, творил про себя, заикаясь от страха, молитву. Когда ж, по знаку запорожца, двое казаков принялись вязать ему руки, он не вытерпел и закричал, как сумасшедший:
– Чур меня! чур! наше место свято!..
– Что ты горло-то дерешь! – сказал Кирша, – от этих чертей ни крестом, ни пестом не отделаешься.
– Что ж это такое?.. – спросил земский, поглядывая вокруг себя как помешанный. – Омляш!.. Удалой! Томила!..
– Полно орать, никого не докличешься; мы с ними разделались, теперь очередь за тобою.
– Ах, батюшки-светы! Так мы попались в засаду?..
– Не погневайся! Ребята, веревку ему на шею да на первую осину!
– Помилуй! – закричал земский, – что я тебе сделал?
– А разве вы не хотели меня повесить? долг платежом красен.
– Не я, видит бог, не я: это все Омляш! Я ни слова не говорил!..
– Добро, добро! тебя не переслушаешь. Проворней, ребята!
– Взмилуйся! – заревел земский, растянувшись в ногах запорожца. – Таскай меня, бей… вели отодрать плетьми, делай со мной что хочешь… только будь отец родной: отпусти живого.
Уродливая фигура земского, его отчаянный вид, всклокоченная рыжая борода, растрепанные волосы – одним словом, вся наружность его казалась столь забавною казакам, что они, умирая со смеху, не слишком торопились исполнять приказания начальника.
Один добрый Алексей сжалился над несчастным ярыжкою.
– Не губи его души, – сказал он Кирше, – бог с ним!..
– Пустое, брат, – отвечал запорожец, мигнув Алексею, – тащите его!.. иль нет!.. постой!.. Слушай, рыжая собака! Если ты хочешь, чтоб я тебя помиловал, то говори всю правду; но смотри, лишь только ты заикнешься, так и петлю на шею! Жив ли Юрий Дмитрич Милославский?
– Жив, батюшка! видит бог, жив!
– Неужто в самом деле? – вскричал Алексей.
– Где он теперь? – продолжал Кирша.
– В Муромском лесу, на хуторе у боярина Тимофея Федоровича.
– Доведешь ли ты нас туда?
– Доведу, кормилец! доведу!
– Поможешь ли нам выручить Юрия Дмитрича?
– Помогу, отец мой, помогу!
– А где теперь дочь боярина Шалонского, Анастасия Тимофеевна?
– Не знаю, батюшка!
– Не знаешь?
– Как бог свят, не знаю; а слышал только, что батюшка отвез ее в какой-то монастырь под Москву, в котором игуменья приходится ей теткою.
– Много ли у боярина на хуторе холопей?
– Много, батюшка: за сотню будет.
– За сотню?.. Правду ли ты говоришь?
– Сущую правду, кормилец! всех по пальцам перечту: Гаврила, Антон, Федот, Кондратий…
– Верю, верю… Ах, черт возьми! так дело-то трудновато!.. тут на силу не возьмешь…
– Уж я вам помогу, – перервал земский, – только отпустите меня живого; я все тропинки в лесу знаю и доведу вас ночью до самого хутора, так что ни одна душа не услышит.
– Хорошо, господин ярыжка! – сказал Кирша. – Если мы выручим Юрия Дмитрича, то я отпущу тебя без всякой обиды; а если ты плохо станешь нам помогать, то закопаю живого в землю. Малыш, дай ему коня да приставь к нему двух казаков, и если они только заметят, что он хочет дать тягу или, чего боже сохрани, завести нас не туда, куда надо, так тут же ему и карачун! А я между тем сбегаю за моим Вихрем: он недалеко отсюда, и как раз вас догоню.
– На коня, добрые молодцы! – закричал Малыш. – Эй ты, рыжая борода, вперед!.. показывай дорогу!.. Ягайло, ступай возле него по правую сторону, а ты, Павша, держись левой руки. Ну, ребята, с богом!..
III
Знаменитые в народных сказках и древних преданиях дремучие леса Муромские и доныне пользуются неоспоримым правом – воспламенять воображение русских поэтов. Тот, кому не случалось проезжать ими, с ужасом представляет себе непроницаемую глубину этих диких пустынь, сыпучие пески, поросшие мхом и частым ельником непроходимые болота, мрачные поляны, устланные целыми поколениями исполинских сосен, которые породились, взросли и истлевали на тех же самых местах, где некогда возвышались их прежние, современные векам, прародители; одним словом, и в наше время многие воображают Муромские леса
Жилищем ведьм, волков, Разбойников и злых духов.Но, к сожалению юных поэтов наших и к счастию всех путешественников, они давно уже потеряли свою пиитическою физиономию. Напрасно бы стали мы искать окруженную топкими болотами долину, где некогда, по древним сказаниям, возвышалось на семи дубах неприступное жилище Соловья Разбойника; никто в селе Карачарове не покажет любопытному путешественнику того места, где была хижина, в которой родился и сиднем сидел тридцать лег могучий богатырь Илья Муромец. О ведьмах не говорят уже и в самом Киеве; злые духи остались в одних операх, а романтические разбойники, по милости классических капитан-исправников, вовсе перевелись на святой Руси; и бедный путешественник, мечтавший насладиться всеми ужасами ночного нападения, приехав домой, со вздохом разряжает свои пистолеты и разве иногда может похвастаться мужественным своим нападением на станционного смотрителя, который, бог знает почему, не давал ему до самой полуночи лошадей, или победою над упрямым извозчиком, у которого, верно, было что-нибудь на уме, потому что он ехал шагом по тяжелой песчаной дороге и, подъезжая к одному оврагу, насвистывал песню. Но что всего несноснее: этот дремучий лес, который в старину представлялся воображению чем-то таинственным, неопределенным, бесконечным – весь вымерен, разделен на десятины, и сочинитель романа не найдет в нем ни одного уголка, которого бы уездный землемер не показал ему на общем плане всей губернии. Правда, говорят, будто бы и в наше время голодные волки бродят по лесу и кой-где в дуплах завывают филины и сычи; но эти мелкие второклассные ужасы так уже износились во всех страшны к романах, что нам придется скоро отыскивать девственною природу, со всеми дикими ее красотами, в пустынях Барабинских или бесконечных лесах южной Сибири.
С лишком за двести лет до этого, то есть во времена междуцарствия, хотя мы и не можем сказать утвердительно, живали ли в Муромских лесах ведьмы, лешие и злые духи, но по крайней мере это народное поверье существовало тогда еще во всей силе; что ж касается до разбойников, то, несмотря на старания губных старост, огнищан и всей земской полиции тогдашнего времени, дорога Муромским лесом вовсе была небезопасна. Купец из какого-нибудь низового города, отправляясь во Владимир, прощался со всеми своими родными и, доехав благополучно до Мурома, полагал необходимою обязанностию отслужить благодарственный молебен муромским чудотворцам, святым и благоверным: князю Петру и княгине Февронии.
Мы попросим теперь читателей перенестись вместе с нами в самую глубину Муромского леса, на Теплый Стан, хутор боярина Шалонского. Чтоб дать сколь возможно более понятия о его местоположении, мы скажем только, что он находился верстах в двадцати от большой дороги и почти столько же от берегов Оки, которая перерезывает, или, лучше сказать, оканчивает, большой Муромский лес. Не доезжая верст пяти до хутора, должно было переправиться через обширное болото, в коем терялась небольшая речка, которая, прокрадываясь потом между мхов и поросших тростников небольших озер, впадала в Оку. Узкая, едва заметная тропинка извивалась по болоту, по обеим сторонам ее расстилались, по-видимому, зеленеющие луга, но горе проезжему, который, пленясь их наружностию, решился бы съехать в сторону с грязной и беспокойной дороги: под этой обманчивой зеленой оболочкою скрывалась смерть, и один неосторожный шаг на эту бездонную трясину подвергал проезжего неминуемой гибели; увязнув раз, он не мог бы уже без помощи других выбраться на твердое место: с каждым новым усилием погружался бы все глубже и, продолжая тонуть понемногу, испытал бы на себе все мучения медленных казней, придуманных бесчеловечием и жестокостию людей. По другой стороне топи начиналась прямая просека, ведущая на окруженную со всех сторон болотами и дремучим лесом обширную поляну; во всю ширину ее простирались стены древней обители, на развалинах которой был выстроен хутор боярина Кручины. Небольшая речка, о которой мы уже говорили, обтекая кругом всей стены, составляла перед самым выездом на поляну продолговатый и довольно широкий пруд; длинная и узкая гать служила плотиною, по которой подъезжали к самым стенам хутора. По всем углам четырехсторонней ограды построены были круглые башни, из которых две, казалось, готовы были ежеминутно разрушиться; но остальные, несмотря на все признаки ветхости, могли еще быть обитаемы. Над главными воротами, на которых заметны были остатки живописи, изображавшей, вероятно, святых угодников, возвышалась до половины разрушенная сторожевая башня. Внутри ограды, вдоль всей восточной стены, выстроены были бревенчатые хоромы боярина Шалонского, а остальная часть хутора занята службами и огромною конюшнею. На самой средине двора видны были остатки довольно обширной, но низкой церкви; узкие, похожие на трещины окна совершенно заглохли травою, а вся поверхность сводов поросла кустами жимолости, из средины которых подымались две или три молодые ели.
Глухая полночь давно уже наступила; ветер завывал между деревьями, и ни одна звездочка не блистала на черных, густыми тучами покрытых небесах. Почти все жители Теплого Стана покоились крепким сном, и только караульный, поставленный на сторожевой башне, изредка перекликался с своим товарищем, стоящим у противоположных ворот. Кой-где мелькал сквозь окна слабый свет лампад, висящих перед иконами, и одна только часть хором боярина Кручины казалась ярко освещенною. В обширном покое, за дубовым столом, покрытым остатками ужина, сидел Кручина-Шалонский с задушевным своим другом, боярином Истомою-Турениным; у дверей комнаты дремали, прислонясь к стене, двое слуг; при каждом новом порыве ветра, от которого стучали ставни и раздавался по лесу глухой гул, они, вздрогнув, посматривали робко друг на друга и, казалось, не смели взглянуть на окна, из коих можно было различить, несмотря на темноту, часть западной стены и сторожевую башню, на которых отражались лучи ярко освещенного покоя.
– Выпей-ка еще этот кубок, – сказал Кручина, наливая Туренину огромную серебряную кружку. – Я давно уже заметил, что ты мыслишь тогда только заодно со мною, когда у тебя зашумит порядком в голове. Воля твоя, а ты уж чересчур всего опасаешься. Смелым бог владеет, Андрей Никитич, а робкого один ленивый не бьет.
– Благоразумие не робость, Тимофей Федорович, – отвечал Туренин. – И ради чего господь одарил нас умом и мыслию, если мы и с седыми волосами будем поступать, как малые дети? Дозволь тебе сказать: ты уж не в меру малоопасен; да вот хоть например: для какой потребы эти два пострела торчат у дверей? Разве для того, чтоб подслушивать наши речи.
– Подслушивать? Да смеют ли они иметь уши, когда стоят в моем покое?
– Смеют ли!.. Чего не смеет подчас это хамово отродье. Послушай, Тимофей Федорович, коли ты желаешь продолжать со мною начатый разговор, то вышли вон своих челядинцев.
– Ну, если хочешь, пожалуй! Эй вы, дурачье!.. ступайте вон.
Слуги молча поклонились и вышли в другую комнату.
– Вот этак-то лучше! – сказал Туренин, притворяя дверь. – Итак, Тимофей Федорович, – продолжал он, садясь на прежнее место, – ты решился оставить Теплый Стан?
– Да, делать нечего. Гетман Хоткевич должен быть уже под Москвою, и если нижегородские разбойники с атаманом своим, Пожарским, и есаулом его, мясником Сухоруковым, и подоспеют на помощь к князю Трубецкому, то все ему несдобровать: Заруцкий с своими казаками и рук не отведут; так рассуди сам: какой я добьюсь чести, если во все это время просижу здесь на хуторе, как медведь в своей берлоге?
– Оно так, Тимофей Федорович; не худо бы нам добраться до войска пана Хоткевича: если он будет победителем, тем лучше для нас – и мы там были налицо; если ж на беду его поколотят…
– Что ты?!.. может ли это статься?
– Бог весть! не узнаешь, любезный. Иногда удается и теляти волка поймати; а Пожарский не из простых воевод: хитер и на руку охулки не положит. Ну если каким ни есть случаем да посчастливится нижегородцам устоять против поляков и очистить Москву, что тогда с нами будет? Тебя они величают изменником, да и я, чай, записан у Пожарского в нетех[67], так нам обоим жутко придется. А как будем при Хоткевиче, то, какова ни мера, плохо пришло – в Польшу уедем и если не здесь, так там будем в чести.
– Вот то-то же; ты видишь сам, что нам мешкать не должно.
– Видеть-то я вижу, да как мы доберемся до польского войска?.. Ехать одним… того и гляди попадешься в руки к разбойникам шишам, от которых, говорят, около Москвы проезду нет. Взять с собой человек тридцать холопей… с такой оравой тайком не прокрадешься; а Пожарский давно уже из Ярославля со всем войском к Москве выступил.
– Не выходить бы ему из Ярославля, – вскричал Кручина, – если б этот дурак, Сенька Жданов, не промахнулся! И что с ним сделалось?.. Я его, как самого удалого из моих слуг, послал к Заруцкому; а тот отправил его с двумя казаками в Ярославль зарезать Пожарского – и этого-то, собачий сын, не умел сделать!.. Как подумаешь, так не из чего этих хамов и хлебом кормить!
– Как бы то ни было, Тимофей Федорович, а делать нечего, надобно пуститься наудалую. Но так как по мне все лучше попасться в руки к Пожарскому, чем к этим проклятым шишам, то мой совет – одним нам в дорогу не ездить.
– И я то же думаю. Итак, если завтра погода будет получше… Тьфу, батюшки! что за ветер! экой гул идет по лесу!
– Да, погодка разыгралась. И то сказать, в лесу не так, как в чистом поле: и небольшой ветерок подымет такой шум, что подумаешь – светупреставление… Чу! слышишь ли? и свистит и воет… Ах, батюшки-светы! что это?.. словно человеческие голоса!
– В самом деле, – сказал Кручина, вставая с своего места, – и мне что-то послышалось… – прибавил он, глядя из окна на сторожевую башню.
– Нет! – отвечал Туренин, покачав сомнительно головою, – это не так близко отсюда, а разве за плотиною в просеке.
– Уж не едет ли назад Омляш с товарищами? – сказал Кручина.
– Может статься, – отвечал Туренин, – однако ж не худо, если б ты велел разбудить человек десяток холопей.
– На что?
– Да так, чтоб, знаешь ли, врасплох не пожаловали гости…
– Помилуй, любезный! кому?.. Кто, кроме наших, в такую темнять проедет болотом?
– Все так; а, право, не мешало бы…
– Э, да, я вижу, ты еще не допил своего кубка! Ну-ка, брат, выкушай на здоровье! авось храбрости в тебе прибудет. Помилуй, чего ты опасаешься? В нашей стороне никакого войска нет; а если б и было, так кого нелегкая понесет? Вернее всего, что нам послышалось. Омляш все тропинки в лесу знает, да и он навряд пустится теперь через болото.
– А куда ты его отправил?
– К Замятне-Опалеву. Сегодня или завтра чем свет ему назад вернуться должно. Итак, Андрей Никитич, дело кончено: мы завтра отправляемся в дорогу. Знаешь ли, что нам придется ехать мимо Троицкой лавры?
– Для чего?
– Да надо завернуть в Хотьковскую обитель за Настенькой: она уж четвертый месяц живет там у своей тетки, сестры моей, игуменьи Ирины. Не век ей оставаться невестою, пора уж быть и женою пана Гонсевского; а к тому ж если нам придется уехать в Польшу, то как ее после выручить? Хоть, правду сказать, я не в тебя, Андрей Никитич, и верить не хочу, чтоб этот нижегородский сброд устоял против обученного войска польского и такого знаменитого воеводы, каков гетман Хоткевич.
– Не говори, Тимофей Федорович: мало ли что случиться может; не подумаешь вперед, так чтоб после локтей не кусать. Ну, а скажи мне, если завтра мы отсюда отправимся, что ты сделаешь с Милославским? Неужли-то потащишь с собою?
– Да, мне хотелось бы этого предателя руками выдать пану Гонсевскому.
– Нет, Тимофей Федорович, неравно попадемся сами, так бедовое дело: ведь он живая улика.
– Что правда, то правда; придется оставить его здесь.
– Вот то-то же! Ну к чему навязал себе на шею эту заботу? Кабы твой Омляш меня послушался, то давно б об этом Милославском и слуху не было; так нет!.. «Мне, дескать, наказано от боярина живьем его схватить!» Живьем!.. Вот теперь и возись с ним!
– Да знаешь ли, что этот мальчишка обидел меня за столом при пане Тишкевиче и всех моих гостях? Вспомнить не могу!.. – продолжал Кручина, засверкав глазами. – Этот щенок осмелился угрожать мне… и ты хочешь, чтобы я удовольствовался его смертью… Нет, черт возьми! я хотел и теперь еще хочу уморить его в кандалах: пусть он тает как свеча, пусть, умирая понемногу, узнает, каково оскорбить боярина Шалонского!
– Оно так, – перервал хладнокровно Туренин, – конечно, весело потешиться над своим злодеем; да чтоб оглядок не было. Ты оставишь его здесь… ну, а коли, чего боже сохрани! без тебя он как ни есть вырвется на волю?.. Эх, Тимофей Федорович! послушайся моего совета… мертвые не болтают.
– Так ты думаешь?..
– Ну да! хватил ножом, да и концы в воду!
Боярин Кручина, помолчав несколько минут, повторил вполголоса:
– Ножом!.. но неужели я должен сам?..
– Кто тебе говорит? Что у тебя мало, что ль, молодцов?.. Стоит только намекнуть…
– Омляш и Удалой в дороге, а на других я не больно надеюсь.
– Вели позвать моего дворецкого: у него рука не дрогнет.
– Так ты думаешь, что мы должны?.. что для безопасности нашей?..
– Как же! ведь он нас за руки держит; один конец – так и нам и ему легче будет.
– Ну ин быть по-твоему, – сказал Кручина, вставая медленно из-за стола. Он наполнил огромную кружку вином и, выпив ее одним духом, подошел к дверям, взялся за скобу, но вдруг остановился; казалось, несколько минут он боролся с самим собою и, наконец, прошептал глухим голосом:
– Нет! не могу!.. никак не могу!..
– Чуден ты мне! – сказал, покачав головою, Туренин. – Ведь ты хотел же его уморить в кандалах?
– Да, и как вспомню, что этот молокосос осмелился ругаться надо мною, то вся кровь закипит!
– Так что ж?
– Так что ж!.. Эх, Андрей Никитич! в сердцах я готов на все: сам зарежу того, кто осмелится мне поперечить… а ведь он в моих руках!..
– Тем лучше.
– В цепях… истомленный голодом, едва живой… Когда подумаю, что он, не вымолвив ни слова, как мученик, протянет свою шею… Нет, Андрей Никитич, не могу! видит бог, не могу!..
– Кто говорит, Тимофей Федорович, – конечно, жаль: детина молодой, здоровый, дожил бы до седых волос… да, что ж делать, своя рубашка к телу ближе.
Шалонский бросился на скамью и, закрыв обеими руками лицо, не отвечал ни слова.
– Послушай, любезный, – продолжал Туренин, – что сделано, то сделано: назад не воротишься; и о чем тут думать? Не при мне ли Милославский говорил нижегородцам, чтоб не покорялись Владиславу? Не по его ли совету они пошли под Москву? Не он ли одобрял их, рассказывая о бессилии поляков и готовности граждан московских восстать против Гонсевского? Не клялся ли он в верности Владиславу? Не изменил ли своей присяге и не заслуживает ли этот предатель смертной казни? Ну, что ж ты молчишь? Отвечай, Тимофей Федорович!
– Боярин Туренин, – сказал Кручина, бросив на него угрюмый взгляд, – не нам с тобою осуждать Милославского… Но ты прав: назад вернуться не можно. Делай что хочешь… и пусть эта кровь падет на твою голову!
– Аминь! – сказал Туренин, подходя к дверям.
– Постой! – вскричал Шалонский, – слышишь ли?.. это уж не ветер…
– Да, – отвечал Туренин, отворяя окно. – Точно!.. Конский топот!
– Неужели Омляш! Скоро ж он назад воротился… Нишни!.. караульный с кем-то разговаривает… Кажется… точно так! это голос Прокофьича.
– Земского ярыжки, который у тебя живет?
– Да; я отправил его вместе с Омляшем.
– Ну, так и есть; это должны быть они… вот и караульный сошел с башни… отворяет ворота… Кой черт!.. а сколько ты людей отправил с Омляшем?
– Их было всего четверо.
– Четверо?.. Полно, так ли?.. Кажется, их гораздо больше… Постой-ка… тьфу, батюшки, какая темнять!
Тут на дворе раздался болезненный крик, похожий на удушливое и слабое восклицание умирающего человека.
– Что это значит? – спросил торопливо Туренин.
– Дурачье! – сказал Кручина, – уж не задавили ли кого-нибудь в потемках?
– Тимофей Федорович! – вскричал Туренин, – посмотри-ка!.. Мне кажется, что от ворот идет что-то много пеших людей…
– Право?.. Ну спасибо Замятне! Я просил его прислать ко мне десятка два своих холопей. У меня здесь больных наполовину, а как возьмем с собой человек тридцать, так было бы кому хутор покараулить. Пожалуй, заберутся в гости и разбойники.
– А что, у тебя заведено, что ль, держать по ночам ворота настежь?
– Как настежь?
– Да разве не видишь? Караульный и не думает запирать.
– В самом деле… Может быть, не все еще въехали.
– Не все?.. Кажется, и так порядочная кучка прошла двором.
Вдруг в сенях послышались шаги многих людей, поспешно идущих.
– Тимофей Федорович! – вскричал испуганным голосом Туренин, – сюда идут!..
– Что это значит?.. – спросил Кручина, подойдя к дверям.
В соседнем покое раздался громкий крик, и Кирша, в провожании пяти казаков и Алексея, вбежал в комнату.
– Измена! – вскричал Шалонский.
– Молчать!.. – сказал Кирша, прицелясь в него пистолетом. – Слушайте, бояре! Если из вас кто-нибудь пикнет, то тут вам и конец! Тимофей Федорович, веди нас сейчас туда, где запрятан у тебя Юрий Дмитрич Милославский.
Шалонский протянул руку, чтоб схватить со стола нож; но Туренин, удержав его, закричал:
– Бога ради, боярин, не губи нас обоих! Добрый человек! – продолжал он, обращаясь к Кирше…
– Тсс! ни слова! – перервал запорожец. – Где ключи от его темницы?
Кручина молча показал на стену.
– Хорошо, – сказал Кирша, сняв их со стены, – возьмите каждый по свече и показывайте куда идти… Да боже вас сохрани сделать тревогу!.. Ребята! под руки их! ножи к горлу… вот так… ступай!
В соседнем покое к ним присоединилось пятеро других казаков; двое по рукам и ногам связанных слуг лежали на полу. Сойдя с лестницы, они пошли вслед за Шалонским к развалинам церкви. Когда они проходили мимо служб, то, несмотря на глубокую тишину, ими наблюдаемую, шум от их шагов пробудил нескольких слуг; в двух или грех местах народ зашевелился и растворились окна.
– Тимофей Федорович! – сказал Кирша, – если все эти рожи сей же час не спрячутся, то… – Он приставил дуло пистолета к его виску. – Слышишь ли, боярин?
Шалонский не отвечал ни слова; но Туренин закричал прерывающимся от страха голосом:
– Что вы глазеете, дурачье? иль хотите подсматривать за вашими боярами?.. Вот я вас, бездельники!..
Окна затворились, и снова настала совершенная тишина. Подойдя к развалинам, казаки вошли вслед за боярином Кручиною во внутренность разоренной церкви. В трапезе, против того места, где заметны еще были остатки каменного амвона, Шалонский показал на чугунную широкую плиту с толстым кольцом. Когда ее подняли, открылась узкая и крутая лестница, ведущая вниз.
– Тимофей Федорович, – сказал Кирша, – потрудись идти вперед; а ты, боярин, – продолжал он, обращаясь к Туренину, – ступай-ка подле меня; неравно у вас есть какая-нибудь лазейка, и если он от нас ускользнет, то хоть ваша милость не вывернется.
Сойдя ступеней двадцать, они очутились в обширном подземелье; покрытые надписями чугунные доски и каменные плиты, с высеченными словами, доказывали, что это подземелье служило склепом, в котором хоронили некогда усопших иноков. В одном углублении окованная железом низкая дверь была заперта огромным висячим замком. Кручина, не говоря ни слова, остановился подле нее; в одну минуту замок был отперт, дверь отворилась, и Алексей вместе с Киршею и двумя казаками вошел, или, лучше сказать, пролез, с свечкою в руках сквозь узкое отверстие в небольшой четырехугольный погреб. В нем прикованный толстой цепью к стене лежал на соломе несчастный Милославский. Услышав необычайный шум и увидя вошедших людей, он молча перекрестился и закрыл рукою глаза.
– Ахти! нас обманули! – вскричал Алексей, – это не он!
Звуки знакомого голоса пробудили от бесчувствия полумертвого Юрия; он открыл глаза, привстал и, протянув вперед руки, промолвил слабым голосом:
– Алексей, ты ли это?
– Боже мой!.. это его голос! – вскричал верный служитель, бросившись к ногам своего господина. – Юрий Дмитрич! – продолжал он, всхлипывая, – батюшка!.. отец ты мой!.. Ах злодеи!.. богоотступники!.. что это они сделали с тобою? господи боже мой! краше в гроб кладут!.. Варвары! кровопийцы!
Рыдания прерывали слова его; он покрывал поцелуями руки и ноги Юрия, который, казалось, не мог еще образумиться от этого нечаянного появления и не понимал сам, что с ним делалось.
– Добро, будет, Алексей! – сказал запорожец. – Успеешь нарадоваться и нагореваться после; теперь нам не до того. Ребята! проворней сбивайте с него цепи… иль нет… постой… в этой связке должны быть от них ключи.
Кирша не ошибся: ключи нашлись, и через несколько минут, ведя под руки Юрия, который с трудом переступал, они вышли вон из погреба.
– Алексей, – сказал запорожец, – выведи поскорей своего господина на свежий воздух, а мы тотчас будем за вами. Ну, бояре, – продолжал он, – милости просим на место Юрия Дмитрича; вам вдвоем скучно не будет; вы люди умные, чай, есть о чем поговорить. Эй, молодцы! пособите им войти в покой, в котором они угощали боярина Милославского.
Туренин хотел что-то сказать, но казаки, не слушая его, втолкнули их обоих в погреб, заперли дверь и когда выбрались опять в церковь, то принялись было за плиту; но Кирша, не приказав им закрывать отверстия, вышел на паперть. Казалось, чистый воздух укрепил несколько изнуренные силы Милославского. Они дошли без всякого препятствия до ворот, подле которых стояли на часах двое казаков и лежал убитый караульный; а на плотине, шагах в десяти от стены, дожидались с лошадьми остальные казаки и земский. Алексей при помощи других посадил Юрия на лошадь, и вся толпа вслед за земским, который ехал впереди между двух казаков, переправясь в глубоком молчании через плотину, пустилась рысью вдоль просеки, ведущей к болоту.
IV
Проехав версты четыре на рысях, Кирша приказал своим казакам остановиться, чтоб дать отдохнуть Милославскому, который с трудом сидел на лошади, несмотря на то что с одной стороны поддерживал его Кирша, а с другой ехал подле самого стремя Алексей.
– Отдохни, боярин, – сказал запорожец, вынимая из сумы флягу с вином и кусок пирога, – да на-ка хлебни и закуси чем бог послал. Теперь надо будет тебе покрепче сидеть на коне: сейчас пойдет дорога болотом, и нам придется ехать поодиночке, так поддерживать тебя будет некому
Юрий, не отвечая ни слова, схватил с жадностью пирог и принялся есть.
– Ну, Юрий Дмитрич, – продолжал Кирша, – сладко же, видно, тебя кормили у боярина Кручины! Ах сердечный, смотри, как он за обе щеки убирает!.. а пирог-то вовсе не на славу испечен.
– Душегубцы! – сказал Алексей. – Чтоб им самим издохнуть голодной смертью!.. Кушай, батюшка! кушай, мой родимый! Разбойники!
– На-ка, выпей винца, боярин, – прибавил Кирша. – Ах, господи боже мой! гляди-ка, насилу держит в руках флягу! эк они его доконали!
– Басурманы! антихристы! – вскричал Алексей. – Чтоб им самим весь век капли вина не пропустить в горло, проклятые!
Утолив несколько свой голод, Юрий сказал довольно твердым голосом.
– Спасибо, добрый Кирша; видно, мне на роду написано век оставаться твоим должником. Который раз спасаешь ты меня от смерти?..
– И, Юрий Дмитрич, охота тебе говорить! Слава тебе господи, что всякий раз удавалось; а как считать по разам, так твой один раз стоит всех моих. Не диво, что я тебе служу: за добро добром и платят, а ты из чего бился со мною часа полтора, когда нашел меня почти мертвого в степи и мог сам замерзнуть, желая помочь бог знает кому? Нет, боярин, я век с тобой не расплачусь.
– Но как ты узнал о моем заточении?.. Как удалось тебе?..
– На просторе все расскажу, а теперь, чай, ты поотдохнул, так пора в путь. Если на хуторе обо всем проведают да пустятся за нами в погоню, так дело плоховато: по болоту не расскачешься, и нас, пожалуй, поодиночке всех, как тетеревей, перестреляют.
– Небось, Кирила Пахомыч, – сказал Малыш, – без бояр за нами погони не будет; а мы, хоть ты нам и не приказывал, все-таки вход в подземелье завалили опять плитою, так их не скоро отыщут.
– Эх, брат Малыш, напрасно! Ну, если их не найдут и они умрут голодной смертью?
– Так что ж за беда? Туда им и дорога! Иль тебе их жаль?
– Не то чтоб жаль; но ведь, по правде сказать, боярин Шалонский мне никакого зла не сделал; я ел его хлеб и соль. Вот дело другое – Юрий Дмитрич, конечно, без греха мог бы уходить Шалонского, да на беду у него есть дочка, так и ему нельзя… Эх, черт возьми! кабы можно было, вернулся бы назад!.. Ну, делать нечего… Эй вы, передовые!.. ступай! да пусть рыжий-то едет болотом первый и если вздумает дать стречка, так посадите ему в затылок пулю… С богом!
Доехав до топи, все казаки вытянулись в один ряд. Земский ехал впереди, а вслед за ним один казак, держащий наготове винтовку, чтоб ссадить его с коня при первой попытке к побегу. Они проехали, хотя с большим трудом и опасностию, но без всякого приключения, почти всю проложенную болотом дорожку; но шагах в десяти от выезда на твердую дорогу лошадь под земским ярыжкою испугалась толстой колоды, лежащей поперек тропинки, поднялась на дыбы, опрокинулась на бок и, придавя его всем телом, до половины погрузилась вместе с ним в трясину, которая, расступясь, обхватила кругом коня и всадника и, подобно удаву, всасывающему в себя живую добычу, начала понемногу тянуть их в бездонную свою пучину.
– Батюшки, помогите! – завопил земский. – Погибаю… помогите!..
Казаки остановились, но Кирша закричал:
– Что вы его слушаете, ребята? Ступай мимо!
– Отцы мои, помогите! – продолжал кричать земский. – Меня тянет вниз!.. задыхаюсь!.. Помогите!..
– Эх, любезный! – сказал Алексей, тронутый жалобным криком земского, – вели его вытащить! ведь ты сам же обещал…
– Да, – отвечал хладнокровно Кирша, – я обещал отпустить его без всякой обиды, а вытаскивать из болота уговора не было.
– Послушай, Кирша Пахомыч, – примолвил Малыш, – черт с ним! ну что? уж, так и быть, прикажи его вытащить.
– Что ты, брат! ведь мы дали слово отпустить его на все четыре стороны, и если ему вздумалось проехаться по болоту, так нам какое дело? Пускай себе разгуливает!
– Бога ради, – вскричал Милославский, – спасите этого бедняка!
– И, боярин! – отвечал Кирша, – есть когда нам с ним возиться; да и о чем тут толковать? Дурная трава из поля вон!
– Слышишь ли, как он кричит? Неужели в тебе нет жалости?
– Нет, Юрий Дмитрич! – отвечал решительным голосом запорожец. – Долг платежом красен. Вчера этот бездельник прежде всех отыскал веревку, чтоб меня повесить. Рысью, ребята! – закричал он, когда вся толпа, выехала на твердую дорогу.
Долго еще долетал до них по ветру отчаянный вопль земского; громкий отголосок разносил его по лесу – вдруг все затихло. Алексей снял шапку, перекрестился и сказал вполголоса:
– Успокой, господи, его душу!
– И дай ему царево небесное! – примолвил Кирша. – Я на том свете ему зла не желаю.
Они не отъехали полуверсты от болота, как у передовых казаков лошади шарахнулись и стали храпеть; через минуту из-за куста сверкнули как уголь блестящие глаза, и вдруг меж деревьев вдоль опушки промчалась целая стая волков.
– Экое чутье у этих зверей! – сказал Кирша, глядя вслед за волками. – Посмотрите-ка: ведь они пробираются к болоту…
Никто не отвечал на это замечание, от которого волосы стали дыбом и замерло сердце у доброго Алексея.
Вместе с рассветом выбрались они, наконец, из лесу на большую дорогу и, проехав еще версты три, въехали в деревню, от которой оставалось до Мурома не более двадцати верст. В ту самую минуту как путешественники, остановясь у постоялого двора, слезли с лошадей, показалась вдали довольно большая толпа всадников, едущих по нижегородской дороге. Алексей, введя Юрия в избу, начал хлопотать об обеде и понукать хозяина, который обещался попотчевать их отличной ухою. Все казаки въехали на двор, а Кирша, не приказав им разнуздывать лошадей, остался у ворот, чтоб посмотреть на проезжих, которых передовой, поравнявшись с постоялым двором, слез с лошади и, подойдя к Кирше, сказал:
– Доброго здоровья, господин честной! Ты, я вижу, нездешний?
– Да, любезный, – отвечал запорожец.
– Так у тебя и спрашивать нечего.
– Почему знать? О чем спросишь.
– Да вот бояре не знают, где проехать на хутор Теплый Стан.
– Теплый Стан? к боярину Шалонскому?
– Так ты знаешь?
– Как не знать! Вы дорогу-то мимо проехали.
– Версты три отсюда?
– Ну да: она осталась у вас в правой руке.
– Вот что!.. И мы, по сказкам, то же думали, да боялись заплутаться; вишь, здесь какая глушь: как сунешься не спросясь, так заедешь и бог весть куда.
В продолжение этого разговора проезжие поравнялись с постоялым двором. Впереди ехал верховой с ручным бубном, ударяя в который он подавал знак простолюдинам очищать дорогу; за ним рядом двое богато одетых бояр; шага два позади ехал краснощекий толстяк с предлинными усами, в польском платье и огромной шапке; а вслед за ними человек десять хорошо вооруженных холопей.
– Степан Кондратьевич, – сказал передовой, подойдя к одному из бояр, который был дороднее и осанистее другого, – вот этот молодец говорит, что дорога на Теплый Стан осталась у нас позади.
– Ну вот, – вскричал дородный боярин, – не говорил ли я, что нам должно было ехать по той дороге? А все ты, Фома Сергеевич! Недаром вещает премудрый Соломон: «Неразумие мужа погубляет пути его».
– Небольшая беда, – отвечал другой боярин, – что мы версты две или три проехали лишнего; ведь хуже, если б мы заплутались. Не спросясь броду, не суйся в воду, говаривал всегда блаженной памяти царь Феодор Иоаннович. Бывало, когда он вздумает потешиться и позвонить в колокола, – а он, царство ему небесное! куда изволил это жаловать, – то всегда пошлет меня на колокольню, как ближнего своего стряпчего, с ключом проведать, все ли ступеньки целы на лестнице. Однажды, как теперь помню, оттрезвонив к обедне, его царское величество послал меня…
– Знаю, знаю! уж ты раз десять мне это рассказывал, – перервал дородный боярин. – Войдем-ка лучше в избу да перекусим чего-нибудь. Хоть и сказано: «От плодов устен твоих насытишь чрево свое», но от одного разглагольствования сыт не будешь. А вы смотрите с коней не слезать; мы сейчас отравимся опять в дорогу.
Сказав сип слова, оба боярина, в которых читатели, вероятно, узнали уже Лесуту-Храпунова и Замятню-Опалева, слезли с коней и пошли в избу. Краснощекий толстяк спустился также с своей лошади, и когда подошел к воротам, то Кирша, заступя ему дорогу, сказал улыбаясь:
– Ба, ба, ба! здравствуй, ясновельможный пан Копычинский! Подобру ли, поздорову?
Поляк взглянул гордо на Киршу и хотел пройти мимо.
– Что так заспесивился, пан? – продолжал запорожец, остановив его за руку. – Перемолви хоть словечко!
– Цо то есть! – вскричал Копычинский, стараясь вырваться. – Отцепись, москаль!
– А разве ты его знаешь? – спросил Киршу один из служителей проезжих бояр.
– Как же! мы давнишние знакомцы. Не хочешь ли, пан, покушать? У меня есть жареный гусь.
– Слушай, москаль! – завизжал Копычинский. – Если ты не отстанешь, то, дали бук…
– И, полно буянить, ясновельможный! Что хорошего? Ведь здесь грядок нет, спрятаться негде…
Поляк вырвался и, отступя шага два, ухватился с грозным видом за рукоятку своей сабли.
– Небось, добрый человек! – сказал служитель. – Он только пугает: ведь сабля-то у него деревянная.
– Ой ли! Эй, слушай-ка, пан! – закричал Кирша вслед поляку, который спешит уйти в избу. – У какого москаля отбит ты свою саблю?.. Ушел!.. Как он к вам попался?
– Он изволишь видеть, – отвечал служитель, – приехал месяца четыре назад из Москвы; да не поладил, что ль, с паном Тишкевичем, который на ту пору был в наших местах с своим региментом; только, говорят, будто б ему сказано, что если он назад вернется в Москву, то его тотчас повесят; вот он и приютился к господину нашему, Степану Кондратьичу Опалеву. Вишь, рожа-то у него какая дурацкая!.. Пошел к боярину в шуты, да такой задорный, что не приведи господи!
Кирша вошел также в избу. Оба боярина сидели за столом и трудились около большого пирога, не обращая никакого внимания на Милославского, который ел молча на другом конце стола уху, изготовленную хозяином постоялого двора.
– Ты, что ль, молодец, сказывал нашим людям, – спросил Лесута у запорожца, – что мы миновали дорогу на Теплый Стан?
– Да, боярин. Я вчера сам там был.
– И видел Тимофея Федоровича?
– Как же! и его и боярина Туренина.
– Так и Туренин на хуторе? Ну что, здоровы ли они?
– Славу богу! Только больно испостились.
– Как так?
– Да разве ты не знаешь, боярин?.. Они теперь оба живут затворниками.
– Затворниками?
– Как же! Если ты не найдешь их в хоромах, то ищи в подземном склепе, под церковным полом.
– Что ж они там делают?
– Вестимо что: спасаются!
– Эко диво! – сказал Опалев. – И вина не пьют?
– Какое вино! Не приезжайте вы к ним, так они дня три или четыре куска бы в рот не взяли: такие стали постники.
– Что это им вздумалось?.. – вскричал Лесута. – Да они этак вовсе себя уходят!
– Вот то-то и есть, – прибавил Опалев, – учение свет, а неучение тьма. Что сказано в Екклесиасте? «Не буди правдив вельми и не мудрися излишне, да некогда изумишися».
– Видно, боярин, они этой книги не читывали.
В это время Копычинский, который, сидя у дверей избы, посматривал пристально на Юрия, вдруг вскочил и, подойдя к Замятне-Опалеву, сказал ему на ухо:
– Боярин! уедем скорее отсюда: здесь неловко.
– Что ты врешь, дурак! – сказал Замятня.
– Нет, не вру, – продолжал поляк, – посмотри-ка на этого бледного и худого детину…
– Ну что за диковинка?
– Ты, видно, его не знаешь… Он настоящий разбойник!
– Разбойник!.. Постой-ка! Лицо что-то знакомое… Ну, точно так… Позволь спросить: ведь ты, кажется, Юрий Дмитрич Милославский?
Юрий ответствовал одним наклонением головы.
– В самом деле! – вскричал Лесута-Храпунов, – теперь и я признаю тебя. Ну как ты похудел! Что это с тобой сделалось?
– Он четыре месяца был при смерти болен, – отвечал Кирша.
– То-то тебя и не видно было, – продолжал Лесута-Храпунов. – Помнишь ли, Юрий Дмитрич, как мы познакомились с тобой у боярина Шалонского?
– Помню, – отвечал Юрий.
– Не правда ли, что он знатную нам задал пирушку!.. Помнится, вы с ним что-то повздорили, да, кажется, помирились. Нечего сказать, он немного крутенек, не любит, чтоб ему поперечили; а уж хлебосол! и как захочет, так умеет приласкать!
– «Прещение его подобно рыканию львову, – перервал Опалев, – и яко же роса злаку, тако тихость его».
– Эх, Юрий Дмитрич! – продолжал Лесута. – Много с тех пор воды утекло! Вовсе житья не стало нашему брату, родовому дворянину! Нижегородские крамольники все вверх дном поставили. Хотя бы, к примеру сказать, меня, стряпчего с ключом, – поверишь ли, Юрий Дмитрич? в грош не ставят; а какой-нибудь простой посадский или мясник – воеводою!
– Да, да, – примолвил Опалев, – чего мы не насмотрелись!
– Ты, верно, Юрий Дмитрич, – сказал Лесута, помолчав несколько времени, – пробираешься к пану Хоткевичу?
– Я и сам еще не знаю, – отвечал отрывисто Милославский.
– Да другого-то делать нечего, – продолжал Лесута, – в Москву теперь не проедешь. Вокруг ее идет такая каша, что упаси господи! и Трубецкой, и Пожарский, и Заруцкий, и проклятые шиши, – и, словом, весь русский сброд, ни дать ни взять, как саранча, загатил все дороги около Москвы. Я слышал, что и Гонсевский перебрался в стан к гетману Хоткевичу, а в Москве остался старшим пан Струся. О-ох, Юрий Дмитрич! Плохие времена, отец мой! Того и гляди придется пенять отцу и матери, зачем на свет родили!
– Что ты, Степан Кондратьич! – вскричал Опалев. – Не моги говорить таких речей: «Злословящему отца и матерь угаснет светильник, зеницы же очес его узрят тьму».
– Да мы и так уж давно ходим в потемках, – возразил Лесута. – Когда стряпчий с ключом, как я, или думный дворянин, как ты, не знают, куда голов приклонить, так, видно, уже пришли последние времена.
– Что и говорить, Степан Кондратьевич, мерзость запустения!.. По всему видно, что скоро наступит время, когда угаснет солнце, свергнутся звезды с тверди небесной и настанет повсюду тьма кромешная! Недаром прозорливый Сирах глаголет…
– Однако ж нам пора в путь, – перервал Лесута, вставая с своего места. – Прощенья просим, Юрий Дмитрич! Мы будем от тебя кланяться Тимофею Федоровичу.
– Да не забудьте же, бояре, – примолвил Кирша, – если не найдете его в хоромах, то ищите в склепе под церковным полом.
– А где мой дурак? – закричал Опалев. – Эй ты, пан! куда ты запропастился?
– Я здесь, ясновельможный, – отвечал Копычинский, выглядывая из сеней. – Прикажешь садиться на коня?
– Садись!.. Да тише ты, польская чучела! куда торопишься?.. Смотри, пожалуй! с ног было сшиб Степана Кондратьевича.
Часа через два и наши путешественники отправились также в дорогу. Отдохнув целые сутки в Муроме, они на третий день прибыли во Владимир; и когда Юрий объявил, что намерен ехать прямо в Сергиевскую лавру, то Кирша, несмотря на то что должен был для этого сделать довольно большой крюк, взялся проводить его с своими казаками до самого монастырского посада.
V
Троицкая лавра святого Сергия, эта священная для всех русских обитель, показавшая неслыханный пример верности, самоотвержения и любви к отечеству, была во время междуцарствия первым по богатству и великолепию своему монастырем в России, ибо древнее достояние князей русских, первопрестольный град Киев, с своей знаменитой Печерской лаврою, принадлежал полякам. Обитель Троицкая, основанная около половины четырнадцатого столетия радонежским чудотворцем, преподобным Сергием, близ протока, называемого Кончурою, отстоит от Москвы не далее шестидесяти четырех верст. Хотя в 1612 году великолепная церковь святого Сергия, высочайшая в России колокольня, две башни прекрасной готической архитектуры и много других зданий не существовали еще в Троицкой лавре, но высокие стены, восемь огромных башен, соборы: Троицкий, с позлащенною кровлею, и Успенский, с пятью главами, четыре другие церкви, обширные монастырские строения, многолюдный посад, большие сады, тенистые рощи, светлые пруды, гористое живописное местоположение – все пленяло взоры путешественника, все поселяло в душе его непреодолимое желание посвятить несколько часов уединенной молитве и поклониться смиренному гробу основателя этой святой и знаменитой обители.
В описываемую нами эпоху Троицкая лавра походила более на укрепленный замок, чем на тихое убежище миролюбивых иноков. Расставленные по стенам и башням пушки, множество людей ратных, вооруженные слуги монастырские, а более всего поврежденные ядрами стены и обширные пепелища, покрытые развалинами домов, находившихся вне ограды, напоминали каждому, что этот монастырь в недавнем времени выдержал осаду, которая останется навсегда в летописях нашего отечества непостижимой загадкою, или, лучше сказать, явным доказательством могущества и милосердия божия.
Тридцать тысяч войска польского, под предводительством известных своею воинской доблестью и зверским мужеством панов Сапеги и Лисовского, не успели взять приступом монастыря, защищаемого горстью людей, из которых большая часть в первый раз взялась за оружие; в течение шести недель более шестидесяти осадных орудий, гремя день и ночь, не могли разрушить простых кирпичных стен монастырских. Упование на господа и любовь к отечеству превозмогли всю силу многочисленного неприятеля: простые крестьяне стояли твердо, как поседевшие в боях воины, бились с ожесточением и гибли, как герои. Никто не хотел окончить жизнь на своей постеле; едва дышащие от ран и болезней, не могущие уже сражаться воины, иноки и слуги монастырские приползли умирать на стенах святой обители от вражеских пуль и ядер, которые сыпались градом на беззащитные их головы. Начальники осажденного войска князь Долгорукий и Голохвастов, готовясь, по словам летописца, на трапезе кровопролитной испить чашу смертную за отечество, целовали крест над гробом святого Сергия: сидеть в осаде без измены – и сдержали свое слово (13). Простояв более шестнадцати месяцев под стенами лавры, воеводы польские, покрытые стыдом, бежали от монастыря, который недаром называли в речах своих каменным гробом, ибо обитель святого Сергия была действительно обширным гробом для большей части войска и могилою их собственной воинской славы.
В одно прекрасное утро, перед ранней обеднею, человек пять слуг монастырских, собравшись в кружок, отдыхали на лугу, подле святых ворот лавры. Один из них, который, судя по его усталому виду и запыленному платью, только что приехал из дороги, рассказывал что-то с большим жаром; все слушали его со вниманием, кроме одного высокого и молодцеватого детины. Не принимая, по-видимому, никакого участия в разговоре, он смотрел пристально вдоль ростовской дороги, которая, огибая Терентьевскую гору, терялась вдали между полей, густых рощей и рассыпанных в живописном беспорядке селений.
– Полно, так ли, брат Суета? – сказал один из слуг монастырских, покачав головою. – И тебя к нему допустили?
– Как же, братец! – отвечал рассказчик, напоминающий своим колоссальным видом предания о могучих витязях древней России. – Стану я лгать! Я своеручно отдал ему грамоту от нашего архимандрита; говорил с ним лицом к лицу, и он без малого слов десять изволил перемолвить со мною.
– А мне так не удалось посмотреть на князя Дмитрия Михайловича Пожарского, – сказал тот же служитель, – я был в отлучке, как он стоял у нас в лавре. Что, брат Суета, правда ли, что он молодец собою?
– Как бы тебе сказать?.. Росту не очень большого и в плечах узенек, – отвечал Суета, кинув гордый взор на собственные свои богатырские плеча, – но зато куда благообразен собою!.. А что за взгляд! Ах ты господи боже мой!.. Поверите ль, ребята? как я к нему подходил, гляжу: кой прах! мужичонок небольшой – ну, вот не больше тебя, – прибавил Суета, показывая на одного молодого парня среднего роста, – а как он выступил вперед да взглянул, так мне показалось, что он целой головой меня выше! Вы знаете, товарищи, я детина не робкий и силка есть, а если б пришлось мне на ратном поле схватиться с князем Пожарским, так, что греха таить, не побожусь, статься может, и я бы сбердил.
– Что ты, Суета? помилуй!.. Ты для почину целый полк ляхов один остановил и человек двадцать супостатов перекрошил своим бердышом, так статочное ли дело, чтобы ты сробел одного человека?
– Да слышишь ли ты, голова! он на других-то людей вовсе не походит. Посмотрел бы ты, как он сел на коня, как подлетел соколом к войску, когда оно, войдя в Москву, остановилось у Арбатских ворот, как показал на Кремль и соборные храмы!.. и что тогда было в его глазах и на лице!.. Так я тебе скажу: и взглянуть-то страшно! Подле его стремени ехал Козьма Минич Сухорукий… Ну, брат, и этот молодец! Не так грозен, как князь Пожарский, а нашего поля ягода – за себя постоит!
– А что слышно о поляках?
– Вестимо что: одни сидят в Кремле да выглядывают из-за стен как сычи; а другие с гетманом Хоткевичем, как говорят, близехонько от Москвы.
– Так, стало быть, скоро большая схватка будет?
– Видно, что так. Жаль только, что наша сила поубавилась: изменник Заруцкий ушел в Коломну, да и князя Трубецкого войско-то не больно надежно: такой сброд!.. Они ж, говорят, осерчали за то, что нижегородцы не пошли к ним в таборы; а по мне, так дело и сделали: что им якшаться с этими разбойниками? Вся понизовская сила, что пришла с князем Пожарским, истинно христолюбивое войско!.. не налюбуешься! А как посмотришь на дружины князя Трубецкого, так бежал бы прочь без оглядки: только и думают, как бы где понажиться да ограбить кого бы ни было, чужих или своих, все равно. Есть, правда, и у них ребята знатные, да сволочи-то много.
– А не попадались ли тебе на московской дороге шиши? Говорят, они везде шатаются.
– Как же! они и меня останавливали верстах в тридцати отсюда; но лишь только я вымолвил, что еду из Троицы к князю Пожарскому, тотчас отпустили да еще на дорогу стаканчик вина поднесли.
– Вот что! Так они не вовсе разбойники?
– Какие разбойники!.. Правда, их держит в руках какой-то приходский священник села Кудинова, отец Еремей: без его благословенья они никого не тронут; а он, дай бог ему здоровье! стоит в том: режь как хочешь поляков и русских изменников, а православных не тронь!.. Да что там такое? Посмотрите-ка, что это Мартьяш уставился?.. Глаз не спускает с ростовской дороги.
– А кто его знает! – отвечал один из служителей. – Мы слушаем твои рассказы, а он ведь глух, так, может статься, от безделья по сторонам глазеет.
– Нет, брат Данило! – сказал Суета. – Не говори, он даром смотреть не станет: подлинно господь умудряет юродивых! Мартьяш глух и нем, а кто лучше его справлял службу, когда мы бились с поляками? Бывало, как он стоит сторожем, так и думушки не думаешь, спи себе вдоволь: муха не прокрадется.
Вдруг Мартьяш вскочил, схватил за руку Суету и, заставив его встать, показал пальцем на ростовскую дорогу.
– Ну так и есть! – вскричал Суета. – Видите ли, ребята?..
– Да, – сказал Данило, – по большой дороге едут казаки. Пойти сказать старшинам.
– Постой, вот они никак все выехали из-за рощи… Да их навряд будет человек тридцать: из чего делать тревогу?
– А если это только передовые? – сказал один из служителей.
– И, нет! – продолжал Суета. – Там дальше никого не видно. Видите ли? Мартьяш уселся опять на прежнее место и вовсе на них не смотрит, так, верно, уж опасаться нечего: какие-нибудь проезжие или богомольцы.
– Да так и должно быть, – сказал Данило. – Посмотрите, впереди казаков едет какой-то боярин… Вот сняли шапки и молятся на соборы… Видно, какой-нибудь понизовский дворянин едет к нам на богомолье.
Читатели наши, без сомнения, уже догадались, что боярин, едущий в сопровождении казаков, был Юрий Дмитрич Милославский. Когда они доехали до святых ворот, то Кирша, спеша возвратиться под Москву, попросил Юрия отслужить за него молебен преподобному Сергию и, подаря ему коня, отбитого у польского наездника, и литовскую богатую саблю, отправился далее по московской дороге. Милославский, подойдя к монастырским служителям, спросил: может ли он видеть архимандрита?
– Вряд ли, боярин, – отвечал Суета, – я сейчас был у него в палатах: он что-то прихворнул и лежит в постели; а если у тебя есть какое дело, то можешь переговорить с отцом келарем.
– Авраамием Палицыным?
– Да, боярин; он вчера приехал из-под Москвы и нынче же после трапезы опять туда едет.
– Не может ли кто-нибудь из вас проводить меня в его келью?
– Пожалуй, я провожу, – сказал Суета. – А ты, брат, – продолжал он, обращаясь к Алексею, – отведи коней в гостиницу.
– А где бы достать чего-нибудь перекусить, любезный? – спросил Алексей.
– Уж там тебя накормят; благодаря бога из Сергиевской лавры ни один еще богомолец голодный не уходил.
Юрий, идя вслед за Суетою, заметил, что и внутри монастыря большая часть строений была повреждена и хотя множество рабочих людей занято было поправкою оных, но на каждом шагу встречались следы опустошения и долговременной осады, выдержанной обителью.
– Вот в этих палатах живал прежде отец Авраамий, – сказал Суета, указав на небольшое двухэтажное строение, прислоненное к ограде. – Да видишь, как их злодеи ляхи отделали: насквозь гляди! Теперь он живет вон в той связи, что за соборами, не просторнее других старцев; да он, бог с ним, не привередлив: была б у него только келья в стороне, чтоб не мешали ему молиться да писать, так с него и довольно.
– А что он такое пишет?
– Бог весть! Послушник его Финоген мне сказывал, что он пишет какое-то сказание об осаде нашего монастыря и будто бы в нем говорится что-то и обо мне; да я плохо верю: иная речь о наших воеводах князе Долгорукове и Голохвастове – их дело боярское; а мы люди малые, что о нас писать?.. Сюда, боярин, на это крылечко.
Пройдя длинным коридором до самого конца здания, они остановились, и Суета, постучав в небольшую дверь, сказал вполголоса:
– Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй меня, грешного!
– Аминь! – отвечал кто-то приятным и звучным голосом внутри кельи.
– Теперь ступай, боярин, – сказал Суета, отворяя дверь.
Юрий взошел в небольшую келью с одним окном. В левом углу стояла деревянная скамья с таким же изголовьем; в правом – налой, над которым теплилась лампада перед распятием и двумя образами; к самому окну приставлен был большой, ничем не покрытый стол; вдоль одной стены, на двух полках, стояли книги в толстых переплетах и лежало несколько свитков. Перед столом на скамье сидел старец в простой черной ряске и рассматривал с большим вниманием толстую тетрадь, которая лежала перед ним на столе. Приход Юрия не прервал его занятия: он взял перо, поправил несколько слов и прочел вслух: «В сей бо день гетман Сапега и Лисовский, со всеми полки своими, польскими и литовскими людьми, и с русскими изменники, побегоша к Дмитреву, никем же гонимы, но десницею божией…» Тут он написал еще несколько слов, встал с своего места и, благословя подошедшего к нему Юрия, спросил ласково: какую он имеет до него надобность?
– Отец Авраамий, – отвечал с смиренным видом Юрий, – я имею до тебя немаловажную просьбу.
– Садись, молодец, и говори, чего ты от меня хочешь?
Кроткий и вместе величественный вид старца, его блестящие умом и исполненные добросердечия взоры, приятный, благозвучный голос, а более всего известные всем русским благочестие и пламенная любовь к отечеству – все возбуждало в душе Юрия чувство глубочайшего почтения к сему бессмертному сподвижнику добродетельного Дионисия. Помолчав несколько времени, Милославский сказал робким голосом:
– Отец Авраамий, я не смею надеяться, что ты исполнишь мою просьбу.
– Говори смело, чадо мое, – отвечал старец, – нам ли, многогрешным, отвергать просьбы наших братьев, когда мы сами ежечасно, как малые дети, прибегаем с суетными мольбами к общему отцу нашему!
– Я хочу, – продолжал Милославский, ободренный ласковою речью Авраамия, – умереть свету и при помощи твоей из воина земного соделаться воином Христовым.
Старец поглядел на Юрия и спросил с некоторым сомнением:
– Ты желаешь вступить в обитель нашу послушником?
– Да, отец Авраамий, и если господь бог сподобит, а вы, благочестивые наставники, удостоите меня принять образ иноческий… то все желания мои исполнятся.
Авраамий покачал головою и, взглянув с соболезнованием на Юрия, сказал:
– В столь юные годы!.. на утре жизни твоей!.. Но точно ли, мой сын, ты ощущаешь в душе своей призвание божие? Я вижу на твоем лице следы глубокой скорби, и если ты, не вынося с душевным смирением тяготеющей над главою твоей десницы всевышнего, движимый единым отчаянием, противным господу, спешишь покинуть отца и матерь, а может быть, супругу и детей, то жертва сия не достойна господа: не горесть земная и отчаяние ведут к нему, но чистое покаяние и любовь.
– У меня нет ни отца, ни матери, – сказал Юрий, – я сирота!
– Но кто ты, юноша?
– Юрий Милославский.
– Сын покойного боярина Милославского?
– Да, сын его.
Старец устремил испытующий взор на Юрия и после короткого молчания сказал с приметным удивлением:
– И ты, сын Дмитрия Милославского, желаешь, наряду с бессильными старцами, с изувеченными и не могущими сражаться воинами, посвятить себя единой молитве, когда вся кровь твоя принадлежит отечеству? Ты, юноша во цвете лет своих, желаешь, сложив спокойно руки, смотреть, как тысячи твоих братьев, умирая за веру отцов и святую Русь, утучняют своею кровию родные поля московские?
– Итак, отец Авраамий, ты отвергаешь мою просьбу?
– Нет, Юрий Дмитрич, не я!.. Взгляни вокруг себя, вопроси эти полуразрушенные стены, пожженные дома, могилы иноков, падших в кровавой битве с врагом веры православной, и если их безмолвный ответ не напомнит тебе долга твоего, то ты не сын Димитрия! Нет, Юрий Дмитрич, не здесь твое место: оно в рядах храбрых дружин нижегородских, под стенами оскверненного присутствием злодеев Кремля! Сын мой, светла пред господом жизнь праведника; но венец мученика есть верх его благости и милосердия! Иди стяжать сию нетленную награду! Ступай умри верным защитником православной греческой церкви и достойным сыном добродетельного Димитрия!
Юрий, потупив глаза, стоял, как преступник пред своим судиею, и не отвечал ни слова.
– Ты молчишь? – продолжал Авраамий. – Колеблешься?.. Да простит тебя господь! ты надругался над моими сединами: ты обманул меня. Юноша! ты не сын Милославского!..
– Ах, отец Авраамий!.. – примолвил едва слышным голосом Юрий, – я не могу поднять меча на защиту моей родины!
– Не можешь?
– Я целовал крест королевичу Владиславу…
– Несчастный!..
Несколько минут продолжалось молчание; наконец Авраамий сказал как будто б нехотя:
– Юрий Дмитрич, ты, может быть, не знаешь, что святейший Гермоген разрешил всех православных от сей богопротивной присяги?
– Но я целовал крест добровольно. Отец Авраамий, не вынужденная клятва тяготит мою душу; нет, никто не побуждал меня присягать королевичу польскому! и тайный, неотступный голос моей совести твердит мне ежечасно: горе клятвопреступнику! Так, отец мой! Юрий Милославский должен остаться слугою Владислава; но инок, умерший для света, служит единому богу…
– И отечеству, боярин! – перервал с жаром Авраамий. – Мы не иноки западной церкви и благодаря всевышнего, переставая быть мирянами, не перестаем быть русскими. Вспомни, Юрий Дмитрич, где умерли благочестивые старцы Пересвет и Ослябя!.. Но я слышу благовест… Пойдем, сын мой, станем молить угодника божия, да просияет истина для очей наших и да подаст тебе господь силу и крепость для исполнения святой его воли!
По окончании литургии и молебствия с коленопреклонением о даровании победы над врагом Авраамий, подведя Юрия ко гробу преподобного Сергия, сказал торжественным голосом:
– Боярин Юрий Дмитрич Милославский, желаешь ли ты отречься от мира и всех прелестей его?
– Желаю! – отвечал твердым голосом Юрий.
– Не ищешь ли ты укрыться в обители нашей от забот, трудов и опасностей, тебе по рождению и сану предстоящих? Не избираешь ли ты часть сию, дабы избежать заслуженного наказания или по всякому другому, единственно земному побуждению?
– Нет.
– Не обещался ли ты пред господом иметь попечение о земном благе отца, матери, супруги и детей?
– Я сирота… и не был никогда женат.
– Итак, да будет по желанию твоему, боярин Милославский! Я принимаю здесь, при гробе преподобного Сергия, твой обет: посвятить себя на всю жизнь покаянию, посту и молитве. Преклони главу твою… Раб божий Юрий, с сего часа ты не принадлежишь уже миру, и я, именем господа, разрешаю тебя от всех клятв и обещаний мирских. Встань, послушник старца Авраамия; отныне ты должен слепо исполнять волю твоего пастыря и наставника. Ступай в стан князя Пожарского, ополчись оружием земным против общего врага нашего и, если господь не благоволит украсить чело твое венцом мученика, то по окончании брани возвратись в обитель нашу для принятия ангельского образа и служения господу не с оружием в руках, но в духе кротости, смирения и любви.
– Итак, – воскликнул Юрий, обливаясь слезами, – я снова могу сражаться за мою родину! Ах, я чувствую, ничто не тяготит моей совести!.. Душа моя спокойна!.. Отец Авраамий, ты возвратил мне жизнь!
– Возблагодарим за сие господа и святых угодников его, – сказал старец, преклоня колена вместе с Юрием.
После усердной и продолжительной молитвы Авраамий Палицын, прощаясь с Юрием, сказал:
– Отдохни сегодня, Юрий Дмитрич, в нашей обители, а завтра чем свет отправься к Москве. Стой крепко за правду. Не попускай нечестивых осквернить святыню храмов православных. Сражайся как сын Милославского, но щади безоружного врага, не проливай напрасно крови человеческой. Ступай, сын мой! – примолвил Авраамий, обнимая Юрия, – да предыдет пред тобою ангел господень и да сопутствует тебе благословение старика, который… Всевышний! да простит ему сие прегрешение… любит свою земную родину почти так же, как должны бы мы все любить одно небесное отечество наше!
На другой день вместе с солнечным восходом Юрий в сопровождении Алексея выехал из лавры и пустился по дороге, ведущей к Москве.
VI
Когда наши путешественники, миновав Хотьковскую обитель, отъехали верст тридцать от лавры, Юрий спросил Алексея: знает ли он, куда они едут?
– Вестимо куда! – отвечал с приметной досадою Алексей. – В Москву, к пану Гонсевскому.
– Ты не отгадал: мы едем в стан князя Пожарского.
– Зачем?
– Затем, чтоб драться с поляками.
– С поляками!.. Да нет, ты шутишь, боярин!
– Видит бог, не шучу. Я уж больше не слуга Владислава.
– Слава тебе, господи! – вскричал Алексей. – Насилу ты за ум хватился, боярин! Ну, отлегло от сердца! Знаешь ли что, Юрий Дмитрич? Теперь я скажу всю правду: я не отстал бы от тебя, что б со мной на том свете ни было, если бы ты пошел служить не только полякам, но даже татарам; а как бы знал да ведал, что у меня было на совести? Каждый день я клал по двадцати земных поклонов, чтоб господь простил мое прегрешение и наставил тебя на путь истинный.
– Ну вот видишь, Алексей, твоя молитва даром не пропала. Но я что-то очень устал. Как ты думаешь, не остаться ли нам в этом селе?
– Да и пора, Юрий Дмитрич: мы, чай, с лишком верст двадцать отъехали. Вон, кажется, и постоялый двор… а видно по всему, здесь пировали незваные гости. Смотри-ка, ни одной старой избы нет, все с иголочки! Ох эти проклятые ляхи! накутили они на нашей матушке святой Руси!
Путешественники въехали на постоялый двор. Юрий лег отдохнуть, а Алексей, убрав лошадей, подсел к хозяйке, которая в одном углу избы трудилась за пряжею, и спросил ее: не слышно ли чего-нибудь о поляках?
– И, родимый! наше дело крестьянское, – отвечала хозяйка, поправив под собою донце, – мы ничего не ведаем.
– А что, разве поляки никогда не бывали в вашем селе?
– Как не бывать!
– Ну что, голубушка, чай, они вам памятны?
– Вестимо, кормилец.
– Уж нечего сказать, знатные ребята! не так ли?
Хозяйка взглянула недоверчиво на Алексея и не отвечала ни слова.
– Куда, чай, с ними весело хлеб-соль водить! – продолжал Алексей. – Не правда ли?
– Вестимо, батюшка, – примолвила вполголоса хозяйка. – Дай бог им здоровья – люди добрые.
– В самом деле?
– Как же! такие приветливые.
– Что ты, шутишь, что ли?
– И, родимый, до шуток ли нам!
– Неужели в самом деле?.. Кого ж ты больше любишь: своих иль поляков? Ну, что ж ты молчишь, лебедка? иль язык отнялся?.. Ну, сказывай, кого?
– Кого прикажешь, батюшка.
– Не о приказе речь; я толком тебе говорю: кого больше любишь, нас иль поляков?
– Вас, батюшка, вас! А вы за кого стоите, господа честные?
– Чего тут спрашивать: за матушку святую Русь.
– Полно, так ли, родимый?
– Видит бог, так! Мы едем под Москву, биться с поляками не на живот, а на смерть.
– Ой ли? Помоги вам господи!.. Разбойники!.. В разор нас разорили! Прошлой зимой так всю и одежонку-то у нас обобрали. Чтоб им самим ни дна ни покрышки! Передохнуть бы всем, как в чадной избе тараканам… Еретики, душегубцы!.. нехристь проклятая!
– Ба, ба, ба! что ты, молодица? Кого ты это изволишь честить?
– Кого?.. как кого?.. вестимо, кого!.. Кого ты, родимый, того и я.
– Да что ты переминаешься?.. Чего ты боишься? иль не видишь, что мы православные?
– О, ох, батюшка! не равны православные! Этак с час-места останавливались у нас двое проезжих бояр и с ними человек сорок холопей, вот и стали меня так же, как твоя милость из ума выводить, а я сдуру-то и выболтай все, что на душеньке было; и лишь только вымолвила, что мы денно и нощно молим бога, чтоб вся эта иноземная сволочь убралась восвояси, вдруг один из бояр, мужчина такой ражий, бог с ним! как заорет в истошный голос да ну меня из своих ручек плетью! Уж он катал, катал меня! Кабы не молодая боярыня, дочка, что ль, его, не знаю, так он бы запорол меня до смерти! Дай бог ей доброе здоровье и жениха по сердцу! вступилась за меня, горемычную, и, как господа стали съезжать со двора, потихоньку сунула мне в руку серебряную копеечку. То-то добрая душа! Из себя не так чтоб очень красива, не дородна, взглянуть не на что… Ахти я дура! – примолвила хозяйка, вскочив торопливо со скамьи, – заболталась с тобой, кормилец!.. Чай, у меня хлебы-то пересидели.
Юрий, который от сильного волнения души, произведенного внезапною переменою его положения, не смыкал глаз во всю прошедшую ночь, теперь отдохнул несколько часов сряду; и когда они, отправясь опять в путь, отъехали еще верст двадцать пять, то солнце начало уже садиться. В одном месте, где дорога, проложенная сквозь мелкий кустарник, шла по самому краю глубокого оврага, поросшего частым лесом, им послышался отдаленный шум, вслед за которым раздался громкий выстрел. Юрий приостановил своего коня.
– Что это, боярин? – вскричал Алексей. – Слышишь? другой… третий… четвертый… Ахти, батюшки! считать не поспеешь!.. Ой, ой, ой! какая там идет жарня!
– Что б это такое было? – сказал Юрий, прислушиваясь к стрельбе, которая час от часу становилась сильнее. – Мы, кажется, еще не близко от Москвы.
– Сердце мое чует, – перервал Алексей, – это разбойники шиши проказят! Не воротиться ли нам, боярин?
– Если это шиши, так нам бояться нечего. Поедем поближе, Алексей.
Они не успели отъехать пятидесяти шагов, как вдруг из-за куста заревел грубый голос:
– Кто едет? стой!.. – и человек двадцать вооруженных кистенями, рогатинами и винтовками разночинцев высыпали из оврага и заслонили дорогу нашим путешественникам. С первого взгляда можно было принять всю толпу за шайку разбойников: большая часть из них была одета в крестьянские кафтаны; но кой-где мелькали остроконечные шапки стрельцов, и человека три походили на казаков; а тот, который вышел вперед и, по-видимому, был начальником всей толпы, отличался от других богатой дворянской шубою, надетою сверх простого серого зипуна; он подошел к Юрию и спросил его не слишком ласково:
– Кто вы таковы?
– Проезжие, – отвечал Милославский.
– Куда едете?
– Под Москву.
– Не вместе ли вон с теми боярами, что едут впереди?
– Нет, мы едем сами по себе.
– Полно, так ли?
– Видит бог так, господа шиши! – закричал Алексей.
– Ты врешь!.. Мы православное земское войско, а не шиши. Постой-ка, брат, нас этак прозвали зубоскалы поляки, так, видно, ты, голубчик с ними знаешься?
– Да, да! они изменники! – заревела вся толпа. – Долой их с лошадей!
– Что вы, ребята? перекреститесь! – вскричал Алексей. – Мы едем с боярином из Троицы к князю Пожарскому биться с поляками.
– Не верь им, Бычура! – сказал один из стрельцов. – Они, точно, изменники.
– Постойте, ребята! – перервал Бычура. – Чтоб маху не дать!.. Как тебя зовут, молодец? – продолжал он, обращаясь к Юрию.
– Юрий Милославский.
– Сын покойного воеводы нижегородского?
– Да, сын его.
– Коли так, – сказал Бычура, снимая почтительно свою шапку, – то мы просим прощения, боярин, что тебя остановили; и если ты точно Юрий Дмитрич Милославский и едешь из Троицы, то не изволь ничего бояться.
– Я ничего и не боюсь, добрые люди! Только не задерживайте меня: я тороплюсь к Москве.
– Не погневайся, ты слышишь, какая жарёха идет на большой дороге?.. так воля твоя, а изволь пообождать.
– Но что значит эта стрельба?
– Да так, боярин! наши молодцы справляются там с русскими изменниками.
– А почему вы знаете, что они изменники?
– Как не знать? они было и проводника уж нашли, который взялся довести их до войска пана Хоткевича; да не на того напали: он из наших; повел их проселком, водил, водил да вывел куда надо. Теперь не отвертятся.
– Нельзя ли нам хоть стороной объехать?
– Оно бы можно, – сказал Бычура, почесывая голову, – да не погневайся, господин честной: тебе надо прежде заехать в село Кудиново.
– Зачем?
– А вот, изволишь видеть, мы наслышались о батюшке твоем от нашего старшины отца Еремея, священника села Кудинова, так он лучше нашего узнает, точно ли ты Юрий Дмитрич Милославский.
– Как! – вскричал с досадою Юрий. – Вы не верите?..
– Не то чтоб не верили, боярин, да сбруя-то на коне твоем польская.
– Так что ж?
– Оно, конечно, ничего, не велика беда, что и сабля-то у тебя литовская: статься может, она досталась тебе с бою; да все лучше, когда ты повидаешься с отцом Еремеем. Ведь иной, как попадется к нам в руки, так со страстей, не в обиду твоей чести будь сказано, не только Милославским, а, пожалуй, князем Пожарским назовется.
Тут кто-то подбежал, запыхавшись, к толпе и закричал:
– Что вы здесь стоите, ребята? Ступайте на подмогу!
– А разве вас там мало? – сказал Бычура.
– Да порядком поубавилось. Теперь дело пошло врукопашную: одного-то боярина, что поменьше ростом, с первых разов повалили; да зато другой так наших варом и варит! а глядя на него, и холопи как приняли нас в ножи, так мы свету божьего невзвидели. Бегите проворней, ребята!
Бычура, приказав четверым шишам сесть на коней и проводить наших путешественников в село Кудиново, побежал с остальными товарищами вперед. Юрий и Алексей должны были поневоле следовать за своими провожатыми и, проскакав верст пять проселочной дорогой, въехали в селение, окруженное почти со всех сторон болотами и частым березовым лесом. Посреди села, перед небольшой деревянной церковью, на обширном лугу толпился народ. Провожатые слезли с лошадей; Юрий и Алексей сделали то же и подошли вслед за ними к двум большим липам, под которыми сидел на скамье человек лет тридцати, с курчавой черной бородою и распущенными по плечам волосами. Он был одет отменно богато для сельского священника; его длинный, ничем не подпоясанный однорядок с петлицами походил на боярскую ферязь, а желтые сапоги с длинными, загнутыми кверху носками напоминали также щеголеватую обувь знатных особ тогдашнего времени. Взглянув нечаянно на противоположную сторону, Алексей с ужасом заметил два высокие столба с перекладиною, которые, вероятно, поставлены были не для украшения площади и что-то вовсе не походили на качели. Присоединясь к толпе, путешественники и их провожатые остановились, ожидая, когда дойдет до них очередь явиться пред лицом грозного отца Еремея, к которому подходили, один после другого, отрядные начальники со всех дорог, ведущих к Москве.
– Спасибо, сынок! – сказал он, выслушав донесение о действиях отряда по серпуховской дороге. – Знатно! Десять поляков и шесть запорожцев положено на месте, а наших ни одного. Ай да молодец!.. Темрюк! ты хоть родом из татар, а стоишь за отечество не хуже коренного русского. Ну что, Матерой? говори, что у вас по владимирской дороге делается?
– Да что, отец Еремей, хоть вовсе не выходить на большую дорогу! Вот уже третий день ни одного ляха в глаза не видим; изменники перевелись, и кого ни остановишь, все православный да православный. Кабы ты дозволил поплотнее допрашивать проезжих, так авось ли бы и отыскался какой-нибудь предатель; а то, рассуди милостиво, кому охота взводить добровольно на себя такую беду?
– Да, как бы не так! Дай вам волю, так у вас, пожалуй, и Козьма Минич Сухорукий изменником будет. Нет, ребята, чур у меня своих не трогать! Ну что ты скажешь, Зверев?
– По ярославской дороге все благополучно, – отвечал рыжеватый детина с разбойничьим лицом. – Сегодня, почитай, никого проезжих не было.
– И ты никого не останавливал?
– Никого.
– Смотри не лги: ведь скажешь же на исповеди всю правду! Точно ли ты никого не останавливал?
– Как бог свят, никого.
– Право!.. Эй, вы! подойдите-ка сюда!
Тут вышли из толпы двое купцов и, поклонясь низко отцу Еремею, стали возле него.
– Ну, – продолжал он, взглянув грозно на Зверева, – знаешь ли ты этих гостей нижегородских?.. Что?.. прикусил язычок!
– Виноват!.. Отец Еремей, – сказал Зверев, упав на колени, – помилуй! Не я же один от них поживился!
– Кто поставлен от меня старшим над другими, тот за всех один и в ответе! Разве я благословлял тебя на разбой?.. Зачем ты их ограбил? а?.. На виселицу его!
Глухой ропот пробежал по всей толпе. Передние не смели ничего говорить, но задние зашумели и местах в трех раздались голоса:
– Как-ста не на виселицу!.. Много будет!.. Всех не перевешаешь!..
– Что, что?.. много будет? – сказал отец Еремей, приподнимаясь медленно с своего места.
– Посмотри-ка, боярин, – шепнул Алексей Юрию. – Господи боже мой!.. что это?.. экой чудо-богатырь!.. Да перед ним и Омляш показался бы малым ребенком!
– Ах вы крамольники! – продолжал отец Еремей. – Халдейцы проклятые! (14) Да знаете ли, что я вас к церковному порогу не подпущу! что вы все, как псы окаянные, передохнете без исповеди!
Ропот утих, но никто не трогался с места, чтоб выполнить приказание отца Еремея.
– Что вы дожидаетесь? – закричал он громовым голосом. – Иль хотите, чтоб я повесил его своими руками?.. Темрюк, Таврило, Матерой, возьмите его!.. Ну, что ж вы стали? – примолвил он, выступая несколько шагов вперед.
Виновного схватили и, несмотря на отчаянное сопротивление, потащили к виселице.
– Взмилуйся, батюшка! – сказал один из купцов. – Не прикажи его вешать, а вели только нам отдать то, что у нас отняли.
– Ваше добро не пропадет, а не в свое дело не мешайтесь, – отвечал хладнокровно отец Еремей.
– Преложи гнев на милость, батюшка! Бог с ним! мы ничего не ищем, – сказал купец.
– Нет, господа купцы! кто милует разбойников, того сам бог не помилует; да я уж давно заметил, что он нечист на руку… А разве, и то только для вас, дам ему время покаяться. Эй! постойте, ребята, отведите его в мирскую избу. Матерой! приставь к нему караул; да смотри, чтоб он был чем свет повешен, и если кто-нибудь хоть пикнет, то я завтра велю поставить другую виселицу. Ба, ба, ба! Кондратий… ты как здесь?.. – продолжал он, заметив одного из провожатых Юрия, который, поклонясь почтительно, подошел к нему вместе с своими товарищами под благословение. – Ну что, детушки, как вы справились с этими изменниками?
– Авось господь поможет! – отвечал Кондратий. – А шибко дерутся, собачьи дети! достанется и нашим на орехи.
– Как! – вскричал отец Еремей. – Так у вас на троицкой дороге еще дерутся, а вы здесь?..
– Не гневайся, батюшка! нас прислал к тебе Бычура вот с этим проезжим, который показался нам подозрительным, хоть он и называет себя Юрием Дмитричем Милославским.
– Милославским? – повторил священник, подойдя к Юрию. – Сыном Дмитрия Юрьевича?.. Милости просим, боярин! Ах ты мой сокол ясный!.. – промолвил он, благословляя Юрия. – Как ты схож с покойным твоим родителем: как две капли воды!.. Дай бог ему царство небесное! он не оставлял меня своею милостию. Батюшка твой изволил часто охотиться около нашего села, и хоть я был тогда простым дьячком, но он не гнушался моего дома и всегда изволил останавливаться у меня. Просим покорно, Юрий Дмитрич, ко мне в мою избенку! да чем бог послал!
Юрий и Алексей вошли вслед за священником в большую и светлую избу, построенную внутри церковного погоста.
– Жена, – сказал отец Еремей, войдя в избу, – накрывай стол, подай стклянку вишневки да смотри поворачивайся! что есть в печи, все на стол мечи!.. Знаешь ли, кто наш гость?
– Не знаю, батюшка! – отвечала попадья с низким поклоном.
– Сын боярина Милославского.
– Ой ли?.. Ох ты мой кормилец!.. Подлинно дорогой гость!.. Пожалуй, батюшка, изволь садиться! милости просим! а я мигом все спроворю.
– Куда изволишь ехать, боярин? – спросил отец Еремей.
– К князю Пожарскому под Москву.
– Биться с супостатами? Дело, Юрий Дмитрич! Да и как такому молодцу сидеть поджавши руки, когда вся Русь святая двинулась грудью к матушке Москве! Ну что, боярин, ты уж, чай, давно женат?.. и детки есть?
– Нет, батюшка, – отвечал со вздохом Юрий, – я не женат и век останусь холостым.
– Что так?
– Да, видно, уж мне так на роду написано.
– Не ручайся, Юрий Дмитрич! придет час воли божией…
– Да, – перервал Милославский, – и надеюсь, что час воли божией придет скоро; но только не так, как ты думаешь, отец Еремей!
– Что это, боярин? Уж не о смертном ли часе ты говоришь? Оно правда, мы все под богом ходим, и ты едешь не на свадебный пир; да господь милостив! и если загадывать вперед, так лучше думать, что не по тебе станут служить панихиду, а ты сам отпоешь благодарственный молебен в Успенском соборе; и верно, когда по всему Кремлю под колокольный звон раздастся: «Тебе, бога, хвалим», ты будешь смотреть веселее теперешнего… А!.. Наливайко! – вскричал отец Еремей, увидя входящего казака. – Ты с троицкой дороги? Ну что?
– Слава богу! справились с злодеями, – отвечал казак. – Я приехал передовым.
– Много побито наших?
– Да с полсорока больше своих не дочтемся! Изменники дрались не на живот, а на смерть: все легли до единого. Правда, было за что и постоять! сундуков-то с добром… серебряной посуды возов с пять, а казны на тройке не увезешь! Наши молодцы нашли в одной телеге бочонок романеи да так-то на радости натянулись, что насилу на конях сидят. Бычура с пятидесятью человеками едет за мной следом, а другие с повозками поотстали.
– А где ваш старшина?
– Кто? Федор Хомяк?.. Не спрашивай о нем, батюшка… изменник!
– Что ты говоришь?
– Бычура из своих рук застрелил этого предателя. Вот как было все дело: их оставалось всего человек двадцать, не больше; но с ними был их боярин, и нечего сказать – молодец! Стали поперек просеки, которая идет направо в лес, да, слышь ты, вот так наших в лоск и кладут. Мы глядь туда, сюда! где Федька Хомяк? Не тут-то было! Чем бы ему, как старшине, ни пяди от нас, он вздумал спасать дочь изменника боярина и уж совсем было выпроводил ее из лесу, да бог попутал. Бычура, который был позади в засаде и шел к нам на подмогу, повстречался с ним в овраге; его, как предателя, застрелил, а боярышню вместе с ее сенной девушкою поворотил назад.
– Напрасно; пустили б их на все четыре стороны! На что вам они?
– Как на что, отец Еремей? Ведь она дочь изменника.
– Да разве мы воюем с бабами?
– Вестимо, не с бабами! да наши молодцы не то говорят… А вот никак они въехали в село.
Юрий едва дышал в продолжение этого разговора, он не смел остановиться на мысли, от которой вся кровь застывала в его жилах; но, несмотря на то, сердце его невольно сжималось от ужасного предчувствия. Вдруг пронесся по улице громкий гул; конский топот, песни, дикие восклицания, буйный свист огласили окрестность; толпа пьяных всадников, при радостных криках всего селения, промчалась вихрем по улице, спешилась у церковного погоста и окружила дом священника. Через минуту Бычура, в провожании человек двадцати окровавленных и покрытых пылью товарищей, вошел в избу.
– Поздравляем, батька! – сказал он не слишком почтительным голосом. – Знатная добыча! Нечего сказать, поработали мы сегодня на матушку святую Русь!
– Спасибо, детушки! – отвечал отец Еремей. – Жаль только, что и наших легло довольно!
– Зато уж и мы натешили свои душеньки! и завтра можем позабавиться. Мы захватили дочь одного из изменников бояр; так как прикажешь, сегодня, что ль, ее на виселицу иль завтра?.. Да вот она налицо.
Два мужика внесли закутанную с ног до головы в богатую фату девицу; за нею шла, заливаясь слезами, молодая сенная девушка.
– Несчастная! она умерла от страха! – сказал Юрий.
– Нет! – отвечал Бычура. – Она только в забытьи; дорогою ее раз пять схватывало. Пройдет!
– Варвары! злодеи! кровопийцы! – кричала, всхлипывая, сенная девушка. – Добьюсь ли я от вас хоть каплю воды?
– На, голубушка! – сказала попадья, подавая ковш воды. – Спрысни ее! Бедная боярышня! – примолвила она жалобным голосом. – Неужли-то вы над нею не взмилуетесь?
– Молчи, жена! – шепнул священник. – Утро вечера мудренее… Хорошо, ребята! пусть она здесь переночует, а завтра увидим.
Невольно повинуясь какому-то непреодолимому влечению, Юрий подошел к скамье, на которой лежала несчастная девица; в ту самую минуту как горничная, стараясь привести ее в чувство, распахнула фату, в коей она была закутана, Милославский бросил быстрый взгляд на бледное лицо несчастной… обмер, зашатался, хотел что-то вымолвить, но вместо слов невнятный, раздирающий сердце вопль вырвался из груди его.
Незнакомая девица открыла глаза и, посмотрев вокруг себя, устремила неподвижный и спокойный взор на Юрия.
– Ну вот! ведь я говорил, что очнется! – сказал хладнокровно Бычура.
– Анастасья!.. – вскричал, наконец, Милославский.
– Опять он!.. – шепнула Анастасья, закрыв рукою глаза свои. – Ах, я все еще сплю!
– О, если б это был сон!.. Анастасья!..
– Боже мой! Боже мой!.. так!.. я не сплю!.. это он!.. Но зачем мы здесь… вместе с этими палачами?.. Ах! я сейчас была в Москве… ты был один со мною… а теперь!..
– Ба, ба, ба!.. так ты ее знаешь, боярин? – спросил Бычура.
– Да, добрые люди! – подхватил Юрий. – Вы ошибаетесь, она не дочь Шалонского.
– Как так?
– И я так же думаю, ребята! – сказал священник. – Я видал боярина Шалонского: она вовсе на него не походит.
– Кой прах! – возразил один из шишей. – Что ж он, как я разрубил ему голову, примолвил, умирая, своим холопям: «Спасайте дочь мою!»
– Как? – вскричала Анастасья… – умирая?.. Кто умер?
– Боярин Кручина-Шалонский.
– Родитель мой?..
– Слышишь ли, батька, что она говорит? – сказал Бычура. – Что ж это, боярин, никак ты вздумал нас морочить?
– Но разве вы не видите? она не знает сама, что говорит… она без памяти!
– Нет, – сказала твердым голосом Анастасья, – я не отрекусь от отца моего. Да, злодеи! я дочь боярина Шалонского, и если для вас мало, что вы, как разбойники, погубили моего родителя, то умертвите и меня!..
Что мне радости на белом свете, когда я вижу среди убийц отца моего… Ах! умертвите меня!
– Анастасья! – вскричал Юрий. – Неужели ты можешь думать?..
– Нет, боярышня! – сказал священник. – Хоть и жаль, а надобно сказать правду: он не помогал нашим молодцам. Да что об этом толковать!.. До завтра, ребята, с богом! Вам, чай, пора отдохнуть… Ну, что ж вы переминаетесь? ступайте!
– Да вот, батька, – сказал Бычура, почесывая голову, – товарищи говорят, что сегодня, за один бы уж прием, повесить ее, так и дело в шляпе.
– Ах вы богоотступники! – вскричала сенная девушка. – Что вы затеваете? Иль вы думаете, что теперь уж некому вступиться за боярышню? Так знайте же, разбойники! что она помолвлена за гетмана Гонсевского, и если вы ее хоть волосом тронете, так он вас всех живых в землю закопает.
– Как!.. она невеста пана Гонсевского? – сказал Бычура.
– Что вы слушаете эту дуру! – перервал священник.
– Да, да, невеста пана Гонсевского! – продолжала кричать горничная. – И боже вас сохрани…
– Невеста Гонсевского! – повторила с яростным криком вся толпа. – На виселицу ее! Тащите, ребята! На виселицу!
– Остановитесь! – сказал отец Еремей, заслонив собою Анастасью. – Я приказываю вам…
Но неистовые крики заглушили слова священника.
Быстрее молнии роковая весть облетела все селение, в одну минуту изба наполнилась вооруженными людьми, весь церковный погост покрылся народом, и тысяча голосов, осыпая проклятиями Гонсевского, повторяли:
– На виселицу невесту еретика!
– Да выслушайте меня, детушки! – сказал священник, успев, наконец, восстановить тишину вокруг себя. – Разве я стою за нее? Я только говорю, чтоб вы подождали до завтра.
– Нет, батька! – возразил Бычура. – Выдавай нам ее сейчас, а то будет поздно: вишь, она опять обмерла!.. Где ей дожить до завтра!..
– Ребята! – вскричал Юрий. – Не берите на душу этого греха! Она невинна: отец насильно выдавал ее замуж.
– Все равно! – подхватил один пьяный мужик с всклоченной бородою и сверкающими глазами. – Этот жид Гонсевский посадил на кол моего брата… На виселицу ее!
– Он отрубил голову отцу моему! – вскричал другой.
– Расстрелял без суда пятерых наших товарищей, – примолвил третий.
– Тащите ее! – заревела вся толпа.
– Друзья мои! – продолжал Юрий, ломая в отчаянии свои руки. – Ради бога!.. если вы хотите кого-нибудь казнить, так умертвите меня.
– Что ты, боярин! разве мы разбойники? – сказал Бычура. – Ты православный и стоишь за наших, а она дочь предателя, еретичка и невеста злодея нашего Гонсевского.
– Так попытайтесь же взять ее! – вскричал Юрий, вынимая свою саблю.
– Безумный! – сказал священник, схватив его за руку. – Иль ты о двух головах?.. Слушайте, ребята, – продолжал он, – я присудил повесить за разбой Сеньку Зверева; вам всем его жаль – ну так и быть! не троньте эту девчонку, которая и так чуть жива, и я прощу вашего товарища.
– Нет, батька! – сказал Бычура. – Если Зверев виноват, то мы не стоим за него: делай с ним, что тебе угодно, а нам давай невесту пана Гонсевского.
– Да, да! – вскричала вся толпа. – Мы из твоей воли не выступаем, Еремей Афанасьевич; казни кого хочешь, а еретичку нам выдавай.
Юрий с ужасом заметил, что твердость священника поколебалась: в его смущенных взорах ясно изображались нерешимость и боязнь. Он видел, что распаленная вином и мщением буйная толпа начинала уже забывать все повиновение, и один грозный вид и всем известная исполинская его сила удерживали в некоторых границах главных зачинщиков, которые, понукая друг друга, не решались еще употребить насилия; но этот страх не мог продолжаться долго. Снаружи крик бешеного народа умножался ежеминутно, и несколько уже раз имя священника произносилось с ругательством и угрозами. Взоры его становились час от часу мрачнее; он поглядывал с состраданием то на Юрия, то на бесчувственную Анастасью, но вдруг лицо его прояснилось, он схватил за руку Милославского и сказал вполголоса:
– Готов ли ты пуститься на все, чтоб спасти эту несчастную?
– На все, отец Еремей!
– Если так – она спасена! Ну, детушки, – продолжал он, обращаясь к толпе, – видно, вас не переспоришь – быть по-вашему! Только не забудьте, ребята, что она такая же крещеная, как и мы: так нам грешно будет погубить ее душу. Возьмите ее бережненько да отнесите за мною в церковь, там она скорей очнется! дайте мне только время исповедать ее, приготовить к смерти, а там делайте что хотите.
– Ну вот, что дело то дело, батька! – сказал Бычура. – В этом с тобою никто спорить не станет. Ну-ка, ребята, пособите мне отнести ее в церковь… Да выходите же вон из избы!.. Эк они набились – не продерешься!.. Ступай-ка, отец Еремей, передом; ты скорей их поразодвинешь.
Минуты через две в избе не осталось никого, кроме Юрия, Алексея и сенной девушки, которая, заливаясь горькими слезами и вычитая все добродетели своей боярышни, вопила голосом. Милославский, несмотря на обещание отца Еремея, был также в ужасном положении; он ходил взад и вперед по избе, как человек, лишенный рассудка: попеременно то хватался за свою саблю, то, закрыв руками глаза, бросался в совершенном отчаянии на скамью и плакал, как ребенок. Алексей не смел утешать его и, наблюдая глубокое молчание, стоял неподвижно на одном месте. Не прошло пяти минут, как вдруг двери вполовину отворились и небольшого роста старичок, в котором по заглаженным назад волосам и длинной косе нетрудно было узнать приходского дьячка, махнул рукою Милославскому, и когда Алексей хотел идти за своим господином, то шепнул ему, чтоб он остался в избе. Юрий вышел с своим проводником на церковный погост и, пробираясь осторожно вдоль забора, подошел к паперти. Входя на лестницу, он оглянулся назад: вокруг всей ограды, подле пылающих костров, сидели кучами вооруженные люди; их неистовые восклицания, буйные разговоры, зверский хохот, с коим они указывали по временам на виселицу, вокруг которой разведены были также огни и толпился народ, – все это вместе составляло картину столь отвратительную, что Юрий невольно содрогнулся и поспешил вслед за дьячком войти во внутренность церкви. Перед иконостасом теплилась одна лампада, а в трапезе, подле налоя, во всем облачении стояли отец Еремей и трепещущая Анастасья.
– Скорей, Юрий Дмитрич, скорей! – сказал священник, идя к нему навстречу. – Становись подле твоей невесты!
– Моей невесты? – повторил с ужасом Юрий.
– Да, это один способ спасти ее! Слышишь ли, как беснуются эти буйные головы? Малейшее промедление будет стоить ей жизни. Еще раз спрашиваю тебя: хочешь ли спасти ее?
– Хочу! – сказал решительно Юрий, и отец Еремей, сняв с руки Анастасьи два золотых перстня, начал обряд венчанья. Юрий отвечал твердым голосом на вопросы священника, но смертная бледность покрывала лицо его; крупные слезы сверкали сквозь длинных ресниц потупленных глаз Анастасии; голос дрожал, но живой румянец пылал на щеках ее и горячая рука трепетала в ледяной и, как мрамор, бесчувственной руке Милославского.
Между тем нетерпение палачей несчастной Анастасии дошло до высочайшей степени.
– Что ж это! батька издевается, что ль, над нами? – вскричал, наконец, Бычура. – Где видано держать два часа на исповеди? Кабы нас, так он успел бы уже давно десятка два отправить. Послушайте, ребята! войдемте в церковь: при людях исповедывать нельзя, так ему придется нехотя кончить.
– А что ты думаешь?.. И впрямь!.. В церковь так в церковь! Пойдемте, ребята! – закричали товарищи Бычуры и вслед за ним хлынули всей толпой на паперть.
– Вот те раз! – сказал Бычура, остановясь в недоумении. – Ведь двери-то заперты…
– Так что ж? Ну-ка, товарищи, понапрем! – вскричал Матерой. – Авось с петлей соскочит!
Вдруг двери церковные с шумом отворились, и отец Еремей в полном облачении, устремив сверкающий взгляд на буйную толпу, предстал пред нее, как грозный ангел господень.
– Богоотступники! – воскликнул он громовым голосом. – Как дерзнули вы силою врываться в храм господа нашею?.. Чего хотите вы от служителя алтарей, нечестивые святотатцы?
– Отец Еремей! – отвечал Бычура робким голосом, посматривая на присмиревших своих товарищей. – Ведь ты сам обещал выдать нам невесту Гонсевского?
– И сдержал бы мое обещание, если б мог выдать вам невесту нашего злодея.
– А почему ж ты не можешь?
– Ее здесь нет!
– Как нет?.. Ребята! что ж это?..
– Да! здесь нет никого, кроме Юрия Дмитрича Милославского и законной его супруги, боярыни Милославской! Вот они! – прибавил священник, показывая на новобрачных, которые в венцах и держа друг друга за руку вышли на паперть и стали возле своего защитника. – Православные! – продолжал отец Еремей, не давая образумиться удивленной толпе. – Вы видите, они обвенчаны, а кого господь сочетал на небеси, тех на земле человек разлучить не может!
– Да! – вскричал Юрий. – Ничто не разлучит меня с моей супругою, и если вы жаждете упиться ее неповинной кровью, то умертвите и меня вместе с нею!
– Слышите ль, православные? Вы не можете погубить жены, не умертвя вместе с нею мужа, а я посмотрю, кто из вас осмелится поднять руку на друга моего, сподвижника князя Пожарского и сына знаменитого боярина Димитрия Юрьевича Милославского!
Глубокое молчание распространилось по всей толпе, которая беспрестанно увеличивалась от прибегающего со всех сторон народа.
– Как вы думаете, товарищи? – промолвил, наконец, Бычура.
– Не знаем-ста, как ты?.. – отвечал Наливайко.
– Вишь, батька-то стоит за них грудью! – прибавил Матерой.
На всех лицах заметно было какое-то сомнение и недоверчивость. Все молча поглядывали друг на друга, и в эту решительную минуту одно удачное слово могло усмирить все умы точно так же, как одно буйное восклицание превратить снова весь народ в безжалостных палачей. Уже несколько пьяных мужиков, с зверскими рожами, готовы были подать первый знак к убийству, но отец Еремей предупредил их намерение.
– Ну, что ж вы задумались, православные! – воскликнул он, принимая из рук дьячка кружку с вином. – За мной, детушки!.. Да здравствуют новобрачные!
Два или три голоса повторили поздравление, но вся толпа молчала.
– А чтоб было чем выпить за их здоровье, – продолжал отец Еремей, – боярин жалует вам бочку вина, ребята.
– Да здравствуют новобрачные! – закричали сотни голосов.
– А я, – прибавил священник, – на радости прощаю Зверева и выдаю из собственной моей казны по пяти алтын на человека.
– Ура! – заревел весь народ. – Многие лета боярыне Милославской!.. Да здравствуют молодые!
– Спасибо, ребята! Сейчас велю вам выкатить бочку вина, а завтра приходите за деньгами. Пойдем, боярин! – примолвил отец Еремей вполголоса. – Пока они будут пить и веселиться, нам зевать не должно… Я велел оседлать коней ваших и приготовить лошадей для твоей супруги и ее служительницы. Вас провожать будет Темрюк: он парень добрый и, верно, теперь во всем селе один-одинехонек не пьян; хотя он и крестился в нашу веру, а все еще придерживается своего басурманского обычая: вина не пьет.
Когда они вошли в избу и сенная девушка узнала, что ее госпожа не должна уже ничего опасаться, то совсем бы обезумела от радости, если б ей не объявили, что боярышня ее вышла замуж за Милославского. Это известие тотчас расхолодило ее восторг.
– Как! – вскричала она. – Анастасья Тимофеевна обвенчалась?.. Ну, хороша свадебка!.. Без помолвки, без девишника!.. Ах, боже мой!.. Что, если б Власьевна это узнала!.. Ах ты моя родимая! сиротка ты бесталанная! некому было тебя, горемычную, и повеличать перед свадьбою!..
– И, голубушка! – сказал священник. – До величанья ли им было! Ты, чай, слышала, какие ей на площади попевали свадебные песенки? Ну, боярин! – продолжал он, обращаясь к Юрию. – Куда ж ты теперь поедешь с своею супругою?.. Чай, в стане у князя Пожарского жить боярыням не пристало?.. Не худо, если б ты отвез на время свою супругу в Хотьковский монастырь; он близехонько отсюда, и, верно, игуменья не откажется дать приют боярыне Милославской.
– Она родная моя тетка, – сказала Анастасья.
– Так и думать нечего! в добрый час, боярин! У меня на душе будет легче, как вы уедете… Не то чтоб я боялся… однако ж все лучше… лукавый силен!.. Поезжайте с богом!
– Отец Еремей! – сказал Юрий. – Чем могу я возблагодарить тебя?..
– Не за что, Юрий Дмитрич! Я взыскан был милостию твоего покойного родителя и, служа его сыну, только что выплачиваю старый долг. Но вот, кажется, и Темрюк готов! Он проведет вас задами; хоть вас никто не посмеет остановить, однако ж лучше не ехать мимо церкви. Дай вам, господи, совет и любовь, во всем благое поспешение, несчетные годы и всякого счастия! Прощайте!
Молодые и служители их, проехав задними воротами на огороды, в провожании Темрюка, добрались потихоньку до околицы и выехали из села Кудинова.
VII
В этот самый день, в который, по необычайному стечению обстоятельств, Милославский нарушил обет, данный им накануне: посвятить остаток дней своих безбрачной жизни, часу в десятом ночи какой-то бедный прохожий, в изорванном сером кафтане, шел скорыми шагами вдоль большой московской дороги, проложенной в этом месте по скату глубокого оврага, поросшего густым лесом. Миновав длинный и узкий мост, перекинутый чрез тонкую пойму, прохожий вышел на небольшую поляну, пересекаемую поперечной дорогою. Ночь была лунная, и, несмотря на густую тень от деревьев, можно было без труда различать все предметы. Прохожий, достигнув перекрестка, остановился, вздрогнул и с ужасом отступил назад: освещенная полным месяцем, вся правая сторона поляны была покрыта кучами мертвых тел. Пораженный этим неожиданным зрелищем, прохожий стоял уже несколько минут неподвижно на одном месте, как вдруг слабый, едва слышный стон долетел до его слуха, и в то же время ему показалось, что среди большой груды тел, в том самом месте, где поперечная дорога выходила на поляну, кто-то приподнял с усилием голову и, вздохнув тяжело, опустил ее опять на землю. Подойдя поближе, прохожий увидел, что этот несчастный, покрытый глубокими язвами, один из всех сохранил еще признаки жизни. В то время как человеколюбивый незнакомец, желая, по-видимому, подать какую-нибудь помощь раненому, заботливо над ним наклонился, он снова сделал движение и повернулся лицом к стороне, освещенной луною.
– Правосудный боже! – вскричал прохожий, отступив назад и сложа крестообразно свои руки. – Это он! это тот надменный и сильный боярин!.. Итак, исполнилась мера долготерпения твоего, господи!.. Но он дышит… он жив еще… Ах! если б этот несчастный успел примириться с тобою! Но как привести его в чувство?.. – прибавил прохожий, посмотрев вокруг себя. – Изба полесовщика недалеко отсюда… попытаюсь…
Он приподнял раненого, в котором читатели, вероятно, узнали уже боярина Кручину-Шалонского, положил его на плеча и, сгибаясь под этой ношею, пошел вдоль поперечной дороги, в конце которой мелькал сквозь чащу деревьев едва заметный, тусклый огонек.
Почти в то же самое время Милославский и его супруга выехали из села Кудинова; впереди ехал провожатый их, татарин Темрюк, а позади Алексей и сенная девушка. Во все время, пока до их слуха долетали еще громкие крики и веселые песни, Анастасья наблюдала глубокое молчание и, вздрагивая при каждом новом радостном восклицании, которое доносил до них отголосок, с трепетом прижималась к Милославскому. Но когда вокруг их все утихло и мало-помалу стало потухать бледное зарево от пылающих костров, вокруг которых пировала буйная толпа ее палачей, она, казалось, стала дышать свободнее и, наконец, сказала робким, исполненным прелести голосом:
– Ты молчишь, Юрий Дмитрия!.. Промолви хотя словечко… Ах! одно твое слово ласковое, один твой привет могут уменьшить скорбь несчастной сироты.
– Анастасья! – отвечал тихим голосом Юрий. – Я сам сирота, и мне ли, горькому, бесталанному, утешать тебя в несчастии, когда для самого меня нет утешенья на белом свете?.. Ах! не на радость соединил тебя господь со мною!
– Не на радость!.. Нет, Юрий Дмитрич, я не хочу гневить бога: с тобой и горе мне будет радостью. Ты не знаешь и не узнал бы никогда, если б не был моим супругом, что я давным-давно люблю тебя. Во сне и наяву, никогда и нигде я не расставалась с тобою… ты был всегда моим суженым. Когда злодейка кручина томила мое сердце, я вспоминала о тебе, и твой образ, как ангел-утешитель, проливал отраду в мою душу. Теперь ты мой, и если ты также меня любишь…
– Люблю ли я тебя!.. – вскричал Милославский. – Тебя!.. Ах, Анастасья! помнишь ли, в Москве, у Спаса на Бору?.. Я не знал, кто ты, когда в первый раз тебя увидел, но сердце мое забилось от радости… Мне казалось, что я встретился с тобою после долгой разлуки, что я давно тебя знаю… что я не мог не знать тебя! Несчастный! я забыл все… забыл, что стою в храме божием… Недоконченная молитва замерла на устах моих… Нет! я согрешил еще более: в безумии моем я молился не на лики святых угодников… Анастасья!.. я видел одну тебя! Так я прогневил господа и должен сносить без ропота горькую мою участь; но ты молилась, Анастасья! в глазах твоих, устремленных на святые иконы, сияла благодать божия… я видел ясно: никакие земные помыслы не омрачали души твоей… тебя не тяготит ужасный грех поруганной святыни!.. За что ж господь наказал нас обоих?
– Не греши, Юрий Дмитрич! К чему этот безрассудный ропот? Всевышний посетил нас скорбию, мы оба сироты; но разве он до конца нас покинул? И должны ли мы искушать его милосердие в ту самую минуту, когда он, сжалясь над нами, соединил нас навеки?
– Навеки! – повторил вполголоса Юрий. – Ах, Анастасья!..
– Да, мой милый, мой сердечный друг! одна смерть может разлучить нас… Дай мне свою руку, радость дней моих, ненаглядный мой!.. Не правда ли, ты никогда не покинешь твоей Анастасии… никогда?.. Чувствуешь ли ты, – продолжала она голосом, исполненным неизъяснимой нежности, прижимая руку Юрия к груди своей, – чувствуешь ли, как бьется мое сердце?.. Оно живет тобою! И если когда-нибудь ты перестанешь любить меня…
– Никогда! никогда! – прошептал Юрий, покрывая пламенными поцелуями ее трепещущую руку.
– Бесценный мой!.. избавитель мой!.. О, как снова мне жизнь становится мила!.. Она твой дар, мой возлюбленный! она вся принадлежит тебе!.. Ах! повтори еще раз, что ты меня любишь!
– Более всего на свете! – вскричал Милославский, забыв на минуту весь ужас своего положения.
– И ты можешь роптать на промысл божий?.. и я смею называть себя сиротою, когда ты супруг мой?..
Как пробужденный от глубокого сна, Юрий вздрогнул.
– Твой супруг!.. – повторил он, отдернув с ужасом свою руку.
– Что с тобою, мой милый друг? – спросила робким голосом Анастасья.
Юрий не отвечал ни слова.
– Ты молчишь?.. – продолжала она. – Ах! говори, Юрий Дмитрич, скажи, чем могла я прогневить тебя?
– Анастасья, – отвечал, наконец, Милославский, – я не ропщу… я покоряюсь воле всевышнего; но мы несчастливы, мой друг, очень несчастливы!
– Нет, пока ты называешь меня своей супругою… пока я принадлежу тебе…
– Но знаешь ли ты, сирота злополучная?.. Так! к чему откладывать!.. для чего томить тебя медленной смертью!.. Анастасья!.. я не супруг твой!
– Ты не супруг мой?.. Но не ты ли сейчас обошел со мною налой церковный?.. Не с тобою ли я поменялась этим перстнем?..
– Чтоб спасти тебя, я должен был это сделать; но я не могу быть ничьим супругом.
– Не можешь?
– Да, Анастасья! Вчера, над гробом преподобного Сергия, я клялся оставить свет и произнес обет: по окончании брани возложить на себя одежду инока.
– Милосердный боже!.. Так для чего ж, жестокий, ты не дал мне умереть?
– Выслушай меня, Анастасья, и не осуждай меня!
Юрий стал рассказывать, как он любил ее, не зная, кто она, как несчастный случай открыл ему, что его незнакомка – дочь боярина Кручины; как он, потеряв всю надежду быть ее супругом и связанный присягою, которая препятствовала ему восстать противу врагов отечества, решился отказаться от света; как произнес обет иночества и, повинуясь воле своего наставника, Авраамия Палицына, отправился из Троицкой лавры сражаться под стенами Москвы за веру православную; наконец, каким образом он попал в село Кудиново и для чего должен был назвать ее своей супругою. Анастасья с необыкновенной твердостью выслушала весь рассказ его; но когда он кончил, она завернулась в свою фату, зарыдала, и горькие слезы рекой полились из глаз ее.
Юрий молча продолжал ехать подле нее; несколько раз он хотел возобновить разговор, но слова замирали на устах его; и что мог бы он сказать в утешение несчастной, горькой сироте?
Вдали мелькнул огонек; Темрюк остановил свою лошадь и, обращаясь к Юрию, сказал:
– Видишь, боярин?.. вон там, за этими деревьями?.. Это Хотьков монастырь. Чай, теперь вы и без проводника доедете; дорога прямая; а мне пора и отдохнуть. Вот другие сутки, как я глаз не сводил.
Юрий отпустил своего провожатого, и через четверть часа наши путешественники доехали до монастырских ворот. Не скоро достучались они привратника; наконец, калитка отворилась, и монастырский слуга, протирая заспанные глаза, спросил сердитым голосом:
– Кто тут?.. что за полуночники такие?.. – но, узнав Анастасью, вскрикнул от радости и побежал доложить о ней игуменье. Путешественники сошли с лошадей.
Анастасья молчала, Юрий также; но, когда через несколько минут ворота отворились и надобно было расставаться, вся твердость их исчезла. Анастасья, рыдая, упала на грудь Милославского.
– Прости, мой избавитель! – говорила она, всхлипывая, – прости навсегда!
– Навсегда!.. Нет, Анастасья! – вскрикнул Юрий, заключив ее в свои объятия, – когда мы оба проснемся от тяжкого земного сна для жизни бесконечной, тогда мы увидимся опять с тобою!.. И там, где нет ни плача, ни воздыханий, там – о милый друг! я снова назову тебя моей супругою!
Анастасья вырвалась из его объятий. Тяжелые во рота заскрипели, застучал железный запор, привратник захлопнул калитку, и Юрий, вскочив на коня, помчался вихрем от стен обители, в которой, как в безмолвной могиле, он похоронил навсегда все земное свое счастье.
Оставим на несколько времени Юрия, который спешил в крови врагов или в своей собственной утопить мучительную тоску свою, и перенесемся в хижину, где, осыпанный проклятиями, заклейменный позорным именем предателя, некогда сильный и знаменитый боярин, но теперь покинутый целым миром, бесприютный страдалец боролся со смертию. До половины вросшая в землю, освещенная одним восковым огарком, который теплился перед иконами, лачужка полесовщика была в эту минуту последним земным жилищем богатого боярина Кручины, привыкшего жить с царскою пышностию. Несколько снопов соломы, брошенных на скамью, заменяли роскошное пуховое ложе, а вместо толпы покорных рабов един бедный, покрытый изорванным рубищем нищий сидел у его изголовья. Испустя тяжелый вздох, умирающий очнулся от своего беспамятства и открыл глаза; несколько минут его тусклые, безжизненные взоры оставались неподвижными; наконец, мало-помалу он стал различать окружавшие его предметы. С большим усилием он поднял руку и молча поднес ее к запекшимся кровию устам своим. Нищий подал ему ковш с водою, и боярин, утолив свою жажду, промолвил невнятным голосом:
– Где я?
– В избе, у доброго человека, – отвечал нищий.
– Кто говорит со мною?
– Это я, Федорыч: Митя.
– Где мои слуги?
– Твои слуги!.. Бедняжка!.. Ты всех их отпустил на волю, Федорыч!
– Где дочь моя?
– Как?.. так и она, сердечная, была с тобою?.. Голубушка моя!.. Ну, Федорыч, пришла беда – растворяй ворота!
– Ах! я начинаю вспоминать… убийцы!.. кровь!.. Так… они умертвили ее!.. злодеи! А я жив еще!.. Зачем!.. для чего?
– Как зачем, Федорыч?.. Подумай-ка хорошенько. Ведь благочестивую дочь твою врасплох бы не застали: она всегда, как чистая голубица, готова была принять жениха своего. А что б ты стал делать, горемычный, если бы господь не умилосердился над тобою и не дал тебе времени принарядиться да раззнакомиться с твоими приятелями? Оглянись-ка, Федорыч! посмотри, сколько их стоит за тобою! и гордость, и злость, и неправда, и убийство, и всякое нечестие… Эй, Федорыч! не губи себя, голубчик! отрекись от этих друзей, не бери их с собою! Ведь двери-то на небеса небольшие – с такой оравой туда не пролезешь!
Бледные щеки Шалонского вспыхнули; казалось, все силы его возвратились: он приподнялся до половины и, устремив дикий взор на Митю, сказал твердым голосом:
– О чем ты говоришь, юродивый? чего ты от меня хочешь?.. Покаяния?.. Нет!.. поздно!.. Если все правда, чему я верил в ребячестве, то приговор мой давно уже произнесен!
– И, Федорыч, Федорыч! Кто это тебе сказал?
– Да, если из двух дорог я выбрал одну и шел по ней всю жизнь мою, то могу ли перед смертью возвратиться опять на перепутье?
– Можешь ли? – перервал Митя, и глаза его заблистали необыкновенным огнем, и кроткое величие праведника изобразилось на челе его, выражавшем до того одно простодушие и смирение. – Можешь ли? – повторил он вдохновенным голосом. – Ничтожное, бренное создание! Тебе ли полагать пределы милосердию божию? Тебе ли измерять неизмеримую любовь творца к его созданию?.. Так! с юности твоей преданный лукавству и нечестию, упитанный неповинной кровию, ты шел путем беззакония, дела твои вопиют на небеса; но хуже ли ты разбойника, который, умирая, сказал: «Помяни мя, господи! егда приидеши во царствии твоем!» И едва слова сии излетели из уст убийцы – и уже имя его было начертано на небеси! Едва, омытая кровию спасителя, душа его воспарила в горние селения – и уже навстречу ей спешил сам искупитель! О боярин! возведи скорбящий взор к отцу нашему, пожелай только быть вместе с ним, и он уже с тобою, и он уже в душе твоей!..
Как истомленный жаждою в знойный день усталый путник глотает с жадностию каждую каплю пролившего на главу его благотворного дождя, так слушал умирающий исполненные христианской любви слова своего утешителя. Закоснелое в преступлениях сердце боярина Кручины забилось раскаянием; с каждым новым словом юродивого изменялся вид его, и, наконец, на бледном, полумертвом лице изобразилась последняя ужасная борьба порока, ожесточения и сильных страстей – с душою, проникнутою первым лучом небесной благодати.
– Как! – сказал он после продолжительного молчания, – ты, которого я выгнал с позором из дома своего… над кем ругался, кого осыпал проклятиями… кто должен меня ненавидеть… желать моей вечной погибели…
– Твоей погибели!.. Ах! ты не знаешь… ты не вкусил еще всей сладости любви христианской, боярин… Твоей погибели!.. Пусть господь возьмет остаток дней моих за одно мгновение твоего душевного покаяния! Но что я говорю… бессмысленный! Нужна ли эта ничтожная жертва, дабы подвигнуть к милосердию того, кто есть беспредельная любовь… которая наполняет уже твою душу, боярин?.. Так я вижу благодать всевышнего в твоих потухающих взорах!.. Ты плачешь?.. Плачь, боярин, плачь! Эти слезы… о! приветствуй сих посланников небесных!..
Кто может описать чувство умирающего грешника, когда перст божий коснулся души его? Он видел всю мерзость прошедших дел своих, возгнушался самим собою, ненавидел себя; но не отчаяние, а надежда и любовь наполняли его душу.
– Милосердный боже! – воскликнул он, проливая источники слез, – для чего я не могу продлить моей позорной жизни?.. Для чего в болезнях, страданиях, покрытый язвами, от всех отверженный, всеми презираемый, я не могу изгладить продолжительным покаянием хотя сотую часть моих тяжких беззаконий!..
– Их нет уже, боярин! – сказал с восторгом Митя. – Твои слезы смыли их… первые слезы кающегося грешника… О! какое веселие, какое торжество готовится на небесах, когда я, окаянный, недостойный грешник, скрывающий гордость и тщету даже под сим бедным рубищем, не нахожу слов для изъяснения моей радости!
Ослабевши от сильного душевного потрясения, боярин Кручина опустился на свое ложе; предвестница близкой смерти, лихорадочная дрожь пробежала по всем его членам…
– Митя, Митя! – сказал он прерывающимся голосом, – конец мой близок… я изнемогаю!.. Если дочь моя не погибла, сыщи ее… отнеси ей мое грешное благословение… Я чувствую, светильник жизни моей угасает… Ах, если б я мог как православный, умереть смертью христианина!.. Если б господь сподобил меня… Нет, нет!.. Достоин ли убийца и злодей прикоснуться нечистыми устами… О, ангел-утешитель мой! Митя!.. молись о кающемся грешнике!
Вдруг кто-то постучался у окна.
– Кто тут? – спросил Митя.
– Священник из села Никольского, – отвечал незнакомый голос.
– Священник! – вскричал юродивый.
– Да, добрый человек! Я еду с требою к умирающему, да заплутался; не выведешь ли меня на большую дорогу?
– Слышишь ли, Тимофей Федорович? Сомневайся еще в милосердии божием! Войди, батюшка, здесь также есть умирающий.
– Митя! – вскричал Кручина, – приподыми меня! пособи мне встать… Нет!.. оставь меня… я чувствую в себе довольно силы…
Боярин приподнялся, лицо его покрылось живым румянцем, его жадные взоры, устремленные на дверь хижины, горели нетерпением… Священник вошел, и чрез несколько минут на оживившемся лице примиренного с небесами изобразилось кроткое веселие и спокойствие праведника: господь допустил его произнести молитву: «Днесь, сыне божий, причастника мя приими!»
Он соединился с своим искупителем; и когда глаза его закрылись навеки, Митя, почтив прах его последним целованием, сказал тихим голосом:
– Прости, Тимофей Федорович! веселись в горних селениях, избранный для прославления неизреченного милосердия божия! Ты жил как злодей и кончил жизнь как праведник… Блаженна часть твоя: над тобой совершилась великая тайна искупления!..
VIII
В первый день решительной битвы русских с гетманом Хоткевичем, то есть 22 августа 1612 года, около полудня, в бывшей Стрелецкой слободе, где ныне Замоскворечье, близ самого Крымского брода, стояли дружины князя Трубецкого, составленные по большей части из буйных казаков, пришедших к Москве не для защиты отечества, но для грабежа и добычи (15). С первого взгляда на эти разбросанные без всякого порядка по берегу Москвы-реки толпы пеших и конных ратников можно было догадаться, что дух мятежа и своевольства царствовал в рядах сего необузданного и едва знающего подчиненность войска. Во многих местах раздавались песни и громкие восклицания; и даже шагах в двадцати от ставки главного своего воеводы, князя Трубецкого, человек пятьдесят казаков, расположась покойно вокруг пылающего костра и попивая вкруговую, шумели и кричали во все горло, – осыпая ругательствами нижегородское ополчение, пришедшее с князем Пожарским. При появлении старшин никто не трогался с места: ни один казак не приподымал своей шапки, и даже нередко грубые насмешки и обидные прозвания раздавались вслед за проходящими начальниками, которых равнодушие доказывало, что они давно уже привыкли к такому своевольству. В некотором расстоянии от этого войска стояли особо человек пятьсот всадников, в числе которых заметны были также казаки; но порядок и тишина, ими наблюдаемая, и приметное уважение к старшинам, которые находились при своих местах в беспрестанной готовности к сражению, – все удостоверяло, что этот небольшой отряд не принадлежал к войску князя Трубецкого. Впереди, на небольшом земляном возвышении, с которого можно было следовать взором за изгибами Москвы-реки, обтекающей Воробьевы горы, стоял начальник этой отдельной дружины. Казалось, все внимание его было обращено к стороне Ново-Девичьего монастыря, вокруг которого и по всему пространству Лужников рассыпаны были палатки и шатры многочисленной рати польской. Шагах в десяти позади его разговаривали вполголоса давнишние знакомцы наши: Кирша и Алексей. Первый смотрел также с большим вниманием в ту строну, где расположено было неприятельское войско.
– Ну что? – спросил Алексей. – Выходят ли они из лагеря?
– Кажется, нет, – отвечал Кирша. – Видно, еще князь Пожарский не двинулся от Арбатских ворот.
– А скажи, пожалуйста, любезный! не знаешь ли, зачем он прислал вас сюда с моим господином?
– Князь Трубецкой просил у него подмоги, чтоб ударить в поляков, когда начнется сражение.
– Да разве у него мало войска? Посмотри-ка, видимо-невидимо! Одних казаков почитай столько же, сколько нас всех у князя Пожарского – и пеших и конных.
– Эх, брат Алексей! и много, да черт ли в них! Вишь, какая вольница! Мы с часу на час ждем драки, а они себе и в ус не дуют! Дал бы этим озорникам в воеводы пана Лисовского, так он бы их повернул по-своему; у него, бывало, расправа короткая: ладно так ладно, а не так, так пулю в лоб!.. Эва! слышишь, как покрикивают… подле самого шатра княжеского, – как будто б им черт не брат! Небось у Лисовского не стали б этак горланить. Бывало, как закрутит усы да гаркнет, так во всем лагере услышишь, как муха пролетит… Постой-ка, брат… постой! Никак поляки зашевелились… Чу! пушка… другая!.. пошла потеха!
Вся окрестность дрогнула. Со стороны Арбатских ворот, как отдаленный гром, пронесся глухой рокот по воздуху: двинулись пехотные дружины нижегородские, промчалась конница, бой закипел, и через несколько минут вся окружность Ново-Девичьего монастыря покрылась густыми облаками дыма.
– Эх! если б поскорей дошла до нас очередь! – вскричал Кирша, – так руки и зудят!..
– Эка трескотня!.. – сказал Алексей. – Ух! как грянули из пушек!.. Да это никак с нашей стороны?
– С нашей, с нашей!.. – перервал Кирша. – Вот так!.. знатно, ребята, знатно! Катай их, еретиков!
Весь отряд под начальством Милославского, которого, вероятно, читатели наши узнали уже в начальнике отдельного отряда, горел нетерпением вступить в бой с неприятелем; но в дружинах князя Трубецкого не заметно было никакого движения. Он сам не показывался из своей ставки; и хотя сражение на Девичьем поле продолжалось уже более двух часов и ежеминутно становилось жарче, но во всем войске князя Трубецкого не приметно было никаких приготовлений к бою; все оставалось по-прежнему: одни отдыхали, другие веселились, и только несколько сот казаков, взобравшись из одного любопытства на кровли домов, смотрели, как на потешное зрелище, на кровопролитный и отчаянный бой, от последствий которого зависела участь не только Москвы, но, может быть, и всего царства Русского.
Едва скрывая свое негодование, Кирша подошел к одной толпе, которая стояла далее других от шатра главного воеводы.
– Что, товарищи, – сказал он, – не пора ли и вам взнуздать коней?
– Зачем? – спросил один казак.
– Как зачем? Чай, нашим становится жутко; вот уж часа три, как они бьются с поляками.
– Так что ж?.. На здоровье! Пусть себе забавляются! – перервал другой казак. – Богаты пришли из Ярославля, отстоятся и сами от гетмана!
– Спесивы больно! – подхватил один урядник. – Не пошли к нам в таборы, так пусть теперь одни и справляются с ляхами!
– Они не хотели с нами знаться, – примолвил первый казак, – так и мы их знать не хотим. Ну-ка, Терешка, запевай плясовую!
Полупьяный казак затянул песню, и вся толпа гаркнула вслед за ним хором.
Милославский подошел к ставке князя Трубецкого.
– Не пора ли нам? – сказал он казацкому старшине, который стоял у дверей шатра.
– Как придет время, так вам прикажут, – отвечал хладнокровно старшина.
– Нельзя ли мне поговорить с князем Димитрием Тимофеевичем?
– Нет, он никого не велел к себе пускать.
Вдруг подскакал к шатру покрытый пылью и окровавленный всадник; спрыгнув с коня, он спросил торопливо:
– Где князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой?
– На что тебе? – спросил старшина.
– Я прислан от князя Пожарского. Поляки начинают нас одолевать.
– Неужто в самом деле? – перервал с насмешливой улыбкою старшина.
– К ним прибывает беспрестанно свежее войско, а мы все одни; и если б князь Димитрий Михайлович не приказал всем конным спешиться, то нас давно бы сбили с поля. Он просит подмоги.
– И, полно, брат, одни отгрызетесь! Да постой, куда ты?
– К вашему воеводе.
– Не велено пускать. С богом, убирайся-ка откуда приехал!
– Что ж мне сказать князю Димитрию Михайловичу?
– Что мы желаем ему справиться с поляками, а сами будем драться тогда, когда до нас дойдет очередь.
– Нет! – вскричал Милославский. – Это уже превосходит все терпение! Если вы не боитесь бога и хотите из личной вражды и злобы губить наше отечество, то я с моей дружиною не останусь здесь.
– Потише, молодец, не горячись! Ты здесь не старший воевода. И как бы ты смел без приказа князя Димитрия Тимофеевича идти на бой?
– А вот увидишь! – сказал Милославский, подходя к своему отряду.
– На коня, товарищи!
– Именем главного воеводы, князя Трубецкого, приказываю тебе не трогаться с места!.. – сказал старшина, подбежав к Юрию, который садился на лошадь.
– Я служу не ему, а отечеству! – отвечал Юрий, выезжая вперед.
– Стойте! – вскричал старшина. – А не то я велю остановить вас силою.
– Попытайся, – сказал Юрий, взглянув с презрением на старшину. – Живей, ребята! – продолжал он, – сабли вон!.. с богом!.. вперед!..
В полминуты отряд Милославского переправился через Москву-реку и при громких восклицаниях: «Умрем за веру православную и святую Русь!» – помчался на место сражения.
Из всей дружины Милославского остался на другой стороне реки один только казак, и читатели едва ли отгадают, что этот предатель был наш старинный знакомец Кирша. Но честный и храбрый запорожец не для измены отстал от своих. Он заметил, что решительный поступок Милославского сильно подействовал на многих казаков из войска князя Трубецкого; некоторые даже вслух кричали, что стыдно пред людьми и грешно перед богом выдавать своих единоверцев. Четверо атаманов казацких: Филат Межаков, Афанасий Коломна, Дружина Романов и Марко Козлов, казалось, более других досадовали на свое бездействие, и когда Кирша подошел к ним, то Афанасий Коломна сказал ему с негодованием:
– Не совестно ли тебе отставать от своих?
– Нет, господа старшины… – отвечал Кирша, – мне совестно, да только не за себя, а за вас.
– Ну тебе ли говорить! – вскричал Козлов. – Беглец!.. покинул своих товарищей!..
– Да я и других казаков уговаривал здесь остаться. Как нам глаза показать перед войском князя Пожарского? Ведь мы такие же казаки, как вы, так не радостно будет слушать, как православные станут при нас всех казаков называть изменниками.
– Изменниками! – вскричал Дружина Романов.
– А как же? – продолжал Кирша. – Разве мы не изменники? Наши братья, такие же русские, как мы, льют кровь свою, а мы здесь стоим поджавши руки… По мне уж честнее быть заодно с ляхами! а то что мы? ни то ни се – хуже баб! Те хоть бога молят за своих, а мы что? Эх, товарищи, видит бог, мы этого сраму век не переживем!
– А что вы думаете? ведь он правду говорит, ребята! – сказал Межаков. – Где слыхано выдавать своих!
– Вся беда оттого, что наши воеводы повздорили между собою, – прибавил Дружина Романов.
– Да пусть их ссорятся! – закричал Марко Козлов. – Нам какое до этого дело? Кто как хочет, а я с моим полком иду. Гей, батуринские, на коня!
– И мы также идем! – вскричали Коломна, Межаков и Романов.
Казаки столпились вокруг своих начальников; но большая часть из них явно показывала свою ненависть к нижегородцам, и многие решительно объявляли, что не станут драться с гетманом. Атаманы, готовые идти на помощь князю Пожарскому, начинали уже колебаться, как вдруг один из казаков, который с кровли высокой избы смотрел на сражение, закричал:
– Ай да нижегородцы!.. попятили ляхов!.. Глядите-ка! Поляки бегут.
– Бегут!.. – вскричал Кирша. – Так вам и делать нечего. Прощайте, ребята! я один поеду. Ну, знатная же будет пожива нижегородцам! Говорят, в польском стане золота и серебра хоть возами вози!
– Что ж мы зеваем, ребята? – заговорили меж собой казаки. – На коней!..
– На коней! – повторили тысячи голосов.
– Живей, добрые молодцы! живей! садись! – закричали атаманы.
Из ставки начальника прибежал было с приказаниями завоеводчик[68]; но атаманы отвечали в один голос: «Не слушаемся! идем помогать нижегородцам! Ради нелюбви вашей Московскому государству и ратным людям пагуба становится». И, не слушая угроз присланного чиновника, переправились с своими казаками за Москву-реку и поскакали в провожании Кирши на Девичье поле, где несколько уже минут кровопролитный бой кипел сильнее прежнего.
Между тем отряд Юрия, проехав берегом Москвы-реки, ударил сбоку на неприятеля, который начинал уже быстро подвигаться вперед, несмотря на отчаянное сопротивление князя Пожарского. Как ангел-истребитель, летел перед своим отрядом Юрий Милославский; в несколько минут он смял, втоптал в реку, рассеял совершенно первый конный полк, который встретил его дружину позади Ново-Девичьего монастыря: пролить всю кровь за отечество, не выйти живому из сражения – вот все, чего желал этот несчастный юноша.
Врываясь, как бурный поток, в самые густые толпы польских гусар, он бросался на их мечи, устилал свой путь мертвыми телами и, невидимо хранимый десницею всевышнего, оставался невредим. Отборная его дружина, почти вся составленная из стрельцов московских, не уступала ему в мужестве. Опрокинув еще несколько пехотных региментов, они врезались в самую средину сторожевых полков неприятельских. От орлиного взора князя Пожарского не укрылось замешательство, в какое приведены были поляки от этого неожиданного нападения; он двинул вперед все войско… Поляки дрогнули, побежали; но, соединясь с сторожевыми полками своими, возобновили снова сражение на самом берегу Москвы-реки. Положение отряда Милославского, из которого не оставалось уже и третьей доли, становилось час от часу опаснее: окруженный со всех сторон, стиснутый между многочисленных полков неприятельских, он продолжал биться с ожесточением; несколько раз пробивался грудью вперед; наконец, свежая, еще не бывшая в деле неприятельская конница втеснилась в сжатые ряды этой горсти бесстрашных воинов, разорвала их, – и каждый стрелец должен был драться поодиночке с неприятелем, в десять раз его сильнейшим. Этот неравный бой не мог продолжаться долго. В ту самую минуту как Милославский, подле которого бились с отчаянием Алексей и человек пять стрельцов, упал без чувств от сильного сабельного удара, раздался дикий крик казаков, которые, под командою атаманов, подоспели, наконец, на помощь к Пожарскому. В одно мгновение опрокинутые поляки рассыпались по полю, и Кирша, с сотнею удалых наездников, гоня перед собой бегущего неприятеля, очутился подле того места, где, плавая в крови своей и окруженный трупами врагов, лежал без чувств Юрий Милославский. Запорожец соскочил с коня, при помощи Алексея положил Юрия на лошадь, вывез из тесноты и, доехав до Арбатских ворот, внес в один мещанский дом, который менее других показался ему разоренным. Оставив с ним Алексея, Кирша возвратился на поле сражения, но оно было уже совсем очищено от неприятеля. Пришедшие на помощь казаки князя Трубецкого решили участь этого дня: их неожиданное нападение расстроило поляков, и гетман Хоткевич, отступя в беспорядке за Москву-реку, остановился у Поклонной горы.
Несмотря на претерпенное неприятелем поражение, он успел ночью на 23-число, при помощи изменника Григорья Орлова, провезти в Кремль шестьсот человек гайдуков. Усиленный этим отрядом, крепостный гарнизон сделал чем свет вылазку и взял за Москвой-рекой небольшой окоп близ церкви св. Георгия. Желая воспользоваться этой удачею, гетман Хоткевич, зайдя со стороны Донского монастыря, напал на конницу князя Трубецкого, которая, не выдержав первого натиска, дала хребет и смешала в бегстве своем конные полки князя Пожарского. Пехотные дружины нижегородские остановили однако же стремление неприятеля; упорный бой продолжался до шестого часа пополудни.
Тщетно Пожарский требовал помощи от князя Трубецкого: он отступил в свои укрепленные таборы близ Крымского брода, не принимал никакого участия в сражении, и нижегородское ополчение должно было выдерживать одно весь натиск многочисленного неприятеля.
Наконец, непреодолимое мужество этих верных сынов России восторжествовало над множеством врагов: гетман принужден был отступить. Казаки Трубецкого, увидя бегущего неприятеля, присоединились было сначала к ополчению князя Пожарского; но в то самое время, когда решительная победа готова была уже увенчать усилия русского войска, казаки снова отступили и, осыпая ругательствами нижегородцев, побежали назад в свой укрепленный лагерь. Это предательство изменило совершенно вид сражения: поляки ободрились, русские дрогнули, и князь Пожарский, гнавший уже неприятеля, увидел с ужасом, что войско его, утомленное беспрерывным боем и расстроенное изменою казаков, едва удерживало за собою поле сражения. Предвестники победы, радостные крики раздавались в рядах вражеских; отчаяние и робость изображались на усталых лицах воинов нижегородских… Гибель войска русского, а вместе с сим и падение России казались уже неизбежными.
В эту решительную минуту, вдохновенный свыше, знаменитый Авраамий Палицын прибежал в стан казаков князя Трубецкого, умоляя их со слезами подать помощь погибающим братьям. Исполненные пламенной любви к отечеству слова его потрясли, наконец, закоснелые в буйстве и нечестии сердца этих грубых воинов. Обещая одним нетленную награду на небесах, предлагая другим всю казну монастырские, он заклинал всех именем божиим не выдавать отечества и спешить на помощь к князю Пожарскому. Увлеченные сильным чувством и неизъяснимым красноречием этого бессмертного старца, все казаки восстали, двинулись вперед и, повторяя имя святого Сергия, грудью ударили на поляков. В то же время гражданин Минин, с тремя отборными дворянскими дружинами, обойдя в тыл сильному неприятельскому отряду, расположенному за Москвой-рекой, истребил его совершенно. Смятение и, наконец, бегство неприятеля сделалось всеобщим. Укрепленный лагерь, артиллерия, весь обоз достались победителям, и гетман Хоткевич, потеряв почти половину своего войска, на другой день поутру, то есть 25 числа августа, бежал со стыдом от Москвы.
Оставшиеся поляки заперлись в Кремле и вскоре по взятии нашими войсками Китай-города, окруженные со всех сторон, должны бы были сдаться, если б несогласия между главными начальниками и явная нелюбовь одного войска к другому не мешали осаждающим действовать общими силами. Уже близко двух месяцев продолжалась осада Кремля; наконец, поляки, изнуренные голодом и доведенные, по словам летописцев, до ужасной необходимости пожирать друг друга, – решились сдаться военнопленными.
Но нам пора уже возвратиться к герою нашей повести. По взятии Китай-города и окружающих его предместий раненый Милославский переехал, по приглашению князя Пожарского, в собственный дом его, на Лубянку[69]. Юрий начинал уже оправляться, но он чувствовал себя столь слабым, что не смел еще выходить из дому. В пылу сражения и потом во время тяжкой болезни он, казалось, забыл о своем положении; но когда телесная болезнь его миновалась, то сердечный недуг с новой силою овладел его душою. Иногда посещал его князь Пожарский, изредка Авраамий Палицын и князь Черкасский; но безотлучно находились при нем добрый ему служитель и верный Кирша, которому удавалось иногда веселыми своими рассказами рассеивать на несколько минут мрачные мысли и глубокое уныние, овладевшие душою несчастного юноши.
Одним вечером Кирша, войдя поспешно в комнату больного, закричал:
– Добрые вести, Юрий Дмитрия, добрые вести!
– Какие вести? – спросил Милославский.
– Завтра мы будем петь благодарственный молебен в Успенском соборе.
– Поэтому поляки сдаются?
– Видно, что так. А надобно им честь отдать: постояли за себя! Кабы им было что перекусить, не стали бы просить милости, да голодом-то мы их доехали!
– И ты точно знаешь, что мы завтра входим в Кремль?
– Говорят так. Поляки, как слышно, просят только о том, чтоб им сдаться нашему воеводе, князю Пожарскому, а не другому кому. Видно, и они уж знают, каковы казаки Трубецкого. Посмотрел бы ты, Юрий Дмитрич, когда выпустили из Кремля на нашу сторону боярских жен, которые были в полону у поляков, какой бунт подняли эти разбойники! И как ты думаешь, за что?.. За то, что им не дали грабить русских боярынь!.. Хороши защитники отечества! Но вот никак отец Авраамий идет тебя навестить… Так и есть! Он лучше тебе расскажет обо всем, боярин.
Авраамий Палицын вошел к Юрию и, благословя его, спросил, как он себя чувствует.
– Все так же, – отвечал Милославский.
– Все так же? – сказал старец, покачав с неудовольствием головою. – Кажется, давно бы пора тебе оправиться. Жаль, Юрий Дмитрич, если ты еще так слаб, что не можешь сидеть на коне: мы завтра входим в Кремль.
– Я уж слышал об этом, отец Авраамий, и решился во что б ни стало войти в Кремль с вами.
– Но если твое здоровье требует…
– Нет! эта радостная весть оживила меня, и я начинаю чувствовать в себе довольно силы…
– Итак, завтра чем свет…
– Ты увидишь меня на коне, перед моим отрядом, отец Авраамий.
– Прощай, Юрий Дмитрич! Я зашел только проведать тебя и не могу долго с тобой оставаться. Завтрашний день мне бы надобно ехать верст за пятьдесят для исполнения одной священной обязанности; но так как мы входим в Кремль, то мне нельзя отлучиться из Москвы, и я хочу послать сейчас гонца для уведомления, что обряд, при котором присутствие мое необходимо, не может быть совершен завтра. Послезавтра я буду свободен и успею еще исполнить то, чего от меня требуют, – примолвил Авраамий, вздохнув от глубины души. – Прощай, сын мой! – продолжал он, – да укрепит господь твои силы и да снидет на главу твою его животворящая благодать!
IX
Наконец, наступило 22 число октября 1612 года, день достопамятный и незабвенный в летописях нашего отечества. Вместе с восходом солнечным поляки вышли двумя толпами из Кремля. Эти несчастные, изнуренные голодом, походили более на мертвецов, чем на живых людей. Одна половина гарнизона, находившаяся под командою пана Будилы, вышла на сторону князя Пожарского и встречена была не ожесточенным неприятелем, но человеколюбивым войском, которое поспешило накормить и успокоить, как братьев, тех самых людей, коих накануне называли своими врагами. Совсем другая участь постигла остальною часть гарнизона, вышедшую под начальством пана Струса на сторону князя Трубецкого: буйные казаки, для которых не было ничего святого, перерезали большую часть пленных поляков и ограбили остальных. Это нарушение всех прав народных было, так сказать, предвестником тех грабежей, убийств и пожаров, которыми по окончании брани ознаменовали след свой неистовые казаки, рассеясь, как стая хищных зверей, по всей России.
По выходе неприятеля из Кремля войско князя Пожарского, предшествуемое архимандритом Дионисием, Авраамием Палицыным и многочисленным духовенством, вступило Спасскими воротами во внутренность этого древнего жилища православных царей русских. Впереди всей рати понизовской ехал верховный вождь, князь Димитрий Михайлович Пожарский: на величественном и вместе кротком челе сего знаменитого мужа и в его небесно-голубых очах, устремленных на святые соборные храмы, сияла неизъяснимая радость; по правую его руку на лихом закубанском коне гарцевал удалой князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский; с левой стороны ехали: князь Дмитрий Петрович Пожарский-Лопата, боярин Мансуров, Образцов, гражданин Минин, Милославский и прочие начальники. Арсений, епископ Галасунский, с иконою Владимирской божией матери, встретил победителя у самых Спасских ворот.
Вслед за войском хлынули в Кремль бесчисленные толпы народа; раздался громкий благовест; нижегородское ополчение построилось вокруг царских чертогов; духовенство, начальники, именитые граждане взошли в Успенский собор, и русское: «Тебе бога хвалим!» – оглася своды церковные, раздалось, наконец, в стенах священного Кремля, столь долго служившего вертепом разбойничьим для врагов иноплеменных и для предателей собственной своей родины.
Выходя из Успенского собора, Милославский повстречался с Мининым.
– Ну, вот видишь, боярин, – сказал знаменитый гражданин нижегородский, – я не пророк, а предсказание мое сбылось. Сердце в нас вещун, Юрий Дмитрия! Прощаясь с тобою в Нижнем, я головой бы моей поручился, что увижу тебя опять на поле ратном против общего врага нашего, и не в монашеской рясе, а с мечом в руках. Когда ты прибыл к нам в стан, то я напоминал тебе об этом, да ты что-то мне отвечал так чудно, боярин, что я вовсе не понял твоих речей.
– Что ж я отвечал тебе, Козьма Минич?
– Как теперь помню, ты сказал мне, что мое пророчество сбылось только вполовину.
– И говорил истинную правду.
– Как так, боярин? Я что-то в толк не беру? Ты, кажется, одет не чернецом; а что твой меч в ножнах не оставался, так этому я сам был свидетелем. Правда, ты и теперь с виду походишь на затворника… Да будь повеселее, боярин! Кажется, есть чему порадоваться: злодеев не стало. Много пролито крови христианской; да и то слава богу, что, наконец, правда взяла свое! Грустно только видеть, как поруганы и осквернены храмы господни, да это также дело поправное; а вот что худо, Юрий Дмитрия: с одними супостатами мы справились, как-то справимся с другими?
– С другими?..
– Ну да! Посмотри, – продолжал Минин, указывая на беспорядочные толпы казаков князя Трубецкого, которые не входили, а врывались, как неприятели, Троицкими и Боровицкими воротами в Кремль. – Видишь ли, Юрий Дмитрич, как беснуются эти разбойники? Ну, походит ли эта сволочь на православное и христолюбивое войско? Если б они не боялись нас, то давно бы бросились грабить чертоги царские. Посмотри-ка, словно волки рыщут вокруг Грановитой палаты.
В самом деле, своевольные казаки рассыпались по всему Кремлю, ломились толпами в домы боярские и, казалось, выжидали только удобной минуты, чтоб ворваться в царские палаты и разграбить казну, оставленную поляками.
Между тем Юрий и гражданин Минин, продолжая разговаривать друг с другом, подошли нечувствительно к церкви святого Спаса на Бору. В ту самую минуту как Милославский поравнялся против церковных дверей, густые тучи заслонили восходящее солнце, раздался дикий крик казаков, которые, пользуясь теснотой и беспорядком, ворвались, наконец, в чертоги царские; и в то же самое время многочисленные толпы покрытых рубищем граждан московских, испуганных буйством этих грабителей, бежали укрыться по домам своим. Юрий невольно содрогнулся: в его глазах наяву повторялось то, что он видел некогда во сне, будучи гостем в доме боярина Кручины. Минин поспешил назад, на соборную площадь, приглашая Милославского идти с ним вместе; но он не слышал слов его: какая-то непреодолимая сила влекла его ко храму Спаса на Бору. В растерзанной душе его стали пробуждаться одно за другим тысячи грустных воспоминаний. Несколько минут он колебался, наконец, с трепетом переступил церковный порог. Все было тихо внутри; дневной свет, проникая с трудом сквозь узкие, едва заметные окна, боролся с вечным сумраком, который царствовал под низкими и тяжелыми сводами этого древнего храма, пережившего многие столетия. Ни одна свеча не горела перед иконами; и только налево, за низкой аркою, отражался вдоль стены тусклый свет лампады, которая теплилась над гробом святителя Стефана Пермского.
Кто опишет горестные чувства Милославского, когда он вступил во внутренность храма, где в первый раз прелестная и невинная Анастасия, как ангел небесный, представилась его обвороженному взору? Ах! все прошедшее оживилось в его воображении: он видел ее пред собою, он слышал ее голос… Несчастный юноша не устоял против сего жестокого испытания: он забыл всю покорность воле всевышнего, неизъяснимая тоска, безумное отчаяние овладели его душою.
– Злополучный! – вскричал он. – Для чего ты спешил погубить самого себя! Она твоя супруга, и ты не можешь, не должен называть ее своею… О Анастасья, Анастасья!..
– Что ты, Юрий Дмитрич? – сказал позади Милославского знакомый голос. Он обернулся и увидел подходящего Авраамия. – Что с тобою? – продолжал Палицын. – Ах, сын мой! ты не для молитвы взошел в сей храм: эти блуждающие взоры, это отчаяние на обезображенном челе твоем… Нет, Юрий Дмитрич, не так молятся христиане!
– Отец мой! – вскричал Юрий. – Отец мой! спаси меня!.. В душе моей весь ад… все мучения погибающего грешника!
– Что ты говоришь, сын мой? Какое преступление тяготит твою совесть?..
– Одна ужасная тайна!..
– Тайна?.. Для чего ж ты скрывал ее от меня? Разве я не пастырь, не наставник, не друг твой?
– Отец Авраамий! я… женат.
– Женат! – вскричал Палицын. Он посмотрел молча на Юрия и повторил с негодованием: – Женат! Для чего же ты обманул меня, несчастный? И ты дерзнул в храме божием, пред лицом господа твоего, осквернить свои уста лукавством и неправдою!.. Ах, Юрий Дмитрич, что ты сделал!
– Нет, отец мой! я не обманул тебя: я не был женат, когда клялся посвятить себя безбрачной жизни; не помышлял нарушить этот обет, данный пред гробом святого угодника божия, – и мог ли я думать, что на другой же день назову моей супругою дочь злейшего врага моего – боярина Кручины-Шалонского?
Удивление оковало уста Авраамия Палицына, но вдруг на лице его изобразилось живое сострадание: он взял Милославского за руку и сказал тихим голосом:
– Успокойся, Юрий Дмитрии! Я вижу, ты не совсем еще выздоровел.
– Ах, если б это была правда, отец мой… если б это был один бред!.. Так я открою тебе мою душу, выслушай меня!
Юрий рассказал все отцу Авраамию, и когда он кончил, то этот добродетельный старец, заключа его в свои объятия, сказал сквозь слезы:
– Нет, Юрий Дмитрич! ты не нарушил свой обет! Ты не клятвопреступник точно так же, как не самоубийца тот, кто гибнет, спасая своего ближнего.
– Ну что же я?..
– Супруг Анастасии. Ты обещался быть иноком, но обряд пострижения не был совершен над тобою, и, простой белец, ты можешь, не оскорбляя церкви, возвратиться снова в мир. Ты не свободен более располагать собою; вся жизнь твоя принадлежит Анастасии, этой несчастной сироте, соединенной с тобою неразрывными узами, освященными одним из великих таинств нашей православной церкви.
Не смея предаваться радости, не веря самому себе, Юрий сказал дрожащим голосом:
– Как, отец Авраамий, я могу еще надеяться, что после данного мною обета?..
– Московские святители разрешат тебя от оного, – перервал Палицын. – Так, Юрий Дмитрич, я вижу ясно перст божий, указующий тебе путь, по коему ты должен следовать. Всевышний помог нам очистить Москву, но, победив внешних врагов, мы не спасли еще от гибели наше отечество. Честолюбивые бояре, крамольники, буйные казаки – все, соединенные теперь общим бедствием, скоро восстанут друг против друга и, как стая голодных псов, начнут терзать собственную свою родину. Никогда еще благочестивые и твердые в любви своей к отечеству бояре не были столь нужны для сиротствующей земли русской. Ты пойдешь по стопам покойного твоего родителя, Юрий Дмитрич! Ты будешь твердейшим оплотом отечества против ухищрения и злобы домашних врагов наших; а что бы ты был, произнеся обет иночества? Отрекаясь мира, ты заключал еще в душе своей любовь мирскую. Что сталось бы с тобою, если б ты поколебался в своей вере? Если б, искушаемый земными помыслами, ты предался отчаянию и твой преступный язык произнес бы хулу на самого себя, стал бы проклинать?.. О Юрий Дмитрич! от одной мысли застывает кровь в моих жилах!.. Благодари господа, что ты не произнес еще обета, которого разрешить не в силах вся власть человеческая!
С безмолвным восторгом слушал Милославский утешительные слова своего наставника.
– Безумный! – вскричал он, наконец. – И я смел роптать на промысл божий!.. Я могу назвать Анастасию моей супругою; могу, не отягчая преступлением моей совести, прижать ее к своему сердцу…
– Да, боярин! Пусть добродетельная супруга будет наградою за труды, понесенные тобою для отечества. Но где она теперь?..
– В Хотьковском монастыре, в котором игуменья родная ее тетка.
– В Хотьковском монастыре?.. Племянница игуменьи?.. Ах, Юрий Дмитрия! для чего ты молчал? Если б ты знал?.. Но пойдем, поклонимся гробу преподобного Стефана Пермского.
Юрий вошел в северный придел, а Палицын приостановился, чтоб взглянуть, какие должно было сделать поправки в главном иконостасе, с которого были содраны все серебряные украшения. Милославский подошел к гробнице святителя и тут только заметил, что он и прежде был не один в церкви. Какой-то нищий стоял перед гробницею; длинные и густые волосы, опускаясь в беспорядке с поникшего чела его, покрывали изможденное и бледное лицо, на коем ясно изображались все признаки потухающей жизни. Услышав близкий шум, он повернулся лицом к Милославскому, ласково протянул к нему иссохшую свою руку и произнес слабым голосом:
– Здравствуй, Дмитрия! Уж я ждал, ждал тебя! Насилу ты пришел!
– Это ты, Митя! – сказал Юрий. – Ах, боже мой! что с тобой сделалось? Бедняжка! как ты похудел!
– Домой собираюсь, Дмитрия!.. Да и пора, голубчик, видит бог, пора! Помаялся, пошатался лет пятьдесят по чужой стороне, будет с меня!
– А где твоя родина? – спросил Юрий, не понимая истинного смысла слов юродивого.
– Где моя родина? Чай, там же, где и твоя.
– Так поэтому близко отсюда?
– И близко и далеко: как пойдешь, голубчик.
– А! теперь я понимаю, – сказал Милославский, – ты говоришь не о земном своем отечестве и хочешь сказать, что смерть твоя близка. Почему ты это думаешь?
– И рад бы не думать, Дмитрия, да думается!.. Вот боярин Шалонский и гадать не гадал, а вдруг отправился, и как же?.. прямехонько туда, куда дай бог попасть и мне, и тебе, и всякому доброму человеку.
– Что ты говоришь, Митя?
Кроткое небесное веселие изобразилось на лице юродивого, глаза его наполнились слезами.
– Да, Юрий Дмитрия! – сказал он прерывающимся от сильного чувства голосом. – Там, в горних селениях, не скорбят уже о заблудшем сыне: он возвратился в дом отца своего!
– Так он покаялся пред смертию?
– И господь отверз ему свои объятия. Я был свидетелем сего торжества милосердия и благости божией; я, презренный окаянный грешник, удостоился отнести дочери не тщетное, но святое благословение умирающего родителя.
Митя замолчал и, сложа крестообразно руки, устремил к небесам взор, исполненный любви, надежды и душевного умиления. Помолчав несколько времени, Юрий спросил робким голосом:
– Ты видел ее?
– Да, Дмитрич, видел. Я третьего дня был в Хотькове.
– Ну что?.. говори, Митя! здорова ли она?
– Слава богу! Она мне все рассказала… Бедная, горемычная сиротинка! Постой-ка! У меня есть от нее посылочка… На, возьми.
– Что я вижу! мой обручальный перстень!
– Да, Дмитрич! Сегодня утром она обручится с женихом, который получше нас с тобою.
– Милосердный боже!.. Итак, она…
– Успокойся, Юрий Дмитрич! – сказал Палицын, который, подойдя к Юрию, застал окончание этого разговора. – Анастасья не произнесет обета расстаться навсегда с тобою. Я должен был сегодня постричь ее и завтра поеду в Хотьковскую обитель, но не для того, чтоб разлучить тебя с супругою, а чтоб привести ее сюда и соединить вас навеки.
Юрий почти без чувств упал на грудь отца Авраамия, а Митя, утирая рукавом текущие из глаз слезы, тихо склонился над гробом угодника божия, и через несколько минут, когда Милославский, уходя вместе с Палицыным из храма, подошли с ним проститься, Мити уже не было: он возвратился на свою родину!
Спустя недели три после описанного нами приключения Кирша, прощаясь с Алексеем, который провожал его до городских ворот, сказал:
– Поклонись, брат, еще раз от меня твоему боярину. Век не забуду его благодеяний! По милости его я могу теперь завестись своим домиком и жить не хуже всякого атамана.
– А на что тебе свой дом? Ведь вы, запорожцы, живете все вместе, как старцы в общине?
– Да кто тебе сказал, что я поеду жить в Запорожскую Сечь? Нет, любезный! как я посмотрел на твоего боярина и его супругу, так у меня прошла охота оставаться век холостым запорожским казаком. Я еду в Батурин, заведусь также женою, и дай бог, чтоб я хоть вполовину был так счастлив, как твой боярин! Нечего сказать: помаялся он, сердечный, да и наградил же его господь за потерпенье! Прощай, Алексей! авось бог приведет нам еще когда-нибудь увидеться!
* * *
Мы полагаем достаточным упомянуть только слегка о последствиях народной войны 1612 года, ибо уверены, что большей части наших читателей известны все исторические подробности этой любопытной эпохи возрождения России. Вскоре по взятии Кремля король польский пытался снова завладеть Москвою; но осада и отчаянная защита Волоколамска доказали ему, что он вторично не успеет обольстить русских. Простояв без всякой пользы под этим небольшим городом, он решился не ходить далее и побежал со всем своим войском назад в Польшу. По совершенном освобождении от внешних врагов Россия долго еще бедствовала от внутренних мятежей и беспокойств; наконец, господь умилосердился над несчастным отечеством нашим: все несогласия прекратились, общий глас народа наименовал царем русским сына добродетельного Филарета, Михаила Феодоровича Романова, и в 1613 году, 11 числа июля, этот юный царь, дед Великого Петра, возложил на главу свою венец Мономахов. Утвердив князя Пожарского в звании думного боярина, он осыпал милостями и наградами всех, бравших участие в великом деле освобождения России. Старинные наши знакомцы: Замятня-Опалев и Лесута-Храпунов явились также ко двору; первый хотел было объявить свои права на заседание в царской думе; но, узнав, что простой мясник Козьма Сухорукий наименован таким же, как он, думным дворянином, ускакал назад в свои отчины, повторяя с важностию любимое свое изречение: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Лесута-Храпунов, как человек придворный, снес терпеливо эту обиду, нанесенную родовым дворянам; но когда, несмотря на все его просьбы, ему, по званию стряпчего с ключом, не дозволили нести царский платок и рукавицы при обряде коронования, то он, забыв все благоразумие и осторожность, приличные старому царедворцу, убежал из царских палат, заперся один в своей комнате и, наговоря шепотом много обидных речей насчет нового правительства, уехал на другой день восвояси, рассказывать соседям о блаженной памяти царе Феодоре Иоанновиче и о том, как он изволил жаловать своею царскою милостию ближнего своего стряпчего с ключом Лесуту-Храпунова.
* * *
Наступил тридцатый год царствования Михаила Феодоровича Романова. Под кротким и мудрым его правлением Россия отдохнула от протекших бедствий, и гордящиеся своим просвещением народы Западной Европы начинали уже с приметным беспокойством посматривать на этого северного исполина, которому недоставало только Великого Петра, чтоб удивить вселенную своим могуществом и славою.
В одно весеннее утро, накануне троицына дня, по ростовской дороге тянулись многочисленные толпы богомольцев. Граждане московские, жители низовых провинций и даже обитатели благословенной Украины – все спешили на храмовый праздник знаменитой Троицкой лавры. Внутри ограды монастырской, посреди толпящегося народа, мелькали высокие шапки бояр русских; именитые гости московские с женами и детьми своими переходили из храма в храм, служили молебны, сыпали золотом и многоценными вкладами умножали богатую казну монастырскую. Среди множества этих усердных богомольцев отличались от всех не столько одеждою, сколько бодрым и воинственным видом, украинские казаки, присланные с богатыми дарами от гетмана малороссийского.
Их старшина, человек среднего роста, но, по-видимому, еще в полной силе, обращал на себя более других общее внимание. Он осматривал с большим любопытством все ближайшие окрестности монастырские и показывал толпе, которая всюду за ним следовала, те места, на которых стояли некогда войска панов Сапеги и Лисовского.
– Здесь, – говорил он, – делали поляки подкоп; вон там, в этом овраге, Лисовский совсем было попался в руки удалым служителям монастырским. А здесь, против этой башни, молодец Селява, обрекши себя неминуемой смерти, перекрошил один около десятка супостатов и умер, выкупая своею кровию погибшую душу родного брата, который передался полякам.
В числе любопытных, которые окружали старшину, один молодой боярин, видный и прекрасный собою, казалось, внимательнее всех слушал рассказы старого воина. Он осыпал его вопросами, и когда старшина, увлеченный воспоминаниями прошедших своих подвигов, от осады Троицкого монастыря перешел к знаменитой победе князя Пожарского, одержанной под Москвою над войсками гетмана Хоткевича, то внимание молодого боярина удвоилось, лицо его пылало, а в голубых, кипящих мужеством и исполненных жизни глазах изобразились досада и нетерпение бесстрашного воина, когда он слушает рассказ о знаменитом бое, в котором, к несчастию, не мог участвовать.
Служитель молодого боярина, седой как лунь старик, не спускал также глаз с рассказчика, который, обойдя кругом монастыря, вошел, наконец, в ограду и стал рассматривать надгробные камни.
– Над кем поставлен этот деревянный голубец? – спросил он у одного проходящего старца.
– Тут похоронен Борис Годунов, – отвечал хладнокровно инок.
– Годунов!.. – повторил старшина, покачав головою. – Думал ли он, когда под Серпуховом осматривал свое бесчисленное войско, что над ним поставят эту убогую, деревянную часовню!..
Облокотясь на один высокий надгробный камень, казацкий старшина продолжал смотреть задумчиво на этот красноречивый памятник ничтожества величия земного, не замечая, что седой служитель молодого боярина стоял по-прежнему подле него и, казалось, пожирал его глазами.
– Так! – вскричал, наконец, этот неотвязчивый старик. – Это он!.. Кирша!
Старшина вздрогнул и, взглянув быстро на служителя, спросил: почему он его знает?
– Ты уж не в первый раз не узнаешь меня, – отвечал старик. – И то сказать: век пережить – не поле перейти! Когда ты знавал меня, я был еще детина молодой; а теперь насилу ноги волочу, и не годы, приятель, а горе сокрушило меня, грешного.
– Да кто же ты?
– Алексей Бурнаш.
– Как! служитель князя Милославского?
– Что, брат, не верится?
– Нет, нет! Я начинаю узнавать тебя. Здравствуй, приятель! – продолжал Кирша, обнимая с радостию Алексея.
Между тем один пожилой купец и с ним молодой человек, по-видимому, сын его, подошли к надгробному камню, возле которого стоял Кирша, и стали разбирать надпись.
– Ну что, старый товарищ, – спросил Кирша, – как поживаешь? Да скажи, пожалуйста, кто этот молодой боярин, вон тот, с которым ты ходил и меня так обо всем расспрашивал?
– Владимир Юрьевич Милославский.
– Сын Юрия Дмитрича?
– Да, сын его.
– Ну, молодец! Вот таков-то был смолоду его батюшка – кровь с молоком! А что он поделывает? где он? здоров ли? Чай, устарел так же, как и ты?
Алексей взглянул печально на Киршу и не отвечал ни слова.
– Посмотри-ка, Ванюша, – сказал пожилой купец своему сыну, – оба в один день, видно, любили друг друга.
– Да что ж ты молчишь? – вскричал запорожец, – иль не слышал? Я спрашиваю тебя, где теперь Юрий Дмитрич?
В эту самую минуту молодой купец наклонился и прочел тихим голосом: «Лета 7130-го, октября в десятый день, преставися раб божий болярин Юрий Милославский и супруга его Анастасия…»
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ[70]
Часть первая
(1) Вот что говорит очевидец, поляк Маскевич: «Моей роте досталось на часть два города: Суздаль и Кострома, в 70-ти милях от столицы. Мы тотчас разослали товарищей с лагерною челядью, для собрания живности; но наши так были неумеренны, что, не довольствуясь хорошим обхождением русских, брали без разбора все, что им нравилось, так что у самою знатною боярина отнимали насильно жену или дочь…»
(2) Гостиную сотню составляли богатейшие купцы. В Новгороде они назывались именитыми людьми Их можно сравнить с нынешними купцами первой гильдии.
(3) Московские жители целовали крест царевичу Владиславу в 1610 году; следовательно, в 1611 году знали уже об этом не только близ Нижнего Новгорода, да и в самых отдаленных провинциях царства Русского. Тушинский вор также убит в 1610 году. Сочинитель винится в сих анахронизмах.
(4) Большая часть запорожских казаков, получивших сие название от Днепровских порогов, за которыми они поселились, была составлена из холостых людей всех состояний. Женатые казаки имели в разных местах и в довольном расстоянии от главного их местопребывания, известного под именем Сечи, особые дома, называемые зимовками, в которых жили их жены с семействами; а в самой Сечи не дозволялось жить ни одной женщине.
(5) Золотая монета иностранной чеканки, почти вдвое больше червонца. Сочинитель розыскания о древности русских монет полагает, что кораблениками назывались у нас бывшие в обращении английские нобели.
(6) За самое величайшее преступление почиталось у запорожских казаков умышленное убийство своего товарища. Убийцу закапывали живого с убитым. Редко случалось, чтоб сей закон не исполнялся; одна отличная храбрость и любовь всех казаков могли иногда спасти от сей казни преступника. Воров наказывали также весьма строго: разумеется, что вором считался только тот, кто украл что-нибудь у своего товарища, запорожского казака. Виновного привязывали на площади к столбу, и в течение трех дней, а иногда долее, он должен был сносить побои и ругательства всех проходящих. Уличенного вторично в сем преступлении привязывали на несколько времени к столбу, а потом вешали.
(7) Стряпчие служили при дворе: они смотрели за царскою стряпнею. Под именем стряпни разумели тогда мелкие принадлежности к царскому одеянию, как-то: шапку, рукавицы, платок, посох и проч. Стряпчие с ключом хотя исправляли при царе ту же должность, но званием своим равнялись с думными дворянами и стояли выше комнатных стольников.
Степень детей боярских, по мнению Миллера, была первою степенью дворян российских, в чины еще не определенных. Им раздавались поместья и вменялось в обязанность: в военное время готовыми быть на службу царскую, с известным числом на их собственное иждивение вооруженных всадников. Они состояли в 8-й, то есть в последней степени дворян тогдашнего времени.
Жильцы считались в 7-й степени русских чинов. По первоначальному своему назначению они должны были составлять охранное войско московское; но впоследствии употреблялись и в дальние походы, главною же обязанностью было развозить царские грамоты.
Их жаловали также поместьями, а за отличие определяли иногда воеводами в небольшие города.
Думные дворяне были членами царской думы, в которой они заседали вместе с думными боярами и окольничими.
Часть вторая
(8) В старину все русские без исключения спали после обеда. Московские жители, понося Лжедимитрия, говорили между прочим, что он, как еретик, не ходит в баню и не отдыхает после обеда.
(9) Земледельцев и всех вообще, занимавшихся черной работою, называли в старину смердами. Бобыль, по толкованию Татищева, есть слово татарское, означающее то же самое, что слово: неимущий. Бобылями называли крестьян, не имеющих своей пашни, но многие из них под сим названием производили немаловажную торговлю. Прежде они не платили никаких податей и составляли самый низший класс народа русского.
(10) «Мятежники, мордва, черемисы и Лжедимитриевы шайки, ляхи, россияне, с воеводою князем Вяземским, осаждали Нижний Новгород, верные жители обрекли себя на смерть, простились с женами и детьми и единодушною вылазкою разбили осаждающих наголову, взяли Вяземского и немедленно повесили, как изменника».
Карамзин, История Государства Российского, том 12-й.
Часть третья
(11) Олеарий говорит в своем путешествии в России при царе Михаиле Феодоровиче, что боярыни русские ездили верхами в телегах, покрытых алым сукном. И хотя Успенский, в своем «Опыте повествований о древностях русских», полагает, что колымаги (экипаж, похожий на нынешние кареты, но только без рессор) употреблялись при одном дворе, но вероятно ли, чтоб русские боярыни пускались в дальние дороги верхом или в открытой телеге? И почему не предполагать, что крытые телеги с гардинками, о коих в другом месте упоминает Олеарий, не были их дорожным экипажем и не назывались также колымагами, от которых они отличались одною только простотою отделки?
(12) Священник села Кудинова, отец Еремей, лицо не вымышленное, хотя о нем и не упоминается в летописях времени междуцарствия. Он точно был начальником русских гверилласов и замечателен потому уже, что священствовал 97 лет сряду. Быв рукоположен в иереи в 1600 году, в царствование Бориса Федоровича Годунова, сдал свой приход сыну своему Никите Еремееву в 1697 году, в царствование императора Петра I.
(13) Хотя Голохвастов был впоследствии подозреваем в измене и единомыслии с уличенным предателем, казначеем монастырским, Иосифом Девочкиным, но из летописи Авраамия Палицына видно, что он до конца осады оставался воеводою и разделял по-прежнему с князем Долгоруковым начальство над войском лавры, следовательно, можно полагать, что подозрение сие оказалось неосновательным.
(14) По словам Олеария, халдейцами назывались люди из самого низкого состояния, кои получив дозволение от патриарха наряжаться во время святок, бегали по улицам замаскированные и с факелами в руках, делали различные буйства и беспорядки, останавливали проходящих и жгли бороды у тех, кои не хотели откупаться деньгами. Эти гаеры были у всех в величайшем презрении, и Олеарий уверяет, что будто бы их всякий раз по окончании святок, как вновь поступающих в число православных, крестили во Иордане. К сему должно присовокупить, что и в наше время в некоторых провинциях крестьяне считают должным окупывать во Иордане тех, кои о святках наряжались.
(15) Вот что говорит летопись о казаках, бывших в войске князя Трубецкого: «Многое раззорение христианом творяху и грабежи и убийства везде содеваху, и кто может изрещи злое то насилие их, и сия беда последняя бысть горше первыя (то есть нашествия поляков), а смирити и унять их невозможно, собрася бо казаков сих множество, и бысть мятеж сей и насилию по всей земли».
КОММЕНТАРИИ
Юрий Милославский. – Фамилия главного героя романа должна была вызывать у читателей «исторические» ассоциации: род Милославских – один из самых древних боярских родов в России, особенно возвысившийся несколько позднее событий, изображаемых Загоскиным – в середине XVII в., после женитьбы царя Алексея Михайловича на дочери одного из Милославских. Вместе с тем фамилия главного героя имеет и литературные истоки, напоминая прежде всего о герое исторической повести Н. М. Карамзина «Наталья, боярская дочь» (1792) – Любославском. Ряд эпизодов восходит к этой повести. Вынесение в заголовок имени и фамилии главного героя преследовало цель создать впечатление подлинности происходящего. Подобный прием использован был А. С. Пушкиным (см. коммент. к заглавию романа «Евгений Онегин» в кн. Ю. М. Лотман. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980, с. 112—116). Создание иллюзии достоверности могло обосновываться автором как художественный прием. Так, Ж. – Ж. Руссо в предисловии к своему роману «Юлия, или Новая Элоиза» (подзаголовок: «Письма двух любовников, живущих в маленьком городке подножия Альп». Собраны и изданы Ж. – Ж. Руссо) писал: «Я выступаю в роли издателя, однако ж, не скрою, в книге есть доля и моего труда. А быть может, я сам все сочинил, и эта переписка – лишь плод воображения» (Ж. – Ж. Руссо. Избранные сочинения в 3-х томах, т. 2. М., 1961, с. 9). К созданию впечатления достоверности стремились и авторы исторических романов, что находило отражение и в «именных» заглавиях (например, у В. Скотта – «Роб Рой», «Айвенго». «Гай Маннеринг», «Квентин Дорвард»).
Русские в 1612 году. – Второе заглавие как бы анонсировало содержание произведения (ср.: С. Ричардсон. Кларисса, или История молодой леди; Вольтер. Кандид, или Оптимизм; Бомарше. Безумный день, или Женитьба Фигаро; В. Т. Нарежный. Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова). Двойное заглавие в романе Загоскина указывало вместе с тем и на два сюжетных аспекта: частный и исторический. Название романа восходит также к первому историческому роману В. Скотта «Уэверли, или Шестьдесят лет назад». Подобная «оглядка» на В. Скотта ориентировала читателя не только на содержание произведения, но и на литературную традицию, с которой оно связано.
Исторический роман в трех частях. – Подзаголовок был необходим не столько, чтобы обозначить жанр произведения, сколько для того, чтобы подчеркнуть его новизну (ту же цель имел, например, подзаголовок «Евгения Онегина»: роман в стихах). Примечательно, что последующие исторические сочинения Загоскина или вовсе не имели подзаголовка, или жанр их определялся иначе (см. Основные даты жизни и творчества наст. изд.).
Никогда Россия не была в столь бедственном положении, как в начале семнадцатого столетия… – Начало XVII в. в России называли Смутным временем. Уже годы царствования Бориса Годунова (1598—1605) были отмечены неурожаями, приведшими к голоду, и вспышкам крупных народных восстаний (1603 г. – восстание под предводительством Хлопка). В 1603 г. в Польше объявился самозванец, назвавший себя царевичем Димитрием (Димитрий, сын Ивана Грозного, был возможным наследником престола, но во время царствования своего старшего брата Федора Иоанновича внезапно при неясных обстоятельствах погиб в Угличе; согласно версии, официально заявленной в царствование Василия Шуйского, убийцей царевича был назван Борис Годунов). Высшая польская знать поддержала Лжедмитрия. В 1605 г. он воцарился в Москве. Однако в результате восстания 17 мая 1606 г. самозванец был убит. При участии заговорщиков царем был выбран Василий Шуйский. В эти же годы (1606—1607) началось крестьянское восстание под предводительством Ивана Болотникова. Политика правительства Шуйского привела к еще большему ослаблению страны и открыла доступ для иноземного вмешательства. Речь Посполитая стремилась подчинить Россию, сначала поддерживая нового Лжедмитрия, а затем путем открытой интервенции. Войско Лжедмитрия II было остановлено под Москвой и в 1610 г. разгромлено. Польские интервенты осадили Смоленск, взяли ряд городов и заняли Москву. Шведы захватили новгородские земли. После свержения в результате заговора Василия Шуйского (1610) власть перешла к Боярскому правительству («семибоярщина»). По договору бояр с польским королем Сигизмундом III русским царем был признан его сын Владислав. 21 сентября 1610 г. правительство тайно разрешило польским войскам вход в Москву. С октября того же года фактическая власть перешла от бояр к начальникам польского гарнизона С. Жолкевскому, а после его отъезда из Москвы – А. Гонсевскому. В 1611 г. было организовано Первое земское ополчение для борьбы с интервентами. Инициаторами его выступили жители Рязани, где воеводой был Прокопий Петрович Ляпунов. К ополчению присоединились также бояре и воеводы из лагеря Лжедмитрия II, казацкие отряды. В марте 1611 г. ополчение выступило из Коломны в сторону Москвы. Главные силы ополчения вошли в Москву (24 марта) и расположились на окраинах Яузских и Тверских ворот. Но вскоре внутри ополчения начались разногласия между дворянством и казачеством. В июле казаками был убит Ляпунов. После этого многие дворяне покинули ряды ополчения, и под Москвой остались преимущественно казацкие отряды. В сентябре 1611 г. в Нижнем Новгороде по инициативе земского старосты Кузьмы Минина начался сбор средств для создания нового ополчения. Военным руководителем был приглашен князь Д. М. Пожарский. В марте 1612 г. Второе ополчение выступило из Нижнего Новгорода в сторону Москвы и в начале апреля прибыло в Ярославль, куда подошли отряды из других русских городов.
Загоскин несколько нарушает хронологию событий. Так, действие романа начинается в апреле 1612 г. и в апреле же Юрий Милославский участвует в совете нижегородских бояр по поводу организации ополчения, хотя ополчение к этому времени уже находилось в Ярославле. См. историческое замечание (3) Загоскина и коммент. к нему.
Крут литературы по «русской старине» рекомендовал Загоскину по его просьбе известный журналист М. Н. Макаров, сам интересовавшийся «древностями русскими» и время от времени публиковавший свои находки в журналах. «Искать требуемой вами от меня старины, милостивый государь Михаил Николаевич, – писал Макаров Загоскину, – присужу и присоветую вам читать примечания к «Истории Государства Российского», да и самое «Историю», том 8, 9, 10 и 11. Там много любопытного, много говорится, по желанию вашему, и об одежде и об обычаях наших предков. Скучно, сбивчиво, или яснее сказать довольно будет труда, может быть, для нетерпения вашего – как же быть: терпением все преодолевается! Менее, нежели в «Истории» Карамзина, однако ж с любопытством, можно прочитать кое-что о желанных вам предметах в Успенском» (Письмо М. Н. Макарова к М. Н. Загоскину, вторая половина 1827 г. – Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 291, архив М. Н. Загоскина, № 105, л. 1). Успенский Г. П. – автор книги «Опыт повествования о древностях русских» (Харьков, 1818). Кроме того, Макаров советовал Загоскину просмотреть «Московский вестник» и «Вестник Европы» за 1827 г., где публиковались материалы о старинном русском быте и традиционных обычаях и обрядах. В архиве М. Н. Загоскина сохранился также альбом» писателя (ГПБ, ф. 291, № 27), частично отражающий процесс начальной работы над «Юрием Милославским». Здесь имеются выписки о «древностях русских» с указанием страниц из книги Г. П. Успенского и из «Древней Российской Вивлиофики» (периодического издания начала 1770-х годов, посвященного отечественной старине»). Выписки эти касаются главным образом описаний быта и озаглавлены так: «О строении», «О экипаже, одежде и обуви», «Столовая посуда, кушанья и напитки» и т. п.
Большую часть исторических сведений Загоскин почерпнул из Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина (главным образом из двенадцатого тома «Истории…», посвященного событиям 1608—1611 гг. и вышедшего как раз в период работы над «Юрием Милославским» – в 1829 г.). Труд Карамзина был самым авторитетным источником для писателей, бравшихся за исторические сюжеты (см., например, «Думы» К. Ф. Рылеева, «Борис Годунов» А. С. Пушкина). Однако Карамзин не успел довести повествование далее середины 1611 г. (он умер в 1826 г.), и XII том «Истории…» печатался уже без его участия. Поэтому Загоскину приходилось пользоваться, особенно при рассказе об освобождении Москвы, материалами летописей – прежде всего «Новым летописцем» (изд. 1771 или 1788 гг. под названием: «Летопись о многих мятежах» или «Русская летопись по Никонову списку. Осьмая часть». СПб., 1792; современное изд.: «Полное собрание русских летописей», т. XIV (1-я половина). М., 1965) и «Сказанием Авраамия Палицына» (изд. 1784 или 1822 гг.; современное изд.: «Сказание Авраамия Палицына». М. – Л., 1955).
Помимо указанных источников, сведения об исторических событиях и лицах, о ежедневном быте «русских в 1612 году» Загоскин мог почерпнуть из исторических очерков своего времени, посвященных началу XVII столетия (см., например, «Краткое изображение бессмертных подвигов нижегородского гражданина Козьмы Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского». М., 1817), из книг Г. П. Успенского, Г. – Ф. Миллера, Адама Олеария, с которыми он определенно был знаком (см. коммент.,,), из журнальных статей но истории русского быта (например, статьи в «Московском вестнике» за 1827 г.: «Домашняя жизнь царя Федора Иоанновича» (пер. с англ.), «О старинных русских свадьбах» и др.). Анализ некоторых исторических источников «Юрия Милославского» см. также: И. И. Замотин. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе, т. II. СПб. – М., 1913.
Шеин Михаил Борисович (ум. в 1634 г.) – воевода, возглавлявший оборону Смоленска (16 сентября 1609 г. – 3 июня 1611 г.). Так как польские войска заняли в сентябре 1610 г. Москву, положение Смоленска было очень тяжелым. Когда Смоленск был взят, Шеин попал в плен. Оборона Смоленска сыграла большую роль в борьбе с интервентами, так как отвлекала на себя значительную часть войск. До осады Смоленск был крепостью, защищавшей западные границы России. После взятия был присоединен к Польше и возвращен России лишь в 1654 г.
Сигизмунд III (1566—1632) – король польский; сам он в походе 1610—1611 гг. не участвовал.
Жолкевский Станислав (конец 1540-х-1620) – польский гетман, один из наиболее деятельных участников интервенции. Хотя первого самозванца он и не признал царевичем Димитрием, а затем выступал против похода 1610 г. под Смоленск, тем не менее сражался во главе польских войск; позднее требовал от «седьмочисленных бояр» избрать королевича Владислава на русский престол; во главе польских войск вошел в Москву.
…прозванного Тушинским вором… – Лжедмитрий II получил такое прозвище в связи с тем, что его войска располагались лагерем в Тушине, под Москвой.
Понтиус де ла Гарди – Делагарди Якоб Понтус (1583—1652), начальник отряда, направленного по договору с Василием Шуйским шведским королем Карлом IX. В марте 1610 г, русские войска под командованием М. И. Скопина-Шуйского (см. коммент.) и шведский отряд пол началом Делагарди разбили войско Лжедмитрия II и освободили Москву от осады. Однако в июле 1610 г. Делагарди заключил перемирие с поляками, захватил Новгород и ряд других городов.
…низовые города… – расположенные в низовьях.
Сергиевская лавра – Троице-Сергиев монастырь, осада которого (сентябрь 1608 г. – январь 1610 г.) так и не принесла успеха неприятелю.
Сапега Ян Петр Павел (1569—1611) – крупный литовский магнат. С навербованным войском прибыл в стан Лжедмитрия II, затем начал самостоятельное завоевание северной Руси. Возглавлял осаду Троице-Сергиевой лавры.
Лисовский Александр Иосиф (ум. в 1616 г.) – участник польской интервенции. Сформированный им отряд наездников совершал опустошительные набеги на русские земли. Вместе с Сапегой возглавлял осаду Троице-Сергиевой лавры.
Дионисий (ок. 1570/1571-1630) – архимандрит Троице-Сергиева монастыря с 1610 г. Участвовал в составлении и рассылке грамот по русским городам с призывом идти на освобождение Москвы.
Авраамий Палицын (Аверкий Иванович) (родился не позднее 1550-х гг. – 1626) – с 1608 г. келарь (хранитель припасов и казны) Троице-Сергиева монастыря. Автор «Сказания», посвященного «смутному времени», он отводит себе значительную роль в освобождении Москвы в 1612 г. В сознании людей первой трети XIX в. Палицын, наряду с Мининым и Пожарским, представлялся одним из центральных деятелей своей эпохи (ср.: А. С. Пушкин: «…смутные времена Минина и Авраамия Палицына» – «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», рецензия (1830); Н. И. Надеждин: «…исторические подвиги Мининых, Палицыных и Пожарских…» – «Телескоп», 1831, № 14, с. 224). Во время нашествия французов на Россию в 1812 г., когда раздались патриотические призывы к единению всех сословий в борьбе с врагом, своеобразным символом такого единения служили имена князя Пожарского, посадского Минина и монаха Палицына.
…Пожарский, покрытый ранами, страдал на одре болезни… – Пожарский Дмитрий Михайлович (1578—1642) – один из руководителей нижегородского ополчения. С начала 1610 г. – воевода в Зарайске. Участник Первого ополчения и сражений в Москве 19-20 марта 1611 г. В бою в районе Лубянки Пожарский был ранен, переправлен в Троице-Сергиеву лавру, а затем в свое имение Мутреево, недалеко от Нижнего Новгорода.
…бессмертный Минин еще не выступил из толпы обыкновенных граждан. – Кузьма Минич Захарьев-Сухорук (ум. в 1616 г.) – нижегородский посадский человек. В сентябре 1611 г. был избран земским старостой и возглавил организацию Второго ополчения.
Гонсевский Александр Корвин (ум. в 1645 г.) – польский воевода, один из организаторов похода в Россию. В 1610 г. вошел в Москву вместе с гетманом Жолкевским во главе польских войск и стал начальником польского гарнизона в русской столице. Во время осады Кремля Гонсевский бежал из Москвы.
…поклониться Печерским чудотворцам… – то есть побывать в Киево-Печерской лавре.
Мы опять едем целиком… – по целине, без дороги.
Гой ты море, море синее! – Начиная с пятой строки песни цитируется отрывок из «Старинной русской песни», напечатанной в «Московском вестнике» (1827, ч. VI, № XXIV, с. 390).
Зовут меня Киршею… – Редкое имя героя, по всей вероятности, было выбрано Загоскиным по ассоциации с именем составителя первого сборника русских былин, баллад и песен, опубликованного в начале XIX в. – «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». Во втором издании сборника (1818) издатель К. Ф. Калайдович сообщал в предисловии, что Кирша Данилов – «вероятно, козак, ибо он нередко воспевает подвиги сего храброго войска с особенным восторгом». Словосочетание «козак Кирша Данилов» стало устойчивым при обозначении составителя книги (см., например: «Видение на горе Парнасе». – «Невский зритель», 1820, ч. I, № 2, с. 54).
Куренной атаман – в Запорожской Сечи начальник над куренем. Курень – жилище казаков; употребляется и как обозначение войсковой единицы.
Кошевой атаман – главный начальник запорожского войска (коша), который избирался всеми куренями на «раде» сроком на один год.
Гайдамак – здесь: разбойник.
…и мы кутили порядком в Чернигове… – Рассказ Кирши вполне «историчен». Многие донские казаки в конце царствования Бориса Годунова участвовали в крестьянском движении на северной Украине; некоторые выступали в союзе с самозванцами. Несколько казачьих отрядов были отправлены Лжедмитрием II на осаду Троице-Сергиевой лавры (ниже Кирша упомянет о том, что «сам служил в войске гетмана Сапеги, который стоял под Троицей»).
…избрали на царство сына короля польского. – Сына Сигизмунда – Владислава (1595—1648). В 1610 г. между боярским правительством и гетманом Жолкевским, действовавшим от имени Сигизмунда, был заключен договор, согласно которому русским царем должен был стать Владислав. По договору (так и не выполненному) Владислав обязывался принять православие, что было заведомо маловероятным, а Сигизмунд – вывести войска из России и снять осаду со Смоленска, в чем тоже можно было сомневаться.
Домашний простонародный быт тогдашнего времени почти ничем не отличался от нынешнего… – Мысль о неизменности в течение многих веков быта и образа жизни русского народа была характерна для первой трети XIX в. Еще Карамзин писал, что «трудолюбивые поселяне… и по сие время ни в чем не переменились, так же одеваются, так живут и работают, как прежде жили и работали» («Наталья, боярская дочь», 1792). В рецензии на «Юрия Милославского» С. Т. Аксаков писал, что по роману Загоскина тот, кто не знает своего отечества, «вместе с иностранцами познакомится с жизнью наших предков и теперешним бытом простого народа» («Московский вестник», 1830, № 1, с. 79). Считалось также, что и мировоззрение народа оставалось устойчивым и неизменным на протяжении многих веков. Так, Н. И. Надеждин говорил: «…православные русские мужички сохраняют то же нерушимое благоговение к имени русскому и ту же заклятую ненависть ко всему иноземному» («Телескоп», 1831, № 14, с. 225). Между тем идея исторической изменчивости в это время также имела распространение. Так, Карамзин писал еще в 1794 г.: «…мы не найдем в истории повторений. Всякий век имеет свой особливый нравственный характер, – погружается в недра вечности и никогда уже не является на земле в другой раз» (Н. М. Карамзин. Собр. соч. в 2-х томах, т. 2. М. – Л., 1964, с. 259).
«Шемякин суд», «Мамаево побоище» – лубочные картинки, бывшие крашением постоялых дворов в первую треть XIX в. Примечательно, что лубки вошли как описательный компонент в изображение постоялых дворов и почтовых станций и в литературные произведения. Сюжет «Шемякина суда» восходит к народной сказке о неправедном судье, судящем в пользу того, кто даст большую взятку. Мамаево побоище – Куликовская битва.
Светец – подставка для лучины.
Смурый однорядок – однобортный кафтан темного цвета.
…называли земскими ярыжками. – Земство – местное самоуправление. Ярыжка – низший полицейский чин; в XIX в. слово это употреблялось преимущественно в значении «пьяница», чем и объясняются извинения Загоскина: «Я боюсь оскорбить нежный слух моих читателей».
Смуглое, исполненное жизни лицо его… – Портрет Кузьмы Минина, еще не названного по имени в романе, составлен из черт положительных, богатырских, как того и требовала трактовка положительного героя.
…убрался в свою Пурецкую волость… – Пурех – село в Нижегородской губернии, пожалованное Д. М. Пожарскому за освобождение Москвы. В данном случае упоминание «Пурецкой волости» – анахронизм. См. также коммент…
День святого угодника Хрисанфа – 19 марта. В этот день в 1611 г. произошло столкновение между интервентами и жителями Москвы, которое закончилось опустошительным пожаром.
Засека – преграда из поваленных деревьев; здесь: баррикада.
Сам гетман нагрянул на нас со всем войском… – Имеется в виду гетман Жолкевский. Загоскин намеренно «шифрует» разговор на постоялом дворе: конкретные сведения о событиях 19 марта даны в обрывках суждений беседующих. Предполагалось, что эти немногие факты должны наслаиваться на те знания об эпохе, которыми располагал читатель. Собственно исторические справки вообще занимают немного места в романе. Лишь в начале первой и третьей части скупо пересказаны события и обрисована общая обстановка в России 1612 г. Более же конкретные исторические сведения вводятся попутно, по мере развертывания действия, а также в разговорах персонажей. Этого требовали условия жанра, представляющего историю «в лицах» и «домашним образом». К тому же Загоскин ожидал встретить в своем читателе человека сведущего: ведь незадолго до появления «Юрия Милославского», в 1829 г., вышел двенадцатый том «Истории Государства Российского» Карамзина, в котором как раз освещались события 1608—1611 гг.
…он …ест по постам скоромное? – Изменничество Шалонского проявляется и в том, что он, пренебрегая благочестивыми «обычаями предков», нарушает пост. Скоромное – пища (мясная, молочная), запрещенная церковными правилами к употреблению во время постов.
А уж какой благой… – Здесь в смысле: блажной, дурной, вздорный.
Юрьев день – 26 ноября. В XVI в. в течение недели до Юрьева дня и после него крестьянин имел право переходить от одного хозяина к другому. Юрьев день был отменен в 1580—1590-х годах.
Головщина – подушная подать.
Мыт – пошлина за провоз товаров.
Мостовщина – пошлина за проезд по мостам и дорогам.
Киса – затяжной мешок.
Так вы и при Гришке Отрепьеве жили в Москве? – Кем был человек, называвший себя в 1603—1605 гг. царевичем Димитрием, неизвестно. Долгое время эта личность отождествлялась с беглым иноком Чудова монастыря (в Московском Кремле) Григорием, в миру галичским сыном боярским Юшкой Богдановым сыном Отрепьева. Так полагал и Карамзин. Позднее была выдвинута версия о том, что под именем Лжедмитрия I выступал кто-то другой, но не Отрепьев (см.: Н. И. Костомаров. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия, т. I. СПб., 1868, с. 170: «Имя Гришки, очевидно, было поймано как первое подходящее, когда нужно было назвать не Димитрием, а кем бы то ни было того, кто назывался таким ужасным именем»).
…прыгнул в окно. – По преданию, Лжедмитрий I покончил с собой, выбросившись из окна.
…у жены своей, Маринки… – Марина Мнишек – дочь польского воеводы Юрия Мнишека, поддерживавшего обоих самозванцев, жена Лжедмитрия I, а впоследствии – Лжедмитрия II.
Есаул – здесь в смысле: адъютант.
…у разбойничьего атамана Хлопки… – Восстание под предводительством Хлопка произошло в 1603 г. Летом часть восставших сосредоточилась около Москвы. В сентябре отряды Хлопка были разбиты, сам Хлопка был ранен и взят в плен. О дальнейшей судьбе его ничего не известно.
…он не жалует губных старост да земских… – Земский староста выбирался в каждой волости или городе, ведал судом и распределением податей. Губной староста ведал уголовными делами. Загоскин приравнивает должность губного старосты к должности капитана-исправника (см. сноску в тексте). Исправник – высшая полицейская власть в уезде.
Объезжие – объезжие головы, старшие полицейские чины.
Кунтуш – польский верхний кафтан.
…однажды поутру, на монастырском капустном огороде? – О вылазке защитников Троице-Сергиевой лавры на капустном городе (находился близ северной стены монастыря) упомянуто Палицыным: «приидошя литовские люди на огород капусты имати. Из града же увидевше, яко немного людей литовских, и не по воеводскому велению, но своим изволением, спустившеся с стен градным по ужищем, и литовских людей побили, а иных переранили» («Сказание Авраамия Палицына», с. 142). Думается, в данном случае именно Сказание», а не «История…» Карамзина, как в большинстве случаев, послужило источником для рассказа Кирши. У Карамзина о вылазке на «огороды монастырские» упомянуто лишь вскользь (см.: «История Государства Российского», т. XII, с. 103).
Регимент – полк.
Красный зверь – медведь.
Цербер – трехглавый пес, стороживший вход в подземное царство бога Аида (греч. миф.); в переносном смысле: бдительный страж.
Боярину прислали из Москвы какого-то досужего поляка – рудомета, что ль?.. – Досужий – знающий, умеющий лечить. Рудомет – лекарь, лечивший, по правилам медицины того времени, пусканием крови (руды).
…Никола зимний – зимний праздник Николая-чудотворца (6 декабря).
…слушала обедню у Спаса на Бору, и всякий раз какой-то русый молодец глаз с нее не сводил. – Спас на Бору – церковь внутри Московского Кремля. Встреча героев в церкви и мгновенно вспыхнувшая любовь их друг к другу одним из ближайших источников имеют повесть Карамзина «Наталья, боярская дочь», герои которой также впервые встречаются в церкви.
Тростить – повторять беспрестанно, говорить одно и то же.
Дока – «так называются в деревнях те люди, которые всякое чародейство или порчу отговорить, то есть отвратить могут, а сами чародейство производить не в силах» ([71]. Словарь русских суеверий. СПб., 1782, с. 156—157). Загоскин, по-видимому, был знаком с книгой Чулкова. Однако в романе «дока» Кудимыч (а ниже и Кирша) называется «колдуном», хотя в народном сознании «колдуны» были представителями «черной магии» – носителями зла, и к ним не обращались за помощью.
…начнет ли молодица выкликать… – Кликушество было одним из распространенных психических заболеваний женщин среди «простого народа».
Досужество – от слов досужий, дока (см. коммент.).
Поезд (свадебный) – торжественная обрядовая езда свадебных чинов и гостей, сопровождавших жениха и невесту.
Красна – холсты.
…с белыми ширинками через плечо ехали верхами двое дружек… – Ширинка – полотенце. Дружка – товарищ жениха на свадьбе, один из главных распорядителей во время свадебного пира.
Кармазинная объярь – темно-красный шелк.
…под ногами у них подостлана была шкура белого медведя, а конская упряжь украшена множеством лисьих хвостов. – В конце XVIII – начале XIX в. в России стал проявляться интерес к народной «старине». В частности, в журналах публиковались заметки о народных обычаях и обрядах (в том числе свадебных). Какой-либо из этих заметок, очевидно, и воспользовался Загоскин в данном случае. Использование медвежьего и лисьего меха (на мех сажали молодых) связано со свадебной символикой плодородия и богатства. Однако использование шкуры белого медведя в свадебном крестьянском обряде среднерусской полосы вряд ли было возможно.
Балясы – столбики в перилах.
Застольня – столовая.
Приспешная – кухня.
Панцири – длинные кольчуги.
Бердыш – широкий боевой топор на длинной рукоятке.
Порфира – торжественная царская мантия из бархата, подбитая горностаем.
…вчера получил грамоту от своего приятеля, смоленского уроженца, Андрея Дедешина, который помог королю завладеть городом… подожгли сами себя и все сгибли до единого. – Андрей Дедешин, «беглец смоленский, указал полякам на слабое место крепости: новую стену, деланную в осень наскоро и непрочно. Сию стену беспрестанною пальбою обрушили… и в полночь (3 июня) ляхи ворвались в крепость… Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери, где заперлись многие из граждан и купцов с их семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было спасения: россияне зажгли порох и взлетели на воздух, с детьми, имением – и славою!» (Н. М. Карамзин. История…. т. XII, с. 302). У Карамзина, однако, фамилия изменника пишется по-другому: Дедишин. Написание через «е» (Дедешин) восходит, вероятно, к «Новому летописцу».
Штофный кафтан – кафтан из плотной шелковой ткани.
Ферязь – старинная русская одежда с длинными рукавами, без воротника. Были ферязи как мужские, так и женские.
Схимник – монах, ведущий аскетический и затворнический образ жизни. Схима в православной церкви являлась высшей монашеской ступенью, требующей от посвященного в нее соблюдения самых суровых правил.
Стремянный – слуга, ухаживавший за верховой лошадью.
Шушун – старинная верхняя женская одежда наподобие кофты, еже – сарафана.
Юрий, оставшись один, подошел к окну, из которого виден был сад… – Напомним, что события в романе происходят зимой. Описание же сада боярина Шалонского дано без учета времени года, как самостоятельная этнографическая зарисовка.
Куртина – отдельный участок сада.
Налой – в православной церкви высокий столик, который во время богослужения является подставкой для креста, икон. При церковном бракосочетании новобрачных обводят вокруг налоя.
Служебник – слуга.
Фальшер – лжец.
Прокурат – плут.
Хвалынское море – Каспийское.
Кивот, или киот – ящик или шкафчик для икон.
Оклад – металлическое покрытие на иконе.
Бурмитские зерна – крупные жемчужины.
Гермоген (ок. 1530—1612) – с 1606 г. русский патриарх, сторонник В. И. Шуйского. С декабря 1610 г. грамотами, рассылаемыми по стране, способствовал организации Первого земского ополчения. Гермоген был взят под стражу после оккупации Москвы польскими интервентами и вскоре умер в заточении.
Игнатий (ум. ок. 1640 г.) – рязанский епископ, первым признавший Лжедмитрия I русским царем. Лжедмитрий и поставил его на патриарший престол. После смерти самозванца был сослан в Чудов монастырь. Освобожден оттуда в 1611 г. и снова признан патриархом, вместо Гермогена. Однако вскоре бежал в Польшу.
Клирос – место в предалтарной части церкви, где во время богослужения находятся певчие, а также лица духовного сана.
Не сиди, мой друг, поздно вечером… – Песня была опубликована в «Московском вестнике», 1828, ч. 11, № XVIII, с. 108—109.
Шишак – металлический шлем с острием, заканчивающимся шишкой.
Палаш – холодное (рубящее и колющее) оружие с длинным прямым клинком, к концу обоюдоострым.
Дротик – метательное копье на коротком древке.
Флюгер – флажок на пике.
…известного Санхо-Пансу… не напоминал собою Рыцаря Плачевного Образа. – Имеются в виду Санчо Панса и Дон-Кихот (Рыцарь Печального Образа) – герои романа М. Сервантеса «Дон-Кихот». Как известно, Санчо Панса был мал ростом и толст, Дон-Кихот – высок и худощав.
…его убил перекрещенный татарин Петр Урусов… – Крещеный татарский князь Петр Урусов был начальником татарской стражи при самозванце; зарезал Лжедмитрия II во время охоты, отомстив ему за коварное убийство одного из татарских князей.
…провозгласили новорожденного его сына, под именем Иоанна Дмитриевича, царем русским. – Иоанн – сын Лжедмитрия II и Марины Мнишек.
…служить внуку сандомирского воеводы… – то есть сыну Лжедмитрия II. Сандомирский воевода – Юрий Мнишек, отец Марины Мнишек.
…охотились в твоих дачах? – то есть угодьях.
Подтенетить – поймать; производное от тенета – сети.
«…блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!» – «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых» – начальные строки I псалма Давида (далее тексты из Библии комментируются только в случае необходимости их перевода на современный язык).
…вещает премудрый Соломон… – Цитата, приведенная Замятней-Опалевым, взята из библейской Книги Екклесиаст, или Проповедник (10, 16). Авторство этой книги приписывается царю Соломону (965—928 гг. до н э.), отличавшемуся, по преданию, мудростью и красноречием. Соломону приписывается, помимо Екклесиаста, создание также Книги Притчей Соломоновых, Песни Песней, Книги Премудростей Соломоновых.
Недаром говорит Сирах: «Касаяйся смоле очернится, а приобщаяйся безумным, точен им будет». – Неточная цитата изречения из библейской Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова (13, 1): «Кто прикасается к смоле, тот очернится, и кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему». Йешуа бен-Сира (в славянской транскрипции – Иисус, сын Сирахов) – палестинский книжник, автор сборника сентенций и афоризмов, получившего название Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова (неканонической книги Ветхого завета) и переведенного на греческий язык его внуком.
Братина – большая чашка с накладной крышкой.
Инбирь, или имбирь – пряность из корневища тропического травянистого растения.
Шептала – сушеные абрикосы, персики с косточками. Шептала и имбирь ценились как «заморские» кушанья.
Побывай у Сергия… – то есть в Троице-Сергиевой лавре. Сергий Радонежский (1314—1392) – церковный и политический деятель XIV века, основатель этого монастыря.
…премудрый Соломон, глаголет… – По всей вероятности, Загоскин приводил изречения, вкладываемые в уста персонажей, по памяти, не справляясь с текстом Библии. В данном случае цитата взята не из Книг Соломона, а из Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова (7, 3).
Гудок – старинный смычковый музыкальный инструмент.
Голубец – народная пляска.
«…без суда не сотвори ни чесо же». – «Ничего не делай без рассуждения» (Сирах, 33, 30).
Аргамак – верховая лошадь восточной породы.
Черт ли в этих заводских клячах! – Заводские лошади – выращенные в заводах – правильно организованных хозяйствах. В устах Кирши противопоставление «вольного» аргамака и заводских «кляч» – анахронизм: конные заводы появились позднее.
Вот о спожинках стану говеть… – Спожинки – успенский пост (с 1 по 15 августа).
Фряжское вино – здесь: заморское.
Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1587—1610) – князь, московский воевода. В 1609 г. русские войска под его командованием освободили из-под власти Лжедмитрия II Ярославль и другие города, весной 1610 г. – Москву от тушинской осады. Молодой полководец был после победы над самозванцем значительно популярнее главного воеводы Д. И. Шуйского и царя В. И. Шуйского. Его внезапную смерть современники считали насильственной и объясняли ее завистью к славе племянника Шуйских-дядьев.
…погруженный в глубокую задумчивость, он старался не помышлять о настоящем … веселый, беспечный юноша, он любил бога, отца, святую Русь и ненавидел одних врагов ее; а теперь… Ах!.. – Для положительного героя романтической литературы был характерным конфликт между его безмятежным прошлым и томительным настоящим (ср. в «Кавказском пленнике» А. С. Пушкина:
В Россию дальный путь ведет, В страну, где пламенную младость Он гордо начал без забот; Где первую познал он радость и т д.;в «Войнаровском» К. Ф. Рылеева:
Но знал и я когда-то радость… Враг хищных крымцев, враг поляков, Я часто за Палеем вслед, С ватагой храбрых гайдамаков, Искал иль смерти, иль побед).Однако судьба героя Загоскина, в отличие от его литературных предшественников, складывается в результате вполне благополучно.
Гверилласы – испанские партизаны, боровшиеся в 1808—1813 гг. с оккупировавшими Испанию войсками Наполеона.
Кичка – старинный русский праздничный головной убор замужней женщины.
Зипун – крестьянский кафтан из толстого сукна без ворота.
Неповитая – от слова повой, повойник – женский будничный головной убор.
Бывало, как схватится с Кривым-Салтыковым… – Очевидно, Салтыков Михаил Глебович (ум. ок. 1613 г.), по прозванию Кривой – дьяк в царствование Феодора Иоанновича и Бориса Годунова. В годы Смуты действовал изменнически.
Василиск – мифологический дракон, змей, который способен убить взглядом.
Серокафтанник – то есть человек низкого происхождения.
…при пострижении в иноки Василья Шуйского… – Шуйский Василий Иванович (1552—1612) – после свержения с престола в 1610 г. был насильственно пострижен в монахи, затем выдан гетману Жолкевскому, который отправил его в Польшу, где он и умер в заточении. Во время обряда пострижения Шуйский оказывал сопротивление, и потому монашеский обет произносил за него князь Василий Туренин (по другим источникам – Тюфякин). Патриарх Гермоген посчитал такой обряд неправильным и объявил иноком Туренина, а не Шуйского (Н. М. Карамзин, История…. т. XII, с. 231).
Это не благовест!.. Точно… бьют в набат!.. – Благовест – церковный колокольный звон, производимый одним колоколом, в чем и сходен с набатом.
Посадские люди – торговое население русских городов. Посад – торгово-ремесленная часть города, расположенная вне крепостной городской стены.
Образ Владимирских божия матери и честныя многоцелебныя мощи… – Владимирская икона Богоматери – одна из древнейших и наиболее чтимых в XVI-XVII вв. московских икон, писанная, по преданию, евангелистом Лукой. Помещалась в Успенском соборе Московского Кремля. Там же находились мощи святителей Петра, Ионы и др.
Стольник – старинный придворный чин. Первоначальное назначение стольника (отчего и произошло слово) – служить за столом государя во время торжественных трапез. Позднее стольники назначались на административные должности.
Земское дело – то есть дело общее, касающееся всех.
Архимандрит Феодосий – настоятель Печерского монастыря, расположенного близ Нижнего Новгорода.
Хоругви – священные знамена церкви с изображениями святых угодников и событий из священной истории.
Иерей – священник.
По правую руку его сидели… – Участники собрания нижегородских бояр наделены реально-историческими именами. Князь Д. М. Черкасский – один из видных деятелей Смутного времени. Воеводы М. С. Дмитриев и Ф. Левашов были руководителями первого из отрядов, отправленных Пожарским к стенам Москвы. Одним из военачальников следующего посланного к Москве отряда был дьяк Семен Самсонов.
…под тяжким игом свейского воеводы Понтуса… – Имеется в виду шведский воевода Понтус Делагарди (см. коммент.).
…подобно святому граду Киеву… – Киев в это время принадлежал Речи Посполитой.
Романов Михаил Федорович (1596—1645) – сын Федора Никитича Романова (патриарха Филарета – ум. в 1633 г.), избранный на царство в 1613 г., после освобождения Москвы.
Местничество – система феодальной иерархии на Руси в XVI-XVII столетиях. При назначении на службу учитывались происхождение, заслуги предков и личные заслуги.
…подкупленные злодеем Заруцким, убийцы… – Заруцкий Иван Мартынович (ум. в 1614 г.) – атаман донских казаков. В условиях неразберихи Смутного времени неоднократно менял политическую ориентацию. Служил Лжедмитрию II, затем – Сигизмунду, потом присоединился к Первому земскому ополчению; после убийства П. П. Ляпунова казаками и распада ополчения остался со своими казаками под Москвой; в июле 1612 г. был организатором покушения на жизнь Пожарского (см. коммент.); затем бежал на юг вместе с Мариной Мнишек и ее малолетним сыном Иоанном. В 1614 г. был схвачен, отправлен в Москву и казнен.
Ходкевич Ян Карл (ум. в 1621 г.) – литовский гетман. В сентябре 1611 г. был прислан Сигизмундом III в Москву на помощь польскому гарнизону.
Трубецкой Дмитрий Тимофеевич (ум. в 1625 г.) – князь, командовал казачьими полками; поддерживал Лжедмитрия II; после разгрома тушинского лагеря М. И. Скопиным-Шуйским ушел вместе с самозванцем в Калугу; после смерти Лжедмитрия принимал участие в посольстве к Сигизмунду по поводу подписания договора о выборе на царство Владислава; затем во главе казачьих отрядов был одним из руководителей Первого ополчения, после распада которого оставался под Москвой; вместе с войсками Пожарского казаки Трубецкого принимали участие в освобождении столицы от иноземцев.
…и 1 августа 1612 года нижегородское ополчение прибыло к Троицкой лавре… – О целях прибытия ополчения в Троице-Сергиев монастырь летопись сообщает следующее: «Князь Дмитрий же Михайлович Пожарский и Кузьма, да с ним вся рать, поидоша из Переяславля к Живоначальной Троице и приидоша к Троице… для того, чтобы укрепиться с казаками, чтоб друг на друга никакова бы зла не умышляли» («Новый летописец». – Полн. собр. русских летописей, т. XIV М., 1910, с. 123).
Он был ангел во плоти! – Ср. с характеристиками врагов и изменников в романе: земский ярыжка «с рожи-то очень похож» на сатану; у Лисовского «такое демонское лицо, что он и на человека не походит»; у Кручины-Шалонского – улыбка и взгляд, «в котором отражалась вся злоба адской души его»; взор Истомы-Туренина «напоминал так живо соблазнителя, что набожный Юрий едва удержался и не сотворил молитвы»; вотчину Шалонского Кирша называет адом («вырвался из ада»), а замысел пленить Милославского – «адским заговором».
…о вешнем Николе… – весенний праздник Николая-чудотворца (9 мая).
Малюта Скуратов – Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович (ум. в 1573 г.) – приближенный Ивана Грозного, руководитель опричного террора, участник многочисленных убийств и казней. Тот, кого Малюта обносил чашей на пиру, вскоре подвергался репрессии.
Петров день – 29 июня старого стиля.
Брынский лес – дремучий лес вокруг реки Брынь в Калужской губернии.
…а зовут его, помнится, отцом Еремеем. – Еремей Афанасьевич Покровский, живший, по преданию, около 130 лет, священствовал в селе Кудинове с 1600 по 1696 г.; «во время лихолетья он доблестно предводительствовал против поляков и крамольников» (см. об этом: М. Н. Сперанский. Поп-разбойник Емеля. – «Slavia». Ro?nik II, se? it 4. Praha, 1924, с. 655—659).
Заводная лошадь – запасная.
Этот хутор прозывается Теплым Станом… – Таинственная атмосфера хутора боярина Шалонского и описание «ужасов», происходивших там, могли быть навеяны романами английской писательницы А. Радклиф (1764—1823). Ее произведения, популярные в России, изобиловали «таинственными ужасами» (А. С. Пушкин), происходившими в замках, в конце, однако, получавшими реальное объяснение. Примечательно, что у современников Загоскина описание Теплого Стана ассоциировалось именно с романами Радклиф («Радклифский замок в Муромском лесу…», – писал об изображении хутора Шалонского Н. А. Полевой – «Московский телеграф», 1831, № 8, с. 541).
Пустынь – уединенный монастырь, келья, пещера.
…уж не будет ли какого демонского наваждения? – В народных поверьях выкапывание клада связано с противоборством нечистой силы: «в то время, как вынимают котел, выбегают из лесу черти и кричат: «Режь, бей, губи»; при таком случае берут всегда в помощь колдуна» «М. Д. Чулков). Словарь русских суеверий, с. 183—184).
Жилищем ведьм, волков, // Разбойников и злых духов. – Цитата из стихотворной сказки И. И. Дмитриева «Причудница» (1794).
…романтические разбойники… вовсе перевелись на святой Руси; и бедный путешественник, мечтавший насладиться всеми ужасами ночного нападения, приехав домой, со вздохом разряжает свои пистолеты… – Загоскин иронизирует над бедным путешественником, так и не встретившим разбойников в Муромских лесах. Однако Муромские леса и в его время действительно еще имели репутацию «страшных». По словам одного из современников, в путешествие «для обороны от разбойников, об которых предания были еще свежи, особенно при неизбежном переезде через страшные леса Муромские, были взяты с собой два ружья, пара пистолетов, а из холодного оружия – сабля» (В. В. Селиванов. Предания и воспоминания. СПб., 1881, с. 147).
…разве иногда может похвастаться мужественным своим нападением на станционного смотрителя… – Путешественники, едущие не по «казенной надобности», получали лошадей всегда во вторую очередь. Жалобы на станционных смотрителей, не дающих лошадей, – одно из «общих мест» при изображении почтовых станций в литературе первой трети века.
Пустыни Барабинские – степь на юге Западной Сибири.
Огнищане – так называли средних и мелких земледельцев, «княжеских мужей».
…благодарственный молебен… князю Петру и княгине Февронии. – Петр и Феврония – муромские святые, канонизированные в 1547 г. В «Повести о Петре и Февронии» говорится, что Петр княжил в Муроме. В летописях, однако, такой князь не упоминается.
Сенька Жданов (или Жвалов) – один из казаков, подосланных Заруцким в Ярославль для убийства Д. М. Пожарского.
«Прещение его подобно рыканию львову… и яко же роса злаку, тако тихость его». – «Гнев царя – как рев льва, а благоволение его – как роса на траву» (Книга Притчей Соломоновых, 19, 12).
…а в Москве остался старшим пан Струся. – Николай Струсь вместе с Гонсевским командовал польским гарнизоном, осажденным в Кремле.
…этот монастырь в недавнем времени выдержал осаду, которая останется навсегда… явным доказательством могущества и милосердия божия. – Авраамий Палицын в своем «Сказании» не единожды утверждает, что монастырь выдержал осаду не только благодаря мужеству его защитников, но и за счет помощи «заступников» Сергия, Никона, Богородицы. Впрочем, сведения об осаде Троице-Сергиевой лавры почерпнуты Загоскиным прежде всего из «Истории…» Карамзина, который, в свою очередь, опирался на «Сказание» Палицына (см. след. коммент.).
Тридцать тысяч войска польского… – Цифра взята у Карамзина («История…», т. XII. с. 99), который использовал сведения Палицына: «всего войска с Сопегою и Лисовским до 30000» («Сказание», с. 145). Историки полагают, однако, что Троице-Сгргиеву лавру осаждали около 13-15 тысяч человек (см.: Голубинский Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троице-Сергиева лавра. М., 1909, с. 362—363).
Начальники осажденного войска князь Долгорукий и Голохвастов, готовясь, по словам летописца… – Н. М. Карамзин приводит в своем повествовании об осаде Троице-Сергиевой лавры слова Авраамия Палицына в неточном пересказе: «Князь Долгорукий с Голохвастовым первые, над гробом св. Сергия, поцеловали крест в том, чтобы сидеть в осаде без измены… все люди ратные и монастырские… готовились к трапезе кровопролитной, пить чашу смертную за отечество» («История…», т. XII, с, 100; курсивом Карамзин выделил слова, принадлежащие «летописцу» – Палицыну, у которого они звучат несколько иначе: «Народ во обители к мукам уготовляется: трапеза бо кровопролитная всем представляется и чаша смертная всем наливается» – «Сказание», с. 134). Загоскин в данном случае безусловно использовал текст Карамзина, однако отсылку в целях большей достоверности сделал на «летописца». Голохвастов А. И., Долгорукий Г. Б. – воеводы, руководившие защитой Троице-Сергиева монастыря (см. также коммент. к историческому замечанию (13)).
…который недаром называли в речах своих каменным гробом… – Курсивом выделена цитата из Карамзина, пересказывающего Палицына («История…», т. XII, с. 98): «Доколе, – говорили Лжедмитрию ляхи, – доколе свирепствовать против нас сим кровожадным вранам, гнездящимся в их каменном гробе?» – Ср. в «Сказании», с. 131.
…подле Святых ворот лавры. – Святые, или Красные ворота – главные ворота Троице-Сергиева монастыря, расположенные с восточной стороны его.
…смотрел пристально вдоль ростовской дороги… – Точнее: вдоль Переяславской дороги (как она тогда называлась), проходившей от монастыря на северо-восток.
…брат Суета? – Один из «даточных людей», участвовавший в защите лавры («даточные люди» – крестьяне, находившиеся в зависимости от монастыря). О нем говорится и у Карамзина, и у Палицына: «велик возрастом и силен вельми», отличался «бесстрашием и храбростью» и «никто же против его стати не возможе» («Сказание», с. 159).
Архимандрит. – Имеется в виду Дионисий – архимандрит Троице-Сергиева монастыря (см. коммент.).
Сбердить – пятиться от дела или слова.
…изменник Заруцкий ушел в Коломну… – После неудавшегося покушения на Пожарского Заруцкий двинулся к югу.
…да и князя Трубецкого войско-то не больно надежно… – Одной из главных целей казаков, находившихся под началом князя Трубецкого, была нажива.
Мартьяш – глухонемой польский воин, перешедший на сторону защитников монастыря, «зело яростен и силен бе и послужи в дому пресвятыя троица, яко же истиннии христиане» («Сказание», с. 173). Карамзин в примечаниях к тексту своей «Истории…» приводит выписку из «Сказания» Палицына о том, как Мартьяш (другое имя его – Немко) обличил польского разведчика, который проник но время осады в лавру и стремился «пакость содеяти». Этот исторический эпизод и послужил Загоскину для выделения главной черты Мартьяша в романе – бдительности, которую он проявляет, несмотря на природный физический недостаток.
«В сей бо день…» – Несколько измененная цитата из «Сказания» (см. с. 173).
Мы не иноки западной церкви… – Согласно уставу католического монашества, помимо обетов нестяжания, целомудрия и повиновения (необходимых и в православном монашестве), иноки должны были соблюдать также обет постоянства, обязывающий их к пожизненному пребыванию в звании. В православии пострижение в монахи не пожизненное: иноческий обет может быть снят, и человек снова отпущен в «мир».
Пересвет и Ослябя – иноки Троице-Сергиева монастыря, отправленные Сергием Радонежским в войско Дмитрия Донского. Погибли в Куликовской битве.
Литургия – христианское богослужение, во время которого совершается обряд причащения.
Ступай в стан князя Пожарского… – Посвящение Милославского в монахи Авраамием Палицыным задумано Загоскиным, вероятно, с «исторической» перспективой: подобно Сергию Радонежскому, отсылающему иноков на поле битвы (Ослябю и Пересвета – см. коммент. выше), Палицын отправляет героя романа на защиту отечества.
Трапеза – здесь: престол в алтаре.
Без помолвки, без девишника!.. – Старинные свадьбы справлялись обычно в течение нескольких дней, каждому из которых соответствовал определенный комплекс ритуалов. Помолвка – один из начальных эпизодов свадьбы, во время которого родители жениха и невесты договаривались о проведении свадьбы, о приданом и объявляли своих детей женихом и невестой. Девишник проводился незадолго до венчания: подруги невесты, собравшиеся в ее доме, пели свадебные песни, невеста причитала о девичьей жизни и т. д.
Хотьковский монастырь – расположен в нескольких верстах от Троице-Сергиевой лавры в сторону Москвы.
…в безумии моем я молился – не на лики святых угодников… – Мотив этот, восходящий к теме дьявольского соблазна во время молитвы, был переосмыслен в литературе конца XVIII – первых десятилетий XIX в. (см. например, легенду о монахе, влюбившемся в монахиню, пересказанную Карамзиным в «Письмах русского путешественника»: «Образ нежной монахини всегда присутствовал в душе его. Он хотел молиться; но язык его, послушный сердцу, не мог произнести ничего, кроме: «Люблю! Люблю! Люблю! (Н. М. Карамзин. Избранные сочинения в 2-х томах, т. 1, с. 186). Аналогичные чувства, не побеждаемые молитвой, испытывает священник Клод Фролло к Эсмеральде в романе В. Гюго «Собор Парижской богоматери»). Мотив влюбленного монаха частично ощутим и в произведении Загоскина: Юрий Милославский также собирается принять пострижение.
Дай мне свою руку, радость дней моих, ненаглядный мой!.. – Эпизод объяснения Анастасии и Юрия показался критикам романа неправдоподобным, нарушающим историческую иллюзию, не соответствующим «характеру того времени»: «Анастасия могла взять руку мужа и поцеловать. Также прощаясь с ним у ворот Хотьковского монастыря, по нашему мнению, следовало бы ей поклониться в ноги своему спасителю, супругу и господину» (из рецензии на «Юрия Милославского» С. Т. Аксакова). «Любовь всегда была самою слабою стороною в романах Загоскина», – замечал Аксаков по другому поводу (С. Т. Аксаков. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 189).
…но хуже ли ты разбойника, который, умирая, сказал… – Согласно евангельскому повествованию, один из разбойников, распятых вместе с Иисусом Христом, просил помянуть его в царствии небесном, на что «сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Евангелие от Луки, гл. 23, ст. 42-43).
Я еду с требою к умирающему… – Треба – отправление церковного обряда. Здесь речь идет о соборовании и причащении – обрядах, совершающихся у постели умирающего.
Блаженна часть твоя… – то есть участь.
В первый день решительной битвы русских… – Сведения о сражениях 22-24 августа 1612 г. почерпнуты Загоскиным, скорее всего, из «Нового летописца».
Крымский брод – место, где сейчас Крымский мост.
Ново-Девичий монастырь – находился тогда за пределами Москвы. При вступлении в столицу Жолкевский потребовал, чтобы его войску разрешено было занять монастырь, который служил хорошим укреплением на ближайших подступах к Москве с юга, со стороны Смоленской дороги.
…Авраамий Палицын прибежал в стан казаков князя Трубецкого… – По словам самого Палицына, Пожарский и Минин «в недоумении бышя», обратились 24 августа к нему за содействием. Авраамий же, «забыв старость, скоро пойде» в «станы казачьи» и, восхвалив казаков за прошлое «дело доброе», за большую их храбрость и мужество, «молив… со многими слезами» идти на бой против поляков. Вняв мольбам Авраамия, «все многочисленное воиньство казаков, внезапу устремишеся… ко врагом на бой» («Сказание», с. 225—226). Современные комментаторы «Сказания» О. А. Державина и Е. В. Колосова отмечают также факт, не упомянутый Палицыным: то, что он обещал казакам богатую монастырскую казну. В Псковской летописи, – замечает исследовательница, – Минин, а не Авраамий уговаривает казаков Трубецкого помочь ополчению (см. «Сказание», с. 26).
…по взятии …Китай города… – Китай-городом называлась часть московского посада, расположенная между реками Москвой и Неглинной к востоку и северо-востоку от Кремля, окруженная рвом и стеной. Китай-город был одной из наиболее населенных частей Москвы после Кремля.
…доведенные, по словам летописцев, до ужасной необходимости пожирать друг друга… – О том, что среди осажденных в Кремле царили такой «глад велик и мор», что они «плоти человеческиа начашя ясти» («Сказание», с. 226), упоминается и в «Новом летописце».
Дмитрий Петрович Пожарский-Лопата – двоюродный брат Д. М. Пожарского; руководитель одного из отрядов нижегородского ополчения.
Арсений, епископ Галасунский – грек по происхождению, числился при Архангельском соборе в Кремле.
…лампады, которая теплилась над гробом святителя Стефана Пермского. – Стефан Пермский (ок. 1340—1396) – епископ Пермской земли, миссионер; обращал в христианство коми (зырян), создал письменность для них. В церкви Спаса на Бору находились мощи Стефана Пермского.
…простой белец, ты можешь, не оскорбляя церкви, возвратиться снова в мир. – Бельцы (в отличие от чернецов) – в православных монастырях – лица, готовившиеся к принятию монашества, но еще не давшие иноческих обетов, не носящие монашеской одежды. Они исполняют различные послушания, то есть церковные службы при богослужении, по монастырскому хозяйству и т д. Послушание героя Загоскина заключалось в ратном подвиге (см. коммент.).
Придел – особый алтарь в церковном храме, отделенный от главного (обращенного к востоку) и от других частей церкви, имеющий свои клиросы и хоругви.
…как старцы в общине? – Одним из важнейших монашеских обетов является целомудрие.
…венец Мономахов. – Владимир Всеволодович Мономах (1053—1125) – русский князь, с 1113 г. великий киевский князь. Согласно легенде, византийский император прислал Мономаху для его венчания на великое княжение знаки царского достоинства: венец и бармы (драгоценные оплечья). Русские государи венчались венцом, который и называли венцом Мономаховым (или шапкой Мономаховой).
Троицын день – христианский праздник (седьмое воскресение после пасхи).
…молодец Селява… – Монастырский слуга Данило Селявин, брат которого перешел на сторону поляков, во время осады Троице-Сергиевой лавры, по словам Авраамия Палицына, «не хотяше из-менничья имени на себе носити и рече пред всеми людьми: «Хощу за измену брата своего живот на смерть пременити!» («Сказание», с. 153).
Лета 7130-го… – то есть в 1622 г. Летосчисление «от сотворения мира» разнится на 5508 лет с летосчислением «от рождества Христова». Одновременная смерть героев-влюбленных (героев-супругов) – распространенный в европейской литературе финал произведения. Нередко один из них, не в силах перенести разлуку, лишает себя жизни («Тристан и Изольда» и др.). Загоскин, по всей вероятности, имел в виду версию «благочестивой» смерти, как, например, в «Повести о Петре и Февронии» (см. коммент.). Вместе с тем финал «Юрия Милославского» восходит и к заключительным строкам повести Карамзина «Наталья, боярская дочь», где повествователь, «прогуливаясь осенью по берегу Москвы-реки», обнаруживает надгробный камень, на котором читает надпись: «Здесь погребен Алексей Любославский с своею супругою».
Исторические замечания. – Примечания к собственным литературным текстам были одним из важных компонентов не только исторического романа, но в принципе любого художественного текста в русской литературе последней трети XVIII – первой трети XIX в. В комментариях к тексту, помимо объяснения малоупотребительных, иноязычных и т. п. слов, автор пояснял свой замысел, давал этнографические, исторические, географические, литературные справки. Примечания в это время служили своеобразным «переводом» с языка художественного на «нехудожественный» язык ежедневного быта. Большинство лингвистических примечаний Загоскин приводит по ходу повествования, под строкой. Необходимость специально вынесенных в конец романа пояснений была вызвана прежде всего стремлением расширить собственно исторический план романа и обратить внимание читателя на его документальную основу.
Историческое замечание 1. – Маскевич Самуил – польский офицер, участвовавший в походе против России. С 1594 по 1621 г. вел дневник, откуда и извлечена цитата. Записки Маскевича обильно цитирует Н. М. Карамзин в примечаниях к тексту «Истории Государства Российского». Отрывки из дневника публиковались в журнале «Северный архив» (1825). Полностью дневник Маскевича в русском переводе был опубликован в изд.: «Сказания современников о Димитрии Самозванце», ч. V. СПб., 1834.
Историческое замечание 2. – Толкование слова гостиная сотня почерпнуто Загоскиным из «Лексикона российского исторического, географического, политического и гражданского» (ч. 1-3. СПб., 1793). См.: В. Н. Татищев. Избранные произведения (Л., 1979, с. 243). Татищев Василий Никитич (1686—1750) – автор первой русской «Истории Российской с самых древнейших времен» (5 книг, изд. 1768—1848). Ко времени написания «Юрия Милославского» были опубликованы лишь четыре тома этого труда Татищева (до 1462 г.).
…Их можно сравнить с нынешними купцами первой гильдии. – Гильдии – корпорации купцов. Манифестом 17 марта 1775 г. купеческое сословие было разделено на привилегированное гильдейское купечество (три гильдии, определяемые количеством объявленного капитала, высшая из них – первая гильдия, затем – вторая и третья) и мещан.
Историческое замечание 5. – Сочинитель розыскания о древности русских монет… – Имеется в виду Круг Филипп Иванович (Иоганн-Филипп – 1764—1844), автор «Критического разыскания о древних русских монетах» (русский перевод – СПб., 1807).
Историческое замечание 7. – Миллер Герард Фридрих (1705—1783) – русский историк. Сведения о степенях дворянства взяты Загоскиным из книги Миллера «Известие о дворянах российских. О их древнем происхождении; о старинных чинах, и какия их были должности при Государях, Царях и Великих Князьях; о выборе доказательств на дворянство; о родословной книге; о владении деревень; о службе предков и собственной, и о Дипломах» (СПб., 1790).
Окольничий – старинный дворцовый чин. Окольничим поручались те же дела по управлению, что и боярам, но они везде занимали второе место после бояр.
Историческое замечание 8. – Сведения о том, почему Лжедмитрия считали еретиком, взяты Загоскиным из книги немецкого путешественника и ученого XVII в. А. Олеария (Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906, с. 207—208). Олеарий (1603—1671) посетил Россию в составе посольства Шлезвиг-Гольштейнского герцогства в 1633—1634 гг. и по пути в Иран в 1635—1639 гг. В 1643 г. составил записки о своем путешествии. Загоскин, вероятно, пользовался французским изданием этих записок.
Историческое замечание 9. – Бобыль, по толкованию Татищева… – См.: «Лексикон российской…» (В. Н. Татищев. Избранные произведения, с. 191). Татищев – см. коммент…
Историческое замечание 11. – Успенский Гаврила Петрович (ум. в 1820 г.) – профессор Харьковского университета, автор книги «Опыт повествования о древностях русских» (в 2-х томах. Харьков, 1818). О колымагах он писал следующее: «Дорожные экипажи наших предков были сколько просты, столько же и малочисленны… Самые древнейшие у нас были, для лета телеги, а для зимы сани. В течении времени находим по истории названия: возок, колымага и карета, кои все были почти одно и то же и употреблялись единственно для двора. В них запрягали по шести, иногда же более или менее, лошадей» (т. 1, с. 47-48). В возражение Успенскому Загоскин намекает на слова из «Описания путешествия…» Олеария: «Князей, бояр и знатнейших людей жены летом ездят в закрытых каретах, обтянутых красной тафтою, которою оне зимою пользуются и на санях» (А. Олеарий. Описание путешествия…. с. 218). Олеарий – см. коммент…
Историческое замечание 13. – Иосиф Девочкин, казначей Троице-Сергиева монастыря, без достаточных оснований был обвинен в измене и расхищении монастырской казны. Воевода Голохвастов (см. коммент.) защищал Девочкина, за что и был назван «потаковником» преступника и обвинен в попустительстве, о чем был составлен специальный донос.
Историческое замечание 14. – Загоскин почти дословно пересказывает слова Олеария (см. А. Олеарий. Описание путешествия…. с. 301—303).
М. Н. ЗАГОСКИН Основные даты жизни и творчества
1789, 14(27) июля. В селе Рамзае Пензенской губернии (в родовом имении) родился Михаил Николаевич Загоскин.
1790-е – начало 1800-х гг. Получил домашнее воспитание.
До 1812. Служба в петербургских департаментах и канцеляриях.
1812-1814. Участвовал в петербургском ополчении во время Отечественной войны 1812 г.; ранен под Полоцком; получил орден; участвовал в осаде Данцига. «…Кто знал Загоскина, хотя не в молодых годах, – писал Аксаков, – тот может судить, каким пылким молодым человеком был он на 24 году своей жизни, когда вступил офицером в ряды петербургского ополчения, в корпус графа Витгенштейна…» (С. Т. Аксаков. Биография Михаила Николаевича Загоскина. – Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4. М., 1966, с. 154).
1814 – начало 1815. Живет в Рамзае, пишет комедию «Проказник»: видный комедиограф того времени А. А. Шаховской нашел «пиесу весьма хорошо написанною» (С. Т. Аксаков, Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4. с. 156). Однако успеха комедия не имела.
1815-1816. Служба в Горном департаменте.
1815. Пишет «Комедию против комедии, или Урок волокитам» – в защиту комедии Шаховского «Липецкие воды, или Урок кокеткам» (1815), где пытается, в частности, отвести упреки критиков, угадавших в образе поэта-балладника Фиалкина пародию на Жуковского.
1816. Женитьба на А. Д. Васильцовской, дочери Д. А. Новосильцова. настоявшей на этом браке вопреки воле отца (см. об этом: С. М. Загоскин. Воспоминания. – «Исторический вестник», 1900, № 1. с. 50).
1817-1818. Служба в Дирекции императорских театров. Комедии: «Господин Богатонов, или Провинциал в столице», «Вечеринка ученых», «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе».
1817. Участвует в издании журнала «Северный наблюдатель» (название первых 26 номеров – «Русский пустынник»).
1818-1820. Служба в Императорской Публичной библиотеке.
1820. Избрание в действительные члены Вольного общества любителей российской словесности. Комедия «Добрый малый».
Переезд в Москву.
1821. Стихотворные опыты («Послание к Н. И. Гнедичу», «Авторская клятва» и др.).
1822-1823. Служит экспедитором по театральному отделению при московском генерал-губернаторе. Комедия «Урок холостым, или Наследники» (в стихах). Водевиль «Деревенский философ».
1823-1830. Служба в конторе московских театров; сдает экзамен для получения чина коллежского асессора (чин восьмого класса по табели о рангах).
1828. Комедия «Благородный театр» (в стихах).
1829. «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».
1830. Назначение управляющим конторой московских театров.
1831. Роман «Рославлев, или Русские в 1812 году».
1831. Определен в должность директора московских театров; пожалован званием действительного камергера императорского двора.
1833. «Аскольдова могила. Повесть из времен Владимира I».
1835. Написание либретто по мотивам романа «Аскольдова могила» для одноименной оперы (музыка А. Н. Верстовского), имевшей успех. «…«Аскольдова могила» была могилою славы автора как исторического романиста, он сам это увидел и утешился тем, что из плохого романа сделал плохое либретто для хорошей оперы» (В. Г. Белинский. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 4. М., 1979, с. 367). Комедия «Недовольные» (памфлет на П. Я. Чаадаева и М. Ф. Орлова).
1837. Произведен в действительные статские советники (чин четвертого класса). Сборник «Повести».
1838. Роман «Искуситель». «Суд образованной публики и суд литературный признали «Искусителя» самым слабым сочинением Загоскина» (С. Т. Аксаков. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 180).
1839. Роман «Тоска по родине». По мотивам романа было написано либретто для оперы (музыка А. Н. Верстовского).
1842-1852. Директор Московской Оружейной палаты.
1842. «Кузьма Петрович Мирошев. Русская быль времен Екатерины II».
1842, 1844, 1848, 1850. «Москва и москвичи» (4 сборника статей о московских «нравах»).
1846. «Брынский лес. Эпизод из первых годов царствования Петра Великого».
1847. «Русские в начале восьмнадцатого столетия. Рассказ из времен единодержавия Петра I». С. Т. Аксаков считал, что «последние два романа мало уступают «Юрию Милославскому»… даже превосходят его. Если б они вышли первые – успех был бы огромный. Но двадцать лет прошло – требования публики изменились» (С. Т. Аксаков. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 192).
1850. Комедия «Поездка за границу».
1851. Комедия «Женатый жених».
1852. 23 июня (5 июля) – кончина.
Примечания
1
С. Т. Аксаков. Биография Михаила Николаевича Загоскина. – Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4. М., 1966, с. 169.
(обратно)2
А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 6. М., 1962, с. 41.
(обратно)3
С. Т. Аксаков. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 88.
(обратно)4
«Отечественные записки», 1830, ч. 41, с. 167.
(обратно)5
«Московский телеграф», 1829, ч. XXX, № 24, с. 466.
(обратно)6
Письмо В. А. Жуковского М. Н. Загоскину от 12 января 1830 г. – «Раут. Исторический и литературный сборник». Кн. 3. М., 1854, с. 301—302.
(обратно)7
«Русский архив», 1878, № 5. с. 50.
(обратно)8
«Московский телеграф», 1829, ч. XXX, № 2, с. 466.
(обратно)9
«Молва», 1831, № 30. с. 56.
(обратно)10
«Московский телеграф». 1831. ч. XXXVIII, № 8. с. 537.
(обратно)11
«Денница». Альманах на 1831 год. М… 1831, с. XVII-XVIII.
(обратно)12
«Северная пчела», 1830. 21 января. № 9.
(обратно)13
«Московский телеграф». 1831, № 8. с. 539.
(обратно)14
См.: В. Скотт. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 8. М. – Л., 1964, с. 28.
(обратно)15
Письмо В. А. Жуковского М. Н. Загоскину от 12 января 1830 г. – «Раут, Исторический и литературный сборник». Кн. 3. М., 1854, с. 302.
(обратно)16
«Вестник Европы», 1830, № 3, с. 240.
(обратно)17
«Московский телеграф», 1829, ч. XXX, № 24, с. 464.
(обратно)18
«Денница». Альманах на 1831 год. М., 1831. с. XIX.
(обратно)19
В. Скотт. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 8, с. 26-28.
(обратно)20
Характерно замечание В. Скотта по поводу исторического романа французского писателя А. де Виньи «Сен-Мар». Он сказал, что находит в «Сен-Маре» «только один недостаток: народ в нем не занимает должного места» (Цит. по кн.: Б. Г. Реизов. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958, с. 258).
(обратно)21
П. А. Вяземский. Записные книжки (1813—1848), М., 1963, с. 136.
(обратно)22
«Отечественные записки», 1830, ч. 41, с. 166—167.
(обратно)23
«Московский телеграф», 1829, ч. XXX, № 24, с. 463.
(обратно)24
Письмо М. Н. Загоскина В. А. Жуковскому от 20 января 1830 г. – «Русская старина», т. 115, 1903, № 8, с. 451.
(обратно)25
«Московский телеграф». 1833. ч. LIII, № 18, с. 218. Имеется в виду Уэверли – герой одноименного романа.
(обратно)26
«Московский вестник», 1830, № 4, с. 424.
(обратно)27
А. С. Грибоедов. Сочинения. М. – Л., 1959, с. 388.
(обратно)28
Н. М. Карамзин. Избранные сочинения в 2-х томах, т. I. М. – Л., 1964, с. 627.
(обратно)29
«Северные цветы» на 1831 год. СПб., 1830, с. 61-62.
(обратно)30
«Телескоп», 1831, № 14. с. 220, 226.
(обратно)31
В. Г. Белинский. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 1. М., 1976, с. 118.
(обратно)32
«Северные цветы» на 1831 год. СПб., 1830, с. 62.
(обратно)33
С. Т. Аксаков. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 91.
(обратно)34
«Московский телеграф», 1831, № 8, с. 540.
(обратно)35
См.: В. Я. Пропп. Морфология волшебной сказки. М., 1969.
(обратно)36
См.: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в 3-х томах. М., 1957, № 354. Кудимыч в романе связан не только с поэтикой народных суеверий и магических ритуалов. В «Юрии Милославском» этот герой по меньшей мере дважды действует в соответствии со сказочными сюжетами: в одном из таких сюжетов колдун, сам спрятав предмет, обнаруживает его потом (см.: «Сравнительный указатель сказочных сюжетов. Восточнославянская сказка». Л., 1979, № 1641), в другом сюжете «дока» отводит беду от свадебного поезда (см.: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева, № 378).
(обратно)37
См.: «Сравнительный указатель сказочных сюжетов». № 951-В, 952.
(обратно)38
Там же, № 1544-А*.
(обратно)39
Приказчик здесь сам апеллирует к сказочной традиции – см.: Л. Н. Пушкарев. Сказка о Еруслане Лазаревиче. М., 1980.
(обратно)40
См.: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева, № 136, 138, 159.
(обратно)41
Ср. с отзывом В. К. Кюхельбекера 1845 года: «Загоскин – не блистательный талант, – но человек, хотя и несколько ограниченный, с теплою душою и русским умом» (В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979, с. 429).
(обратно)42
Аполлон Григорьев. Эстетика и критика. М., 1980. с. 210.
(обратно)43
Там же, с. 280.
(обратно)44
С. Т. Аксаков. Собр. соч. в 5-ти томах. Т. 4. М., 1966, с. 200—201.
(обратно)45
Аполлон Григорьев. Эстетика и критика, с. 212.
(обратно)46
«Московский телеграф», 1833, ч. LIII, № 18, с. 218.
(обратно)47
См.: «Юрий Милославский, или Нечаянная свадьба его». Исторический рассказ. СПб., изд. 1-е. 1873; И. Юров. Юрий Милославский, или Нижегородцы в семнадцатом столетии. Исторический роман в трех частях. М., 1876; А. П. Морозов. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Драматическое представление из жизни наших предков в 5-ти действиях. М., 1892; Юрий Милославский. По роману М. Н. Загоскина изложила Е. Н. Тихомирова. М., изд. 1-е – 1903; П. Ф. Орлова. Смутное время в России. Историческая пьеса в 5-ти действиях. СПб., 1907; «В Смутное время». Переделано для детей из романа М. Н. Загоскина «Юрий Милославский». СПб., 1909; Юрий Милославский. Исторический роман М. Н. Загоскина. В обработке Е. Елича. М., 1915.
(обратно)48
Так назывались в то время партизаны. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)49
Верхнее платье с длинными рукавами и капюшоном. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)50
Мелкая серебряная монета. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)51
Почти то же, что нынешний капитан-исправник. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)52
Подожди, москаль, подожди (пол.).
(обратно)53
Ну их к дьяволу! (пол.)
(обратно)54
Конные роты. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)55
Полковой командир. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)56
Самая мелкая медная монета. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)57
Знакомцами назывались тогда жившие у бояр бедные дворяне: они едали за боярским столом и составляли их домашнюю беседу. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)58
Ожерелья. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)59
Женское верхнее платье, с длинными висячими до земли рукавами и большим капюшоном. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)60
Женская ферязь, платье почти одинакового покроя с нынешними сарафанами. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)61
Так назывались общие собрания запорожских казаков (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)62
Так называли поляки второго самозванца. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)63
Ну их к дьяволу! (пол.)
(обратно)64
Ей-богу (пол.).
(обратно)65
Горячий напиток, род пунша, в состав которого входили: пиво, мед, вино и пряные коренья. В Малороссии и до сих пор еще в употреблении сей национальный пунш под именем варенухи. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)66
Так прозвали поляки буйные толпы не подчиненных никакому порядку русских партизанов, или охотников, которых можно уподобить испанским гверилласам. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)67
Так назывались те, которые по требованию правительства не являлись на службу. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)68
Звание, равное нынешнему генерал-адъютанту. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)69
Дом князя Пожарского находился против церкви Введения божией матери, на том самом месте, где ныне дом 3-й гимназии. (Примеч. М. Н. Загоскина.)
(обратно)70
Примеч. М. Н. Загоскина.
(обратно)71
М. Д. Чулков
(обратно)






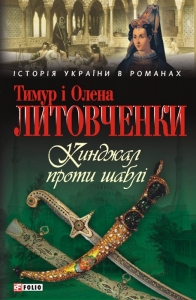

Комментарии к книге «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», Михаил Николаевич Загоскин
Всего 0 комментариев